Энтони Гидденс
при участии Карен Бердсолл
СОЦИОЛОГИЯ, 2-е изд.
2005
«Социология» Энтони Гидденса является, без сомнения, одним из лучших и современных учебников по этой дисциплине. Новое второе издание книги на русском языке, выполненное по последнему четвертому английскому изданию, сохраняет и приумножает замечательные качества предыдущих изданий — ясность и живость языка, доступность изложения, оригинальность подхода.
Последнее издание уже ставшего классическим учебника Энтони Гидденса столь же высоко оценено преподавателями и студентами, как и предыдущие издания. Гидденс мастерски сочетает авторитетное рассмотрение социологических проблем с рассказом о социальных изменениях, происходящих в современном мире, в центре которых стоит явление глобализации. Особенно удачным и новаторским является включение соответствующих веб-сайтов. Книга увлекательно рассказывает о мире, в котором мы живем, и блестяще построена так, что зажигает «социологическое воображение» учащихся.Harriet Bradley, Reader in Sociology, University of Bristol
В этой книге Энтони Гидденс рассказывает современным студентам о сути тех идей, которые он лично обсуждал с политическими лидерами современного мира. Да, это учебник, но в действительности эта книга — гораздо шире и глубже, чем учебник. Гидденс показывает, что понимание общественных явлений совершенно необходимо, когда мы как индивидуумы бросаем вызов тем глобальным явлениям, которые нависли над нашей судьбой. Это понимание дает нам силы и возможности лучше ориентироваться в мировых событиях и воздействовать на них.Martin Albrow, University of Surrey, Roehampton, London and Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC

Энтони Гидденс
Один из крупнейших социологов современности. Занимает ведущую позицию по исследованию проблем глобализации в современном мире. Разрабатывает вопросы стратификации современного общества, теорию социального действия и социальной структуры, теорию общества. В настоящее время директор Лондонской школы экономики и политологии. В прошлом профессор социологии Кембриджского университета.Настоящее издание «Социологии» в значительной степени обновлено с учетом данных самых последних исследований. Первое издание книги (М.: УРСС, 1999) явилось пионерским по постановке и рассмотрению многих острых социологических вопросов, например таких, как влияние глобализации на современный мир. Предлагаемое читателю издание во многом продолжает ту же традицию. Это первый учебник по социологии, учитывающий влияние и возможности Интернета и новой современной экономики. Достижения в этих областях анализируются во многих главах книги. Второе издание учебника на русском языке, выполненное по последнему четвертому английскому изданию, включает много новых глав и разделов. Так, например, добавлены главы, посвященные рассмотрению проблем бедности, социального отчуждения, а также анализу экологических проблем. Учебнику присущ компаративный подход, состоящий в сопоставлении и анализе данных, характеризующих разные общества и культуры всего мира. По сравнению с предыдущими изданиями, здесь еще большее внимание уделяется именно социологической теории. При этом наряду с классическими учениями также рассматриваются теоретические воззрения современных социологов, включая автора — Энтони Гидденса, Ульриха Бека и Мануэля Кастеллса. Структура учебника продумана так, чтобы максимально помочь студентам усвоить излагаемый материал. Приводятся рисунки, диаграммы, ссылки на интернет-страницы, а также даются ясные и четкие инструкции учащимся, как найти ту или иную информацию в мировой сети. В результате «Социология» является превосходным современным введением в предмет. Написанная одним из ведущих социологов мира, данная книга исключительным образом сочетает в себе новаторский подход и доступность изложения. И в этом ей нет равных.
Предисловие к четвертому изданию
Для настоящего издания «Социологии» текст книги был переработан и дополнен более кардинально, чем в случае предыдущих изданий. Это неудивительно, ведь изменения в современном социальном мире происходят все более стремительными темпами, а книга пытается одновременно и описать, и отразить эти изменения. Данную книгу можно, разумеется, читать самостоятельно как таковую, но по замыслу автора она должна взаимодействовать с обширными материалами, размещенными на ее собственном веб-сайте. Веб-сайт построен таким образом, чтобы в случае, когда ту или иную тему требуется изучить более глубоко, можно было бы без особого труда использовать ссылки на Интернет, указанные в конце соответствующей главы. Веб-сайт, сопровождающий книгу, находится по адресу: http://www.polity.co.uk/giddens. И преподаватели, и студенты смогут найти здесь множество ресурсов, включая дополнительный учебный материал для научного руководителя, образцы тем для студенческих эссе, проверочные вопросы в режиме онлайн, ссылки на ресурсы в Интернете и многое другое. Такой дополнительный источник информации добавляет «Социологии» в ее четвертом издании новое измерение, и хотелось бы надеяться, что это окажется полезным как для тех, кто учит, так и для тех, кто стремится приобрести знания в области социологической науки. Все эмпирические данные в тексте были тщательно пересмотрены и обновлены. Как и в предшествующих изданиях, я старался сделать книгу легкой для чтения и занимательной, но при этом не снижать высокой планки науки. В качестве источника исследовательских материалов широко использовались, разумеется, научные труды и журналы, а чтобы текст книги звучал по возможности современно, приводились также выдержки из газет и периодических изданий. Со времени публикации предыдущего издания «Социологии» Интернет стал значительно более богатым ресурсом для исследователей, чем это было раньше. К книге были добавлены многие новые разделы. Соединяя их с уже апробированными частями, я стремился сохранить репутацию, которую книга приобрела в качестве доступного введения в социологию, отражающего современное состояние науки. Первое издание настоящей книги, увидевшее свет в 1989 г., в ряде отношений явилось первопроходцем. Во-первых, большое внимание было уделено явлению глобализации, влияние которого тогда только начинало обсуждаться в кругу специалистов. С того времени споры по поводу глобализации значительно усилились, сама глобализация получила гораздо более широкое распространение, как и некоторые изменения в информационной технологии, которые с ней связаны. Четвертое издание «Социологии» также, можно считать, прокладывает новые пути, потому что оно представляет собой первый текст, включающий серьезное обсуждение вопроса о том, как Интернет и другие изменения в информационной технологии воздействуют на нашу жизнь и изменяют ее. Интерес к этим проблемам находит отражение практически в каждой главе. Время крутых перемен влечет за собой новые риски — и вопрос о рисках также является постоянной темой в данной книге. Изложение материала в четвертом издании «Социологии» в основном следует той же модели, которая принесла успех предыдущим изданиям книги. Однако, по сравнению с предыдущим изданием, все главы были существенно переработаны, а в большинстве случаев была изменена и их структура. Вместе с тем, сохранился строго сравнительный подход, который был отличительной чертой предшествующих изданий.Выражение признательности
Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне в подготовке этой книги. Многие читатели предыдущего издания «Социологии» прислали мне свои очень ценные замечания и предложения, за что я им глубоко благодарен. Подготовка четвертого издания «Социологии» была бы невозможна без активного участия Карен Бердсолл, посвятившей этой работе многие месяцы. Нельзя было и мечтать о коллеге более организованной и знающей, чем Карен, и я от всей души выражаю ей свою признательность. Многим я обязан также Юнису Гоузу, Ольге Джубани-Боселлс и Рэчел Кондри за их превосходную неоценимую помощь. В издательстве «Полити» мне хотелось бы особо поблагодарить Джона Томпсона, Дэвида Хелда, Джилл Мотли, Сандру Байатт, Сью Ли, Линду Шримптон, Хизер Виккерс, Лайзу Итон и Луизу Купер. Хотелось бы также поблагодарить коллег из Лондонской школы экономики Анну де Сейра, Аманду Гудолл, Бориса Хольцера, Джей Казинс и Мириам Кларк. Наконец, как и в случае предыдущих изданий этой книги, Энн Боун великолепно отредактировала текст, и я выражаю ей свою сердечную благодарность.Как пользоваться данной книгой?
Эта книга была написана с верой в то, что социология призвана сыграть ключевую роль в современной интеллектуальной культуре и занять центральное место среди социальных наук. Читая в течение многих лет курсы по социологии на всех уровнях — от новичков до профессионалов, — я пришел к убеждению, что существует потребность представить некоторые из последних достижений и открытий нашей науки в виде элементарного введения в социологию. Целью моей было написать книгу, в которой были бы проанализированы все основные проблемы, занимающие сейчас социологов, но чтобы при этом была отчетливо видна своеобразная позиция автора. В этой книге не делается попыток ввести слишком уж сложные понятия, вместе с тем идеи и результаты самых последних достижений науки включены в текст книги на всем ее протяжении. Надеюсь, что изложение не покажется читателю пристрастным: я старался представить основные направления в развитии социологии непредубежденно, хотя и не беспристрастно. В книге устанавливается некоторое равновесие между теоретическими рассуждениями и эмпирическими исследованиями. Теория играет в социологии, как и в любой другой научной дисциплине, несомненно, определяющую роль. Наша книга знакомит студентов с теоретическими взглядами классиков социологии, но в то же время стремится привлечь особое внимание к вновь появившимся социологическим теориям.Основные темы
Настоящая книга построена вокруг нескольких основных тем, каждая из которых определяет ее особый характер. Основная из этих тем — меняющийся мир. Социология родилась под воздействием преобразований, которые сдвинули индустриализирующийся строй Запада с путей развития, характерных для предшествующих обществ. Мир, возникший в результате этих изменений, является главным объектом социологического анализа. Темпы социальных изменений продолжают ускоряться, и мы, возможно, стоим сейчас на пороге преобразований столь же фундаментальных, как те, что имели место в конце XVIII и в XIX вв. На социологии в первую очередь лежит обязанность четко определить преобразования, которые имели место в прошлом, а также осмыслить основные направления развития, происходящего в наши дни. Вторая фундаментальная тема данной книги — глобализация социальной жизни. Слишком долго в социологии господствовала точка зрения, согласно которой общества якобы возможно изучать как независимые образования. Однако даже в прошлом общества в действительности никогда не существовали изолированно друг от друга. В наши дни мы можем видеть явное ускорение процессов глобальной интеграции. Это заметно, например, в распространении глобальной экономики и в той роли, которую играют сейчас во всей нашей жизни электронные финансовые рынки. Внимание к глобализации находит отражение в настоящей книге, кроме того, в признании важной роли взаимозависимости, существующей между развитыми и слаборазвитыми частями современного мира. В-третьих, автор книги последовательно придерживается сравнительного подхода. Социологию невозможно построить, опираясь исключительно на понимание институтов какого-либо одного конкретного общества. Хотя я, конечно, допускал в изложении известный крен в сторону Великобритании, такое пристрастие всегда уравновешивалось богатым и многообразным материалом, относящимся к другим обществам или культурам. Среди этих материалов исследования, проведенные в других западных странах, но достаточно часто я упоминал также Россию, Китай и Ближний Восток — общества, где в настоящее время происходят значительные изменения. В данную книгу включено также существенно больше материалов, посвященных развивающимся странам, чем это обычно делалось в учебниках по введению в социологию. Помимо этого, я постоянно подчеркиваю связь между социологией и антропологией, интересы которых во многом совпадают. При том, что общества во всем мире связаны между собой тесными связями и что, с другой стороны, многие формы традиционных социальных систем практически исчезли с лица земли, социология и антропология все больше становятся неразделимыми. Четвертой темой является признание необходимости в социологии исторической ориентации. Это предполагает нечто гораздо большее, чем просто добавление «исторического контекста» к описанию происходящих событий. Одним из самых важных событий в социологии последних нескольких лет было возрождение внимания к историческому анализу. Это не следует понимать исключительно как применение исторического подхода к прошлому, но как путь к более глубокому познанию современных институтов. В книге широко используются последние труды по исторической социологии, и это создает основу для объяснения явлений, предлагаемого в соответствующих местах в большинстве глав. В-пятых, особое внимание в книге уделяется проблемам гендера. Изучение гендера обычно рассматривается как особая область в пределах социологии в целом — и в данной книге есть отдельная глава, в которой обсуждаются теории и исследования по проблемам гендера. Однако гендерные отношения являются настолько фундаментальными для социологического анализа, что их нельзя просто передать в ведение какого-то одного подраздела социологии. Шестую тему составляет соотношение социального и личного. Социологические теории оказывают огромную помощь в понимании людьми самих себя, что, в свою очередь, должно привести к более адекватному пониманию социального мира. Изучение социологии оказывает освобождающий эффект: социология расширяет наше чувство солидарности и развивает воображение, открывает новые перспективы в выявлении причин нашего собственного поведения и позволяет более глубоко воспринимать культурные установки, отличающиеся от тех, что присущи нашей культуре. Поскольку социологические идеи бросают вызов догмам, учат ценить культурное многообразие и позволяют видеть внутренний механизм социальных институтов, занятие практической социологией умножает возможности свободного развития человека.Структура книги
Я отказался от мысли дать в начале книги подробное теоретическое обсуждение основных социологических концепций. Вместо этого объяснение понятий дается по мере их введения в соответствующих главах, и на протяжении всего изложения я старался иллюстрировать идеи, понятия и теории конкретными примерами. Хотя такие примеры обычно заимствовались из социологических исследований, достаточно часто в качестве иллюстраций использовался также материал из других источников (например, из газетных сообщений). Я стремился придерживаться самого простого и ясного стиля изложения и, насколько возможно, сделать одновременно книгу живой и «полной сюрпризов». Главы книги расположены в определенной последовательности, чтобы помочь читателю постепенно овладевать различными областями социологии, однако структура книги достаточно гибка, что позволяет легко приспособить книгу к потребностям конкретных специальных курсов. Без большого ущерба отдельные главы можно опускать или изучать в другом порядке. Каждая глава была написана как достаточно автономная часть, с перекрестными отсылками к другим главам там, где это имеет существенное значение. В конце каждой главы приводятся ссылки на Интернет, которые могут служить отправной точкой для получения обширнейшей информации об ученых и о социологии, которую предполагает мировая сеть. Интернет — это ресурс динамически изменяющийся, он не остается без изменения надолго, и в перерыве между двумя посещениями Интернета можно обнаружить, что некоторые веб-сайты увеличились в объеме, другие претерпели изменения, а третьи исчезли без следа. Веб-сайт, сопровождающий настоящую книгу, регулярно обновляется за счет новых интернет-ресурсов и ссылок, и поэтому его следует рассматривать как ценный источник информации.ГЛАВА 1 ЧТО ТАКОЕ СОЦИОЛОГИЯ?
Сегодня, в начале XXI в., мы живем в очень тревожном, но необычайно многообещающем мире. Это — мир, который захлестнут переменами, отмечен глубокими конфликтами, напряженностью, социальными разногласиями, а также стремительной атакой современной технологии, разрушающей природную среду. И все же мы в состоянии стать хозяевами своей судьбы и лучше устроить нашу жизнь, чего не могли и вообразить себе предыдущие поколения. Как возник этот мир? Почему условия нашей жизни столь не похожи на те, в которых жили наши родители, бабушки и дедушки? В каком направлении пойдут грядущие изменения? Эти вопросы представляют первостепенный интерес для социологии, той области исследования, которой поэтому предназначена существенная роль в современной культуре мышления. Социология — это наука о социальной жизни групп и сообществ людей. Их изучение — поразительное и захватывающее занятие, поскольку предметом социологии оказывается наше собственное поведение как социальных существ. Масштаб социологического исследования чрезвычайно широк, варьируя от анализа мимолетных встреч людей на улице до изучения глобальных по охвату социальных процессов. Большинство из нас смотрит на мир с позиций привычного нам образа жизни. Социология демонстрирует необходимость намного шире рассматривать вопросы, отчего мы такие, какие есть, и почему поступаем так, а не иначе. Она показывает нам, что то, что мы считаем естественным, неизбежным, хорошим или верным может не быть таковым, что «данности» нашей жизни сильно зависят от исторических и социальных факторов. Само существо социологического воззрения на мир состоит в понимании тех тонких и одновременно сложных, глубоких способов, посредством которых жизнь каждого из нас отражает контексты нашего социального опыта.Обрести социологическое воззрение на мир
Научиться мыслить социологически, другими словами расширить поле зрения, значит развить воображение. Изучение социологии не может быть всего лишь рутинным процессом получения знаний. Социолог — это тот, кто способен не зависеть от того, что непосредственно окружает его, а смотреть на вещи шире. Работа социолога непременно предполагает наличие того качества, которое американский ученый Ч. Райт Милс назвал социологическим воображением (Mills 1970). Социологическое воображение требует от нас прежде всего «исключить себя» из рутины повседневной жизни для того, чтобы взглянуть на детали этой жизни по-новому. Подумайте о простом действе — питье чашки кофе. Что можно сказать, с социологической точки зрения, о таком на первый взгляд не интересном поведенческом акте? Очень многое. Во-первых, можно было бы отметить, что кофе — не просто освежающий напиток. Будучи частью нашей повседневной жизни, он имеет символический смысл. Ритуал, ассоциирующийся с кофепитием, зачастую важнее самого поглощения напитка. У многих жителей Запада утренней чашке кофе отведено центральное место в их распорядке дня. Без нее нельзя обойтись, начиная день. Часто за утренней чашкой позднее следует питье кофе с другими людьми, составляя основной компонент социального ритуала. Два человека, договаривающиеся встретиться за чашкой кофе, скорее всего, более интересуются возможностью побыть вместе и поболтать, нежели тем, что они при этом пьют. На самом деле во всех сообществах питье и еда служат поводом к социальному взаимодействию и выполнению ритуалов, представляющих неисчерпаемый предмет социологического изучения. Во-вторых, кофе — наркотик, содержащий кофеин, который оказывает стимулирующее воздействие на мозг. Многие пьют кофе ради «возбуждения», им вызываемого. Перерывы на кофе помогают выдержать долгие рабочие дни и занятия до поздней ночи. Кофе — вещество, формирующее привычку, но большинство приверженцев западной культуры не считает любителей кофе наркоманами. Наряду с алкоголем, но в отличие от марихуаны, оно — приемлемый с общественной точки зрения наркотик. Однако есть общества, в которых допускается потребление марихуаны и даже кокаина, но не одобряется пристрастие ни к кофе, ни к алкоголю. Социологов интересуют причины существования этих различий. В-третьих, человек, выпивающий чашку кофе, вовлечен в сложно устроенную сеть социальных и экономических отношений, охватывающих мир. Кофе представляет собой продукт, который связывает людей из некоторых самых богатых и беднейших стран планеты: его потребляют в больших количествах богатые страны, а выращивают, главным образом, бедные. После нефти кофе является самым ценным товаром международной торговли; для многих стран он служит самым большим источником поступления иностранной валюты. Производство, транспортировка и доставка кофе требуют непрерывных трансакций между людьми, находящимися за тысячи миль от его потребителя. Изучение таких глобальных трансакций представляет важную задачу социологии, поскольку в наши дни жизнь человека во многом находится под воздействием социальных сил и коммуникаций, распространенных по всему миру. В-четвертых, ритуал кофепития сопряжен со всем прошлым социально-экономическим развитием. Наряду с такими теперь привычными на Западе продуктами питания, как чай, бананы, картофель и сахар, кофе стали широко потреблять лишь в конце XIX в. Хотя родиной этого напитка был Средний Восток, его массовое потребление началось около полутора веков назад в период экспансии Запада. Практически все кофе-бобы, из которых мы сегодня готовим кофе, привозят из районов (Южной Америки и Африки), подвергшихся европейской колонизации; кофе ни в коей мере не составляет «естественный» компонент западного режима питания. Колониальное наследие оказало огромное влияние на развитие мировой торговли кофе. В-пятых, кофе представляет собой продукт, оказавшийся в центре нынешних дискуссий о глобализации, международной торговле, правах человека и гибели окружающей среды. По мере того как росла популярность кофе, он стал предметом «выбора бренда» и политизации: решения, принимаемые потребителями о том, какой сорт кофе им пить и где покупать его, превратились в выбор стиля жизни. Люди могут принять решение пить только натуральный кофе, кофе с удаленным кофеином или же кофе по «справедливому обмену» (по программам его скупки за полную рыночную стоимость у мелких производителей из развивающихся стран). Они могут предпочесть быть клиентами не «корпоративных» сетей розничных магазинов вроде Starbucks, а «независимых» кофеен. Потребители кофе могут также принять решение объявить бойкот кофе из стран, где плохо соблюдают права человека и откуда поступают сигналы о неудовлетворительном состоянии окружающей среды. Социологи заинтересованы в том, чтобы понять, каким образом глобализация повышает осведомленность людей о событиях, происходящих в отдаленных уголках планеты, и побуждает их действовать в соответствии с новым знанием об их собственной жизни.Изучение социологии
Социологическое воображение позволяет понять, что многие события, на первый взгляд касающиеся лишь одного человека, на самом деле — отражают некие общие проблемы. Например, для того, кто расторгает брак, развод может быть очень трудным делом, т. е. тем, что Милс назвал личной заботой. Но развод, отмечает он, представляет еще и общественную проблему в такой стране, как современная Великобритания, где свыше трети всех браков расторгаются в срок, меньший, чем десять лет. Другой пример — безработица, которая может стать личной трагедией для того, кого уволили и кто не в состоянии найти другую работу. Однако безработица — далеко не частная причина для горя, когда миллионы людей оказываются в таком положении. Это — общественная проблема, отражающая социальные тенденции крупного масштаба. Попробуйте аналогичным образом взглянуть на вашу собственную жизнь. Не обязательно размышлять только о тревожащих явлениях. Например, обдумайте, зачем вообще вы листаете страницы этой книги — почему вы решили изучать социологию. Может быть, вы занимаетесь ей с неохотой, лишь для того, чтобы выполнить требование к получателю ученой степени. Или же вы проявляете энтузиазм ради того, чтобы больше узнать о предмете. Какими бы ни были ваши побуждения, у вас, вероятно, много общего с теми лицами, кто изучает социологию, хотя вы не всегда знаете об этом. Ваше личное решение отражает ваше положение в обществе. Относятся ли к вам следующие признаки? Молоды ли вы? У вас белый цвет кожи? Вы из семьи лиц свободных профессий или служащих? Вы работали или продолжаете работать неполный рабочий день, чтобы повысить свой доход? Есть ли у вас желание найти хорошую работу после окончания обучения, хотя вы не очень увлечены занятиями? Не зная, что такое социология на самом деле, вы думаете, что она как-то связана с тем, как люди ведут себя в рамках групп? Свыше трети из вас ответит на все эти вопросы утвердительно. Ответы студентов колледжей не типичны для всего населения в целом, их отличает происхождение из более привилегированных классов. И обычно они придерживаются тех же установок, что их друзья и знакомые. Наше социальное происхождение имеет самое прямое отношение к тому, какие решения мы считаем для себя приемлемыми. Однако представьте себе, что вы отвечаете отрицательно на один или несколько из этих вопросов. Может быть, по происхождению вы из какого-нибудь меньшинства или из бедноты. Вы могли бы быть человеком средних лет либо старше. Однако, как бы там ни было, допустимы следующие умозаключения. Вероятно, вам пришлось бороться, чтобы оказаться здесь: вам нужно было справиться с враждебным настроем друзей и окружающих, когда они узнали о вашем намерении поступить в колледж, или же вы должны сочетать получение высшего образования с нелегким делом быть родителем. Хотя на любого из нас влияют условия социальной среды, в которой мы оказываемся, ничье поведение не детерминировано одними лишь этими условиями. Мы обладаем своей индивидуальностью и сами создаем ее. Социология как раз и занимается исследованием связей между тем, что общество сотворяет из нас, и тем, во что мы превращаем себя сами. Наша деятельность не только структурирует, т. е. формирует окружающую нас социальную среду, но и структурирована той же средой. Социальная структура — очень важное социологическое понятие. Оно отражает тот факт, что условия социальной среды, в которой мы живем, не состоят всего лишь из случайно образовавшихся цепочек событий или действий — они структурированы, или смоделированы, неодинаковым образом. В наших формах поведения и в отношениях друг с другом есть упорядоченность. Но структура социальная не похожа на материальную, как у строения, существующего независимо от действий человека. Сообщества людей всегда находятся в процессе структуризации. В любой момент времени они подвержены реконструкции, осуществляемой теми самыми «строительными блоками», из которых построены, т. е. реконструкции, производимой человеческими существами вроде вас или меня. Еще раз вернемся к примеру с кофе. Чашка кофе оказывается у вас в руках вовсе не произвольно. Вы совершаете выбор — идете в определенное кафе, пьете кофе черный или с молоком и т. п. Когда вы принимаете подобные решения наряду с миллионами других людей, то формируете рынок кофе и оказываете влияние на жизнь его производителей, обитающих, вероятно, за тысячи миль от вас на другом конце света.Какую помощь в нашей жизни может оказать социология?
Социология для нас имеет множество практических приложений, что подчеркивал Милс, развивая свою мысль о социологическом воображении.Осознание культурных различий
Во-первых, социология дает возможность взглянуть на окружающий мир с иной точки зрения, нежели наша собственная. Если мы адекватным образом воспринимаем, как живут другие, то зачастую лучше понимаем их проблемы. Мало шансов на успех имеют политические мероприятия, которые проводятся без полной информированности об образе жизни людей, подвергающихся их воздействию. Так что белый социальный работник, функционирующий в общине с преимущественно чернокожими жителями, не добьется доверия с их стороны, если не научится проявлять чуткость к различиям в социальном опыте, часто разъединяющим белых и чернокожих.Оценка последствий той или иной политики
Во-вторых, социологическое исследование помогает дать оценку результатам, к которым приведут те или иные политические инициативы. Проведенная программа реформ может не достичь поставленных при ее разработке целей или вызвать непредвиденные последствия неблагоприятного характера. Например, в годы после Второй мировой войны многоквартирные дома общественного пользования были выстроены в центральной части городов многих стран. Они были предназначены для того, чтобы предоставить людям с низкими доходами из трущобных районов высококачественное жилье, поблизости расположенные торговые центры и прочие учреждения социально-бытового назначения. Однако исследование показало, что многие из тех, кто переехал из прежних жилищ в многоквартирные дома башенного типа, чувствовали себя заброшенными и несчастными. Многоэтажные здания и торговые центры в беднейших кварталах нередко ветшали и служили ареной для уличных ограблений и других преступлений против личности.Понимание собственного «я»
В-третьих, и в каком-то смысле это самое важное, социология может содействовать более глубокому пониманию собственного «я». Чем больше мы знаем о том, почему поступаем так, а не иначе, о том, как в целом функционирует наше общество, тем более вероятно, что мы в состоянии влиять на наше собственное будущее. Нам не следует видеть в социологии помощницу одних лишь политических деятелей, т. е. влиятельных групп, в принятии решений, основанных на хорошей осведомленности. Нельзя полагать, будто власть имущие, следуя избранному политическому курсу, учитывают интересы более слабых или лишенных привилегий людей. Объединения лиц, понимающих самих себя, в большинстве случаев могут извлечь пользу из социологического исследования и предпринять эффективные шаги в ответ на политические действия правительства либо самостоятельно выступить с политическими инициативами. Такие группы самопомощи, как «Анонимные алкоголики», или социальные движения наподобие экологического служат примером общественных объединений, которые добивались осуществления реформ со значительным успехом.Развитие социологического мышления
Впервые приступая к изучению социологии, многие студенты приходят в замешательство от разнообразия существующих в ней подходов. Социология никогда не была отраслью знания, комплекс идей которой все считают обоснованным. Социологи часто спорят между собой о том, как изучать поведение людей и наилучшим образом интерпретировать результаты, полученные при исследовании. Почему так происходит? Ответ сопряжен именно со свойствами сферы деятельности как таковой. Ее предметом является жизнь и поведение людей, а изучение нас самих — сложнейшее и труднейшее для нас предприятие.Первые теоретики
Будучи людьми, мы всегда проявляли любопытство относительно первопричин собственного поведения, но целые тысячелетия попытки понять себя зависели от стилей мышления, передававшихся от одного поколения к другому. Зачастую эти мысли выражали на языке религии либо с той же целью обращались к хорошо известным мифам, суевериям, традиционным верованиям. Изучение человеческого поведения и общества обрело объективность и систематичность сравнительно недавно, начавшись в конце 1700-х гг. Использование науки для понимания мира главенствовало в процессе развития: становление научного подхода коренным образом изменило мировоззрение и интерпретацию. Сначала в одной, затем в другой области знаний делались не всегда удачные попытки с позиций рационализма и критицизма устранить основанное на традиции и религии объяснение. Возникновение социологии (как и физики, химии, биологии, других наук) было частью этого важного интеллектуального процесса. Оно происходило на фоне ряда радикальных перемен, которые произвели в Европе «две великие революции» XVIII и XIX вв. Эти преобразования необратимо изменили образ жизни, который люди вели тысячелетиями. Французская революция 1789 г. ознаменовала собой торжество над традиционным общественным порядком таких светских идей и ценностей, как свобода и равенство. Она дала старт мощной и динамичной силе, со временем распространившейся по планете и ставшей основой современного мира. Вторая великая революция началась в Англии в конце XVIII в., раньше, чем где-либо еще в Европе, Северной Америке и т. д. Это была промышленная революция — целый ряд социальных и экономических преобразований, происходивших наряду с разработкой таких технических новшеств, как энергия пара и машины. Рост промышленных предприятий привел к огромной миграции крестьян на фабрики и переходу к индустриальному труду, что вызвало быстрый рост городских районов и стало предвестием новых форм общественных отношений. Он резко изменил облик общественной жизни, в том числе и наши собственные привычки. Большая часть того, что мы едим и пьем, например кофе, теперь производится промышленным путем. Ломка традиционных укладов жизни потребовала от мыслящих людей создать новый способ понимания общественной жизни, а также мира природы. Первооткрыватели социологии были увлечены событиями, сопровождавшими эти революции, и стремились понять не только их причины, но и возможные последствия. Вопросы, на которые эти мыслящие люди пытались найти ответы в XIX в., те же, что задают себе и нынешние социологи. В чем заключается сущность человека? Почему общество структурировано так, а не иначе? Как и почему происходят изменения в обществах?Огюст Конт
Разумеется, ни одному человеку не под силу создать целую область исследования, и было много людей, внесших свой вклад в социологическую мысль. Тем не менее особо выделяют французского ученого Огюста Конта (1798–1857) пусть лишь за то, что фактически он придумал слово «социология». Сначала Конт использовал термин «социальная физика», но его употребляли и некоторые из соперничавших с ним интеллектуалов. Желая обозначить различие между их и своими воззрениями, Конт создал термин «социология» для описания предмета, который он хотел определить. Огюст Конт (1798–1857)
Огюст Конт (1798–1857)
Бурные события того времени наложили отпечаток на мышление Конта. Под влиянием французской революции произошли значительные общественные перемены, а развернувшаяся индустриализация изменила традиционные уклады жизни населения Франции. Конт стремился создать науку об обществе, которая могла бы объяснить его законы именно так, как это делала естественная наука, изучая природу. Признавая, что любая область науки имеет свой предмет, он тем не менее полагал, что всем им свойственно нечто общее — логика и метод, направленные на открытие универсальных законов. Раз познание законов природы дает возможность контролировать и предсказывать происходящее вокруг нас, то и установление законов, которые управляют человеческим обществом, помогло бы творить нашу судьбу и улучшить благосостояние человечества. Конт доказывал, что общество, как и природа, во многом также подчинено неизменным законам. Конт видел в социологии позитивную науку. Он полагал, что при исследовании общества она должна применять научные методы, столь же строгие, как в физике или химии. Согласно позитивизму, наука должна иметь дело только с наблюдаемыми объектами, которые известны из непосредственного опыта. Основываясь на тщательно проведенных сенсорных наблюдениях, можно выводить законы, объясняющие взаимоотношения между наблюдаемыми явлениями. Понимая причинную связь между событиями, ученые тем самым смогут предсказывать, что произойдет в будущем. С точки зрения позитивистского подхода, есть надежда на получение знаний об обществе, которые основаны на эмпирических фактах, полученных посредством наблюдения, сравнения и эксперимента. Закон о трех стадиях, по Конту, гласит, что были три стадии — теологическая, метафизическая и позитивная, которые прошло человечество, стремясь понять мир. На теологической стадии мысль человека вдохновляли религиозные идеи и вера в то, что общество есть отражение божественной воли. На метафизической стадии, начавшейся примерно в эпоху Ренессанса, общество стали рассматривать не с божественной точки зрения, а как природное явление. Позитивная стадия, наступившая с открытиями Коперника, Галилея и Ньютона, вдохновила на то, чтобы к обществу применялась научная методология. Придерживаясь такой точки зрения, Конт считал, что по примеру физики, химии и биологии социологии самой последней предстоит развиться до уровня науки, зато стать самой важной и сложной из всех наук. В конце жизни Конт на основе своих социологических взглядов строил амбициозные проекты преобразования французского общества в частности и человеческих обществ в целом. Он отстаивал идею утверждения «религии гуманности», которая бы отказалась от веры и догмы в пользу научного обоснования. Социология была бы сердцевиной этой новой религии. Конту до тонкостей было известно состояние общества, в котором он жил; он был обеспокоен неравенством, созданным индустриализацией, и угрозой единству общества, которую оно могло повлечь. Перспективное решение виделось ему в установлении морального консенсуса, который бы содействовал сохранению социального порядка либо общественного единения вопреки появившимся новым формам неравенства. Несмотря на то, что мечта Конта о преобразовании общества так никогда и не осуществилась, его вклад в систематизацию и унификацию науки об обществе повлиял на дальнейшую специализацию социологии как академической дисциплины.
Эмиль Дюркгейм
Труды другого французского ученого, Эмиля Дюркгейма (1858–1917), дольше, чем труды Конта, оказывали влияние на современную социологию. Хотя Дюркгейм и опирался на некоторые положения Конта, он полагал, что многие из идей его предшественника были слишком умозрительны и расплывчаты и тому не удалось реализовать свою программу — поставить социологию на научную основу. Дюркгейм рассматривал социологию как новую науку, которую можно использовать для того, чтобы пролить свет на традиционные для философии проблемы, исследуя их эмпирическим методом. Он, как и до него Конт, полагал, что общественную жизнь следует изучать с той же объективностью, с какой ученые-естественники исследуют мир природы. Его знаменитый основной принцип гласил: «Изучайте социальные факты как вещи!» Тем самым он имел в виду, что общественную жизнь можно подвергнуть столь же строгому анализу, как и объекты или явления природы. Эмиль Дюркгейм (1858–1917)
Эмиль Дюркгейм (1858–1917)
Труды Дюркгейма охватывали широкий спектр тем. К трем главным из них относились: значение социологии как эмпирической науки; возникновение индивидуума и формирование нового социального порядка; происхождение и характер власти морали в обществе. Мы вернемся к идеям Дюркгейма, когда будем рассматривать проблематику религии, отклоняющегося от нормы поведения и преступности, труда и экономической жизни. Согласно Дюркгейму, главная познавательная задача социологии заключается в изучении социальных фактов. Вместо того чтобы применять социологические методы к изучению индивидов, социологи должны обследовать социальные факты — те аспекты общественной жизни, которые упорядочивают наши действия в качестве индивидов, как, например, состояние экономики или влияние религии. Дюркгейм полагал, что общества обладают реальностью особого рода, т. е. общество представляет собой нечто большее, чем просто действия и интересы его отдельных членов. По мнению Дюркгейма, социальными фактами являются способы действия, мышления или переживания, которые существуют вне индивидов и обладают особой реальностью, находящейся за пределами жизни отдельных людей и неосознаваемой ими. Социальным фактам также свойственна принудительная власть над индивидами. Однако их свойство принуждать как таковое часто не сознается людьми. Так происходит потому, что они обычно охотно подчиняются социальным фактам, полагая, что действуют по своему усмотрению. На самом же деле, утверждает Дюркгейм, люди нередко просто следуют принятым в обществе образцам. Социальные факты способны ограничивать человеческие поступки способами, которые могут меняться от явного наказания (например, за преступление) или социального остракизма (за неприемлемое поведение) до элементарного непонимания (в случае неправильного употребления слов). Дюркгейм признавал, что социальные факты трудно изучать. Поскольку они невидимы и неосязаемы, за ними нельзя непосредственно наблюдать. Зато их свойства необходимо выявлять косвенным образом, анализируя их воздействие или попытки, предпринимаемые, чтобы их отражать, как, например, законы, тексты религиозного содержания либо писанные правила поведения. Дюркгейм подчеркивал важность отказа от предрассудков и идеологии при изучении социальных фактов. Научная позиция требует от разума быть открытым тому, что дано в ощущениях, а также свободным от предвзятых идей, пришедших извне. Дюркгейм полагал, что научные концепты можно создать только через научно проверенную практику. Он побуждал социологовизучать явления, какими они есть на самом деле, и создавать новые концепты, отражающие подлинную сущность социальных явлений. Дюркгейм, как и другие основатели социологии, был озабочен переменами, преобразившими общество в течение его жизни. Он проявлял особый интерес к социальной и моральной солидарности или, другими словами, к тому, что сплачивает общество и спасает его от погружения в хаос. Солидарность существует, когда индивиды успешно интегрированы в социальные группы и их действия регламентированы общими ценностями и обычаями. В своей первой крупной работе «О разделении общественного труда» (1893) Дюркгейм представил результаты исследования социальных изменений, которые доказывали, что с приходом индустриальной эпохи возник новый тип солидарности. Развивая этот довод, он противопоставил два типа солидарности — механическую и органическую — и установил их связь с разделением труда, с возросшим различием между профессиями. Согласно Дюркгейму, из-за низкого уровня разделения труда традиционным культурам присуща механическая солидарность. Поскольку большинство членов общества занято сходными видами деятельности, их объединяют общий опыт и всеми разделяемые верования. Эти верования обладают силой подавления: сообщество незамедлительно наказывает любого, кто отвергает общепринятые нормы поведения. Так что у отдельного человека остается мало возможностей для инакомыслия. Механическая солидарность, таким образом, зиждется на консенсусе и сходстве верований. Однако под влиянием индустриализации и урбанизации стало расти разделение труда, содействовавшее распаду этой формы солидарности. В современных обществах специализация и растущая социальная дифференциация приведут, как доказывал Дюркгейм, к новому порядку, характеризующемуся органической солидарностью. Общества, которым свойственна органическая солидарность, сплочены благодаря экономической взаимозависимости людей и признанию важности сотрудничества. По мере того как разделение труда охватывает новые сферы, люди становятся все более зависимыми друг от друга, поскольку каждый нуждается в товарах и услугах, которые предоставляют занятые иными профессиями. В процессе формирования социального консенсуса отношения экономического обмена и взаимозависимости приходят на смену общим верованиям. Все же в современном мире перемены происходят так быстро и они столь глубоки, что вызывают огромные социальные проблемы. Эти перемены способны оказывать разрушительное воздействие на традиционные жизненные уклады, нравственность, религиозные убеждения и нормы повседневного поведения, не компенсируя последствия этого воздействия новыми, не вызывающими сомнений ценностями. Дюркгейм связывал эти проявления неустойчивости социального порядка с аномией — ощущением бессмысленности и отчаяния, вызванными современной общественной жизнью. Традиционные нормы морали и средства контроля за нравственностью, которые обычно давала религия, в значительной мере утратили силу в процессе развития современного общества, что оставляет многих людей наедине с ощущением, будто их повседневная жизнь лишена смысла. Исследованию самоубийства посвящена одна из самых известных работ Дюркгейма (см. врезку). Самоубийство, как кажется, представляет собой сугубо личный акт, выход из состояния крайней безысходности. Тем не менее Дюркгейм показал, что социальные факторы оказывают решающее влияние на суицидное поведение — аномия относится к одному из таких факторов. Статистика самоубийств остается стабильной из года в год, и это постоянство необходимо объяснить с социологической точки зрения.
────────────────────────────┐ ■ Работа Дюркгейма о самоубийстве Исследование самоубийств, осуществленное Эмилем Дюркгеймом, относится к признанным в социологии трудам, посвященным взаимодействию индивидуума и общества (Durkheim 1952; впервые опубликовано в 1897 г.). Хотя люди и считают себя индивидами, проявляющими свободу воли и осуществляющими выбор, их поступки совершаются по нормам и образцам, установленным обществом. Исследование Дюркгейма показало, что даже такой сугубо личный акт, как самоубийство, осуществляется под влиянием социальной среды. Изучение самоубийства проводилось и до появления работы Дюркгейма, но он был первым, кто стал настаивать на социологическом объяснении этого поступка. В предшествующих исследованиях также признавалось влияние социальных факторов на самоубийство, но для того, чтобы объяснить предрасположенность к нему, обращали внимание на такие причины, как раса, климат или психическое расстройство. По мнению Дюркгейма, самоубийство является социальным фактом, который, однако, можно объяснить лишь другими социальными фактами. Самоубийство представляет собой нечто большее, чем простая совокупность действий индивидуума, это явление с некоторыми типичными признаками. Изучая опубликованную во Франции статистику, Дюркгейм обнаружил, что отдельные социальные группы больше других проявляют склонность к самоубийству. Например, он установил, что число самоубийц было выше среди мужчин в отличие от женщин, среди протестантов по сравнению с католиками; самоубийство совершали чаще богатые, чем бедные, а также одинокие, нежели состоявшие в браке люди. Дюркгейм к тому же заметил, что коэффициент самоубийств имеет тенденцию к снижению во время войны, а тенденцию к росту — в период перемен или нестабильности в экономике. Полученные данные привели Дюркгейма к выводу о том, что есть внешние по отношению к индивидууму социальные факторы, которые оказывают влияние на коэффициенты самоубийств. Объясняя свои выводы, он установил соотношение между социальной солидарностью и двумя присущими обществу типами связей — социальной интеграцией и социальной регуляцией. Дюркгейм полагал, что люди, прочно интегрированные в социальные группы, а также те, чьи желания и устремления регулируются социальными нормами, менее склонны совершать самоубийство. Он выделил четыре типа самоубийств в зависимости от наличия или отсутствия интеграции и регуляции. Эгоистическое самоубийство отличает низкая степень социальной интеграции индивида, и оно случается, когда индивид предоставлен самому себе либо его или ее связи с группой ослаблены или утрачены. Например, низкие коэффициенты самоубийства среди католиков гипотетически можно объяснить сплоченностью общины, тогда как личная свобода и независимость нравственного выбора у протестантов подразумевают, что они «остаются наедине» с Богом. Брак предохраняет от самоубийства, включая индивидуума в стабильные взаимоотношения, в то время как одиноких людей общество предоставляет самих себе. Более низкий коэффициент самоубийства в военное время, по мнению Дюркгейма, можно рассматривать как проявление повысившейся социальной интеграции. Аномическое самоубийство вызвано отсутствием социальной регуляции. При этом Дюркгейм ссылался на социальные условия аномии, когда люди оказываются в «нормативном вакууме», объясняющемся быстротой изменений или нестабильностью в обществе. Подвижность контрольной точки связи между нормами и желаниями (как, например, в период экономического сдвига или во время личных баталий при разводе) способна нарушить баланс между возможностями и желаниями людей. Альтруистическое самоубийство имеет место, если индивидуум «чересчур» интегрирован, т. е. его социальные связи слишком сильны, и он или она ценит общество больше, чем себя. В таком случае самоубийство превращается в жертву во имя «высшего блага». Японский летчик-камикадзе или исламский «террорист-смертник» служат примерами альтруистического самоубийства. Дюркгейм считал такие самоубийства характерными для традиционных обществ, где преобладает механическая солидарность. Фаталистическое самоубийство — последний из четырех типов. Несмотря на то, что Дюркгейм находил этот тип менее актуальным, его он рассматривал как следствие «зарегулированности» индивидуума со стороны общества. Угнетение человека вызывает ощущение бессилия перед судьбой или социальной средой. Коэффициенты самоубийства неодинаковы в разных обществах, но остаются стабильными внутри них по временным параметрам. Дюркгейм видел в этом доказательство существования постоянно действующих социальных факторов, влияющих на коэффициенты самоубийства. Их изучение показывает, как в индивидуальных действиях можно обнаружить общие модели поведения. Со времени опубликования книги Дюркгейма «Самоубийство» было высказано много возражений по поводу этого исследования. Особый протест вызывало то, как автор использовал официальную статистику, и то, что он пренебрег психологическими факторами самоубийства и настаивал на общей классификации всех его типов. Тем не менее работа Дюркгейма по-прежнему считается классической, а его основополагающий тезис остается в силе: даже такой на вид личный поступок, как самоубийство, требует социологического объяснения. ────────────────────────────┘
Карл Маркс
Взгляды Карла Маркса (1818–1883) сильно противоречат убеждениям Конта и Дюркгейма, но и он тоже стремился объяснить перемены, произошедшие в обществе во время промышленной революции. Еще в молодости политическая деятельность привела Маркса к конфликту с властями Германии. После недолгого пребывания во Франции он навсегда поселился вдали от родины, в Англии. Маркс был очевидцем возрастания количества фабрик и подъема промышленного производства, а также последовавшего затем неравенства. Интерес к европейскому рабочему движению и социалистическим идеям нашел отражение в его трудах, разнообразных по тематике. Он занимался главным образом экономикой, но поскольку всегда был занят выявлением связи между экономическими проблемами и социальными институтами, его труды изобилуют гипотезами, все еще вызывающими интерес у социологов. Даже самые суровые из критиков считают его работу важным вкладом в развитие социологии. Капитализм и классовая борьба Хотя Маркс и писал о разных стадиях в истории, его внимание главным образом концентрировалось на переменах, происходивших в Новое время. Самые важные перемены, по его мнению, были сопряжены с развитием капитализма. Капитализм является экономической системой, которая коренным образом отличается от ее исторических предшественниц тем, что осуществляет производство товаров и услуг, продаваемых широкому кругу потребителей. Маркс определил два главных признака капиталистических предприятий. Первый из них — это капитал, т. е. любое имущество в виде денег, машин или же фабрик, которые можно использовать либо инвестировать, чтобы приобрести новые активы. Накопление капитала неразрывно связано с наемным трудом — вторым из выделенных признаков. Труд по найму объединяет рабочих, не имеющих своих средств к существованию, а потому вынужденных наниматься на работу к собственникам капитала. Маркс полагал, что из собственников капитала или капиталистов формируется правящий класс, тогда как народные массы входят в класс наемных работников или рабочий класс. По мере того как развертывалась индустриализация, множество крестьян, средством к существованию которых была обработка земли, двинулось в большие города, что и способствовало формированию в них промышленного рабочего класса. Под этим классом также подразумевается пролетариат. Карл Маркс (1818–83)
Карл Маркс (1818–83)
По Марксу, сущность капитализма заключается в классовой системе, характеризующейся конфликтом классов. Хотя собственники капитала и рабочие зависят друг от друга — капиталистам необходима рабочая сила, а работникам нужна зарплата — их взаимозависимость характеризуется сильной асимметрией. Классовым отношениям присуща эксплуатация, так как у рабочих либо мало, либо вообще нет возможностей контроля над своим трудом, а наниматели располагают возможностью извлекать прибыль, присваивая продукты их труда. Маркс полагал, что классовый конфликт из-за экономических ресурсов со временем обострится. Изменение общества: материалистическое понимание истории Воззрения Маркса основывались, как он говорил, на материалистическом понимании истории. В соответствии с таким пониманием, главная причина социальных перемен — не убеждения или ценности. Напротив, социальные перемены происходят в первую очередь под влиянием экономики. Именно конфликты между классами являются движущей силой исторического развития, служат «мотором истории». По словам Маркса, «вся человеческая история и поныне представляет собой историю классовой борьбы». Уделяя основное свое внимание капитализму и современному обществу, он, тем не менее, изучал, как общества развивались в ходе истории. Согласно Марксу, социальные системы совершают переход от одного способа производства к другому, иногда постепенно, а подчас революционным путем вследствие экономических противоречий. Он наметил в общих чертах последовательную смену исторических эпох. На смену первобытным коммунистическим сообществам охотников и собирателей пришли древние рабовладельческие общества и феодализм, зиждившийся на системе подразделения людей на землевладельцев и крепостных. Появление купцов и ремесленников ознаменовало возникновение класса торговцев или капиталистов, который стал теснить дворянство, владеющее земельной собственностью. В соответствии с этим воззрением на историю, Маркс доказывал, что коль скоро капиталисты объединились для того, чтобы свергнуть феодальный порядок, то их тоже вытеснят и установят новый. Маркс верил в неизбежность революции рабочих, которые свергнут капиталистический строй и возвестят о новом, бесклассовом обществе, где не будет крупномасштабного деления на богатых и бедных. Он не предполагал, что исчезнут все формы неравенства между людьми. Общество, скорее всего, не будет расколото на небольшой класс, монополизировавший экономическую и политическую власть, и народные массы, которым мало проку от богатства, созданного их трудом. Экономика перейдет в общественное владение, и в обществе установится порядок, который будет более гуманным, чем тот, что нам теперь известен. Маркс верил, что в обществе будущего производство станет более передовым и эффективным по сравнению с капиталистическим. В XX в. деятельность Маркса возымела далеко идущие последствия. До недавнего времени свыше трети населения планеты жило в таких обществах, которые были в Советском Союзе и восточно-европейских странах, и где правительства заявляли, что вдохновляются идеями Маркса.
Макс Вебер
О Максе Вебере (1864–1920), как и о Марксе, нельзя сказать, что он лишь социолог: у него был разнообразный круг интересов и занятий. Вебер родился в Германии, где в основном прошла вся его профессиональная деятельность. Обладая большой эрудицией, он писал об экономике, праве, философии, сравнительной истории и социологии. Вместе с тем он много занимался проблемами развития современного капитализма и общества Нового времени в плане его отличий от предшествующих форм социальной организации. По результатам ряда эмпирических исследований Вебер сформулировал ряд главных особенностей современных индустриальных обществ и определил те ключевые проблемы дискуссии между социологами, о которых споры продолжаются и сегодня. Макс Вебер (1864–1920)
Макс Вебер (1864–1920)
Подобно другим мыслителям той эпохи, Вебер стремился понять характер и причины социальных перемен. Маркс оказал на него влияние, тем не менее Вебер занимал весьма критическую позицию по поводу наиболее важных положений марксисткой теории. Материалистическое понимание истории было им отвергнуто, и классовому конфликту он отводил меньшую роль, нежели Маркс. По мнению Вебера, экономические факторы важны, но идеи и ценности оказывают такое же влияние на процесс изменения общества. В отличие от других первооткрывателей социологии Вебер полагал, что социологическое исследование должно быть сфокусировано не на общественных структурах, а на социальном действии. Он доказывал, что изменению предшествует воздействие побуждений и намерений: идеи, ценности и верования обладают силой, способной осуществлять преобразования. Согласно Веберу, индивиды в состоянии действовать свободно и творить свое будущее. Он не разделял убеждение Дюркгейма и Маркса, будто структуры существуют вне или независимо от индивидов. Напротив, социальные структуры формируются в сложном взаимодействии, складывающемся из отдельных поступков. Задача социологии заключается именно в том, чтобы понять смысл, кроющийся за этими поступками. Интерес Вебера к социальному действию нашел отражение в нескольких из его самых влиятельных работ, где исследовано своеобразие западного общества в сравнении с другими великими цивилизациями. Он изучал религии Китая, Индии и Ближнего Востока, чем внес большой вклад в социологию религии. Сравнивая ведущие конфессии Китая и Индии с аналогичными им по значению на Западе, Вебер пришел к выводу о том, что в некоторых аспектах христианство оказало сильное влияние на возникновение капитализма. Возможность его становления не появилась, как предполагал Маркс, из-за одних лишь перемен в экономике. С точки зрения Вебера, культурные представления и ценности содействуют формированию общества и определяют поступки отдельных людей. В воззрениях Вебера на социологию важная роль принадлежала понятию идеального типа. Идеальные типы представляют собой концептуальные или аналитические модели, которые можно применить для понимания реальности. Идеальные типы редко существуют, почти не встречаются в окружающей нас действительности — в ней только наличествуют кое-какие из их признаков. Тем не менее эти гипотетические конструкции бывают очень полезны, так как любое реальное явление окружающего нас мира поддается пониманию посредством его сравнения с идеальным типом. В этом смысле идеальные типы служат твердо установленной точкой отсчета. Важно отметить, что Вебер не имел в виду, будто концепция идеального типа совершенна и представляет собой конечную цель. Ему придавалось иное значение — «чистой» формы определенного явления. Вебер применил идеальные типы при описании форм бюрократии и рынка. Рационализация По мнению Вебера, становление современного общества происходило наряду с важными изменениями в общепринятом образе действий. Он полагал, что люди отступали от традиционных убеждений, основанных на предубеждении, вере, обычае или давней привычке. Их место все более занимал рациональный расчет, учет совместимости целей и средств их достижения, осуществляя которые индивиды принимали во внимание результат и возможные последствия. В индустриальном обществе оставалось мало оснований для того, чтобы проявлять сантименты или поступать так, как это делали целые поколения. Развитие науки, современной техники и бюрократии Вебер описывал в целом как рационализацию — организацию социально-экономической жизни в соответствии с принципами эффективности и на основе технических знаний. Если в традиционном обществе религия и стародавние обычаи в значительной мере определяли установки и ценности людей, то отличие современного общества проявилось в рационализации все новых сфер жизни — политики, религии, экономической деятельности. Согласно Веберу, промышленная революция и возникновение капитализма были доказательством в пользу того, что существует общее направление развития к рационализации. На капитализм оказывает преобладающее влияние не классовый конфликт, как считал Маркс, а становление крупномасштабных организаций науки и бюрократии. В приверженности науке Вебер видел одно из проявлений своеобразия Запада. В процессе развития сфер экономики и политики бюрократия увеличивается, будучи единственным эффективным средством для организации множества людей. Вебер пользовался словом «разочарование» для описания того способа, посредством которого научное мышление устранило влияние сентиментальности, унаследованной от прошлого. Однако Вебер совершенно не проявлял оптимизма в отношении последствий рационализации. Он опасался, что современное общество как система, ориентированная на регуляцию всех сфер социальной жизни, может сокрушить человеческий дух. Потенциальная способность бюрократии к подавлению и дегуманизации, смысл ее воздействия на судьбу демократии особенно тревожили его. Рискованна сама по себе выдвинутая в эпоху Просвещения (XVIII в.) программа продвижения к прогрессу, богатству и счастью путем отказа от обычаев и предрассудков во имя науки и техники.
────────────────────────────┐ ■ Один из забытых создателей социологии Несомненно, Конт, Дюркгейм, Маркс и Вебер создали социологию. Однако в то время жили и другие философы, важный вклад которых в ее становление представляет интерес. Социология, как и любая наука, не всегда была образцовой, в том смысле, что не признавала важность работы тех, кто этого действительно заслуживал. Мало кому из женщин или представителей этнических меньшинств предоставлялась возможность стать профессиональными социологами в «классический» период конца XIX — начала XX вв. Вместе с тем коллеги часто игнорировали тех немногих, перед кем открылась перспектива провести социологическое исследование, имевшее прочный успех. Гарриет Мартино в числе тех, кто заслуживает внимания со стороны нынешних социологов.
Гарриет Мартино
Гарриет Мартино (1802–1876) назвали «первой женщиной-социологом», но о ней, как и о Марксе и Вебере, нельзя думать, будто она занималась только социологией. Она родилась и получила образование в Англии, написала свыше пятидесяти книг и множество эссе. Теперь Мартино приписывают, что она познакомила британцев с социологией, сделав перевод основополагающего труда Конта «Позитивная философия» (Rossi 1973). Помимо этого, во время больших путешествий по США в 30-е гг. XIX в. Мартино лично провела системное исследование американского общества, которое легло в основу ее книги «Общество в Америке». Для нынешних социологов Мартино — знаковая фигура по нескольким причинам. Во-первых, она утверждала, что исследователь общества должен проявлять интерес ко всем его аспектам, в том числе и к главным политическим, религиозным и социальным институтам. Во-вторых, она настаивала, что жизнь женщин должна стать составной частью изучения жизни общества. В-третьих, она первой обратила внимание социологов на прежде остававшуюся вне поля зрения проблематику брака, детства, семейной и религиозной жизни, расовых отношений. Однажды она написала, что «детская, спальня и кухня — превосходные школы обучения людским нравам и обычаям» (Martineau 1962, 53). Наконец, она утверждала, что социологам нужно не просто наблюдать, а действовать таким образом, чтобы приносить пользу обществу. В итоге Мартино стала активной защитницей прав женщин и поборницей освобождения рабов. Гарриет Мартино (1802–1876)
────────────────────────────┘
Гарриет Мартино (1802–1876)
────────────────────────────┘
Более поздние направления социологии
Первые социологи были едины в стремлении понять смысл перемен, происходивших в окружающем обществе. И это не сводилось лишь к описанию и интерпретации важнейших событий, современниками которых им довелось стать. Важнее другое — они пытались создать методы исследования, пригодные для того, чтобы дать общее объяснение функционирования общества и сущности его изменения. Однако, как уже было показано, Дюркгейм, Маркс и Вебер применяли совершенно разные подходы к изучению социальности. Например, Дюркгейм и Маркс сосредоточились на силе факторов, извне воздействующих на индивидуума, тогда как у Вебера исходной посылкой служила способность людей творчески влиять на внешний мир. Если Маркс выделял особую значимость экономической проблематики, то Вебер относил к числу важных куда более широкий круг факторов. Подобные различия в подходах сохранялись на протяжении всей истории социологии. Даже когда социологи сходятся во мнениях о предмете исследования, они проводят его, применяя разные теории. Сплошными стрелками указано прямое влияние, а пунктирными косвенное. На Мида Вебер не оказал влияния, но поскольку Вебер придавал особое значение осмысленности, целенаправленности действий человека, его взгляды были близки к проблематике символического интеракционизма.
Рис. 1.1. Теоретические направления в социологии
Сплошными стрелками указано прямое влияние, а пунктирными косвенное. На Мида Вебер не оказал влияния, но поскольку Вебер придавал особое значение осмысленности, целенаправленности действий человека, его взгляды были близки к проблематике символического интеракционизма.
Рис. 1.1. Теоретические направления в социологии
Три самых важных из недавно возникших теорий — функционализм, концепция конфликта и символический интеракционизм — напрямую связаны с воззрениями Дюркгейма, Маркса и Вебера (см. рис. 1.1). Читатель этой книги познакомится с идеями и аргументами, основанными на этих теориях и поясняющими их постулатами.
Функционализм
Общество является сложной системой, различные элементы которой, взаимодействуя, создают стабильность и поддерживают солидарность. Таков основной постулат функционализма. В соответствии с ним, социология должна исследовать взаимоотношения отдельных его частей друг с другом, а также между ними и обществом в целом. Например, можно анализировать религиозные верования и обычаи, принятые в обществе, устанавливая их отношения с другими существующими в нем институтами, так как разные части социальной системы развиваются в тесной связи друг с другом. Изучать функцию социальной практики или института значит устанавливать, каким образом они содействуют непрерывному существованию общества. Функционалисты, а среди них были Конт и Дюркгейм, сравнивали общество с живым организмом, часто прибегая к аналогии. Они утверждают, что части, составляющие общество, как и части тела человека, взаимодействуют между собой во благо целого. Для того чтобы исследовать такой орган, как сердце, нужно установить его связь с другими членами тела. Посылая кровь по всему телу, сердце выполняет роль, необходимую для продолжения жизни организма. Исследование отдельного элемента социума подобным образом предполагает выявление его функции в непрерывном существовании общества и обеспечении его жизнеспособности. В теории функционализма подчеркнута значимость морального консенсуса для сохранения порядка и стабильности общества. Моральный консенсус имеет место, когда большинство членов общества придерживается одинаковых ценностей. Функционалисты рассматривают порядок и баланс сил в качестве нормального состояния общества — это социальное равновесие основывается на моральном консенсусе членов общества. Например, Дюркгейм полагал, что религия укрепляет приверженность людей к главным из общепринятых ценностей, тем самым содействуя социальной интеграции. До недавнего времени функционализм, можно сказать, был главенствующим традиционным направлением социологической теории, особенно в США. Талькот Парсонс и Роберт Мёртон, во многом опиравшиеся на труды Дюркгейма, были самыми выдающимися сторонниками функционализма. В последнее время это направление начало утрачивать популярность, по мере того как стала очевидна его ограниченность. Критики сходятся в том, что функционализм преувеличивает важность факторов, содействующих социальной интеграции, в ущерб тем, что приводят к разногласию и конфликту. Концентрация внимания на стабильности и порядке приводит к тому, что преуменьшается значение разногласий и неравенства, вызванных такими факторами, как класс, раса и пол. К тому же недооценивается творческая роль социального действия в жизнедеятельности общества. Многим критикам казалось, что функционалисты приписывают обществу свойства, которыми оно не обладает. Они зачастую описывали общество так, будто бы у него есть «потребности» и «цели», хотя применение таких понятий имеет смысл, только когда речь идет об отдельных людях.Концепция конфликта
Сторонники теорий конфликта так же, как функционалисты, подчеркивают значимость структур в жизнедеятельности общества. И они предлагают целостную «модель», для того чтобы объяснить, как функционирует общество. Однако, в отличие от функционалистов, теоретики конфликта не признают особого значения консенсуса, зато выдвигают на первый план значимость разногласий в обществе. При этом они концентрируют внимание на вопросах власти, неравенства и борьбы. Они склонны рассматривать общество в виде агрегата из разных групп, преследующих свои интересы. Наличие особых интересов предполагает, что всегда существует потенциальная возможность для возникновения конфликта, и некоторые группы извлекут большую выгоду, чем другие. Теоретики конфликта изучают напряженные отношения между господствующими и непривилегированными группами и пытаются понять, каким образом устанавливаются и долго сохраняются властные отношения. Многие теоретики конфликта находят преемственность между своими воззрениями и взглядами Маркса, придававшего большое значение классовому конфликту, а кое-кто из них испытал и влияние Вебера. Ныне здравствующий немецкий социолог Ральф Дарендорф (р. 1929) являет собой прекрасный образец конфликтолога. В своей признанной теперь классической книге «Класс и классовый конфликт в индустриальном обществе» (1959) Дарендорф утверждает, что функционалистам присущ односторонний взгляд на общество: они рассматривают только те сферы общественной жизни, где имеет место согласие и примирение. Не менее, а даже более важны сферы, отличающиеся конфликтом и разногласием. Конфликт, говорит Дарендорф, в основном возникает как следствие различий в индивидуальных и групповых интересах. Маркс представлял себе различные интересы в классовых понятиях, а Дарендорф включает их в более широкий контекст полномочий и власти. Любое общество разделено на тех, кто обладает властью, и тех, кто ее в значительной мере лишен — на правящих и управляемых.Теория социального действия
Если функционалисты и конфликтологи специально выделяют структуры, составляющие основу общества и оказывающие влияние на поведение людей, то сторонники теории социального действия уделяют больше внимания действию и взаимодействию членов общества при формировании этих структур. Они видят задачу социологии не столько в том, чтобы найти объяснение, какие факторы, воздействующие извне на людей, побуждают их поступать так, а не иначе, сколько в том, чтобы понять смысл социального действия и взаимодействия. Если функционалисты и конфликтологи отдают предпочтение моделям общества, действующего как единое целое, то теория социального действия основное внимание уделяет поведению акторов и тому, как они относятся друг к другу и обществу. Нередко говорят, что Вебер первым выступил с обоснованием перспективности изучения социального действия. Он признавал существование социальных структур — классов, партий, статусных групп и т. п., но был убежден, что эти структуры возникли из социальных действий отдельных людей. Такая позиция наиболее последовательно разработана философской школой символического интеракционизма, которая получила самую широкую известность в США. Вебер оказал на нее лишь косвенное влияние. Символический интеракционизм ведет свое происхождение из трудов американского философа Джорджа Герберта Мида (1863–1931). Символический интеракционизм Символический интеракционизм возник из интереса к языку и смыслу. Мид утверждает, что язык дает нам возможность стать существами, обладающими самосознанием, т. е. знающими о своей индивидуальности и способными себя увидеть со стороны, так, как нас видят другие. Символ — главный элемент этого процесса. Он представляет собой нечто, существующее вместо чего-то еще. Например, слова, которыми мы пользуемся, когда говорим об определенных объектах, на самом деле есть символы, представляющие подразумеваемое нами. Слово «ложка» — символ, обозначающий прибор для еды. Невербальные жесты или способы общения — тоже символы. Знак рукой кому-нибудь или грубый жест в адрес кого-то имеют символическое значение. Мид утверждал, что люди полагаются на общепринятые символы и представления при взаимодействии друг с другом. Поскольку они живут во вселенной, изобилующей символикой, то фактически все их взаимодействия предполагают обмен символами. Символический интеракционизм привлекает внимание к деталям межличностного общения, к тому, как они используются в осмыслении того, что говорят и делают другие люди. Под влиянием символического интеракционизма социологи сосредотачивают свои исследования на общении лицом к лицу в контексте повседневной жизни. Они особо выделяют роль такого общения в формировании общества и его институтов. Несмотря на то, что символический интеракционизм немало дает для глубокого понимания сущности повседневной жизни, эта теория подверглась критике за пренебрежение к таким серьезным проблемам, как власть и структура в обществе и их функции по ограничению активности отдельного человека.Заключение
Социология приемлет разнообразные теории. Подчас расхождения в теоретических постулатах кардинальны. Однако такое разнообразие свидетельствует скорее о силе и жизнеспособности, нежели о слабости. Все социологи разделяют точку зрения, согласно которой мы готовы не считаться с личными взглядами ради того, чтобы точнее выявить факторы, упорядочивающие жизнь нас самих и других людей. Социология появилась на свет как результат своеобразного напряжения мысли в процессе развития современного общества, и его исследование остается главной задачей этой науки. Но социологов занимает и более широкий круг проблем, касающихся сущности социального взаимодействия и человеческих сообществ в целом. Социология — вовсе не сфера абстрактной мысли, а наука, имеющая большой практический смысл для жизни людей. Обучение профессии социолога ни в коем случае не должно превратиться в навевающее скуку занятие! Лучший способ избежать такой поворот дела — напрячь воображение и увязать социологические идеи и наблюдения с конкретными примерами из вашей собственной жизни. Один из путей к этому открывает осознание различий между укладами жизни, кажущимися нам обычными как людям, живущим в современном обществе, и характерными для других сообществ. Хотя у всех людей много общего, есть множество различий между обществами и культурами. Об этом пойдет речь в следующей главе «Культура и общество».Краткое содержание
1. Социологию можно определить как системное исследование человеческих обществ, в рамках которого особое внимание уделяется современным, индустриальным системам. 2. Предполагается, что человек, занимающийся социологией, обладает творческим воображением и способен отвлечься от предвзятых идей о социальной жизни. 3. Социология как дисциплина имеет важное практическое применение. Она предоставляет возможность подвергнуть критике общественные отношения и содействует проведению социальных реформ несколькими способами. Прежде всего, углубленное понимание ряда социальных условий нередко благоприятствует контролю над ними. Вместе с тем социология развивает у нас чуткость к культуре, что помогает проводить политику с учетом культурных различий в ценностных ориентациях. В практическом плане у нас возникает возможность изучить последствия, к которым приведет принятие конкретных политических программ. Наконец, вероятно, самое важное — социология содействует пониманию собственного «я», увеличивая шансы отдельных людей и групп на изменение условий их жизни. 4. Социология появилась на свет в результате попытки осмыслить далеко идущие перемены, произошедшие в человеческом обществе за прошедшие два или три столетия. Эти перемены не только широкомасштабны, но и влекут за собой изменения в самых сокровенных и глубоко личностных сторонах жизни людей. 5. Среди широко известных основателей социологии самая важная роль отведена Огюсту Конту, Карлу Марксу, Эмилю Дюркгейму и Максу Веберу. В середине XIX в. Контом и Марксом были поставлены фундаментальные социологические проблемы, которые позднее разрабатывали Дюркгейм и Вебер. Это проблемы предмета и задач социологии, а также социальных последствий модернизации. 6. Социологию отличает разнообразие теоретических подходов. Споры по вопросам теории трудно разрешимы даже для естествознания, а социологи сталкиваются с трудностями особого рода: сложность их проблем сопряжена с тем, что им приходится изучать собственное поведение. 7. Функционализм, концепция конфликта и символический интеракционизм — таковы главные теоретические подходы, применяемые в социологии. Между ними есть коренные различия, и они сильно повлияли на разработку ее методологии в послевоенный период.ГЛАВА 2 КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО
В этой главе мы увидим, сколько общего могут иметь между собой совершенно разные культуры и социальные системы, и познакомимся с различными типами человеческих обществ. Понятие культуры относится к числу наиболее часто используемых в социологии. Когда мы употребляем это слово в обиходном лексиконе, мы чаще всего обозначаем с его помощью «высшие проявления разума» — изобразительное искусство, литературу, музыку или искусство в целом. Но для социологов культура является гораздо более широким понятием. Культура — это общественный уклад, которому подчиняются отдельные члены или социальные группы данного социума. Сюда входят: манера одеваться; свадебные обряды; правила семейной жизни; трудовые традиции; религиозные церемонии; способы проведения досуга. «Культура» концептуально может отличаться от «общества», но между этими понятиями существует тесная связь. Под обществом понимается система взаимоотношений, которая соединяет воедино его представителей. В этом смысле Великобритания, Франция и США являются обществами. Они включают в себя миллионы людей. Другие, наподобие доисторических сообществ охотников или собирателей, могут насчитывать 30–40 человек. Но все общества объединяет то, что их члены подчиняются четкой системе социальных отношений, построенной в согласии с конкретной культурой. Ни одна культура не смогла бы существовать в отрыве от общества. Но, с другой стороны, и ни одно общество не может существовать без культуры. Не будь культуры, разве стали бы мы «людьми» в общепринятом смысле этого слова?! Мы не имели бы ни языка для выражения мыслей, ни чувства самосознания, а наша способность рассуждать и мыслить оказалась бы до крайности ограниченной. Культурные различия в человеческом обществе обусловлены существованием разных типов социума; в этой главе мы будем сравнивать основные общественные формации, встречающиеся в истории человечества. Цель, которая преследуется при этом, заключается в том, чтобы установить соответствие между двумя сторонами социальной жизни: различными культурными ценностями и плодами человеческого труда — и принципиально различными типами общества, в которых происходило развитие культуры. Слишком часто эти аспекты рассматриваются совершенно независимо друг от друга, как если бы между ними не существовало вообще никакой связи, — тогда как на самом деле они неразделимы. На протяжении всей этой главы будет особо подчеркиваться то влияние, которое оказывают на культурное развитие перемены, происходящие в обществе. В заключительных разделах мы познакомимся с основными механизмами таких перемен и более подробно остановимся на самых существенных процессах, изменивших облик современного мира.Концепция культуры
Когда социологи говорят о культуре, они подразумевают в первую очередь «благоприобретенные» стороны общественной жизни, которые являются продуктами познания и не передаются механически из поколения в поколение. Эти элементы культуры доступны всем членам общества, благодаря чему последние получают возможность общаться и сотрудничать друг с другом. Они формируют культурный фон, на котором проходит жизнь людей в этом обществе. Культура общества охватывает все аспекты, как нематериальные — верования, идеи и ценности, являющиеся содержанием культуры, так и вполне осязаемые — объекты, символы и технологии, которые воплощают это содержание.Ценности и нормы
Фундаментальными для любой культуры являются представления о том, что должно считаться важным, стоящим и желательным. Эти абстрактные идеи, или ценности, помогают человеку направлять свою жизнь в нужное русло и придавать ей смысл. Моногамия (т. е. такой семейный уклад, при котором сексуальные партнеры сохраняют верность друг другу) может служить примером ценности, почитаемой во всех западных сообществах. Нормы — это правила поведения, которые отражают или воплощают в себе ценности конкретной культуры. Ценности и нормы во многом определяют образ общественной жизни и манеру поведения представителя данной культуры. Например, в тех культурах, где высоко ценится образование, культурные нормы будут поощрять студентов прилагать максимум усилий в учебе, а родителей — вкладывать средства в образование своих детей. В культурах, где гостеприимство рассматривается как высшая добродетель, культурные нормы во многом определяют социальное поведение гостей и хозяев, а также регламентируют процесс выбора и вручения подарков. Ценности и нормы, присущие различным культурам, могут существенно отличаться друг от друга. Некоторые культуры превыше всего ценят индивидуализм, тогда как для представителей других прерогативой являются нужды общества. Простой пример покажет, насколько глубоки могут быть эти различия. В Великобритании большинство учащихся, заметив, что кто-то «списывает» на экзамене, восприняли бы это как личное оскорбление. Подглядывание в чужую работу, по их мнению, является прямым нарушением принципов равных возможностей, адекватного вознаграждения за приложенные усилия, здоровой конкуренции — и неуважением к «правилам». А вот русские школьники были бы удивлены такойреакцией своих британских сверстников. Помогающий товарищу на экзамене поступает так в соответствии с нормами поведения, которые опираются на (имеющие для нас большое значение) принципы равенства и совместного действия при решении задач, поставленных вышестоящими структурами. Подумайте над тем, каково ваше отношение к ситуации, приведенной в этом примере. И что может сказать оно о ценностях вашего общества? Но даже внутри социума или сообщества ценности могут иметь диаметрально противоположный характер: например, одна часть общества будет отстаивать традиционные религиозные ценности, а другая — ратовать за научно-технический прогресс. Там, где некоторые гонятся за материальным комфортом и социальным успехом, кто-то другой может превыше всего ставить жизнь в простоте и спокойствии. В наш век перемен, отмеченный глобальным перемещением людей, товаров, идей и информации, неудивительно, что мы сталкиваемся с примерами конфликта культурных ценностей. Изменяющиеся культурные ценности и нормы Культурные ценности и нормы часто изменяются с течением времени. Многие общественные нормы, которые кажутся нам совершенно естественными, — как, например, добрачные сексуальные отношения или совместное проживание официально не расписанных пар — были широко порицаемы еще каких-нибудь несколько десятилетий назад. Те ценности, на которых зиждилась личная жизнь человека, претерпевали медленные последовательные изменения в течение многих лет (см. главу 7 «Семьи»). Но как быть с теми культурными нормами и правилами поведения, которые были изменены искусственно? В январе 2000 г. комиссия при правительстве Японии опубликовала отчет, где были перечислены основные задачи, стоящие перед страной в XXI в. В условиях экономической рецессии, роста преступности и безработицы, премьер-министром Японии была создана комиссия, которая должна была в общих чертах указать национальные приоритеты на ближайшие несколько десятков лет. Основные выводы комиссии вызвали удивление у большинства рядовых японцев: японским гражданам предлагалось частично отказаться от традиционных ценностей, если они хотели помочь своей стране в борьбе с социальными язвами. Члены комиссии сошлись во мнении, что японцам вредит их излишняя приверженность идеалам конформизма и равенства, и они призвали правительство принять меры по снижению уровня «однообразия и излишней согласованности» в обществе. Они указали на наиболее характерные явления в жизни Японии, отражающие эти тенденции: практически все японские школьники носят одинаковую темно-синюю форму, которая отчасти лишает своего хозяина индивидуальности; а клерки не уходят из офиса раньше времени (даже в тех случаях, когда вся работа сделана), следуя негласному правилу. Эти ценности, по мнению членов комиссии, мешают гражданам Японии в полной мере принять постулаты индивидуализма, которые в недалеком будущем будут задавать тон общественной жизни. Культурные ценности очень глубоко укореняются в национальном сознании, и пока трудно сказать, сможет ли указ правительства изменить многовековые японские традиции. Но, судя по бытующей в Японии поговорке о «торчащем гвозде, который следует забивать обратно», понадобится немало времени и усилий, чтобы ослабить влияние культурных норм, порождающих однообразие и самоуничижение в среде японцев. Многие из наших повседневных привычек и действий обязаны своим происхождением устоявшимся культурным нормам. Как мы увидим в четвертой главе («Социальное взаимодействие и повседневная жизнь»), культурные факторы в значительной степени влияют на формирование наших движений, жестов и словесных выражений. То, как люди разных национальностей улыбаются в общественных местах, может служить наглядной иллюстрацией этому тезису. Например, эскимосы Гренландии не имеют привычки улыбаться в присутствии чужих людей, которая присуща представителям многих стран Западной Европы и Северной Америки. Это вовсе не означает, что эскимосы недружелюбны или излишне сдержаны — просто у них не принято улыбаться незнакомым людям или шутить с ними. Однако, по мере того, как в Гренландии в течение последних лет стала развиваться сфера услуг, некоторые работодатели попытались исподволь привить своим сотрудникам желание улыбаться клиентам. Ведь существует распространенное мнение, что улыбка и вежливое отношение к клиенту — залог конкурентоспособности бизнеса: те из них, кто будет встречен улыбкой и обычным пожеланием «счастливого дня», с большей вероятностью станут со временем постоянными клиентами. Во многих супермаркетах Гренландии продавцам демонстрировались видеоролики, обучающие персонал правильному обхождению с покупателем; а некоторые кооперативы даже посылали своих сотрудников на специальные курсы заграницу! Западный стиль обслуживания пришел в Гренландию вместе с первыми закусочными Макдональдс. Работники этих заведений учились приветствовать покупателя, представляться ему и улыбаться как можно чаще. Поначалу эти нововведения были холодно приняты персоналом, поскольку такой стиль общения казался людям искусственным и неискренним. Однако, со временем, эта идея прижилась и в общественных местах — по крайней мере на работе — теперь можно гораздо чаще видеть улыбающиеся лица.Многообразие культуры
Культуры отличаются друг от друга не только своими традициями, но и манерой поведения своих представителей. Многие формы поведения, имеющие мало общего между собой и часто неприемлемые за рамками определенной культуры, жители западных стран могут счесть просто «ненормальными». Например, в современном западном обществе дети в возрасте 12–13 лет считаются еще слишком маленькими для вступления в брак — тогда как в некоторых культурах столь ранние браки считаются самым обычным делом. На Западе люди едят устриц, но не употребляют в пищу мясо собак или кошек, которое считается деликатесом в других странах мира. Евреи не едят свинину, а индусы — говядину. Люди на Западе рассматривают поцелуй как нормальную составляющую сексуальных отношений, хотя во многих иных культурах эта практика либо неизвестна, либо считается отвратительной. Все эти нравы и обычаи иллюстрируют лишь одну составляющую из широкого спектра культурных особенностей, позволяющих проводить различия между обществами. Маленькие сообщества, наподобие охотничьих племен или собирателей, отличались культурным единообразием, или монокультурой. Некоторые современные общества — например японское — сохранили эту монокультурность и демонстрируют высокий уровень культурной однородности. Для большинства индустриальных держав, однако, сегодня характерно культурное многообразие, или мультикультура. Как вы узнаете из главы 9 («Раса, этническая принадлежность и иммиграция»), рабовладение, колониальная политика, войны, миграция и современные процессы глобализации привели к расселению многих народов за пределами своих исходных ареалов обитания. Это, в свою очередь, привело к возникновению обществ со сложносоставной культурой, носители которой являлись выходцами из иной культурной, этнической и языковой среды. В современных городах разные культурные общины могут жить в тесном соседстве друг с другом: индейцы, пакистанцы, индусы, бенгальцы, итальянцы, греки и китайцы — представителей всех этих наций сегодня можно встретить в центре Лондона. Термином субкультура обозначаются не только этнические или языковые группы в составе больших сообществ. Это понятие применимо к любой части населения, которая отличается от остальной массы своими культурными традициями. Под него подходит очень широкий спектр направлений человеческой деятельности: это могут быть и натуралисты, и ценители готического искусства, и компьютерные хакеры, и хиппи, и растаманы, и любители хип-хопа, и футбольные фанаты. Некоторые люди стремятся отождествить себя с какой-то конкретной субкультурой, в то время как остальные могут свободно вращаться в среде представителей нескольких субкультур. Культура играет важную роль в сохранении ценностей и норм каждого общества — но она же и предлагает разнообразные возможности для создания новых традиций. Субкультуры и контркультуры (т. е. такие группы, которые отвергают большинство ценностей и норм данного социума) могут стать проводником альтернативных идей и взглядов. Общественные движения или группы людей, разделяющих определенное мировоззрение, являются мощными движущими силами, которые способны изменить общество. В этом смысле субкультуры предоставляют людям свободу действия в соответствии со своими мнениями, убеждениями и надеждами.Этноцентризм
Каждая культура имеет свои уникальные стили поведения, чуждые представителям других культур. Если вы бывали за границей, то могли ощутить то странное чувство, которое возникает при попадании в чужую культурную среду. Те аспекты повседневной жизни, которые уже давно вошли в нашу плоть и кровь, в другой стране могут считаться чем-то экстраординарным. Привычки и обычаи двух разных стран могут существенно отличаться друг от друга даже в том случае, когда их граждане говорят на одном языке. Нетрудно представить, насколько уместно здесь выражение «культурный шок»! Часто люди просто теряются, оказавшись в новой, чужой для них стране. Это происходит потому, что они утратили ту привычную опору, которая помогала им понимать окружающий мир, не успев еще как следует сориентироваться в новой культуре. Культура нередко оказывается совершенно непостижимой для чужака. Нам трудно понять отдельные верования и обычаи в отрыве от более широкого культурного контекста, которому они принадлежат. Культуру следует изучать в терминах собственных значений и ценностей — вот основной постулат социологии. Этот принцип еще называют культурным релятивизмом. Социологи всегда должны стремиться к тому, чтобы не впадать в этноцентризм и не судить о других культурах с позиций своей собственной. Поскольку культуры могут отличаться друг от друга в значительной степени, не вызывает удивления проявляющаяся порой нетерпимость по отношению к манерам и привычкам представителей другой культуры. Вставая на позиции культурного релятивизма (т. е. временно отказываясь от собственных глубоко укоренившихся культурных убеждений и рассматривая ситуацию с точки зрения стандартов иной культуры), мы рискуем столкнуться с неопределенностью и целым рядом трудноразрешимых задач. Пусть даже нам удалось абстрагироваться и смотреть на происходящее с позиций носителя других культурных ценностей, — но как быть с необходимостью решить вопрос о том, подразумевает ли культурный релятивизм, что законны все существующие обычаи и традиции? Есть ли единые стандарты поведения, которых должны придерживаться все люди мира? Давайте рассмотрим следующий пример. В последующие за выводом советских воинских соединений из Афганистана годы эту страну охватило пламя гражданской войны. Большая часть страны оказалась в руках талибов — религиозной секты, стремящейся к построению общества, основанного на самых строгих исламистских принципах. Законы Талибана четко регламентировали стиль одежды, передвижения на публике и личную жизнь афганских женщин. На улице женщина обязана была показываться только одетой с ног до головы во все черное и с лицом, закрытым паранджой. Женщин лишили права работать вне дома и права на образование. Подобные законы, представляющие один из радикальных вариантов исламского шариата, рассматривались многими мусульманскими учеными как слишком жестокие. Несмотря на критику в свой адрес со стороны мирового сообщества и кампаний в защиту афганских женщин, правительство талибов заявляло о чрезвычайной важности подобных мер в деле построения целомудренного общества, где женщин ждет почет и уважение. Можно ли, стоя на пороге XXI в., считать отношение талибов к женщинам приемлемым? Не существует простых решений этой дилеммы, как и в десятках других случаев, когда культурные нормы и ценности не совпадают с нашими привычными представлениями о них. Ясно, что необходимо бороться с искушением применить собственные стандарты по отношению к народу, живущему в ином культурном контексте. Но попробуйте-ка довольствоваться «культурными» объяснениями в ситуациях, которые прямо противоречат тем нормам и ценностям, которые вы впитали с молоком матери. Задача социолога, таким образом, состоит в том, чтобы избегать «рефлективной» реакции на происходящее и стараться исследовать сложные вопросы со всех возможных точек зрения.Социализация
Как мы уже отмечали, к сфере культуры относятся те аспекты общественной жизни, которые предполагают обучение, а не просто «наследование». Процесс, в ходе которого дети или другие члены общества учатся жить в этом обществе, называется социализацией. Социализация является основным способом передачи культурных ценностей от поколения к поколению. Животные, стоящие на эволюционной лестнице ниже человека, способны защитить себя по прошествии сравнительно короткого периода времени после рождения, причем практически без помощи со стороны взрослых особей. Однако высшим животным приходится обучаться тому, как себя вести — новорожденные обычно совершенно беспомощны и им требуется опека старших. А человеческие детеныши — самые беззащитные из всех: ребенок не может выжить без посторонней помощи по крайней мере на протяжении первых 4–5 лет своей жизни. Таким образом, социализация является адаптационным процессом, в ходе которого ребенок постепенно начинает осознавать себя, превращается в умелого и обладающего знаниями индивидуума, готового к жизни в том обществе, где он был рожден. Социализацию не следует считать разновидностью «культурного программирования», когда ребенок становится пассивным объектом влияния со стороны тех сил, с которыми он входит в соприкосновение. Даже только что появившийся на свет младенец демонстрирует свои желания и потребности, тем самым влияя на действия окружающих: уже с рождения ребенок — это активное существо. Социализация связывает друг с другом разные поколения. Появление ребенка на свет изменяет жизнь тех, кто должен заботиться о нем, — и они, в свою очередь, тоже включаются в процесс обучения. Родительские обязанности, как правило, соединяют жизни взрослых и детей до самого их конца. Более пожилые люди в какой-то момент становятся бабушками и дедушками, что приводит к образованию отдельной ветви отношений, соединяющей разные поколения друг с другом. Следовательно, социализация предстает как непрерывный процесс, охватывающий всю жизнь человека, который заключается в изменении его поведения под влиянием социальных взаимодействий. Он позволяет каждому развиваться, реализовывать свой потенциал, учиться и совершенствоваться. Социологи нередко говорят о социализации как о процессе, состоящем из двух обширных фаз, в каждой из которых задействуются различные агенты социализации — группы или социальное окружение, в которых протекают наиболее значительные процессы социализации. Первичная социализация происходит в младенческом возрасте и в детстве, когда у человека идет наиболее интенсивный процесс культурного образования. В это время дети обучаются языку и основным навыкам, которые со временем станут основой для дальнейшего обучения. На протяжении этого периода основной движущей силой социализации является семья. Вторичная социализация проходит в позднем детстве и в более зрелые годы жизни и сопровождается отчуждением у семьи ряда воспитательных функций, которые переходят к другим институтам социализации: школе, сверстникам, различным организациям, СМИ и, наконец, месту работы. Социальные взаимодействия, происходящие в этом культурном контексте, помогают людям усвоить ценности, нормы поведения и убеждения, присущие данному обществу.────────────────────────────┐ ■ Музыка «рэгги» Когда искушенные в популярной музыке люди слушают какую-нибудь песню, они часто могут определить стиль, который оказал влияние на композитора при ее создании. В конце концов, всякий музыкальный стиль представляет собой уникальное сочетание ритма, мелодии, типа созвучия и лирики. И хотя не надо быть музыкальным гением, чтобы отличить гранж от хард-рока, а техно — от хип-хопа, иногда приходится сталкиваться с произведениями, в которых смешано сразу несколько разных стилей. И выделение этих составляющих далеко не всегда оказывается простой задачей. Но для социологов, изучающих культуру, затраченные на это усилия вполне оправдывают себя. Различные музыкальные стили чаще всего рождаются в разных социальных группах — поэтому то, как они соединяются и перемешиваются, часто помогает понять взаимосвязь этих субкультур. Некоторые социологи, занимающиеся вопросами культуры, обратили свое внимание на музыку «рэгги», которая своим возникновением подтвердила тезис о том, что в результате контактов разных социальных групп возможно рождение новых музыкальных форм. Корнями рэгги уходит в Западную Африку. В XVII в. многие жители тех краев были обращены в рабство британскими колонизаторами и переправлены по морю в Вест-Индию, на плантации сахарного тростника. Хотя британцы старались запретить рабам играть национальную африканскую музыку, усматривая в этом возможность создания атмосферы неповиновения и опасность бунта, невольникам удалось сохранить традицию барабанных ритмов Африки, подчас интегрируя их в европейские музыкальные стили. На Ямайке барабанная музыка «бурру», исполняемая группой местных рабов, открыто разрешалась рабовладельцами, поскольку помогала задавать мерный ритм работе. Рабство было упразднено на Ямайке в 1834 г., но сама традиция игры на барабанах осталась, хотя многие представители племени перебрались с насиженных мест в трущобы Кингстона. Именно там зародился новый религиозный культ, который впоследствии оказал огромное влияние на развитие рэгги. В 1930 г. человек по имени Хайле Селассие (Haile Selassie) стал императором Эфиопии. В то время, когда многие противники политики колониализма во всем мире горячо приветствовали его восхождение на трон, в Вест-Индии появились люди, которые почитали Селассие как бога, спустившегося на Землю, чтобы возглавить борьбу Африки за свое освобождение. Поскольку одним из имен императора было «принц Рас Тафари» (prince Ras Tafari), то уверовавшие в него люди стали называть себя растаманами (rastafarians). Культ расты вскоре слился с течением бурру, и музыка растаманов возникла как слияние их барабанного боя с библейскими темами угнетения и освобождения. В 50-х гг. прошлого столетия музыканты Вест-Индии начали комбинировать растаманские ритмы и лирику с элементами американского джаза и ритм-энд-блюза, исполняемого негритянским населением. Эта смесь дала рождение музыке «ска» (ska), а затем, в конце 60-х — направлению рэгги, для которого характерны относительно медленные ритмы, акцент на низкое звучание и свои истории о нищенском существовании в городских условиях и силе коллективного общественного сознания. Многие исполнители рэгги, такие, как Боб Марли, имели коммерческий успех, и к началу 70-х гг. люди по всему миру слушали музыку рэгги. В 80-х рэгги слился с музыкой «хип-хоп» (или рэп), результатом чего стала особая манера игры, прослеживающаяся в композициях групп Wu-Tang Clan и Fugees (Hebdige 1997). Как видно, история рэгги — это история связей различных социальных групп и переплетения тех идеалов (политических, духовных и личных), которые эти группы стремились выразить в своей музыке. Благодаря глобализации эти связи значительно расширились и упрочились. Сегодня пристрастия юного музыканта из Скандинавии могут формироваться под влиянием музыки, звучащей в подвалах Ноттинг Хилла в Лондоне или, скажем, под влиянием выступлений мексиканских музыкантов, которые транслируются в прямом эфире через спутник из Мехико. Если интенсивность контактов между разными группами является важным фактором в эволюции музыки, то можно с уверенностью предсказать, что в ближайшие годы вместе с ростом глобализации будет расти и число новых музыкальных стилей. ────────────────────────────┘
Социальные роли
В процессе социализации индивидуум узнает о существовании социальных ролей — определенных самим обществом установок, которым должен следовать человек с данным социальным статусом. Социальная роль «доктора», например, предусматривает определенный набор правил, которые должны выполнять все врачи независимо от их персональных мнений или взглядов. Поскольку все без исключения доктора играют эту роль, то оказывается возможным говорить в самом общем виде о профессиональных особенностях в поведении, не касаясь сугубо личных качеств тех, кто занимается врачебной деятельностью. Некоторые социологи — особенно те, кто принадлежит к школе функционалистов, — рассматривают социальные роли как жестко определенные и относительно постоянные составные части культуры общества. Они являются социальными фактами. Согласно этой трактовке, каждый человек получает информацию о различных социальных ролях, существующих в обществе, и исполняет свою роль в полном соответствии с предопределенными установками. Социальные роли не предусматривают творческого подхода или оспаривания — они носят предписывающий характер и в общих чертах управляют поведением человека. Посредством социализации человек «входит» в социальную роль и обучается ее правильному исполнению. Этот взгляд, однако, оказывается ошибочным. Он предполагает, что индивидуумы просто соглашаются на исполнение той или иной роли, даже не делая попыток изменить их. На самом деле социализация позволяет человеку оказывать активное воздействие на окружающую культурную среду вместо того, чтобы превращать его в запрограммированный автомат. Люди познают и принимают свои социальные роли в ходе непрерывного процесса социального взаимодействия.Идентификация
Культурное окружение, в котором проходят наше детство и юность, оказывает прямое воздействие на наше поведение, — но это не означает, что мы каким-то образом ущемляем свою индивидуальность или лишаемся свободы воли. Может показаться, что нас буквально загоняют в некие изначально определенные обществом культурные «пресс-формы». Некоторые социологи рассматривают процесс социализации именно таким образом — и допускают фундаментальную ошибку. Конечно, нельзя отрицать, что на протяжении всей своей жизни мы взаимодействуем с другими людьми, благодаря чему формируется наша личность, создается набор ценностей и вырабатывается манера поведения. Но именно здесь зарождается наша индивидуальность и находит выражение свободная воля. Таким образом, социализация имеет самое непосредственное отношение к нашему становлению как личностей и приобретению навыков для самостоятельных рассуждений и действий. Понятие индивидуальности, или идентификации, в социологии имеет множество аспектов и, соответственно, рассматривать его можно с разных точек зрения. В самом широком смысле под идентификацией понимается такая совокупность значимых для человека свойств, из которых он складывает свой собственный образ. В этом образе находят отражение наиболее существенные отличительные черты, чаще всего имеющие отношение к половому разделению, сексуальной ориентации, национальной или этнической принадлежности и социальному положению. Есть два типа идентификации, которые выделяют социологи: социальная идентификация и самоидентификация (или персональная идентификация). Теоретически эти формы идентификации различны, тем не менее между ними существует тесная взаимосвязь. Социальная идентификация — это набор признаков, которые общество приписывает данному индивидууму. Они могут служить своего рода опознавательными знаками, показывающими, кем является их носитель. И в то же время они позволяют рассматривать человека как члена определенной группы, в которую входят индивидуумы с аналогичными признаками. Когда мы говорим о человеке, что он(а) студент, мать, адвокат, католик, бездомный, азиат, страдающий дислексией, состоящий в браке и т. д., мы имеем дело с социальной идентификацией. Большинство людей одновременно попадает в различные социальные группы, что приводит к более сложной идентификации. Например, женщина может быть не только матерью, но и инженером по специальности, мусульманкой по вероисповеданию и к тому же занимать пост городского советника. Необходимость такого подхода к вопросу социальной идентификации обусловлена многообразием аспектов человеческой деятельности. И хотя эта многочисленность социальных идентификаций может оказаться для некоторых потенциальным источником конфликтов, большинство все же строит свою жизнь в соответствии с определенной первичной идентификацией, которой человек придерживается (в большей или меньшей степени) всегда и везде. Таким образом, социальная идентификация существует только в масштабах общества. Она позволяет «сравнивать» индивидуумов согласно определенным критериям. Общие идентификационные признаки (проистекающие из общих целей, ценностей или жизненного опыта) могут стать базисом для образования социальных движений. Феминистки, защитники окружающей среды, профсоюзные активисты и участники религиозных и/или националистических радикальных движений — объединяющим фактором в каждом из этих случаев послужила принадлежность членов движения к соответствующей «социально идентифицируемой» группе. Если социальная идентификация позволяет установить сходство между людьми, то самоидентификация дает нам возможность рассматривать себя изолированно как отдельных индивидуумов. Самоидентификация осуществляется в рамках процесса развития личности, в ходе которого мы учимся воспринимать самих себя и окружающий нас мир. Обоснование самоидентификации существенно опирается на механизмы теории символического интеракционизма. Именно благодаря постоянному взаимодействию человека с окружающей действительностью у него/нее формируется ощущение собственного «я». Такое взаимодействие индивидуума и социума помогает установить связь между этими двумя мирами — миром личного и миром общественного. Хотя культурное и социальное окружения оказывают определенное влияние на процесс самоидентификации, тем не менее главную роль здесь играют личностные факторы и способность человека совершать самостоятельный выбор. Наблюдая за изменениями самоидентификации при переходе от традиционных общественных форм к современным, можно заметить, как влияние устоявшихся «наследуемых» факторов, ранее игравших главную роль в определении идентификации, постепенно сходит на нет. Если когда-то индивидуальность человека формировалась под воздействием широкой, хотя и ограниченной классовыми или национальными рамками, социальной группы, к которой он принадлежал, то сегодня его индивидуальность куда более многообразна и менее стабильна. Процессы урбанизации, индустриализации и распада предшествующих социальных формаций в значительной степени ослабили влияние общепринятых правил и традиций, передающихся из поколения в поколение. Люди стали более мобильны — как социально, так и территориально. Это позволило им вырваться за пределы крепко «сбитых», относительно однородных обществ старого типа, где сыновья автоматически перенимали законы своих отцов. Как следствие, на передний план вышли другие факторы, имеющие значение при самоидентификации — например, половая принадлежность или сексуальная ориентация. В сегодняшнем мире нам предоставлена уникальная возможность «делать» себя, создавать свою индивидуальность. Мы «сами себе режиссеры» во всем, что касается самовосприятия и поиска смысла жизни. Сейчас, когда на традиционные указатели мы можем обращать гораздо меньше внимания, чем раньше, социальный мир открывается перед нами во всем своем многообразии возможностей: кто ты, как ты будешь жить и что ты хочешь делать — на все эти вопросы ты волен отвечать сам, без подсказки со стороны. Те решения, которые мы принимаем в повседневной жизни, — что одевать, как вести себя и как проводить свободное время — исподволь формируют наши личности. Современный мир заставляет нас найти свое «я». Благодаря врожденной способности к самосознанию и самоанализу, человек непрерывно создает и корректирует свою идентификацию.Типы обществ
Культурные особенности тесно связаны с общим уровнем развития общества. Материальная культура, созданная данным социумом, не являясь определяющим фактором культурного развития вообще, тем не менее в значительной степени влияет на другие его аспекты. Это можно легко проследить на примере технологии. Многие атрибуты нашей культуры — машины, телефоны, компьютеры, водопровод, электричество — возникли по историческим меркам сравнительно недавно, явившись результатом настоящей технологической революции. Нечто похожее можно встретить и на ранних стадиях общественного развития. До открытия технологии выплавки металла большинство вещей делалось из подручных материалов, в естественном виде встречающихся в природе (например, камня и дерева), что автоматически накладывало ограничения на ассортимент изготовляемых изделий. Развитие письменности послужило еще одним мощным фактором в формировании человеческих обществ. На протяжении многих веков человек жил без письма — и только с его появлением стало возможным рождение новых форм социальной организации, пришедших на смену доисторическим обществам. Сейчас мы перейдем к анализу основных типов обществ, существовавших в прошлом. В наше время мы привыкли видеть вокруг многомиллионные сообщества людей, которые большей частью живут в густонаселенных городских зонах. Но так было далеко не всегда — история знает времена, когда плотность населения нашей планеты была значительно ниже, чем сегодня; и еще каких-нибудь сто лет тому назад едва ли нашлось бы общество, состоявшее в большинстве своем из горожан. Чтобы лучше разобраться в общественных формах, существовавших до эпохи индустриализации, мы должны обратить свое социологическое видение к историческому прошлому.Исчезающие культуры: общества прошлого и их судьба
Охотники и собиратели Преобладающей социальной формацией на протяжении всей истории Земли (если не упоминать о последнем, совсем коротком ее периоде) были общества охотников и собирателей. Охотники и собиратели обеспечивали себе пропитание охотой, рыболовством и собиранием диких съедобных корней и плодов. Этот тип культуры сохранился в засушливых частях Африки, джунглях Бразилии и в Новой Гвинее. Однако большинство этих обществ было разрушено или поглощено при столкновении с западной культурой; и, вероятнее всего, их судьбу вскоре разделят оставшиеся. На сегодняшний день не более четверти миллиона человек во всем мире живет охотой и собирательством, т. е. всего лишь 0,001 % населения земного шара (см. рис. 2.1). По сравнению с более многочисленными социумами — особенно современными, наподобие Великобритании или Соединенных Штатов, — большинство сообществ охотников и собирателей отличается высоким уровнем социального равенства. Члены этих сообществ не имеют ярко выраженного стремления к стяжательству материального богатства большего, чем требуется для удовлетворения их основных потребностей. Их основная деятельность связана обычно с религиозными отправлениями, а также участием в церемониях и ритуалах. Их имущество состоит из оружия для охоты, ловушек, шанцевого и строительного инструмента, а также кухонных принадлежностей. Таким образом, материальное благосостояние не может служить основой для разделения членов общества на бедных и богатых. Различия в ранге и положении связаны с возрастом и полом, причем мужчины в подавляющем большинстве случаев охотятся, а женщины собирают дикие плоды и коренья, готовят пищу и растят детей. Заметим, что это разделение труда между мужчинами и женщинами имеет чрезвычайно важное значение: мужчины, как правило, занимают более высокое общественное положение и руководят исполнением обрядов. Охотники и собиратели — это не просто «примитивные» народы, чей образ жизни более не представляет для нас никакого интереса. Изучение их культуры позволяет установить «противоестественность» многих наших общественных институтов. Конечно, не стоит идеализировать условия жизни охотников и собирателей, но все же отсутствие войн, социального и экономического неравенства, акцент на сотрудничестве, а не на конкуренции — все это служит напоминанием о том, что созданный современной индустриальной цивилизацией мир вовсе не обязательно можно считать во всех отношениях «прогрессом». Скотоводческие и земледельческие общества Около двадцати тысяч лет назад некоторые сообщества охотников и собирателей начали выращивать домашний скот и обрабатывать отдельные участки земли, что привело к возникновению скотоводческих (которые в целях добычи пропитания разводили домашний скот) и аграрных (занимающихся сельским хозяйством) обществ. При этом многие народы имели смешанный тип экономики, включавший оба этих направления. В зависимости от условий среды обитания, скотоводы разводили и пасли крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей или верблюдов. Многие скотоводческие общества сохранились до наших дней, сконцентрировавшись сегодня в основном в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке и в Центральной Азии. Эти сообщества можно встретить в тех районах, где есть тучные пастбища, а также в горах и пустынях. Эти области не благоприятны для эффективной сельскохозяйственной деятельности, но вполне подходят для содержания различных видов домашнего скота. Скотоводческие общества, как правило, практикуют сезонные миграции между несколькими районами обитания. Вследствие кочевого образа жизни, скотоводы не обладают значительными материальными ценностями, хотя, с точки зрения имущественных отношений, их жизнь носит более сложный, чем у племен охотников и собирателей, характер. Начиная с определенного момента общества охотников и собирателей отказались от сбора плодов и корней, растущих в диком состоянии, и стали засеивать собственные участки земли. Эта практика сперва развивалась как «садоводство», отличающееся небольшим размером площадей, возделываемых в то время совсем простыми инструментами типа мотыги. Как и скотоводство, занятие садоводством гарантировало пропитание большему числу людей, что привело к образованию более многочисленных сообществ. И, поскольку садоводы вели оседлый образ жизни, их имущественные запасы превосходили накопления большинства скотоводческих сообществ, не говоря уже о племенах охотников и собирателей.

 Рис. 2.1. Отмирание обществ собирателей и охотников.
Источник: Lee R. В. and De Vore I. (eds.). Man the Hunter. Airline Press, 1968.
Рис. 2.1. Отмирание обществ собирателей и охотников.
Источник: Lee R. В. and De Vore I. (eds.). Man the Hunter. Airline Press, 1968.
Неиндустриальные или традиционные общества Примерно с 6 000 лет до н. э. мы начинаем находить свидетельства существования социумов с численностью, значительно превышающей среднюю численность типичных на тот момент сообществ, от которых они отличались самым радикальным образом (см. рис. 2.2). (Сегодня историки предпочитают использовать понятия до н. э. [до нашей эры] и н. э. вместо до Р. X. [до Рождества Христова] и от Р. X. соответственно.) Эти общества развивались на основе городов; в них царило неравенство в распределении как богатств, так и власти; их история напрямую связывается с правлением королей или императоров. Поскольку в этих обществах активно использовалась письменность и процветали науки и искусства, то такие общества часто называют цивилизациями. Самые первые цивилизации развивались на Ближнем Востоке, как правило, в плодородных приречных районах. Китайская империя была основана примерно за 2 000 лет до н. э., одновременно с основанием мощных держав, расположенных на нынешних территориях Индии и Пакистана. Несколько больших цивилизаций возникло в Мексике (майа) и Латинской Америке (майа, жившие на полуострове Юкотан, и инки в Перу). Большинство традиционных цивилизаций являлись империями — они расширяли свою территорию путем завоевания и присоединения других народов (Kautsky 1982). Так было, например, в случае с Китаем и Римом. На пике своего расцвета, приходящегося на I век н. э., Римская империя простиралась от Британии на северо-западе Европы и до земель, которые лежали за пределами Средне-Восточного региона. Китайская империя, которая просуществовала более двух тысяч лет и дожила до века нынешнего, занимала огромную территорию на востоке Азии, сегодня принадлежащую КНР (см. табл. 2.1).
 Рис. 2.2. Цивилизации Древнего мира
Рис. 2.2. Цивилизации Древнего мира
Таблица 2.1 Типы человеческих сообществ прошлого


Современный мир: индустриальные общества
Что же повлекло гибель таких форм общественного строя, которые доминировали на Земле на протяжении всей истории человечества вплоть до самого XVIII в.? Если быть кратким, то причиной таких потрясений стала индустриализация — понятие, которое мы уже ввели в главе 1 («Что такое социология?»). Под индустриализацией понимается переход на машинное производство, в основе которого лежит использование «неживых» источников энергии (как пар или электричество). Индустриальные общества (иногда называемые также «современными» или «развитыми» обществами) совершенно не похожи своим устройством на предшествующие формации; последствия их развития сказались даже на тех народах, которые жили за пределами Европы — колыбели индустриальной революции. Даже в наиболее передовых цивилизациях подавляющее большинство жителей занималось сельским хозяйством. Относительно невысокий уровень развития технологий не позволял освободить значительное число людей от выполнения рутинной работы. И, напротив, отличительной чертой современных индустриальных обществ является очень высокий процент населения, занятого на фабриках и заводах, в офисах и магазинах, т. е. в неаграрном секторе (см. табл. 2.2). И более 90 % всех граждан проживает в городах и мегалополисах, где сконцентрировано наибольшее количество рабочих мест и постоянно создаются новые возможности для трудоустройства. Крупнейшие города несоизмеримо превосходят своими масштабами те поселения городского типа, которые встречались в традиционных цивилизациях. Социальная жизнь в крупных городах становится все более обезличенной, и большинство наших встреч в течение дня происходит все чаще с людьми, нам незнакомыми. Крупные организации, к которым можно отнести корпорации и правительственные учреждения, сегодня влияют на жизнь практически каждого члена общества.Роль городов в новом социальном порядке будет обсуждена в разделе «Города и глобализация» (глава 18).
Таблица 2.2 Трудовые ресурсы, задействованные в аграрном секторе индустриальных и неиндустриальных государств 1998 г.

Следующей по значимости чертой современных социумов являются более сложные по структуре и методам управления политические системы, не имеющие аналогов в традиционных государствах прошлого. Там непосредственное влияние политической власти (монархов и императоров) на традиции и обычаи своих подданных, проживающих в сравнительно отдаленных поселениях, было ничтожным. С наступлением эры индустриализации транспорт и связь стали гораздо быстрее, что повлекло за собой создание более интегрированного «национального» сообщества. Индустриальные общества стали первыми национальными государствами. Национальное государство — это политические объединения многих лиц, отделенные друг от друга четкими границами (в отличие от традиционных государств, которые были разделены обширными пограничными зонами). Правительства таких объединений способны эффективно управлять гражданами путем определения единых для исполнения на всей территории законов. Применение промышленных технологий никогда за всю историю человечества не ограничивалось мирными процессами экономического развития. С самых ранних этапов индустриализации современные методы производства были использованы для решения военных задач, в результате чего коренным образом изменился подход к ведению войны, а применяемое вооружение и принципы армейской организации оставили далеко позади все, что было доступно неиндустриальным культурам. Взаимно подкрепляя друг друга, экономическая сила, политическая спаянность и военная мощь индустриальных государств обеспечивали им в течение последних двух столетий возможность практически беспрепятственно распространять западные культурные ценности по всему миру.
Глобальное развитие
Начиная с XVII в. и на протяжении трех с лишним веков западные государства занимались колонизацией (подчас с использованием своей превосходящей военной силы) новых земель, ранее принадлежавших местным традиционным сообществам. Хотя практически всем колониям сегодня возвращена независимость, политика колониализма стала главным трансформирующим фактором, изменившим «социальное лицо» Земли. Мы упоминали колониализм в предыдущей главе, говоря о развитии торговли кофе. В некоторых регионах, таких, как Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия, где аборигены были малочисленны и занимались преимущественно охотой и собирательством, европейцы стали со временем основной частью населения. В других странах, расположенных в Азии, Африке и Южной Америке, местное население, изначально занимавшееся охотой и собирательством, по-прежнему превосходит численностью выходцев из Европы. Эти государства — в отличие от государств первого типа, где все страны, включая США, стали индустриальными державами — в большинстве своем остались на значительно более низком уровне промышленного развития и, как следствие, стали называться «менее развитыми» илиразвивающимися странами. К таким странам относятся Китай, Индия, большинство африканских государств (например, Нигерия, Гана и Алжир) и страны Южной Америки (в их числе Бразилия, Перу и Венесуэла). Поскольку по большей части эти страны расположены южнее Соединенных Штатов и Европы, то их иногда называют Югом, противопоставляя более зажиточному индустриальному Северу. Первый, Второй и Третий миры Вы, должно быть, часто слышали такое выражение, как Третий мир, которое используют по отношению к развивающимся странам. Этот термин родился еще в начале XX в., когда существовали общества трех основных типов. К странам Первого мира относились (и относятся) индустриальные державы Европы, США, Австралазии (Австралия, Новая Зеландия, территория Тасмании и Меланезии), а также Япония. Практически все страны Первого мира имеют многопартийную, парламентскую систему управления. Под Вторым миром понимались коммунистические общества бывшего СССР и Восточной Европы (Чехословакия, Польша, Восточная Германия и Венгрия). Отличительной особенностью государств Второго мира являлась система централизованного планового хозяйства, которая оставляла мало жизненного пространства для частной собственности или свободной экономической конкуренции. Все они имели однопартийную систему государственного управления: коммунистические партии этих стран руководили не только политической, но и экономической жизнью общества. В полном согласии с учением Маркса (см. главу 1), коммунистические лидеры полагали, что общественное владение средствами производства приведет к более высокой его эффективности по сравнению с западной системой свободных рыночных отношений (см. табл. 2.3).Таблица 2.3 Общества в современном мире


75 лет истории человечества оказались отмечены глобальным соперничеством двух систем, где по одну сторону оказались Советский Союз и страны Восточной Европы; а по другую — капиталистические общества Запада и Японии. Это напряженное противостояние получило название холодной войны, поскольку между противоборствующими сторонами не велось прямых боевых действий. В ходе этого противостояния каждая из сторон находилась в постоянной готовности к войне — но сама ее не начинала. Сегодня эта борьба окончена. После завершения холодной войны и падения коммунистических режимов в бывшем СССР и Восточной Европе Второй мир прекратил свое существование (см. главу 14 «Правительство и политика»), Россия и остальные страны Второго мира строят сегодня рыночные системы экономики и политические системы, основанные на западных моделях. Развивающийся мир Многие развивающиеся страны Азии, Африки и Южной Америки расположены на территориях, долгое время находившихся под колониальным управлением. Лишь немногие государства получили независимость сравнительно рано, как это произошло с Гаити, которая стала первой автономной негритянской республикой еще в январе 1804 г. Испанские колонии в Южной Америке стали свободными в 1810 г., а Бразилия вышла из-под контроля Португалии в 1822 г. Однако многие развивающиеся страны обрели свободу только после Второй мировой войны и нередко — в результате кровопролитной борьбы за независимость. Примерами здесь метут служить Индия, некоторые другие азиатские колонии (например, Мьянма, Малайзия и Сингапур), а также африканские государства, например, Кения, Нигерия, Заир, Танзания и Алжир. Хотя отдельные народы этих стран могут жить в рамках традиционного социального устройства, тем не менее, есть существенная разница между ними и ранними традиционными обществами. Их политические системы копируют системы западных обществ, вследствие чего их можно считать национальными государствами. Несмотря на то, что большинство населения живет в сельской местности, почти в каждом из этих обществ стремительно развивается городская культура. И хотя сельское хозяйство остается в развивающихся странах основным видом деятельности, их продукция теперь часто производится для продажи не только на внутреннем, но и на мировых рынках. Развивающиеся общества не просто «отстают» по уровню от более индустриальных стран — они сформировались во многом благодаря контактам с индустриально развитым Западом, которые привели к разрушению предшествующих традиционных общественных систем. Условия жизни в самых бедных из этих стран не только не улучшились, напротив, стали еще тяжелее за последние несколько лет. По некоторым оценкам, к началу XXI в. около 1,2 млрд чел. по всему миру жило в нищете — причем большая часть приходилась на развивающиеся страны. Примерно 3 млрд чел. живет сегодня менее, чем на 2 долл. США в день. Наиболее низким уровнем жизни отличаются страны Южной и Восточной Азии, а также Африки и Латинской Америки — хотя между этими регионами существует заметная разница. Например, в странах Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна прожиточный минимум снизился, тогда как в государствах Центральной и Южной Африки он, наоборот, поднялся. С 1987 по 1998 гг. число жителей в этом регионе, существующих менее чем на 1 долл. США в день, выросло с 220 до 290 млн чел. (Всемирный банк 2000). Падение уровня жизни наблюдается также и в некоторых районах Южной Азии, Латинской Америки и странах Карибского бассейна. Многие беднейшие государства мира страдают под бременем значительного внешнего долга. Выплаты процентов зарубежным кредиторам могут иной раз превышать суммарные инвестиции в систему здравоохранения, образования и социального обеспечения стран-должников. Новые индустриальные страны (НИС) Развивающийся мир неоднороден. В то время, как экономики большинства развивающихся стран существенно отстают от западных обществ, некоторые регионы уверенно вступили на путь индустриализации и испытали мощный экономический подъем, не прекращающийся уже три десятка лет. К числу таких государств, получивших название «новые индустриальные страны» (НИС), относятся Бразилия и Мексика в Латинской Америке; Южная Корея, Сингапур и Тайвань — в Восточной Азии. Темпы экономического роста некоторых НИС в несколько раз превышают аналогичные показатели для промышленных держав Запада, а некоторые из них достигли такого же уровня доходов на душу населения, что и в самых бедных из развитых стран. До конца 90-х г. новые индустриальные страны Восточной Азии демонстрировали устойчивый экономический рост. Главным образом он обеспечивал экспорт промышленных товаров, преимущественно в развитые страны. Экономика «азиатских тигров» (как называли эти НИС) отличалась высоким уровнем инвестиций, как собственных средств, так и зарубежного капитала. В Южной Корее стремительно развивалось производство стали, а ее судостроительная и электронная промышленности соперничали с мировыми лидерами в этих областях. Сингапур превратился в главный финансовый и коммерческий центр Юго-Восточной Азии. А Тайвань уверенно заявил свои права на долю в мировом рынке промышленных и электронных товаров. В 1997–1998 гг. восточно-азиатские экономики оказались дестабилизированы вследствие глобального финансового кризиса, разразившегося в этом регионе и охватившего в одночасье множество стран, в том числе и за его пределами. Несмотря на эти события, экономическое развитие НИС Восточной Азии помогло улучшить условия жизни многим миллионам людей, населяющих эти страны: был снижен уровень детской смертности, увеличена продолжительность жизни и частично побеждена нищета. Экономическое развитие стран Азии и Латинской Америки может представляться маловажным по мнению жителей Великобритании, США или других промышленно развитых государств. Но такая точка зрения ошибочна. Сегодня народы Земли существуют в рамках единой глобальной экономики, и события, происходящие в одной части мира, могут оказывать непосредственные воздействия и иметь определенные последствия практически повсеместно. Например, развитие сталепрокатной индустрии в Азии напрямую сказывается на промышленности Великобритании, чья доля на международном рынке существенно снизилась за последние тридцать лет. Аналогично, азиатский финансовый кризис заметно отразился на стабильности мировых финансовых рынков и пошатнул экономики, до этого казавшиеся весьма устойчивыми. И, наконец, развитие НИС приводит к изменению традиционного деления мира на «Юг» и «Север», о котором упоминалось выше. Политические и экономические отношения сегодня уже не могут строиться на основе слишком примитивных представлений о «Первом» и «Третьем» мирах. Процесс глобализации — на нем мы подробно остановимся в главе 3 («Меняющийся мир») — вызывает перераспределение власти и привилегий, делая общую картину гораздо более сложной, чем столетие назад.
Социальные изменения
Человечество существует на Земле уже около 500 000 лет. Сельское хозяйство, служащее основой любого постоянного поселения, насчитывает только 12 000 лет. Возраст цивилизаций составляет в лучшем случае 6 000 лет. Если мы будем отсчитывать человеческую историю в минутах, начиная с полуночи, то появление земледельческих обществ придется на 23 ч 56 мин, а цивилизаций — на 23 ч 57 мин. Развитие современных обществ начнется только за полминуты до наступления следующего дня! Однако совокупные изменения, произошедшие за весь день, едва ли окажутся больше, чем свершившиеся в эти последние 30 секунд. Как мы уже убедились, стиль жизни и социальные институты современности радикальным образом отличаются от того, что считалось традиционным даже в недавнем историческом прошлом. В течение каких-нибудь двух или трех столетий — за ничтожную долю минуты на нашем циферблате! — общественный уклад, существовавший тысячи лет, был заменен совершенно новым социальным порядком. Чем могут социологи объяснить механизмы этих перемен, произошедших в человеческой жизни? В конце этой главы мы остановимся на возможных трактовках свершившихся перемен и их причин; а затем — почему современный период истории связан с этими глубокими и стремительными социальными изменениями. Социальные изменения трудно поддается точному определению, потому что в том или ином смысле все в мире подвержено постоянному изменению. Каждый день — это новый день; а каждая следующая секунда — это уже новый момент времени. Греческий философ Гераклит говорил, что невозможно войти дважды в одну реку. Во второй раз река уже будет другой, поскольку вода течет непрерывно — да и человек за короткий миг успевает претерпеть (пусть незначительные) изменения. Хотя до некоторой степени это наблюдение справедливо, все же в повседневной жизни мы могли бы утверждать, что в обоих случаях это будет один и тот же человек и одна и та же река. Река не поменяет свое русло или течение, а человек — индивидуальность или физическое состояние; так что вполне допустимо говорить о том, что оба остаются «теми же самыми», несмотря на небольшие изменения. С этой точки зрения значительной будет такая перемена, которая за указанный промежуток времени существенным образом изменит саму структуру объекта или ситуацию в целом. В случае с человеческими обществами мы должны определить, насколько изменились за это время основные социальные институты, чтобы говорить о глубине и направлении происходящих в обществе перемен. При этом необходимо в качестве отправной точки отсчета брать то, что остается незыблемым. Даже в таком стремительно меняющемся мире, как наш, существуют нетронутые островки культуры, не потерявшие своей связи с прошлым. Основные религиозные системы (например, христианство или ислам) до сих пор опираются на тот же свод идей и принципов, которые были в ходу при их зарождении более двух тысяч лет назад. И все же большинство социальных институтов современности претерпевает гораздо более быстрые изменения, чем те, с которыми человечество сталкивалось в эпоху традиционных сообществ.Почему они происходят?
Теоретики социологии на протяжении последних двух столетий пытались построить общую теорию, которая могла бы объяснить природу происходящих в обществе перемен. Но ни одна из до сих пор созданных теорий в силу своей узкой направленности не могла объяснить все многообразие социального развития, благодаря которому человеческие общества охотников и собирателей эволюционировали до традиционных цивилизаций, а затем превратились в современные социумы с несоизмеримо более сложной организацией. Тем не менее, мы можем выделить в этом процессе три основных фактора, постоянно оказывающих влияние на социальный облик человечества: окружающую среду, политическую организацию и культурное воздействие. Окружающая среда Как правило, влияние физической среды во многом определяет ход развития социальной организации общества. Наиболее отчетливо это проявляется в экстремальных ситуациях, когда людям приходится подчинять свою жизнь особым погодным условиям. Жители полярных зон с необходимостью должны иметь совершенно иные, нежели у обитателей субтропиков, традиции и привычки. Люди, живущие на Аляске, где зимы отличаются особенно низкой средней температурой и большой продолжительностью, живут иначе, чем граждане куда более теплых Средиземноморских стран. Жители Аляски основную часть своей жизни проводят в помещениях, если не считать короткого летнего периода, и тщательно планируют свое пребывание на открытом воздухе, которое ограничивается неблагоприятными особенностями климата. Но и менее экстремальные природные условия могут сказываться на развитии общества. Аборигены Австралии на протяжении всей своей истории оставались охотниками и собирателями, поскольку на континенте не существует съедобных растений, подходящих для культивации, или животных, которых можно было бы разводить обычным образом. Самые первые цивилизации на Земле возникали, как правило, в регионах, имеющих плодородные почвы, например вблизи речных дельт. Удобство сухопутного сообщения и наличие выхода к морским путям тоже играют в этом процессе не последнюю роль: общества, отрезанные от остального мира горными массивами, непроходимыми джунглями или пустынями, часто пребывают в состоянии, близком к исходному, в течение многих веков. И все же непосредственное влияние окружающей среды на происходящие в обществе перемены не стоит переоценивать. Нередко людям удавалось достичь значительного материального благосостояния в относительно неблагоприятных условиях проживания. Так обстоит дело с Аляской, где, несмотря на тяжелые климатические условия, ведется разработка природных ископаемых и нефтяных месторождений. И, напротив, сообщества охотников и собирателей часто обитали на плодородных землях, так и не воспользовавшись предоставленными возможностями для ведения сельского хозяйства и развития животноводства. Политическая организация Вторым фактором, оказывающим заметное влияние на социальные изменения, является (доминирующий в обществе) тип политической организации. В первых сообществах охотников и собирателей это влияние было минимальным за отсутствием реальных политических сил, способных мобилизовать соплеменников. Однако, в условиях иных, более поздних общественных формаций, существование четко обозначенных политических органов власти — будь то вожди, лорды, короли или целые правительства — во многом определяло направление социального развития общества. По Марксу, политические системы не являются отражением экономической системы общества: разное политическое устройство может быть присуще обществам с одним и тем же типом производственных отношений. Например, некоторые капиталистические индустриальные государства могут иметь тоталитарную систему управления (как это было в нацистской Германии или в ЮАР периода апартеида), тогда как в других будут править демократические силы (примером чему служат США, Великобритания или Швеция). Военная власть играла фундаментальную роль при становлении большинства традиционных государств; она равным образом определяла и способность страны защищаться от внешнего врага, и успех ее завоевательных походов. Но и здесь нет непосредственной связи между военной мощью и уровнем развития производства. Правитель мог бы пожелать направить ресурсы на создание могучей армии даже ценой обнищания большей части населения страны — как это произошло в Северной Корее под руководством Ким Ир Сена и его сына, Ким Чен Ира. Воздействие культуры Третьим фактором в этом ряду оказывается культура, при этом рассматриваются три аспекта: религия, системы коммуникации и влияние личности на историю общества. Религия может выступать и как консервативная, и как революционная сила (см. главу 17 «Религия»). Отдельные религиозные формы и традиции препятствуют любым переменам, призывая придерживаться устоявшихся обычаев и ценностей. Но при этом, как подчеркивал Макс Вебер, религиозные убеждения часто оказываются движущим механизмом социальных изменений. Характер существующих в обществе систем коммуникации является одним из основных факторов, которые определяют темп и направление изменений. Например, изобретение письменности позволило человеку вести записи, что в свою очередь привело к более эффективному контролю за материальными ресурсами и способствовало развитию крупных организационных структур. Помимо этого, письменность изменила восприятие человеком связей между прошлым, настоящим и будущим. Те общества, в которых существовало письмо, вели летописи минувших событий, создавая таким образом историю. Понимание ее закономерностей помогало людям осознать всеобщность поступательного развития или направление движения данного общества, и в дальнейшем они могли активно способствовать этому движению. К разряду культурных факторов нам следует отнести роль личности в истории. Существует немало примеров, показывающих, что отдельные выдающиеся деятели были способны радикально влиять на перемены, происходящие в окружающем социуме. Для того, чтобы убедиться в этом, нам достаточно будет вспомнить в истории религии такую личность, как Иисус; военных и политических лидеров масштаба Юлия Цезаря или великих ученых и философов (например, Исаака Ньютона). Тот, кто способен, находясь у власти, проводить энергичную политику преобразований или увлечь за собой массы новыми идеями, может в буквальном смысле ниспровергнуть существующий строй. Однако отдельные вожди получают возможность управлять страной — и управлять эффективно — только, если для этого существуют благоприятные социальные условия. Скажем, Адольф Гитлер смог захватить власть в Германии в 1930-х гг. во многом благодаря царящей в стране напряженности и затянувшемуся экономическому кризису. Если бы не эти обстоятельства, он скорее всего остался бы незаметной фигурой в составе политической фракции меньшинства. То же самое можно сказать и о жившем позднее известном лидере пацифистов Махатме Ганди, который правил Индией в послевоенный период. Ганди удалось добиться независимости Индии, не прибегая к насилию, поскольку Вторая мировая война и последующие события ослабили колониальное присутствие Великобритании в этой стране.Перемены в наше время
Что же вызвало такие бурные социальные изменения в последние два столетия? Это достаточно сложный вопрос, однако можно с уверенностью указать несколько основных факторов, сыгравших здесь немалую роль. Неудивительно, что мы можем сгруппировать их примерно таким же образом, как это было сделано выше, за тем исключением, что теперь в этот список будет необходимо включить влияние окружающей среды в группу экономических механизмов. Экономические факторы Современная промышленность радикальным образом отличается от предыдущих производственных систем, поскольку она стремится постоянно наращивать свою мощность, аккумулируя при этом все больше материальных ценностей. В традиционных системах уровень выпуска продукции был практически неизменным, так как он определялся в первую очередь нуждами местного населения. Капитализм подстегнул процесс непрерывной модернизации производства, в который оказывается втянута наука. Уровень внедрения технологических инноваций в современной индустрии несоизмеримо выше, чем за всю историю промышленного производства. Влияние науки и технологии на нашу жизнь осуществляется в основном через экономические механизмы, но не только. Эти области человеческой деятельности оказывают политическое и культурное воздействие на общество, в свою очередь нередко испытывая встречное воздействие. Плоды научной мысли и их технологическое воплощение дали людям возможность создать такие средства связи, как радио, телевидение, мобильный телефон и Интернет. Эти электронные формы коммуникации заметно повлияли на политические процессы последних лет (см. главу 14 «Правительство и политика»). А наше мышление и восприятие окружающего мира формировались под влиянием телевидения и Интернета. Политические факторы Борьба между государствами за новые зоны влияния, стремление к обогащению и военному преимуществу перед конкурирующими странами — все это последние два-три века являлось источником серьезных социальных изменений. Политические изменения в традиционных цивилизациях затрагивали, как правило, только верхушку власти. Например, одна королевская семья могла сместить с трона другую, в то время как на жизнь большинства населения это никак бы не повлияло. В современном обществе все происходит иначе, и деятельность правительства или политических лидеров оказывает заметное воздействие на широкие слои населения. Как внутри страны, так и на международной арене политические решения сегодня оказываются мощным фактором социальных изменений. Политические процессы последних двух-трех столетий оказали глубокое влияние на экономику, чье развитие, впрочем, тоже сказалось на политической обстановке общества. Сейчас правительства играют главную роль в деле стимулирования (а иногда и замедления) темпов экономического роста; и во всех индустриальных обществах государство оставляет за собой право решительного вмешательства в производственные процессы, являясь несравненно более крупным работодателем, чем любые транснациональные корпорации. Война и иные формы демонстрации военной мощи тоже имеют немаловажное значение для процессов социальных изменений. Вооруженные силы стран Запада, начиная еще с XVII в., позволяли им контролировать в той или иной степени народы всего мира и в немалой степени способствовали триумфальному распространению западной культуры в мировом масштабе. Две мировые войны, развязанные в XX в., привели к опустошению многих стран и необходимости коренной перестройки многих из них, в результате чего отдельные общества претерпели существенные изменения (как это было, например, в Японии и Германии). Но даже те государства, которые вышли из этих войн победителями, — к примеру, Великобритания — подверглись радикальным внутренним переменам вследствие воздействия, оказанного войной на их экономику. Влияние культуры Среди культурных факторов, ведущих к социальным преобразованиям в наше время, следует отметить развитие науки и секуляризацию знания, которые придали мировоззрению современного человека критический и творческий характер. Сегодня никто из нас не будет считать, что привычки или обычаи имеют право на существование только потому, что они насчитывают многовековую историю. Напротив, в своей жизни мы постоянно ищем разумное «обоснование» любого поступка или события. Например, планировка больницы вряд ли будет делаться исходя из традиционных архитектурных пристрастий, скорее основным соображением станет способность предложенного проекта здания наиболее полно отвечать требованиям к содержанию и лечению пациентов. Помимо изменения в способе нашего мышления, поменялось еще и содержание наших идей. Идеалы самосовершенства, свободы, равенства и участия в демократическом управлении — все эти понятия возникли сравнительно недавно. Эти идеи стали мощной движущей силой социальных и политических изменений, подчас приводя к революциям. Возникнув изначально на Западе, эти идеалы приобрели всеобщее значение и нашли поддержку и применение во многих странах мира — и тем самым положили начало целому ряду глобальных перемен в обществе.Заключение
Перемены, происходящие сегодня повсеместно, делают различные культуры гораздо более взаимосвязанными, чем когда-либо ранее. По мере того как эти изменения набирают силу, все большее число событий в одной части света начинает непосредственно воздействовать на то, что происходит в других. Если сравнивать с предыдущими поколениями, то сейчас мы — отчасти благодаря средствам электронной коммуникации — в неизмеримо большей степени оказываемся друг другу «соседями». Глобальная система — это не просто среда, в которой развивается некоторое общество (например, Великобритания). Социальные, политические и экономические связи, простирающиеся через границы отдельных государств, решительным образом влияют на жизнь их граждан. Мы рассмотрим следствия этой усиливающейся взаимосвязанности мирового сообщества в следующей главе «Меняющийся мир».Краткое содержание
1. Понятие культуры является в социологии одним из центральных. Культура — это общественный уклад, которому подчиняются отдельные члены или социальные группы данного социума. Сюда входят не только изобразительное искусство, литература и музыка, но и масса иных проявлений человеческой деятельности. К ним относятся религиозные ритуалы, привычки и обычаи, типичные для данного общества трудовые отношения и даже манера одеваться. 2. Ценности — это абстрактные представления о том, что является важным, стоящим и желательным. Их отражением являются поведенческие нормы членов социума. В совокупности они определяют поведение человека в обществе. Глубоко укореняясь, ценности и нормы тем не менее меняются с течением времени. 3. Культурные убеждения и привычки могут в значительной степени отличаться в разных обществах. Этноцентризм — это такой подход к оценке другой культуры, при котором за эталон берется своя собственная. Социологи пытаются применять иной метод — так называемый культурный релятивизм — и изучать чужую культуру в рамках выработанной ею системы ценностей. 4. Человек познает свою культуру в процессе социализации. Факторы социализации — группы или социальное окружение, в которых протекают наиболее значительные процессы социализации. Детская (или первичная) социализация, протекающая благодаря постоянному контакту с окружающими, постепенно превращает беспомощного младенца в умелого, знающего человека, наделенного самосознанием и способного комфортно чувствовать себя в своей культурной среде. 5. Идентификация — это способность человека понимать, кто он и что для него является наиболее важным. В процессе социальной идентификации человек наделяется определенными признаками, которые даются ему другими членами общества. Эти характерные черты часто связаны с его принадлежностью к той или иной социальной группе — например, к мужскому полу, азиатам или католикам — и подчеркивают те особенности индивидуума, благодаря которым он похож на остальных представителей данной группы. Самоидентификация (или персональная идентификация) служит, напротив, выделению каждого человека из общей массы людей. Она характеризует представление человека о своей личности, которое он создает в процессе саморазвития и непрерывного взаимодействия с окружающим миром. 6. Общество можно представить себе как набор взаимоотношений, связывающих людей друг с другом. На этой основе выделяется несколько различных типов социумов, распространенных в прошлом. Охотники и собиратели добывали себе пропитание сбором съедобных плодов и охотой на диких животных. Члены скотоводческих обществ занимались для этих целей разведением домашнего скота. Земледельческие общества делали упор на обработку земельных участков и возделывание сельскохозяйственных культур. Более многочисленные и высокоразвитые урбанизированные общества стали основой традиционных цивилизаций. 7. В индустриальных обществах промышленность превратилась в главную отрасль экономики. Большинство населения живет в городской черте, и крупные организации оказывают влияние на жизнь практически всех членов общества. Индустриальные страны стали первыми национальными государствами — политическими объединениями, отделенными друг от друга четко обозначенными границами. 8. Развитие индустриальных обществ и расширение сферы влияния Запада привели к завоеванию многих земель по всему миру; этот процесс колонизации вызвал радикальные перемены в издавна существовавших социальных системах и культурах. 9. Индустриальные державы Запада вместе с Японией, Австралией и Новой Зеландией образуют то, что называется «Первым миром». Под «Вторым миром» понимаются индустриальные общества бывшего Советского Союза и Восточной Европы, руководимые коммунистическими правительствами. После окончания холодной войны — периода постоянной вооруженной конфронтации между странами Первого и Второго миров — последний прекратил свое существование. 10. Страны, бывшие в прошлом колониями и отличающиеся невысоким уровнем промышленного производства, называются развивающимися (или «Третьим миром»). В этих странах проживает большая часть населения планеты. Некоторые из этих стран встали на путь индустриализации и достигли очень высоких показателей экономического роста, получив название новых индустриальных стран (НИС). 11. Начиная с XVIII в. и до наших дней в мире происходят стремительные социальные изменения. Возможно, что за этот период — ничтожный по меркам истории — человечество изменилось более, чем за все предыдущее время своего существования. 12. Ни одна из «однофакторных» теорий не в состоянии дать объяснение происходящим социальным изменениям. Здесь можно указать несколько основных причин, одной из которых является необходимость адаптации к условиям физического мира. К числу других причин относятся влияние окружающей среды, политические и культурные факторы. 13. Помимо этого изменениям в обществе способствует распространение промышленного капитализма, развитие централизованных национальных государств, возникновение наук и «рационального», или критического, типа мышления.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Верно ли, что каждое общество монокультурно? 2. Что отличает процесс социализации от идеологической обработки или «промывания мозгов»? 3. Как соотносятся наша самоидентификация с идентификацией социальной? 4. Насколько важна первичная социализация в современных сложноорганизованных и быстроменяющихся обществах? 5. Что тормозит развитие стран Третьего мира? 6. Насколько важна «роль личности» в процессе социальных изменений?Дополнительная литература
Benedict Ruth. Patterns of Culture. N. Y.: Mentor Books, 1946. Pagan Brian M. People of the Earth. London: HarperCollins, 1992. Holmes Leslie. Post-Communism: An Introduction. Cambridge: Polity, 1996.Интернет-линки
Сайт, посвященный изучению древних культур http://eawc.evansville.edu Библиотека Конгресса, раздел «Страноведение» http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html Центр сельской истории www.rdg.ac.uk/Instits/im/rural/hist.htmlГЛАВА 3 МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР
Если вам скажут, что расположенный по соседству супермаркет может иметь непосредственное отношение к изучению социологии, вы вряд ли согласитесь с этим, однако, как нам известно из главы 1, социологи часто ищут ключи к пониманию законов общества в самых неожиданных местах. Супермаркет — это как раз одно из таких мест, где находят свое отражение идущие полным ходом социальные преобразования общества и все более возрастающие масштабы его глобализации — явления, чрезвычайно интересующие социологов начала XXI в. Когда в следующий раз вы окажетесь в супермаркете, обратите внимание на бесконечные шеренги разнообразных продуктов, выставленных на полках. Если, как большинство покупателей, вы начнете свои покупки с овощного отдела, то скорее всего вы увидите там гавайские ананасы, грейпфруты из Израиля, яблоки из Южной Африки и испанские авокадо. В следующей секции вы можете найти несколько сортов макаронных изделий с приправой карри и множество пряностей, популярных в индийской кухне, большой выбор компонентов, использующихся на Востоке для приготовления таких блюд, как кускус и фалафель; или консервированное кокосовое молоко — основа многих тайских рецептов. Продвигаясь дальше, вы заметите кофе из Кении, Индонезии и Колумбии, новозеландскую баранину и бутылки с вином из Аргентины и Чили. А если вы захотите ознакомится с ингредиентами, входящими в состав печенья или шоколада, и посмотрите на упаковку, то увидите, что их названия приводятся на восьми или десяти различных языках. Какие выводы с точки зрения социологии мы могли бы сделать по окончании нашей довольно короткой экскурсии по супермаркету? Как мы уже убедились в ходе дискуссии о социологических аспектах производства и потребления кофе (см. главу 1 «Что такое социология?»), невозможно рассматривать наши локальные действия иначе, как в рамках более широкой совокупности социальных условий, существующих в разных точках земного шара. Огромное количество продуктов, которое мы привыкли видеть на прилавках западных супермаркетов, является производным результатом от сложной сети экономических и социальных связей, которые соединяют между собой государства и народы по всему миру. Они отражают масштабные социальные перемены, происходящие в мире и приводящие различные его части во взаимодействие друг с другом. Сегодня мы зависим друг от друга намного сильнее, чем когда бы то ни было, — зависим даже в том случае, если нас разделяют многие тысячи миль. Подобных взаимосвязей местного и глобального история человечества еще не знала. Их бурный рост в течение последних тридцати или сорока лет был обусловлен революционными прорывами в области коммуникаций, информационных технологий и средств передвижения. Создание реактивных самолетов, большегрузных быстроходных контейнеровозов и других эффективных транспортных средств позволило осуществить непрерывную перевозку людей и товаров по всему земному шару. А всемирная сеть телекоммуникационных спутников, введенная в эксплуатацию не далее, как тридцать лет тому назад, повсеместно дала людям возможность практически мгновенно устанавливать друг с другом контакт. Социологи используют термин глобализация для обозначения таких транснациональных процессов, которые способствуют развитию социальных связей и углублению взаимозависимости между странами. У этого социального явления есть множество следствий, и некоторые из них мы рассмотрим в этой книге. Будет неверно понимать глобализацию всего лишь как развитие всемирных сетей, состоящих из социальных и экономических систем, до которых лично нам нет никакого дела. У этого явления есть и локальные аспекты, напрямую влияющие на нашу повседневную жизнь. Чтобы показать это на конкретном примере, давайте мысленно вернемся в супермаркет. То, что мы видим на прилавках, отражает сразу несколько сторон процесса глобализации. Прежде всего, необходимо отметить гигантский рост как общего количества завозимых в супермаркеты продуктов, так и их ассортимента за последние несколько десятилетий. Для того чтобы разместить все эти товары, приходится увеличивать размеры супермаркетов. Барьеры для международной торговли постоянно ослабевают, открывая новые рынки сбыта для все большего числа товаров. Во-вторых, то, что продается в вашем супермаркете, теперь выращивается или производится более, чем в сотне разных стран. Раньше было практически нецелесообразно — а иногда и невозможно — транспортировать отдельные товары на большие расстояния, особенно, если речь шла о скоропортящихся продуктах. В-третьих, еще сравнительно недавно вы вряд ли часто слышали о некоторых продуктах и тем более не смогли бы купить их у себя в супермаркете, хотя сегодня они весьма популярны — к ним относится, например, «национальная еда», о которой будет упомянуто позднее. Одно из объяснений этому кроется в глобальных миграционных тенденциях, которые способствуют возникновению сообществ с разными культурными корнями и формированию новых культурных предпочтений. И, наконец, множество товаров широкого потребления, продающихся в вашем супермаркете, сейчас поставляется не только на национальные рынки стран-производителей, но и в другие страны. Этикетки на них свидетельствуют о широте географического охвата; инструкции и перечень ингредиентов печатаются сегодня на нескольких языках, для того чтобы покупатели из разных стран не испытывали трудностей с их использованием. Глобализация меняет не только внешность окружающего мира, но и наш собственный взгляд на него. Принимая подобную «надгосударственную» точку зрения на этот мир, мы начинаем все больше осознавать нашу взаимосвязь с членами других обществ, а также существование множества проблем, с которыми столкнулось человечество на стыке веков. Такая перспектива позволяет нам ясно увидеть, как растущее число нитей, связывающих нас с остальным миром, приводит к тому, что мы оказываемся в состоянии влиять своими действиями на других обитателей планеты Земля, но и становимся более уязвимыми перед лицом грозящих ей опасностей. В этой главе мы достаточно подробно разберем, что же на самом деле представляет из себя глобализация: почему она возникает, как проявляется и к чему может привести. Поскольку глобализация является совокупностью непредсказуемых в своем развитии процессов, она оказывается практически неуправляемой и может послужить причиной целого ряда опасных для всего человечества последствий. Далее вы еще не раз встретитесь с этими тесно переплетающимися темами, касающимися быстрого изменения и сопряженных с ним опасностей; в следующих разделах мы познакомим вас с некоторыми приемами, которые позволяют социологам использовать эти явления для изучения нашего постоянно меняющегося мира.Аспекты глобализации
Вы наверняка не раз слышали упоминания о глобализации, даже если не совсем ясно представляете себе точный смысл этого понятия, широко используемого последнее время в политических дебатах, бизнесе и средствах массовой информации. Всего лишь десять лет тому назад термин «глобализация» был практически незнаком широкой аудитории. Сегодня же это слово, кажется, не сходит с языков. Под глобализацией понимается тот простой факт, что все мы — не только организации и сообщества, или целые нации, но и отдельные представители рода человеческого — живем «в одном мире», а значит, становимся все более взаимозависимыми. Часто глобализацию пытаются представить как чисто экономическое явление. Большую роль здесь играют транснациональные корпорации (ТНК), размах деятельности которых выходит за рамки государственных границ, оказывая влияние на производственные процессы и рынки труда в мировых масштабах. Другой не менее важной причиной многие считают интеграцию мировых финансовых рынков посредством электронных средств коммуникации и наличие гигантских потоков свободного капитала между ними. При том что, по мнению других, не меньшую роль играет и невиданная по своим масштабам международная торговля таким ассортиментом разнообразных товаров и услуг, равного которому человечество до сих пор не знало. Но, хотя экономические силы и являются составляющей частью глобализации, было бы все же неверно думать, будто сами по себе они способны запустить этот процесс. Глобализация — это результат взаимодействия политических, социальных, культурных и экономических факторов. Не говоря уже о том, что ее развитию в значительной степени способствовало внедрение целого ряда информационных и коммуникационных технологий, которые дали людям во всем мире возможность поддерживать оперативную связь друг с другом, находясь в разных частях земного шара. Вот вам простой пример: вспомните о последнем кубке мира по футболу, проведенном во Франции. Благодаря наличию международных телевизионных каналов, некоторые матчи этого чемпионата смотрело более двух миллиардов зрителей по всему миру.Почему происходит глобализация?
Бурному росту системы международных телекоммуникаций в немалой степени содействовало развитие ключевых информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры. В послевоенные годы наблюдались заметные сдвиги в характере и интенсивности телекоммуникационных потоков. Традиционные средства передачи информации, которые опирались на аналоговые сигналы, передающиеся по проводам и кабелям через координатные коммутаторы, сегодня уступили место интегрированным системам, способным сжимать и пересылать в цифровом формате громадные массивы данных. Кабельные технологии стали более эффективными и дешевыми; с внедрением оптоволоконных линий общее число одновременно используемых каналов передачи информации возросло во много раз. В те пункты, куда по проложенным в 50-х гг. прошлого века трансатлантическим кабелям можно было передавать параллельно менее ста телефонных разговоров, в 1997 г. могло одновременно звонить около 600 000 абонентов, используя при этом один-единственный кабель (Held et at. 1999). Значительный вклад в развитие международных коммуникаций внесло и создание целой сети ретрансляционных спутников, начавшееся в 1960-х гг. Сегодня эта сеть насчитывает свыше двухсот спутников, обеспечивающих передачу информации практически в любую точку Земли. Результат использования этих систем связи оказался ошеломительным. В странах с высокоразвитой телекоммуникационной инфраструктурой люди и дома, и в офисе оказываются связанными с внешним миром множеством различных информационных каналов, включая телефоны (как обычные, так имобильные), факсы, цифровое и кабельное телевидение, электронную почту и Интернет. Последний стал самым быстроразвивающимся за всю историю человечества средством передачи информации, насчитывающим около 140 млн пользователей к середине 1998 г., к которым до 2001 г. должно, по прогнозам, присоединиться более 560 млн чел. Эти технологии позволили буквально «спрессовать» пространство и время: два собеседника, находящихся на противоположных концах земного шара — скажем, в Токио и в Лондоне, — могут не только вести разговор «в режиме реального времени», но и мгновенно посылать друг другу документы и изображения — все это при помощи космических спутников связи. Повсеместное использование Интернета и мобильных телефонов, в особенности, способствует углублению и ускорению процессов глобализации: все больше и больше людей получают возможность вступать в контакт друг с другом, в частности там, где ранее такая связь была невозможна или оказывалась неудовлетворительной из-за слабого развития телекоммуникаций. Хотя эта инфраструктура и сейчас еще географически крайне неоднородна (см. табл. 3.1), все же число наций, имеющих доступ к мировому информационному пространству, неуклонно растет. Другим двигателем глобализации служит процесс интеграции мировой экономики. В отличие от предыдущих лет, мировая экономика более не является в своей основе ни аграрной, ни промышленной. Напротив, в ней все больше доминируют «невесомые» и нематериальные виды деятельности (Quah 1999). То, что производит эта невесомая экономика, состоит из информации — как в случае с программным обеспечением, продуктами СМИ и индустрии развлечений, а также услугами, поставляющимися через Интернет. Этот новый экономический контекст обычно описывают такими понятиями, как «постиндустриальное общество», «информационный век» или наиболее часто встречающимся сегодня термином «информационная экономика» («knowledge economy») (см. главу 13 «Труд и экономическая жизнь»). Появление информационной экономики связано с воспитанием широкого слоя технически грамотных потребителей, готовых использовать последние достижения в области развлечений, компьютерных технологий и средств телекоммуникации в повседневной жизни.Таблица 3.1 Неравномерность в степени развития телекоммуникационной инфраструктуры и ее использовании. 1995 г.
 ММТТ — миллион минут телефонного трафика.
Источник: Held D. et al. Global Transformations. Polity, 1999. Adapted from Staple C. (ed.). Telegeography, 1996; International Institute of Communications, 1996.
ММТТ — миллион минут телефонного трафика.
Источник: Held D. et al. Global Transformations. Polity, 1999. Adapted from Staple C. (ed.). Telegeography, 1996; International Institute of Communications, 1996.
То, как функционирует сегодня мировая экономика, уже само по себе отражает перемены, произошедшие с ней в информационный век. Сейчас многие отрасли экономики формируют производственные цепочки из предприятий, раскиданных по всему миру, для которых государственные границы становятся «прозрачными» (Castells 1996). Чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях глобализации, фирмы и корпорации стараются сохранять гибкость и отказываются от иерархических принципов внутренней организации (см. главу 12 «Современные организации»). Технологии производства и организационные структуры современных компаний становятся все более гибкими; все чаще возникают тесные партнерские отношения между фирмами, а участие компании в международных дистрибьюторских сетях превращается в непременное условие ее успешной деятельности на быстро меняющемся мировом рынке.
Факторы, способствующие росту глобализации
Изменения в политике Возникновению феномена современной глобализации способствовал целый ряд факторов, среди которых не последнее место занимает разрушение идеалов коммунизма советского типа, начавшееся серией драматических революционных событий 1989 г. в Восточной Европе и получившее логическое завершение с распадом самого СССР в 1991 г. (см. главу 2 «Культура и общество»). После падения коммунизма страны бывшего «советского блока», включавшего Россию, Украину, Польшу, Чехословакию, Прибалтийские республики, республики Кавказа и Центральной Азии и многие другие страны, начали перестраивать свою экономику и политическую систему на западный манер. Период изоляции для них окончен и теперь они становятся частью мирового сообщества. Этими переменами ознаменовался конец холодной войны — периода противостояния стран «первого мира» странам «второго». Коллапс коммунистического режима подстегнул рост глобализации, будучи, в свою очередь, в значительной мере обусловлен этим процессом. Централизованно планируемая экономика коммунистических государств и царивший там культурно-идеологический контроль со стороны властей не могли выжить в условиях развития единого информационного пространства и интегрированной мировой экономики «электронного века». Другим немаловажным фактором, ведущим к усилению процессов глобализации, стало возникновение новых международных и региональных механизмов управления. Организация Объединенных Наций и Европейский Союз — два наиболее ярких примера международных организаций, собравших национальные государства на общем политическом форуме. В то время как ООП представляет собой ассоциацию независимых государств, ЕС является уже более прогрессивной формой транснационального управления, при котором отдельные страны — члены Союза отчуждают часть своих суверенных прав в пользу нового объединения. Правительства этих стран связаны директивами, предписаниями и решениями судебных инстанций, исходящими от единых для ЕС институтов власти — но в то же время имеют возможность пользоваться экономическими, социальными и политическими преимуществами от участия в этом региональном союзе. Наконец, ускорению процессов глобализации способствовали как межправительственные, так и международные неправительственные организации (МПО и МНПО соответственно). Хотя сами эти термины могут оказаться для вас незнакомыми, тем не менее принципы деятельности таких организаций наверняка хорошо известны. Межправительственная организация — это сообщество, которое создано правительствами-участниками соответствующего договора и наделено более или менее широкими полномочиями в отношении определенной сферы человеческой деятельности, проводимой в международных масштабах. Первой организацией подобного рода стал Международный союз электросвязи (ITU, International Telegraph Union, позже — International Telecommunication Union), образованный в 1865 г. С того времени было создано огромное количество различных МПО, призванных регулировать широкий спектр вопросов: от управления гражданской авиацией и радиовещанием — до решения проблемы утилизации вредных отходов. В 1909 г. существовало 37 МПО, занимающихся определенными аспектами международных отношений; к 1996 г. их насчитывалось уже 260 (Held et al. 1999). Как следует из самого названия, МНПО отличаются от межправительственных организаций тем, что никак не кооперируются с правительственными структурами. Напротив, являясь независимыми организациями, они параллельно с институтами власти работают над задачами, связанными с принятием политических решений и урегулированием международных вопросов. Некоторые из наиболее широкоизвестных МНПО, таких как «Гринпис» (Greenpeace), Всемирный фонд дикой природы (WWF), «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres), «Красный Крест» (Red Cross) и «Международная амнистия» (Amnesty International), занимаются охраной окружающей среды и оказанием гуманитарной помощи нуждающимся. Но и деятельность тысяч других, более мелких и не столь известных общественных групп, тоже вносит свою лепту в объединение стран и народов. Информационные потоки Мы уже видели, насколько распространение информационных технологий расширило возможности установления контактов между людьми по всему миру. К тому же благодаря этому мы можем теперь получать сведения о событиях, происходящих в других концах света. Каждый день средства массмедиа постоянно снабжают нас телерепортажами, радионовостями и прочей информацией, напрямую связывая с внешним миром. О наиболее захватывающих моментах последних пятнадцати лет — падении Берлинской стены, жестоком подавлении демонстраций в защиту демократии на площади Тяньаньмынь в Китае, избрании Нельсона Манделы президентом Южно-Африканской Республики, гибели принцессы Дианы и опустошительном землетрясении в Турции — средства массовой информации рассказывали, в буквальном смысле, мировой аудитории. Подобные события, наряду с множеством менее драматических, повернули сознание людей от национального уровня восприятия к уровню восприятия глобального. Теперь каждый человек в большей степени осознает свою взаимосвязь с другими людьми и эмоционально соучаствует в глобальных процессах, чем когда-либо. У такого поворота к глобальному взгляду на окружающий мир есть два весьма знаменательных аспекта. Во-первых, как члены мирового сообщества, люди начинают признавать, что их личная социальная ответственность не ограничивается рубежами государства, гражданами которого они являются, но выходит за их пределы. Известия о бедствиях и проявлениях несправедливости, с которыми сталкиваются люди на другом полушарии, заставляют уже не просто переживать чужое несчастье — это законный повод для вмешательства и противодействия. Все больше людей укрепляются во мнении, что международное сообщество в критических ситуациях не должно пассивно наблюдать за происходящим, его обязанность — защищать как самих людей, находящихся под угрозой, так и их человеческие права. В случае стихийных бедствий такое вмешательство может осуществляться в виде гуманитарной помощи и технической поддержки. Потрясшие весь мир землетрясения в Армении и Турции, наводнения в Мозамбике, голод в Африке и ураганы в Центральной Америке стали в недавнем времени поистине вдохновляющими примерами готовности всех людей Земли оказать посильную помощь пострадавшим. Наряду с этим, в последние годы требовались вмешательства иного рода в случае войны, этнических конфликтов или нарушения прав человека, хотя подобные действия во многих случаях носят менее однозначный характер, чем при стихийных бедствиях. Правда, во время войны в Персидском заливе в 1991 г. и жестоких конфликтов в бывшей Югославии (Босния и Косово) военное вмешательство было оправдано в глазах многих людей, для которых необходимость защиты прав человека и национального суверенитета не вызывала сомнения. Во-вторых, глобальный взгляд на окружающий мир означает, что люди все чаще обращают его за пределы своих национальных государств в попытке идентифицировать себя в этом мире. Это — явление, которое не только было вызвано к жизни процессами глобализации, но и само способствует их дальнейшему развитию. Местные культурные особенности в различных районах переживают мощное возрождение в то время, когда коренным образом трансформируются традиционные основы государственности. В Европе, например, жители Шотландии и Басконии скорее будут называть себя шотландцами и басками или просто европейцами, чем англичанами и испанцами. Ориентация на национальное государство как основной источник самоидентификации стала менее актуальной во многих регионах, где политические сдвиги на местном и международном уровне привели к нежеланию людей отождествлять себя со страной проживания.Более подробно о теориях национализма и наций см. в разделе «Националистические движения» (глава 14).
Транснациональные корпорации Среди прочих факторов, способствующих углублению процессов глобализации, следует особо выделить роль транснациональных корпораций (ТНК). Таковыми считаются компании, которые продают товары или услуги на рынках более, чем одного государства. Это могут быть небольшие фирмы, владеющие одной-двумя фабриками за пределами страны, в которой они имеют головное производство, или гигантские международные предприятия, сферы влияния которых простираются до самых дальних уголков земного шара. К числу последних можно отнести ряд крупнейших ТНК, известных во всем мире: Coca-Cola, General Motors, Colgate-Palmolive, Kodak, Mitsubishi и др. Даже в тех случаях, когда подобные корпорации имеют четко выраженную национальную принадлежность, они все же оказываются ориентированы на мировые рынки и миллиардные прибыли. ТНК составляют основу экономического аспекта глобализации: на их долю приходится две трети всей международной торговли; они создают условия для распространения новейших технологий по всему миру; и они являются главными участниками мировых финансовых рынков. Как заметил один из обозревателей, «они служат скрепляющим звеном современной мировой экономики» (Held et al. 1999, 262). Более четырехсот ТНК имели в 1996 г. оборот, превышающий 10 млрд долл. США, тогда как лишь 70 стран могли похвастать тем, что их ВВП хотя бы достигает этой планки. Другими словами, крупнейшие ТНК экономически превосходят большинство стран мира. Транснациональные корпорации стали всеобщим явлением в послевоенные годы. Экспансию после Второй мировой войны возглавили американские компании, однако к середине 70-х европейские и японские фирмы тоже стали делать инвестиции зарубежом. В конце 80 – начале 90-х гг. ТНК резко расширили свою деятельность благодаря созданию трех мощных региональных рынков: Единый европейский рынок (в Европе), Азиатско-Тихоокеанский (возникший в результате подписания Осакской декларации о введении свободной и открытой торговли к 2010 г.) и Североамериканский (опирающийся на Североамериканское соглашение о свободной торговле). С того времени многие страны смягчили ограничения на заграничные капиталовложения. На начало XXI в. в мире было всего несколько стран, куда доступ ТНК был закрыт. В течении последних десяти лет транснациональные корпорации направляли основные усилия на расширение своих операций в развивающихся странах, республиках бывшего Советского Союза и странах Восточной Европы. «Электронная экономика» — это еще один фактор, обусловивший процесс экономической глобализации. Банки, корпорации, менеджеры инвестиционных фондов и частные инвесторы могут теперь перемещать свои средства по всему миру простым щелчком мыши. Однако эта возможность мгновенной переброски «электронных денег» сопряжена с известным риском. Перемещение огромных капиталов может дестабилизировать экономики, вызывая международные финансовые кризисы наподобие того, что случился в 1998 г. с азиатскими «тиграми», нанес ущерб российской экономике и распространился еще дальше. По мере того как мировая экономика становится все более интегрированной, финансовые катастрофы в одной части света оказываются способны пошатнуть экономику страны, совершенно к ним непричастной. Политические, экономические, социальные и технологические факторы, о которых было рассказано выше, действуя одновременно, приводят к возникновению феномена, не имеющего в прошлом аналогов по размаху и интенсивности проявлений. Глобализация имеет многочисленные и далеко идущие последствия, о которых мы еще узнаем в этой главе. Но сначала давайте посмотрим, какие мнения по поводу этого явления сложились у людей за последние годы.
Споры о глобализации
С недавнего времени глобализация стала предметом бурной полемики. Многие признают, что вокруг происходят существенные изменения, но вопрос о том, насколько правомерно объяснять их «глобализацией», пока остается открытым. И не удивительно: будучи по природе своей непредсказуемым и «турбулентным» процессом, глобализация рассматривается и трактуется наблюдателями существенно различным образом. Дэвид Хелд и его коллеги исследовали эти противоречия и разделили участников дискуссий на три категории, соответственно их взглядам, а именно: на скептиков, гиперглобалистов и сторонников «трансформационной теории» (Held et al. 1999). Характерные черты этих трех тенденций, проявляющиеся в спорах о глобализации, представлены в табл. 3.2.«Скептики»
Некоторые философы полагают, что сама идея глобализации оказалась слишком «переоцененной», и что ничего принципиально нового, о чем стоило бы столько говорить, в этом процессе нет. Такие «скептики» считают, что современные уровни экономической взаимозависимости не являются чем-то невиданным. Указывая на статистику международной торговли и инвестиций XIX в., они утверждают, что нынешняя глобализация отличается от той лишь интенсивностью взаимодействия между нациями. Скептики допускают, что сейчас связь между странами носит более ярковыраженный характер, чем в прошлом, однако степень интегрированности экономики, на их взгляд, и по сей день не является достаточной, чтобы говорить о подлинной ее глобализации. Основное их возражение заключается в том, что подавляющий объем торговли приходится сегодня на три региона — европейский, азиатско-тихоокеанский и североамериканский. Страны ЕС, например, ведут торговлю преимущественно между собой. То же самое верно и в отношении остальных групп, а следовательно, лишает правомерности понятие единой глобальной экономики (Hirst 1997).Таблица 3.2 Концепции глобализации: три направления

 Источник: Adapted from Held D. et al. Global Transformations. Polity, 1999. P. 10.
Источник: Adapted from Held D. et al. Global Transformations. Polity, 1999. P. 10.
Многие скептики особо обращают внимание на процессы «регионализации» внутри мировой экономики, такие как, например, возникновение крупных финансовых и торговых блоков. В понимании скептиков наличие подобных блоков может служить свидетельством того, что мировая экономика стала скорее уж менее, а не более интегрированной (Boyer and Drache 1996; Hirst and Thompson 1999). В сравнении со структурой торговли, доминирующей в XIX в., нынешняя экономика, как утверждают скептики, утратила географическую глобальность, вместо которой мы видим лишь отдельные участки ее повышенной активности. Скептики не принимают точку зрения, высказываемую теми же гиперглобалистами (см. ниже), согласно которой процесс глобализации существенно подрывает положение национальных правительств, способствуя созданию такого мирового порядка, в котором они будут играть второстепенные роли. Напротив, говорят они, именно национальные правительства будут по-прежнему в центре событий, поскольку именно им придется регулировать и координировать экономическую деятельность. Очевидно, например, что как раз правительства выступают инициаторами многих торговых соглашений и политических решений об экономической либерализации.
«Гиперглобалисты»
Это направление занимает позицию, полностью противоположную той, которой придерживаются скептики: согласно ей, глобализация — это совершенно реальное явление, проявляющееся практически повсеместно. Она рассматривается как процесс, для которого не существует государственных границ. Глобализация дает рождение новому мировому порядку, вторгающемуся в нашу жизнь под мощным напором международной торговли и производства. Один из наиболее известных гиперглобалистов, японский писатель Кениши Омае, рассматривает глобализацию как путь к «миру без границ», миру, в котором рыночные силы имеют большую власть, чем национальные правительства (Kenichi Ohmae 1990, 1995). Анализ глобализации, проводимый гиперглобалистами, в основе своей делает акцент на изменяющиеся роли нации. В частности, утверждается, что отдельные страны уже не в состоянии контролировать свою экономику по причине значительного роста объемов мировой торговли. Национальные правительства и входящие в них политики все больше утрачивают контроль над явлениями международных масштабов, такими как нестабильность финансовых рынков или загрязнение окружающей среды. Граждане, видя неспособность властей справиться в подобными проблемами, неизбежно теряют веру в эффективность существующей системы управления. Некоторые гиперглобалисты полагают, что правительства испытывают еще и дополнительное давление сверху, со стороны новых региональных и международных институтов власти — ЕС, ВТО и ряда других. Взятые вместе, эти сдвиги в глазах гиперглобалистов являются свидетельством того, что «век глобализации», когда национальные правительства утратят свою значимость и влияние, уже не за горами (Albrow 1996).Сторонники «трансформационной теории»
Представители этого направления занимают более умеренную позицию. Они считают глобализацию главной движущей силой целого спектра перемен, которые происходят в современном обществе. Согласно их воззрениям, старый мировой порядок трансформируется, хотя многое из его наследия остается в силе. Правительства, например, по-прежнему сохраняют значительный объем власти, несмотря на рост глобальной взаимозависимости в мире. Эти преобразования затрагивают не только экономику, но и политику, культуру и частную жизнь каждого. Приверженцы трансформационной теории полагают, что нынешний уровень развития глобализации позволяет отчасти стереть различия между «внутренним» и «внешним», «международным» и «местным». Пытаясь приспособиться к этому новому порядку, сообщества, институты и отдельные граждане оказываются вынуждены ориентироваться по ситуации там, где время «перетряхнуло» отжившие структуры. В отличие от гиперглобалистов, сторонники трансформационного подхода рассматривают глобализацию как динамический открытый процесс, подверженный изменениям и воздействиям извне. Он развивается в известной степени противоречиво, часто приводя в действие взаимно противоположные тенденции. Глобализация не является, как некоторые считают, односторонним процессом — это два разнонаправленных потока образов, информации и факторов влияния. Глобальная миграция, средства массовой информации и телекоммуникации способствуют распространению культурных воздействий. Все крупнейшие мегалополисы мира в основе своей мультинациональны, в них живут бок о бок и пересекаются многие этнические группы и культуры. Таким образом, глобализация оказывается «децентрализованным» и возвратным процессом, для которого характерно наличие связей и культурных течений, воздействующих на него в самых разных направлениях. Поскольку глобализация — это результат тесного переплетения и взаимодействия множества глобальных сетей, то источник ее зарождения и развития не может быть связан с определенной частью света. Вместо того чтобы потерять свой суверенитет, как утверждают гиперглобалисты, государства, по мнению сторонников теории трансформации, начинают перестраиваться в соответствии с новыми формами экономической и социальной организации, которые по природе своей являются внетерриториальными (к ним относятся корпорации, общественные движения и международные институты власти). Они говорят о том, что государство уже не может считаться центром того мира, в котором мы живем: правительства вынуждены более энергично и открыто проводить в жизнь принципы управления в сложных условиях глобализации (Rosenau 1997). Какая трактовка глобализации оказывается ближе к истине? Почти наверняка та, которую высказывают представители последнего из трех направлений. Скептики ошибаются, недооценивая глубину перемен, происходящих в мире — взять хотя бы мировые финансовые рынки, которые сегодня достигли куда более высокого уровня глобализации, чем за всю прошлую историю. Но не правы и гиперглобалисты, слишком отождествляя глобализацию с преобразованиями в мировой экономике и считая ее однонаправленным процессом. На самом же деле, механизмы глобализации гораздо сложнее.Влияние глобализации на нашу жизнь
Хотя глобализацию часто ассоциируют с переменами в «больших» системах, таких как мировые финансовые рынки, производство и торговля, телекоммуникации, ее воздействие ощущается не менее остро и в области повседневной жизни. Глобализация — это не просто «что-то там такое», происходящее далеко от нас и потому не оказывающее никакого влияния на уровне обыденного существования — она происходит именно «здесь, на нашей улице», воздействуя на частную жизнь каждого из нас множеством разных способов. И существование наше с неизбежностью меняется под ее воздействием, по мере того как она вторгается в окружающую нас действительность, в наши дома и наши сообщества — вторгается не только обезличенно, через средства массовой информации, Интернет и масскультуру, но и путем персональных контактов с представителями других стран и культур. Глобализация фундаментальным образом изменяет саму природу нашего повседневного бытия. Как следствие глубоких трансформаций, меняющих облик тех сообществ, к которым мы принадлежим, теряют актуальность институты, бывшие когда-то их основой. А это, в свою очередь, вызывает необходимость в пересмотре наших взглядов на определенные аспекты частной жизни, к которым относятся вопросы семьи, пола, сексуальности, самоидентификации, личных взаимоотношений и отношения к работе. То, как мы воспринимаем самих себя и наши связи с другими, меняется в результате глобализации самым существенным образом.Рост индивидуализма
В наше время каждый имеет гораздо больше возможностей строить собственную жизнь так, как ему хочется, чем это могли себе позволить предыдущие поколения. В прошлом традиции и обычаи оказывали сильнейшее влияние на жизнь людей. Такие факторы, как принадлежность к определенному социальному классу, полу, национальности и даже религиозной конфессии, могли закрыть перед человеком один путь и открыть другой. Молодому человеку, являвшемуся старшим сыном портного, практически наверняка было суждено освоить ремесло своего отца и посвятить ему всю свою жизнь. Традиция предписывала женщине заниматься домашним хозяйством, в значительной степени отождествляя ее жизнь с жизнью ее мужа или отца. В то время индивидуальность человека формировалась в контексте того сообщества, которому он принадлежал от рождения. Превалирующие ценности, бытовой уклад и этические воззрения, существовавшие в этом сообществе, служили достаточно жесткими направляющими, которые и определяли образ жизни его членов. В условиях глобализации, однако, мы наблюдаем сдвиг в сторону нового индивидуализма, который подталкивает людей к самостоятельному созданию своего «я» и выражению собственной индивидуальности. Власть традиций и установившихся ценностей ослабевает, по мере того как местные сообщества начинают все больше взаимодействовать с новым мировым порядком. «Социальные кодексы», много лет служившие указанием в выборе человеком жизненного пути, стали гораздо мягче. Сегодня старший сын портного, строя свое будущее, имеет возможность выбирать из множества профессий; женщины больше не привязаны к домашнему очагу; и исчезли многие другие указатели, задававшие в прошлом направление человеческой жизни. Традиционные рамки, ограничивающие индивидуальные особенности, исчезают, и на их место приходят новые принципы формирования личности. Глобализация заставляет людей жить более открыто и гибко. Это означает, что мы постоянно реагируем на изменения в окружающем нас мире, меняясь сами; как индивидуумы, мы развиваемся вместе с более широкой средой окружения и одновременно внутри нее. Даже самые незначительные решения, принимаемые нами повседневно, — что одеть, где отдохнуть, как поддерживать здоровье — оказываются неотъемлемой частью постоянного процесса создания и трансформации наших индивидуальностей.────────────────────────────┐ ■ Сохраняя равновесие между работой и семьей Сколько часов в неделю проводили на работе ваши родители в то время, когда вы росли? Насколько сильно влияла их занятость на то, как вы или ваши братья и сестры воспитывались в детстве? Какую часть времени в будущем вы планируете отводить семье и какую — своим профессиональным интересам? Одним из последствий глобализации для Великобритании стало увеличение количества часов, проводимых людьми каждую неделю на работе. В среднем, для наемных работников в Соединенном Королевстве этот показатель сейчас оказывается выше, чем в любой другой европейской стране. К тому же, по сравнению с 80-ми гг. прошлого века, у них еще и сократилась продолжительность отпусков. Но что еще более важно — это существенный рост доли женщин-матерей, работающих на полную ставку, по сравнению с послевоенными годами. Если рассматривать все эти факторы в совокупности, то вывод напрашивается сам собой: сегодня у родителей остается гораздо меньше времени, которое можно провести со своими детьми, чем 20–30 лет назад. В результате все больше детей отдаются на попечение специалистов в рамках программ по работе с детьми — и все сильнее чувствуется, по мнению многих, напряжение и стресс во внутрисемейных отношениях, по мере того как традиционные родительские обязанности перекладываются на плечи чужих людей. В одной из своих последних книг, «The Time Bind» (1997), американский социолог Арли Хокшилд (Arlie Hochschild) предположила, что эти изменения могут быть напрямую связаны с глобализацией. Некоторые работодатели в ответ на все возрастающее давление глобальной конкуренции стараются заставить своих работников проводить больше времени в офисе или на предприятии и тем самым повысить уровень производительности. Но почему сотрудники предприятий сознательно идут на это и соглашаются работать значительно больше положенных сорока часов в неделю, если никто не обещает им прибавки к жалованию; когда они знают, что такая ситуация приведет к нарушению семейной жизни; и если учесть, что в наш век компьютеризации эффективность отдачи каждого сотрудника и так уже увеличилась многократно? Разве не должен технологический прогресс способствовать росту свободного времени работника, которое он мог посвятить своей семье, вместо того чтобы это время отнимать? Хокшилд в ответ на эти вопросы указывает, что многие работодатели используют для достижения своей цели определенную силу сложившихся в организации неписанных правил «рабочего места». Новые сотрудники вынужденно становятся носителями корпоративной культуры, в которой внеурочная работа рассматривается как признак профессионализма и преданности делу. Хотя глобализация не обошла ни одну страну, все же ее влияние на продолжительность рабочего дня было неравномерным в разных точках мира. В Великобритании и США тенденция увеличивать время, проводимое на рабочем месте, продолжает набирать силу. И, напротив, во Франции и Германии рабочие — иногда при помощи профсоюзов, иногда напрямую через кабинки голосования — отказываются потакать корпоративным требованиям подобного рода и даже пытаются добиться у работодателей сокращения рабочей недели и увеличения числа выходных и праздничных дней. ────────────────────────────┘
Подход к вопросам занятости
Работа является главной частью жизни многих людей — как всей в целом, так и повседневной. Хотя мы можем считать работу «неприятной обязанностью» или «неизбежным злом», тем не менее невозможно отрицать, что она служит ключевой составляющей нашей жизни. Мы проводим огромное количество времени «работая» или «на работе» и отдаем себе отчет в том, что многие стороны нашей жизни — начиная кругом друзей и заканчивая проведением отпуска — оказываются так или иначе связанными с нашей работой. Глобализация послужила причиной значительных преобразований в области профессиональной деятельности, о чем будет подробно рассказано в главе 13 («Труд и экономическая жизнь»). Новые тенденции в международной торговле и переход к информационной экономике оказали серьезное воздействие на устоявшиеся формы занятости. Многие традиционные отрасли промышленности становятся морально устаревшими в результате появления новых технологий, или же теряют свою долю рынка в конкурентной борьбе с зарубежными производителями, чьи затраты оказываются существенно ниже, чем у индустриальных держав. Международная торговля и внедрение новых технологий в значительной степени повлияли на представителей целого ряда традиционных профессий и привели к тому, что многие промышленные рабочие оказались сокращенными, не имея при этом специальных навыков, необходимых для трудоустройства в условиях экономики информационного типа. Промышленные центральные графства Великобритании и угольные районы Уэльса, например, сейчас стоят перед лицом новых социальных проблем (затяжная безработица, растущий уровень преступности и т. д.), вызванных экономической глобализацией. Если в свое время рабочая жизнь человека была, как правило, связана с одним работодателем на протяжении нескольких десятилетий — так называемая «работа на всю жизнь», — то теперь гораздо большее число индивидуумов стремится делать свою карьеру, намечая цели и стараясь достичь их, что может иной раз требовать неоднократной смены работы, овладения новыми навыками и знаниями и применения их в иной профессиональной среде. Стандартные принципы полной занятости уступают место более гибким договоренностям: теперь можно работать дома, используя для связи достижения информационных технологий; работать на разделенной ставке; выполнять одноразовые консалтинговые проекты; устанавливать гибкий график и т.д. (Beck 1992). Женщины тоже стали сегодня рабочей силой, что повлекло за собой изменения в частной жизни обоих полов. Широкие профессиональные и образовательные возможности, открывшиеся перед женщинами, привели многих из них к решению повременить с замужеством и детьми до начала карьеры. К тому же женщины теперь чаще и быстрее возвращаются после родов к работе, вместо того чтобы нянчится с ребенком, как в старые времена. Эти перемены требуют внесения серьезных коррективов в семейную жизнь и нового подхода к вопросу о разделении труда; заставляют пересмотреть взгляд на роль мужчины в воспитании ребенка и приводят к возникновению более «семейно ориентированной» политики найма на работу, учитывающей потребности семей, в которых «работают оба».Масскультура
Культурные аспекты глобализации привлекают всеобщее внимание. Образы, идеи, товары и стили распространяются сегодня по всему миру гораздо быстрее, чем в прошлые десятилетия. Торговля, развитие информационных технологий, международные средства массовой информации и миграция в глобальных масштабах — все это способствует свободному перемещению культуры через границы национальных государств. Многие считают, что мы сейчас живем в условиях доминирования единой информационной системы — огромной мировой сети, в которой большие объемы информации могут использоваться всеми практически одновременно (см. главу 15 «Средства массовой информации и коммуникация»). Проиллюстрируем это простым примером. Вы смотрели фильм «Титаник»? Почти наверняка да. По некоторым оценкам, этот фильм в кинотеатрах или на видеокассетах видели сотни миллионов людей во всем мире. Снятая в 1997 г. и рассказывающая о молодых людях, полюбивших друг друга на борту обреченного океанского лайнера, эта картина стала одной из самых популярных за всю историю кино. «Титаник» побил все рекорды билетных продаж, собрав более 1,8 млрд долл. США от проката в 55 разных странах. Когда в некоторых из них «Титаник» появился впервые на широком экране, сотни людей выстраивались в очередь за билетами, и аншлаг следовал за аншлагом. Фильм оказался популярен среди всех возрастных групп, но особенно — у девушек подросткового возраста, которые ходили на этот фильм по нескольку раз. Карьера и будущее звезд «Титаника», Леонарда Ди Каприо и Кейт Уинслет, радикально изменились после съемок в этой картине — из едва известных актеров они превратились в мировых знаменитостей. «Титаник» оказался одним из немногих продуктов культуры, которым удалось преодолеть государственные границы и стать подлинно транснациональным явлением. Чем можно объяснить такую невероятную популярность «Титаника»? И что может его успех сказать о природе глобализации? С одной стороны, этот фильм стал хитом по вполне прозаической причине: в нем соединились простая сюжетная линия (роман, разворачивающийся на фоне трагедии) и хорошо известное историческое событие — гибель «Титаника» в 1912 г., унесшая жизни более 1 600 пассажиров. Не говоря о том, что у этой картины был огромный бюджет, значительная часть которого была потрачена на скрупулезное воспроизведение деталей и самые современные спецэффекты. Но другая причина кроется в том, что «Титаник» отражал определенный набор взглядов и ценностей, разделяемых широкой аудиторией во всем мире. Одна из центральных тем фильма — возможность романтической любви вопреки классовым различиям и семейным традициям. Хотя в большинстве западных стран такие идеи являются общепринятыми, в других частях света они еще только начинают обретать право на существование. Успех «Титаника» говорит о том, что даже в тех странах, где традиционные ценности почитаются по-прежнему, сегодня заметно изменяется отношение к вопросам личной жизни и брака. Но в то же время, наряду с другими западными фильмами, «Титаник» сам способствует этим переменам. Сделанные на Западе фильмы и телевизионные программы, превалирующие в мировом информационном пространстве, неизбежно пропагандируют такие политические, социальные и экономические идеи, которые присущи западному мировоззрению. Некоторые высказывают опасения, что глобализация приведет к такой «глобальной культуре», в которой наиболее богатые и влиятельные носители культурных ценностей — голливудские кинопроизводители в данном случае — будут подавлять местные обычаи и традиции. Согласно такой трактовке, глобализация превращается в одну из форм «культурного империализма», при котором ценности, стили и системы взглядов западного мира будут насаждаться настолько агрессивно, что просто задушат национальные культуры. Другие же, наоборот, связывают глобализацию с ростом дифференциации культурных традиций и форм. По их мнению, вовсе не однородностью характеризуется современное мировое сообщество, а огромным числом различных культур, существующих бок о бок друг с другом. Местные традиции в сочетании с целым сонмом других культурных форм предлагают человеку на выбор столько возможных стилей жизни, что порой даже ставят его в тупик. Не однообразную глобальную культуру, но разделение культурных форм видим мы сегодня (Baudrillard 1988). Устоявшиеся особенности и жизненные уклады местных сообществ и культур уступают место новым формам «гибридной самоидентификации», включающим элементы из разных, подчас противоположных культурных источников (S. Hall 1992). Так, черный горожанин из Южной Африки может по-прежнему находиться под сильным влиянием своих племенных традиций и в то же время придерживаться космополитических стилей и вкусов — в одежде, отдыхе, увлечениях и т.д., — выработанных в ходе процесса глобализации.Глобализация и новые опасности
Последствия глобализации многочисленны и затрагивают практически все аспекты социальной жизни. Но поскольку глобализация — это открытый и внутренне противоречивый процесс, последствия его трудно предвидеть и контролировать. Говоря иначе, с этим динамизмом связан определенный риск. Многие изменения, обусловленные глобализацией, чреваты новыми формами опасностей, аналогов которым человечество до сих пор не знало. В отличие от опасностей прошлых веков, имеющих давно установленные причины и известные следствия, источники современных опасностей не изучены, а последствия — непредсказуемы.────────────────────────────┐ ■ Электронные вирусы Электронный мир погрузился в пучину хаоса, когда 4 мая 2000 г. вирус, прозванный «вирусом любви» («love bug»), вызвал перегрузку компьютерных систем по всему миру. Запущенный с персонального компьютера из Манилы, столицы Филиппин, этот вирус быстро распространился по всему миру и «вырубил» практически каждый десятый почтовый сервер. Носителем вируса служило электронное письмо с заявленной темой «I love you». Когда пользователи открывали вложенный в письмо файл, они невольно активировали вирус на своем компьютере, в результате чего вирус автоматически размножался и рассылал себя по всем адресам указанным в адресной книге, перед тем как атаковать информацию и файлы, хранящиеся на жестком диске компьютера. Вирус распространялся с востока на запад, по мере того как работники офисов — сначала в Азии, потом в Европе и, наконец, в Северной Америке — приходили на работу и первым делом проверяли электронную почту. К концу дня, по приблизительным подсчетам, «love bug» нанес совокупный ущерб в размере миллиарда фунтов стерлингов. «Love bug» был наиболее быстрораспространяющимся, но далеко не единственным вирусом такого рода. Электронные вирусы стали более многочисленными и более опасными, когда роль компьютеров и электронных средств коммуникации существенно выросла, а сами они усовершенствовались. Вирусы наподобие «love bug» наглядно продемонстрировали, насколько взаимосвязанным стал наш мир с наступлением эры глобализации. Вы можете решить, что в данном конкретном случае такая взаимосвязанность имела скорее негативные последствия, поскольку способствовала быстрому распространению пагубного вируса по всему миру. Однако здесь же можно усмотреть и целый ряд положительных аспектов глобализации. Как только вирус был обнаружен, специалисты в области компьютерной безопасности со всего мира объединились в борьбе, защищая от него собственные компьютерные системы, препятствуя его дальнейшему распространению и совместными усилиями создавая базу знаний о новом «противнике». Так что, хотя глобализация несет в себе новые опасности, она же способствует и использованию новых технологий и форм глобального взаимодействия для борьбы с ними. ────────────────────────────┘
Распространение «техногенных рисков»
Человечеству издавна приходилось сталкиваться с теми или иными опасностями, но нынешние качественно отличаются от всех, с которыми человек имел дело в прошлом. До недавнего времени людям могли угрожать только внешние риски — засуха, землетрясения, голод и ураганы, которые происходили в природе независимо от действий человека. Однако, сегодня мы вынуждены противостоять различным типам техногенных рисков, т. е. опасностей, возникших в результате нашего воздействия на природу.Как мы увидим далее, загрязнение окружающей среды и проблемы здравоохранения, с которыми приходится сталкиваться современному обществу, — это примеры техногенных опасностей, последствия нашего вмешательства в природу. Опасности для окружающей среды Одной из наиболее ярких иллюстраций понятия техногенного риска может служить существующая сегодня угроза природным ресурсам (см. главу 19 «Рост народонаселения и экологический кризис»). Среди последствий ускорения технологического развития вмешательство человека в естественные процессы играет не последнюю роль. В мире осталось совсем немного нетронутых человеком мест: урбанизация, промышленное производство и связанное с ним загрязнение, масштабные сельскохозяйственные проекты, строительство дамб и гидроэлектростанций, программы ядерной энергетики — вот далеко не полный перечень человеческой деятельности, отражающейся на состоянии окружающей среды. Совокупное воздействие этих факторов выливается в обширные разрушения, наносимые природе человеком; источники таких разрушений до конца не изучены, а последствия не поддаются прогнозированию. В нашем глобализирующемся мире экологические опасности, подстерегающие нас, скрываются под самыми разными обличьями. Некоторое время тому назад научное сообщество стало высказывать опасения по поводу глобального потепления; сегодня общепринято считать, что температура на поверхности Земли повышается из-за скопления вредных газов в атмосфере. Потенциальные последствия «парникового эффекта» поистине ужасны: если полярные шапки льда будут продолжать таять с такой же скоростью, как и сейчас, то моря и океаны могут подняться до угрожающего уровня и затопить прибрежные участки суши, уничтожив расположенные там человеческие поселения. Изменения климатических условий считаются одной из возможных причин тяжелых наводнений в Китае (1998) и Мозамбике (2000). Поскольку источник экологических рисков установить чаще всего невозможно, то непонятно, как с ними бороться, и кто, собственно, должен взять на себя ответственность за проведение соответствующих акций для их устранения. Простой пример позволяет проиллюстрировать это утверждение. Ученые обнаружили, что химическое загрязнение достигло таких уровней, при которых колониям антарктических пингвинов стала угрожать непосредственная опасность. Однако оказалось невозможным установить ни конкретные источники этого загрязнения, ни его потенциальные последствия для пингвинов в будущем. Вероятно, в этом, как и в сотнях других подобных случаев, едва ли удастся принять эффективные меры против возникшей опасности, коль скоро ни причины, ни следствия этого явления не могут быть установлены (Beck 1995).────────────────────────────┐ ■ Глобальные изменения климата Независимо от того, в какой части света вы проживаете, почти наверняка вы могли заметить — или даже почувствовать непосредственно на себе — необычные погодные условия последних лет. Ученые и специалисты по стихийным бедствиям указывают на то, что «чрезвычайные» происшествия с погодой, как то: удивительно высокая температура, засухи, наводнения и циклоны, случаются все чаще и чаще. В одном только 1998 г. было зафиксировано 80 независимых природных катастроф в разных регионах мира, среди которых — опустошительные наводнения в Китае, ураганы в Латинской Америке, лесные пожары в Индонезии и жестокие ледяные шторма в Северной Америке. С тех пор засуха прошлась по таким удаленным друг от друга территориям, как Эфиопия, южный Афганистан и среднезападная часть США; наводнения принесли разруху в Венесуэлу и Мозамбик; Европу потрепали свирепые бури, а малонаселенные области Австралии подверглись нашествиям саранчи. Хотя полного согласия в вопросе об источнике этих стихийных бедствий нет, многие полагают что они были вызваны глобальным потеплением, т. е. нагреванием земной атмосферы. Если выбросы углекислого газа в атмосферу, приводящие к глобальному потеплению, не перестанут расти, то существует большая вероятность, что климату Земли будет нанесен значительный вред. Кто виноват в глобальном потеплении и как можно остановить его развитие? Точно так же, как и в случае с другими явлениями нашего меняющегося мира, опасности, которые несет с собой потепление, грозят всем, и все же механизм возникновения этого эффекта до сих пор невозможно установить. В век глобализации природа постоянно напоминает нам о том, что все связаны со всеми, и что действия отдельных граждан или организаций одной страны могут иметь — и имеют — существенные последствия для людей повсюду в мире. ────────────────────────────┘
Проблемы здравоохранения За последние десятилетия проблемы, связанные с техногенными рисками, стали привлекать к себе все больше внимания. Так, специалисты настоятельно просят всех избегать продолжительного пребывания на открытом солнце и наносить крем от солнечного ожога; они используют для этого средства массовой информации и организуют соответствующие общественные мероприятия, направленные на охрану здоровья. Несколько лет назад было установлено, что воздействие ультрафиолетовой части спектра прямых солнечных лучей во многих точках земного шара является причиной повышенной опасности заболевания раком кожи. Считается, что причина этого кроется в (локальном) истощении озонового слоя, который в нормальном состоянии должен задерживать ультрафиолетовые лучи. Из-за большого количества химических выделений, попадающих в атмосферу в результате человеческой деятельности и в качестве побочных отходов производства, концентрация озона падает, образуя в некоторых случаях озоновые «дыры». Большое число рисков связано с потреблением пищи. Современные методы ведения сельскохозяйственных работ и производства пищевой продукции в значительной степени опираются на последние достижения науки и техники. Скажем, для обработки растений широко используются пестициды и гербициды химического происхождения, а для скорейшего роста животных (например, цыплят и свиней) их пичкают гормонами и антибиотиками. Многие считают, что подобная практика ведет к появлению небезопасных продуктов и может причинить определенный вред людям, потребляющим их в пищу. В недавнем прошлом можно указать два особенно ярких примера, когда мнения общественности полярно разделились при обсуждении вопросов, связанных с безопасностью пищи и техногенными рисками: дискуссии по поводу генетически модифицированных продуктов (рассмотренная в главе 19 «Рост народонаселения и экологический кризис») и эпидемии «коровьего бешенства». Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭ КРС), известная под названием «коровьего бешенства», была впервые обнаружена в 1986 г. у крупного рогатого скота в Великобритании. Ученые связывают эту инфекцию с практикой кормления коров и быков — от природы травоядных — пищей, в которой содержались примеси мяса, органов и костей других животных. После вспышки ГЭ КРС правительство Великобритании приняло меры по борьбе с этим заболеванием, однако заявило, что использование мяса больного животного в пищу не представляет опасности для человека. Только в 1990 г. пришлось признать, что несколько смертельных исходов от болезни Крейтцфельда—Якоба, в результате которой в мозге наступают дегенеративные изменения, стали результатом потребления зараженного мяса. Тысячи голов скота были истреблены, а выращивание скота и продажа мясных продуктов была поставлена под жесткий контроль. Хотя были развернуты широкомасштабные научные исследования с целью окончательного выяснения степени опасности, связанной с использованием в пищу мяса больных ГЭ КРС животных, убедительных выводов получить пока не удалось. Существует вероятность, что люди, потреблявшие британское мясо еще до открытия этого заболевания, могли подвергнуться заражению. И все же к декабрю 1999 г. Комитет ЕС по руководству наукой заявил, что «критическая для человека доза до сих пор неизвестна». Попытка вычислить степень опасности в этом случае наглядно демонстрирует сложность оценки рисков в современном мире. Необходимо выяснить, являлись ли — и если да, то в какой момент — зараженные животные частью пищевой цепочки; насколько развилась в них и получила распространение к этому времени болезнь; как перерабатывалось их мясо; и многие другие факты. Общее число неизвестных в задаче анализа подобной опасности огромно, и это делает ее практически неразрешимой.
Глобальное «общество риска»
Глобальное потепление, эпидемия «коровьего бешенства», споры о генетически модифицированной пище и целый ряд других техногенных рисков поставили всех перед новыми проблемами и необходимостью принимать новые решения в повседневной жизни. Поскольку «атласа» этих новых опасностей не существует, каждый человек, каждая страна или международная организация сами выбирают тот путь, который представляется им верным. И коль скоро мы не располагаем точным описанием причин и следствий этих опасностей, нам приходится самостоятельно решать, какие из рисков мы готовы принять на себя. А это способно поставить в тупик кого угодно! Должны ли мы использовать материалы, чье производство или потребление связано с негативным воздействием на наше здоровье и/или окружающую среду? Даже «простые» решения относительно нашего меню теперь принимаются на основе противоречивых фактов и мнений, касающихся достоинств и недостатков каждого конкретного продукта. Немецкий социолог Ульрих Бек, который много писал о рисках периода глобализации, полагает, что они способствуют формированию глобального общества рисков (Beck 1992). (См. также главу 21 «Развитие теоретической мысли в области социологии») По мере того, как темпы технологического прогресса продолжают расти, приводя к возникновению новых опасностей, мы должны постоянно находиться в состоянии готовности к новым переменам и уметь приспосабливаться к ним. У. Бек считает, что проблемы общества риска не ограничиваются опасностями, связанными с загрязнением окружающей среды или угрожающими здоровью, к числу которых он относит целый ряд взаимосвязанных изменений в современной социальной жизни: появление новых тенденций в области трудоустройства, растущую неуверенность в завтрашнем дне, снижение степени влияния традиций и обычаев при формировании индивидуальности, трансформацию семейного уклада и демократизацию межличностных отношений. Поскольку будущее каждого из нас становится менее «определенным», чем в традиционных обществах ушедших веков, то мы так или иначе рискуем, когда оказываемся вынуждены принимать любые решения. Вступление в брачный союз сегодня — куда менее гарантированное мероприятие, чем раньше, когда институт брака имел пожизненный статус. Выбор специальности при получении образования или возможной карьеры также сопряжен с известным риском — кто может сказать, какие навыки и знания будут в цене, если экономическая ситуация изменяется с такой быстротой? Согласно Беку, важной чертой общества риска является отсутствие территориальных, временных или социальных границ, которые могли бы служить преградой для современных опасностей (Beck 1995). Сегодня перед лицом грозящих опасностей оказываются все страны и социальные слои населения, а возможные последствия приобретают теперь глобальный характер. Многие формы техногенных рисков (например, те из них, которые связаны с загрязнением окружающей среды или здоровьем человечества) не «признают» территориальных или национальных разграничений — взрыв в 1986 г. на Чернобыльской АЭС, находящейся на территории Украины, является бесспорным аргументом в пользу этого утверждения. Всем, кто проживал в непосредственной близости от Чернобыля, независимо от возраста, пола или социальной принадлежности, угрожала опасность радиационного поражения. И в то же время под ударом оказался не только Чернобыль, но и вся Европа, где еще долгое время после взрыва наблюдатели фиксировали необычайно высокие уровни радиации.Глобализация и неравенство
Бек и другие ученые обращают внимание на риск как на одно из основных следствий глобализации и технологического прогресса. Новые формы риска ставят сложные задачи не только перед отдельными индивидуумами, но и перед целыми социальными обществами, которым приходится наощупь продвигаться по неизведанным землям. Но глобализация несет с собой и многие другие проблемы. Путь глобализации извилист, ее воздействие часто воспринимается по-разному и далеко не всегда оказывается благотворным. Наряду с экологическими рисками возникает еще и проблема углубляющегося неравенства как в отдельно взятом обществе, так и между различными странами мира, и для человечества, стоящего на пороге XXI в., эта проблема является одной из самых важных.Неравенство и глобальное деление
Как мы выяснили, рассуждая о типах общества (см. главу 2 «Культура и общество»), подавляющая масса мирового богатства сконцентрирована в руках индустриальных, или «развитых», держав, тогда как народы «развивающихся стран» страдают от широко распространенной нищеты, перенаселенности, неудовлетворительного уровня систем образования и здравоохранения, непосильного внешнего долга. Разрыв между развитой и развивающейся частью земного шара стремительно расширялся в течение всего XX в. и на сегодняшний день является максимальным за всю историю человечества. В «Докладе о развитии человечества» (Human Development Report) за 1999 г., опубликованном ООН, говорится, что средний доход граждан пяти самых богатых стран мира в 74 раза превышает доход людей, проживающих в пяти самых бедных государствах. В конце 1990-х гг. 20 % мирового населения потребляло 86 % всех производимых в мире товаров и услуг, представляло 82 % объема экспортных рынков и использовало 74 % мощности телефонных линий. Двести самых богатых людей мира удвоили свои состояния в промежуток между 1994 и 1998 гг.; имущество трех самых богатых миллиардеров мира превосходит совокупный валовый внутренний продукт (ВВП) всех наименее развитых стран, где проживает 600 млн чел. (UNDP 1999). В большинстве развивающихся стран уровни экономического роста и производства в течение последнего столетия заметно отстают от темпов роста численности населения, тогда как в индустриальных державах экономическое развитие уверенно обгоняет его. Эти разнонаправленные тенденции привели к ощутимому расхождению между богатейшими и беднейшими странами мира. Этот разрыв, выражавшийся в 1820 г. соотношением 3 : 1, в 1913 — 11 : 1, а в 1950 — уже 35 : 1, к 1992 г. достиг величины 72 : 1. Рост доходов на протяжении XX в. привел к их шестикратному увеличению у самой богатой четверти населения Земли и менее, чем к трехкратному, у самой бедной. Складывается впечатление, что глобализация еще более резко обозначила эти тенденции, способствуя концентрации доходов, богатства и ресурсов в руках небольшого числа государств. Как мы уже видели в этой главе, темпы роста и интеграции мировой экономики невероятно велики. В сердце этого процесса находится растущая международная торговля: за период между 1990 и 1997 гг. ее объем увеличился на 6,5 %. Но лишь горстка развивающихся стран выиграла от этого, тогда как основная их масса «осталась за бортом». Некоторые страны, такие как Чили, Индия, Польша и государства Восточной Азии, заметно преуспели за это время в экономическом развитии; на экономиках других стран (например, России, Венесуэлы или Алжира) глобализация и расширение международной торговли едва ли сказались положительно (UNDP 1999). Исследования Всемирного банка подтверждают этот вывод: среди 93 развивающихся наций только 23 могут считаться «быстро интегрирующимися» в мировую экономику. И есть опасность, что большинство стран из числа наиболее нуждающихся в росте национальной экономики будут отставать все больше по мере развития глобализации (World Bank 2000). Свободная торговля рассматривается многими в качестве ключевого элемента экономического развития и борьбы с нищетой. Такие организации, как ВТО (Всемирная торговая организация), делают все, чтобы либерализовать правила торговли и убрать межнациональные барьеры на ее пути. Свободная торговля при этом преподносится как беспроигрышное решение и для развитых, и для развивающихся стран. В то время как первые получают таким образом возможность экспортировать свои товары на другие рынки мира, последние тоже не останутся внакладе, получив выход на международный рынок. А это, в свою очередь, поднимет их шансы на интеграцию в мировую экономику.Кампания за «глобальную справедливость»
Далеко не все согласны с тем, что свободная торговля является панацеей от бедности и глобального неравенства. Более того, многие критики полагают, что это — однонаправленный процесс, способствующий процветанию и без того богатых стран, и он скорее ухудшит экономическое положение и усилит зависимость развивающихся государств. Повышенное внимание общественности и наибольшее количество нареканий вызывает сегодня деятельность и политика ВТО — организации, стоящей во главе движения за расширение международной торговли. В декабре 1999 г. более 50 000 чел. со всего мира выплеснулись на улицы Сиэтла, чтобы выразить свой протест во время очередного заседания ВТО, известного под названием «Круглый стол тысячелетия». В течении четырех дней в Сиэтле не прекращались шествия пестро разодетых демонстрантов, выступления уличных театров, гражданские беспорядки, марши, собрания и диспуты. Профсоюзные деятели, защитники окружающей среды, борцы за права человека, противники захоронения ядерных отходов в странах «третьего мира», фермеры и представители сотен местных и международных НПО объединили свои голоса для протеста против действий ВТО, которая, по их мнению, слишком заботится об экономических аспектах глобальной торговли, забывая об уважении прав человека, об охране природы, о создании благоприятных условий для труда и устойчивого развития отсталых стран. Хотя протесты выражались по большей части в миролюбивой форме, полиции все же пришлось несколько раз применять слезоточивый газ и резиновые пули при столкновениях с разбушевавшимися противниками глобализации, парализовавшими жизнь деловой части Сиэтла. Участники переговоров из 134 стран, входящих в ВТО, встретились, чтобы обсудить в том числе и новые меры по либерализации условий для свободной торговли и инвестиций в сельское хозяйство и лесную промышленность. Однако переговоры зашли в тупик, так и не приведя к согласию. Организаторы протеста ликовали: им не только удалось сорвать переговоры, но и выставить на всеобщее обозрение внутренние распри делегатов. О протестах в Сиэтле трубили как о самой крупной победе борцов за «глобальную справедливость». Но в чем же суть этой кампании, и действительно ли она свидетельствует о возникновении мощного «движения антиглобалистов», как сразу предположили некоторые комментаторы? За несколько последующих месяцев аналогичные демонстрации протеста состоялись и в других городах мира, например в Лондоне и Вашингтоне. Они значительно уступали по масштабам выступлениям в Сиэтле, но были организованы с той же целью. Протестующие говорили о том, что свободная торговля и экономическая глобализация приведет к дальнейшей концентрации богатства у небольшой части населения Земли, в то время как весь остальной мир будет еще глубже погружаться в пучину бедности. Большинство активистов соглашаются, что развитие международной торговли — это необходимое и потенциально благоприятное условие для процветания национальных экономик, но требуют при этом отказа от тех принципов ее регулирования, которые сейчас использует ВТО. Они считают, что правила торговли должны быть в первую очередь и главным образом ориентированы на защиту прав человека, окружающей среды, законов о труде и локальных экономик, а не на обеспечение еще больших прибылей и без того процветающих корпораций. Протестующие заявляли, что ВТО является антидемократической организацией, где доминируют самые богатые страны мира, среди которых лидируют Соединенные Штаты Америки. Хотя многие развивающиеся страны входят в состав ВТО, большинство из них не имеет возможности оказывать влияние на ее политику, поскольку повестка дня традиционно подгоняется под интересы сверхдержав. Президент Всемирного банка указал на то, что 19 из 42 государств Африки, числящихся во Всемирной торговой организации, не имеют постоянного представительства в ее штаб-квартире в Женеве (World Bank 2000). Такое неравноправное положение может иметь весьма серьезные последствия. Например, хотя ВТО настаивает на открытии этими странами своих рынков для импорта товаров из индустриальных стран, она, тем не менее, разрешила последним сохранять высокие таможенные пошлины на ввоз сельскохозяйственной продукции из этих стран, чтобы защитить собственных производителей. А это означает, что самые бедные страны мира, многие из которых до сих пор имеют преимущественно аграрную экономику, не могут торговать своими продуктами на рынках развитых стран. Сходное разделение существует и в области защиты интеллектуальных прав, которая управляется многосторонним соглашением стран — членов ВТО, известным под названием TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, «Торговые аспекты прав на интеллектуальную собственность»). Индустриальные державы владеют 97 % патентов во всем мире — тогда как в развивающемся мире концепция прав на интеллектуальную собственность известна очень мало. За два последних десятилетия существенно выросло число патентных исков, поскольку биотехнологические компании и исследовательские институты стараются взять под свой контроль и «заполучить в собственность» все больше и больше разнообразных форм информационных и биотехнологий. Многие образцы растительных материалов, полученные в таких богатых биологическими разновидностями местах, как тропические джунгли, служат фармацевтическим компаниям основой для производства прибыльных, и патентованных, лекарственных препаратов. Знания местного населения о свойствах и способах применения этих растений часто используются при разработке и рекламе средства, но неискушенные жители лесов не получают за свой вклад никакого вознаграждения. То, что индустриальные державы подталкивают ВТО к принятию еще более строгих патентных норм на интеллектуальную собственность, развивающиеся страны рассматривают как ход, приносящий потенциальный вред их собственным народам. Порядок проведения исследований диктуется интересами прибыли, а не людскими нуждами, в результате чего более бедные страны могут не получить возможности пользоваться новыми технологиями, подчас исключительно важными для их выживания. Еще одним поводом для критики ВТО служит атмосфера секретности, позволяющая держать в неведении рядовых граждан, к которым результаты деятельности ВТО имеют самое непосредственное отношение. Эта критика справедлива со многих точек зрения. Торговые переговоры между членами ВТО проводятся за закрытыми дверьми никем не избранным комитетом «экспертов». Когда решение принимается, оно законодательным образом распространяется на все страны, входящие в ВТО. Эта организация может оспаривать или попирать законы отдельных стран, являющиеся «барьером для торговли». Среди них могут оказаться национальные законы или двусторонние соглашения о защите окружающей среды, сохранении редких природных богатств, охране здоровья, или о правах человека. Например, ВТО отвергла требования ЕС на запрет ввоза из США мяса животных, вскормленных с применением гормональных добавок, которое могло послужить причиной раковых заболеваний, а также оспорила решение суда штата Массачусетс, согласно которому американские компании не могли инвестировать в Мьянму (Бирму), где имело место нарушение прав человека. И, наконец, активисты выражают протест против той власти, которую имеют США в ВТО и других международных институтах, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд. После развала Советского Союза, США часто называли единственной оставшейся в мире сверхдержавой. В некотором отношении это, бесспорно, так. Благодаря своей превосходящей экономической, военной и политической мощи, Соединенные Штаты могут оказывать влияние на ход переговоров и принятие решений во многих международных инстанциях. «Неравномерность» глобализации необходимо отчасти объяснять и тем, что политическое и экономическое могущество сегодня сосредоточено в руках нескольких центральных государств. Противники ВТО и других международных финансовых институтов типа МБ и МВФ обеспокоены тем, что, делая основной акцент на экономической интеграции и свободной торговле, они заставляют людей жить скорее в «экономике», а не в «обществе». Многие из них убеждены, что такие действия еще более ослабят экономическое положение бедных стран, поскольку позволят транснациональным корпорациям проводить свои операции, мало или вовсе не считаясь с нормами безопасности и защиты окружающей среды. Коммерческие интересы, говорят они, все больше вытесняют заботу о благополучии человека. Не только в развивающихся, но и в индустриальных странах необходимо увеличить инвестиции в человеческий капитал — систему здравоохранения, в образование и профессиональную подготовку, — если мы не хотим расколоть мир еще больше. Главная задача, стоящая перед человечеством XXI в., — обеспечить народам всего мира равные возможности для участия в процессе.Заключение: необходимость в глобальном управлении
По мере развития глобализации существующие политические структуры и модели управления перестают отвечать требованиям нового мира — мира, полного риска, неравенства и проблем, которые не признают границ и угрожают уже всему человечеству в целом. Правительства отдельных наций не в состоянии остановить распространение СПИДа, справиться с последствиями глобального потепления или регулировать нестабильные международные финансовые рынки. Многие из процессов, воздействующих на общества по всему миру, не поддаются контролю при помощи существующих механизмов управления. Оказавшись перед лицом образовавшегося управленческого «дефицита», многие призывают к созданию новых форм глобального управления, которое могло бы справиться с глобальными задачами. Коль скоро растет число общих для всех народов Земли проблем, считают они, то и методы решения их должны носить транснациональный характер. Хотя формирование правительства в межгосударственных масштабах представляется малореальным, тем не менее определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются, что приводит к возникновению таких глобальных демократических структур, как ООН или ЕС. Европейский Союз в особенности может служить примером инновационного ответа на развитие глобализации и стать моделью для аналогичных организаций в других точках земного шара, где региональные связи обладают достаточной силой. Новые формы глобального управления способны приблизить наступление всеобщего космополитического мирового порядка, в котором установятся и будут соблюдаться ясные правила и стандарты международного поведения (например, принципы защиты прав человека). Десять лет, минувшие с момента окончания холодной войны, были насыщены жестокостью, внутренними конфликтами и хаотическими преобразованиями во многих уголках планеты. И несмотря на то что некоторые склонны занимать пессимистическую позицию и рассматривать глобализацию как фактор, способствующий кризисному хаотичному развитию событий, многие видят в использовании сил глобализации жизненно важную возможность для достижения идеалов демократии, равенства и процветания во всем мире. Движение к созданию глобального правительства и более эффективных управленческих структур уместно сегодня, как никогда, поскольку всеобщая взаимозависимость и быстрота, с которой изменяется окружающий нас мир, связывают народы Земли крепче, чем за всю прошлую историю человечества. И сегодня мы вполне можем претворить свою волю в жизнь. Решение этой задачи является для нас одновременно и величайшей необходимостью, и величайшим вызовом, который должно принять общество на пороге XXI в.Краткое содержание
1. Одним из самых интересных социальных феноменов для современного социолога является глобализация — процесс всеобщей интенсификации социальных отношений и взаимозависимости. Понятие глобализации выражает тот факт, что мы все больше становимся гражданами «одного мира», где наши действия оказывают влияние на многих других — и наоборот. Сегодня глобализация оказывает влияние на жизнь людей во всех странах мира, как богатых, так и бедных, причем не только на глобальном, но и на бытовом уровнях. 2. Часто глобализацию представляют в качестве чисто экономического явления, тем самым слишком упрощая ситуацию. Этот процесс является результатом совокупного воздействия политических, экономических, культурных и социальных фактов. Его главной движущей силой служит развитие информационных и телекоммуникационных технологий, благодаря которым значительно возросла интенсивность взаимодействия людей в разных странах мира. 3. Развитию глобализации способствуют несколько факторов. Во-первых, окончание холодной войны, крушение советского коммунистического лагеря и создание новых форм международного и регионального управления привели к сближению разных народов мира. Во-вторых, распространение информационных технологий обеспечило основу для свободного перемещения информации по всему земному шару и созданию нового «глобального» мировосприятия. В-третьих, число и степень влияния транснациональных корпораций выросли настолько, что они, образуя сети производства и сбыта, превратились в связующие звенья между различными экономическими рынками. 4. Вокруг глобализации разгорелось множество дискуссий. «Скептики» полагают, что идея глобализации явно переоценена, и что примеры всеобщей взаимосвязанности аналогичного уровня встречались и раньше в истории человечества. Некоторые из скептиков даже указывают на обратные процессы регионализации, при которых значительно повышается активность отдельных финансовых и рыночных групп. «Гиперглобалисты», напротив, считают, что глобализация — это реально существующий мощный процесс, грозящий свести на нет роль национальных правительств. Принадлежащие к третьей группе — сторонники «трансформационной теории» — говорят об изменениях, которые вносит глобализация в существующий миропорядок во всех его аспектах — включая экономические, политические и социальные отношения — учитывая при этом, что многие их традиционные формы по-прежнему сохраняются в силе. Согласно такому подходу, глобализация представляется внутренне противоречивым процессом, который подчас развивается под влиянием противоположных тенденций. 5. Глобализация не есть феномен, присущий исключительно крупномасштабным глобальным системам. Не менее актуально и ее воздействие на каждого из нас, которое проявляется в изменении нашего самовосприятия и взглядов на связь с остальными людьми. Силы глобализации входят в наши дома и нашу личную жизнь не только в форме обезличенных средств массовой информации и Интернета, но и благодаря прямым контактам с представителями других стран и культур. 6. Глобализация — это открытый и противоречивый процесс, последствия которого чрезвычайно сложно предсказывать и контролировать. В результате могут возникать неизвестные ранее формы рисков. Внешними рисками называются те опасности, происхождению которых мы обязаны самой природе (сюда относятся, например, землетрясения). Техногенные риски — это не что иное, как следствия нашего технологического вмешательства в естественные природные процессы. Некоторые полагают, что мы живем в глобальном обществе риска, где человек постоянно сталкивается с такими опасностями, как глобальное потепление, которые являются результатом его собственного воздействия на окружающую среду. 7. Процесс глобализации идет быстро, но не равномерно. Его отличительной чертой стало дальнейшее увеличение разрыва между самыми богатыми и самыми бедными странами мира. Богатство, доходы, ресурсы и потребление находятся сегодня в руках развитых обществ, тогда как большая часть развивающихся стран борется с нищетой, недоеданием, болезнями и давлением внешнего долга. И именно те страны, которым как никому другому необходима возможность использования преимуществ глобализации, рискуют сегодня остаться ни с чем. 8. За последние десятилетия барьеры на пути международной торговли постепенно снимались, и многие полагают, что свободная торговля и открытые рынки позволят развивающимся странам полнее интегрироваться в глобальную экономику. Их оппоненты, напротив, утверждают, что такие международные торговые организации, как ВТО, руководствуются в первую очередь интересами богатейших государств, игнорируя нужды стран «третьего мира». Они заявляют, что защита прав человека, национальной экономики и окружающей среды, а не погоня за сверхприбылями для корпораций — вот первоочередной принцип, которым надлежит руководствоваться при создании правил торговли. 9. Глобализация оказывается причиной возникновения целого ряда проблем, рисков и неравенства, которые простираются за пределы границ одного государства и не поддаются контролю со стороны существующих политических структур. Поскольку каждое правительство по отдельности оказывается неспособно справиться с этими транснациональными проблемами, то появляется необходимость в создании новых форм глобального управления, которые могли бы решать общемировые проблемы адекватными методами. Вполне вероятно, что возможность осуществлять свое волеизъявление в быстро меняющемся социальном мире станет в XXI в. задачей номер один.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Каким образом глобализация может иметь и локальные аспекты? 2. Стало ли падение коммунистических режимов результатом глобализации? 3. «Макдональдизация» — это явление преимущественно экономического, культурного или политического характера? 4. Что мы получим с развитием индивидуализма: возможность свободно выбирать, кем быть, или, наоборот, невозможность сделать выбор из-за слишком большого количества альтернатив? 5. Действительно ли транснациональные корпорации обладают большей властью, чем (некоторые) национальные правительства? 6. Почему мы все чаще, говоря о рисках, добавляем определение «техногенный»?Дополнительная литература
Dicken Peter. Global Shift: Transforming the World Economy. N. Y.: Guilford Press, 1998. Gray John. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. London: Granta Books, 1998. Held David, McGrew Anthony, Goldblatt David and Pennton Jonathan (eds.). Global Transformations. Cambridge: Polity, 1999. Lechner Frank J. and Bolijohn (eds.). The Globalization Reader. Oxford: Blackwell, 2000. Timmons Roberts J. and Hite Amy (eds.). From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social Change. Oxford: Blackwell, 1999. Vandersluis Sarah Owen and Yems Paris (eds.). Poverty in World Politics: Whose Global Era? Basingstoke: Macmillan, 1999.Интернет-линки
Центр анализа и управления рисками http://www.lse.ac.uk/Depts/carr Институт экономической политики (к вопросу о торговле) http://epinet.org Сайт, посвященный общим проблемам глобализации http://www.polity.co.uk/global Международный форум о глобализации http://www.ifg.org Международный фонд «Единый мир» http://www.oneworld.net/campaigns Общественный контроль за свободной торговлей http://www.tradewatch.org Всемирный банк http://www.worldbank.org Всемирная торговая организация http://www.wto.orgГЛАВА 4 СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
Приходилось ли вам когда-либо разговаривать с иностранцем? Или же поддерживать связь с заокеанским веб-сайтом? Довелось ли вам совершить путешествие на другой конец света? Если вы даете утвердительный ответ на любой из этих вопросов, значит, вы уже сталкивались с влиянием глобализации на социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие представляет собой процесс, посредством которого мы воздействуем на окружающих и вызываем ответную реакцию с их стороны. Хотя люди разных национальностей общались всегда, глобализация не только изменила число, но и характер их контактов. В условиях глобализации возросло количество прямых или косвенных контактов с людьми, живущими в других странах либо принадлежащими к иным культурам. Что отличает людей разных национальностей? Важный вклад в исследование этой проблемы внесли специалисты по социологии туризма. Поощряя интерес к другим странам, а также облегчая передвижение туристов через границы, глобализация в значительной мере расширила возможности зарубежных поездок и путешествий. Рост международного туризма, разумеется, оборачивается увеличением общения лицом к лицу между людьми из разных стран. По мнению Джона Арри, многие из таких контактов устанавливаются «глазеющим туристом»: он или она надеется на необычные приключения во время заграничных путешествий (Urry 1990). Приключения отличает от повседневной жизни все, что идет вразрез с ожиданиями по поводу того, как обычно должны происходить социальные взаимодействия и контакты с материальной средой. Так, жителей континентальной Европы, путешествующих по Великобритании, приводит в замешательство левостороннее движение. Правила дорожного движения столь глубоко усвоены, что их нарушение воспринимается нами как нечто странное. И тем не менее, будучи туристами, мы получаем удовольствие от такой странности. В каком-то смысле деньги заплачены именно за нее наряду с другими достопримечательностями. Вообразите себе, как бы вы были разочарованы, когда, путешествуя по другой стране, вы бы обнаружили, что она почти ничем не отличается от большого или маленького города, где вам довелось вырасти. В основном туристы не желают, чтобы их приключения были слишком необычными. Для молодых туристов парижские закусочные «Макдональдс» — одно из самых часто посещаемых мест. Британские путешественники зачастую не могут пройти мимо пивных и баров с английскими названиями. Иногда такие забавы вызваны любопытством, а зачастую люди получают удовольствие от привычных блюд и напитков в хорошо знакомой обстановке. Такое противоречие потребностей в необычном и знакомом составляет главную заботу глазеющего туриста. Любопытный взгляд способен вызвать напряженность между туристами и «местными», общающимися лицом к лицу. Те из местных жителей, кто занят туристическим бизнесом, по всей вероятности, высоко ценит заморских путешественников по соображениям материальных выгод. Других же может возмущать требовательность туристов либо их чрезмерное количество, что нередко бывает на особо популярных туристических направлениях. Не исключено, что туристы задают вопросы местным жителям о разных сторонах их повседневной жизни — о еде, работе и досуге. Поступая так, они стремятся либо углубить свое понимание чужой культуры, либо вынести отрицательное суждение о тех, кто отличается от них. С развитием туризма в процессе глобализации социологам предстоит внимательнее изучить, какие модели взаимодействия между туристами и местными жителями становятся наиболее распространенными, и определить, что в них преобладает — дружелюбие или враждебность.Изучение повседневной жизни
На первый взгляд может показаться, что туризм не представляет особого интереса для социологов, туристические впечатления, тем не менее, могут многое нам поведать о социальной среде. Мысль о «глазеющем туристе» важна тем, что она дает для понимания роли, которую играет повседневная жизнь, формируя наши представления о социальной среде, т. е. об обыденном, хорошо знакомом или же необычном в ней. Действия и воззрения, часто кажущиеся иностранным туристам невероятно «экзотичными», являются прозой жизни с точки зрения местных жителей. Например, приехавшие с Запада туристы, впервые посещая мусульманскую страну, бывают поражены звуком «зова на молитву», который ежедневно пять раз в сутки раздается с минаретов сотен местных мечетей. Этот красивый, вызывающий тревогу звук в большинстве случаев непривычен уху западного человека. Однако для местных жителей зов на молитву настолько неотъемлем от их повседневной жизни, что в той или иной мере воспринимается ими на уровне подсознания. Если бы они отправились в путешествие по странам Запада, где зова на молитву, как правило, не услышишь, его отсутствие им показалось бы странным и сбивало бы с толку. Где бы нам ни довелось жить, есть вещи, которые мы делаем несметно много раз за день, мало задумываясь о них. Вот другой пример весьма распространенного взаимодействия, происходящего миллион раз на день в больших и малых городах земного шара. Когда двое идут по улице мимо друг друга, они очень недолго обмениваются взглядом, затем отводят его и избегают смотреть друг другу в глаза, продолжая свой путь. Поступая так, они проявляют гражданское невнимание, как Ирвинг Гофман называет то требование, которое мы предъявляем друг к другу во множестве ситуаций (Goffman 1969, 1971). Отнестись к человеку с гражданским невниманием и не замечать его — совсем не одно и то же. Каждый дает понять встречному, что знает о его присутствии, но всячески избегает действий, которые другой бы счел бесцеремонными. Гражданское невнимание с нашей стороны есть нечто такое, что совершается почти непроизвольно, но ему отведена ключевая роль в повседневной жизни. Кому-то из вас легко подумать, что обыденные проявления общественного поведения, вроде мимолетной встречи с уличным незнакомцем или реакции на непривычный зов к молитве, незначительны и неинтересны. Однако изучение на вид несущественных форм социального взаимодействия очень важно для социологии. Будучи далеко не лишенным интереса, оно относится к одной из самых увлекательных ее областей по трем причинам. Во-первых, наши изо дня в деньповторяющиеся практики, в которых происходит почти непрерывное взаимодействие с другими людьми, структурируют и формируют все, что мы делаем. Изучая эти рутинные действия, можно очень многое узнать о себе как о социальных существах и об общественной жизни как таковой. Нашу жизнь с начала и до конца упорядочивают схожие образцы поведения, воспроизводящиеся изо дня в день, еженедельно, каждый месяц, из года в год. Припомните, к примеру, что вы делали вчера или позавчера. Если это были будни, то, по всей вероятности, вы вставали примерно в одно и то же время каждый день (определенный режим важен сам по себе). Скорее всего, ранним утром вы отправлялись на уроки или лекции, совершая поездку из дома в школу или колледж, что практически происходит каждый рабочий день. Может быть, у вас была встреча за ленчем кое с кем из друзей, а после обеда вы занимались в классе либо самостоятельно. Позднее вы вернулись домой, а затем, возможно, снова ушли оттуда, чтобы провести вечер с другими друзьями. Разумеется, наш распорядок дня меняется, обычно различны и нормы поведения в будничные и выходные дни. Если же происходят значительные перемены в образе жизни, вроде ухода из колледжа ради заработка, то перемены в распорядке дня, как правило, необходимы. Однако затем опять образуется ряд новых, достаточно устойчивых привычек. Во-вторых, изучение повседневности показывает, как творчески люди могут действовать, упорядочивая реальность. Несмотря на то, что социальное поведение до некоторой степени подчинено таким факторам, как роли, нормы и общепринятые ожидания, реальность воспринимается отдельными людьми по-разному, в зависимости от их происхождения, в соответствии с их интересами и побуждениями. Поскольку они способны к созиданию, то постоянно творят реальность, принимая решения и совершая поступки. Иначе говоря, реальность не определена раз и навсегда, статика ей не свойственна: реальность создается во взаимодействиях людей. Такое понимание социального конструирования реальности (см. врезку «Социальное конструирование реальности» в разделе «Взаимодействие во времени и пространстве» главы 4) лежит в основе теории символического интеракционизма, представленной в главе 1 («Что такое социология?»). В-третьих, изучение социального взаимодействия в повседневной жизни проливает свет на системы и институты большего масштаба. Фактически функционирование всех крупномасштабных систем зависит от образцов социального взаимодействия, в котором мы ежедневно принимаем участие. Это легко показать. Припомните пример с двумя незнакомцами, идущими по улице. Может показаться, что от такого эпизода напрямую мало зависят крупные, более протяженные во времени формы социальной организации. Однако все окажется иначе, если принять во внимание множество подобных взаимодействий. В современном обществе большинство людей живет в малых и больших городах и все время взаимодействует с теми, кто им лично не знаком. Гражданское невнимание наряду с другими приемами придает облик, присущий городской жизни с типичными для нее толпами торопящихся людей и мимолетными, безличными контактами.────────────────────────────┐ ■ Женщины и мужчины на людях: связь между микро- и макросоциологией Идущую по улице женщину смущают слова, сказанные в ее адрес группой мужчин. Это — достаточно обычная ситуация, и на первый взгляд она как будто бы совершенно подходит для микросоциологического изучения. В исследовании, озаглавленном «Проходя мимо: гендер и атака на него со стороны общества», Кэрол Брукс Гарднер пришла к выводу, что есть самые разные места (среди них очень славятся оконечности строительных площадок), где женщины сталкиваются с ситуациями нежелательного общения, которое, с их точки зрения, выглядит оскорбительным. Хотя атаку на одинокую женщину и можно исследовать, пользуясь микросоциологическим подходом и тем самым рассматривая ее как отдельно взятый случай взаимодействия, этот анализ непродуктивен из-за упрощения дела. Подобная атака типична для происходящего на улице разговора между мужчиной и женщиной (Gardner 1995). А такого рода взаимодействия просто нельзя понять, если остаются вне поля зрения социальные причины гендерной иерархии. Вот как обнаруживается связь между микро- и макроуровнями анализа. Например, Гарднер нашла связь между нападками на женщин со стороны мужчин и общей системой гендерного неравенства, проявляющегося в привилегированном общественном положении мужчин, физической уязвимости женщин и вездесущей опасности изнасилования. Если не выявлять этой связи между микро- и макроуровнями, наше представление о подобных взаимодействиях будет очень ограниченным. Они либо будут выглядеть как отдельные случаи, либо будут якобы устранены в результате хорошего воспитания. Понимание связи между микро- и макроуровнями дает возможность осознать, что для кардинального решения проблемы необходимо сосредоточиться на устранении форм гендерного неравенства, порождающего упомянутый тип взаимодействия. ────────────────────────────┘
Микро- и макросоциология
Микросоциологией обычно именуют исследование повседневного поведения в условиях общения лицом к лицу. В ней анализ проводят на уровне индивидов или малых групп. Она отличается от макросоциологии, предметом которой являются такие крупномасштабные социальные системы, как политическая система или экономический порядок. В рамках макросоциологии также проводится анализ долговременных процессов изменения, как, например, развитие индустриализма. На первый взгляд может показаться, будто микро- и макроисследования отличаются друг от друга. На самом деле они тесно связаны (Knorr-Cetina and Cicourel 1981; Giddens 1984), о чем вы узнаете из этой главы. Макроанализ существенно важен для понимания институциональной основы повседневной жизни. На разный образ повседневной жизни сильно влияет общая институциональная структура, что становится очевидным при сравнении повседневного цикла деятельности, свойственной традиционной культуре, с жизнью в индустриальной городской среде. В современном обществе мы постоянно находимся в контакте с посторонними людьми. Этот контакт бывает косвенным и безличным. Однако независимо от того, сколько косвенных связей устанавливается нами сегодня, присутствие других людей играет решающую роль даже в обществах, самых сложных по своей организации. Можно решить послать знакомому письмо по электронной почте, а можно предпочесть слетать на самолете за тысячи миль, чтобы провести выходные дни вместе с другом. В свою очередь, микроисследования необходимы для того, чтобы выявить, как в общих чертах устроены в стране институты. Очевидно, общение лицом к лицу является главной составляющей всех форм социального взаимодействия вне зависимости от масштабности контекста. Представьте, что мы заняты исследованием корпорации. Мы бы смогли многое понять в ее деятельности, просто изучая поведение лицом к лицу. Например, можно было бы проанализировать взаимодействие директоров в зале заседаний совета директоров, сотрудников различных подразделений или рабочих в цехах. Нам бы таким образом не удалось составить ясное представление о всей корпорации, поскольку она ведет дела, пользуясь печатными материалами, телефонами и компьютерами. Тем не менее мы бы наверняка существенно углубили понимание того, как организована ее деятельность. В последующих главах вы познакомитесь с другими примерами того, как взаимодействие на микроуровне оказывает влияние на более масштабные социальные процессы, а макросистемы, в свою очередь, воздействуют на ограниченные во времени и пространстве социальные среды. Однако прежде всего мы обратимся к нескольким главным проблемам изучения повседневности на микроуровне. Сначала будут рассмотрены невербальные знаки (выражения лица и телодвижения), используемые нами во взаимодействии друг с другом. Затем придет очередь анализа повседневной речи, т. е. языка как средства передачи смыслов, которые одни люди намерены довести до других. Наконец, в центре внимания окажутся формы структуризации нашей жизни под воздействием повседневной рутины. Причем особое внимание будет уделено тому, как происходит координация наших действий во времени и пространстве.Невербальное общение
Повседневное взаимодействие зависит от тонкой связи между тем, что сказано нами при помощи слов, и тем, как мы применяем разнообразные формы невербального общения — обмена информацией и сообщения смысла, передаваемого выражением лица, жестом и телодвижением. Иногда невербальное общение определяют как «язык тела», но это неправильно, так как невербальные знаки используются специфическим образом для того, чтобы перечеркнуть сказанное либо дополнить его.Лицо, жесты и эмоции
Выражение эмоций на лице — одно из главных средств невербального общения. Пол Экман и его коллеги разработали так называемую Кодирующую систему движения лица (КСДЛ) для описания работы мускулов, которые придают лицу то или иное выражение (Ekman and Friesen 1978). Посредством этой системы они пытались сделать несколько более точной область, печально известную несовместимыми или противоречивыми интерпретациями, ибо нет единства мнений о том, как устанавливать, что выражают эмоции и каким образом их классифицировать. Создатель эволюционной теории Чарльз Дарвин утверждал, что основные способы выражать эмоции у всех людей одинаковы. Несмотря на то, что кое-кто оспаривал это мнение, проведенные Экманом исследования представителей очень разных культур, по-видимому, подтверждают его. Экман и Фризен провели обследование изолированно живущей в Новой Гвинее общины, у которой прежде практически не было контактов с посторонними людьми. Когда местным жителями показали рисунки лиц с запечатленными на них шестью эмоциями (радости, грусти, гнева, отвращения, страха, удивления), они смогли их различить. Сделанные Полом Экманом фотографии выражения лиц членов племени, изолировано проживавшего в Новой Гвинее, дали возможность проверить мысль о том, что основные способы выражать эмоции у всех людей одинаковы. Соплеменников попросили показать, какое выражение примет их лицо, если они окажутся в следующих ситуациях: а) пришел друг, и ты обрадовался; б) умер твой ребенок; в) ты разгневан и собираешься драться; г) ты увидел околевшую свинью, долго тут пролежавшую
(Публикуется с разрешения Paul Ekman and Assoc. LLC ©1972–2005.)
Сделанные Полом Экманом фотографии выражения лиц членов племени, изолировано проживавшего в Новой Гвинее, дали возможность проверить мысль о том, что основные способы выражать эмоции у всех людей одинаковы. Соплеменников попросили показать, какое выражение примет их лицо, если они окажутся в следующих ситуациях: а) пришел друг, и ты обрадовался; б) умер твой ребенок; в) ты разгневан и собираешься драться; г) ты увидел околевшую свинью, долго тут пролежавшую
(Публикуется с разрешения Paul Ekman and Assoc. LLC ©1972–2005.)
По мнению Экмана, результаты его собственных и аналогичных исследований разных людей подтверждают точку зрения, согласно которой выражение эмоций на лице и их интерпретация относятся к врожденным качествам людей. Он признал, что полученные им данные еще не окончательно доказывают это, и, вероятно, общий опыт культурной социализации осложняет проблему. Тем не менее его выводы получили подтверждение в исследованиях, проведенных по иной методике. И. Айбл-Айбсфелд обследовал шестерых рожденных глухими и слепыми детей для того, чтобы выяснить, насколько выражение их лиц похоже на бывающее у зрячих и слышащих при определенном эмоциональном состоянии (Eibl-Eibesfeldt 1973). Он обнаружил, что дети улыбались, занимаясь явно приятным для них делом, удивленно поднимали брови, принюхиваясь к вещи с необычным запахом, и хмурились, когда им снова протягивали непонравившийся предмет. Поскольку они не могли наблюдать за другими, кто бы вел себя таким же образом, видимо, их реакции предопределены природой. Пользуясь КСДЛ, Экман и Фризен обнаружили у новорожденных детей несколько несвязанных между собой движений лицевых мускулов, которыми и взрослые выражают свои эмоции. Кажется, детские лица наподобие взрослых, например, умеют изображать чувство отвращения, реагируя на кислый вкус (поджимая губы и морщась). Вместе с тем, несмотря на то, что умение выражать эмоции представляется отчасти врожденным, индивидуальные и культурные факторы оказывают влияние на то, какую конкретно форму примет мимика лица, а также на контекст, признанный уместным для нее. Как люди улыбаются, что, к примеру, делают губами и другими лицевыми мускулами, сколько длится сама улыбка — все это отличает одну культуру от другой. Не обнаружено жестов и поз, типичных для всех или даже большинства культур. Есть общества, где кивают головой в знак отрицания, что противоречит обычаю, существующему в англосаксонских странах. Очень распространенных у европейцев и американцев жестов вроде манеры показывать пальцем, кажется, нет у других народов (Bull 1983). В качестве жеста похвалы в некоторых областях Италии вращают указательным пальцем, направленным к середине щеки, но и этот жест как будто бы больше нигде не известен. Жестами и позами, как и мимикой лица, все время пользуются для того, чтобы придать расширительный смысл высказываниям, а также наделить смыслом то, о чем на самом деле умалчивают. Ко всем трем средствам обращаются, когда хотят пошутить, выразить иронию или скепсис. Передаваемые без слов впечатления, которыми мы зачастую делимся по невниманию, свидетельствуют, что сказанное и подразумевавшееся нами — не совсем одно и то же. Краска смущения представляется самым очевидным примером несоответствия между внешним видом человека и смыслом им сказанного. Однако есть много почти неуловимых примет, которые могут заметить другие. Так, опытный глаз нередко способен обнаружить обман по невербальным признакам. Испарина, нервозность, блеск в глазах или метущийся взгляд, застывшее выражение лица (проявления искренности обычно исчезают через четыре-пять секунд) могут свидетельствовать о том, что человек говорит неправду. Выражение лица и телодвижения других людей служат дополнением к сказанному ими и позволяют судить о том, насколько они искренни.
«Лицо» и самоуважение
Слово «лицо» имеет отношение еще и к уважению, которое испытывают к человеку другие. В повседневной жизни, проводимой на людях, мы обычно уделяем большое внимание «сохранению лица». Многое из того, что называется вежливостью или этикетом, сводится к навыку не замечать поступки, в противном случае чреватые потерей лица. Мы не касаемся эпизодов из прошлого или черт характера человека, которые, будучи упомянутыми, смутили бы его. Если только мы не находимся в компании близких друзей, то воздерживаемся от шуток по поводу лысины, когда знаем, что кое-кто носит паричок. Такт — это своего рода защитный прием, используемый каждым человеком с надеждой на взаимность: его или ее слабости умышленно не выставят на всеобщее обозрение. Поэтому повседневная жизнь вовсе не идет сама собой. В большинстве случаев мы не задумываемся над тем, что умело сохраняем тщательный и постоянный контроль за выражением лица, позами и движениями тела при взаимодействии с другими людьми. Есть люди, чьей специальностью стал контроль за выражением лица и такт в общении с другими. Например, хороший дипломат должен уметь всегда быть внешне спокойным и вести себя непринужденно, даже если не согласен с чьими-то взглядами или кто-то ему неприятен. От того, насколько он владеет этим умением, зависит судьба целых стран. Посредством искусной дипломатии можно ослабить напряженность между странами и предотвратить войну.Гендер и невербальное общение
Есть ли гендерный аспект в социальном взаимодействии, происходящем ежедневно? Думается, существуют основания для утвердительного ответа. Поскольку взаимодействия упорядочивает больший по масштабу социальный контекст, не вызывает удивления, что мужчины и женщины по-разному воспринимают и осуществляют как вербальное, так и невербальное общение. В главе 5 («Гендер и сексуальные отношения») вы познакомитесь с теми представлениями о гендере и гендерных ролях, которые находятся под сильным влиянием социальных факторов и напрямую связаны с властью и общественным положением. Действие этих факторов очень заметно даже по общепринятым способам общения, происходящего изо дня в день. В качестве примера возьмем один из самых распространенных способов невербального общения — визуальный контакт. Люди им пользуются самым разным образом, часто для того, чтобы привлечь чье-то внимание или начать взаимодействие. В обществах, где мужчины в целом властвуют над женщинами как в общественной, так и частной жизни, они могут чувствовать себя свободнее женщин, когда устанавливают визуальный контакт с посторонними. Особый способ визуального контакта — пристальный взгляд — служит примером противоположного «смысла» одного и того же способа невербального общения. Поведение мужчины, уставившегося на женщину, можно считать «естественным» или «непредосудительным»; если она испытывает неловкость, то может отвести свой взгляд, отвернувшись либо решив не вступать в контакт. С другой стороны, поведение женщины, глазеющей на мужчину, нередко считают непристойным либо сексуально ориентированным. Каждому из этих случаев в отдельности можно не придавать значения, но в общем и целом они закрепляют нормы власти в гендерных отношениях.Социальные правила и беседа
Хотя ежедневно мы пользуемся невербальными знаками, совершая свои поступки и понимая действия других людей, в нашем общении велика роль разговора — нерегулярного обмена словами в беседах, которые ведутся в неформальной обстановке. Социологи всегда признавали язык в качестве основы общественной жизни. Однако лишь недавно появился подход, специально сконцентрированный на том, как люди пользуются языком в разных контекстах повседневности. На изучение разговоров оказала большое влияние работа Ирвинга Гофмана. Но еще больше повлиял на этот вид исследования Гарольд Гарфинкель, основатель этнометодологии (Garfinkel 1984). Этнометодология изучает «этнометоды» — обыденные, самые простые способы, применяемые людьми для того, чтобы понять значение действий других, а в особенности, — их речь. Как правило, мы все используем эти методы, даже не замечая этого. Зачастую можно понять разговор, если известен контекст, о котором сказанные слова умалчивают. Вот пример беседы (Heritage 1984):А: У меня есть четырнадцатилетний сын. В: Очень хорошо. А: Еще у меня есть собака. В: О, извините.Как вы думаете, что здесь происходит? В каких отношениях находятся беседующие люди? Если знать, что разговор ведут будущий съемщик и хозяин жилья, то их беседа становится понятной. Некоторые хозяева не возражают против детей, но не разрешают съемщикам держать животных. Если все же не знать социальный контекст, ответы В на высказывания А покажутся бессвязными. Часть смысла заключена в словах, а часть — в том способе, каким социальный контекст структурирует сказанное.
Коллективные представления
Сколь бы мало не значил в повседневной жизни тот или иной разговор, те, кто ведет его, полагаются на трудные для понимания коллективные представления и знание, которое они применяют беседуя. И в самом деле, любой пустячный разговор настолько труден для понимания, что до сих пор не удалось запрограммировать даже самые современные компьютеры на беседы с людьми. Слова, проговариваемые во время обычного разговора, не всегда обладают точным значением, и мы «определяем» то, что хотим сказать, исходя из неартикулированных допущений, которые служат ему фоном. Когда Мария спрашивает Тома: «Что ты делал вчера?», то не существует ясного ответа, подсказываемого самими словами. День долог, и Том поступил бы логично, ответив: «В 7:16 я проснулся. В 7:18 встал с кровати, пошел в ванну и начал чистить зубы. В 7:19 я включил душ...». Нам понятна уместность ответа, коль скоро мы знаем Марию, знаем, что она и Том обычно делают вместе, и что в конкретный день недели, как правило, между прочими вещами делает Том.Эксперименты Гарфинкеля
«Фоновые ожидания», помогающие нам провести обыкновенный разговор, открыл Гарфинкель во время экспериментов, сделанных им при добровольном участии студентов. Их попросили завязать разговор с другом или родственником и настоять на том, чтобы каждый из них для уточнения смысла остановился подробнее на вскользь брошенных замечаниях или высказанных соображениях общего характера. Если кто-нибудь говорил: «Желаю тебе хорошо провести день!», студенту нужно было сказать: «Уточни, в каком смысле хорошо?», «Какую часть дня ты имеешь ввиду?» и т. д. Одна из бесед прошла так (Garfinkel 1963):S: Как ты поживаешь? Е: Поживаю в каком плане? Ты имеешь ввиду мое здоровье, мои доходы, мою учебу, мой душевный покой... S: (покраснев и вдруг утратив контроль над собой) Слушай, я просто старался быть вежливым. Откровенно говоря, мне наплевать, как ты поживаешь.Почему люди так расстраиваются, когда не соблюдаются явно мало значимые для беседы условности? Дело в том, что стабильность и значимость общей повседневной жизни зависит от неартикулированных допущений культуры о том, что и как можно сказать. Лишись мы возможности считать эти допущения само собой разумеющимися, осмысленное общение прекратилось бы. Любой вопрос либо замечание, дополняющее начатый разговор, сопровождались бы глубоким «дознанием» наподобие того, что Гарфинкель велел провести своим подчиненным, и взаимодействие просто бы прервалось. Вот почему на первый взгляд несущественные правила ведения беседы оказываются совершенно необходимыми именно для структурирования общественной жизни, а их нарушение воспринимается столь серьезно. Заметьте, что в повседневной жизни люди иногда не без умысла делают вид будто не владеют знанием, которое все считают само собой разумеющимся. Так поступают, чтобы дать кому-то отпор, подшутить над кем-либо, вызвать смущение или привлечь внимание к двусмысленности сказанного. Задумайтесь, к примеру, над типичным диалогом между родителем и подростком:
Р: Куда ты идешь? П: На улицу. Р: Что ты собираешься делать? П: Ничего.Ответы подростка разительно отличаются от тех, которые давали добровольные участники экспериментов Гарфинкеля. Вместо того чтобы отвечать как положено на вопросы, подросток вовсе уходит от них, фактически давая понять родителю — «Не суйся не в свое дело!». Первый из предыдущих вопросов может спровоцировать особый ответ у другого человека в ином контексте:
А: Куда ты идешь? В: Я собираюсь тихо свихнуться.Отвечая, В притворяется, что не понимает вопроса А, нарочно иронизируя, чтобы вызвать тревогу или привести к фрустрации. Комедия и шутовство обеспечивают себе успех за счет такого рода преднамеренного непонимания допущений, не упомянутых в разговоре. В этом нет ничего опасного, поскольку участники действа знают о намерении вызвать смех.
«Вандализм взаимодействия»
Мы уже видели, что разговор — один из главных способов, благодаря которому сохраняются стабильность и упорядоченность повседневной жизни. Мы чувствуем себя лучше всего, когда соблюдены неписаные правила светской беседы, а если они нарушены, то у нас возникает замешательство, рождаются сомнения и нам мерещатся опасности. Для того чтобы разговор шел плавно, его участники внимательно следят за репликами друг друга, улавливая меняющиеся интонации, позы или телодвижения. Проявляя взаимную чуткость, они «сотрудничают», когда начинают и прекращают взаимодействие, а также говорят по очереди. Однако, если один из участников разговора не склонен к «сотрудничеству», возникают трения. Студенты Гарфинкеля умышленно создавали напряженные ситуации, нарушая правила разговора в целях эксперимента. Что же происходит на самом деле, когда люди «доставляют неприятности» своей манерой вести разговор? Американские социологи Митчел Дюнайер и Харви Молоч исследовали обмен репликами между пешеходами и «бродягами» на улицах Нью-Йорка, стараясь понять, каким образом общение с ними нередко создает проблему для прохожих (Duneier and Molotch 1999). Они воспользовались так называемой методикой анализа речевого общения для того, чтобы сравнить подборку уличных реплик с выборкой, составленной из повседневных разговоров. С помощью такой методики изучают все оттенки смысла, начиная с самых кратких междометий (типа «хм» и «а-а») и вплоть до точно скоординированного чередования пауз, временных остановок и реплик, перекрывающих одна другую. Дюнайер и Молоч наблюдали за взаимодействием чернокожих мужчин (многие из них были бездомными, алкоголиками или наркоманами) с проходившими мимо них белыми женщинами. Мужчины часто пробовали вступить в разговор, окликая женщин, делая им комплименты или задавая вопросы. Но, как считают авторы, что-то у них «не ладится» с этим, так как им редко отвечают подобающим образом. Женщины ускоряют шаг и нарочито смотрят вперед, хотя мужчины лишь изредка отпускают враждебные по тону реплики. Ниже представлена неудачная попытка завязать разговор с женщиной, которую предпринял Мадрик, чернокожий мужчина, под шестьдесят лет (Duneier and Molotch 1999, 1273–1274).[Мадрик] начинает общение со степенно проходящей мимо белой женщиной, ей на вид около двадцати пяти лет: 1. Мадрик: Я люблю тебя, детка. Она скрещивает руки и убыстряет шаг, не обращая внимания на реплику. 2. Мадрик: Выйди за меня замуж. Затем появляются две белые женщины, им, вероятно, лет по двадцати пяти. 3. Мадрик: Привет, девочки, вы сегодня прекрасно выглядите. У вас есть деньги? Купите книжек. Они не обращают на него внимания. Потом перед ним оказывается молодая чернокожая женщина. 4. Мадрик: Привет, красотка. Привет, красотка. Она продолжает идти, не удостаивая его вниманием. 5. Мадрик: Извини меня, извини. Я знаю, ты слышишь меня. Тогда он обращается к белой женщине лет тридцати. 6. Мадрик: Я гляжу на тебя. Ты выглядишь прекрасно, знаешь. Она не обращает на него внимания.Мягкое «начало» и «завершение» беседы — главное требование вежливости, предъявляемое горожанами друг к другу. Дюнайер и Молоч обнаружили, что эти решающие моменты разговора представляли большую проблему в общении между мужчинами и женщинами. В тех случаях, когда женщины сопротивлялись попыткам завести разговор, мужчины не обращали на это внимание и продолжали настаивать. Если же мужчинам удавалось начать разговор, они также могли пропустить мимо ушей намеки женщин на желание его тут же прекратить:
1. Мадрик: Привет, красотка. 2. Женщина: Привет, добрый день. 3. Мадрик: Ты в порядке? 4. Мадрик: Знаешь, ты выглядишь прекрасно. Мне правится, как у тебя заколоты волосы. 5. Мадрик: Ты замужем? 6. Женщина: Да. 7. Мадрик: А? 8. Женщина: Да. 9. Мадрик: А где кольцо? 10. Женщина: Оно у меня дома. 11. Мадрик: У тебя оно дома? 12. Женщина: Да. 13. Мадрик: Можешь сказать, как тебя зовут? 14. Мадрик: Меня зовут Мадриком, а тебя? Она не отвечает и продолжает свой путь (Duneier and Molotch 1999, 1274).В данном случае Мадрик использует девять из четырнадцати высказываний с целью завязать разговор и склонить женщину к ответам. Уже из одной записи разговора на бумаге очевидно, что женщине он не интересен, но еще яснее ее нежелание вести этот разговор проявляется, когда проведен анализ его магнитофонной записи. Если женщина и дает ответы, то всегда медлит с ними, а Мадрик тотчас отвечает, иногда его реплики перекрывают ее слова. Хронометраж разговора — очень точный индикатор: в большинстве случаев повседневного взаимодействия замедления с ответом даже на долю секунды достаточно для того, чтобы дать понять о желании сменить тему разговора. Не выполняя эти неписаные правила общения, Мадрик вел разговор в «формально грубой» манере. В свою очередь, женщина поступала точно так же, не обращая внимания на неоднократные попытки Мадрика завязать с ней разговор. Дюнайер и Молоч утверждают, что именно «формально грубая» манера уличных диалогов создает проблему прохожим. Особенно белым нью-йоркцам, придерживающимся либеральных взглядов на политику, совершенно неловко прибегать к такой манере общения. Вместе с тем, если общепринятые правила, как начать и закончить разговор, не выполняются, люди испытывают глубокое и необъяснимое чувство опасности. Авторы книги используют понятие вандализм взаимодействия для описания тех случаев, когда «зависимый человек подрывает молчаливо признанные основы повседневного взаимодействия, которые имеют значение для тех, у кого больше власти» (Duneier and Molotch 1999, 1288). Дюнайер и Молоч отмечают, что зачастую на улице люди все же следуют принятым в повседневной жизни нормам речи, общаясь друг с другом, хозяевами местных магазинов, полицейскими, родственниками и знакомыми. Однако если им заблагорассудится, люди могут нарушить неписаные нормы повседневного разговора, чем приводят прохожих в замешательство. По мнению авторов, «вандализм взаимодействия лишает его жертв способности ясно сказать, что произошло» куда больше, чем физическое насилие или словесное оскорбление. Проведенное Дюнайером и Молочем исследование вандализма взаимодействия дает еще один пример двусторонней связи между взаимодействием на микроуровне и факторами, действующими на макроуровне. Для мужчин с улицы белые женщины — законная «цель» такого общения — выглядят неприветливыми, холодными и неспособными испытывать сочувствие. Женщины же зачастую усматривают в поведении мужчин доказательство того, что они действительно опасны и лучше всего их избегать. Вандализм взаимодействия тесно связан со всей структурой классовых, статусных, гендерных и расовых отношений. Боязнь и страх, вызванные подобным общением на улицах, упрочивают общественное положение и влияние тех, кто там находится, что, в свою очередь, оказывает влияние на взаимодействия как таковые. Вандализм взаимодействия является частью «самовоспроизводящейся системы взаимной подозрительности и неучтивости».
Формы беседы
Прослушивание магнитофонной пленки либо чтение записи беседы, в которой ты сам принял участие, отрезвляет. Беседы намного менее плавны, более прерывисты и грамматически неправильны, нежели представляет себе большинство людей. Участвуя в повседневном разговоре, мы склонны думать, будто говорим хорошо отшлифованным языком, поскольку не отдаем себе отчет об известной нам подоплеке произносимых слов. Однако подлинные разговоры совсем не похожи на те, которые описаны в романах, где персонажи говорят отлично составленными и грамматически правильными фразами. В том же смысле, как и относительно работы Гоффмана о гражданском невнимании, можно было бы предположить, что анализ обычных бесед имеет второстепенное значение по сравнению с главными задачами социологии. Фактически именно по этой причине многие социологи подвергли критике этнометодологический подход. Все же кое-какие доводы в пользу того, почему работа Гоффмана столь значима для социологии, применимы и к этнометодологии. Исследование повседневных разговоров показало, какую сложность представляет умение владеть языком, коим обладают обычные люди. Огромные трудности, сопряженные с программированием компьютеров для выполнения тех задач, которые без всяких усилий осуществляются говорящими людьми, свидетельствуют об этой сложности. Магнитофонные пленки из Уотергейта были всего лишь записями разговоров президента Никсона с его советниками, но они дали некоторое представление о том, как пользуются властью ее высшие эшелоны (Molotch and Boden 1985).Реакции-восклицания
Некоторые высказывания не представляют собой разговор, а состоят из невнятных восклицаний или того, что Гоффман назвал реакциями-восклицаниями (Goffman 1981). Представьте, что кто-то говорит «Ой!», опрокинув либо уронив какую-нибудь вещь. «Ой!» кажется всего лишь элементарной инстинктивной реакцией, отчасти похожей на моргание, когда чья-то рука стремительно приближается к вашему лицу. Однако это вовсе не вынужденный ответ, о чем свидетельствует тот факт, что человек обычно не восклицает так, будучи один. «Ой!», как правило, обращено к присутствующим. Восклицание показывает им, что оплошность совершена мгновенно, она незначительна и совсем не ставит под сомнение способность человека контролировать свои действия. Говорят «Ой!» лишь при мелких неудачах, а не тогда, когда происходят крупные катастрофы и большие несчастья, и это также указывает на то, что такое восклицание участвует в целенаправленном управлении частностями общественной жизни. Более того, им может воспользоваться тот, кто наблюдает за другим человеком, либо скрывает опасность, как, например, в том случае, если родитель, играючи, подбрасывает вверх ребенка. Сигнал «Оп, малыш!» скрывает от него тот краткий миг, во время которого ребенку может показаться, что контроль над ситуацией утрачен. Все это, возможно, выглядит натяжкой и преувеличением. Зачем утруждать себя подробным анализом нелогичных высказываний? Разве, как явствует из приведенного примера, мы придаем такое большое внимание сказанному? Разумеется, не придаем, действуя осознанно. Однако очень важно, что чрезвычайно сложный, непрерывный контроль за тем, как мы выглядим и что делаем, нам кажется само собой разумеющимся. Когда происходят взаимодействия, от нас никогда не требуется, чтобы мы лишь присутствовали на месте действия. Как и другие люди, мы фактически ожидаем, что взаимно проявим, по выражению Гоффмана, «регулируемую бдительность». Обязанность каждого человека заключается в том, чтобы все время наглядно показывать другим свое знание обычных практик повседневной жизни.Оговорки
«Ой!» — ответная реакция на маленькую неприятность. Еще мы делаем ошибки в речи и произношении во время бесед, лекций и в прочих речевых ситуациях. В исследовании о «психопатологии повседневной жизни» Зигмунд Фрейд проанализировал множество примеров оговорок (Freud 1975). По его мнению, ошибки, допущенные в разговоре, — непроизнесенные либо неправильно вставленные слова и невнятные фразы, на самом деле никогда не бывают случайными. В оговорках очень ненадолго проявляется то, что вольно или невольно нам хочется скрыть. В них мгновенно находят выражение наши подлинные чувства. Они подсознательно обусловлены теми чувствами, которые вытеснены из сознания, либо намеренно, но безуспешно подавлены нашими стараниями. Эти чувства часто, хотя и не всегда, вызывают сексуальные ассоциации. Так, кто-нибудь имеет в виду «организм», а вместо него произносит слово «оргазм». Фрейд приводит пример, когда женщину спросили: «В каком полку служит Ваш сын?», на что она ответила: «В сорок втором полку убийц» (по-немецки — Mörder, а не Mörser, т. е. минометчиков, как она хотела сказать). Нередко встречаются забавные оговорки, и они могут сойти за шутки. Элементарное различие между ними состоит в том, были ли намеренно произнесены прозвучавшие слова. Оговорки сливаются с другими формами «неподобающей» речи, которые, как полагал Фрейд, тоже мотивированы подсознательно: человек как будто бы не способен уяснить, что сказанное им или ей явно двусмысленно. Такие формы опять же можно принять за остроты, если они сказаны с умыслом, в противном случае это — ляпсусы, допущенные в процессе разговора, непрерывное управление которым ожидается от людей. Один из самых лучших способов пояснить на примерах отмеченные особенности — обратиться к ляпсусам радио- и теледикторов. Они говорят не от своего имени, а читают текст. Предполагается, что его произнесут почти без запинок и яснее, чем это бывает во время обычного доклада. Соответственно, накладки или грубые ошибки дикторов последних известий намного заметнее, чем при случайном разговоре. Вот два примера «чистейшей воды» оговорок, на которые обратил внимание Фрейд (Goffman 1981):Говорит Канадская Широкотельная Кастрация, вещающая по радиотрансляционной сети доминиона. Разбейте желток и влейте молоко, затем медленно смешивайте с просеянной мукой. Делая так, вы обнаружите, как смесь вызывает тошноту.Другие примеры относятся к разряду неподобающей речи, когда едва заметная двусмысленность вдруг становится явной:
Дамам, желающим проехать и выйти из своих платьев, немедленно окажут внимание. Награбленное добро и машину зарегистрировали в качестве украденного отделом полиции Лос-Анджелеса. И здесь, в Голливуде, ходят слухи, что бывшая восходящая кинозвезда находится в ожидании своего пятого ребенка за месяц.Мы обычно смеемся над оговорками дикторов (либо преподавателей) больше, чем если они допущены при обычном разговоре. Комичность проявляется не только в том, о чем сделана оговорка, но и в замешательстве диктора или преподавателя, в котором они могут оказаться из-за далекого от совершенства исполнения их обязанностей. Мы на миг лицезреем обычного человека без маски невозмутимого профессионала.
Другой подход к языку и общепринятым представлениям см. в разделе «Бернстейн: языковые коды» (глава 16).
Лицо, тело и речь при общении
Вам уже известно, что управление лицом, телом и речью используется одновременно для того, чтобы передать одни смыслы и скрыть другие. Каждый человек, обыкновенно не отдавая себе отчет, поддерживает строгий и непрерывный контроль за выражением лица, позами и телодвижениями во время повседневного взаимодействия с другими. Люди также организуют свою деятельность в контекстах общественной жизни, преследуя одинаковые цели, о чем и пойдет речь дальше.Случайные встречи
Есть немало ситуаций в общественной жизни, когда включаешься в нефокусированное взаимодействие, названное так Гоффманом. Нефокусированное взаимодействие происходит, если люди проявляют осведомленность о присутствии друг друга. Обычно так случается при большом скоплении народа на улице в часы пик, в кулуарах театра или на приеме. В присутствии других, даже ни с кем не разговаривая, они все время принимают участие в общении при помощи поз, мимики и телодвижений. Фокусированное взаимодействие имеет место, если люди открыто относятся со вниманием к тому, что говорят или делают другие. За исключением случая, когда кто-нибудь стоит в одиночестве, например, во время приема, все взаимодействия состоят как из фокусированного, так и нефокусированного обмена. Гоффман определяет случай фокусированного взаимодействия как встречу, и большая часть нашей повседневной жизни заполнена встречами с другими людьми — членами семьи, друзьями, коллегами, что зачастую происходит на фоне нефокусированного взаимодействия с присутствующими посторонними. Разговоры о пустяках, семинарские дискуссии, игры и рутинные контакты лицом к лицу (с продавцами билетов, официантами, продавцами магазинов и пр.) — все это примеры встреч. Встречу всегда нужно начать с «открытия», которое служит признаком того, что правило гражданского невнимания больше не действует. Когда посторонние встречаются и начинают разговор, например, на приеме, то с прекращением действия этого правила при всех обстоятельствах существует риск, поскольку легко может возникнуть непонимание характера состоявшейся встречи (Goffman 1971). Поэтому установление зрительного контакта сначала бывает двусмысленным и временным. Тогда человек может поступить так, будто он или она не делали явных поползновений, коль скоро инициативу не поддержали. При фокусированном взаимодействии мимикой и жестами наряду со сказанными друг другу словами в равной мере пользуется каждый. Гоффман делает различие между «деланными» и «спонтанными» выражениями. К числу первых относятся слова и жесты, посредством которых одни люди производят определенное впечатление на других. Ко вторым — намеки, заметные тем, кто может проверить их искренность или правдивость. Так, хозяин ресторана, с вежливой улыбкой выслушивая слова клиентов о том, как им понравились его блюда, одновременно отмечает, насколько они кажутся довольными самой едой, много ли от нее осталось нетронутым, и каким тоном они выражают свое удовлетворение.────────────────────────────┐ ■ Знаток улицы Вы когда-нибудь переходили на другую сторону улицы, почувствовав опасность от идущего вам вслед либо направляющегося к вам? Элайджа Андерсон — один из тех социологов, кто попытался понять такие элементарные взаимодействия! Андерсон приступил к описанию социального взаимодействия в двух кварталах, расположенных по соседству в одном американском городе. Его книга «Знаток улицы: раса, класс и разнообразие в городской общине» (Anderson 1990) содержала открытие — изучение повседневной жизни проливает свет на то, как социальный порядок создается из отдельных структурных элементов, образованных несметным числом взаимодействий на микроуровне. Андерсон установил, что те способы взаимодействия на улицах, к которым прибегают многие чернокожие и белые, имеют самое непосредственное отношение к структуре расовых стереотипов, а она, в свою очередь, связана с экономической структурой общества. Так он показал связь между взаимодействиями на микроуровне и общественными макроструктурами. Андерсон начал с напоминания о сделанном Ирвингом Гоффманом описании того, как в особых контекстах или местах возникают социальные правила и создаются статусы: «Когда человек попадается на глаза другим, последние сообща стараются добыть информацию о нем либо воспользоваться той, что уже есть в их распоряжении... Сведения о человеке позволяют определить ситуацию, давая им возможность знать заранее, что он будет ждать от них, а они — от него». Вслед за Гоффманом Андерсон задался вопросом о том, какие типы сигналов и знаков, подаваемых образом действий, составляют словарь взаимодействия на улице. Он пришел к выводу о том, что:
Цвет кожи, пол, возраст, товарищи, одежда, ювелирные украшения и вещи, имеющиеся у людей при себе, позволяют установить, кто они, настолько, чтобы строились предположения и открывалась возможность для общения. Движения (быстрые или замедленные, притворные или спонтанные, понятные или невразумительные) затем уточняют характер этого общения на улице. Такие факторы, как время дня либо действия,«объясняющие» присутствие человека, также могут повлиять на то, каким образом и насколько быстро утратит актуальность имидж «чужака». Если же посторонний не пройдет осмотр, и его сочтут «опасным», может возникнуть имидж хищника, а находящиеся поблизости пешеходы постараются сохранять дистанцию, соразмерную такому имиджу (Anderson 1990, 167).Андерсон установил, что вероятнее всего пройдут осмотр те, кто не соответствуют общепринятым стереотипам опасных людей: «дети сразу проходят его, а белые женщины и мужчины — медленнее, тогда как самому неспешному осмотру подвергаются чернокожие женщины, мужчины и подростки мужского пола». Показав причину напряженного характера взаимодействия в таких внешних признаках общественного положения, как раса, класс или пол, Андерсон объясняет, что нам недоступно полное понимание ситуации, пока рассматриваются локальные взаимодействия сами по себе. Так им устанавливается связь между локальными взаимодействиями и макропроцессами. Андерсон доказывает, что люди являются «знатоками улицы», если владеют таким навыком, как «умение сторониться», для того чтобы справиться с осознаваемой ими незащищенностью от насилия и преступности. По мнению Андерсона, те из белых, кто не относятся к знатокам улицы, не видят различия между чернокожими (например, между молодыми людьми из среднего класса и бандитами). Они также могут не знать, как изменить скорость шагов, чтобы оказаться позади «подозрительной» личности, либо как обойти «зловещие кварталы» в разное время суток. ────────────────────────────┘
Маркеры
В обычный день большинство из нас встречается и разговаривает с разными людьми. Например, Екатерина встает, завтракает с семьей и, вероятно, провожает своих детей в школу, ненадолго остановившись у школьных ворот, чтобы обменяться шутками с другом. Она едет на работу, может быть слушая радио. В течение дня она обменивается мнениями с коллегами и посетителями, то вступая в краткие беседы, то проводя встречи на формальном уровне. Любая из таких встреч, возможно, отличается по маркерам, или категориям, как у Гоффмана, благодаря чему устанавливается различие между одним эпизодом и другим, ему предшествующим в фокусированном взаимодействии, а также между ним и нефокусированным взаимодействием, происходящем на заднем плане (Goffman 1974). Во время приема, например, беседующие люди постараются выбрать себе место и тональность разговора таким образом, чтобы создать «укрытие» от остальных. Они могут стать лицом к лицу, затруднив тем самым вмешательство других, пока они не решат прекратить беседу либо не ослабят границы их фокусированного взаимодействия, разойдясь в разные стороны. В не столь официальной обстановке часто используют общепринятые средства для оповещения о начале и окончании встречи. Сигналом к началу спектакля служат меркнущий свет и подымающийся занавес. Когда же он заканчивается, свет снова зажигается, а занавес опускается. Маркеры очень важны либо при совершенно необычной встрече, либо когда вероятно двусмысленное истолкование происходящего. Если, к примеру, натурщицы позируют обнаженными перед классом живописи, то в его присутствии они, как правило, не снимают или не надевают одежду. Оба действия, совершаясь при закрытых дверях, позволяют внезапно обнажить и укрыть тело. Таким образом маркируется начало и конец эпизода, а также сообщается об отсутствии сексуального смысла, который бы мог возникнуть, поступи они иначе. На таких весьма ограниченных пространствах, как лифты, затруднена маркировка сферы фокусированного взаимодействия. К тому же, в отличие от других ситуаций, находящимся там людям нелегко дать понять, что они не вслушиваются в чужие разговоры. Кроме того, им трудно сделать так, чтобы осталось незамеченным, что они смотрят друг на друга пристальнее, чем это допускают нормы гражданского невнимания. Поэтому пассажиры лифтов нередко нарочито делают вид, будто «не слушают» и «не смотрят», уставившись в пространство либо на кнопочную панель, куда угодно, только — не друг на друга. Разговор обычно прекращается или ограничивается короткими репликами. Нечто похожее случается в офисе или дома, когда несколько человек беседуют, а одного из них отвлекает телефонный звонок, тогда остальные не в состоянии сразу продемонстрировать гражданское невнимание, и им приходится нерешительно, вяло продолжать начатый разговор.Управление производимым впечатлением
Гоффман и другие исследователи социального взаимодействия пользуются театральной терминологией для его анализа. Так, по своему происхождению понятие социальной роли сопряжено с театром. Роли представляют собой социально заданные ожидания, которым следует личность, имея определенный статус или общественное положение. Быть учителем — значит занимать особое положение: его роль заключается в точно установленных способах действия в отношении своих учеников. Гоффман рассматривает общественную жизнь, как если бы она разыгрывалась на сцене или на многих сценах, поскольку наши действия зависят от тех ролей, которые мы играем в определенное время. Иногда этот подход отождествляется с драматургической моделью — общественная жизнь уподобляется театральной драме. Люди тонко чувствуют, как выглядят со стороны, и используют множество уловок, проявляющихся в их управлении производимым впечатлением, для того чтобы вынудить других воспринимать их в желательном для себя свете. Хотя время от времени это делается нами с расчетом, контроль за производимым впечатлением обычно относится к тем вещам, которым мы не уделяем пристального внимания. Когда, например, молодой человек участвует в деловой встрече, он одет в костюм с галстуком и ведет себя наилучшим образом; в гот же вечер, отдыхая с друзьями во время футбольного матча, он уже в джинсах и спортивной майке и много острит. Это и есть управление производимым впечатлением. Социологи также предпочитают проводить различие между предписанным статусом и достигнутым статусом. Предписанный статус «предназначен» вам на основании таких критериев биологического свойства, как раса, пол или возраст. В соответствии с этим определением вашими предписанными статусами могли бы быть «белый», «женский» и «подростковый». Достигнутый статус человек заслуживает за счет собственных усилий. К числу ваших достигнутых статусов могли бы относиться «выпускник высшего учебного заведения», «атлет» или «наемный работник». Хотя нам может быть приятнее думать, что самыми важными являются наши достигнутые статусы, общество, возможно, с этим не согласится. В любом обществе есть несколько статусов, главенствующих над всеми другими и обычно определяющих общее социальное положение человека. Оно именуется социологами главным статусом (Hughes E. C. 1945; Becker 1963). К наиболее распространенным главным статусам относятся те, которые определяются полом и расой. Социологами было установлено, что пол и раса оказываются одними из первых признаков, замеченных людьми при встрече друг с другом (Omi and Winant 1994).Передний и задний план
Гоффман предложил многое из происходящего в общественной жизни подразделить на передние и задние планы. К передним планам относятся социальные обстоятельства или встречи, когда люди действуют в соответствии с их формальными ролями: они «играют на сценах». Исполнение ролей на переднем плане часто сопряжено с совместной деятельностью. Два известных политика, принадлежащие к одной партии, могут весьма искусно продемонстрировать их единство и дружбу перед телекамерами, даже если люто ненавидят друг друга. Муж и жена способны тщательно скрывать от детей свои раздоры, выставляя на передний план согласие, лишь для того чтобы злобно ссориться, как только дети заботливо уложены в постель. Задние планы имеют место там, где люди подбирают реквизит и готовятся взаимодействовать в официальной обстановке. Задние планы похожи на театральные кулисы или киносъемку при выключенной камере. Чувствуя себя безопасно в глубине сцены, люди могут расслабиться, дать выход своим чувствам и не держать под контролем манеры поведения, как это приходится делать, будучи на самой сцене. На заднем плане допустимы: «сквернословие, сделанные без обиняков замечания сексуального характера, деланное ворчание... простая неопрятная одежда, „небрежные“ позы сидя и стоя, использование диалекта либо ненормативной лексики, бормотание и крики, шаловливая агрессивность и „розыгрыши“, невнимание к другому человеку, выказанное по пустякам, все же не лишенным символического смысла, эгоцентризм, проявляющийся в своего рода мелочах, когда мямлят, свистят, жуют, рыгают и пукают» (Goffman 1969). Так, официантка, обслуживая завсегдатаев, может быть воплощенной любезностью, а как только за ней хлопнет кухонная дверь — становится крикливой и агрессивной. Мало кто из завсегдатаев ресторанов регулярно посещал бы их, знай они всё, что происходит на кухне.Личное пространство
Определение личного пространства зависит от культурных различий. Приверженцы западной культуры, вступая в фокусированное взаимодействие друг с другом, обычно сохраняют дистанцию как минимум в три фута; оказавшись рядом, они могут встать ближе. На Ближнем Востоке люди обычно стоят друг к другу ближе, чем положено на Западе. Путешествуя по этому региону, жители западных стран, вероятно, оказываются в замешательстве от такой неожиданной пространственной близости. Эдвард Т. Холл, очень много работавший над невербальным общением, выделяет четыре зоны в личном пространстве. Дистанция интимной близости до полутора футов предназначена для очень немногих социальных контактов. Лишь те, кто связан отношениями, допускающими регулярные телесные контакты, т. е. любовники либо родители и их дети, действуют в пределах этой зоны личного пространства. Личная дистанция (от полутора до четырех футов) образует пространство, где происходят встречи с друзьями и близкими знакомыми. Определенная интимность контакта здесь приемлема, но и она подчинена строгому ограничению. Социальную дистанцию от четырех до двенадцати футов, как правило, поддерживают в официальной обстановке, например, во время интервью. Четвертую зону создает публичная дистанция свыше двенадцати футов, которую держат выступающие перед аудиторией. При обычном взаимодействии наибольшую озабоченность вызывают зоны, определяемые дистанцией интимной близости и личной дистанцией. Если в них вторгаются, люди стараются их отстоять. Можно пристально взглянуть на назойливого человека, словно сказав: «Отойди!», либо оттолкнуть его локтем. Когда людям навязывают большую, чем им подходит, близость, допустимо установить своего рода ощутимую границу: читатель, сидящий за библиотечным столом стиснутым со всех сторон, ограждает личное пространство стопками книг (Hall Е. Т. 1959, 1966). Есть и проблема гендера, которая дает о себе знать во многом тем же образом, что и при других способах невербального общения. По традиции мужчины имели большую, чем женщины, свободу использования пространства, включая вторжение в личное пространство женщин, которые могли вовсе не быть им близки и даже хорошо знакомы. Мужчине, взявшему под руку идущую с ним вместе женщину, либо положившему ей руку на поясницу, пропуская ее в дверь, позволительно проявить жест дружеской заботы или вежливости. Однако поступи так противоположная сторона — вторгнись женщина в личное пространство мужчины, это необычное явление будет многими истолковано как флирт либо заигрывание сексуального толка. Новые законы и нормы относительно враждебных действий на почве секса во многих странах Запада направлены на защиту личного пространства людей обоего пола от нежелательных прикосновений либо контактов со стороны других лиц.────────────────────────────┐ ■ Конкретное социологическое исследование: принятие ролей при обследовании интимных частей тела Многие составляющие драматургического подхода Гоффмана — умение производить впечатление, маркеры, роли и встречи — обрели ясность благодаря исследованию, проведенному Джеймсом Хенслином и Мей Бриггс. Давайте подробнее рассмотрим, что дало изученное ими специфическое взаимодействие, требующее большого такта — посещение гинеколога (Henslin and Briggs 1971, 1997). В то время, когда проводилось исследование, в большинстве случаев осмотр органов, относящихся к тазу, проводили врачи-мужчины, и, соответственно, для обеих сторон он был (а иногда бывает и до сих пор) чреват двусмысленностями и замешательством. На Западе в результате социализации мужчины и женщины считают половые органы самыми «личными» частями тела, а их осмотр и, особенно, возбуждение у другого человека обычно ассоциируются с интимными половыми контактами. Хенслин вместе с медицинской сестрой Бриггс проанализировали собранный Бриггс материал в виде множества гинекологических обследований. Полученные данные они объяснили наличием нескольких типичных стадий. Пользуясь метафорой драматургии, они предположили, что обследование можно понять как ряд отдельных сцен, где роли актеров изменяются по ходу эпизода. В прологе женщина входит в приемную, готовясь принять роль пациентки, на время отказываясь от той идентичности, которой она обладает за дверью этой приемной. Когда ее вызывают в смотровой кабинет, она принимает роль «пациентки» и открывается первая сцена. Врач начинает вести себя деловито, в профессиональной манере и обходится с пациенткой как порядочный и компетентный человек, поддерживая визуальный контакт и вежливо выслушивая все, что ей нужно сказать. Если врач решает, что требуется осмотр, то он говорит об этом и выходит из комнаты; сцена закончена. Когда он уходит, появляется медсестра. В качестве важного помощника во вскоре начинающейся главной сцене она умеряет всевозможные тревоги пациентки, выступая как доверенное лицо, знающее «кое-что, с чем женщины должны смириться», и как соучастница последующих действий. Медсестра помогает пациентке «обезличиться» для участия в жизненно важной сцене, где в главной роли выступает тело, часть которого, а не всего человека, нужно тщательно осмотреть. Медсестра не только наблюдает за тем, как пациентка раздевается, но и берет на себя функции, в обычных условиях находящиеся под ее контролем: она берет и складывает одежду пациентки, подводит ее к смотровому столу и покрывает простыней большую часть ее тела до прихода врача. В главной сцене при участии как доктора, так и медсестры, присутствие последней служит гарантией того, что взаимодействие доктора с пациенткой не содержит скрытых намеков сексуального характера, а также дает ей формальное право выступить свидетельницей в случае обвинения врача в непрофессиональном поведении. Осмотр происходит так, как будто личности пациентки нет: закрывающая ее простыня отделяет ее половые органы от остального тела, а ее поза не дает ей возможности следить за обследованием. Если не считать задаваемых ей вопросов сугубо медицинского свойства, доктор игнорирует ее, сидя на низком стуле, вне поля ее зрения. Пациентка помогает ему, на время утратив личность, сама не вступая с ним в разговор и стараясь как можно меньше двигаться. Перед финальной сценой медсестра еще раз выступает в роли помощницы в том, чтобы пациентка снова стала полноценной личностью. Обе могут опять завязать разговор, вырази пациентка облегчение по поводу окончания осмотра. Одевшись и причесавшись, пациентка готова к последней сцене. Врач входит вновь и, обсуждая результаты обследования, вновь относится к пациентке как к полноценной и ответственной личности. Вежливо, с профессиональным тактом он дает понять ей, что его поведение ни в чем не изменилось в результате близкого контакта с ее телом. Эпилог сыгран, когда пациентка покидает врачебный кабинет, вернувшись к своей прежней идентичности во внешнем мире. Следовательно, сотрудничество между пациенткой и врачом произошло так, что взаимодействие подчинялось их контролю и управлялось ими с целью произвести нужное впечатление друг на друга. ────────────────────────────┘
Взаимодействие во времени и пространстве
Для изучения встреч, а также понимания общественной жизни в целом совершенно необходимо представление о том, как рассредоточена деятельность во времени и в пространстве. Любое взаимодействие ситуативно, т. е. происходит в определенном месте и длится конкретное время. В течение дня нашей деятельности свойственны подразделение на временные и пространственные «зоны». Так, например, большинство людей проводит время, скажем, между 9 и 17 часами в зоне их ежедневного труда. Их еженедельное время тоже разделено на зоны: вероятно, они работают по будням и проводят дома выходные дни в конце недели, изменив распорядок жизни на уик-энд. По мере того как мы переходим из одного пояса времени в другой, нередко происходит и наше перемещение в пространстве: для того чтобы попасть к месту работы, можно сесть на автобус либо приехать на электричке из пригорода. Поэтому при изучении контекстов социального взаимодействия часто бывает полезно присмотреться к перемещениям людей и отдать должное пространственно-временной конвергенции.────────────────────────────┐ ■ Социальное конструирование реальности В рамках социологии применяют множество теоретических схем объяснения социальной реальности. Несмотря на все различия между теориями, объяснение общественных явлений строится на общей для них посылке, согласно которой социальная реальность существует независимо от того, что люди говорят о ней, либо каким образом живут в ней. Эту посылку разделяют не все социологи. Сторонники теоретического подхода, названного социальным конструктивизмом, полагают, что реальность в восприятии и понимании отдельных людей и общества есть не что иное, как творение, созданное в процессе социального взаимодействия между индивидами и группами. Следовательно, стараться «объяснить» социальную реальность в этом случае было бы равносильно тому, чтобы не замечать и представлять как нечто материальное (рассматривать как данность) те процессы, благодаря которым она создается. Поэтому сторонники социального конструктивизма утверждают, что социологам необходимо фиксировать документально и анализировать эти процессы, не ограничиваясь лишь исследованием их следствия — общего представления о социальной реальности. В широко известной книге «Социальное конструирование реальности» (1966) Питер Бергер и Томас Лакмен исследуют знание, отвечающее здравому смыслу — те явления, реальность которых не требует доказательств. Они подчеркивают, что с точки зрения людей, принадлежащих к разным культурам, неодинаков набор «очевидных» фактов социальной реальности, и даже люди с одной и той же культурой могут расходиться во мнениях об этих фактах. Необходим анализ процессов, благодаря которым индивиды приходят к тому, чтобы постигнуть «действительно существующее» как реальное (Berger and Luckmann 1966). Сторонники социального конструктивизма пользуются идеями Бергера и Лакмена, для того чтобы, изучая социальные явления, пролить свет на те способы, посредством которых членам общества удается познать и вместе с тем создать реальность. Хотя они занимались такими разными темами, как медицина и медицинское лечение, гендерные отношения, эмоции, во многих работах их внимание фокусировалось на социальных проблемах, преступности и отклоняющемся поведении. Работа Аарона Сикурела служит примером использования социального конструктивизма для исследования преступности несовершеннолетних. Социологи в большинстве случаев принимают как факты (т. е. считают реальными) показатели преступности несовершеннолетних, а также аргументы по судебным делам и создают теории, объясняющие модели поведения, зафиксированного в таких данных. Так, данные об арестах и явках в суд показывают, что по сравнению со сверстниками из обычных семей подростки из семей с одним родителем более склонны совершать антиобщественные действия; эту взаимосвязь социологи пытаются истолковать следующим образом — может быть, слабее надзор за детьми в семьях с одним родителем, а возможно, им недостает образцов для адекватного выполнения роли. Сикурел поступил иначе, взяв под наблюдение процессы, связанные с арестом и классификацией подростков, подозреваемых в совершении антиобщественных поступков: он следил за тем, как получают «официальные» данные о преступности. Обнаружилось, что полицейские процедуры подхода к подросткам опираются на расхожие представления о том, какими «в действительности» бывают несовершеннолетние правонарушители. Когда, к примеру, задерживали подростков из семей низшего класса, полицейские считали более вероятной причиной их преступлений недостаточный надзор либо отсутствие образцов для подобающего выполнения роли и предпочитали их содержать под арестом. Между тем подростков из семей высшего класса скорее отпускали на попечение их родителей, поскольку полицейские и родители были убеждены, что их надлежащим образом накажут. Следовательно, полицейская практика с соблюдением всех принятых правил и норм содействует тому, чтобы ярлык «несовершеннолетнего преступника» навешивался подросткам из семей низшего класса чаще, чем их ровесникам из семей высшего класса, даже если молодые люди совершили одинаковые преступления. Следствием навешивания этого ярлыка являются именно те данные, которые, в свою очередь, подтверждают взаимосвязь, обоснованную соответствующими здравому смыслу представлениями о том, что среди подростков из бедных семей выше вероятность участия в правонарушениях. Исследование Сикурела показывает: соответствующие здравому смыслу взгляды на реальность посредством взаимного влияния получают независимое, «объективное» доказательство собственной правильности (Cicourel 1968). У социального конструктивизма есть свои критики. Стив Вулгар и Дороти Полак утверждают, что сторонники этого направления, поставив своей целью выявить субъективизм в конструировании социальной реальности, все же выборочно выделяют одни характеристики в качестве объективных, а другие — относят к сконструированным. Так, анализируя, каким подросткам навешивают ярлык преступников, они нередко приводят доказательства в пользу того, что материалы о ранее совершенных подростками проступках одинаковы; поэтому любое различие между подростками, которые заклеймены как преступники, и теми, кому удалось этого избежать, должны быть сопряжены с конструированием клейма «преступник». Критики утверждают, что сторонники социального конструктивизма проявляют непоследовательность, выдавая за объективные ранее совершенные подростками проступки и одновременно доказывая субъективность процесса их «клеймения» (Woolgar and Pawluch 1985). Другие социологи критиковали сторонников социального конструктивизма за нежелание признать сильное воздействие общественных факторов на обнаруживаемые социальные последствия. Так, некоторые критики приводили доводы о том, что реальность можно беспрестанно конструировать, опираясь на расхожие убеждения, а между тем сами они обусловлены существованием таких факторов, как капитализм либо патриархат. В конечном итоге социальным конструктивизмом выдвинут теоретический подход к пониманию социальной реальности, который коренным образом отличается от большинства других подходов, разработанных в социологии. Отказываясь исходить из предпосылки об объективности социальной реальности, сторонники социального конструктивизма занимаются документацией и анализом процессов, благодаря которым социальная реальность конструируется, так что в итоге само ее признание со стороны общества в качестве действительно существующей подтверждается данной конструкцией. ────────────────────────────┘
Понятие регионализации поможет понять, как общественная жизнь рассредоточивается во времени и пространстве. Возьмите для примера частный дом. Пространство современного дома разделено на комнаты и коридоры, а также этажи, если их больше одного. Эти пространства не только представляют собой отдельные помещения, но и разделены на зоны в соответствии с временем. Жилыми комнатами и кухней в основном пользуются днем, а спальнями — ночью. Взаимодействие, происходящее в этих помещениях, ограничено отрезками времени и пространства. Некоторые помещения дома образуют задний план, а в других — происходят «спектакли». Время от времени весь дом может превращаться в задник. В очередной раз эта мысль прекрасно выражена Гоффманом:
Воскресным утром вся семья, бывает, пользуется оградой вокруг дома, чтобы скрыть расслабляющую неряшливость в одежде и нежелание держаться в рамках приличия, распространяющуюся по всем комнатам атмосферу непринужденности, проявления которой обычно ограничены пределами кухни и спален. В кварталах американского среднего класса в полдень происходит то же самое, когда матерям можно линией, отделяющей площадку для детских игр от семейной жизни, очертить пространство за кулисами, вдоль которого они расхаживают в джинсах, тапочках и с минимумом косметики... И, конечно, помещение, предназначенное служить исключительно передним планом для обычного исполнения определенного номера, часто функционирует в качестве заднего плана до и после каждого выступления, поскольку в эти периоды можно подправить, обновить и переставить декорации либо провести генеральную репетицию. Для того чтобы выяснить это, нам нужно лишь заглянуть в ресторан, магазин, в дом за несколько минут до того, как они откроются перед нами (Goffman 1969).
Время, определяемое по часам
В современном обществе на разделение деятельности по зонам оказывает сильное влияние часовое время, т. е. время, определяемое по часам. Без них и точного определения времени деятельности, а тем самым и ее координации в пространстве, индустриальное общество не могло бы существовать (Mumford 1973). Определение времени по часам теперь стало нормой на всей планете, сделав возможным образование сложных международных систем транспорта и коммуникаций, от которых мы все теперь зависим. Всемирное декретное время было впервые введено в 1884 г. на международной конференции в Вашингтоне. Тогда весь земной шар был поделен на 24 пояса и соседние пояса различаются на один час. Многие годы они были связаны с местным временем на нулевой долготе, названной Гринвичским меридианом, так как он проходит через старинную королевскую обсерваторию, расположенную в Гринвиче (Лондон). В 1986 г. понятие среднего времени по Гринвичу заменило другое — всеобщее координированное время. Монастырям XIV в. ввиду их устройства пришлось первыми начать составлять точный график деятельности их обитателей на сутки и на неделю. Теперь фактически нет ни одной группы или организации, которая не делала бы то же самое: чем больше людей и ресурсов вовлечено в их деятельность, тем точнее должно быть расписание. Эвиатар Зерубавель доказал это, исследовав временную структуру большой современной больницы (Zerubavel 1979, 1982). Ей нужно функционировать в течение суток, а координация персонала и ресурсов является очень сложным делом. Так, сестры работают одно время в палате А, потом — некоторое время в палате В и т. д., к тому же они вынуждены работать посменно днем и ночью. Деятельность медицинских сестер, врачей и остального персонала вкупе с необходимыми им ресурсами должна составлять единое целое как во времени, так и в пространстве.Общественная жизнь и порядок в пространстве и во времени
Интернет служит еще одним примером того, сколь тесна связь между новыми формами общественной жизни и контролем за пространством и временем. Новые виды техники, такие как Интернет, сделали возможным, чтобы мы взаимодействовали с людьми в любом уголке планеты, ни разу их не видя или не встречаясь с ними. Такой технический переворот «реорганизовал» пространство: нам доступно взаимодействие с кем угодно, не вставая с кресла. Он также изменил наше восприятие времени, поскольку общение происходит почти незамедлительно. Примерно пятьдесят лет назад большая часть общения в пространстве требовала длительного времени. Если отправляли письмо за границу, возникал временной интервал, пока письмо доставляли морским и наземным путем человеку, которому оно было адресовано. Разумеется, письма пишут и сегодня, но мгновенная связь стала основной. Без нее наша жизнь едва ли вообразима. У нас настолько вошло в привычку, что можно переключить телевизор и посмотреть новости либо позвонить по телефону и отправить электронное письмо другу, живущему в другой стране, что трудно представить себе, как иначе бы выглядела жизнь.Заключение: непреодолимое стремление к близости
В современном обществе, резко отличающемся от традиционного, мы постоянно находимся во взаимодействии с людьми, которых можно ни разу не видеть или не встретить. Почти каждый день любое дело, как, например, покупка бакалейных товаров или операция по банковскому вкладу, вовлекает нас в не прямой, а косвенный контакт с людьми, живущими, по всей вероятности, за тысячи миль от нас. Так, существует международная сеть банков. Любая сумма денег, вложенная вами, составляет малую часть инвестиций, которые банк делает по всему миру. Некоторые обеспокоены тем, что быстрое развитие средств связи — электронной почты, Интернета и торговли по его сети, лишь усилит тенденцию к взаимодействию косвенным путем. Кое-кто заявляет: наше общество становится «безмолвным» по мере того, как непрерывно растут потенциальные возможности технологии. В такой перспективе люди все больше обрекают себя на изоляцию, поскольку ускоряется темп жизни; с телевизором и компьютером мы сейчас больше имеем дело, чем с нашими соседями или членами общины. Раз электронная почта, сообщения по ICQ, дискуссионные группы и чаты в Интернете стали повседневной реальностью для многих людей, населяющих индустриальные страны, то что собой представляют эти взаимодействия и какие новые сложности возникают в связи с ними? По данным проведенного в 1997 г. исследования британских служащих, почти половина респондентов ответила, что Интернет компенсировал потребность в общении лицом к лицу. Треть из них призналась в умышленном использовании Интернета для того, чтобы не было необходимости встречаться с коллегами лицом к лицу. Другие респонденты сообщили, что использование на рабочем месте «горячей» почты — обмена электронными посланиями, оскорбительными по содержанию или вызывающими обиду, привело к полному прекращению части служебных отношений. Похоже, открытый интерактивной связью простор для неправильного понимания, путаницы и оскорбления шире, чем у пользователей более привычными средствами связи:Проблема заключается в характере человеческого общения. Оно представляется нам порождением разума, однако тела выполняют его функцию: меняется выражение лиц, голоса модулируют, тела раскачиваются, руки жестикулируют... В Интернете разум присутствует, а тело отсутствует. При общении его пользователи получают мало информации о личности и настроении собеседника, могут лишь гадать, зачем посланы сообщения, что они означают, как нужно ответить. Доверие улетучивается. В общем, это рискованное дело (Locke 2000).Многие энтузиасты Интернета с таким мнением не соглашаются. Они приводят доводы в пользу того, что интерактивная связь, вовсе не будучи безличной, имеет много преимуществ, на которые не дано претендовать таким привычным средствам связи, как телефон либо встречи лицом к лицу. Например, человеческий голос лучше всего выражает эмоции и тонкости смысла, но и дает ту информацию о возрасте, поле, национальности и социальном положении говорящего, которую можно использовать против него. Электронная связь, как отмечается, скрывает все маркеры личностной идентификации и служит тому, что внимание строго фиксируется на содержании сообщения. Это бывает очень полезно женщинам и другим, обыкновенно находящимся в неблагоприятном положении группам, чьи взгляды в иной обстановке временами недооценивают (Pascoe 2000). Электронный способ взаимодействия часто представляют как средство связи, предоставляющее свободу и полномочия, поскольку с его помощью люди сами создают личностную идентичность и говорят откровеннее, чем где-либо еще. Кто прав в этом споре? Насколько электронная связь способна заменить взаимодействие лицом к лицу? Мало сомнений относительно того, что новые средства связи коренным образом меняют способ общения между людьми, между тем, даже когда целесообразнее взаимодействовать косвенным путем, люди все же ценят прямой контакт, и теперь, вероятно, — куда больше, нежели раньше. Так, деловые люди продолжают посещать заседания, иногда ради них облетая полмира, хотя, кажется, было бы проще и выгоднее вести деловые переговоры посредством видеоконференции или канала связи. Семьи могли бы устраивать «виртуальный» сбор своих членов либо встречи по праздникам, пользуясь электронными средствами в «реальном времени», но все понимают, что лишились бы теплоты и близости общения лицом к лицу по случаю торжества. Этому явлению нашли объяснение Дейрдре Боден и Харви Молоч, исследовавшие феномен, названный ими потребностью в близости — испытываемую людьми потребность в соприсутствии при встречах друг с другом или во взаимодействии лицом к лицу. По предположению Бодена и Молоча, люди выбиваются из колеи ради того, чтобы участвовать во встречах, поскольку вследствие соображений, документально зафиксированных Гоффманом при исследовании взаимодействия, ситуации соприсутствия в сравнении с любым способом электронной связи дают им намного большую информацию о том, что думают и чувствуют другие, искренни ли они. Лишь реально находясь в присутствии людей, решения которых серьезным образом на нас влияют, мы считаем себя способными понять происходящее и бываем уверены, что можем четко изложить им собственные взгляды и убедить их в своей искренности. По словам Бодена и Молоча, «от соприсутствия зависит доступность той части тела, которая „никогда не лжет“, — глаза есть „зеркало души“. Зрительный контакт сам сигнализирует о степени близости и доверия; общаясь непосредственно, люди следят за малейшими изменениями этого самого чувствительного органа» (Boden and Molotch 1994).
Краткое содержание
1. Социальное взаимодействие представляет собой процесс, посредством которого мы воздействуем на окружающих и вызываем ответную реакцию с их стороны. Многое из того, что выглядит незначительным в повседневном поведении, при ближайшем рассмотрении оказывается и сложным, и важным аспектом социального взаимодействия. Примером служит пристальный взгляд, обращенный на других людей. Уставиться на кого-то значит дать повод принять это как знак враждебности или — в некоторых ситуациях — и любви. Исследование социального взаимодействия — совершенно необходимая область социологии, занимающаяся объяснением многих аспектов общественной жизни. 2. Изучение взаимодействия лицом к лицу, как правило, именуют микросоциологией, противопоставляя ее макросоциологии, предмет исследования которой охватывает большие группы, институты и социальные системы. Когда проводится конкретный анализ, то фактически его микро- и макроуровни бывают тесно связанными и взаимодополняющими. 3. С помощью понятия невербального общения описывают обмен информацией и передачу смысла мимикой, жестами и телодвижениями. Лицу человек придает самое разное выражение, о чем сообщает другим. Широко распространено убеждение в том, что мимике в основном свойственны врожденные особенности. Сравнительные культурологические исследования выявляют у носителей разных культур очень большое сходство в мимике и интерпретации эмоций, запечатленных на лице. Еще «лицо» понимают в более широком смысле, подразумевающем уважение, проявляемое к человеку со стороны других людей. Обычно при общении с ними мы заботимся о том, чтобы «сохранить лицо», т. е. не потерять самоуважение. 4. Невербальное общение имеет гендерный аспект. При повседневном взаимодействии некоторые жесты и мимика — зрительный контакт и пристальный взгляд — устанавливаются и воспринимаются по-разному женщинами и мужчинами. 5. Исследование обычной беседы и разговора стали обозначать термином этнометодологии, придуманным Гарольдом Гарфинкелем. Этнометодология занята анализом тех способов, которые мы, хотя обычно и принимаем на веру, но зато практично используем для того, чтобы понять, что подразумевается сказанным и сделанным другими. Повседневные разговоры в своей массе очень сложны и ведутся с расчетом на общие для их участников представления. Когда неартикулированные правила беседы намеренно либо случайно нарушены, люди зачастую огорчаются и испытывают неуверенность. 6. Многое можно узнать о характере беседы из «реакций-восклицаний» и оговорок (неправильно произнесенных или употребленных слов и фраз). Оговорки часто бывают комичными и психологически действительно тесно связаны с остротами и шутками. 7. Нефокусированное взаимодействие предполагает осведомленность людей о присутствии друг друга при большом скоплении народа и отсутствии прямого словесного контакта между ними. Фокусированное взаимодействие, которое поддается делению на отдельные встречи или эпизоды, имеет место, когда двое или больше людей уделяют внимание сказанному и сделанному другим человеком или другими людьми. 8. Зачастую социальное взаимодействие можно изучать путем истолкования, применив драматургическую модель, т. е. изучать социальное взаимодействие, как если бы его участники были актерами, выступающими на сцене в каком-либо составе и с использованием реквизита. В разных контекстах общественной жизни, как в театре, есть стремление устанавливать четкие границы между передним планом (самой сценой) и задним планом, где актеры готовятся к спектаклю и затем отдыхают. 9. С помощью понятия личного пространства описывают расстояние, сохраняющееся между участниками социального взаимодействия. Представления о личном пространстве неодинаковы в разных культурах. 10. Любое социальное взаимодействие происходит во времени и в пространстве. Можно исследовать рассредоточение повседневной жизни по пространственно-временным «зонам», рассматривая, как та или иная деятельность осуществляется в определенное время и в то же самое время предполагает перемещение в пространстве. 11. Современное общество главным образом отличает общение в косвенных, безличных формах, которым не достает соприсутствия. Этот недостаток влечет за собой то, что было названо непреодолимым стремлением к близости, — стремление к личной встрече всякий раз, когда она возможна. В сравнении с косвенными формами общения ситуации соприсутствия дают намного более содержательную информацию о том, что думают и чувствуют люди, насколько они искренни.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Стала ли бы возможной общественная жизнь, не будь фоновых допущений, принятых всеми членами общества? 2. Насколько суждения туриста о маленьком или большом городе, где вы живете, могли бы отличаться от ваших личных? 3. В какой мере студенческая аудитория проявила бы терпимость к манере «вандализма взаимодействия»? 4. Как вы «выражаете свое доверие»? 5. Какими уловками пользуются женщины в баре или кафе, желая дать понять, чтобы их оставили в покое? 6. Способна ли электронная связь заменить общение лицом к лицу?Дополнительная литература
Berger Peter and Luckmann Thomas. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966. Cohen Stanley and Taylor Laurie. Escape Attempts: The Theory and Practice of Resistance to Everyday Life. 2nd edn. London: Routledge, 1995. Goffman Erving. Behaviour in Public Places. N.Y.: Free Press, 1963. Goffman Erving. The Presentation of the Self in Everyday Life. Harmondsworth: Penguin, 1969. Manning Phil. Erving Goffman and Modern Sociology. Cambridge: Polity, 1992.Интернет-линки
Ethno/CA News (онлайновый ресурс по этнометодологии и разговорному анализу) http://www.pscw.uva.nl/emca/bib90's.htm Общество исследователей символического интеракционизма http://sun.soci.niu.edu/~sssiГЛАВА 5 ГЕНДЕР И СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Что значит быть мужчиной? Что значит быть женщиной? Можно подумать, что быть мужчиной или женщиной связано в конечном счете с полом того физического тела, с которым мы родились. Однако, как и во многих других вопросах, представляющих интерес для социологии, природа мужского или женского начал не так легко поддается классификации. Например, некоторые уверены, что они родились в неправильных телах, и добиваются того, чтобы «поставить все на свое место», сменив свой пол хотя бы на часть жизни. История Джанин Ньюхэм и Дэвида Уиллиса похожа на истории многих транссексуалов, которые подверглись операции по изменению пола, чтобы стать теми людьми, которыми они себя ощущают. От всех других эту историю отличает то, что речь идет о первой женатой паре транссексуалов в Великобритании. Джанин родилась мальчиком, но с ранних лет испытывала смущавшее ее желание быть девочкой. С годами она чувствовала все большее отчуждение от своего тела. Она женилась и стала отцом двух детей, но ощущение того, что она заперта в чужом теле, не проходило. Дэвид родился девочкой, но все детство испытывал чувство, что в глубине души он мужчина. Как он сейчас вспоминает, потеря ориентации была столь сильной, что иногда ему хотелось избавиться от тела вообще. В конце концов, для того, чтобы исправить то, что Джанин назвала «страшной ошибкой природы», и Джанин и Дэвид добились операции по перемене пола, которая представляет собой длительный процесс, включающий лечение гормонами и хирургическое вмешательство (Neustatter 1999). Джанин и Дэвид встретились в организации, которая борется за права транссексуалов. Через какое-то время между ними возникли серьезные отношения. Однако, решив узаконить свой союз и пожениться, они обнаружили, что побританским законам не могут назвать себя мужем и женой, так как переменили пол. С точки зрения закона о браке пол, указанный в их свидетельствах о рождении, рассматривался как официальный. Джанин и Дэвид смогли пожениться в Дании, где измененный пол не является препятствием для традиционной свадебной церемонии. Хотя в случае изменения пола британское законодательство разрешает исправить почти все документы и удостоверения личности, оно не допускает внесения изменений в тот единственный документ, который является главным для полного законного признания изменившегося статуса индивида, — в свидетельство о рождении. Многие транссексуалы рассматривают это как нарушение основных прав человека. Для большинства из нас стало немалым потрясением, что личность, которая была «он», может стать «она», поскольку различия полов имеют в нашей жизни очень большое значение. Обычно мы даже не замечаем этого — именно потому, что эти различия столь глубокие и всепроникающие. Они укоренились в нас с самого рождения. Наши представления об отличительных чертах полов, а также о сексуальных отношениях и связанных с ними отклонениях формируются столь рано, что, становясь взрослыми, мы воспринимаем их как данное. Но гендер не просто существует; как говорят некоторые социологи, мы все «создаем гендер» в наших ежедневных социальных взаимодействиях с другими. После изменения статуса транссексуалы вроде Джанин и Дэвида должны учиться тому, как создавать гендер в повседневной жизни. От тембра голоса до жестов, движений и манеры поведения все стороны нашего существования гендерно окрашены. Мы социально воспроизводим — создаем и переделываем — гендер в тысячах мелких действий в течение дня. История Джанин и Дэвида затрагивает проблему, часто обсуждающуюся в социологии гендера и сексуальности. В вопросе о степени, до которой врожденные биологические характеристики оказывают устойчивое влияние на наши гендерные особенности и сексуальное поведение, мнения ученых разделились. В этой главе мы рассмотрим природу сексуального поведения человека, а также проанализируем сложный характер сексуальности — характерных черт сексуального поведения человека — и сексуальных различий. В современных обществах сексуальная жизнь, как и многое другое, претерпевает важные изменения, влияющие на эмоциональную жизнь большинства из нас. Мы разберемся в том, что представляют собой эти изменения, и попробуем в конце главы объяснить их более широкое значение. Однако начнем мы с рассмотрения некоторых методов, с помощью которых ученые пытались объяснить различия между мужчинами и женщинами. Поскольку половые различия тесно связаны с вопросами неравенства и власти в обществах, они представляют большой интерес для социологов. Резкие изменения, начало которым положило женское движение в 1970-х гг., стимулировали новые попытки понять, каким образом в наших обществах возникают, поддерживаются и трансформируются гендерные характеристики и различия. Изучение пола и сексуальности — одно из самых бурно развивающихся и наиболее интересных направлений в современной социологии.Гендерные различия
Сначала попытаемся понять происхождение различий между мужчинами и женщинами. Для того, чтобы объяснить формирование гендерных различий и основанных на этих различиях социальных ролей, были предложены совершенно противоположные подходы. По существу, спор идет о том, какую роль в этом играет обучение, — при анализе гендерных различий одни ученые больше, чем другие, выделяют влияние общества. Прежде чем дать обзор конкурирующих подходов, необходимо определить важное различие между полом и гендером. Вообще говоря, социологи используют термин пол для обозначения анатомических и физиологических различий, определяющих тела мужчин и женщин. Напротив, гендер характеризует психологические, социальные и культурные различия между мужчинами и женщинами. Гендер связан с социологическими понятиями мужественности и женственности и не обязательно является непосредственным продуктом биологического пола индивида. Различие между полом и гендером является фундаментальным, поскольку многие различия между мужчинами и женщинами не являются биологическими по своей природе. Социологические интерпретации гендерных различий и неравенств резко расходятся именно в вопросе о поле и гендере. Ниже будут рассмотрены три широких подхода. Во-первых, мы изложим доводы в пользу биологической основы различий в поведении мужчин и женщин. Затем обратимся к теориям, в которых центральную роль играет социализация и обучение гендерным ролям. Наконец, мы рассмотрим идеи тех ученых, которые считают, что и гендер, и пол не имеют биологической основы, а являются полностью социально выстроенными понятиями.Гендер и биология: естественное различие
В какой степени различия в поведении женщин и мужчин определяются полом, а в какой — гендером? Иными словами, насколько они являются результатом биологических различий? Ряд авторов считает, что за врожденные различия в поведении мужчин и женщин ответственны определенные стороны человеческой биологии — от гормонов до хромосом, генетики и размеров мозга. Эти различия, утверждают ученые, можно в той или иной форме наблюдать во всех культурах, откуда следует, что за характерные для большинства обществ гендерные различия ответственны естественные факторы. Например, исследователи обращают внимание на тот факт, что почти во всех культурах мужчины чаще женщин занимаются охотой и войной. Не указывает ли это на то, говорят такие ученые, что мужчины обладают имеющей биологические корни склонностью к агрессии, которая отсутствует у женщин? Многих исследователей такая аргументация не убеждает. Они указывают, что уровень агрессивности мужчин меняется в широких пределах от одной культуры к другой, точно так же как в одних культурах женщины более пассивны или нежны, чем в других (Elshtain 1987). Критики отмечают, что теории «естественного различия» часто основаны на данных о поведении животных, а не на антропологических или исторических свидетельствах человеческого поведения, которое подвержено изменениям во времени и в пространстве. Кроме того, добавляют они, поскольку речь идет о более или менее универсальной черте, ниоткуда не следует, что она биологическая по происхождению. Вполне могут существовать общие культурные факторы, порождающие такие характеристики. Например, в большинстве культур женщины, как правило, проводят значительную часть своего времени, ухаживая за детьми, и поэтому не могут принимать участие в охоте или войнах. Хотя гипотеза о том, что биологические факторы определяют характерные черты поведения мужчин и женщин, не может быть полностью отвергнута, длящиеся почти столетие попытки идентифицировать физиологические причины такого влияния оказались безуспешными. Не существует свидетельств наличия механизмов, связывающих подобные биологические силы со сложным социальным поведением мужчин и женщин (Connell 1987). Теории, приверженцы которых считают, что при формировании человеческого поведения индивид подчиняется определенному врожденному предрасположению, пренебрегают жизненно важной ролью социального взаимодействия.Гендерная социализация
Другой путь к пониманию происхождения гендерных различий — изучение гендерной социализации, т. е. обучения гендерным ролям с помощью социальных факторов вроде семьи и средств массовой информации. В таком подходе проводится различие между биологическим полом и социальным гендером — младенец рождается, обладая первым, и развивает второй. Благодаря соприкосновению с различными факторами социализации, как первичными, так и вторичными, дети постепенно усваивают социальные нормы и ожидания, которые считаются соответствующими их полу. Гендерные различия биологически не детерминированы, они создаются культурой. Согласно такой точке зрения, гендерное неравенство возникает из-за того, что мужчины и женщины подготавливаются к разным ролям в обществе. Теории гендерной социализации поддерживаются функционалистами, которые рассматривают развитие мальчиков и девочек как изучение «половых ролей», а мужские и женские отличительные черты — мужественность и женственность — как сопутствующие этим ролям (см. подраздел «Функционалистские подходы» в разделе «Перспективы гендерного неравенства» этой главы). Этот процесс направляется положительными и отрицательными санкциями — социально направленными силами, которые одобряют или наказывают за определенное поведение. Например, поведение маленького мальчика можно поощрить («Какой ты храбрый мальчик!») или осудить («Мальчики не играют в куклы!»). Эти позитивные или негативные закрепления побуждают мальчиков и девочек к изучению и согласованию своего поведения в соответствии с ожидаемыми половыми ролями. Если индивид развивает гендерные привычки, не соответствующие его (или ее) биологическому полу, т. е. если эти привычки девиантны, объяснение следует искать в неадекватной или нерегулярной социализации. Согласно такой функционалистской точке зрения, социализирующие факторы вносят главный вклад в поддержание социального порядка, осуществляя контроль за мягкой гендерной социализацией новых поколений. Такая жесткая интерпретация половых ролей и социализации подвергалась критике по многим направлениям. Многие ученые доказывали, что гендерная социализация не является с рождения предопределенным гладким процессом; различные факторы, например семья, школа и группы сверстников, могут противоречить друг другу. Кроме того, теории социализации игнорируют способность индивида отвергнуть или изменить социальные ожидания, связанные с половыми ролями. Коннелл утверждал:«Факторы социализации» не могут механически влиять на растущую личность. Эти факторы приглашают ребенка принять участие в социальной практике на заданных условиях. Приглашение может быть, и часто бывает, принудительным, сопровождающимся сильным давлением, заставляющим принять условия без какой-либо альтернативы... Однако дети отвергают предложение или, точнее, пытаются делать собственные ходы на поле действий гендера. Они могут отказаться от гетеросексуальности... могут начать смешивать в поведении элементы мужественности и женственности, например, девочки-школьницы могут настаивать на соперничестве в спорте. Они могут внести раскол в собственные жизни, например, мальчики наедине с собой начинают одеваться в женские платья. Они начинают строить фантастическую жизнь, противоречащую их реальной практике, и это, вероятно, является самым распространенным поступком из всех (Connell 1987).Важно помнить, что люди — не пассивные объекты или безмолвные приемники гендерного «программирования», как считают некоторые социологи. Люди — активные действующие силы, создающие и подлаживающие роли для себя. Как бы скептически мы ни относились к любому безудержному признанию подхода, основанного на половых ролях, многие исследования показали, что гендерные особенности в определенной степени являются результатом социальных влияний. Общество оказывает влияние на гендерные особенности через множество каналов; даже родители, пытающиеся воспитывать своих детей в «несексистском» духе, находят, что очень трудно бороться с существующими методами гендерного обучения (Statham 1986). Например, изучение взаимодействий родителей с ребенком показало существенные различия в воспитании мальчиков и девочек, даже когда сами родители считают, что их отношение к тем и другим одинаковое. Все используемые маленькими детьми игрушки, книжки с картинками и телевизионные программы стремятся подчеркнуть различия мужских и женских признаков. Хотя ситуация несколько меняется, в целом мужские характеры численно превосходят женские в большинстве детских книг, сказок, программ ТВ и фильмах. Герои-мужчины играют в основном более активные, опасные, полные приключений роли, в то время как женщины изображаются пассивными, выжидающими, привязанными к дому (Weitzman et al. 1972; Zammuner 1987; Davies 1991). Исследователи-феминисты показали, каким образом культурные и медийные продукты, обращенные к молодой аудитории, включают традиционное отношение к гендеру и тем типам целей и амбиций, которые ожидаются от мальчиков и девочек. Ясно, что гендерная социализация очень мощна и отказ от нее может быть разрушительным. Как только гендер «присвоен», общество ожидает, что индивиды будут действовать как «женщины» и «мужчины». Эти ожидания реализуются и воспроизводятся в практике повседневной жизни (Lorber 1994; Bourdieu 1990).
Социальная конструкция гендера и пола
В последние годы все большее число социологов подвергает критике теорию социализации и гендерных ролей. Вместо того чтобы рассматривать пол как биологически детерминированную данность, а гендер — как результат культурного совершенствования, эти ученые полагают, что мы должны рассматривать и пол, и гендер как социально созданные продукты. Не только гендер есть чисто социальная конструкция, в которой отсутствует фиксированная «сущность», но и само человеческое тело подвержено действию социальных сил, которые разными способами формируют и изменяют его. Мы можем придать нашим телам такой облик, который бросает вызов всему, что обычно рассматривается как «естественное». Люди могут строить и перестраивать свои тела как хотят — начиная от культуризма, диеты, пирсинга и индивидуальных манер до пластической хирургии и операций по изменению пола. Технологии размывают границы наших физических тел. Поэтому, говорят ученые, человеческое тело и биология не являются «данностями», а подвержены влиянию человеческого фактора и персонального выбора в рамках разных социальных контекстов. Согласно такой перспективе, те ученые, которые концентрируют внимание на гендерных ролях и ролевому обучению, неявно соглашаются, что биологическая основа гендерных различий существует. В подходе, основанном на социализации, биологические различия между полами представляют каркас, который затем «культурно обрабатывается» самим обществом. В противоположность этому подходу, теоретики, которые верят в социальную конструкцию пола и гендера, отрицают всякую биологическую основу гендерных различий. Как утверждают эти ученые, гендерные особенности возникают в связи с осознанными половыми различиями в обществе и, в свою очередь, помогают формировать эти различия. Например, общество, в котором идеи мужественности характеризуются физической силой и «крутыми» манерами, будет поощрять мужчин культивировать специфический вид тела и особый набор манер. Другими словами, гендерные особенности и половые различия в телах отдельных людей неразрывно связаны (Connell 1987; Butler J. 1999; Scott and Morgan 1993).────────────────────────────┐ ■ Гендерная идентичность. Две теории Две ведущие теории, объясняющие формирование гендерной идентичности, рассматривают эмоциональную динамику отношений между детьми и их воспитателями. Согласно таким взглядам, гендерные различия не есть результат биологической предопределенности, а формируются «бессознательно» в течение самых первых лет жизни.
Теория полового развития по Фрейду
Вероятно, оказавшая самое сильное влияние и в то же время самая противоречивая теория развития половой индивидуальности принадлежит Зигмунду Фрейду. Согласно Фрейду, изучение половых различий детьми в младенческом и раннем детском возрасте основывается на наличии или отсутствии пениса. Сказать «у меня есть пенис» — то же самое, что сказать «я мальчик»; утверждение «я девочка» равносильно «у меня нет пениса». Фрейд подчеркивает, что в данном случае это не просто анатомические различия; наличие или отсутствие пениса символизирует мужественность или женственность. В возрасте от четырех до пяти лет, утверждает эта теория, мальчик якобы испытывает чувство угрозы со стороны отца, требующего послушания и дисциплины. Поэтому ребенку кажется, что отец намерен лишить его пениса. Отчасти сознательно, но главным образом на подсознательном уровне, мальчик начинает рассматривать своего отца как соперника в борьбе за расположение матери. Подавляя эротические чувства к своей матери и считая своего отца существом высшего порядка, мальчик идентифицирует себя с отцом и узнает, что принадлежит к мужскому полу. Мальчик отказывается от любви к своей матери из-за бессознательного страха быть подвергнутым кастрации собственным отцом. Девочки, с другой стороны, предположительно испытывают «зависть к пенису», поскольку сами не обладают таким заметным органом, который отличает мальчиков. Мать теряет авторитет в глазах девочки, так как у нее нет пениса, равно как и шансов на его появление. Когда девочка идентифицирует себя со своей матерью, она перенимает у нее подчиненную жизненную позицию, связанную с признанием себя «существом второго порядка». Когда эта фаза кончается, ребенок уже умеет подавлять свои эротические чувства. Согласно Фрейду, в возрасте примерно с пяти лет и до наступления половой зрелости ребенок проходит период латентного (скрытого) развития полового инстинкта, во время которого сексуальная активность подавляется, пока вследствие биологических изменений, происходящих в организме подростка, эротические желания не начинают проявляться непосредственно. Именно в латентный период, охватывающий начальные и средние годы обучения в школе, однополый круг общения является наиболее важным в жизни ребенка. Против теории Фрейда выдвигались многочисленные возражения, в основном феминистками, но и многими другими авторами (Mitchell 1973; Coward 1984). Во-первых, Фрейд, по-видимому, ставит гендер в слишком тесную зависимость от осведомленности о строении половых органов, хотя наверняка играют роль и другие, более тонкие факторы. Во-вторых, его теория, очевидно, исходит из предположения, что пенис чем-то превосходит влагалище, которое представляет собой лишь отсутствие мужского полового органа. Но почему нельзя рассматривать женские половые органы как более важные и значимые, чем мужские? В-третьих, Фрейд рассматривает отца как основного носителя дисциплины, в то время как во многих культурах мать играет значительно большую роль в воспитании послушания. В-четвертых, Фрейд полагает, что гендерное обучение в основном происходит в возрасте от четырех до пяти лет. Многие авторы после Фрейда подчеркивали, что важно начинать гендерное обучение ребенка еще с младенчества.Теория полового развития по Чодороу
Многие авторы, заимствуя подход Фрейда к изучению полового развития, как правило, подвергали его значительным изменениям. В качестве примера можно привести работы социолога Нэнси Чодороу (Chodorow 1978, 1988). Согласно ее теории, ребенок начинает чувствовать себя мужчиной или женщиной в очень раннем возрасте, и это обусловлено привязанностью ребенка к своим родителям. Кроме того, Чодороу уделяет гораздо больше внимания, чем Фрейд, важности роли матери, а не отца. Ребенок стремится к более тесным эмоциональным связям с матерью, так как в первые годы жизни именно мать оказывает на него преобладающее влияние. Эта привязанность до некоторой степени ослабляется при формировании личности ребенка, когда он становится менее зависимым от матери. Чодороу утверждает, что процесс разрыва с матерью происходит по-разному у мальчиков и девочек. Девочки дольше сохраняют привязанность к матери, они, например, сохраняют привычку крепко ее обнимать и целовать, а также подражают ее манерам. Поскольку резкого разрыва с матерью не происходит, характер девочки, а затем взрослой женщины складывается так, что она больше связывает себя с другими людьми. Ее характер, скорее, будет связан или будет зависеть от характера другого человека, сначала матери, затем мужчины. С точки зрения Чодороу, у женщин это приводит к появлению таких черт характера, как чувствительность и способность к состраданию. Личность мальчиков формируется благодаря более радикальному отрицанию их первоначальной близости к матери, а их понимание мужественности возникает из отрицания женственности. Они учатся не быть «неженками» или «маменькиными сынками». Вследствие этого мальчики оказываются сравнительно неподготовленными к близким отношениям с другими людьми; они развивают в себе более аналитический взгляд на мир. Они занимают более активную жизненную позицию, подчеркивая достижения, но при этом подавляют способность понимать свои собственные чувства и чувства других людей. Чодороу в определенной степени меняет акцент теории Фрейда. Мужественность, а не женственность определяется как потеря, лишение долгое время существовавшей привязанности к матери. Личность мужчины формируется в процессе отделения от матери. Вследствие этого мужчины на протяжении всей жизни подсознательно чувствуют, что их личность подвергается опасности, когда они завязывают с кем-то слишком тесные эмоциональные отношения. Женщины, наоборот, чувствуют, что отсутствие тесных взаимоотношений с другим человеком угрожает их чувству самоутверждения. Эти образцы поведения передаются из поколения в поколение из-за важнейшей роли, которую женщины играют в ранней социализации детей. Женщины самовыражаются и описывают себя преимущественно в терминах взаимоотношений. Мужчины подавляют у себя эти потребности и занимают более активную позицию по отношению к миру. Работа Чодороу подверглась разного рода критике. Например, Джанет Сейерс указывала, что Чодороу не смогла дать объяснение борьбе женщин за свою независимость, особенно на современном этапе (Sayers 1986). Женщины (и мужчины), отмечала она, по психологическим особенностям своего характера более сложны и противоречивы, чем предполагает теория Чодороу. Под женственностью могут скрываться чувства агрессивности или самоуверенности, которые проявляются только косвенным образом или в определенных ситуациях (Brennan 1988). Чодороу также критиковали за узкое понимание семьи, основанное на модели белой семьи среднего класса. Что случится, например, в семьях с одним родителем или в семьях, где дети воспитываются более чем одним взрослым? Несмотря на эти критические высказывания, идеи Чодороу сохраняют важное значение. Они многое раскрывают в природе женственности и помогают нам понять природу того явления, которое получило название мужской неэмоциональности — затруднений, которые испытывают мужчины, проявляя свои чувства перед другими. ────────────────────────────┘Перспективы гендерного неравенства
Как мы видели, гендер — это социально порожденное понятие, приписывающее мужчинам и женщинам различные социальные роли и особенности. Гендерные различия редко бывают нейтральными — почти во всех обществах гендер является важной формой социального расслоения. Гендер является критически важным фактором в структурировании типов возможностей и жизненных шансов, с которыми сталкиваются отдельные личности и группы, и сильно влияет на роли, которые они играют внутри социальных институтов, от домашнего хозяйства до государства. Хотя роли мужчин и женщин меняются от культуры к культуре, нет ни одного известного примера общества, в котором женщины более могущественны, чем мужчины. В целом мужские роли ценятся выше и вознаграждаются лучше, чем женские: практически в каждой культуре на женщине лежит главная ответственность за воспитание детей и домашнюю работу, в то время как мужчины традиционно несут ответственность за материальное благосостояние семьи. Преобладающее разделение труда между полами привело к тому, что мужчины и женщины заняли неравное положение в отношении власти, престижа и богатства (см. следующую врезку «Изучение гендерного неравенства»). Несмотря на успехи женщин во всех странах мира, гендерные различия продолжают служить основой социального неравенства. Исследование и учет гендерного неравенства стали главной заботой социологов. Было выдвинуто много теоретических идей для объяснения стойкого превосходства мужчин над женщинами в сферах экономики, политики, семьи и пр. В этом разделе мы дадим обзор главных теоретических подходов к объяснению природы гендерного неравенства на уровне общества, отложив обсуждение проблем гендерного неравенства в конкретной обстановке и конкретных организациях до других глав книги.────────────────────────────┐ ■ Изучение гендерного неравенства Социологи определяют гендерное неравенство как различие в статусе, престиже и обладании властью женщин и мужчин в группах, организациях и обществах. Когда размышляешь о гендерном неравенстве мужчин и женщин, то задаешься следующими вопросами: 1. Имеют ли женщины и мужчины одинаковый доступ к основным ресурсам и ценностям общества, таким например, как пища, деньги, власть и время? 2. Имеют ли женщины и мужчины одинаковые жизненно необходимые права? 3. Одинаково ли оцениваются роли и деятельность мужчин? Эти фундаментальные вопросы, касающиеся гендерного различия, обсуждаются во многих местах текста этой книги, по мере того как мы рассматриваем основные темы, которые привлекают внимание социологов. Подробные обсуждения гендерных проблем читатель найдет в следующих разделах: Гендерные проблемы в повседневной жизни — подраздел «Гендер и невербальное общение» в разделе «Невербальное общение» главы 4. Гендерные различия здоровья и старения — подраздел «Пол и здоровье», в разделе «Социальный базис здоровья» главы 6. Женщины в семье — эта тема рассматривается в главе 7 «Семья». Женщины и преступность — подраздел «Гендер и преступность» в разделе «Жертвы преступлений и преступники» главы 8. Изменения в классовой структуре — раздел «Гендер и стратификация» в главе 10. Женщины и бюрократия — раздел «Гендер и организации» в главе 12. Женщины на рынке труда: работа и семья, домашнее разделение труда — разделы «Женщины и работа», «Работа и семья» в главе 13. Результаты успеваемости — раздел «Гендер и образование» в главе 16. Роли в религиозных организациях — раздел «Гендер и религия» в главе 17. ────────────────────────────┘
Функционалистские подходы
Как мы видели в главе 1 («Что такое социология?»), функционалистский подход рассматривает общество как систему взаимосвязанных частей, которая в состоянии равновесия функционирует плавно, обеспечивая социальную солидарность. Таким образом, функционалистские и вдохновленные функционализмом подходы к гендеру пытаются показать, что гендерные различия вносят вклад в социальную стабильность и интеграцию. Хотя было время, когда такие взгляды имели большую поддержку, они подверглись суровой критике за пренебрежение социальными конфликтами ценой консенсуса и за пропаганду консервативного взгляда на общество. Ученые, принадлежащие к школе «естественных различий», пытаются доказать, что разделение труда между женщинами и мужчинами обосновано биологически. Женщины и мужчины выполняют те виды работ, к которым они биологически лучше приспособлены. Так, антрополог Джордж Мэрдок полагает практичным и удобным, что женщины должны сосредоточиться на домашних и семейных обязанностях, а мужчина должен работать вне дома. На основе кросс-культурного изучения более 200 обществ Мэрдок пришел к выводу, что разделение труда по полу существует во всех культурах (Murdock 1949). Хотя это и не есть результат биологического «программирования», это наиболее логичная основа организации общества. Талкотт Парсонс, ведущий мыслитель-функционалист, сосредоточился на роли семьи в промышленно развитых обществах (Parsons and Bales 1956). В частности, он интересовался социализацией детей и считал, что ключом к успешной социализации являются стабильные поддерживающие семьи. По мнению Парсонса, семья наиболее эффективно выполняет свои функции при условии ясного полового разделения труда, когда женщины играют экспрессивную роль, обеспечивая заботой и безопасностью детей и давая им эмоциональную поддержку. С другой стороны, мужчины должны исполнять инструментальные роли, т. е. быть для семьи добытчиками пищи. Из-за стрессового характера этой роли для приведения в равновесие и успокоения мужчин можно использовать присущую женщинам склонность к экспрессии и воспитанию. Такое дополняющее разделение труда, ведущее начало от биологических различий между полами, обеспечивает крепость семьи. Другой функционалистский взгляд на воспитание детей был предложен Джоном Боулби, который доказывал, что мать ответственна за первичную социализацию детей (Bowlby 1953). Если мать отсутствует или ребенок разлучен с матерью в раннем возрасте (такое состояние называется материальной депривацией), то резко увеличивается риск, что ребенок будет неадекватно социализирован. Позднее это может привести к серьезным социальным и психологическим трудностям, включая антисоциальные и психопатические тенденции. Боулби высказывает мнение, что физическое и психическое здоровье ребенка лучше всего обеспечивается благодаря тесному и непрерывному личному общению с матерью. Он допускает, что отсутствующая мать может быть заменена на «подставную мать», но считает, что таковой может быть только женщина, и это не оставляет никаких сомнений в отношении мнения Боулби, что материнскую роль может исполнять только женщина. Тезис Боулби о материальной депривации был использован рядом специалистов для доказательства, что работающие женщины не заботятся о своих детях. Оценка Феминистки резко критиковали утверждения о биологической основе полового разделения труда, доказывая, что в распределении труда в обществе нет ничего естественного или неизбежного. Никто не препятствует женщинам заниматься избранной ими профессией на основании каких-либо биологических свойств; наоборот, люди социализируются по ролям, которые от них ожидаются в соответствии с их культурой. Имеется устойчивый поток доказательств, позволяющих предположить спорность тезиса о материальной депривации, — исследования показали, что образование детей и их развитие как личностей на самом деле усиливаются, когда оба родителя по крайней мере часть времени проводят на работе вне дома (см. главу 13 «Труд и экономическая жизнь»). Точка зрения Парсонса относительно «экспрессивной» женщины также подвергалась критике со стороны феминисток и других социологов, которые рассматривали подобные взгляды как оправдание господства женщин в доме. Нет никаких оснований полагать, что «экспрессивная» женщина нужна для спокойного существования семьи. Скорее, эта роль исполняется главным образом для удобства мужчин.Феминистские подходы
Феминистское движение породило большое количество теорий, пытающихся объяснить гендерные неравенства и сформулировать программы действий для преодоления этих неравенств. В вопросе о гендерном неравенстве феминистские теории очень сильно отличаются друг от друга. Хотя все ученые-феминисты занимаются вопросом о неравном положении женщин в обществе, их объяснения такого неравенства существенно различаются. Конкурирующие школы феминизма пытались объяснить гендерные неравенства на основании ряда глубоко встроенных социальных процессов, таких как сексизм, патриархат, капитализм и расизм. В последующих разделах мы рассмотрим аргументы в пользу трех главных феминистских теорий — либерального, радикального и черного феминизма. Либеральный феминизм Либеральный феминизм ищет объяснения гендерного неравенства в социальных и культурных установках. В противоположность радикальному феминизму либеральные феминисты не рассматривают подчинение женщин как часть большей системы или структуры. Вместо этого они обращают внимание на множество отдельных факторов, вносящих вклад в неравенство между мужчинами и женщинами. Например, либеральные феминисты интересуются сексизмом и женской дискриминацией на рабочих местах, в системе образования и средствах массовой информации. Они пытаются сосредоточить свою энергию на установлении и защите равных возможностей для женщин через законодательство и другие демократические средства. Либеральные феминисты активно поддерживали такие законодательные инициативы, как закон о равной оплате труда и закон против дискриминации по признаку пола, подчеркивая, что для устранения дискриминации женщин важно хранить равенство по закону. Либеральные феминисты пытаются работать в рамках существующей системы, постепенно проводя реформы. В этом смысле они более умеренны по своим целям и методам, чем радикальные феминисты, призывающие разрушить существующую систему. Хотя в последнее столетие либеральные феминисты внесли существенный вклад в улучшение положения женщин, критики отмечают, что им не удалось справиться с причинами гендерного неравенства и распознать системную природу подавления женщин в обществе. Сосредоточившись на отдельных лишениях, от которых страдают женщины, — сексизм, дискриминация, «стеклянный потолок», неравная оплата, — либеральные феминисты нарисовали только часть картины гендерного неравенства. Радикальные феминисты обвиняют либеральных в том, что те призывают женщин согласиться с обществом неравных возможностей и его соревновательным характером. Радикальный феминизм В основе радикального феминизма лежит убеждение, что мужчины ответственны за эксплуатацию женщин и получают от нее прибыль. Анализ патриархата — систематического превосходства мужчин над женщинами — является центральным понятием этой ветви феминизма. Патриархат рассматривается как универсальное явление, существовавшее во все времена и во всех культурах. Радикальные феминисты часто указывают на семью как на один из главных источников подавления женщины в обществе. Они доказывают, что мужчины эксплуатируют женщин, ссылаясь на свободный домашний труд, которым занята женщина в доме. Как группа, мужчины также препятствуют женщинам в доступе к властным и влиятельным должностям в обществе. Хотя радикальные феминисты по-разному интерпретируют основы патриархата, большинство сходится во мнении, что в той или иной форме они включают присвоение женских тел и сексуальности. Суламифь Файрстоун, одна из первых писательниц — радикальных феминисток, утверждает, что мужчины контролируют женские роли в воспроизводстве потомства и уходе за детьми (Firestone 1971). Поскольку женщины биологически способны дать жизнь детям, они становятся материально зависимыми от мужчин, обращаясь к ним за защитой и средствами к существованию. Это «биологическое неравенство» социально организовано в нуклеарной семье. Файрстоун для описания социального положения женщин говорит о «половом классе» и утверждает, что женщина сможет эмансипироваться только через ликвидацию семьи и характеризующих ее властных отношений. Другие радикальные феминистки в качестве центральной причины мужского превосходства указывают на мужское насилие против женщин. Согласно такому взгляду, домашнее насилие, изнасилование и сексуальные домогательства являются частями систематического подавления женщин, а не отдельными случаями со своими психологическими или криминальными корнями. Даже повседневные взаимодействия, например невербальные связи, манеры слушания и прерывания речи, а также женское чувство комфорта на публике вносят вклад в гендерное неравенство. Кроме того, мужчины навязывают женщинам популярные представления о красоте и сексуальности с целью получить определенный тип женственности. Например, социальные и культурные нормы, подчеркивающие стройное тело и заботливое ласковое отношение к мужчинам, помогают последним навсегда сохранять подчинение женщин. «Объектификация» женщин с помощью масс-медиа, моды и рекламы превращает их в сексуальные объекты, главной ролью которых является ублажение и развлечение мужчин.См. обсуждение в подразделах «Гендер и невербальное общение» (раздел «Невербальное общение» в главе 4) и «Личное пространство» (раздел «Лицо, тело и речь при общении» в той же главе).
Радикальные феминисты не верят, что женщину можно освободить от сексуального подавления путем реформ или постепенных изменений. Поскольку патриархат является системным явлением, утверждают они, равенство полов может быть достигнуто только путем разрушения патриархального порядка. Использование патриархата как концепции для объяснения гендерного неравенства было популярно во многих феминистских теориях. Заявляя, что «личное — это политическое», радикальные феминисты привлекли широкое внимание ко многим взаимосвязанным сторонам подавления женщин. Упор радикальных феминистов на мужское насилие и объектификацию женщин сделали эти вопросы центральными в основном направлении споров относительно подчинения женщин. Между тем можно высказать много возражений по поводу радикальных феминистских взглядов. Возможно, главным является то, что концепция патриархата в том виде, как она использовалась, неадекватна в качестве общего объяснения подавления женщин. Радикальные феминисты пытаются утверждать, что патриархат существовал во все века и во всех культурах, т. е. является универсальным явлением. Однако критики возражают, что подобная концепция патриархата не оставляет места для исторических и культурных изменений. Кроме того, она игнорирует то важное влияние, которое могут иметь раса, класс или этнос на природу женской субординации. Иными словами, нельзя рассматривать патриархат как универсальное явление. Люди, делающие это, рискуют впасть в биологический редукционизм, который приписывает все сложности гендерного неравенства просто различиям между мужчинами и женщинами. Недавно Сильвия Вальби предложила важный пересмотр концепций патриархата (см. следующую врезку «Сильвия Вальби — теоретик патриархата»). Вальби считает, что понятие патриархата остается ценным и полезным инструментом для объяснений, если только использовать его определенным образом. «Черный феминизм» Применимы ли описанные выше версии феминизма в равной степени к жизненному опыту белых и чернокожих женщин? Многие чернокожие феминисты, а также феминисты из развивающихся стран заявляют, что нет. Они доказывают, что этнические различия среди женщин не рассматриваются главными феминистскими школами, которые ориентированы на проблемы белых женщин преимущественно среднего класса, живущих в промышленно развитых обществах. Они утверждают, что неправильно обобщать теории о женской субординации в целом на основе опыта конкретной группы женщин. Кроме того, сама идея о существовании «единой» формы гендерного подавления, испытываемого в равной степени всеми женщинами, кажется спорной. К возникновению «черного феминизма», концентрирующего внимание на конкретных проблемах, с которыми сталкиваются чернокожие женщины, привела неудовлетворенность существующими формами феминизма. В предисловии к собственным мемуарам американская чернокожая феминистка Белл Хукс доказывает:
Многие теоретики феминизма, пишущие и рассуждающие в наши дни о девичестве, готовы предположить, что у чернокожих девушек чувство собственного достоинства выше, чем у их белокожих сверстниц. Измерение этого различия часто показывает, что чернокожие девушки не страдают застенчивостью, больше говорят, более самоуверенны. В основанной на традициях Юга жизни чернокожих ожидалось и ожидается сейчас, что девушки способны хорошо излагать свои мысли и держаться с достоинством. Наши родители и учителя всегда заставляли нас стоять прямо и говорить ясно. Подразумевалось, что такие черты характера возвышают расу. Эти черты необязательно были связаны с созданием женского чувства собственного достоинства. Искренняя девушка может все же чувствовать, что она никудышная особа, так как ее кожа недостаточно светла или волосы имеют не то строение. Это те переменные, которые часто не принимаются во внимание белыми исследователями, когда они измеряют собственное достоинство чернокожих женщин с помощью мерила, созданного на основе ценностей, извлеченных из опыта белых (Hooks, 1997).Труды чернокожих феминистов стремятся подчеркнуть историю — те стороны прошлого, которые дают информацию о современных проблемах, с которыми сталкиваются чернокожие женщины. В трудах американских чернокожих феминистов подчеркивается влияние мощного наследия рабства, сегрегации и движения за гражданские права на гендерные неравенства в чернокожей общине. Они отмечают, что первые чернокожие суффражистки поддерживали кампанию за права женщин, но вскоре поняли, что вопрос о расе нельзя игнорировать: чернокожие женщины подвергаются дискриминации на основании их расы и пола. В последнее время чернокожие женщины не стоят в центре движения за равноправие женщин, отчасти потому, что в их личностях «женственность» занимает значительно меньше места, чем понятие расы. Хукс доказывает, что предпочитаемая белыми феминистами система объяснений, например, точка зрения на семью как главную опору патриархата, может быть неприменима в чернокожих общинах, где семья — это главное место, где проявляется солидарность против расизма. Иными словами, угнетение чернокожих женщин может быть обнаружено совершенно в других местах по сравнению с белыми женщинами. Чернокожие феминисты приходят поэтому к выводу, что всякая теория гендерного равенства, которая не принимает во внимание расизм, не способна адекватно объяснить угнетение чернокожих женщин. Другим фактором, которым нельзя пренебречь для большого числа чернокожих женщин, являются классовые различия. Ряд чернокожих феминистов полагает, что сила их теорий заключается в сосредоточении внимания на взаимодействии между расовыми, классовыми и гендерными проблемами. Как утверждают эти ученые, чернокожие женщины находятся в невыгодном положении с нескольких точек зрения — из-за цвета кожи, пола и классового положения. Когда эти три фактора взаимодействуют, они подкрепляют и усиливают друг друга (Brewer 1993).
────────────────────────────┐ ■ Сильвия Вальби — теоретик патриархата Во многих феминистских интерпретациях гендерного неравенства центральной являлась идея патриархата. Однако как аналитический инструмент эта идея также подвергалась критике за неспособность объяснить изменения и многообразие форм гендерного неравенства. Разве не очевидно, уверяют критики, что мы не можем говорить об одной однородной и неизменной системе подавления во всей истории? Сильвия Вальби — теоретик, уверенный в том, что концепция патриархата существенна для анализа гендерного неравенства. Однако она согласна, что многие критические замечания справедливы. В книге «Теория патриархата» (Walby 1990) Вальби предлагает более гибкий, чем ее предшественники, способ понимания патриархата. Он оставляет возможность изменения в историческом времени и учета этнических и классовых различий. Для Вальби патриархат — это «система социальных структур и обычаев, в которой мужчины господствуют над женщинами, подавляют и эксплуатируют их» (Walby 1990, 20). Она рассматривает патриархат и капитализм как отдельные системы, различным образом взаимодействующие друг с другом в зависимости от исторических условий — иногда гармонично, иногда напряженно. Капитализм, утверждает она, в целом выиграл от патриархата благодаря разделению труда по признаку пола. Но в иные времена перевес был то на одной стороне, то на другой. Например, во время войны, когда женщины во множестве появились на рынке труда, интересы капитализма и патриархата были разными. Вальби устанавливает шесть структур, в рамках которых функционирует патриархат. Она замечает, что слабость первых феминистских теорий заключалась в тенденции сосредоточиться на какой-то одной «существенной» причине подавления женщин, например, мужской жестокости или роли женщин в воспроизводстве потомства. Так как Вальби интересуется глубиной и внутренними взаимосвязями гендерного неравенства, она рассматривает патриархат состоящим из шести независимых, но взаимодействующих друг с другом структур. • Производственные отношения в доме. Неоплаченный домашний труд женщин — ведение домашнего хозяйства и уход за детьми — экспроприируется ее мужем (или сожителем). • Оплачиваемая работа. На рынке труда женщин не допускают к определенным работам, меньше платят и предоставляют менее квалифицированную работу. • Патриархальное государство. В своей политике и приоритетах государство демонстрирует систематическое смещение в сторону интересов патриархата. • Мужская жестокость. Хотя мужская жестокость часто выглядит состоящей из действий отдельных индивидуумов, на самом деле она структурирована и систематична. Женщины постоянно испытывают эту жестокость и стандартным образом реагируют на нее. Государство, за редкими исключениями, отказывается от вмешательства и, по существу, терпимо относится к жестокости. • Патриархальные отношения в сексуальной жизни. Это выражается в «принудительной гетеросексуальности» и в двойных стандартах в сексуальных отношениях между мужчинами и женщинами (когда применяются разные «правила» сексуального поведения). • Патриархальные культурные установки. Множество общественных институтов и обычаев, включая работу средств массовой информации, религию и образование, порождают представления о женщинах «в рамках патриархального взгляда». Эти представления влияют на личности женщин и предписывают им допустимые стандарты поведения и действий. Вальби различает две формы патриархата. Частный патриархат — подавление женщин, возникающее внутри дома и осуществляемое руками отдельного патриарха. Это исключающая стратегия, потому что женщины, по-существу, не допускаются к участию в общественной жизни. С другой стороны, общественный патриархат более коллективен по форме. Женщины включены в общественные отношения, такие как политика или рынок труда, но остаются отделенными от богатства, власти и общественного статуса. Вальби утверждает, что по крайней мере в Великобритании от викторианской эпохи до наших дней происходят изменения как степени, так и формы патриархата. Она замечает, что сужение разрыва в оплате труда и успехи в женском образовании демонстрируют некоторый сдвиг степени патриархата в сторону уменьшения, но отнюдь не свидетельствуют о его поражении. Если когда-то подавление женщин чаще осуществлялось дома, сейчас оно распространено во всем обществе — женщины подвергнуты сегрегации и подчинению во всех сферах публичной жизни. Иными словами, патриархат изменил форму и перешел от частного к общественному. Как язвительно замечает Вальби, стоило женщинам освободиться от домашних дел, как их стало эксплуатировать все общество (Walby 1990). ────────────────────────────┘
Черты женственности, мужественности и гендерные отношения
Учитывая озабоченности феминистов в отношении подчиненного положения женщин в обществе, вероятно, не вызывает удивления тот факт, что самые ранние исследования гендера были почти исключительно посвящены женщинам и понятию женственности. Мужчины и мужественность считались сравнительно понятными и не вызывающими вопросов понятиями. На анализ мужественности, опыта быть мужчиной или формирование мужской идентичности было потрачено очень мало усилий. Значительно больше социологи занимались попытками понять подавление женщин мужчинами и их роль в сохранении патриархата. Однако, начиная с конца 1980-х гг., критическому изучению мужчин и мужественности стало уделяться больше внимания. Фундаментальные перемены, повлиявшие на роль женщин и характер семьи в индустриально развитых обществах, подняли вопросы о природе мужественности и ее меняющейся роли в обществе. Что такое быть мужчиной в постмодернистском обществе? Находится ли мужественность в кризисе? Как преобразуются традиционные ожидания и требования в отношении мужчин в быстро меняющемся мире? В последние годы социологи все больше интересуются вопросом об общественном положении и жизненном опыте мужчин в расширяющихся рамках формирующего их порядка. Этот сдвиг внутри социологии пола и сексуальности привел к более серьезному изучению мужчин и мужественности в рамках объемлющего понятия гендерных отношений — социально обусловленных взаимодействий между мужчинами и женщинами. Социологи хотят постичь, каким образом строится мужская идентичность и какое влияние на поведение мужчин оказывают социально предписанные им роли.P. У. Коннелл. Гендерный порядок
В книгах «Гендер и власть» (Connell 1987) и «Проявления мужественности» (Connell 1995) Р. У. Коннелл дал одно из наиболее полных теоретических описаний понятия гендера. Его подход оказал особое влияние на социологию, так как Коннелл включил понятия патриархата и мужественности во всеобъемлющую теорию гендерных отношений. Согласно Коннеллу, проявления мужественности являются важной частью гендерного порядка и не могут быть поняты отдельно от него или сопровождающих проявлений женственности. Коннелл интересуется вопросом о том, как удерживаемая мужчинами власть в обществе создает и поддерживает гендерное неравенство. Он подчеркивает, что эмпирические свидетельства гендерного неравенства представляют не просто «бесформенную груду данных», а раскрывают основу «организованного поля человеческой деятельности и социальных отношений», в которых женщины удерживаются в подчиненном положении по отношению к мужчинам (Connell 1987). В западных капиталистических обществах, утверждает Коннелл, гендерные отношения все еще определяются патриархальной властью. От уровня индивида до институционального уровня все типы мужественности и женственности упорядочены вокруг центрального принципа — превосходства мужчин над женщинами. Согласно Коннеллу, гендерные отношения являются продуктом повседневных взаимодействий и установленных обычаев. Действия и поведение среднего человека в его частной жизни непосредственно связаны с коллективными социальными соглашениями в обществе. Эти соглашения непрерывно воспроизводятся в течение жизни людей и в следующих поколениях, хотя и подвержены изменениям. Коннелл формулирует три аспекта общества, которые, взаимодействуя друг с другом, образуют в нем гендерный порядок — широко распространенную во всем обществе структуру властных отношений между носителями мужественности и женственности. По Коннеллу, труд, власть и катексис (личные/сексуальные взаимоотношения) являются особыми, хотя и взаимосвязанными частями общества, действующими совместно и подвергающимися взаимосвязанным изменениям. Эти три сферы жизни являются главными областями, в которых устанавливаются и поддерживаются гендерные отношения. Труд определяет разделение труда по признаку пола как внутри дома (домашние обязанности и воспитание детей), так и на рынке труда (вопросы типа сегрегации занятости и неравной оплаты). Власть действует через социальные отношения, например, через властные полномочия, насилие и идеологию в институтах власти, государство, армию и домашнюю жизнь. Катексис касается динамики в рамках интимных, эмоциональных и личных взаимоотношений, включающих брак, сексуальность и выращивание детей. Гендерные отношения, предписываемые этими тремя областями общественной жизни, структурируются на социальном уровне в определенный гендерный порядок. Коннелл использует термин гендерный режим по отношению к роли гендерных отношений в меньших структурах, таких как конкретный институт общества. Так, семья, соседи и государство имеют каждые свой гендерный режим. Мартин Мак ан Гэйл провел важное исследование формирования мужественного поведения в одном таком гендерном режиме — школе (см. следующую врезку «Мартин Мак ан Гэйл: образование и формирование мужественности и сексуальности»). Гендерная иерархия Коннелл полагает, что существует много разных проявлений мужественности и женственности. На уровне общества эти контрастирующие версии поведения упорядочены в иерархию, ориентированную вокруг одного определяющего принципа — доминированию мужчин над женщинами (см. рис. 5.1). Коннелл использует в своей иерархии стилизованные «идеальные типы» мужественного и женственного поведения. На вершине иерархии находится гегемонная мужественность, доминирующая над всеми другими проявлениями мужественности и женственности в обществе. Слово «гегемонная» относится к понятию гегемонии — доминированию в обществе определенной группы, осуществляемому не за счет грубой силы, а за счет культурной динамики, распространяющейся на частную жизнь и социальную сферу. Так, средства массовой информации, образование, идеология — все они могут быть каналами, по которым устанавливается гегемония. Согласно Коннеллу, гегемонная мужественность связана прежде всего и главным образом с гетеросексуальностью и браком, но также с авторитетом, оплачиваемой работой, силой и физической крепостью. Примерами людей, воплощающих гегемонную мужественность, являются Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Хэмфри Богарт и Жан-Клод ван Дамм. Рис. 5.1. Гендерная иерархия
Рис. 5.1. Гендерная иерархия
Хотя гегемонная мужественность рассматривается как идеальная форма мужественности, только несколько человек в обществе могут считаться достойными такой характеристики. Однако большинство мужчин извлекает преимущества из доминирующего положения гегемонной мужественности в патриархальном порядке. Коннелл называет это «дивидендами патриархата», а тех, кто получает от этого пользу, — обладающими комплицитной (соучаствующей) мужественностью. В подчиненном положении к гегемонной мужественности находится ряд других форм мужественности и женственности. Среди подчиненных форм мужественности наиболее важное место занимает гомосексуальная мужественность. В гендерном порядке, определяемом гегемонной мужественностью, гомосексуалист рассматривается как противоположность «настоящему мужчине»; он не соответствует идеалу гегемонной мужественности и часто вбирает в себя многие из «отвергнутых» при отборе черт. Гомосексуальная мужественность заклеймлена позором и находится в самой нижней части гендерной иерархии для мужчин. Коннелл показывает, что все признаки женственности сформировались в подчиненных позициях к гегемонной мужественности. Одна из форм женственности — подчеркнутая женственность — является важным дополнением к гегемонной мужественности. Она ориентирована на приспособление к интересам и желаниям мужчин и характеризуется «уступчивостью, опекой и сопереживанием». Среди молодых женщин подчеркнутая женственность ассоциируется с сексуальной восприимчивостью, а среди женщин более старшего возраста подразумевает материнство. Коннелл приводит Мерилин Монро в качестве примера одновременно «архетипа и пародии» на подчеркнутую женственность. Он указывает, что образы подчеркнутой женственности остаются преобладающими в средствах массовой информации, рекламе и маркетинговых кампаниях. Наконец, существуют подчиненные типы женственности, отвергающие описанный выше вариант подчеркнутой женственности. Однако в большинстве случаев подавляющее внимание, оказываемое поддержанию подчеркнутой женственности как общепринятой нормы в обществе, означает, что другие подчиненные типы женственности, отвергающие эту норму, не получают права голоса. В число женщин, развивших неподчиненные идентичность и стиль жизни, входят феминистки, лесбиянки, старые девы, акушерки, гадалки, проститутки и работницы физического труда. Однако опыт носительниц этой сопротивляющейся женственности в значительной степени «скрыт от истории». Изменения в гендерном порядке: кризисные тенденции Хотя Коннелл сформулировал четко организованную гендерную иерархию, он отвергает точку зрения, что гендерные отношения являются фиксированными или статичными. Напротив, он полагает, что эти отношения являются результатом непрерывно происходящего в настоящее время процесса и поэтому открыты для изменений и сомнений. Коннелл воспринимает гендерные отношения в динамических терминах. Поскольку он полагает, что пол и гендер социально сконструированы, Коннелл утверждает, что люди могут изменять свои гендерные ориентации. Под этим он понимает не обязательно то, что люди могут переключать свою сексуальность с гетеросексуальной на гомосексуальную ориентацию и наоборот, хотя это и происходит в ряде случаев, но и то, что гендерная идентичность и взгляды людей постоянно адаптируются. Например, женщины, когда-то поддерживавшие «подчеркнутую женственность», могут развить в себе феминистское сознание. Эта постоянная возможность изменений делает характер гендерных отношений открытым для разрыва и подверженным власти человеческого фактора. Хотя некоторые социологи полагают, что западное общество испытывает «гендерный кризис», Коннелл считает, что мы просто переживаем мощные кризисные тенденции. Эти тенденции проявляются в трех формах. Во-первых, это кризис институционализации, понимаемый Коннеллом в том смысле, что институты, традиционно поддерживавшие власть мужчин, а именно семья и государство, постоянно расшатываются. Легитимность превосходства мужчин над женщинами ослабляется благодаря принятию законов о разводах, о домашней жестокости и насилии и по экономическим причинам типа налогообложения и пенсий. Во-вторых, это кризис сексуальности — гегемонная гетеросексуальность становится менее господствующей, чем ранее. Женская сексуальность и сексуальность геев с растущей силой оказывают давление на традиционную гегемонную мужественность. Наконец, это кризис формирования интересов. Коннелл показывает, что существуют новые основания для социальных интересов, противоречащих существующему гендерному порядку. Права замужних женщин, движения геев и рост «антисексистских» позиций среди мужчин представляют угрозу существующему порядку.
────────────────────────────┐ ■ Мартин Мак ан Гейл: образование и формирование мужественности и сексуальности Мартин Мак ан Гейл провел этнографическое исследование в английской государственной средней школе, чтобы выяснить ее «гендерный режим», т. е. то, каким образом гендерные отношения проявляются внутри школы. Опираясь на работы Коннелла, Мак ан Гейл интересовался тем, каким образом школы активно способствуют распределению учеников по степеням мужественности и женственности. Хотя его прежде всего интересовало формирование гетеросексуальной мужественности, он исследовал также опыт группы учеников-гомосексуалистов. Результаты Мак ан Гейла, опубликованные в книге «Создание мужчин» (Mac an Ghail 1994) показывают, что сама школа является институтом, для которого характерны гендерные и гетеросексуальные структуры. Преобладающий «режим» способствует созданию среди учеников гендерных отношений, совпадающих с более широким гендерным порядком, т. е. в границах школы можно проследить иерархию доминирующих и подчиненных черт мужественности и женственности. Разнообразные социальные влияния и привычки, такие как дисциплинарные процедуры, распределение предметов, взаимодействие ученик — учитель и учитель — ученик, а также надзор, вносят вклад в формирование гетеросексуальной мужественности. Мак ан Гейл выделяет четыре находящихся на стадии становления в школе типа мужественности. Парни-мачо — группа белых мальчиков из рабочего класса, открыто неповинующихся школьному начальству и презрительно относящихся к учебному процессу и ученикам-отличникам (см. также главу 16 «Образование»). Мак ан Гейл приходит к выводу, что парни-мачо испытывают «кризис мужественности», поскольку та ручная и неквалифицированная (или полуквалифицированная) работа, которая, как они считали, определит их личности в будущем, стала бесперспективной. Это ставит перед парнями психологическую и практическую дилемму в отношении их будущего, которую им самим трудно постичь и еще труднее разрешить. Вторая группа состоит из «отличников», которые видят себя в будущем профессионалами. Парни-мачо (и учителя) рассматривают их как изнеженных «умников». Согласно Мак ан Гейлу, наиболее распространенный способ преодоления дурных стереотипов в отношении себя, которым пользуются «отличники», — это сохранение уверенности, что их тяжелый труд и академические успехи обеспечат им безопасное будущее. Это составляет основу маскулинного начала в их личностях. Третья группа — новые предприниматели — это мальчики, которых притягивают новые предметы в обновленном учебном плане, такие как информатика и бизнес. Мак ан Гейл рассматривает их как детей новой «предпринимательской культуры», которая начала культивироваться в эпоху Маргарет Тэтчер. Для этих парней успех на экзаменах уровня А[1] сравнительно бесполезен и с точки зрения их нацеленности на занятия бизнесом в будущем, и как ступень в планировании этого будущего. Последнюю группу составляют истинные англичане. Это вызывающая наибольшее беспокойство группа представителей среднего класса, сохраняющих двойственное отношение к академическим занятиям, но рассматривающих себя как «носителей культуры», более высокой по отношению ко всему, что может предложить учитель. Поскольку представители этой группы ориентированы на карьерный рост, мужественность для истинного англичанина включает демонстрацию не требующих усилий академических достижений. При изучении учеников-гомосексуалистов мужского пола Мак ан Гейл обнаружил, что во всех школьных дискуссиях, которые касаются вопросов пола и сексуальности, принимается как само собой разумеющийся явно гетеросексуальный набор норм и ценностей, основанный на традиционных взаимоотношениях и нуклеарных семьях. Это приводит к большой путанице и противоречиям при построении гендерной и сексуальной идентичности молодых гомосексуалистов, которые могут одновременно чувствовать себя отвергнутыми и причисленными к другой категории. ────────────────────────────┘
Преобразующаяся мужественность
Коннелл высветил в рамках существующего гендерного порядка ряд «кризисных тенденций», угрожающих подорвать стабильность гегемонной мужественности. Он не одинок в исследовании глубоких изменений, которым подвергаются мужчины в постмодернистских обществах. Многие наблюдатели полагают, что экономические и социальные преобразования провоцируют кризис мужественности. Сторонники этой точки зрения считают, что традиционное понятие мужественности подвергается эрозии за счет комбинации факторов от изменения рынков труда до высокого уровня числа разводов. Если в былые времена средний мужчина спокойно чувствовал себя в отношении работы, семьи и общества в целом, то сейчас его положение подрывается множеством воздействий, что делает его неуверенным в себе и своей роли в обществе. Ниже мы рассмотрим ряд областей, в которых обнаруживается изменение мужской идентичности. Безработица Сара Уиллот и Кристин Гриффин изучали так называемый «кризис мужественности» на примере группы долгое время остававшихся безработными мужчин в Западном Мидлендсе в Англии. Респонденты жили в области с высокой безработицей, где был экономический и социальный спад. Многие из них потеряли надежду найти постоянную работу. Среди этих мужчин-рабочих идеи мужественности тесно связывались с возможностью «выйти из дома» и принести домой достаточно денег, чтобы семья перестала зависеть от государственной поддержки. Длительная безработица разрушала эти идеалы при общении как дома в семьях, так и с другими мужчинами в социальном окружении, например в местном пабе. Однако Уиллот и Гриффин подчеркивают, что хотя роль «кормильца» сильно изменилась в результате безработицы, индивидуальные ощущения беспомощности не обязательно переводились в изменения в общих властных взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Иными словами, не было признаков «кризиса мужественности» в целом, хотя и наблюдалось ослабление некоторых элементов традиционной мужественности (Willott and Griffin 1996). Преступность Преступность — другая область, в которой ощущается «кризис мужественности». На основе эмпирического изучения жестокого поведения молодых мужчин в ряде городов Беатрикс Кемпбелл предположила, что существует связь такого поведения с меняющейся ролью мужчин в современных обществах (Campbell 1993). В прошлом молодые мужчины, даже жившие в районах с высоким уровнем преступности, имели ясный набор целей, к достижению которых они стремились в жизни, — получить законную работу и стать кормильцем для семьи. Но сейчас, как показывает Кемпбелл, такая роль мужчины-кормильца деформируется, особенно для молодых мужчин из более бедных областей. Когда единственной перспективой является длительная безработица, стремиться к поддержке семьи — не лучшее решение. Кроме того, женщины становятся более независимыми, чем обычно, и не нуждаются в мужчине для приобретения социального статуса в более широком обществе. В результате происходит спиралевидное падение по социальной лестнице, похожее на то, которое наблюдается сегодня в социально ущемленных внутригородских районах. Результаты исследования Кемпбелл хорошо совпадают с другими недавними социологическими работами по поводу нищеты, преступности и жизни городов. Кризис смысла? В книге «Застывшие. Предательство современного мужчины» (Faludi 1999) Сьюзен Фалуди исследует жизненный опыт американских мужчин конца XX в. Она показывает, что современные мужчины преданы обществом, в котором растущая безработица, уменьшение заработной платы, увеличение продолжительности работы и постоянный страх увольнения подрывают ту безмятежную роль «кормильца», которую они когда-то исполняли. Но, согласно Фалуди, мужчины находятся в опасности не только в сфере работы. Ее исследование показывает, что брак и родственные отношения уже не кажутся такими же стабильными, какими они были раньше. Роль мужчин в общине — церковной, местной или политической — также постепенно ослабляется. Фалуди обнаружила, что постоянное изменение американского общества подрезало многие ожидания мужчин в отношении их собственной жизни — те ожидания. которые были им обещаны и уготованы их отцам в предыдущем поколении. Вместо этого, заключает Фалуди, мужчины испытывают сейчас глубокий кризис, сомневаясь в своей самоценности и полезности, в то время когда традиционные привязанности, обязательства и роли постепенно размываются безудержной культурой потребления и его уровнем. Образы в СМИ Меняющиеся образы мужественности в массовой культуре, прессе, рекламе и моде были исследованы Джонатаном Резерфордом (Rutherford 1988). Он отметил два идеализированных образа мужчин, отражающих противоположные реакции на вызовы феминизма и меняющуюся роль женщин. Первый — это «мужчина карающий», соответствующий массовым представлениям о традиционной мужественности. Карающий мужчина защищает свое мужское начало и честь, разражаясь гневными упреками в отношении тех, кто представляет «предателей» мужественности — мужчин, ставших «слабохарактерными» или «женственными». Это сфера жестокого утверждения традиционной мужественности, олицетворенная в образе Рэмбо, который жестко отражает любую потенциальную угрозу попытки переделать традиционный порядок. Альтернативой является так называемый новый мужчина — фигура, которая с растущей частотой начала появляться в СМИ и рекламных акциях в 1980-е гг. Резерфорд считает, что новый мужчина выражает сдержанную мужественность. Новый мужчина демонстрирует чувствительность в отношениях к женщинам, детям и в выражении собственных эмоций. Он делает модным отцовство, выступая как сильный, но нежный воспитатель. Новый мужчина выступает и как сексуальный объект, во многом того типа, который обычно представляют женщины, являясь тем самым противоположностью типичного процесса, делающего женщин предметом мужских «взоров». Популярность нового сексуализованного чувствительного мужчины можно рассматривать как попытку возродить идеи мужественности вдогонку вызову, брошенному феминизмом.Человеческая сексуальность
Наряду с преобразованиями традиционных представлений о гендере резко изменились и представления о сексуальности. В последние десятилетия в западных странах фундаментальным образом изменились важные стороны сексуальной жизни людей. В традиционных обществах сексуальность была тесно связана с продолжением рода, но в наши дни она отделилась от него. Сексуальность стала тем жизненным измерением, которое эксплуатирует и формирует каждая личность. Если когда-то сексуальность «определялась» в понятиях гетеросексуальности и моногамии в контексте брачных отношений, то теперь все больше признаются извращенные формы сексуальных отношений и ориентаций в самых разнообразных ситуациях. В этом разделе мы рассмотрим вариации человеческой сексуальности и те изменения, которым она подвергается в наши дни. Начнем с относительной важности биологического влияния на сексуальное поведение человека по сравнению с социальными и культурными влияниями. В этом вопросе мнения ученых разделились. Затем мы исследуем социальные влияния на сексуальное поведение, недавние тенденции в сексуальной активности людей и изменения в отношении к гомосексуализму.Биология и сексуальное поведение
Долгое время сексуальность рассматривалась как сугубо интимное дело. По этой причине изучение сексуальности является для социологов особенно увлекательной областью. До недавних пор большая часть того, что мы знали о сексуальности, исходила от биологов, ученых-медиков и сексологов. Кроме того, ученые наблюдали за животным миром, пытаясь лучше понять сексуальное поведение человека. Существует очевидная биологическая основа сексуальности из-за анатомических различий женщин и мужчин. Кроме того, существует биологический императив размножения, без которого человеческий род начал бы вымирать. Некоторые биологи считают, что существует эволюционное объяснение того, почему мужчины сексуально более неразборчивы, чем женщины. Довод состоит в том, что мужчины биологически приспособлены для оплодотворения как можно большего количества женщин, в то время как женщины предпочитают иметь стабильного партнера для защиты биологического наследства, вложенного в их детей. Этот аргумент подкрепляется изучением сексуального поведения животных, призванного показать, что самцы в норме более привержены случайным связям, чем самки. Последние исследования показали, однако, что неверность самок на самом деле вполне обычна в животном мире, а сексуальная активность многих животных значительно сложнее, чем думали раньше. Когда-то считалось, что самки выбирают самцов, имеющих наибольшие возможности наилучшего генетического наследования в потомстве. Однако недавние исследования птиц-самок поставили это утверждение под вопрос, показав, что птицы-самки выбирают дополнительных партнеров для спаривания не за их гены, а потому что они могут быть лучшими родителями и предлагают лучшую территорию для выращивания потомства. Выводы из этих исследований неопределенны, особенно в том, что касается любых приложений к сексуальному поведению человека. Однако одно ясно отличает людей от животных. Сексуальное поведение человека осмысленно, т. е. люди множеством способов используют и выражают свою сексуальность. Для людей сексуальная активность значит много больше, чем простая биологическая функция. Эта активность символична и отражает то, кто мы и какие эмоции испытываем. Как мы увидим далее, сексуальность — настолько сложное явление, что его нельзя полностью приписать только биологическим особенностям. Она должна быть осознана с помощью тех социальных смыслов, которые ей придают люди.Влияние социума на сексуальное поведение
Во всех обществах большинство людей гетеросексуальны — они ищут в представителях другого пола эмоциональную разрядку и сексуальное удовлетворение. Гетеросексуальность в каждом обществе является основой брака и семьи. Однако существует много сексуальных меньшинств с различными вкусами и пристрастиями. Джудит Лорбер различает не менее десяти сексуальных индивидуальностей: нормальная (гетеросексуальная) женщина, нормальный мужчина, лесбиянка, гей, бисексуальная женщина, бисексуальный мужчина, женщина-трансвестит (эта женщина регулярно одевается как мужчина), мужчина-трансвестит (этот мужчина регулярно одевается как женщина), женщина-транссексуал (мужчина, ставший женщиной) и мужчина-транссексуал (женщина, ставшая мужчиной) (Lorber 1994). Сексуальные привычки еще более разнообразны. Фрейд называл людей «полиморфно извращенными». Под этим он подразумевал, что люди имеют много сексуальных пристрастий и могут следовать им даже тогда, когда в данном обществе некоторые из этих пристрастий считаются аморальными или противозаконными. Фрейд приступил к своим исследованиям в конце XIX в., когда большинство людей было пуританами в сексе, но даже его пациенты демонстрировали поразительное многообразие сексуальных устремлений. Возможные сексуальные практики таковы. Мужчина или женщина могут иметь сексуальные отношения с женщинами, мужчинами или с теми и с другими. Эти контакты могут быть парными или с тремя и более участниками. Можно заниматься сексом с самим собой (мастурбация) или не заниматься ни с кем (целомудрие). Можно иметь сексуальные отношения с транссексуалами или людьми, эротически переодетыми в платье другого пола; использовать порнографию или сексуальные приспособления; практиковать садомазохизм (эротическое использование отношений подчинения и причинение боли); иметь половые сношения с животными и т.д. (Lorber 1994). Во всех обществах существуют сексуальные нормы, признающие некоторые практики и отвергающие или порицающие другие. Члены общества узнают об этих нормах в процессе социализации. Например, в течение последних десятилетий сексуальные нормы в западных культурах были связаны с идеями романтической любви и семейных взаимоотношений. Однако такие нормы широко варьируют между разными культурами. Примером может служить гомосексуализм. В некоторых культурах гомосексуальность либо признается, либо активно поддерживается. Так, у древних греков любовь мужчин к мальчикам была идеализирована как высшая форма сексуальной любви. Принятые типы сексуального поведения меняются также от культуры к культуре, и благодаря этому мы знаем, что большинство сексуальных реакций являются не врожденными, а представляют результат обучения. Наиболее глубокое исследование провели пятьдесят лет назад Клеллан Форд и Фрэнк Бич (Ford and Beach 1951), которые собрали антропологические данные от более чем двухсот обществ. Обнаружились поразительные различия в том, что считается «естественным» сексуальным поведением, а также в нормах сексуальной привлекательности. Например, в некоторых культурах считается желательной и даже необходимой длительная, возможно многочасовая, прелюдия перед половым актом; напротив, в других культурах прелюдии практически не существует. В некоторых обществах считается, что слишком частые половые сношения приводят к физическому истощению или болезни. У племени сенианг в южной части бассейна Тихого океана старейшины в деревне дают советы о желательности увеличения промежутков между половыми сношениями. У этого же племени существует вера в то, что блондин может законно совокупляться каждую ночь! В большинстве культур нормы сексуальной привлекательности (разделяемые как женщинами, так и мужчинами) касаются в большей степени внешности женщин, а не мужчин. Эта ситуация, похоже, постепенно меняется на Западе по мере роста активности женщин в различных сферах деятельности вне дома. Однако считающиеся самыми важными в женской красоте черты облика сильно различаются. На современном Западе вызывает восхищение стройная изящная фигура женщины, в то время как в других культурах наиболее привлекательными считаются значительно более пышные формы (см. главу 6 «Социология тела: здоровье, болезнь и старение»). Где-то грудь не рассматривается как источник сексуального возбуждения, в то время как у других народов ей придается большое эротическое значение. В ряде обществ особое место отводится овалу лица, а в других подчеркивается форма и цвет глаз или размер и форма носа и губ.Сексуальность в западной культуре
Отношение Запада к сексуальному поведению почти две тысячи лет формировалось главным образом под воздействием христианства. Хотя различные христианские секты и конфессии придерживались противоположных взглядов на истинное место сексуальности в жизни, преобладающий взгляд христианской церкви состоял в том, что всякое сексуальное поведение предосудительно, за исключением того, которое необходимо для продолжения рода. Были периоды, когда такой взгляд порождал во всем обществе крайнюю степень пуританства. Но в другие времена многие люди игнорировали учение церкви или противодействовали ему, повсеместно практикуя то, что запрещалось церковными властями (например, супружеские измены). Представление о том, что сексуальное удовлетворение можно и должно искать в браке, не было общепринятым. В XIX в. религиозные установки в отношении сексуальности частично заменились медицинскими. Правда, большинство ранних медицинских сочинений были столь же суровы в отношении сексуального поведения, как и взгляды церкви. Некоторые медики доказывали, что всякий тип сексуальной активности, не связанный с продолжением рода, приводит к серьезным физическим расстройствам. Говорили, что мастурбация приводит к слепоте, психическим заболеваниям, сердечной недостаточности и другим болезням, а оральный секс приводит к раку. Сексуальное ханжество особенно процветало в викторианскую эпоху. Считалось, что добропорядочные женщины должны быть равнодушны к сексу, принимая ухаживания своих супругов только в силу долга. В результате в разраставшихся поселках и городах процветала и часто открыто поощрялась проституция, причем «падшие» женщины рассматривались как совершенно иная категория женщин по сравнению с их респектабельными сестрами. Многие мужчины викторианской эпохи, с виду сдержанные, добропорядочные граждане, преданные своим женам, на самом деле регулярно посещали проституток или содержали любовниц. Такое поведение воспринималось снисходительно, в то время как «респектабельные» женщины, имевшие любовников, вызывали возмущение и общественное осуждение, если их поведение выплывало на свет. Различное отношение к сексуальной активности мужчин и женщин сформировало существовавший очень долго двойной стандарт, остатки которого дают о себе знать до сих пор.Таблица 5.1 Отношение к сексуальным связям (в %). Великобритания. 1988 г.
 Источник: British Social Attitudes Survey. National Centre for Social Research. From Social Trends. 30. 2000. P. 41. Crown copyright.
Источник: British Social Attitudes Survey. National Centre for Social Research. From Social Trends. 30. 2000. P. 41. Crown copyright.
В настоящее время традиционное отношение к сексуальности существует наряду со значительно более либеральными взглядами, которые получили особенно сильное развитие в 1960-е гг. Многие люди, особенно те, кто находится под влиянием христианского вероучения, полагают, что добрачные половые связи — это зло, и в целом неодобрительно относятся к любым формам сексуального поведения, за исключением гетеросексуальных отношений в рамках брачного союза, хотя сейчас все больше признается, что сексуальное удовлетворение является желательным и важным элементом брака. Другие, напротив, оправдывают или активно поддерживают добрачные половые связи и терпимо относятся к различным сексуальным практикам (см. табл. 5.1). За последние тридцать лет в большинстве западных стран сексуальные отношения стали несомненно более свободными. В фильмах и пьесах показывают сцены, которые прежде были бы совершенно недопустимыми, а порнографическая продукция постоянно доступна большинству желающих ее взрослых людей. Сексуальное поведение. Исследования Кинси Мы можем со значительно большей уверенностью говорить о публичных оценках сексуальности, чем об интимных занятиях сексом, поскольку по своей природе эти занятия в большинстве остаются недокументированными. Когда в 1940-е и 1950-е гг. Альфред Кинси начал свои исследования в США, это были первые важные исследования реального сексуального поведения людей. Кинси с сотрудниками столкнулся с осуждением со стороны религиозных организаций, в газетах и с трибуны Конгресса его работа была объявлена аморальной. Однако он выстоял и в конце концов собрал истории сексуальной жизни 18 000 чел., что можно считать вполне репрезентативной выборкой для белого американского населения (Kinsey et al. 1948, 1953). Результаты Кинси многих поразили и многих шокировали, поскольку они показали существенную разницу между господствовавшими в то время общественными ожиданиями в отношении сексуального поведения и реальной сексуальной практикой. Кинси обнаружил, что почти 70 % мужчин посещали проституток, а 84 % имели добрачный сексуальный опыт. Однако, в соответствии с двойным стандартом, 40 % мужчин ожидали, что их жены девственны к моменту вступления в брак. Более чем 90 % мужчин занимались мастурбацией и почти 60 % — различными формами орального секса. Среди женщин около 50 % имели добрачные половые связи, хотя в большинстве со своими предполагаемыми мужьями. Около 60 % занимались мастурбацией и примерно такое же количество женщин практиковало орально-генитальные контакты. Возможно, что в тот конкретный период, сразу после Второй мировой войны, продемонстрированный Кинси разрыв между принятыми обществом установками и реальным поведением был особенно велик. Фаза сексуальной либерализации началась значительно раньше, в 1920-е гг., когда многие молодые люди почувствовали себя свободными от строгих моральных ограничений, определявших поведение старших поколений. Вероятно, сексуальное поведение в те времена сильно изменилось, однако вопросы, касающиеся сексуальности, не обсуждались публично столь же широко, как сейчас. Люди, принимавшие участие в сексуальных действиях, все еще полностью отвергавшихся общественным мнением, скрывали их, не отдавая себе отчета в том, насколько широко распространена подобная практика. В более терпимую эпоху 1960-х гг. открыто декларируемое поведение пришло в большее соответствие с реальностью. Сексуальное поведение после Кинси В 1960-е гг. бросившие вызов существовавшему порядку вещей общественные движения, вроде связанных с контркультурой или образом жизни «хиппи», порвали и с принятыми сексуальными нормами. Эти движения проповедовали сексуальную свободу, а появление противозачаточных таблеток для женщин позволило четко отделить сексуальное удовольствие от продолжения рода. Женские организации начали также борьбу за большую независимость от мужских сексуальных ценностей, за отказ от двойного стандарта и за признание необходимости достижения женщинами большего сексуального удовлетворения. До недавнего времени было трудно сказать с достаточной точностью, насколько изменилось сексуальное поведение со времен исследования Кинси. В конце 1980-х гг. Лилиан Рубин опросила 1 000 американцев в возрасте от 13 до 48 лет, чтобы установить, какие изменения в сексуальных установках и поведении произошли за предшествующие три десятилетия. Согласно ее исследованиям, произошли действительно важные события. Сексуальная активность стала чаще начинаться в более раннем возрасте, чем у предыдущего поколения; кроме того, сексуальная практика подростков постепенно становилась столь же разнообразной и обширной, как у взрослых. Двойной стандарт все еще существовал, но он не был столь сильным, как раньше. Одно из самых важных изменений заключалось в том, что женщины стали ожидать и активно добиваться сексуального удовольствия в половых сношениях. Они хотели не только давать сексуальное удовлетворение, но и получать его, — явление, которое, какдоказывает Рубин, имеет большие последствия для обоих полов. Женщины сейчас сексуально более раскрепощены, чем когда-либо ранее; однако вместе с этим достижением, которое приветствует большинство мужчин, пришла новая самоуверенность, которую многие мужчины принимают с трудом. Мужчины, с которыми беседовала Рубин, часто говорили, что они «чувствуют себя неадекватно», боятся, что не смогут «сделать все правильно» и считают, что «современную женщину невозможно удовлетворить» (Rubin 1990). Мужчины чувствуют себя неадекватно? Разве это не противоречит всему, что мы ожидаем? Ведь в современном обществе мужчины продолжают доминировать в большинстве сфер жизни и они, в общем, значительно более жестоки по отношению к женщинам, чем женщины к мужчинам. Такая жестокость постоянно нацелена на контроль и продолжающееся подчинение женщин. Однако, как мы упоминали ранее в этой главе, ряд авторов начал доказывать, что мужественность — не только источник награды, но и бремя. Слишком большая мужская сексуальность, добавляют они, скорее навязчива, чем доставляет удовольствие. Если мужчины прекратят использовать сексуальность как средство контроля, выиграют не только женщины, но и они сами.
Новая верность?
В 1994 г. группа исследователей опубликовала обзор «Социальная организация сексуальности: сексуальные обычаи в Соединенных Штатах» — наиболее подробное изучение сексуального поведения в какой-либо стране со времен Кинси. К удивлению многих, исследования показали существенный сексуальный консерватизм американцев. Например, 83 % опрошенных имели только одного (или ни одного) партнера в прошедшем году, а среди женатых людей эта цифра увеличилась до 96 %. Супружеская верность также обычна: только 10 % женщин и менее 25 % мужчин заявили о том, что имели за всю жизнь внебрачные связи. Согласно исследованию, за всю жизнь американцы имеют в среднем только трех партнеров. Несмотря на кажущуюся размеренной манеру поведения, из этого исследования вытекают и определенные изменения в поведении, наиболее существенным из которых является прогрессирующий рост числа добрачных сексуальных контактов, особенно среди женщин. На самом деле свыше 95 % американцев вступают в брак, уже имея сексуальный опыт (Laumann et al. 1994). Изучение сексуального поведения чревато трудностями. Мы просто не знаем, до какой степени люди говорят проводящему опрос исследователю правду о своей сексуальной жизни. Представляется, что доклад «Социальная организация сексуальности» показывает, что американцы менее безрассудны в своей сексуальной жизни, чем они были во времена докладов Кинси. Возможно, что сами доклады Кинси были неточны. Возможно, что страх СПИДа привел к тому, что многие люди ограничили уровень своей сексуальной активности. Наконец, возможно, что по каким-то причинам люди в наши дни более склонны скрывать формы своей сексуальной активности. Мы не уверены. Достоверность обследования сексуального поведения стала недавно предметом интенсивных споров (Lewontin 1995). Критики только что обсуждавшегося исследования утверждали, что такие обследования не дают достоверной информации о сексуальных привычках. Часть разногласий касалась ответов, полученных от пожилых людей. Исследователи доложили, что 45 % мужчин в возрасте от 80 до 85 лет заявили, что занимаются сексом со своей партнершей. Критики заявили, что это настолько очевидная неправда, что ставит под сомнение цифры во всем обзоре. Исследователи защищались от обвинений и получили поддержку от специалистов по изучению пожилых людей, которые обвинили критиков в неверных стереотипах в отношении старости. Они отметили, что в ходе одного из опросов пожилых людей, живущих вне домов престарелых, 74 % опрошенных заявили, что они сексуально активны. Другой опрос показал, что большинство мужчин даже в девяностолетнем возрасте сохраняют интерес к сексу.Гомосексуальность
Гомосексуальность, т. е. ориентация сексуальной активности или чувств на людей того же пола, существует во всех культурах. В ряде незападных культур гомосексуальные отношения среди некоторых групп приняты и даже приветствуются. Так, в племени батаков на севере Суматры разрешены гомосексуальные отношения мужчин до женитьбы. С наступлением половой зрелости мальчики покидают родительские дома и спят в хижинах примерно с десятком более взрослых мужчин, которые знакомят новичков с гомосексуальной практикой. Однако во многих обществах гомосексуализм в столь открытой форме не поощряется. Например, в западном мире преобладает представление о гомосексуалистах как о людях (мужчинах или женщинах), резко отделенных по своим сексуальным вкусам от большинства населения. В своих исследованиях сексуальности Мишель Фуко показал, что до XVIII в., по-видимому, не существовало самого понятия гомосексуалист (Foucault 1978). Акт содомии осуждался церковными иерархами и законом; в Англии и ряде других европейских стран он наказывался смертной казнью. Однако под содомией понималось не только гомосексуальное преступление. Это понятие применялось к отношениям между мужчинами и женщинами, мужчинами и животными, а также мужчинами друг с другом. Термин «гомосексуальность» был введен в обиход в 1860-е гг., и с тех пор гомосексуалистов все больше рассматривают как отдельный тип личностей со специфическими сексуальными отклонениями (Weeks 1986). Гомосексуальность стала частью «медицинских» дискуссий; о ней говорят с использованием клинической терминологии как о психическом нарушении или извращении, а не как о религиозном «грехе». Гомосексуалисты, наряду с другими людьми с отклонениями от нормы, например, педофилами или трансвеститами, рассматриваются как страдающие биологической патологией, угрожающей нравственному здоровью основной части общества.Подробнее о медицинских перспективах см. раздел «Возникновение биомедицинской модели здоровья» (раздел «Медицина и общества» в главе 6).
Смертная казнь за «противоестественные действия» была отменена в США после провозглашения независимости, а в Европе — в конце XVIII либо начале XIX вв. Но еще несколько десятилетий тому назад практически во всех западных странах гомосексуализм оставался уголовно наказуемым деянием. Постепенное превращение гомосексуалистов из отбросов общества в его уважаемых членов еще не завершено, но в последние годы здесь наблюдается быстрый прогресс. Можно отметить несколько ключевых поворотных пунктов. Во-первых, публикация отчета Кинси о сексуальном поведении привлекла внимание публики к распространенности гомосексуальности в американском обществе (см. ниже). Результаты этих исследований шокировали многих, но помогли подорвать ошибочное мнение, что гомосексуалисты представляют собой крохотную группу людей с отклонениями от нормы, страдающих психическими заболеваниями. Второй критический момент связан с беспорядками в Стоунуолле в 1969 г., жестоким эпизодом насилия между полицейскими и нью-йоркскими геями. Стоунуолл оживил движение за равноправие геев не только в США, но и в других странах. Наконец, распространение эпидемии СПИДа в начале 1980-х гг. стало переломным событием в современной истории гомосексуальности. В то время, как, с одной стороны, это опустошило ряды геев из-за большого количества инфицированных и умерших людей, это же сплотило сообщество геев и превратило гомосексуальность в открыто обсуждаемый обществом вопрос.
Гомосексуальность в западной культуре
В своем классическом труде Кеннет Пламмер различал четыре типа гомосексуальности в современной западной культуре. Случайный гомосексуализм представляет собой преходящий тип гомосексуальных отношений, при котором половая жизнь индивидуума в целом не претерпевает существенной перестройки. Примерами могут служить школьные увлечения или взаимная мастурбация. Ситуативный гомосексуализм связан с обстоятельствами, в которых гомосексуальная связь поддерживается регулярно, но при этом не становится для человека предпочтительной. В такой обстановке, как тюрьмы или военные городки, где мужчины живут без женщин, гомосексуальные связи подобного рода широко распространены и служат скорее заменителем гетеросексуальному поведению, которое остается предпочтительным. Встречается персонализированный гомосексуализм в тех случаях, когда люди отдают предпочтение гомосексуальным связям, но остаются изолированными от групп, где эти связи общеприняты. Гомосексуальность в такой ситуации выступает как скрытая деятельность, совершаемая тайком от друзей и коллег. Гомосексуализм как образ жизни характерен для лиц, которые уже выделились из гетеросексуального общества, и для которых связь с себе подобными стала важнейшей частью их существования. Обычно эти люди принадлежат к так называемой «гей»-субкультуре, в рамках которой гомосексуальные отношения вписаны в определенный стиль жизни (Plummer 1975). Такие сообщества часто обеспечивают возможность коллективных политических действий для защиты прав и интересов гомосексуалистов. Доля тех людей (мужчин и женщин), которые имеют опыт гомосексуальных отношений или испытывали определенную склонность к гомосексуализму, значительно больше, чем тех, кто открыто ведет образ жизни геев. О масштабах распространения гомосексуализма в западных культурах впервые узнали после того, как были опубликованы результаты исследования Альфреда Кинси. Согласно его данным, не более половины всех американцев-мужчин полностью гетеросексуальны, если судить по их сексуальной активности и наклонностям после достижения половой зрелости. По Кинси, 8 % опрошенных имели исключительно гомосексуальные связи в течение последних трех лет и более. Еще 10 % практиковали гомосексуальные и гетеросексуальные связи примерно в равных пропорциях. Наиболее неожиданным в исследовании Кинси было то, что 37 % мужчин имели хотя бы одну гомосексуальную связь с достижением оргазма. Еще 13 % ощущали желание гомосексуального контакта, но не реализовали его. Согласно Кинси, уровень гомосексуальности среди женщин значительно ниже. Около 2 % женщин полностью гомосексуальны, 13 % сообщили о наличии у них гомосексуального опыта, а еще 15 % признались, что имели желание вступить в гомосексуальную связь, но не осуществили его. Кинси с коллегами были поражены масштабами распространения гомосексуализма, о котором свидетельствовали данные, поэтому результаты были перепроверены разными методами, однако выводы остались прежними (Kinsey et al. 1948, 1953). Результаты доклада «Социальная организация сексуальности» ставят под сомнение результаты исследований Кинси о распространенности гомосексуализма. В противоположность 37 % у Кинси, только 9 % мужчин в более позднем исследовании заявили о том, что достигали оргазма при гомосексуальном сношении, только 9 % мужчин заявили о том, что имели желания гомосексуального контакта (по сравнению с 13 %), и только 3 % заявили о гомосексуальной связи в прошедшем году. Как признают авторы исследования, позорное клеймо, которое несет гомосексуализм, возможно, связано с общей недооценкой масштабов гомосексуального поведения. Кроме того, как заметил один критик, случайный отбор авторов не учитывал географической концентрации гомосексуалистов в крупных городах, где они составляют, возможно, около 10 % всего населения (Laumann et al. 1994). Лесбиянство Мужская гомосексуальность привлекает обычно больше внимания, чем лесбиянство — гомосексуальная привязанность или половые контакты между женщинами. Лесбийские группы часто менее организованы, чем мужчины в гей-субкультуре и имеют меньше случайных связей. В кампаниях за права гомосексуалистов лесбийские группы часто рассматриваются так, как будто их интересы совпадают с интересами мужских организаций. И хотя между мужчинами-гомосексуалистами и лесбиянками иногда существует тесное сотрудничество, имеются, однако, и различия, особенно когда лесбиянки активно участвуют в феминистском движении. Ряд лесбиянок пришли к ощущению, что движение за права геев отражает интересы мужчин, в то время как либеральные и радикальные феминисты сосредоточены исключительно на проблемах гетеросексуальных представительниц среднего класса. В результате возникла заметная ветвь лесбийского феминизма, которая способствует распространению «женских ценностей» и бросает вызов установившейся мужской гетеросексуальной ортодоксии. Многие женщины-геи рассматривают лесбиянство не столько как сексуальную ориентацию, сколько как приверженность солидарности с другими женщинами и формированию этой солидарности в политической, социальной и личной сферах (Seidman 1997).Отношение к гомосексуальности
Установка на нетерпимое отношение к гомосексуализму в прошлом была настолько жестокой, что мифы, окружавшие это явление, стали рушится только в последние годы. Гомосексуализм — не болезнь, и он не связан явно с какой-либо формой психического расстройства. Мужчины-гомосексуалисты отнюдь не предрасположены к определенным профессиям типа парикмахера, дизайнера или художника. Как и термины расизм и сексизм, термин гетеросексизм относится к явлению, когда негетеросексуальные люди классифицируются и дискриминируются на основании их сексуальной ориентации. Гомофобия — это страх и презрение по отношению к гомосексуалистам. Хотя гомосексуализм постепенно все больше признается, гетеросексизм и гомофобия остаются вкрапленными во многие реалии западного общества; антагонизм по отношению к гомосексуалам проявляется в эмоциональном отношении многих людей. Все еще слишком часто встречаются примеры жестоких нападений и убийств гомосексуалистов. По этой причине многие группы гомосексуалистов борются за признание действий против гомосексуалистов как «преступлений из ненависти».См. вопросы, поднимаемые в подразделе «Преступления против гомосексуалистов» (раздел «Жертвы преступлений и преступники» в главе 8).
Некоторые типы мужского гомосексуального поведения могут, по-видимому, рассматриваться как попытки отказа от обычной связи между мужественностью и властью — возможно, одна из причин того, почему в гетеросексуальном обществе о гомосексуалистах думают как об угрозе. Гомосексуалисты склонны двумя способами разрушать женоподобный имидж, обыкновенно связанный с ними. Одни чрезмерно культивируют вызывающее женоподобие — гомосексуальная мужественность, пародирующая стереотип. Другие создают имидж настоящего «мачо». Это тоже не является общепринятым образом мужественности; мужчины, одетые как мотоциклисты или ковбои, тоже пародируют мужественность, преувеличивая ее (Bertelson 1986). Ряд социологов исследовал влияние эпидемии СПИДа на общепринятое отношение к гомосексуальности. Они установили, что эпидемия изменила ряд основных идеологических установок гетеросексуальной мужественности. Например, сексуальность и сексуальное поведение стали предметами публичных дискуссий, начиная от поддерживаемых правительственными фондами кампаний за безопасный секс до освещения в СМИ распространения эпидемии. Эта эпидемия поставила под угрозу легитимность традиционных идей о морали, обратив внимание общества на распространенность добрачных половых отношений, внебрачных связей и негетеросексуальных отношений в обществе. Но более всего, увеличив видимое число гомосексуалов, эпидемия СПИДа поставила под вопрос «универсальность» гетеросексуальности и продемонстрировала существование альтернатив традиционной нуклеарной семье (Redman 1996). Однако реакция на это иногда принимала истерические и параноидальные формы. Гомосексуалистов рисовали как отклоняющуюся от нормы угрозу моральному благополучию «нормального общества». Чтобы сохранить гетеросексуальную мужественность как «норму», необходимо маргинализовать и очернить надвигающуюся угрозу (Rutherford and Chapman 1988).
Кампания за равные права и признание
Во многих отношениях гомосексуальность стала более привычной, превратилась в признанную часть сегодняшнего общества. Во многих странах были приняты законы, защищающие права гомосексуалистов. Когда в Южной Африке в 1996 г. принимали конституцию, эта страна стала единственной в мире, конституционно гарантирующей права гомосексуалистов. В ряде стран Европы, например, в Дании, Норвегии и Швеции, гомосексуальным партнерам теперь разрешено регистрировать свои отношения и иметь право на большинство прерогатив брака. Городская и местная администрация в Голландии, Франции и Бельгии начали регистрировать гомосексуальное партнерство. В американских штатах Гавайи и Вермонт приняты законы, легализующие гомосексуальные браки и «гражданские союзы» (гомосексуальное партнерство с теми же правами и обязанностями, что и в браке). Недавнее судебное решение в Великобритании постановило, что гомосексуальная пара, находящаяся в стабильных отношениях, может быть определена как семья, — решение, имеющее большие последствия для прав наследования и родительского статуса. Все больше и больше геев-активистов пытаются добиться полной легализации гомосексуальных браков. Почему это так их заботит, когда среди гетеросексуальных пар брак, похоже, теряет свое значение? Дело в том, что они хотят иметь тот же статус, те же права и обязанности, что и любой другой. Брак в наши дни является прежде всего моральным обязательством, но будучи признан государством, он имеет определенные законные применения. Брак дает партнерам права на принятие медицинских решений о жизни и смерти, права наследования и права на раздел пенсий, а также другие экономические преимущества. «Церемония подписания обязательства» — нелегальное вступление в брак, ставшее популярным как среди гомосексуалов, так и среди гетеросексуалов в Америке, не предоставляет этих прав и обязанностей. И наоборот, конечно, это одна из причин, по которой многие гетеросексуальные пары решают либо отложить свадьбу, либо не вступать в брак вообще. Противники гомосексуального брака осуждают его, считая такой брак несерьезным или неестественным. Они рассматривают этот брак как легитимизацию сексуальной ориентации, которую государство должно стараться обуздать. В Америке существуют группы воздействия, стремящиеся побудить гомосексуалов изменить свои взгляды и вступить в брак с людьми противоположного пола. Некоторые все еще рассматривают гомосексуализм как извращение и яростно выступают против всяких постановлений, которые могли бы узаконить его. Но большинство геев просто хотят, чтобы их рассматривали как обычных людей. Они подчеркивают, что гомосекуалисты также нуждаются в экономической и эмоциональной безопасности, как и все остальные. В книге «Практически нормален» Эндрю Салливан убедительно показывает преимущества гомосексуальных браков (Sullivan 1995). Сам католик и гомосексуалист, он мучительно пытается найти ответ на вопрос, как совместить в себе религиозные убеждения со своим типом сексуальности. Он доказывает, что гомосексуальность, по крайней мере, частично, определяется природой, а не есть что-то, что просто «выбирается». Требовать, чтобы кто-то отвергал гомосексуальность — то же самое, что требовать, чтобы он или она отказывались от возможности любить и быть любимыми. Такая любовь должна быть способна на выражение в браке. Как заключает Салливан, если мы хотим, чтобы гомосексуалисты не стали отверженным меньшинством, браки среди геев должны быть легализованы.Проституция
Проституцию можно определить как предоставление сексуальной благосклонности за деньги. Слово «проституция» вошло в обиход в конце XVIII в. В древности большинство лиц, промышлявших сексом за экономическое вознаграждение, были куртизанками, конкубинами (содержанками) или рабынями. В традиционных обществах куртизанки или конкубины зачастую имели высокий социальный статус. Ключевым признаком современной проституции является то, что женщины и их клиенты обычно не знают друг друга. Хотя мужчины могут стать «регулярными посетителями», первоначально отношения устанавливаются не на основе личного знакомства. Это было не так для большинства существовавших прежде форм удовлетворения сексуальных потребностей за денежное вознаграждение. Проституция напрямую связана с распадом малых сельских сообществ, развитием больших обезличенных городов и коммерциализацией общественных отношений. В малых традиционных сообществах отношения между полами контролировались тем, что они были заметны для всех. В новых растущих городах легко устанавливались более анонимные социальные связи.Проституция сегодня
В современной Великобритании ряды проституток пополняются в основном за счет беднейших слоев, как было и раньше, но к ним присоединяется и значительное число представительниц среднего класса. Растущее число разводов толкает некоторых попавших в нужду женщин к проституции. Кроме того, некоторые женщины, не сумевшие найти работу после получения образования, устраиваются массажистками или девочками по вызову, подыскивая себе тем временем другую работу. Пол Дж. Голдстайн классифицировал проституток в категориях профессиональных убеждений и условий работы. Убеждения определяют частоту, с которой женщина занимается проституцией. Многие женщины вовлечены в это занятие лишь временно, совершив это лишь несколько раз и затем отказавшись надолго или навсегда. «Случайные» проститутки — это те, кто довольно часто, но нерегулярно принимает деньги за секс как прибавку к основному доходу. Другие занимаются этим постоянно, делая проституцию основным источником дохода. Под условиями работы понимается среда, в которой работа выполняется, и процесс взаимодействия, в который женщина вовлечена. «Уличные» проститутки пристают к мужчинам и делают свой бизнес на улице. «Девочки по вызову» договариваются с клиентами по телефону, приглашая их к себе домой или выезжая к ним. «Домашняя» проститутка — это женщина, работающая в частном клубе или борделе. «Массажистки» работают в стенах лечебно-оздоровительных учреждений, официально предлагающих только законные услуги, такие как массаж и оздоровительные процедуры. Многие женщины занимаются проституцией на бартерной основе (в качестве оплаты принимаются не деньги, а товары или услуги). Как показало исследование Голдстайна, большинство девочек по вызову постоянно занимаются сексуальным бартером, обменивая секс на телевизионную аппаратуру, услуги по ремонту машин и бытовой техники, одежду, консультации юристов и стоматологическую помощь (Goldstein 1979). Принятая в 1951 г. резолюция ООН осуждает тех, кто организует проституцию или наживается на проститутках, но не запрещает проституцию как таковую. Резолюция была формально принята 53 странами-членами ООН, включая Великобританию, хотя законодательства этих государств в отношении проституции сильно различаются (см. следующую врезку «Проститутки, их клиенты и европейские законы»). В ряде стран проституция находится вне закона. В других странах (например, в Великобритании) запрещены лишь определенные ее виды, такие как уличная и детская проституция. В некоторых странах центральные или местные власти выдают лицензии официально признанным публичным домам или секс-салонам, таким, как «Эрос-центры» в Германии или «дома секса» в Амстердаме. В октябре 1999 г. датский парламент признал проституцию официальной профессией примерно для 30 000 женщин, работающих в индустрии секса. Все места, в которых продаются секс-услуги, должны быть определены, лицензированы и проинспектированы местными властями. Лишь немногие страны разрешают мужскую проституцию. Применение законодательства против проституции в редких случаях наказывает клиентов. Те, кто покупает сексуальные услуги, не подвергаются аресту или наказанию, а в ходе судебного процесса их имена могут не разглашаться. Клиентура проституток исследована намного меньше, чем они сами, и вряд ли кто предполагает (как это часто делается в отношении проституток), что это люди с психологическими нарушениями. Такой дисбаланс в изучении явления на деле выражает некритический подход в рамках ортодоксальных стереотипов сексуальности, в соответствии с которыми для мужчин считается «нормальным» активно искать разнообразие в удовлетворении своих сексуальных потребностей, а те, кто удовлетворяет эти нужды, осуждаются.Детская проституция и глобальная «секс-индустрия»
Часто в проституцию вовлекаются дети. Результаты исследования детской проституции в США, Великобритании и Германии говорят о том, что большинство детей, убежавших из дома и оставшихся без средств к существованию, прибегают к проституции, чтобы выжить. Обращение многих маленьких беглецов к проституции является отчасти непредвиденным следствием законов, направленных против эксплуатации труда малолетних. Однако не вызывает сомнения, что все несовершеннолетние проститутки сбежали из дома. Можно выделить три основные категории детей, занимающихся проституцией (Janus and Heid Bracey 1980): беглецы — те, кто либо покидает дом и не разыскивается родителями, либо упорно бежит всякий раз, когда его находят и возвращают родителям; гуляки — те, кто в основном живет дома, но определенные периоды времени проводит вне его, например, пропадая время от времени на несколько ночей; отказники — дети, родители которых безразличны к тому, что их сыновья и дочери делают, или активно отвергают их. Все категории включают как мальчиков, так и девочек. Детская проституция является частью индустрии секс-туризма в некоторых районах мира, например, в Таиланде и на Филлипинах. Целевые туры, ориентированные на проституцию, влекут в эти районы мужчин из Европы, Соединенных Штатов и Японии, хотя сейчас они признаны незаконными в Великобритании. Участницы азиатских женских организаций организовывали публичные протесты против таких туров, но они тем не менее продолжаются. Происхождение секс-туризма на Дальнем Востоке имеет свои корни в поставках проституток американским войскам в период корейской и вьетнамской войн. В Таиланде, на Филлипинах, во Вьетнаме, Корее и на Тайване были созданы «центры отдыха и развлечений». Некоторые их них сохранились по сей день, в частности, на Филлипинах, обслуживая регулярные партии туристов, а также военных, находящихся в регионе. В докладе, опубликованном в 1998 г. Международной организацией труда (МОТ), утверждается, что проституция и секс-индустрия в юго-восточной Азии благодаря быстрому росту за последние десятилетия приобрели размеры полностью оформившегося коммерческого сектора экономики. Несмотря на замедление экономического развития во многих азиатских странах, рост потребности в торговле сексуальными услугам продолжается. Отчасти это связано с интернационализацией этого явления — растущая разница курсов азиатских и международных валют делает секс-туризм все более доступным и привлекательным для иностранцев. Кроме того, секс-индустрия связана с местным уровнем безработицы. Во времена экономических затруднений женщины и дети часто рассматриваются как «лишнее» население. Некоторые отчаявшиеся родители сами принуждают своих детей к проституции; другие молодые люди непреднамеренно втягиваются в торговлю секс-услугами, отвечая на рекламные призывы, приглашающие «актрис» или «танцовщиц». Важным фактором роста секс-индустрии являются миграционные потоки из сельских районов к городским, так как многие женщины, мечтающие покинуть свои традиционные надоевшие жилища, хватаются за любую возможность сделать это. Доклад МОТ предупреждает, что во многих странах, где особенно распространена секс-индустрия, отсутствует система законов или социальная политика в отношении управления многочисленными последствиями этого явления. Проституция существенно влияет на распространение СПИДа и болезней, передающихся половым путем. Она также часто связана с жестокостью, преступностью, торговлей наркотиками, эксплуатацией и нарушением прав человека (Lim 1998).────────────────────────────┐ ■ Проститутки, их клиенты и европейские законы Англия и Уэльс. Занятие проституцией не считается незаконным» однако регламентирующее его законодательство считается самым суровым в мире. Приставание к мужчинам на улице и праздношатание с целью приставания так же незаконны, как совершение биржевых сделок после закрытия биржи. Проститутка может законным образом заниматься своим делом в собственном доме, но две или более женщин, работающих вместе под одной крышей, образуют незаконный бордель. Как мужчины, так и женщины, контролирующие проституток (сутенеры), могут быть осуждены как живущие на аморальные заработки. Германия. Проституция широко допускается и контролируется путем регистрации. Законы меняются от одной земли к другой. В городах наблюдается быстрый рост количества легальных борделей. Гамбург уступает только Амстердаму в качестве секс-столицы Европы. Группы давления борются за признание проституции настоящей работой. Италия. Проституция незаконна, хотя наказания редки. Давление со стороны Ватикана помогло отменить недавние дебаты о легализации борделей, в которых занято все возрастающее число женщин из Восточной Европы и Африки. Римско-католические и другие благотворительные организации призвали к пересмотру закона о запрете борделей. Франция. Занятие проституцией законно, но управляемые государством бордели были закрыты в 1946 г. Сейчас все бордели незаконны, как и приставание на улице, хотя такое приставание со стороны женщин допускается в кварталах красных фонарей. Французская полиция объединила усилия с германской и полициями других стран в борьбе с транснациональной проституцией. Россия. Проституция незаконна, хотя мало кто обращает внимание на закон. Наказание осуществляется согласно гражданскому, а не уголовному законодательству и поэтому может заключаться только в наложении штрафа. Женщина, задержанная за приставание на улице, может быть оштрафована на сумму, эквивалентную минимальному месячному заработку — примерно 2 фунта стерлингов, что составляет ничтожную сумму для проституток в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Всякий содержатель борделя может быть наказан по уголовному закону и подвергнут тюремному заключению. Швеция. Долгое время Швеция относилась к числу наиболее либеральных стран мира в вопросе об отношении к сексу и проституции. Сейчас там принят закон, согласно которому проститутка может продолжать легально работать, но ее клиент может быть осужден. Плата за секс признается преступным деянием. Источник: Guardian. 30 oct. 1999. ────────────────────────────┘
Причины проституции
Почему существует проституция? Определенно, это явление, с которым смирились, потому что оно выдерживает все попытки властей уничтожить его. Кроме того, это почти всегда рассматривается как продажа женщиной сексуальных услуг мужчине, а не наоборот, хотя кое-где, например в Гамбурге, существуют «дома удовольствий», в которых мужчины предоставляют сексуальные услуги женщинам. Конечно, существует и мужская проституция, когда мальчики или мужчины продают себя другим мужчинам. Никаким единственным фактором проституцию не объяснить. Может показаться, что у мужчин просто более сильные и чаще проявляющиеся половые потребности, чем у женщин, и поэтому они пользуются услугами проституток. Но это объяснение неприемлемо. По-видимому, большинство женщин могут развить свою сексуальность до значительно более высокого уровня, чем у мужчин того же возраста. Если бы проституция существовала лишь для удовлетворения половых потребностей, тогда наверняка было бы столь же много мужчин, готовых услужить женщинам. Наиболее общий и убедительный вывод, который можно сделать, состоит в том, что проституция отражает и в определенной мере помогает сохранить распространенную среди мужчин тенденцию рассматривать женщин как предметы, которые можно «использовать» для сексуальных целей. Проституция выражает в определенной форме неравенство между мужчинами и женщинами в распределении власти. Конечно, в проституции имеется и много других элементов. Она предлагает способ получения полового удовлетворения для тех, кто вследствие своих физических недостатков или ограничительных моральных запретов не может найти себе иного сексуального партнера. Проститутки обслуживают мужчин, находящихся вдали от дома, тех, кто желает вступить в анонимную связь, тех, кто имеет необычные сексуальные вкусы, неприемлемые для других женщин. Но все эти факторы относятся лишь к масштабам и специфике проявления проституции, а не к общей природе самого явления.Заключение: гендер и глобализация
В большей части этой главы наше внимание было сосредоточено на понятиях гендера в рамках западных индустриальных обществ. Мы видели, как женское движение породило мощный раздел социологической теории, призванной дать объяснение постоянному гендерному неравенству и предложить программу его преодоления. Однако феминизм не просто академическое упражнение, и он не ограничен Северной Америкой и Западной Европой. Женское движение — динамичное интернациональное явление, нацеленное как на издавна существующее гендерное неравенство, так и на новые вызовы, с которыми сталкиваются женщины в эпоху глобализма. Так, в Китае женщины добиваются сохранения равных прав при найме на работу и равного участия в политике. В Южной Африке женщины играли основную роль в битве против апартеида, а в постапартеидную эру борются за совершенствование допуска людей к образованию, здравоохранению, обеспечению жильем и работой. В Перу активистки в течение десятилетий боролись за увеличение роли женщин в общественной сфере. Хотя участники женских движений в течение многих лет устанавливали связи с активистами из других стран, с развитием глобализации число и значимость таких контактов возросла. Главным форумом для установления межнациональных контактов стала Женская конференция ООН, которая с 1975 г. состоялась четыре раза. На самой последней конференции 1995 г. в Пекине собралось 50 000 чел., из которых более двух третей — женщины. Присутствовали делегаты от 181 страны, а также представители тысяч неправительственных организаций. В поисках путей для обеспечения равного доступа женщин к экономическим ресурсам, включая землю, кредиты, науку и технологии, профессиональное обучение, информацию, связь и рынки, участники конференции провели десять дней, слушая доклады о положении женщин в мире, обсуждая пути улучшения их положения и устанавливая профессиональные и личные контакты. Программа действий, принятая участниками конференции, призывает все страны мира направить все силы на решение следующих вопросов: • постоянное и растущее бремя нищеты среди женщин; • насилие по отношению к женщинам; • влияние вооруженных и других конфликтов на женщин; • неравенство мужчин и женщин в вопросах разделения власти и принятия решений; • стереотипы в отношении женщин; • гендерное неравенство в управлении природными ресурсами; • постоянная дискриминация и ущемление прав несовершеннолетних девочек. Должны ли женские движения, чтобы быть эффективными, иметь международную направленность? Являются ли интересы женщин в основном одинаковыми во всем мире? Что может дать феминизм женщинам в развивающемся мире? Эти и многие другие вопросы горячо обсуждаются на фоне быстрого развития процессов глобализации.Краткое содержание
1. Социологи различают пол и гендер. Пол относится к биологическим различиям между мужским и женским телами, а гендер определяет психологические, социальные и культурные различия между мужчинами и женщинами. 2. Некоторые специалисты отстаивают ту точку зрения, что различия полов являются генетически обусловленными. Однако эта гипотеза не имеет убедительных доказательств. 3. Гендерная социализация — это обучение гендерным ролям с помощью таких средств, как семья или СМИ. Считается, что гендерная социализация начинается, как только ребенок появляется на свет. Дети учат и интернационализируют нормы и ожидания, которые, как им кажется, соответствуют их биологическому полу. Таким образом, они усваивают «сексуальные роли», а также те мужские и женские особенности (мужественность и женственность), которые им сопутствуют. 4. Некоторые социологи полагают, что как пол, так и гендер являются социально сконструированными, могут принимать разные формы и изменяться. Не только пол теряет определенный «смысл», но и сама основа — человеческое тело может изменяться в результате социальных влияний и технологических вторжений. 5. Гендерное неравенство — это различия в статусе, объемах власти и престиже, которыми обладают в разных ситуациях мужчины и женщины. При объяснении гендерного неравенства функционалисты подчеркивают, что гендерные отличия и разделение труда по половому признаку вносят вклад в социальную стабильность и интеграцию. Подход феминистов отрицает идею, что гендерное неравенство является чем-то естественным. Либеральные феминисты объясняют гендерное неравенство социальными и культурными отношениями, например, сексизмом и дискриминацией. Радикальные феминисты доказывают, что мужчины ответственны за эксплуатацию женщин благодаря патриархату — систематическому господству мужчин над женщинами. Чернокожие феминисты считают, что для понимания подавления, испытываемого небелыми женщинами, в дополнение к гендеру существенными являются такие факторы, как классы и этничность. 6. Гендерные отношения касаются социально окрашенных взаимодействий между мужчинами и женщинами в обществе. Некоторые социологи полагают, что существует гендерный порядок, в котором выражения мужественности и женственности выстроены в иерархию, способствующую превосходству мужчин над женщинами. 7. В последние годы больше внимания уделяется природе мужественности. Некоторые наблюдатели полагают, что широкие экономические и социальные преобразования провоцируют кризис мужественности, когда размываются традиционные роли мужчин. 8. Хотя человеческая сексуальность имеет очевидную биологическую основу, в большинстве случаев сексуальное поведение является не врожденным, а есть результат обучения. В разных культурах и даже внутри одной культуры сексуальные привычки варьируют в широком диапазоне. На Западе важную роль в формировании сексуальных склонностей сыграло христианство. В обществах с жесткими сексуальными запретами часто встречаются двойные стандарты и лицемерие. Как показывает изучение сексуального поведения, пропасть между нормами и реальной практикой может быть чудовищной. На Западе отношение нетерпимости к сексуальности сменилось в 1960-е гг. более либеральным отношением, последствия чего видны по сей день. 9. Большинство людей в мире гетеросексуальны, однако существует много меньшинств с иными сексуальными вкусами и наклонностями. По-видимому, гомосексуальность существует во всех культурах, и в последние годы отношение к гомосексуалистам стало более спокойным. В ряде стран приняты законы, признающие гомосексуальные союзы и дающие гомосексуальным парам те же права, что и женатым людям. 10. Проституция — это предоставление сексуальной благосклонности за деньги. В современных обществах существуют разные виды проституции, включающие мужскую и детскую. В ряде стран национальные и местные власти разрешают проституцию, но в большинстве стран проституция находится вне закона. В некоторых регионах мира бурно развивается ориентированная на проституцию индустрия секс-туризма.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Было бы возможно или желательно уничтожить гендерные различия в обществе? 2. Возможно ли сохранить гендерные различия, уничтожив при этом гендерное неравенство? 3. Каким образом такие факторы, как класс, этничность и сексуальная ориентация формируют наш гендерный опыт? 4. Какие новые типы мужественности и женственности могут возникнуть в ближайшие десятилетия как ответ на расширяющиеся процессы социальных изменений? 5. Какими путями социальное взаимодействие структурируется вокруг предполагаемой гетеросексуальной нормы? 6. Чем проституция отличается от любого другого способа зарабатывания на жизнь?Дополнительная литература
Horton John and Mendus Sue (eds.). Toleration, Identity, and Difference. Basingstoke: Macmillan, 1999. Kimmel Michael S. and Messner Michael A. Men’s Liver. Boston, Mass.: Allyn and Bacon, 1998. Schiebinger Londa. Has Feminism Changed Science? Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. Segal Lynne. Why Feminism? Cambridge: Polity, 1999. Seidman Steven. Difference Troubles: Queering Social Theory and Sexual Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.Интернет-линки
Архив гендерных исследований положения женщин — международные линки http://www.iib.utsa.edu/Archives/links2.htm#intl Библиотека Фосета, ныне известная как Женская библиотека www.lgu.ac.uk/fawcett/main.htm Мужественность и утверждение http://www.newcastle.edu.au/department/so/kibby.htm Директория сомнительных ресурсов http://www.qrd.org/ Голос Шаттла http://vos.ucsb.edu/shuttle/gender.htmlГЛАВА 6 СОЦИОЛОГИЯ ТЕЛА: ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ И СТАРЕНИЕ
Всю жизнь Джан Мейсон отличалась пышущим здоровьем. Но когда она стала испытывать сильную усталость и депрессию, выяснилось, что ее лечащий врач не в силах облегчить состояние Джан.Раньше я была очень здоровой. Я могла плавать, играть в сквош, бегать. И вдруг все рухнуло. Я пошла к докторам, но никто не мог объяснить мне, в чем дело. Мой лечащий терапевт сказал, что это инфекционный мононуклеоз и прописал антибиотики, вызвавшие у меня страшный стоматит. Затем он стал говорить, что не знает, в чем дело... Я проделала все анализы. Мне действительно было очень плохо. Так продолжалось шесть месяцев. Я была больна, а они не знали, что со мной (цит. по: Sharma 1992, 37).Доктор посоветовал Джан попробоватьантидепрессанты, полагая, что она страдает от последствий стресса. Однако Джан знала, что антидепрессанты — не для нее, хотя и понимала, что отсутствие диагноза вызывает в ее жизни большой стресс. Прослушав одну передачу по радио, Джан стала подозревать, что ее вялость может быть результатом послевирусного синдрома утомления. По совету подруги она обратилась за помощью к гомеопату — практикующему альтернативную медицину врачу, который оценивает состояние всего организма, а затем с помощью микроскопических лекарственных доз лечит «подобное подобным», предполагая, что симптомы болезни являются частью процесса самоизлечения организма. Найдя гомеопата, который ей подошел, Джан была удовлетворена полученным лечением (Sharma 1992). Джан принадлежит к тому растущему числу людей, которые постоянно используют для лечения неортодоксальную медицину. За последнее десятилетие во многих промышленно развитых странах возник всплеск интереса к возможностям альтернативной медицины. Растут как число врачей, практикующих альтернативную медицину, так и доступные формы лечения. От траволечения до акупунктуры, от рефлексологии до хиропрактики методы лечения в современном обществе свидетельствуют о взрыве интереса к альтернативному здравоохранению, которое либо вообще не соприкасается, либо только частично перекрывается с «официальной» медицинской системой. По оценкам, не менее одного из четырех британцев консультируются у специалистов по альтернативной медицине. Судя по опросам, типичный индивидуум, прибегающий к альтернативным формам лечения, — это женщина от молодого до среднего возраста, принадлежащая к среднему классу. Промышленно развитые страны обладают самыми богатыми и технически оснащенными медицинскими учреждениями в мире. Почему же тогда постоянно растет число людей, отказывающихся от традиционной системы здравоохранения в пользу «ненаучных» методов лечения вроде аромато- или гипнотерапии? Во-первых, важно подчеркнуть, что не каждый человек, использующий альтернативные методы лечения, полностью отказывается от ортодоксального лечения (хотя некоторые альтернативные подходы, например гомеопатия, полностью отвергают сами основы ортодоксальной медицины). Многие люди используют комбинацию обоих подходов. По этой причине некоторые ученые предпочитают называть неортодоксальную практику не альтернативной, а дополнительной медициной (Saks 1992). Есть ряд причин, заставляющих людей обращаться к услугам альтернативного врача. Некоторые чувствуют, что ортодоксальная медицина недостаточна или неспособна вылечить хронические ноющие боли или симптомы стресса и страха. Другие разочарованы тем, как функционирует современная система здравоохранения с ее длинными очередями, направлениями к цепочке специалистов, финансовыми ограничениями и т. п. С этим связаны и тревоги по поводу вредных побочных явлений медикаментозного лечения и хирургического вмешательства — двух основных методов современной системы здравоохранения. В основе выбора некоторых людей в пользу альтернативной медицины лежит асимметричная по силе связь докторов с пациентами. Люди чувствуют, что роль «пассивного пациента» не позволяет им достаточно глубоко проникнуть в суть лечения и процесса выздоровления. Наконец, ряд лиц предъявляет религиозные или философские возражения ортодоксальной медицине, которая пытается лечить душу и тело по отдельности. Они убеждены, что в практике ортодоксальной медицины часто не принимаются во внимание духовный и психологический аспекты здоровья и болезни. Как мы увидим в этой главе, все эти тревоги представляют неявную или явную критику биомедицинской модели здоровья, на основе которой действует все западное здравоохранение. Биомедицинская модель здоровья определяет болезнь в объективных терминах и утверждает, что здоровое тело может быть восстановлено путем научно обоснованного медицинского лечения. Рост альтернативной медицины ставит перед социологами ряд интересных вопросов. Прежде всего, это захватывающее отражение тех преобразований, которые происходят внутри современных обществ. Мы живем в эпоху, когда из самых разных источников становится доступной все больше и больше информации, побуждающей нас выбирать разные пути в жизни. Забота о здоровье в этом отношении не является исключением. Люди все больше становятся «потребителями здоровья», занимая активную позицию по отношению к собственному здоровью и благополучию. Мы можем не только выбирать разных лечащих врачей для консультаций, но мы настаиваем на большей вовлеченности в свое собственное лечение и уход. В этом смысле рост альтернативной медицины связан с расширением движения самопомощи, включающего группы поддержки, обучающие кружки и книги для самообучения. Сейчас люди более охотно, чем когда-либо раньше, берут в руки контроль за своими жизнями и активно перестраивают их, вместо того чтобы следовать инструкциям или мнениям других. Еще один представляющий интерес для социологов вопрос связан с меняющимся в последние годы характером здоровья и болезни. Похоже, что многие болезненные состояния и заболевания, для лечения которых люди обращаются к альтернативной медицине, сами являются продуктами нашего времени. Бессонница, страхи, стресс, депрессия, переутомление и хронические боли (причиной которых являются артрит, рак и другие болезни) — число этих заболеваний в промышленно развитых странах растет. Хотя все эти болезни существуют давно, по-видимому, сейчас они являются причиной больших страданий и разрушений человеческого здоровья, чем когда-либо раньше. Недавние обследования показали, что стресс превзошел обычную простуду, став главной причиной невыхода на работу. Всемирная организация здравоохранения предсказывает, что через двадцать лет стресс будет наиболее разрушающей здоровье болезнью в мире. По иронии судьбы эти последствия современной жизни относятся к тем, с которыми ортодоксальная медицина справляется с большим трудом. Хотя альтернативная медицина вряд ли превзойдет «официальное» здравоохранение, есть все указания на то, что ее роль будет возрастать.
Социология тела
Раздел науки, называемый социологией тела, исследует особенности того, как наши тела подвержены влиянию общества. Как и все человеческие существа, мы телесны — мы все имеем тело. Но наше тело не есть что-то, чем мы просто обладаем, что существует вне общества. На наши тела глубоко влияет как социальный опыт, так и нормы и ценности тех групп населения, к которым мы принадлежим. Лишь недавно социологи начали замечать глубинную природу взаимосвязей общественной жизни и тела. Таким образом, это поле исследований является совершенно новым и одним из самых увлекательных. Социология тела включает ряд основных тем, о которых пойдет речь в данной главе. Одна из главных тем касается влияния социальных изменений на тело, так как по всей книге подчеркиваются сами социальные изменения. В нашем быстро меняющемся мире возникают новые риски и вызовы, которые могут влиять на наши тела и состояние здоровья. Одновременно возникает возможность сделать выбор того, как вести себя в повседневной жизни и заботиться о собственном здоровье. В медицине и системе здравоохранения происходят колоссальные изменения, позволяющие людям играть более заметную роль в собственном лечении и предотвращении заболеваний. Меняются связи между специалистами-медиками и пациентами, причем все больше растет популярность «альтернативной» медицины. В следующем разделе мы рассматриваем социальный базис здоровья, концентрируя внимание на характерных особенностях здоровья и болезни и их связях с социальным неравенством. Затем мы исследуем развитие научной медицины и возникновение биомедицинской модели здоровья. Мы обсудим оба эти процесса и те принципы, которые лежат в основе современной медицины, а также высказанные в адрес этих принципов критические замечания. Далее мы обратимся к социологическим перспективам здоровья, сосредоточившись, в частности, на работах символических интеракционистов, исследовавших опыт болезни. Наконец мы поговорим о стареющем теле. Как и многие другие аспекты нашей жизни в современных обществах, старость совсем не похожа на то, чем она была ранее. Процесс старения — не просто физический процесс, а нынешнее положение пожилых людей в обществе фундаментально изменилось.Социальный базис здоровья
В XX в. зафиксирован значительный общий рост продолжительности жизни людей в индустриально развитых странах. Удалось практически искоренить такие заболевания, как полиомиелит, скарлатина и туберкулез. По сравнению с другими частями света стандарты здоровья и благосостояния в этих странах относительно высоки. Многие из успехов в здравоохранении приписываются мощи современной медицины. Общепринятое предположение состоит в том, что медицинские исследования были и продолжают быть успешными в установлении биологических причин болезни и поиске эффективных методов ее лечения. Продолжая эту логическую цепочку, можно ожидать, что с ростом медицинских знаний и компетентности мы увидим прочное и стабильное улучшение здоровья людей. Хотя такой подход к здоровью и болезни чрезвычайно распространен, он не слишком удовлетворяет социологов. Причина в том, что здесь игнорируется важная роль, которую играют влияние общества и окружающей среды на характер здоровья и болезни. Улучшение здоровья общества в целом за последние сто лет не может скрыть того факта, что здоровье и болезни распределены среди населения неравномерно. Исследования показали, что некоторые группы людей обладают значительно лучшим здоровьем, чем другие. Представляется, что это неравенство здоровья связано с более крупными социоэкономическими особенностями. Социологи и специалисты в области социальной эпидемиологии — науки, изучающей распределение и сферу распространения болезней и заболеваний среди населения, пытались объяснить связь между здоровьем и такими переменными, как социальный класс, пол, раса, возраст и географическое положение. Хотя большинство ученых признает наличие корреляции между здоровьем и социальным неравенством, в ученой среде нет согласия в вопросе о природе этой связи или в том, как взяться за изучение неравенства здоровья. Одна из главных спорных областей связана с относительной важностью индивидуальных переменных (таких как стиль жизни, поведение, диета и культурные особенности) по сравнению со структурными факторами и влиянием окружающей среды (например, распределением доходов и бедностью). В этом разделе мы рассмотрим изменения характеристик здоровья в Великобритании в соответствии с социальным классом, полом, расой и географическим положением, и сделаем обзор ряда конкурирующих объяснений их устойчивости.Социальный класс и здоровье
Исследования выявили четкую связь между показателями смертности и заболеваемости и тем социальным классом, к которому принадлежит человек. Важную роль сыграли два главных общебританских исследования здоровья — Черная книга (1980) и Разделение здоровья (1987), опубликовавшие данные о степени неравенства здоровья в зависимости от класса. Многие сочли результаты шокирующими. Хотя в обществе в целом заметна тенденция к улучшению здоровья, все же между разными классами существует значительное неравенство, влияющее на показатели здоровья от веса при рождении до артериального давления — и приводящее к риску хронических заболеваний. Люди, находящиеся на более высокой социоэкономической ступени, в среднем здоровее, выше, сильнее и дольше живут, чем люди из более низких социальных слоев. Наибольшая разница касается младенческой (дети, умирающие в первый год жизни) и детской смертности, но в любом возрасте более бедные люди подвергаются большему риску умереть, чем более богатые.Таблица 6.1 Младенческая смертность в Великобритании по социальным классам (число смертей на 1 000 живорожденных)
 Младенческая смертность — это смертность в течение года после рождения. Социальные классы определены по месту работы отца.
Источники: Office for National Statistics; General Register Office for Scotland; Northern Ireland Statistics and Research Agency. From Social Trends. 29. 1999. P. 120.
Младенческая смертность — это смертность в течение года после рождения. Социальные классы определены по месту работы отца.
Источники: Office for National Statistics; General Register Office for Scotland; Northern Ireland Statistics and Research Agency. From Social Trends. 29. 1999. P. 120.
Некоторые важнейшие неравенства здоровья, основанные на классовых различиях, были суммированы Брауном и Боттриллом (Brown and Bottrill 1999). • Неквалифицированные рабочие, занимающиеся физическим трудом, принадлежащие к низшему классу (социальный класс V), с вдвое большей вероятностью умирают до выхода на пенсию по сравнению с профессиональными служащими («белыми воротничками») из верхнего класса (социальный класс I). • В семьях неквалифицированных рабочих рождаются мертвыми или умирают в течение первой недели вдвое больше младенцев, чем в семьях лиц, занятых профессиональной деятельностью (см. табл. 6.1). • Человек, родившийся в социальном классе I (профессионалы), в среднем живет на семь лет дольше, чем человек, родившийся в социальном классе V (неквалифицированные рабочие). • Более 90 % основных причин смерти чаще встречаются в социальных классах IV и V (см. рис. 6.1). • Рабочие посещают своих докторов чаще и по более широкому кругу заболеваний, чем специалисты. Среди неквалифицированных работников физического труда встречается на 50 % больше продолжительных заболеваний, чем среди профессионалов. • Обусловленное классовыми различиями неравенство здоровья еще глубже проявляется среди людей, долгое время находящихся без работы; работающие люди обычно живут дольше, чем безработные.
 Рис. 6.1. Смертность в 1976–1989 гг. мужчин в возрасте от 15 до 64 лет. Распределение по причинам смерти и социальным классам в 1971 г.
Источники: Data from Population Trends. 80. 1995. From Sociology Review, 9.2. Nov. 1999. P. 3. Crown copyright.
Рис. 6.1. Смертность в 1976–1989 гг. мужчин в возрасте от 15 до 64 лет. Распределение по причинам смерти и социальным классам в 1971 г.
Источники: Data from Population Trends. 80. 1995. From Sociology Review, 9.2. Nov. 1999. P. 3. Crown copyright.
Исследования, проведенные в других промышленно развитых странах, ясно подтвердили существование влияния классов на здоровье. Ряд ученых полагает, что относительное неравенство здоровья между богатейшими и беднейшими членами общества расширяется. Однако, несмотря на растущее число исследований, посвященных установлению связи между неравенством здоровья и социальным классом, ученым пока что не удалось установить действительную природу этой связи. Было предложено несколько конкурирующих объяснений причин, обусловливающих наблюдаемую корреляцию. 1. Артефактные объяснения подчеркивают спорный характер полученной статистики. Ряд экспертов настаивает, что измерения как классовых, так и медицинских переменных могут быть подвержены разным формам искажений и быть ненадежными. Поэтому любая кажущаяся связь между изучаемыми переменными должна рассматриваться с недоверием — она может быть просто результатом способа отбора данных. 2. Объяснения, основанные на отборе по здоровью, утверждают, что здоровье человека влияет на его социальный статус, но не наоборот. Согласно такой точке зрения, люди с хорошим здоровьем более успешны и приспособлены к продвижению вверх по социальной лестнице, в то время как люди, имеющие плохое здоровье, будут, естественно, дрейфовать вниз. Например, ребенок, у которого рано появились проблемы со здоровьем, может в дальнейшей жизни не достичь того же образовательного и профессионального статуса, как его сверстники. Согласно приведенному доводу, плохое здоровье может привести к лишению работы, прекращению продвижения по службе и профессионального роста. 3. Культурное и поведенческое объяснения подчеркивают важное значение стиля жизни для здоровья. Низшие социальные классы имеют склонность к пагубным для крепкого здоровья занятиям — курению, некачественной еде, неумеренному потреблению алкоголя. Этот довод возлагает главную ответственность за плохое здоровье на саму личность, поскольку стиль жизни многих людей есть результат их свободного выбора. Некоторые защитники этого подхода утверждают, что такое поведение не находится под исключительным контролем индивидуумов, а погружено в контекст социальных классов. Тем не менее они также считают стиль жизни и структуру потребления главными причинами плохого здоровья. 4. Материалистическое или обусловленное окружающей средой объяснения видят причину неравенства здоровья в более крупных социальных явлениях, таких как бедность, распределение богатства и доходов, безработица, жилищные условия, загрязнение окружающей среды и плохие условия работы. Характерные особенности неравенства здоровья между классами определяются как результат материальных лишений. Неравенство здоровья можно уменьшить, только обратившись к коренным причинам социального неравенства в целом. В составленной по поручению правительства Черной книге, в которой был приведен обзор данных по неравенству здоровья и даны рекомендации по политике в этом вопросе и дальнейшим исследованиям, главное внимание было уделено материалистическим объяснениям этого неравенства. Не сбрасывая со счетов возможную справедливость других доводов, книга подчеркивала, что для победы над неравенством здоровья необходимы всеобъемлющая стратегия борьбы с бедностью и улучшение в образовании. Многие последующие исследования подтвердили эти выводы (Macintyre 1997). Однако официальная политика правительства в основном сосредоточилась на культурных и поведенческих объяснениях неравенства здоровья. Возглавлявшееся г-жой Тэтчер правительство консерваторов отвергло выводы Черной книги, заявив, что требуемые в ней общественные расходы нереалистичны и непредсказуемы. Последующие правительства продолжали делать упор на пропагандистские кампании борьбы за здоровое общество, пытаясь повлиять на выбор стиля жизни индивидуумов. Примерами двух таких попыток сформировать общественное поведение были движение против курения и программа «здорового питания». Подобные кампании побуждают людей взять на себя ответственность за собственное благополучие и обращают меньше внимания на то, каким образом социальное положение может ограничить их выбор и возможности. Например, свежие фрукты и овощи, являющиеся главными в хорошей диете, значительно дороже, чем большинство жирных и содержащих много холестерина продуктов. Исследования показывают, что наибольшее потребление здоровой пищи приходится на группы людей с высоким доходом. Новое лейбористское правительство более широко подошло к проблеме неравенства здоровья, признав важность для здоровья людей как культурных, так и материальных факторов. В представленном в 1998 г. докладе «Наша более здоровая нация» подчеркивалось, что влияние многих разных факторов — социальных, экономических, связанных с окружающей средой, культурных — совместно обусловливает плохое здоровье. (Некоторые из этих факторов показаны на рис. 6.2.) В докладе предлагалась также система внутренне согласованных правительственных инициатив, направленных не только на лечение симптомов плохого здоровья, но и на устранение его причин — безработицы, плохого жилья и образования.
Пол и здоровье
В докладе также было отмечено различие здоровья мужчин и женщин. В целом практически в любой стране мира средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин. В то же время женщины страдают от того, что болеют чаще, чем мужчины, особенно в конце жизни. Женщины чаще обращаются за медицинской помощью и заявляют о большем количестве собственных заболеваний, чем мужчины (см. табл. 6.2). В промышленно развитых странах женщины вдвое чаще, чем мужчины, заявляют о страхах и депрессии. Общая картина женского здоровья в развитых странах такова: женщины живут дольше мужчин, но чаще хворают, чаще и дольше бывают нетрудоспособны (Doyal 1995). Причины смерти и характер заболеваний у мужчин и женщин несколько различаются (см. рис. 6.3). Чаще всего и мужчин, и женщин убивают сердечно-сосудистые заболевания, но у мужчин выше уровень смертности от аварий и физического насилия, кроме того, они больше подвержены наркотической и алкогольной зависимости. В целом мужчины болеют реже, но поражающие их болезни более опасны для жизни. Рис. 6.2. Культурные и экономические причины, ухудшающие здоровье
Источник: Brown К. An Introduction to Sociology. 2nd edn. Polity, 1998. From Sociology Review, 9.2. Nov. 1999. P. 5. Crown copyright.
Рис. 6.2. Культурные и экономические причины, ухудшающие здоровье
Источник: Brown К. An Introduction to Sociology. 2nd edn. Polity, 1998. From Sociology Review, 9.2. Nov. 1999. P. 5. Crown copyright.
Похоже, что материальные обстоятельства влияют на статус женского здоровья, но традиционно этот фактор трудно поддается оценке. Было проведено много исследований, в которых женщин классифицировали по социальному классу их мужей, что приводило к искаженной картине женского здоровья (см. главу 10 «Класс, классовая стратификация и неравенство»). Однако некоторые признаки ясны. В среднем пожилые женщины имеют более низкие доходы, чем мужчины. Это различие можно почувствовать по ограниченному доступу к ресурсам, обеспечивающим независимость и облегчающим активную жизнь. Другое различие можно увидеть в относительном здоровье одиноких матерей и одиноких отцов — в среднем здоровье одиноких матерей хуже. Для объяснения различий в здоровье мужчин и женщин привлекались генетические объяснения. Хотя возможно, что биологические факторы влияют на некоторые различия в здоровье (например, сопротивляемость сердечным заболеваниям), но маловероятно, что они могут объяснить весь спектр различий. Скорее, похоже, что различия характеристик здоровья у мужчин и женщин вызваны социальными факторами и разницей материальных условий. Например, характер работы и общий стиль жизни мужчин может быть более рискованным, чем у женщин, что помогает объяснить более высокую смертность от насилия и аварий. Женщины в целом экономически более неудовлетворены, чем мужчины, и больше страдают от проявлений бедности. Согласно ряду наблюдений, множественность ролей, которые пытается играть женщина, — домашнее хозяйство, забота о детях, профессиональные обязанности — может приводить к росту стресса и способствовать более высокому уровню заболеваемости. Как утверждает Лесли Дойал, характер женского здоровья и болезней лучше всего можно объяснить в связи с главными областями деятельности, составляющими жизнь женщины. В широком смысле слова жизнь женщин от природы отличается от мужской жизни с точки зрения ролей и задач, которые обычно осуществляются, — домашнее хозяйство, вынашивание детей и материнство, предотвращение нежелательных беременностей и т. п. Дойал считает, что «состояние здоровья женщины определяется суммарным влиянием всех этих различных занятий» (Doyal 1995, 22). Поэтому анализ женского здоровья должен включать анализ взаимодействия социальных, психологических и биологических факторов.
Таблица 6.2 Проблемы со здоровьем по мнению самих респондентов в Великобритании, распределенные по полу и возрасту (в процентах). 1996–1997 гг.
 Процент респондентов, сообщивших о наличии проблем со здоровьем и активностью в повседневной жизни.
Источник: General Household Survey, Office for National Statistics; Continuous Household Survey. Northern Ireland Statistics and Research Agency. From Social Trends. 29. 1999. P. 120. Crown copyright.
Процент респондентов, сообщивших о наличии проблем со здоровьем и активностью в повседневной жизни.
Источник: General Household Survey, Office for National Statistics; Continuous Household Survey. Northern Ireland Statistics and Research Agency. From Social Trends. 29. 1999. P. 120. Crown copyright.

 Рис. 6.3. Уровень смертности у людей до 65 лет, распределение по полу и причине смерти (число смертей на 100 000 чел.). Великобритания. 1971–1997 гг.
Источники: Office for National Statistics; General Register Office for Scotland; Northern Ireland Statistics and Research Agency. From Social Trends. 29. 1999. P. 132. Crown copyright.
Рис. 6.3. Уровень смертности у людей до 65 лет, распределение по полу и причине смерти (число смертей на 100 000 чел.). Великобритания. 1971–1997 гг.
Источники: Office for National Statistics; General Register Office for Scotland; Northern Ireland Statistics and Research Agency. From Social Trends. 29. 1999. P. 132. Crown copyright.
────────────────────────────┐ ■ Социальное согласие: ключ к лучшему здоровью? При попытке распутать причины неравенства здоровья все большее число социологов обращают внимание на роль социальной поддержки и социального согласия в пропаганде хорошего здоровья. Как говорилось в связи с обсуждением трудов Дюркгейма в главе 1, одним из важнейших понятий социологии является социальная солидарность. Дюркгейм рассматривал степень и тип солидарности в данной культуре как одно из ее самых важных свойств. Например, при анализе самоубийств он обнаружил, что те индивиды и группы, которые были хорошо интегрированы в общество, значительно менее охотно расставались с жизнью, чем другие. В ряде статей и последующей книге «Больные общества. Недуги неравенства» Ричард Уилкинсон показывает, что самыми здоровыми обществами в мире являются не самые богатые страны, а те, в которых доход распределяется наиболее равномерно и достигнут самый высокий уровень социальной интеграции (Wilkinson 1996). Согласно Уилкинсону, высокий уровень национального богатства не обязательно трансформируется в лучшее здоровье населения. Изучая эмпирические данные по странам, Уилкинсон замечает явную связь между уровнем смертности и характером распределения доходов. Средний уровень здоровья жителей таких стран, как Япония и Швеция, которые считаются одними из самых эгалитарных обществ в мире, выше, чем у жителей стран, в которых более заметен разрыв между богатыми и бедными, например США. Утверждение Уилкинсона вызвало активные отклики. Некоторые ученые заявили, что его работа должна стать обязательным чтением для людей, определяющих политику. Они согласились с Уилкинсоном, что вопросам рыночных отношений и движению к процветанию уделяется слишком много внимания. Действительно, такой подход исключает многих членов общества. Пора переходить к более гуманной и социально ответственной политике и поддержать тех, кто находится в невыгодном положении. Другие исследователи критиковали работу Уилкинсона с методологической точки зрения и утверждали, что ему не удалось показать ясную причинную связь между неравенством доходов и плохим здоровьем (Judge 1995). По мнению критиков, болезнь может быть вызвана множеством других причин. Эмпирические свидетельства утверждений Уилкинсона остаются по крайней мере спорными. В то время как Уилкинсон исследует связи между социальным согласием и здоровьем на уровне общества как целого, другие ученые сосредоточены на изучении конкретных сегментов населения. Хизер Грем изучала влияние стресса на белых женщин из рабочего класса. Она обнаружила, что женщины, находящиеся на низшей ступени социоэкономического спектра, имеют во время жизненных кризисов меньший доступ к сетям поддержки, чем женщины среднего класса. Работающие женщины чаще сталкиваются с жизненными кризисами (потеря, работы, развод потеря жилья или смерть ребенка), чем женщины из других групп населения, но в целом слабее справляются с трудностями и находят меньше выходов для избавления от страхов. В результате не только сам стресс причиняет большой физический и эмоциональный вред, но и некоторые способы его преодоления, например курение, также оказываются вредными. Грем утверждает, что курение есть способ снижения напряжения в тот момент, когда личные и материальные резервы подошли к опасной черте. Поэтому оно занимает парадоксальное положение в жизни женщин — увеличивает риск заболеваний для женщин и их детей, но одновременно позволяет им справляться с трудностями в разных обстоятельствах (Graham 1994). Энн Оукли и ее сотрудники изучали роль социальной поддержки для здоровья находящихся в социально неблагоприятных условиях женщин и детей четырех английских городов. Она показала, что связь между стрессами и здоровьем прослеживается как в серьезных жизненных кризисах, так и в случае небольших проблем, и особенно остро проявляется в жизни людей из рабочего класса. Оукли замечает, что социальная поддержка, например, службы консультаций, горячие линии или посещения на дому, могут служить «буфером», предохраняющим от отрицательных последствий обычно испытываемых женщинами стрессов (Oakley et al. 1994). Другие исследования показали, что социальная поддержка является важным фактором, помогающим людям приспособляться к хроническим заболеваниям и болезням (Ell 1996). ────────────────────────────┘
Раса и здоровье
Хотя в промышленно развитых странах здоровье зависит от расы, наше понимание взаимосвязи расы и здоровья далеко от идеального. По этому вопросу проводится все больше социологических исследований, но свидетельства остаются неубедительными. Одна из главных трудностей состоит в неоднозначности понятий расы и этноса. Это затрудняет процесс сбора данных, так как не существует общепринятых определений, позволяющих разделить или классифицировать этнические группы. Поэтому все данные о расе и здоровье следует воспринимать с осторожностью. В ряде случаев тенденции, приписанные расе, могли не учитывать другие факторы, например, класс или пол, которые тоже могут быть важными. Тем не менее среди индивидов афро-карибского и азиатского происхождения наблюдается более высокая заболеваемость рядом болезней. Смертность от рака печени, туберкулеза и диабета у этого населения выше, чем у белых. У представителей афро-карибского населения выше среднего уровень заболеваемости гипертонией. У них же значительно чаще, чем у других групп населения, встречается серповидноклеточная анемия — наследственная болезнь, поражающая эритроциты. У жителей индийского субконтинента выше смертность от сердечных заболеваний; азиатские дети более чувствительны к рахиту, чем дети другого происхождения. Как и в случае половых различий в здоровье, для описания наблюдаемой структуры заболеваний привлекались генетические объяснения. Представляется очевидным, что некоторые заболевания, например серповидноклеточная анемия, являются наследственными и поэтому имеют генетическое происхождение. Но одна генетика не способна учесть значительные вариации распределения болезни по расам. Объяснения этим отклонениям следует искать в связи с более существенными воздействиями. Ряд ученых для объяснения расовой зависимости здоровья обращается к культурным и поведенческим различиям. Так же, как в случае основанного на разнице в культуре объяснения классового неравенства здоровья, здесь делается упор на стиль жизни индивида или группы, приводящий к худшему здоровью. Часто этот стиль связан с религиозными верованиями или культурными традициями, например, определенной диетой и привычками в приготовлении пищи, или кровным родством (практикой внутрисемейных браков на уровне троюродных родственников). Однако подобные объяснения легко обвинить в этноцентристском взгляде на здоровье. Возлагая вину на индивидов или группы населения, эти объяснения подразумевают, что этнокультуры находятся на более низком уровне и являются причиной плохого здоровья. Свидетельств в поддержку таких взглядов очень мало. Например, диета определенной «культуры» не может рассматриваться как причина плохого здоровья, так как дисбаланс питания в этнических диетах возникает только тогда, когда эти диеты «выведены из равновесия», т. е. когда определенные ключевые ингредиенты становятся недоступными, и их приходится заменять другими. Критики соглашаются, что культурные объяснения не смогли выявить реальные проблемы — структурные неравенства, которым подвержены этнические группы, а также расизм и дискриминацию, с которыми они сталкиваются в системе здравоохранения. Социоструктурные объяснения влияния расы на здоровье сосредоточены на том социальном контексте, в котором живут люди афро-карибского и азиатского происхождения. Эти люди часто попадают в разного рода неблагоприятные условия, которые могут причинять вред их здоровью. Это могут быть плохие жилищные условия или жизнь в тесноте, высокий уровень безработицы или работа преимущественно на опасных низкооплачиваемых должностях. Указанные материальные факторы осложняются затем проявлениями расизма, выражающимися либо непосредственно в форме насилия, запугивания или дискриминации, либо в «институционализированных» формах (см. главу 9 «Раса, этническая принадлежность и иммиграция»). Институциональный расизм был отмечен в положении о здравоохранении. Этнические группы могут иметь неравноправный или усложненный доступ к услугам здравоохранения. Если не удается эффективно сообщить информацию, то могут возникать трудности с языковым барьером; профессионалы здравоохранения часто не принимают во внимание культурно обусловленное специфическое понимание болезни и лечения. Национальную организацию здравоохранения критиковали за то, что она не требовала большей осведомленности относительно культурных и религиозных верований своих сотрудников и недостаточно обращала внимание на болезни, которым подвержено в основном небелое население. В отношении связи между расовым неравенством и неравенством здоровья согласия нет. Действительно, еще предстоит провести много исследований. Однако уже ясно, что этот вопрос должен рассматриваться в связи с более крупными социальными, экономическими и политическими факторами, влияющими на жизненный опыт этнических меньшинств Великобритании.Закон «инверсной заботы»
Мы уже рассмотрели то, как социальный класс, пол и раса влияют на структуру и характер здоровья населения. Эти вариации можно увидеть и в неравенстве здоровья по регионам. Таким образом, неравенство здоровья имеет пространственное измерение. В Великобритании основные региональные различия в здоровье существуют между северными и южными частями страны. В целом жители Юга обладают большими ресурсами и лучшим доступом к здравоохранению. Однако статус здоровья обусловлен комбинацией факторов, каждый из которых изменяется от региона к региону. Климат, окружающая среда, качество воды, типы жилья, структура рабочих мест и безработицы, а также общий уровень потерь меняются от места к месту по стране. Эти изменения отражаются на здоровье населения. Ряд социологов заметил, что потребность в медицинских услугах среди населения не всегда соответствует доступным ресурсам. Иными словами, те группы, которые обладают самым плохим здоровьем, часто живут в регионах с наименьшими ресурсами. Эта тенденция к асимметричному обеспечению услугами здравоохранения известна как закон инверсной заботы.Медицина и общество
Возникновение биомедицинской модели здоровья
Как и многие другие излагаемые в данной книге идеи, понятия «здоровье» и «болезнь» культурно и социально обусловлены. Существующие культуры различаются в вопросе о том, что считать здоровым и нормальным. Всем культурам знакомо понятие физического здоровья или болезни, но большая часть того, что мы сейчас признаем медициной, есть результат достижений западного общества за последние три века. В досовременных обществах главной организацией, боровшейся с болезнями или физическими недугами, была семья. Всегда были отдельные личности, специализировавшиеся как врачеватели и использовавшие в своей практике смесь естественных снадобий и магических средств. Многие из этих традиционных систем лечения выжили до сего дня в ряде незападных культур. Значительная часть этих систем принадлежит категории альтернативной медицины, о которой шла речь в начале главы. Примерно в течение двух веков основные западные идеи о медицине выражались в рамках упомянутой выше биомедицинской модели. Такое понимание здоровья и болезни развивалось вместе с развитием современных обществ. На самом деле это понимание можно считать одним из главных характерных черт таких обществ. Его появление было тесно связано с триумфом науки и разума в борьбе с традиционными или основанными на религии объяснениями мира (см. обсуждение идей Вебера и рационализации в разделе «Развитие социологического мышления» первой главы книги). Прежде чем обсуждать предположения, лежащие в основе биомедицинской модели здоровья, кратко рассмотрим социальный и исторической контекст, в котором эта модель возникла. Как отмечалось, члены традиционных обществ в значительной степени полагались на передававшиеся из поколения в поколение народные средства, методы лечения и технику врачевателей. Болезни часто рассматривались в рамках магических или религиозных понятий и связывались с присутствием злых духов или «грехами» заболевшего. У крестьян и городских жителей не существовало никакого внешнего авторитета, отвечавшего за их здоровье так, как в наши дни отвечают государственные и общественные системы здравоохранения. Здоровье было частным делом, а не общественной заботой. Демография. Изучение народонаселения Однако подъем национальных государств и индустриализация привели к резким изменениям этой ситуации. Развитие национальных государств с определенными территориями привело к сдвигу в отношении к местным обитателям, которые уже были не просто жителями страны, а населением, подпадающим под законы центральной власти. Население рассматривалось как ресурс, контроль и управление которым является частью процесса повышения национального благосостояния и мощи. Государство стало проявлять растущий интерес к здоровью своего населения, так как благополучие его членов влияло на производительность труда нации, уровень благосостояния, возможности обороны и скорость экономического роста. Изучение демографии — размеров, состава и динамики развития народонаселения — приобрело большое значение. Стали проводиться переписи населения с целью записать и проконтролировать происходящие изменения. Начался сбор и обработка всевозможных видов статистических данных: уровень рождаемости, уровень смертности, средний возраст вступления в брак и деторождения, число самоубийств, средняя продолжительность жизни, питание, обычные болезни, причины смерти и т. п. Важный вклад в наше понимание развития современной медицины внес Мишель Фуко, обративший внимание на то, как государство регулирует и тренирует человеческие тела. Он показал, что центральную роль в этом процессе играли сексуальность и сексуальное поведение. Секс, с одной стороны, был способом воспроизводства и роста населения, а с другой — потенциальной угрозой его здоровью и благополучию. Сексуальность, не связанная с воспроизводством, должна была подавляться и контролироваться. Этот контроль государства над сексуальностью возник отчасти благодаря сбору данных о браке, сексуальном поведении, числе законнорожденных и незаконнорожденных, использовании контрацепции и числе абортов. Такой надзор шел рука об руку с поддержкой строгих общественных норм сексуальной морали и приемлемой сексуальной активности. Например, сексуальные «извращения» — гомосексуализм, мастурбация и секс вне брака — были заклеймены и осуждены. Идея общественного здравоохранения оформилась при попытке искоренить «патологии» среди населения — «тела общества». Государство начало признавать ответственность за исправление условий жизни населения. Для защиты от болезней возникли канализация и водоснабжение. Были вымощены дороги и обращено внимание на строительство жилья. Постепенно регулировалась работа скотобоен и оборудования для производства пищи. Был установлен контроль за похоронными обрядами, с тем чтобы убедиться, что они не представляют угрозу здоровью населения. Возник целый ряд учреждений — тюрьмы, богадельни, работные дома, школы и больницы, развитие которых стало частью движения в сторону контроля, регулирования и реформирования народа.Биомедицинская модель
Врачебная практика была тесно связана с описанными выше социальными изменениями. Равной чертой развития современных систем здравоохранения стало применение науки для медицинской диагностики и лечения. Стало возможным объективно определить заболевание в терминах идентифицируемых симптомов. Официальное медицинское обслуживание дипломированными «экспертами» стало признанным способом лечения как физических, так и душевных болезней. Медицина стала средством реформирования поведения или условий, понимаемых как «девиантные», — от преступлений до гомосексуализма и душевных болезней. Биомедицинская модель здоровья основана на трех основных допущениях. Во-первых, болезнь рассматривается как поломка, произошедшая внутри человеческого тела и приводящая к отклонению тела от «нормального» состояния. Возникшая в 1800-х гг. микробная теория болезни утверждает, что причиной каждой болезни является идентифицируемый особый переносчик. Чтобы сохранить тело здоровым, необходимо изолировать и вылечить причину болезни. Во-вторых, тело и разум можно рассматривать по отдельности. Пациент — это больное тело, патология, а не личность в целом. Упор делается на лечение болезни, а не на благополучие личности. Биомедицинская модель предполагает, что с больным телом можно манипулировать, его можно исследовать и лечить изолированно, не рассматривая иных факторов. Врачи-специалисты признают медицинский взгляд, беспристрастный подход к осмотру и лечению больного пациента. Само лечение должно проводиться в нейтральной, свободной от оценок манере, причем вся информация должна собираться и обрабатываться в клинических терминах и храниться в официальной карте больного. В-третьих, единственными экспертами в лечении болезни считаются квалифицированные медицинские специалисты. Сообщество медиков в целом придерживается общепризнанных этических норм и состоит из лицензированных личностей, успешно прошедших долгое обучение. В этом сообществе нет места врачевателям-самоучкам или людям, использующим «ненаучные» приемы лечения. Больница представляет соответствующую среду, в которой лечат серьезные заболевания. Часто такое лечение опирается на комбинацию технических средств, медикаментозного лечения и хирургии. Главные предположения биомедицинской модели и возражения в ее адрес перечислены в табл. 6.3.Таблица 6.3 Постулаты биомедицинской модели и их критика

Критика биомедицинской модели
За последние несколько десятилетий описанная выше биомедицинская модель заболеваний стала объектом все усиливающейся критики. Во-первых, некоторые ученые заявили, что эффективность научной медицины «преувеличена». Несмотря на завоеванный современной медициной престиж, улучшение здоровья в целомможно приписать в значительной степени социальным изменениям и улучшению окружающей среды, а не искусству медиков. Эффективная профилактика, лучшее питание и исправленная канализация, а также гигиена больше повлияли на здоровье, особенно на уменьшение уровня младенческой и детской смертности (McKeown 1979). Лекарства, успехи в хирургии и антибиотики до определенного момента в XX в. мало повлияли на снижение уровня смертности. Антибиотики для лечения бактериальных инфекций впервые стали доступны в 1930-е и 1940-е гг., а прививки (против таких болезней, как полиомиелит) были разработаны еще позднее. Ряд критиков, например Иван Иллич (1976), высказывали мнение, что современная медицина на самом деле принесла больше вреда, чем пользы (Illich 1936). Поскольку самолечение и традиционные формы врачевания были отвергнуты, люди, вместо того чтобы опираться на собственный разум и знания, попали в зависимость от специалистов. Во-вторых, современную медицину обвинили в игнорировании мнений и опыта пациентов, которых она лечит. Поскольку предполагается, что медицина основана на объективном научном понимании причин и методов лечения конкретных физических болезней, у медиков нет нужды выслушивать личные интерпретации своего самочувствия пациентами. Каждый пациент — это «больное тело», нуждающееся в лечении и уходе. Однако критики утверждают, что эффективное лечение может быть достигнуто только в том случае, когда пациента лечат как мыслящее дееспособное существо со своими собственными вескими представлениями и толкованиями. В-третьих, критики утверждают, что научная медицина ставит себя выше любой альтернативной формы медицины или врачевания. Укрепилась вера в то, что все, что «ненаучно», обязательно ниже рангом. Как мы уже видели, предположение, что современная медицина является почему-то более эффективной формой знаний, опровергается ростом популярности альтернативных форм лечения, например гомеопатии или акупунктуры. В-четвертых, ряд социологов доказывает, что профессиональные медики удерживают в своих руках невероятную власть в определении того, что есть и что не есть заболевание. Они могут использовать свое положение в качестве арбитров «научной истины», ставя под медицинский контроль все больше и больше сторон человеческой жизни. Одно из самых сильных критических замечаний по этому вопросу исходит от женщин, доказывающих, что современная медицина присвоила и «медикализировала» процессы беременности и деторождения. Вместо того чтобы оставаться в руках женщин в домашних условиях при участии акушерок, деторождение происходит теперь в родильных домах под руководством преимущественно врачей-мужчин. Беременность, обычное и естественное явление, рассматривается как «болезнь», сопряженная с риском и опасностью. Феминисты утверждают, что женщины потеряли контроль над этим процессом, поскольку их мнения и знания считаются несущественными для «специалистов», надзирающих за репродуктивными процессами (Oakley 1984). Аналогичные озабоченности в отношении медикализации «естественных» состояний высказывались в связи с детской гиперактивностью (см. врезку ниже), внутренним дискомфортом или легкой депрессией (обычно контролируемых с помощью таких средств, как «Прозак») и усталостью (часто называемой синдромом хронической усталости).────────────────────────────┐ ■ «Медикализация» гиперактивности За последнее десятилетие резко выросло число рецептов, выписанных на лекарство Риталин. В США Риталин употребляют почти 3 % детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. В Великобритании в 1998 г. было выписано 125 000 рецептов на Риталин по сравнению с 3 500 в 1993 г. Что такое Риталин и почему социологи озабочены его распространением? Риталин — это лекарство, выписываемое детям и подросткам, страдающим гиперактивным дефицитом внимания, т. е. психологическим нарушением, которое, по мнению многих врачей и психиатров, ответственно за невнимательность детей, трудности с концентрацией и невозможность обучения в школе. Риталин рекламируется как «магическая пилюля». Он помогает детям сосредоточиться, успокаивает их и помогает более эффективно учиться. Как утверждают учителя, дети, которые были на дурном счету в классе, начав прием Риталина, сразу становятся «ангелами». Однако критики Риталина утверждают, что лекарство совсем не является той безвредной «магической пилюлей», как про него говорят. Несмотря на то что в США и Англии Риталин в последние годы выписывают все чаще, до сих пор не проводилось глубокого анализа возможных долговременных последствий его применения для мозга и тела детей, возможно, наиболее тревожным является утверждение, что Риталин — это удобное «решение» того, что на самом деле вообще не является медицинской проблемой. Противники Риталина говорят, что симптомы гиперактивного дефицита внимания являются отражением растущего стресса и давления на современных детей со стороны все убыстряющегося темпа жизни, ошеломляющего влияния информационных технологий, недостатка физических упражнений, еды с большим содержанием сахара и разлада в семье. Утверждается, что использование Риталина позволило медицине добиться «медикализации» детской гиперактивности и невнимательности, вместо того чтобы обратить внимание на социальные причины наблюдаемых симптомов. ────────────────────────────┘
Медицина и здравоохранение в меняющемся мире
Все больше растет убеждение в том, что не только специалисты-медики обладают знанием и пониманием того, что такое здоровье и болезнь. Все мы способны оценивать и формировать собственное здоровье благодаря пониманию своего тела и выбора в повседневной жизни определенной диеты, тренировок, характера потребления и общего стиля жизни. Новое представление населения о здоровье и другие упомянутые выше критические замечания в адрес современной медицины приводят к глубоким изменениям в системах здравоохранения в современных обществах (см. рис. 6.4). Рис. 6.4. Основные тенденции в современном здравоохранении
Источник: Nettleton S. The Sociology of Health and Illness. Polity, 1995.
Рис. 6.4. Основные тенденции в современном здравоохранении
Источник: Nettleton S. The Sociology of Health and Illness. Polity, 1995.
Но эти изменения вызваны и другими факторами: меняется сама природа и масштаб заболеваний. Раньше главными заболеваниями были инфекционные болезни, такие как туберкулез, холера, малярия и полиомиелит. Они часто принимали масштабы эпидемий и могли угрожать всему населению. Сегодня в индустриальных странах смертность от подобных острых инфекций минимальна, а некоторые из них полностью искоренены. Наиболее распространенными причинами смерти в индустриальных странах являются сейчас неинфекционные хронические заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет или заболевания кровообращения. Такой сдвиг называют изменением картины здоровья. В то время как раньше наибольшая смертность была среди младенцев и маленьких детей, сейчас уровень смертности повышается с увеличением возраста. Поскольку люди живут дольше и страдают в основном от хронических, приводящих к смерти болезней, необходим новый подход к здоровью и уходу. Кроме того, усиленно подчеркивается «выбор стиля жизни» — курение, тренировки, диета, — который, по-видимому, влияет на возникновение многих хронических заболеваний. Неясно, приведут ли, как полагают некоторые ученые, эти современные преобразования в здравоохранении к новой «парадигме здоровья», которая заменит биомедицинскую модель. Однако очевидно, что мы являемся свидетелями периода важных и быстрых реформ в современной медицине и в отношении людей к ней. Сара Неттлтон (Nettleton 1995) суммировала основные тенденции в здравоохранении в виде семи заметных сдвигов (см. рис. 6.4).
Социологические перспективы здоровья и болезни
Одной из главных задач социологов является изучение опыта болезни, т. е. вопроса о том, как больной человек и те, с кем он имеет контакт, воспринимают и интерпретируют заболевание, хроническую болезнь или инвалидность. Если вам когда-либо приходилось, даже недолго, болеть, вы знаете, что временно меняется характер вашей повседневной жизни и ваши взаимодействия с другими людьми. Это происходит потому, что «нормальное» функционирование тела является часто незаметной, но жизненно важной частью нашего существования. Мы зависим от правильной работы наших тел; наше восприятие самих себя основано на ожидании, что наши тела облегчат, а не затруднят, наши взаимодействия с обществом и повседневную деятельность. Болезнь имеет как личное, так и общественное измерение. Когда мы заболеваем, не только мы испытываем боль, дискомфорт, стеснение и другие симптомы; это же относится и к другим. Люди из нашего близкого окружения могут проявлять симпатию, заботу и поддержку. Им придется пережить внутреннюю борьбу за то, чтобы осознать факт нашей болезни или найти способ включить ее в обиход собственной жизни. И другие люди, с которыми мы связаны, могут реагировать на нашу болезнь; эта реакция, в свою очередь, помогает сформировать наше собственное понимание и стать вызовом нашему самоощущению. В социологической науке особенно распространены два способа понимания опыта болезни. Первый, связанный с функционалистской школой, формулирует нормы поведения, которые считаются приемлемыми для индивидуумов во время болезни. Второй взгляд, поддерживаемый символическими интеракционистами, представляет более широкую попытку раскрыть смысл, приписываемый заболеванию, и то, как он влияет на действия и поведение людей.Роль больного
Выдающийся мыслитель-функционалист Талкотт Парсонс выдвинул понятие роли больного для того, чтобы описать характер поведения, выбираемый больным для минимизации разрушительного влияния болезни (Parsons 1952). Функционалистская теория утверждает, что общество обычно действует в мягкой и согласованной манере. Поэтому заболевание рассматривается как дисфункция, которая может нарушить нормальное течение жизни. Больной человек, например, не способен осуществлять все свои обычные обязанности или может быть менее надежным и эффективным, чем обычно. Поскольку больные люди не могут исполнять обычные роли, жизнь окружающих их людей оказывается разрушенной: дела по работе оказываются незаконченными и вызывают стресс у сотрудников, обязанности по дому не выполнены и т. п. Согласно Парсонсу, люди обучаются роли больных через социализацию и начинают разыгрывать ее в кооперации с другими, как только чувствуют себя заболевшими. Роль больного покоится на трех опорах. 1. Больной человек персонально не отвечает за то, что он болен. Болезнь рассматривается как результат физических причин, выходящих за рамки индивидуального контроля. Начало болезни не связано с поведением или действиями индивидуума. 2. Больной человек приобретает определенные права и привилегии, в том числе освобождение от обычных обязанностей. Так как больной не несет ответственности за болезнь, он или она освобождаются от определенных обязанностей, ролей и поступков, которые в противном случае лежали бы на них. Например, больной человек может быть «освобожден» от обычных обязанностей по дому. Ему могут простить недостаточно сдержанное или обдуманное поведение. Больной человек получает право оставаться в постели или взять освобождение от работы. 3. Больной человек должен работать над восстановлением здоровья, консультируясь с медицинскими экспертами и соглашаясь стать «пациентом». Роль больного временна и «условна», она зависит от активных попыток излечиться. Чтобы принять роль больного, сам человек должен получить санкцию профессионала-врача, который обосновывает притязание индивидуума на болезнь. Подтверждение болезни с помощью мнения эксперта позволяет тем, кто окружает больного, согласиться с обоснованностью его претензий. Ожидается, что пациент согласен участвовать в своем выздоровлении путем следования «предписаниям врача». Больной, который отказывается от консультаций с врачом или не прислушивается к советам авторитетных медиков, ставит под угрозу статус своей роли больного. Понятие «роли больного», введенное Парсонсом, было дополнено другими социологами, которые указали, что с точки зрения ролей больного все болезни не одинаковы. Они утверждают, что практика исполнения ролей больного меняется в зависимости от типа болезни, так как на реакцию окружающих по отношению к больному человеку влияет тяжесть болезни и ее восприятие. Отсюда являющиеся частью роли больного дополнительные права и привилегии могут реализовываться неодинаково. Фрейдсон (Freidson 1970) выделил три варианта роли больного, соответствующие трем типам и степеням заболевания. Условная роль больного применима к индивидуумам, страдающим от временного заболевания, от которого они могут вылечиться. Ожидается, что больной «выздоровеет», и он получает определенные права и привилегии в соответствии с тяжестью заболевания. Например, человек, больной бронхитом, получает больше привилегий, чем человек, заболевший обычной простудой. Безусловно обоснованная роль больного относится к тем, кто страдает неизлечимыми болезнями. Так как больной человек не может «сделать» все, чтобы выздороветь, он автоматически начинает исполнять роль больного. Безусловно обоснованная роль может быть применена и к людям, страдающим от алопеции (полного выпадения волос) или тяжелой формы угреватости (в обоих случаях существуют не специальные привилегии, но признание того, что человек не несет ответственности за свою болезнь), и к тем, кто болен раком или болезнью Паркинсона, которым даются важные привилегии и право отказаться от большинства обязанностей. И наконец, еще одна роль больного называется незаконной. Это роль человека, страдающего от заболевания или состояния здоровья, которое заклеймлено другими. В таких случаях есть мнение, что индивидуум отчасти несет ответственность за свою болезнь и не всегда предусмотрены дополнительные права и привилегии. По-видимому, СПИД является наиболее живым примером заклейменного позором заболевания, которое влияет на право страдальца принять на себя роль больного. Клеймом является любая характеристика, благодаря которой индивидуум или группа людей отдаляются от основной массы населения, и в результате к ним относятся с подозрительностью или враждебностью. Как мы видели, большинство форм заболеваний вызывают среди окружающих чувства симпатии или сострадания, а больной человек получает особые «привилегии». Однако, если болезнь оказывается необычайно заразной или рассматривается как знак бесчестия или позора, больные могут быть отвергнуты «здоровой» частью населения. В Средние века таково было положение больных проказой, отвергнутых населением и вынужденных жить в изолированных лепрозориях. В наши дни СПИД провоцирует такое же осуждение, правда, в менее экстремальной форме, несмотря на то, что, как и в случае с проказой, опасность заразиться в обычной повседневной ситуации практически равна нулю. Однако клейма редко основаны на веских доводах рассудка. Они являются следствием стереотипов или предрассудков, которые могут быть неверными или только частично правильными. Оценка Модель роли больного стала влиятельной теорией, ясно показавшей, каким образом больной человек становится неотъемлемой частью более широкого социального контекста. Но в адрес этой модели можно высказать ряд критических замечаний. Некоторые ученые считают, что формула роли больного неспособна охватить опыт болезни. Другие указывают, что она не универсальна. Например, теория роли больного не учитывает случаев, когда доктора и пациенты расходятся в диагнозе или преследуют противоположные интересы. Эта модель также не может объяснить те «болезни», которые не приводят к приостановке нормальной активности, например, беременность, алкоголизм, ряд форм инвалидности и некоторые хронические заболевания. Кроме того, исполнение роли больного не всегда является прямым процессом. Ряд личностей, например, Джан Мейсон, о которой шла речь выше, в течение многих лет страдают от хронических болей или симптомов, которые постоянно ошибочно диагностируются. Эти люди отвергают роль больного до тех пор, пока не установлен ясный диагноз их заболевания. В других случаях на то, с какой готовностью принимается роль больного, могут влиять социальные факторы — раса, класс и пол. Роль больного нельзя рассматривать отдельно от влияния окружающих социальных, культурных и экономических условий. Реальности жизни и болезни более сложны, чем предполагает роль больного. В современную эпоху растущий упор на стиль жизни и здоровье означает, что отдельные личности считаются несущими все большую ответственность за собственное благополучие. Это противоречит первой посылке роли больного, а именно, что индивидуум не отвечает за свою болезнь. Кроме того, в современных обществах сдвиг от острых инфекционных заболеваний к хроническим болезням уменьшил область применимости роли больного. Роль больного может быть полезна для понимания острых заболеваний, но она менее полезна в случае хронических болезней; нет единой формулы, которой надо следовать в случае хроников или инвалидов. Жизнь с болезнью испытывается и расценивается больными людьми и теми, кто их окружает, множеством способов. Обратимся теперь к тем способам, с помощью которых опыт болезни пытаются понять социологи — приверженцы школы символических интеракционистов.Болезнь как «живой опыт»
Символические интеракционисты интересуются теми способами, которыми люди интерпретируют социальный мир, и смыслами, которые они ему приписывают. Многие социологи применили этот подход к области здоровья и болезни, чтобы понять, каким образом люди переживают состояние болезни или ощущают болезнь других. Каким образом люди реагируют и приспосабливаются к новости о своем тяжелом заболевании? Как болезнь формирует повседневную жизнь личности? Каким образом жизнь с хроническим заболеванием влияет на самоидентификацию личности? Мы видели, что в современном обществе изменился характер заболеваний. Вместо того чтобы умирать от острых инфекционных болезней, как это было когда-то, люди в современных индустриальных обществах живут дольше и страдают в более позднем возрасте от хронических заболеваний. Медицина способна облегчить боль и дискомфорт, связанный с рядом этих болезней, но все большее число людей сталкиваются с перспективой жизни с болезнью в течение долгого времени. Социологов интересует, каким образом в этих случаях болезнь встраивается в личную «биографию» индивидуума. Одна из тем, исследуемых социологами, — каким образом хронически больные люди обучаются справляться с практическими и эмоциональными последствиями своей болезни. Определенные заболевания требуют регулярных процедур и медицинской поддержки, оказывающих влияние на повседневную жизнь людей. Диализ, уколы инсулина или прием большого числа таблеток вынуждают людей настраивать свой режим в соответствии с болезнью. Другие заболевания могут непредсказуемым образом повлиять на тело, например, привести к потере контроля над кишечником или мочевым пузырем или к сильной тошноте. Люди, страдающие от подобных явлений, часто разрабатывают стратегию управления своей болезнью в повседневной жизни. Это включает как практические действия, например, постоянное внимание к тому, где находится туалет в незнакомом месте, так и умение управлять интимными и общими межличностными отношениями. Хотя симптомы болезни могут быть неудобными и разрушительными, люди разрабатывают стратегии поведения, чтобы справиться с трудностями и жить как можно более нормальной жизнью (Kelly М.Р. 1992). В то же время опыт болезни может вызвать сомнения и стать причиной изменений в восприятии людьми своего «я». Эти изменения развиваются как в результате действительных реакций окружающих на болезнь, так и в результате воображаемых или ощущаемых реакций. Рутинные для большинства людей социальные взаимодействия приобретают для хронически больных или инвалидов оттенок риска и непредсказуемости. Когда возникает такой фактор, как болезнь или инвалидность, больной не всегда встречает общее взаимопонимание, лежащее в основе обычных повседневных взаимодействий, и поэтому его интерпретации обычных ситуаций могут существенно различаться. Например, больной человек может нуждаться в помощи, но не хочет выглядеть зависимым. Кто-то может чувствовать симпатию к человеку, которому поставили диагноз болезни, но не уверен, можно ли говорить об этом напрямую. Изменившийся контекст социальных взаимодействий может ускорить изменения в самоидентификации. Ряд социологов провел исследования того, как хронически больные люди управляют своими болезнями в рамках общих условий своей жизни (Jobling 1988; Williams 1993). Болезнь может потребовать невероятных затрат времени, энергии, сил и эмоциональных резервов. Корбин и Стросс изучали режимы здоровья, которые создают хронически больные люди для того, чтобы организовать свою повседневную жизнь (Corbin and Strauss 1985). Они выделили в каждодневной стратегии поведения людей три типа «работ». Работа над болезнью включает деятельность, связанную с управлением процессом лечения, например, лечение боли, выполнение диагностических тестов или занятий физиотерапией. Повседневная работа относится к управлению повседневной жизнью — поддержанию взаимоотношений с окружающими, выполнению домашних работ и удовлетворению профессиональных или личных интересов. Биографическая работа включает те действия, которые совершает больной человек в рамках создания или реконструкции рассказа о себе самом. Иными словами, все это представляет собой процесс встраивания болезни в жизнь, осознания ее и разработки способов объяснения ее другим. Такой процесс может помочь людям сохранить смысл и порядок своей жизни в условиях осведомленности о хроническом заболевании. Работа символических интеракционистов о жизни с болезнью является одним из самых важных разделов социологии тела. Как будет видно в последнем разделе этой главы, мы живем в обществе, в котором отдельные личности живут дольше и ведут в свои последние годы более активную жизнь, чем когда-либо раньше, но в некоторых случаях это также означает более долгую жизнь с болезнями и тревогой.Здоровье и старение
Мы живем в стареющем обществе, в котором постоянно растет доля людей в возрасте от шестидесяти пяти лет и старше. В то же время проблема социальной важности старения значительно шире, так как резко изменились представления о том, чем на самом деле является старость, какие возможности она дает и какой груз несет. Геронтология, наука о старении и пожилых людях, занимается не только изучением физических процессов перехода к пожилому возрасту, но и теми социальными и культурными факторами, которые связаны со старением. Здесь затронуты два противоречащих друг другу процесса. С одной стороны, в современных обществах пожилые люди имеют более низкий статус и меньшую власть, чем это было в досовременных культурах. В этих культурах, а также в наши дни в незападных обществах (таких как Индия или Китай), старость считалась связанной с мудростью, а старики в любом сообществе обычно рассматривались как главные принимающие решения люди. В наши дни обычно более старший возраст приносит с собой нечто обратное. В обществе, подвергающемся постоянным изменениям, как это происходит у нас, накопленные за долгую жизнь знания людей старшего поколения часто кажутся молодым людям не ценным кладезем мудрости, а просто устаревшими. Однако, с другой стороны, пожилые люди в наше время значительно меньше склонны воспринимать старение как неизбежный процесс распада тела. Здесь мы еще раз можем проследить влияние социализации природы. Процесс старения когда-то воспринимался всеми как неизбежное проявление разрушительного действия времени. Но все больше росло понимание того, что старение — не просто естественный процесс, который следует принимать как данность. Успехи медицины и питания показали, что многое из того, что всегда рассматривалось как неизбежный спутник старения, может быть преодолено или замедлено. В среднем люди сейчас живут намного дольше, чем еще сто лет назад, и это есть результат правильного питания, гигиены и заботы о здоровье. Глядя на меняющуюся демографическую статистику, некоторые социологи и геронтологи говорят о «поседении» населения (см. рис. 6.5). В Великобритании 1850-х гг. доля населения в возрасте свыше 65 лет равнялась примерно 5 %. Сейчас эта цифра превышает 15 % и продолжает расти. Средний возраст населения в Великобритании продолжает расти уже в течение полутораста лет. В 1800-х гг. средний возраст составлял, вероятно, не более шестнадцати лет. В начале XX в. он поднялся до двадцати трех лет. В 1970-е гг. он стал равным двадцати восьми годам, а сейчас поднялся до тридцати лет. Если не произойдет каких-то существенных изменений в демографических тенденциях, то средний возраст будет продолжать расти дальше и к 2030 г. может достичь тридцати семи лет. Рис. 6.5. Пожилое население в Великобритании. 1901–2051 гг.
Источник: OPCS. From Sociology Review, 8.2. Nov. 1998, back cover. Crown copyright.
Рис. 6.5. Пожилое население в Великобритании. 1901–2051 гг.
Источник: OPCS. From Sociology Review, 8.2. Nov. 1998, back cover. Crown copyright.
Великобритания — не единственное общество, в котором происходит процесс «поседения». Почти все развитые страны станут свидетелями постарения своего населения в ближайшие десятилетия. Петер Петерсон описал этот сдвиг как «седой рассвет» (Peterson 1999). Сейчас один из семи человек в развитом мире старше шестидесяти пяти лет. Через тридцать лет эта пропорция поднимется до одного на четверых. К 2030 г. доля людей в возрасте свыше шестидесяти пяти лет будет составлять от 33 % в Австралии до почти 50 % в Германии. Число «старых стариков» (в возрасте свыше восьмидесяти пяти лет) увеличивается быстрее, чем число «молодых стариков». В следующие пятьдесят лет число людей в возрасте свыше восьмидесяти пяти лет увеличится в шесть раз. Этот процесс иногда называют «старением стариков». Такой заметный сдвиг в распределении населения по возрасту ставит перед Великобританией и многими другими индустриально развитыми странами ряд сложных проблем. Один из способов понять это состоит в том, чтобы обратиться к коэффициенту иждивенчества — связи между числом маленьких детей и пенсионеров, с одной стороны, и числом работающих — с другой. Так как число пожилых людей в новом веке будет продолжать расти, будут расти и потребности в определенных социальных услугах и системах здравоохранения. Рост продолжительности жизни означает, что пенсии нужно будет платить большее количество лет, чем сейчас (см. рис. 6.6 и 6.7).
 Рис. 6.6. Расходы государства на пенсионные выплаты и медицинское обслуживание в семи странах в 1995 г. и планируемые на 2030 г.
Источники: OECD; census; author's calculations. From Peterson P. G. Gray Down. Random House, 1999. P. 69.
Рис. 6.6. Расходы государства на пенсионные выплаты и медицинское обслуживание в семи странах в 1995 г. и планируемые на 2030 г.
Источники: OECD; census; author's calculations. From Peterson P. G. Gray Down. Random House, 1999. P. 69.
 Рис. 6.7. Различия в пропорциях пожилых людей, живущих вместе с детьми, по странам и по годам
Источники: OECD. From Peterson Р. G. Gray Dawn. Random Flouse, 1999. P. 153.
Рис. 6.7. Различия в пропорциях пожилых людей, живущих вместе с детьми, по странам и по годам
Источники: OECD. From Peterson Р. G. Gray Dawn. Random Flouse, 1999. P. 153.
Но ведь программы поддержки пожилых людей финансируются работающим населением. Поскольку растет коэффициент зависимости пожилых людей, растет и нагрузка на доступные ресурсы. В свете демографических перспектив правительства, группы интересов и политики вынуждены смотреть вперед и выдвигать предложения для удовлетворения нужд меняющегося населения. Например, недавно пенсионные ассоциации предупредили, что современная схема выплат пенсий не может существовать бесконечно долго. Они призвали к увеличению минимального пенсионного возраста как для женщин (от теперешних 60 до 65 лет), так и для мужчин (от 65 до 70 лет), с тем, чтобы скомпенсировать увеличившуюся продолжительность жизни.
Физические проявления старения
Старость нельзя отождествлять с плохим здоровьем или инвалидностью, но, без сомнения, в пожилом возрасте проблем со здоровьем прибавляется. Только около двадцати лет назад биологи стали пытаться систематически отделить физические проявления старения от последствий болезней. Вопрос о том, насколько человеческое тело неизбежно изнашивается с возрастом, является предметом дискуссий. Кроме того, трудно отделить эффекты, связанные с социальными и экономическими потерями, от проявлений физического старения. Потеря родных и друзей, разлука с детьми, живущими в других местах, и потеря работы — все это может нанести урон здоровью. Однако в целом исследования показывают, что плохое здоровье и пожилой возраст ни в коем случае не являются синонимами. Существует много людей в возрасте свыше шестидесяти пяти лет, которые могут считаться практически здоровыми людьми. Старение тела подвержено социальным влияниям, но, конечно, оно управляется также генетическими факторами. Биологи в целом принимают точку зрения, что максимальный жизненный ресурс человека, заложенный в его генах, составляет примерно 120 лет. Как и у всех животных, тело человека генетически запрограммировано на умирание. Но можно ли продлить жизнь? Если бы генетики нашли способ контроля за старением и смертью, это стало бы одной из самых важных сторон упомянутой выше социализации природы. Ученые уже показали, что можно так обработать состарившиеся клетки в организме животных, чтобы они стали работать как молодые. Президент Американской академии медицины против старения Рональд Клэтц заявил: «Я уверен, что еще в течение нашей жизни нам удастся значительно увеличить ее продолжительность. Новые технологии уже разработаны. Нам нужно готовиться к появлению общества без возраста. Старение — это болезнь, которую можно лечить» (цит. по: Kelsey 1996, 2).Проблемы старения
Хотя старение — это процесс, открывающий новые возможности, он сопровождается и рядом незнакомых проблем. Когда люди стареют, они сталкиваются с комбинацией трудносовместимых медицинских, эмоциональных и материальных проблем. Одна из главных забот пожилых людей — сохранение независимости, свободы передвижения и способность принимать полноценное участие в общественной жизни. Однако можно предположить, что старение не является одинаково воспринимаемым явлением. У пожилых людей сильно различаются материальные возможности и доступ к эмоциональной и медицинской поддержке. Эти различия могут повлиять на способность пожилых людей сохранять свою автономность и общее благополучие. На опыт старения оказывают важное влияние класс, гендер и раса. Например, старение является гендерным явлением. Женщины живут дольше мужчин, так что старость становится в основном «женской». На последние годы жизни оказывает огромное влияние опыт предыдущих лет. Из-за забот по дому и уходу за детьми женщины в целом меньше мужчин участвуют в оплачиваемой работе. Кроме того, уровень их зарплаты ниже. Подобные факторы оказывают большое влияние на материальное положение женщин в старости, особенно если частные или профессиональные пенсионные схемы зависят от финансовой поддержки. Исследования обнаружили, что личный доход пожилых женщин меньше, чем у мужчин, кроме того, женщины находятся в неравном положении и в отношении других вещей, например, владении домами или автомобилями. Неравенство во владении автомобилем может показаться не главной заботой женщин, но оно способно существенно ограничить их общую мобильность и доступ к здравоохранению, покупке товаров и контактам с другими людьми. С увеличением возраста женщины больше мужчин страдают от инвалидности. Это означает, что им требуется больше помощи и поддержки в выполнении ежедневных дел и уходе за собой, например, мытье в ванной, отходу ко сну или вставании с постели. Однако, по сравнению с одной пятой пожилых мужчин, примерно половина пожилых женщин в Великобритании живут одни. Следовательно, в характере доступного пожилому населению медицинского обслуживания проявляются специфические гендерные особенности. В целом пожилые люди находятся в менее благоприятном материальном положении, чем остальные группы населения. Уход на пенсию приводит к потере дохода, что может привести к значительному снижению жизненного уровня пожилых людей. Социологи отмечают, что структура неравенства, сложившаяся в более ранние годы, имеет тенденцию сохраняться в последующие годы, хотя многие исследования бедности и классовых различий концентрировались исключительно на людях работоспособного возраста. Недавний опрос об уровне жизни 1317 пожилых людей в Великобритании, проведенный университетом Кента (Milne et al. 1999), обнаружил свидетельства существования двух разных «миров». В одном мире, состоящем из людей, недавно ушедших на пенсию, живущих в коммунальных домах и получающих профессиональную пенсию, уровень жизни вполне приличен. Во втором мире, составленном из людей в возрасте за восемьдесят, живущих одиноко и имеющих мало сбережений, люди могут страдать от крайней бедности. Исследование показало, что более половины людей в возрасте от восьмидесяти лет и более живут на 80 фунтов в неделю или меньше. Среди респондентов опроса страх нищеты занял второе место после ухудшения здоровья в перечне их главных тревог.Заключение: будущее старения
В обществе, высоко ценящем молодость, энергичность и физическую привлекательность, стариков стараются все меньше замечать. Однако в последние годы в отношении к пожилым людям заметны некоторые перемены. Вряд ли они будут пользоваться тем же авторитетом и престижем, которым обладали старейшины общины в древних обществах. Однако, по мере того, как доля пожилых людей увеличивается, растет их политическое влияние. Они уже стали мощной политической силой. Все чаще последние годы жизни рассматриваются многими людьми как время больших возможностей и даже праздника. Это время воспоминаний о радостях полной жизни, но это же и время, когда личность может продолжать совершенствоваться, учиться и путешествовать. Годы, когда люди свободны как от родительских обязанностей, так и от рынка труда, часто называют третьим возрастом. В этот период, который сейчас стал дольше, чем когда-либо ранее, люди могут свободно вести активную независимую жизнь — путешествовать, продолжать образование или овладевать новой профессией. Следующий, четвертый возраст относится к тем годам жизни, когда независимость людей и их способность полностью позаботится о себе подвергается серьезным испытаниям. Группы активистов начали также борьбу с эйджизмом (дискриминацией людей по возрастному признаку) за утверждение позитивного отношения к старости и старикам. Эйджизм — такая же идеология, как расизм или сексизм. В отношении пожилых людей бытует не меньше ложных стереотипов, чем в других областях. Например, многие думают, что пожилые работники менее компетентны, чем молодые, что большинство людей, достигших шестидесятипятилетнего возраста, содержатся в больницах или домах для престарелых, что значительная доля этих людей находится в старческом маразме. Все эти представления ложны. Показатели производительности и продуктивности у работников старше 60 лет превосходят показатели представителей более молодых возрастных групп; 95 % людей старше 65 лет живут в собственных домах, и только у 7 % людей в возрасте от 65 до 80 лет имеются явные признаки старческого одряхления. В книге Майкла Янга и Тома Шаллера «Жизнь после работы. Пришествие общества без возраста» (Young and Schuller 1991) утверждается, что возраст превратился в орудие угнетения, служащее для того, чтобы загонять людей в тесные рамки стереотипных ролей. Многие пожилые люди активно борются с подобным отношением, ищут новые сферы деятельности и новые способы самореализации. Они сопротивляются обществу, которое Янг и Шаллер назвали «запертым по возрасту». В современных обществах и молодежь, и старики оцениваются прежде всего по возрасту, а их занятия, личностные и индивидуальные характеристики имеют второстепенное значение. Согласно Янгу и Шаллеру, эти две группы должны образовать альянс, чтобы вырваться из плена возрастных категорий и создать безвозрастное общество. Они станут пионерами в борьбе не только за свое социальное положение, но и за положение большинства работающего населения. Янг и Шаллер утверждают, что молодежь и старики могут вместе содействовать уходу современного общества от однообразного потребительства. Все большему и большему числу людей, говорят они, цитируя Вирджинию Вульф, удается наконец освободиться от оков труда, от необходимости «всегда делать работу, которую не хочешь делать, и делать ее как раб, льстивый и подлый». Они смогут развить свои неповторимые качества и дела, что когда-то столь эффектно сделала сама Вульф. В противном случае ее писательский дар, «небольшой, но милый сердцу обладателя... был обречен померкнуть, а с ним и я сама; моя душа... была обречена пасть, как падает тронутый гниением весенний цветок».Краткое содержание
1. Социология тела исследует особенности того, как наши тела подвержены влиянию общества. На формирование характера здоровья и болезни оказывают влияние социальные силы и окружающая среда, и это видно из того, что некоторые группы населения обладают значительно лучшим здоровьем, чем другие. 2. Социологические исследования обнаруживают тесную связь между болезнями и социальным неравенством. В индустриальных странах беднейшие группы населения имеют меньшую продолжительность жизни и более подвержены болезням, чем более состоятельные группы. Кроме того, средняя продолжительность жизни в более богатых странах больше, чем в более бедных. Некоторые считают, что основанное на классовых различиях неравенство в здоровье можно объяснить культурными и поведенческими факторами, например, диетой и образом жизни. Другие подчеркивают структурные факторы — безработицу, плохие жилищные условия и плохие условия труда. 3. Здоровье и болезнь имеют также гендерное и расовое измерения. Почти во всех странах женщины живут дольше мужчин, но заболеваемость среди них выше. Некоторые болезни чаще встречаются у представителей этнических меньшинств, чем у белого населения. Были выдвинуты генетические объяснения гендерных и расовых различий в здоровье, однако только они не могут объяснить неравенство. Хотя определенные заболевания и могут иметь биологическую основу, общая структура здоровья и болезни должна также учитывать социальные факторы и различия в материальных условиях жизни разных групп населения. 4. Западная медицина основана на биомедицинской модели здоровья — убеждении в том, что болезнь можно определить в объективных терминах и что больному телу можно вернуть здоровье с помощью научно обоснованного медицинского лечения. Биомедицинская модель здоровья возникла в современных обществах. Ее возникновение было связано с развитием демографии — науки о величине, составе и динамике населения, и растущим интересом государств в развитии общественного здравоохранения. На современные системы здравоохранения сильное влияние оказало использование научных методов в медицинской диагностике и лечении. 5. Растет количество критических замечаний в адрес биомедицинской модели здоровья. Утверждается, что заявленная эффективность научной медицины совсем не соответствует действительности, что профессионалы-медики не принимают во внимание мнение своих пациентов, что официальная медицина рассматривает себя в качестве верховного судьи по отношению ко всем альтернативным формам лечения, которые не вписываются в рамки ортодоксального подхода. 6. Социологов интересует опыт болезни — то, как больной человек и его окружение воспринимают состояние болезни, хронического заболевания или инвалидности. Выдвинутое Талкоттом Парсонсом понятие «роли больного» предполагает, что больной человек использует определенные формы поведения с целью минимизировать разрушительное воздействие болезни. Больной человек получает определенные привилегии, например, право освобождения от обычных обязанностей, но взамен должен активно работать над восстановлением здоровья, соглашаясь выполнять предписания врачей. 7. Символические интеракционисты исследовали вопрос о том, как люди справляются с заболеваниями и хроническими болезнями в повседневной жизни. Опыт болезни может вызвать изменения в самоидентификации личностей и их ежедневном распорядке дня. Для многих обществ этот раздел социологии тела становится все более важным; сейчас люди живут дольше, чем когда-либо в прошлом, и все больше страдают не от острых заболеваний, а от хронических подтачивающих здоровье болезней. 8. Еще одной важной областью социологии тела является геронтология — изучение процесса старения и поведения пожилых людей. Геронтология занимается не только физическим процессом старения, но и влияющими на него социальными и культурными факторами. 9. В большинстве индустриально развитых стран происходит «поседение» населения. Доля людей в возрасте свыше 65 лет постоянно растет и будет расти еще в течение нескольких десятилетий. Если коэффициент зависимости пожилых людей будет продолжать расти, общества столкнутся с новыми проблемами. Коэффициент зависимости пожилых людей — это связь между числом вышедших на пенсию и числом людей работоспособного возраста. С ростом пожилого населения будут увеличиваться запросы на социальное обеспечение, пенсии и систему здравоохранения, но все меньше людей будут помогать своим заработком финансировать эти программы. 10. Старость дает людям возможность освободиться от ограничений, связанных с работой. Однако она создает также социальные, экономические и психологические проблемы для индивидуумов (а часто и для семей). Для большинства людей выход на пенсию — важный переход, обычно сигнализирующий о потере статуса. Это может привести к одиночеству и потере ориентации в окружающем мире, так как люди должны во многом перестроить свою повседневную жизнь. 11. В последние годы пожилые люди, составляющие сейчас значительную часть населения индустриальных стран, началиусиливать борьбу за внимание к их конкретным интересам и нуждам. Важной частью этого движения является борьба с эйджизмом (дискриминацией по возрастному признаку).Вопросы для самостоятельного анализа
1. Что можно сделать для уменьшения неравенства в доступности медицинской помощи? 2. Как различия в жизни женщин и мужчин могут сказываться на различиях в опыте здоровья и болезни? 3. Что можно порекомендовать для того, чтобы национальная система здравоохранения больше считалась с принадлежностью пациентов к той или иной культуре? 4. Увеличивает ли «медикализация» таких состояний, как беременность или несчастье, влияние медицинских учреждений, уменьшая при этом влияние пациента? 5. Каким образом история Джан Мейсон иллюстрирует важность ведения биографических заметок для хронически больных пациентов? 6. Каким образом социальные факторы влияют на индивидуальный опыт старения?Дополнительная литература
Arber Sara and Ginn Jay (eds.). Connecting Gender and Ageing: A Sociological Approach. Buckingham: Open University Press, 1995. Doyal Lesley. What Makes Women Sick. London: Macmillan, 1995. Nettleton Sarah. The Sociology of Health and Illness. Cambridge: Polity, 1995. Peterson Peter G. Gray Dawn: How the Coming Age Wave will Transform America — and the World. N. Y.: Random House, 1999.Интернет-линки
Обзор системы здравоохранения в Европе http://www.observatory.dk Государственные системы здравоохранения в мире http://www.ldb.org/iphw/ Лондонская школа экономики и политических наук — Здоровье: Исследовательский институт проблем здравоохранения и социальной политики http://www.lse.ac.uk/Depts/lse-health/default.htm Исследование проблем старения в мире http://www.oecd.org/subject/ageing Общедоступная библиотека литературы по истории медицины и представлений о ней www.wellcome.ac.uk/en/1/lib.html Международная организация здравоохранения http://www.who.intГЛАВА 7 СЕМЬЯ
Темой большей части этой книги являются перемены. Мир, в котором мы живем, полон новых возможностей, но в то же время труден и незнаком. Хотим мы или нет, мы должны принять предлагаемые этим миром условия, представляющие сочетание возможностей и рисков. Больше всего это наблюдение подходит к нашей эмоциональной и личной жизни. За последние несколько десятилетий в Великобритании и других западноевропейских странах произошли такие сдвиги в структуре семьи, которые невозможно было даже вообразить предыдущим поколениям (см. врезку «Обзор основных тенденций изменения характера семей в Великобритании» в разделе «Теоретические взгляды на семью» этой главы). Большое разнообразие форм семьи стало привычной чертой нашего времени. Люди женятся менее охотно, чем раньше, и предпочитают делать это в более позднем возрасте. Уровень разводов существенно возрос, что привело к росту числа неполных семей. «Восстановленные семьи» (см. в разделе «Брак и развод в Великобритании» этой главы) образуются за счет вторичных браков или новых связей, включающих детей от предыдущих союзов. Все больше людей выбирают перед заключением брака, а часто и вместо него, форму совместного проживания — сожительство. Короче говоря, мир семей выглядит сейчас совершенно иначе, чем пятьдесят лет назад. Хотя институты брака и семьи все еще существуют и составляют важную часть нашей жизни, их характер резко изменился. Изменился не только состав семей и домашнего окружения. Не менее важно изменение ожиданий людей в отношении их связей с другими. Термин «связь» в применении к личной жизни стал широко употребляться только двадцать или тридцать лет тому назад, так же как мысль о том, что в личной жизни необходимы элементы «интимности» или «взаимных обязательств». В наш век связь есть нечто активное, над ее установлением нужно трудиться. Если предполагается, что связь сохранится в течение некоторого времени, то многое зависит от завоевания доверия партнера. Как брак, так и большинство типов сексуальных отношений стали похожими на такие связи. Все больше связи зависят от сотрудничества и общения между ее участниками. Эмоциональное общение стало самым важным не только в связях, основанных на сексуальной любви, но и в дружбе и общении с родственниками и детьми. Все эти преобразования происходят не только в индустриально развитых странах. Описанный процесс наблюдается, хотя не в одинаковой степени, во всем мире. Хорошей иллюстрацией противоречивой природы изменений в семейной сфере может служить ситуация в Китае. По сравнению с западными странами, уровень разводов в Китае пока невысок, однако он быстро растет, как и в других развивающихся странах Азии. В больших городах Китая все чаще встречается не только развод, но и сожительство. Это вынуждает государство усложнять систему получения развода. Действующие в данное время законы о браке, датируемые еще 1960-ми гг., очень либеральны. Брак рассматривается как рабочий контракт, который можно расторгнуть, «если этого желают как муж, так и жена». Даже если один из партнеров возражает, развод может быть оформлен, если в браке отсутствует «взаимная привязанность» партнеров. После двухнедельного ожидания и уплаты небольшого административного налога пара получает развод. В Китае много говорят о защите «традиционных» семейных отношений, все еще сохранившихся в сельской местности. Несмотря на официальную политику правительства, ограничивающую рождаемость одним или двумя детьми в семье, брак и семья в сельских регионах остаются значительно более традиционными, чем в городах. Брак — это связь двух семей, устанавливаемая чаще не теми, кто вступает в брак, а их родителями. В ряде провинций родители организуют примерно 60 % всех браков. Ирония модернизации жизни в Китае состоит в том, что многие разводы, регистрируемые в городских районах, совершаются между парами, заключившими брак по настоянию родителей в сельских регионах. Как показывает этот пример, во всем мире общества сталкиваются с похожими явлениями в вопросах, касающихся изменений семейной жизни. Тревоги по поводу «распада» семей, звучащие в Великобритании, одновременно высказываются в других странах, как входящих, так и не входящих в число индустриально развитых. Вопросы отличаются только уровнем обсуждения и культурным контекстом, в рамках которого они рассматриваются. Эрозия традиционных форм семейной жизни — в Великобритании, Китае и других обществах в мире — одновременно и отражает процесс глобализации, и вносит в него существенный вклад. Как мы увидим, изменения в семейной жизни часто сталкиваются с сопротивлением и призывами вернуться к прошлым «золотым денькам». Однако тот факт, что большинство из нас, сопротивляемся мы этим изменениям или нет, уделяет много времени их обдумыванию, является показателем фундаментальных преобразований, затронувших нашу эмоциональную и личную жизнь в последние несколько десятилетий. Назад пути нет. Мы должны активно и творчески интересоваться меняющимся миром и его влиянием на нашу личную жизнь.Основные понятия
Прежде всего, нужно определить ключевые понятия семьи, родства и брака. Семья — это группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми. Родственные отношения — это отношения, возникающие при заключении брака либо являющиеся следствием кровной связи между лицами (матери, отцы, братья и сестры, дети и т. д.). Брак можно определить как получивший общественное признание и одобрение сексуальный союз двух взрослых лиц. Индивиды, вступившие в брак, становятся родственниками друг другу, но их брачные обязательства связывают родственными узами гораздо более широкий круг людей. При заключении брака родители, братья, сестры и другие кровные родственники одной стороны становятся родственниками противоположной стороны. Семейные отношения всегда рассматриваются в рамках более широких родственных групп. Практически во всех обществах можно выделить то, что социологи и антропологи называют нуклеарной семьей, состоящей из двух взрослых людей, совместно ведущих свое домашнее хозяйство и имеющих собственных или приемных детей. В большинстве обществ традиционного типа нуклеарные семьи были частью более широкой сети родственных отношений. Когда близкие родственники, не являющиеся супружеской парой с детьми, живут вместе либо находятся в близком постоянном контакте, мы говорим о расширенной семье. Она может включать бабушек, дедушек, братьев и их жен, сестер и их мужей, тетей, дядей, племянников и племянниц. В обществах западного типа брак, а следовательно и семья, ассоциируется с моногамией. Считается незаконным состоять в браке более чем с одной женщиной или одним мужчиной одновременно. Однако так считается не везде. Джордж Мердок, который провел в середине XX в. знаменитое сравнительное исследование нескольких сотен обществ, обнаружил, что полигамия, позволяющая жене или мужу иметь более одного супруга, разрешена в 80 % этих обществ. Существуют два типа полигамии: полигиния, когда один мужчина женат на нескольких женщинах одновременно, и полиандрия, когда женщина одновременно имеет двух или более мужей.Разнообразие семей
Многие социологи полагают, что нельзя говорить о «семье» так, как будто существует только одна более или менее универсальная модель семейной жизни. Как мы увидим далее в этой главе, во второй половине XX в. происходило постепенное разрушение главенства традиционных нуклеарных семей. Так, в Великобритании менее четверти семейств следуют модели традиционной семьи. Кроме того, есть заметные различия в характере семей среди групп этнических меньшинств. Например, азиатские семейства часто включают более одной семьи с детьми, а для сообществ чернокожих типично большое число неполных семей. По этим причинам представляется более правильным говорить о «семьях». Это позволяет подчеркнуть разнообразие форм семьи. Если далее для краткости мы будем говорить просто «семья», необходимо при этом всегда помнить о том многообразии форм, которые стоят за этим понятием.Теоретические взгляды на семью
Изучение семьи и семейной жизни по-разному проводилось социологами противоположных взглядов. В свете недавних исследований и важных изменений, происходящих в мире, многие принятые еще несколько десятилетий тому назад взгляды сейчас кажутся значительно менее убедительными. И все же, прежде чем изложить современные подходы к изучению семьи, полезно коротко проследить за эволюцией социологической мысли.Функционализм
При функционалистском подходе общество рассматривается как совокупность социальных институтов, выполняющих специфические функции для поддержания в нем целостности и согласия. Согласно этому взгляду, семья осуществляет важные задачи, вносящие вклад в основные нужды общества и помогающие поддерживать социальный порядок. Социологи, придерживавшиеся функционалистской традиции, считали, что в современных обществах нуклеарная семья исполняет особые специфические роли. С развитием индустриализации семья стала менее важной как единица экономического производства и все больше сосредоточилась на воспроизводстве, уходе за детьми и социализации. Согласно американскому социологу Талкотту Парсонсу, двумя главными функциями семьи являются первичная социализация и стабилизация личности (Parsons and Bales 1956). Первичная социализация — это процесс изучения детьми культурных норм того общества, в котором они родились. Так как этот процесс происходит в течение раннего детства, семья является главной ареной становления человеческой личности. Стабилизация личности подразумевает ту роль, которую играет семья в эмоциональной поддержке своих взрослых членов. Брак между взрослыми мужчинами и женщинами является соглашением, благодаря которому взрослые личности находят взаимную поддержку и сохраняют здоровье. В индустриальных странах роль семьи в стабилизации взрослых индивидов считается решающей. Это есть результат того, что нуклеарная семья часто отдаляется от родственников и не способна поддерживать более широкие родственные связи, как это могли делать семьи в доиндустриальную эпоху. Парсонс рассматривает нуклеарную семью как единицу, наилучшим образом приспособленную к ответам на запросы индустриального общества. В «традиционной семье» один взрослый может работать вне дома, а другой вести домашнее хозяйство и растить детей. На практике такая специализация ролей в рамках нуклеарной семьи предполагает, что муж принимает «инструментальную» роль кормильца, а жена — «эмоциональную» роль хранительницы домашнего очага. В наши дни взгляды Парсонса на семью считаются устаревшими и неадекватными. Функционалистские теории семьи подверглись жесткой критике за оправдание домашнего разделения труда между мужчинами и женщинами как чего-то естественного и беспроблемного. Однако, если рассмотреть эти теории в их историческом контексте, многое становится более понятным. В первые послевоенные годы женщины, действительно, вернулись к исполнению традиционных ролей домохозяек, а мужчины вновь взяли на себя роли единственных кормильцев. Однако функционалистские взгляды на семью можно критиковать и по другим основаниям. Подчеркивая важность семьи в осуществлении определенных функций, теоретики пренебрегали той ролью, которую играют в социализации детей другие социальные институты — правительство, средства массовой информации и школы. Не учитывались также разновидности форм семьи, которые совершенно не соответствуют модели нуклеарной семьи. Семьи, не удовлетворяющие «идеалу» белой провинциальной семьи среднего класса, рассматривались как девиантные.Феминистские подходы
Для многих людей семья является жизненно важным источником утешения, комфорта, любви и дружбы. Однако она может быть также и местом эксплуатации, одиночества и глубокого неравенства. Феминизм оказал большое влияние на социологию тем, что изменил взгляд на семью как на царство гармонии и равенства. Один из первых «несогласных» голосов раздался в 1965 г., и он принадлежал американской феминистке Бетти Фрейдан, которая писала о «проблеме без имени» — изоляции и одиночестве, охвативших многих провинциальных американских домохозяек, которые чувствовали себя захваченными бесконечной круговертью забот о детях и домашнем хозяйстве. Затем последовали другие голоса, исследовавшие явление «порабощенной жены» (Gavron 1966) и разрушительное влияние «душной» семейной атмосферы на межличностные отношения (Laing 1971). В течение 1970-х и 1980-х гг. в большинстве касающихся семьи споров и исследований доминировал феминистский подход. Если раньше социология семьи была сосредоточена на изучении семейных структур, историческом развитии нуклеарной и расширенной семьи и важности родственных связей, то феминизм стремился направить внимание на положение внутри семей, чтобы исследовать опыт женщин в домашней сфере. Многие ученые-феминисты поставили под вопрос представление о том, что семья является совместной ячейкой, основанной на общих интересах и взаимной поддержке. Они пытались показать, что наличие неравенства во властных отношениях внутри семьи означает, что одни члены семьи стремятся получить больше привилегий, чем другие. Феминистские труды касались широкого спектра вопросов, но особенно важными были три главные темы. Одна из них, которую мы подробнее рассмотрим в главе 13, — это домашнее разделение труда, т. е. то, как домашние заботы разделяются между членами семейства. Среди феминистов звучат разные мнения об историческом происхождении такого разделения. Одни считают, что это результат индустриального капитализма, другие — что это связано с патриархатом и, таким образом, предшествует индустриализации. Есть основания полагать, что домашнее разделение труда существовало до индустриализации, но совершенно ясно, что капиталистическое производство способствовало существенно более резкому различию между сферами работы и домашнего хозяйства. Этот процесс привел к выделению «мужских» и «женских» сфер жизни и сохраняющихся до сего дня властных отношений. Еще совсем недавно в большинстве индустриально развитых стран была широко распространена модель мужчины-кормильца. Социологи-феминисты предприняли изучение того, каким образом домашние заботы, такие как уход за детьми и домашнее хозяйство, разделяются между мужчинами и женщинами. Они изучили справедливость утверждений о «симметричной семье» (Young and Wilmott 1973), т. е. убеждения в том, что с течением времени члены семьи становятся все более равноправными в распределении ролей и ответственности. Исследования показали, что женщины продолжают нести главную ответственность за домашнее хозяйство и имеют значительно меньше времени для досуга, чем мужчины, несмотря на то, что оплачиваемую работу вне дома сейчас имеет большее число женщин, чем когда-либо ранее (Gershuny et al. 1994; Hochschild 1989; Sullivan 1997). Обращаясь к близкой теме, ряд социологов исследовал контрастирующие области оплачиваемой и неоплачиваемой работы, обращая внимание на тот вклад, который вносит в общую экономику неоплачиваемый женский домашний труд (Oakley 1974). Другие ученые изучали то, как распределяются средства среди членов семьи и каковы пути доступа и контроля за семейным бюджетом (Рahl 1989). Феминисты также обратили внимание на неравные властные взаимоотношения, существующие во многих семьях. Один из вопросов, который в результате этих исследований привлек растущее внимание, — это явление домашнего насилия. Побои жен, супружеское насилие, инцест и сексуальные злоупотребления с детьми привлекли внимание общества в результате утверждений феминистов, что жестокость и насилие в семейной жизни долго игнорировались как академическими, так и судебными и политическими кругами. Социологи-феминисты пытались понять, каким образом семья становится ареной гендерного подавления и даже физического насилия. Еще одной областью, в которую феминисты внесли наиболее значительный вклад, стало изучение деятельности по уходу. Это широкая сфера, включающая много разных процессов от заботы о заболевшем члене семьи до присмотра в течение долгого времени за престарелыми родственниками. Иногда под уходом понимают просто заботу о чьем-то психологическом благополучии — ряд ученых-феминистов интересовались проблемой «эмоциональной работы» в рамках родственных связей. Женщины берут на свои плечи не только конкретные задачи вроде уборки или ухода за детьми, но затрачивают очень много эмоциональных усилий для поддержания межличностных отношений (Duncombe and Marsden 1993). Несмотря на то, что деятельность по уходу основана на любви и глубоких чувствах, она также является формой работы, требующей способности слушать, воспринимать, обсуждать и активно действовать.────────────────────────────┐ ■ Обзор основных тенденций изменения характера семей в Великобритании Для многих наблюдателей в Великобритании изменения, коснувшиеся современных семей, представляются ужасающими. На наших глазах разрушаются формы семейной жизни, считавшиеся долгое время общепринятыми. Упор во взаимоотношениях на потребности личности достигается ценой разрушения семьи как базисного общественного института. Действительно ли Великобритания эволюционирует в сторону «общества одиноких людей»? Судя по основным тенденциям изменения структуры семей за последние годы, многие считают, что это так. Более чем когда-либо многие люди на всех стадиях жизненного цикла живут одиноко. К началу XXI в. одиноко живут более 6 млн англичан — 28 % всех семейств. Это втрое больше того, что было 40 лет тому назад. Опросы о составе семейств выявили следующие факторы, приводящие к росту «одинокой жизни». • Брак. Все меньшее число людей вступает в брак, а те, кто все же выбирают брак, делают это в более позднем возрасте. Годовой уровень заключения браков в Великобритании находится сейчас на самом низком уровне более чем за 150 лет. Средний возраст людей, впервые вступающих в брак, растет. В 1996 г. он равнялся 29 годам для мужчин и 27 — для женщин. Стало принятым как можно дольше оставаться одиноким. • Деторождение. Женщины предпочитают иметь детей в более позднем возрасте. Средний возраст появления ребенка у женщины равен 29 годам, но многие женщины откладывают это, пока не достигнут тридцати или сорока лет. По оценке, четверть женщин, родившихся в 1973 г., будет бездетной в возрасте 45 лет. • Разводы. Процент разводов растет. Около 40 % браков в наши дни заканчиваются разводами. • Неполные семьи. Все больше детей живут в неполных семьях. Сейчас 21 % детей живет только с одним родителем, что в три раза больше, чем было в 1971 г. Если семьи действительно разрушаются, как считают некоторые ученые, то последствия могут быть серьезными. Семья — это точка встречи целого ряда процессов, влияющих на общество в целом, в том числе растущего равенства полов, широко распространенного включения женщин в рабочую силу, изменений в сексуальном поведении и ожиданиях и меняющемся соотношении между домом и работой. ────────────────────────────┘
Новые взгляды на социологию семьи
Проведенные в последние несколько десятилетий теоретические и эмпирические исследования, основанные на феминистских взглядах, увеличили интерес к проблемам семьи как среди ученых, так и среди населения. В наш повседневный словарь вошли такие термины, как «вторая смена», под которым понимается двойственная роль женщины на работе и дома. Однако, поскольку феминистские исследования семьи часто ограничивались конкретными вопросами в рамках домашней сферы, они не всегда отражали более широкие тенденции и влияния, имеющие место вне дома. В последнее десятилетие появилось заметное количество социологической литературы по вопросам семьи, в которых высказываются близкие к феминизму, но не совсем совпадающие с ним взгляды. Особое внимание привлекают происходящие значительные преобразования форм семьи — образование и распад семей и семейств, и меняющиеся ожидания в рамках личных взаимосвязей индивидов. Рост числа разводов и неполных семей, возникновение «восстановленных семей» и семей геев, популярность сожительства — все эти факты вызывают тревогу. И все эти преобразования невозможно понять без учета более широких изменений, возникших в самое последнее время. Если мы хотим уловить связь между изменениями личности и более общими характерными изменениями в обществе, следует уделить внимание тем сдвигам, которые возникли на социальном и даже глобальном уровнях. Один из самых важных вкладов в эту литературу был сделан семейной парой Ульрихом Беком и Элизабет Бек-Герншейм. Бек и Бек-Герншейм В книге «Нормальный хаос любви» Ульрих Бек и Элизабет Бек-Герншейм исследуют бурную природу личных взаимоотношений, браков и видов семей на фоне быстро меняющегося мира (Beck and Beck-Gernsheim 1995). Они утверждают, что традиции, правила и установки, которые используются для того, чтобы управлять взаимоотношениями личностей, более неприменимы, и индивиды сталкиваются с бесконечным рядом возможностей для создания, приспособления, исправления или разрушения союзов, которые они образуют с другими. Тот факт, что сейчас вступают в брак добровольно, а не по экономическим соображениям или по настоянию семьи, приводит как к свободе, так и к новым ограничениям. На самом деле, заключают авторы, такие браки требуют много тяжелой работы и усилий. Бек и Бек-Герншейм считают, что наша жизнь заполнена сталкивающимися интересами семьи, работы, любви и свободы в достижении личных целей. Это столкновение остро ощущается в личных связях, особенно когда приходится вместо одной жонглировать двумя «биографиями на рынке труда». Под этим авторы понимают то, что не только мужчины, но и все большее число женщин в течение своей жизни стремятся сделать карьеру. Раньше женщины охотнее работали вне дома только часть времени или отрывали значительное время от своей карьеры, чтобы растить детей. На эти формы поведения сейчас обращают меньше внимания, чем раньше. В наши дни и мужчины, и женщины делают упор на профессиональные и личные нужды. Бек и Бек-Герншейм заключают, что в наше время связи стали чем-то значительно большим, чем взаимоотношения. Предметами переговоров являются не только любовь, секс, дети, брак и домашние обязанности, но и взаимоотношения в вопросах работы, политики, экономики, профессии и неравенства. Современные пары сталкиваются с разнообразным выбором проблем — от обычных земных до фундаментальных. Вероятно, поэтому неудивительно, что между мужчинами и женщинами растет антагонизм. Бек и Бек-Герншейм утверждают, что «война полов» является «центральной драмой нашего времени», о чем свидетельствуют рост индустрии брачных агентств, числа семейных судов, групп супружеской самопомощи и уровня разводов. Но даже несмотря на то, что брак и семейная жизнь стали более хрупкими, чем когда-либо ранее, они все еще остаются очень важными для людей. Развод все более обычен, но высок и уровень повторных браков. Уровень рождаемости, может быть, и падает, но есть огромный спрос на лечение бесплодия. Все меньше людей вступают в брак, но желание жить с кем-то как часть пары определенно сохраняется. Что может объяснить эти противоречивые тенденции? Согласно авторам, ответ прост: любовь. Они утверждают, что сегодняшняя «война полов» является самым понятным из возможных указанием на «любовный голод» среди людей. Ради любви люди женятся и разводятся; они вовлекаются в бесконечный круговорот надежд, разочарований и новых попыток. С одной стороны, трения между мужчинами и женщинами велики, но, с другой стороны, остается глубокая надежда и вера в возможность найти истинную любовь и удовлетворение. Может показаться, что «любовь» — слишком простое объяснение сложностей современного мира. Но Бек и Бек-Герншейм утверждают, что именно потому, что наш мир так огромен, безличен, абстрактен и быстро меняется, любовь становится все более важным фактором. Согласно авторам, любовь — то единственное место, где люди могут обрести себя и соединиться с другими. В нашем мире неопределенности и риска любовь реальна.«Любовь — это поиск себя, жажда союза между мной и тобой, с общими телами и общими мыслями, безудержная тяга друг к другу, признание и прощение, понимание, подтверждение и поддержка во всем, что было и что есть, стремление к дому и вера в преодоление сомнений и страхов, порождаемых современной жизнью. Если ничто не кажется определенным и безопасным, если даже дышать опасно в нашем отравленном мире, тогда люди гонятся за обманчивыми снами любви, пока вдруг они не превращаются в ночные кошмары» (Beck and Beck-Gernsheim 1995, 175–176).Авторы утверждают, что любовь одновременно безысходна и утешительна. Это «мощная сила, подчиняющаяся собственным законам и накладывающая свой отпечаток на ожидания, страхи и манеру поведения людей». В нашем переменчивом мире она стала новым источником веры.
Брак и развод в Великобритании
Правы ли Бек и Бек-Герншейм, когда они утверждают, что антагонизм между мужчиной и женщиной является «центральной драмой нашего времени»? Статистика числа браков и разводов в определенной степени поддерживает эту точку зрения. Рост числа разводов стал одной из наиболее важных тенденций, влияющих на структуру семьи во многих индустриальных странах, в том числе в Великобритании. В данном разделе мы подробнее проанализируем эти тенденции и некоторые их серьезные последствия. В течение многих веков брак на Западе считался практически нерасторжимым. Разводы допускались лишь в очень ограниченном числе случаев, например, при невозможности осуществлять брачные отношения. До сих пор в одной или двух индустриальных странах разводы не признаются. Но это сейчас редкий случай. Большинство стран быстро движется к тому, чтобы облегчить получение развода. Практически во всех индустриальных странах принята так называемая состязательная система. По этой системе для получения развода одна из сторон должна выдвинуть против другой обвинение (например, в жестокости, недостатке внимания или измене). Первые «независимые от вины» законы о разводах были приняты в ряде стран в середине 1960-х гг. С тех пор многие западные государства шли по одному пути, расходясь в некоторых деталях. В Великобритании Акт о реформе бракоразводных дел, облегчивший получение развода и содержавший положение о «независимости от вины», был принят в 1969 г. и вступил в силу в 1971 г. Принцип «независимости от вины» был подтвержден в новом законе, принятом в 1996 г. Между 1960-ми и 1970-ми гг. число разводов в Великобритании ежегодно возрастало на 9 % и к концу десятилетия удвоилось. К 1972 г. оно снова удвоилось, частично вследствие принятия Акта 1969 г., который сделал возможным формальное прекращение множества браков, уже давно к тому времени «умерших». С 1980 г. число разводов в какой-то степени стабилизировалось, хотя и остается очень высоким по сравнению с предыдущим периодом. Две пятых общего числа браков теперь заканчиваются разводом. Показатели числа разводов, очевидно, не являются прямыми индикаторами неудачных браков. С одной стороны, число разводов не включает людей, которые живут раздельно, но формально не разведены. С другой стороны, люди, несчастливые в браке, часто предпочитают оставаться вместе, потому что верят в святость брака, либо озабочены финансовыми и эмоциональными последствиями разрыва, либо хотят остаться вместе, чтобы создать детям «нормальную» семью. Почему же развод становится все более распространенным? Наряду с более широкими социальными изменениями, можно указать несколько факторов. За исключением очень малой доли крайне богатых людей, брак сегодня перестал быть связью, имеющей целью передавать от поколения к поколению собственность и социальный статус. По мере обретения женщинами экономической самостоятельности брак все реже является следствием необходимости экономического партнерства, как это было когда-то. Общий рост благосостояния приводит к тому, что в случае неудовлетворенности браком теперь стало значительно легче устроить собственную жизнь. Кроме того, разводы уже больше не несут на себе позорного клейма, и в какой-то степени это их стимулирует. Еще один важный фактор — растущая тенденция оценивать брак по степени личной удовлетворенности в нем. Растущее число разводов, вероятно, связано не глубоким разочарованием в браке как таковом, а с усиливающимся стремлением превратить его в полнокровный, приносящий удовлетворение союз.Неполные семьи
Неполные семьи (семьи с одним родителем) получили за последние три десятилетия все более широкое распространение. Более чем 20 % несовершеннолетних детей живут сейчас в неполных семьях. Главой большинства этих семей — более 90 % — является женщина. К середине 1990-х гг. в Великобритании было 1,6 миллиона неполных семей, и их число растет (табл. 7.1). Как правило, эти семьи относятся к беднейшим слоям современного общества. Многие одинокие матери, независимо от того, были они замужем или нет, по-прежнему сталкиваются с социальным неодобрением и экономической незащищенностью. Правда, старые ярлыки, такие как «брошенные жены», «безотцовщина» или «разбитые семьи», постепенно исчезают.Таблица 7.1 Семьи, возглавляемые родителями-одиночками, в процентах к общему числу семей с детьми на иждивении. Распределение по брачному статусу. Великобритания
 Источник: General Household Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. Crown copyright.
Источник: General Household Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. Crown copyright.
Категория семей с одним родителем неоднородна. Например, более половины овдовевших матерей являются владельцами своего жилья, тогда как большинство одиноких матерей, не состоявших в браке, снимает жилье. Одинокий родитель — состояние неустойчивое, и его границы часто размыты. В случае, когда человек теряет супруга (супругу), распад семьи очевиден, хотя даже в этом случае человек может жить один до распада семьи, если его половина какое-то время находится перед смертью в больнице. Однако около 60 % неполных семей сегодня — результат развода или прекращения отношений. Среди 1,6 млн неполных семей быстрее всего увеличивается категория одиноких никогда не вступавших в брак матерей. В 1997 г. они составляли 42 % от общего числа неполных семей. Трудно определить, сколько из этих матерей сами предпочли выращивать детей в одиночку. Большинство людей не хотят быть одинокими родителями, но есть растущее меньшинство тех, кто выбирает этот путь — воспитание одного или нескольких детей без всякой поддержки супруга или партнера. «Матери-одиночки по выбору» — удачное название тех одиноких матерей, которые обладают достаточными ресурсами, чтобы успешно управлять неполной семьей. Однако для большинства незамужних или никогда не бывших в браке матерей реальность выглядит иначе: наблюдается высокая корреляция между показателями рождаемости вне брака и показателями бедности и социальной незащищенности. Как мы видели выше, эти влияния очень важны для объяснения высокой доли неполных семей среди живущих в Великобритании семей выходцев из Вест-Индии. Кроу и Харди доказывают, что большое количество «дорог», приводящих к неполным семьям и выводящих из них, означает, что неполные семьи в целом не представляют единой сплоченной группы (Crow and Hardey 1992). Хотя неполные семьи могут испытывать определенные общие материальные или социальные затруднения, они не несут в себе черт коллективной идентичности. Многообразие путей, приводящих к одинокому материнству и выводящих из него, означает, что с точки зрения социальной политики трудно определить границы этого явления и спланировать его нужды.
Повторный брак
Заключение повторного брака может сопровождаться разными обстоятельствами. В некоторых подобных парах партнерам всего по двадцать с небольшим лет, и ни у кого из них нет детей от первого брака. Люди в возрасте тридцати-сорока лет нередко имеют одного или нескольких детей от предыдущего брака и вводят их в новую семью. У тех, кто повторно женится в пожилом возрасте, дети, как правило, уже взрослые и никогда не живут в созданных родителями новых семьях. В новом браке также могут появиться дети. Каждый из партнеров может быть вдовым, разведенным или вступать в брак впервые — всего возможно до восьми различных комбинаций. Любые обобщения, касающиеся повторных браков, должны быть крайне осторожными. Однако имеет смысл отметить некоторые общие черты. В 1900 г. девять десятых всех браков в Великобритании заключались людьми, вступающими в брак впервые. Из вступающих в повторный брак в большинстве случаев хотя бы один был вдовцом. С ростом числа разводов количество повторных браков также стало расти, и заметное число заключающих брак повторно составили разведенные. В 1971 г. 20 % браков были повторными; сейчас доля повторных браков достигла 40 %. Сегодня в двадцати восьми случаях браков из каждых ста хотя бы один из партнеров уже состоял в браке. Большую часть вступающих в брак вторично в возрасте до 35 лет составляют разведенные. После этого возраста доля вступающих в брак вдов и вдовцов возрастает, а после 55 лет число таких повторных браков больше, чем число браков после развода. Возможно, это покажется странным, но лучший способ повысить шансы вступить в брак как для мужчин, так и для женщин, — уже побывать в другом браке! Разведенные с большей вероятностью снова вступают в брак, чем одинокие люди этой же возрастной категории. Во всех возрастных группах разведенные мужчины вступают в брак чаще, чем разведенные женщины: из каждых четырех разведенных женщин в брак вступают три, а из каждых шести мужчин — пятеро. Если судить по статистике, повторные браки менее удачны, чем первые. Число разводов после повторных браков выше, чем после первых. Конечно, это не означает, что повторные браки заранее обречены на неудачу. Люди, прошедшие через развод, ожидают от брака большего, чем те, у кого не было опыта. Следовательно, они в большей степени готовы расторгнуть новые браки, чем те, кто только что их заключил. Возможно, что повторные браки, которые удается сохранить, в среднем могут быть более удачными, чем первые.Восстановленные семьи
Термин восстановленная семья относится к семье, в которой хотя бы один из взрослых имеет детей от предыдущих связи или брака. Такие семьи часто называют сводными семьями. С восстановленными семьями связаны определенные радости и преимущества и, в конечном итоге, рост числа расширенных семей. Но могут возникнуть и определенные проблемы. Во-первых, обычно где-то живет биологический родитель, и его влияние на детей может быть достаточно сильным. Во-вторых, взаимоотношения разведенных нередко ухудшаются после вступления одного или обоих в новый брак. Например, женщина с двумя детьми выходит замуж за мужчину, у которого также двое детей, и все они живут вместе. Если «внешние» родители будут настаивать, чтобы дети навещали их так же, как и раньше, то трения, связанные с превращением новой семьи в единое целое, будут усиливаться. Например, для новой семьи может оказаться невозможным проводить выходные дни вместе. В-третьих, в восстановленных семьях объединяются дети с разным прошлым, имеющие самые разные представления о подобающем поведении в семье. Поскольку немало сводных детей «принадлежит» к двум домам, велика возможность столкновений различных привычек и мировоззрений. Вот слова мачехи, описывающей свой опыт, после того как проблемы, с которыми она столкнулась, привели к разрыву.«Во многом это моя вина. Вы не можете делать то, что могли бы в обычных условиях сделать с своим собственным ребенком, поэтому вы ощущаете себя виноватой, но если у вас возникнет нормальная реакция на его поведение и вы рассердитесь, то тоже будете чувствовать себя виноватой. Вы все время боитесь оказаться несправедливой. Ее (приемной дочери) отец и я не можем договориться. Если я приструниваю ее, он говорит, что я к ней придираюсь. Чем больше он ее распускает, тем больше я кажусь придирой... Я хотела дать ей что-то, стать частью жизни, которую она утратила, но, вероятно, у меня не хватило гибкости» (Smith 1990, 42).Практически отсутствуют нормы, которые регулировали бы отношения между сводными родителями и их пасынками. Должен ли ребенок называть своего отчима или мачеху по имени или больше подходит обращение «папа» или «мама»? Должен ли сводный родитель приучать детей к дисциплине так же, как это делают настоящие родители? Как вести себя сводному родителю по отношению к новому супругу своего бывшего партнера, на время забирая детей к себе? Тип родственных отношений, вызванный появлением восстановленных семей, достаточно новый для современных западных обществ, как новы трудности, возникающие в повторном браке, следующем за разводом. Члены таких семей разрабатывают собственные способы адаптации к своим сравнительно новым обстоятельствам. Некоторые ученые говорят сейчас о бинуклеарных семьях, имея в виду, что два дома, образовавшихся после развода, продолжают составлять одну семейную систему, в которую вовлечены дети. Перед лицом столь глубоких и запутанных преобразований, может быть, наиболее подходящий вывод таков: в то время как разводы разрушают браки, семьи тем не менее сохраняются. Особенно там, где вовлечены дети, множество уз, существовавших до развода, сохраняется, несмотря на то, что после повторных браков возникают новые связи в восстановленных семьях.
────────────────────────────┐ ■ Карол Смарт и Брен Неал: Осколки семьи? С 1994 по 1996 гг. Карол Смарт и Брен Неал провели два этапа интервью с группой из шестидесяти родителей Западного Йоркшира, которые либо разошлись, либо развелись после принятия Закона о детях 1989 г. Этот закон изменил ситуацию, с которой сталкиваются родители и дети при разводе, отменив старые понятия «опеки» и «доступа». Таким образом, родители уже не чувствуют, что им приходится сражаться за своих детей. Закон разъяснил, что законные связи между родителями и их детьми не нарушаются при разводе, а также призвал родителей разделить между собой воспитание детей и потребовал от судей и других лиц больше прислушиваться к мнению детей. Смарт и Неал заинтересовались тем, каким образом изначально формируется характер воспитания детей после развода и как он меняется с течением времени. При исследовании они сравнивали ожидания родителей относительно воспитания детей после развода с той «реальностью», с которой они столкнулись через один год. Смарт и Неал обнаружили, что воспитание детей после развода включает процесс непрерывного урегулирования, которого многие родители не ожидали и к которому не были подготовлены. Методы воспитания, работавшие у команды из двух родителей, не обязательно оказывались успешными в неполных семьях. Родители были вынуждены постоянно переоценивать свои подходы к воспитанию, причем не только в отношении «больших решений», касающихся своих детей, но и в отношении повседневных аспектов ухода за детьми, которые теперь распределились на два дома вместо одного. После развода родители сталкиваются с двумя противоположными требованиями — их собственной потребности жить отдельно и на расстоянии от бывшего супруга и необходимости оставаться связанными при исполнении общих родительских обязанностей. Смарт и Неал обнаружили, что жизненный опыт воспитания после развода необычайно неустойчив и со временем меняется. При опросе через год после развода многие родители могли оглянуться назад на начальные стадии воспитания в одиночку и оценить принятые тогда воспитательные решения. Часто родители переоценивают свое поведение с учетом своих изменившихся взглядов. Например, многие родители беспокоились о том вреде, который будет нанесен их детям в результате развода, но не знали, кактрансформировать свои страхи и чувство вины в конкретные действия. Это привело некоторых родителей к тому, что они слишком крепко держали детей около себя или рассматривали их как «взрослых» наперсников. В других случаях это приводило к враждебности, отчуждению и потере содержательных контактов. Согласно авторам, в средствах массовой информации и среди политиков бытует неявное, а иногда и явное предположение, что после развода взрослые забывают про мораль и начинают действовать эгоистично и в собственных интересах. В один миг исчезают мягкость, щедрость, компромисс и чуткость; моральные устои, в рамках которых ранее принимались решения относительно семьи и благополучия, отбрасываются. Беседы Смарт и Неала с разведенными родителями заставили их опровергнуть такое мнение. Они утверждают, что родители действуют при воспитании детей в рамках морали, но, возможно, ее лучше понимать как мораль заботы, а не как мораль в полном смысле этого слова, основанную на наборе определенных принципов и верований. Смарт и Неал говорят, что когда родители заботятся о своих детях, появляются решения о том, «как сделать лучше». Эти решения очень сильно привязаны к ситуации; родители должны взвесить большое число проблем, включая то, как решение повлияет на детей, подходящее ли выбрано время для его принятия и какие опасные последствия оно может иметь для взаимоотношений со вторым родителем. Рассмотрим письмо, полученное от одинокой матери, бывший муж которой предложил взять их детей под опеку.
«Я сказала: „Ладно, если ты действительно чувствуешь, что можешь присматривать за детьми все время, не лучше ли попробовать сначала провести с ними уик-энд и посмотреть, что получилось. А затем, может быть, после уик-энда можно попробовать дать их тебе на всю неделю и посмотреть, как ты справишься с ними“. Он пришел в совершенную ярость, так как вбил себе в голову, что должен сидеть с детьми, поэтому он сказал: „Нет“. Я ответила: „В таком случае я не готова даже обсуждать это, так как я чувствую, что ты просто не понимаешь, насколько это тяжело, ты уже три года не был с детьми полный день, мне кажется, что ты не готов к этому. Я чувствую, тебе надо взять их на полный день и попробовать отводить их в школу, забирать их из школы, готовить еду, чистить одежду, стирать и гладить белье, мыть их, помогать с домашними заданиями, ухаживать за ними, если они больны. А затем мы заново обсудим и оценим ситуацию“» (Smart and Neal 1999).В данном случае мать пытается определить, «как следует поступить», взвешивая множество факторов. С учетом сложных взаимоотношений с бывшим супругом и необходимостью защитить успехи в собственном саморазвитии, она все же пытается конструктивно действовать вместе с ним в интересах детей. Смарт и Неал заключают, что развод влечет за собой изменение обстоятельств, которые редко когда удается «наладить» раз и навсегда. Успешное воспитание детей после развода требует постоянного сотрудничества и обсуждения. Хотя Закон о детях 1989 г. добавил необходимую гибкость в оформление воспитания детей после развода, акцент на благополучие ребенка может привести к пересмотру критической роли, которую играет качество отношений между разведенными родителями. ────────────────────────────┘
«Отсутствующий отец»
Период с конца 1930-х до 1970-х гг. иногда называют периодом «безотцовщины». В течение Второй мировой войны многие отцы, находившиеся на военной службе, редко видели своих детей. В послевоенный период женщины в значительной части семей не имели оплачиваемой работы и сидели дома, воспитывая детей. Отец был главным кормильцем и поэтому весь день был на работе. Он имел возможность общаться с детьми только по вечерам или в выходные дни. Позднее, с ростом числа разводов и числа неполных семей, термин отсутствующий отец стал означать нечто другое. Так стали называть отцов, которые в результате разрыва или развода сохранили лишь случайные контакты со своими детьми или вообще потеряли с ними связь. Как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах, где уровень разводов один из самых высоких в мире, такая ситуация вызвала напряженные дебаты. Некоторые ученые заявили о «смерти отца». Придерживающиеся самых разных точек зрения социологи и комментаторы указали на растущую долю семей без отцов как на ключ к пониманию совокупности социальных проблем от растущей преступности до растущих, как грибы, социальных пособий для поддержки детей. Некоторые утверждали, что дети никогда не станут полезными членами социальной группы, пока они не столкнутся в своем непосредственном окружении с постоянными примерами переговоров, сотрудничества и компромисса между взрослыми (Dennis and Erdos 1992). Согласно этим рассуждениями, мальчики, выросшие без отцов, будут бороться за то, чтобы самим стать успешными родителями. Несколько иной подход к спорам о «кризисе родителей-мужчин» высказал Френсис Фукуяма. В книге «Конец порядка» (Fukuyama 1997) Фукуяма показывает, что корни «большого раскола» семьи — в растущем уровне женской занятости. Он не утверждает, что работающие женщины пренебрегают своими обязанностями по воспитанию детей, а говорит о том, что мужчины теперь воспринимают женщин как более независимых и способных позаботиться обо всех детях, которых они породили. Если молодые мужчины в какой-то момент чувствуют себя обязанными взять ответственность за свои действия, то эмансипация женщин, как это не смешно, может привести к тому, что мужчины будут вести себя свободнее, чем раньше.────────────────────────────┐ ■ Меняющиеся отношения Похоже, что на изменение характера семейной жизни и высокий уровень разводов во многом влияют существенные классовые различия. В книге «Семья на неверном пути» Лилиан Рубин провела беседы с членами тридцати двух семей из рабочего класса (Rubin 1994). Она пришла к выводу, что, по сравнению с семьями из среднего класса, родители из рабочего класса более традиционны. Те нормы, которые приняли родители среднего класса, например, открытое признание добрачного секса, в основном отвергаются представителями рабочего класса, даже если они не религиозны. В семьях рабочих сильнее проявляется конфликт поколений. В опросе Рубин молодые люди признали, что их отношение к сексуальному поведению, браку и разделению полов отличается от родительского. Однако они настаивали, что их поведение не является одним лишь поиском удовольствий. Просто они придерживаются других ценностей по сравнению с людьми старших поколений. Рубин обнаружила, что опрошенные молодые женщины в значительно большей степени, чем поколение их родителей, двойственно относятся к браку. Они абсолютно уверены в недостатках мужчин и говорят об использовании доступных возможностей и более полном и открытом стиле жизни по сравнению с тем, который был возможен для их матерей. У мужчин сдвиг между поколениями в отношении к браку не столь велик. Исследование Рубин было проведено в США, но оно хорошо согласуется с аналогичными исследованиями в Великобритании и других европейских странах. Элен Уилкинсон и Джефф Малган провели два масштабных опроса мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет в Великобритании (Wilkinson 1994; Wilkinson and Mulgan 1995). Они обнаружили существенные изменения, особенно во взглядах женщин, а также тот факт, что ценности 18–34-летнего поколения в целом отличаются от тех, которые сохранили более старшие поколения Великобритании. Среди молодых женщин распространено желание «самостоятельности и самореализации, в равной степени через семью и работу», а также «признание ценности риска, эмоциональной встряски и изменений». В этом смысле существует растущее сближение между традиционными ценностями мужчин и новыми ценностями женщин. Как говорят Уилкинсон и Малган, ценности молодого поколения сформировались унаследованными ими свободами, во многом недоступными старшим поколениям, — свободой женщины работать и самой регулировать деторождение, свободой мобильности для обоих полов и свободой определять собственный стиль жизни. Такие свободы приводят к большей открытости, щедрости и толерантности; однако они могут породить и узкий эгоистичный индивидуализм и недостаток заботы о ближних. Из числа опрошенных 29 % женщин и 51 % мужчин желали подождать с появлением детей как можно дольше. Из женщин в возрасте от 18 до 24 лет 75 % были уверены, что родители-одиночки могут воспитывать детей так же, как семейные пары. Исследование показало, что брак потерял привлекательность как для мужчин, так и для женщин в этой возрастной группе. ────────────────────────────┘
Американские исследователи, принимавшие активное участие в дискуссии, во многом находились под влиянием обсуждения этого же вопроса в Великобритании. В своей книге «Америка без отцов» Дэвид Бланкенхорн утверждает, что общества с высоким уровнем разводов сталкиваются не только с безотцовщиной, но с эрозией самой идеи отцовства, что приводит к губительным социальным последствиям, поскольку многие дети растут, не имея рядом с собой авторитетной личности, к которой они могли бы в случае нужды обратиться за помощью (Blankenhorn 1995). Брак и отцовство до сего дня во всех обществах является средством целенаправленного устремления сексуальной и агрессивной энергии мужчин. В противном случае такие виды энергии чаще всего направляются в преступность и насилие. Как отметил один из рецензентов книги Бланкенхорна, «лучше иметь папу, который, придя домой после отвратительной работы, садится с кружкой пива перед телевизором, чем не иметь папы вообще» (The Economist. 8 April 1995. Р. 121). Так ли это? Вопрос об отсутствующих отцах перекрывается с более общим вопросом о влиянии развода на детей, а здесь, как мы видели, интерпретация доступных свидетельств далеко не ясна. Как замечает тот же рецензент: «Разве головорез-отец не плодит головорезов-детей? Разве все отцы хороши для семьи?» Некоторые ученые считают, что ключевой вопрос не в том, есть ли отец, а в том, насколько он участвует в семейной жизни и воспитании детей. Иными словами, внешняя сторона семейной жизни может быть не столь существенной по сравнению с качеством ухода, внимания и поддержки, которые дети получают от членов семьи. Хотя феномен «безотцовщины» содержит в себе неявное осуждение мужчин за «моральную безответственность», у молодых мужчин находятся защитники, доказывающие, что эти мужчины часто полны надежд стать отцами. Однако, поскольку у них нет навыков такого рода взаимоотношений и достаточной поддержки, они забывают о детях, которые в результате растут озлобленными и одинокими. В Соединенных Штатах и Великобритании «кризис отцовства» породил растущее число групп помощи для мужчин, которые хотят стать лучшими, чем они есть, отцами. В Соединенных Штатах для развития семейных и отцовских навыков работают такие группы, как Хранители надежды и Национальная отцовская инициатива. В сообществах чернокожих внимание к большому числу возглавляемых женщинами неполных семей пытаются привлечь акции типа Марша миллиона мужчин, организованной обществом Исламская нация.
Женщины, остающиеся бездетными
Опрос, проведенный в 1976 г. Британским советом по созданию семьи, показал, что только 1 % замужних женщин не хотел иметь детей. В недавнем докладе Департамента по опросам населения, наоборот, предсказывается, что 20 % женщин, родившихся между 1960 и 1990 гг., останутся бездетными по собственному желанию. В наши дни женщины в Великобритании приходят к решению завести ребенка в контексте других жизненных целей, включая стремление к успеху в работе и автономности личной жизни. Бездетная женщина уже не выглядит унылой старой девой. Замужем она или нет, женщина может принять решение остаться бездетной в качестве подтверждения своей свободы выбора. Но есть и отрицательные моменты. Возникшие в Великобритании новые возможности для профессионального роста мало что изменили в социальном обеспечении отпусков по беременности и уходу за детьми. Многие могут опасаться иметь детей из-за боязни возможного развода и скатывания в нищету. Уровень рождаемости в Великобритании и почти во всех западноевропейских странах падает. Среднее значение 1,73 ребенка на одну женщину в Великобритании несколько выше, чем в большинстве стран Европейского Союза, но ниже, чем необходимое для поддержания численности населения на сегодняшнем уровне значение 2,1 ребенка на одну женщину. Самый низкий уровень рождаемости в мире приходится на Италию — 1,2 ребенка на одну женщину. Ожидается, что «детский кризис» приведет в следующей четверти века к уменьшению численности населения в стране с 57,3 до 51,3 млн чел.Изменение типов семьи. Этническое разнообразие в Великобритании
С учетом многообразия культурных различий в современной Великобритании существуют значительные вариации форм семьи и брака. Среди наиболее поразительных — различия между формами семьи у белых и небелых граждан. Мы должны понять причину этого. Результаты недавних исследований состава семей среди этнических меньшинств в Великобритании приведены на рис. 7.1 и 7.2 и в табл. 7.2. Рис. 7.1. Родительский статус семей с детьми в Великобритании. Распределение по этническим группам
Источники: Modood Т. et al. Ethnic Minorities in Britain. Policy Studies Institute. 1997. P. 39.
Рис. 7.1. Родительский статус семей с детьми в Великобритании. Распределение по этническим группам
Источники: Modood Т. et al. Ethnic Minorities in Britain. Policy Studies Institute. 1997. P. 39.
Таблица 7.2 Брачный статус, взрослые до шестидесяти лет
 Проценты в столбцах получены из анализа, основанного на опросе всех членов семейств за исключением несовершеннолетних детей и взрослых старше 60 лет.
Источник: From Modood Т. et al. Ethnic Minorities in Britain. Policy Studies Institute. 1997. P. 24.
Проценты в столбцах получены из анализа, основанного на опросе всех членов семейств за исключением несовершеннолетних детей и взрослых старше 60 лет.
Источник: From Modood Т. et al. Ethnic Minorities in Britain. Policy Studies Institute. 1997. P. 24.
 Рис. 7.2. Доля всех взрослых, находящихся в формальном браке. Распределение по возрасту и этническим группам (%)
Источники: Modood Т. et al. Ethnic Minorities in Britain. Policy Studies Institute. 1997. P. 33.
Рис. 7.2. Доля всех взрослых, находящихся в формальном браке. Распределение по возрасту и этническим группам (%)
Источники: Modood Т. et al. Ethnic Minorities in Britain. Policy Studies Institute. 1997. P. 33.
Семьи южноазиатского типа
Среди разнообразных типов британской семьи существует один, сильно отличающийся от других, — семьи переселенцев из Южной Азии. Южноазиатская часть населения Великобритании составляет более миллиона человек. Миграция началась в 1950-х гг. из трех основных регионов полуострова Индостан: Пенджаба, Гуджарата и Бенгалии. В Великобритании эти мигранты объединились в общины на основе религии, происхождения, касты и, что самое главное, родственных связей. Многие мигранты обнаружили, что их представления о чести и фамильной преданности практически отсутствуют среди коренного населения Великобритании. Их попытки сохранить целостную семью натолкнулись на проблему жилья. Большие старые дома находились в заброшенных районах, продвижение по социальной лестнице означало обычно переезд в дома меньшего размера, что влекло разрушение полной семьи. Дети из южноазиатских семей, родившиеся в Великобритании, испытывают на себе воздействие двух разных культур. Дома родители ожидают или требуют от них подчинения нормам общежития, послушания и лояльности по отношению к семье. В школе от них ожидают академической успеваемости в условиях конкуренции и индивидуалистического социального окружения. Большинство таких детей предпочитает устраивать свою домашнюю и личную жизнь в согласии с обычаями этнической субкультуры, поскольку они высоко ценят личные отношения, связанные с традиционной семейной жизнью. Тем не менее столкновение с британской культурой вызвало некоторые изменения. Западная культурная традиция жениться «по любви» часто вступает в противоречие с практикой организованных браков в азиатских общинах. Подобные союзы, организуемые родителями и членами семьи, основываются на убеждении, что любовь придет после свадьбы. Молодые люди обоих полов требуют права иметь свое мнение при заключении браков. Статистические данные, полученные в четвертом национальном опросе этнических меньшинств, осуществленном Институтом политических исследований (Modood et al. 1997), показали, что выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш и афро-азиаты чаще других вступают в брак. Среди всех родителей с детьми женаты 90 % выходцев из Южной Азии, в то время как среди белых и выходцев из стран Карибского бассейна этот процент немного ниже. Кроме того, среди выходцев из Южной Азии меньше доля семейных пар с детьми, находящихся в сожительстве. Хотя число неполных семей среди южноазиатов растет быстрее, чем среди других этнических групп, доля таких семей (5 %) остается ниже, чем среди белых (16%) и выходцев из афро-карибских стран (36 %). Хотя среди южноазиатских семей в Великобритании появились какие-то признаки изменений, например, желание молодых людей самим решать, с кем вступать в брак, небольшой рост числа разводов и неполных семей, в целом южноазиатские семьи остаются удивительно сильными.Семьи чернокожих
Семьи афро-карибского происхождения в Великобритании устроены иначе. Число живущих с мужем чернокожих женщин в возрасте от 20 до 45 лет значительно меньше, чем среди белых женщин того же возраста. Уровень разводов и расставаний среди выходцев из афро-карибских стран выше, чем среди других этнических групп. Среди них чаще встречаются неполные семьи, однако в противоположность другим группам одинокие афро-карибские матери чаще имеют работу (Modood et al. 1997). Похожие явления можно обнаружить среди афроамериканских семей США, где эти факты вызвали горячие споры. Так, тридцать пять лет тому назад сенатор Дэниэл Патрик Мойнихен описывал семьи чернокожих как «дезорганизованные» и представляющие «спутанный клубок патологий» (Moynichan 1965). С тех времен, когда Мойнихен изучал этот вопрос, различие форм белых и черных семей стало еще больше. В 1960 г. 21 % афроамериканских семей возглавлялись женщинами; среди белых семей эта доля составляла 8 %. В 1993 г. доля таких черных семей выросла до 58 %, в то время как среди белых семей она составляла 26 %. Возглавляемые женщинами семьи чаще встречаются среди беднейших слоев черного населения. За последние два десятилетия уровень жизни афроамериканцев на окраинах городов мало изменился. Для большинства из них характерна низкооплачиваемая работа и более или менее постоянная безработица. В этих обстоятельствах мало что способствует продолжению брачных отношений. Те же факторы оказывают влияние на семьи чернокожих в беднейших окрестностях Лондона и других городов Великобритании. Во многих дискуссиях о черных семьях внимание концентрировалось на низком уровне числа оформленных браков, однако некоторые наблюдатели считают, что этот акцент неправомерен. Брачные отношения не обязательно определяют структуру черной семьи, как это происходит в других группах. В вест-индских группах важны разветвленные родственные связи, и это намного существеннее по отношению к супружеским узам, чем в большинстве белых сообществ. Мать, возглавляющая неполную семью, обычно окружена сетью близких родственников, оказывающих ей помощь и поддержку. Во многих афро-карибских семьях важную роль играют братья и сестры, помогающие воспитывать младших детей (Chamberlain 1999). Это противоречит мнению, что чернокожие родители-одиночки и их дети обязательно образуют нестабильные семьи. Среди афроамериканцев значительно выше, чем среди белых, доля возглавляемых женщинами семей, в которых живут другие родственники.Альтернативы браку
Сожительство
Сожительство — проживание вместе людей, имеющих сексуальные отношения, но не состоящих в браке, — получило очень широкое распространение в большинстве западных стран. Если раньше брак был определяющим условием союза двух людей, то сейчас это уже не так. В наши дни более подходят термины связь и расставание. Растущее число пар, находящихся в длительной связи друг с другом, выбирают не брак, а совместное проживание и воспитание детей. До недавнего времени в Великобритании сожительство считалось чем-то скандальным. Отчет комитета по семье, главный источник данных о структуре британских семей, впервые включил вопрос о сожительстве только в 1979 г. Однако отношение к сожительству среди молодых людей в Великобритании и в остальной Европе меняется (см. рис. 7.3 и табл. 7.3). В последние десятилетия число неженатых мужчин и женщин, имеющих общее домашнее хозяйство, быстро росло. За прошедшие сорок лет рост числа людей в Великобритании, состоявших в сожительстве до брака, составил 400 %. Среди женщин, родившихся в 1920-х гг., сожительствовали только 4 %, в то время как среди женщин, родившихся в 1940-х гг., — уже 19 %. Однако среди женщин, родившихся в 1960-х гг., процент вдвое меньше. Предсказывается, что к 2000 г. четыре из пяти женатых пар будут сожительствовать до заключения брака (Wilkinson and Mulgan 1995). Рис. 7.3. Мнения людей в возрасте от 15 до 24 лет о возможности совместной жизни вне брака. Европейский Союз. 1993
Источник: Eurobarometer. Survey 39.0. 1993. From Eurostat. Social Profile of Europe. 1998. P. 61.
Рис. 7.3. Мнения людей в возрасте от 15 до 24 лет о возможности совместной жизни вне брака. Европейский Союз. 1993
Источник: Eurobarometer. Survey 39.0. 1993. From Eurostat. Social Profile of Europe. 1998. P. 61.
Таблица 7.3 Процент сожительствующих пар вне брака. Распределение по полу и возрасту. Великобритания. 1998–1999 гг.
 Категория неженатых/незамужних включает людей, живущих раздельно, но сохраняющих брачный статус.
Источник: General Household Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. P. 40. Crown copyright.
Категория неженатых/незамужних включает людей, живущих раздельно, но сохраняющих брачный статус.
Источник: General Household Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. P. 40. Crown copyright.
Хотя сожительство становится чрезвычайно популярным, но исследования показывают, что брак все еще остается более стабильным. У живущих вместе неженатых пар вероятность расстаться втрое, а то и вчетверо больше, чем у женатых. В сегодняшней Великобритании сожительство является по большей части экспериментальной стадией перед вступлением в брак, хотя длительность периода сожительства перед свадьбой увеличивается, и все большее число пар выбирает сожительство как альтернативу браку. Молодые люди приходят к совместной жизни постепенно, медленно двигаясь в эту сторону, а не в результате рассчитанных действий. Пара, связанная сексуальными отношениями, начинает проводить все больше и больше времени вместе, и один из партнеров отказывается в конце концов от собственного дома. Молодые люди, живущие вместе, почти всегда собираются вступить в брак, но не обязательно с нынешним партнером. Лишь меньшинство из них объединяют свои финансы. В исследовании, проведенном учеными в университете Ноттингема в 1999 г., социологи опрашивали ряд женатых и находящихся в сожительстве пар с детьми от одиннадцати лет и моложе, а также родителей этих пар, продолжавших находиться в браке. Ученых интересовали различия во взаимных обязательствах между старшими женатыми парами и парами младшего поколения. Исследователи обнаружили, что молодые женатые и сожительствующие пары имеют больше общего друг с другом, чем со своими родителями. Старшее поколение воспринимало брак через призму обязанностей и долга, молодое поколение подчеркивало свободно взятые на себя обязательства. Главное различие между молодыми респондентами было в том, что некоторые из них предпочитали зафиксировать свои обязательства публично через процедуру брака (Dyer 1999).
Партнерство геев и лесбиянок
Многие гомосексуальные мужчины и женщины имеют сейчас стабильные отношения и живут парами. Однако, поскольку в большинстве стран все еще не разрешен брак между гомосексуалистами, взаимоотношения между мужчинами-геями и лесбиянками основаны на личной договоренности и взаимном доверии, а не на законе. Термин «семья по выбору» иногда используется в отношении пар геев, чтобы отразить положительные и созидательные формы повседневной жизни, которых все чаще способны достичь гомосексуальные пары. Многие традиционные особенности гетеросексуального партнерства — взаимная поддержка, уход и ответственность во время болезни, общие финансы и т. п. — наблюдаются и среди семей геев и лесбиянок в ранее невозможных формах. Начиная с 1980-х гг. все больше растет интерес ученых к изучению сожительства геев и лесбиянок. Социологи рассматривают гомосексуальные взаимоотношения как отражающие совершенно отличные от принятых в гетеросексуальных семьях формы интимности и равенства. Так как геи и лесбиянки были лишены доступа к институту брака и так как традиционные гендерные роли с трудом применимы к парам одного пола, гомосексуальное партнерство должно строиться и заключаться вне норм и установок, управляющих большинством гетеросексуальных семей. Высказывались мнения, что эпидемия СПИДа стала важным фактором в развитии определенной культуры заботы и обязательств среди гомосексуальных партнеров. Уикс, Хифи и Донован отмечают три характерные черты партнерства геев и лесбиянок (Weeks, Heaphy and Donovan 1999). Во-первых, имеется больше возможностей для равенства между партнерами, так как они не руководствуются культурными и социальными установками, поддерживающими гетеросексуальные взаимоотношения. Пары геев и лесбиянок могут свободно выбирать формы своих отношений, избегая характерных для многих гетеросексуальных пар типов неравенства и дисбаланса власти. Во-вторых, гомосексуальные партнеры договариваются о различных сторонах и внутреннем функционировании их связи. Если гетеросексуальные пары находятся под влиянием социально вложенных гендерных ролей, однополые пары сталкиваются с меньшими ожиданиями относительно того, кто что должен делать в рамках их связи. Например, если в гетеросексуальных браках женщины стремятся сделать больше домашней работы и заботятся о детях, в гомосексуальных союзах таких ожиданий нет. Все становится предметом соглашения; это может привести к более равномерному распределению ответственности. В-третьих, партнерство геев и лесбиянок демонстрирует определенную форму договорных обязательств, не имеющих институциональной поддержки. Взаимное доверие, желание работать над трудностями и разделять ответственность за «эмоциональный труд» представляются отличительными чертами гомосексуального партнерства (Weeks et al. 1999). Спад недоброжелательного отношения к гомосексуализму сопровождался растущей готовностью судебных органов передавать попечительские права матерям, живущим в гомосексуальных союзах. Появление методов искусственного осеменения означало, что лесбиянка может иметь детей без всякого гетеросексуального контакта. В Великобритании практически все гомосексуальные семьи с детьми состоят из двух женщин. В США с конца 1960-х и до начала 1970-х гг. агентства социального обеспечения стали отдавать бездомных подростков-гомосексуалистов на попечение мужским гомосексуальным парам. Данная практика была прекращена в основном из-за враждебной реакции общественности. Ряд недавно выигранных гомосексуальными парами судебных процессов указывает на то, что их права все больше учитываются законом. В Великобритании поворотной вехой стал закон 1999 г., постановивший, что находящиеся в стабильной связи друг с другом гомосексуальные пары могут рассматриваться как семьи. Такая классификация гомосексуальных партнеров как «членов семьи» окажет влияние на законодательство в области иммиграции, социального страхования, налогов, наследства и поддержки детей. В 1999 г. суд в США утвердил права пары геев на упоминание их фамилий как родителей в свидетельстве о рождении детей, рожденных суррогатной матерью. Один из выигравших дело мужчин сказал: «Мы празднуем победу закона. Та нуклеарная семья, которую мы знали, эволюционирует. Упор делается не на то, кто мать, кто отец, а на любящих заботливых родителей, будь то одинокая мать или пара геев, живущих вместе по договоренности друг с другом» (Hartley-Brewer 1999).Жестокость и насилие в семейной жизни
Поскольку семья и родственные отношения являются неотъемлемой частью жизни любого человека, семейная жизнь определяет почти весь эмоциональный опыт человека. Семейные отношения — между женой и мужем, родителями и детьми, братьями и сестрами или между дальними родственниками — могут быть теплыми и приемлемыми для сторон. Но бывает и так, что они полны самых острых разногласий и проблем, доводящих людей до отчаяния и вселяющих в их души глубочайшее чувство тревоги и вины. Эта теневая сторона семейной жизни обширна и противоречит тем розовым картинкам гармонии, которыми нас потчует телевидение и другие средства массовой информации. Наиболее тяжелыми являются домашнее насилие и жестокое обращение с детьми.Насилие в семьях
Домашнее насилие можно определить как физическое оскорбление одним членом семьи другого или других членов этой семьи. Исследования показывают, что основными жертвами физического оскорбления являются дети, особенно маленькие, в возрасте до шести лет. Второй по распространенности тип — насилие со стороны мужей по отношению к женам. Однако женщины также могут быть инициаторами физического насилия в доме, обычно подобное насилие направлено против маленьких детей и мужей. Фактически дом — самое опасное место в современном обществе. Согласно статистическим данным, человек любого возраста и пола скорее станет объектом физического насилия дома, а не на улице. В Соединенном Королевстве из четырех убийств одно — это убийство одним членом семьи другого. Что касается насилия по отношению к женщинам, то последние больше рискуют подвергнуться насилию со стороны мужа и близкого знакомого, чем со стороны незнакомца. Вопрос о домашнем насилии привлек внимание общества и академических кругов в 1970-е гг. в результате работы феминистских групп по организации прибежища для «избитых женщин». До этого времени домашнее насилие, в частности над детьми, деликатно скрывалось. Исследования феминисток случаев домашнего насилия привлекли внимание к распространенности и жестокости насилия над женщинами в доме. Большинство эпизодов насилия между супругами, о которых знала полиция, представляли насилие мужей над своими женами. Только менее чем в 5 % случаев женщины применяли физическую силу против своих мужей (Dobash and Dobash 1980). Феминистки указывают на эту статистику как на подтверждение их заявлений о том, что домашнее насилие является главной формой мужского контроля над женщинами.О перспективах патриархата и власти см. раздел «Радикальный феминизм» (глава 5, раздел «Перспективы гендерного неравенства», подраздел «Феминистские подходы»).
В последние годы консервативные критики стали утверждать, что насилие в семье связано не с патриархальной мужской властью, как настаивают феминистки, а с «неблагополучными семьями». Насилие над женщинами есть отражение растущего кризиса семьи и эрозии моральных принципов. Эти ученые ставят под вопрос утверждения, что насилие со стороны женщин по отношению к мужчинам встречается редко. Мужчины менее охотно сообщают властям о совершенном над ними насилии со стороны жен, чем наоборот (Straus and Gelles 1986). Подобные утверждения подверглись серьезной критике со стороны феминисток и других ученых, которые считают, что насилие со стороны женщин в любом случае более ограничено и эпизодично, чем со стороны мужчин, и значительно реже причиняет существенный физический вред. Они доказывают, что недостаточно подсчитывать число случаев насилия в семьях. Необходимо учитывать смысл, контекст и результат насилия. «Избиение жен» — регулярное грубое и жестокое физическое насилие над женами со стороны мужей — не имеет соответствующего эквивалента с другой стороны. Кроме того, мужчины значительно чаще, чем женщины, постоянно осуществляют физическое насилие над детьми, приводящее к долго не заживающим травмам. Джеймс Назру в 1995 г. провел исследование среди 96 сожительствующих пар в Великобритании, чтобы установить распространенность насилия в домашней обстановке. Он обнаружил, что насилие со стороны мужчин значительно чаще приводит к физическим травмам и тяжким телесным повреждениям, чем насилие со стороны женщин. Почему же домашнее насилие встречается сравнительно часто? Здесь играют роль несколько факторов. Один из них — это комбинация эмоциональной напряженности и интимности личных отношений, характерная для семейной жизни. Семейные узы обычно сопряжены с сильными эмоциями, где любовь часто смешана с ненавистью. Ссоры в домашней обстановке могут выявить противоречия, которые не ощущаются в другом социальном контексте. То, что выглядит как ничтожный инцидент, может привести к крупным враждебным действиям между супругами или между родителями и детьми. Мужчина, снисходительно относящийся к эксцентричности поведения других женщин, может прийти в бешенство, если его жена слишком много болтает за обедом в гостях или откровенно рассказывает об интимных подробностях, которые он хотел бы держать в секрете. Второй фактор — это то обстоятельство, что значительная часть насилия в семье на самом деле допускается и даже одобряется. Хотя виды санкционированного обществом семейного насилия ограничены, оно легко может выйти за установленные пределы и перейти в более жестокие формы оскорблений. В Великобритании найдется мало детей, которых никогда не шлепал или бил, пусть даже несильно, один из родителей. Такие действия довольно часто встречают одобрение со стороны других людей, которые даже не рассматривают их как насилие. Хотя и в менее явно выраженной форме, но и в прошлом, и сейчас общество одобрительно относилось к насилию между супругами. Культурная приемлемость такой формы домашнего насилия выражена в старой песенке: «Женщина, лошадь и дерево гикори — чем больше их бьешь, тем лучше они». Общепринято, что никто не может бить другого человека на работе или в других общественных местах, независимо от того, насколько предосудительно или раздражающе его поведение. В семье это не так. Многие исследования показали, что значительная часть семейных пар уверена, что в определенных обстоятельствах один супруг на вполне законном основании может ударить другого. Каждый четвертый американец обоего пола считает, что могут быть веские причины для того, чтобы муж ударил жену. Чуть меньшая доля опрошенных полагает, что верно обратное (Greenblat 1983).
Сексуальные злоупотребления с детьми и инцест
Сексуальное злоупотребление с детьми можно проще всего определить как совершение взрослыми полового акта с ребенком, не достигшим совершеннолетия (в Великобритании — возраста шестнадцати лет). Инцест — это сексуальные отношения между близкими родственниками. Не всякий инцест является злоупотреблением. Например, половое сношение между взрослыми братом и сестрой — это инцест, но этот акт не подпадает под определение сексуального злоупотребления. При сексуальном злоупотреблении с детьми взрослый эксплуатирует ребенка или несовершеннолетнего подростка в сексуальных целях (Ennew 1986). Тем не менее наиболее распространенная форма инцеста, которая является также сексуальным злоупотреблением, — это связь отца с малолетней дочерью. Инцест и сексуальные злоупотребления по отношению к детям — явления, которые были «открыты» только в последние двадцать-тридцать лет. Разумеется, давно известно, что подобные сексуальные отношения время от времени случаются, но большинство исследователей полагало, что сильнейшее табу на подобное поведение означает, что оно чрезвычайно мало распространено. Однако это не так. Вызывает тревогу, что сексуальные злоупотребления с детьми оказались обычным явлением. Чаще всего с ними можно столкнуться в семьях низших слоев населения, но они встречаются на всех уровнях социальной иерархии, а также в ряде организаций, как мы увидим ниже. Хотя в наиболее очевидных формах природа сексуальных злоупотреблений вполне ясна, трудно, если вообще возможно, точно оценить общее количество случаев сексуальных злоупотреблений с детьми из-за многообразия форм, которые они могут принимать. Ни исследователи, ни суды не достигли полного согласия в определении как злоупотребления в отношении детей вообще, так, в частности, сексуального злоупотребления с детьми. Раздел закона о детях 1989 г. говорит о «существенном ущербе», причиненном недостатком разумной заботы, но что такое «существенный», остается, туманным. Национальное общество защиты детей определяет четыре категории злоупотреблений: «невнимание», «физическое насилие», «эмоциональное насилие», «сексуальное злоупотребление». Последнее определяется как «сексуальный контакт между ребенком и взрослым с целью получения взрослым сексуального удовлетворения» (Lyon and de Cruz 1993). Многие случаи инцеста связаны с использованием силы или угрозы насилия. Иногда дети становятся более или менее добровольными участниками, но это случается редко. Разумеется, дети не бесполые существа, и они довольно часто занимаются легкими сексуальными играми, разглядывают друг друга. Но большинство детей, принуждаемых к половому акту одним из взрослых членов семьи, находят такой опыт отвратительным, постыдным и крайне неприятным. Собран значительный материал, показывающий, что сексуальные злоупотребления с детьми могут привести к долговременным последствиям для них. Исследования проституток, юных правонарушителей, убежавших из дома подростков и наркоманов показывает, что значительная их часть в свое время прошла через сексуальные злоупотребления. Конечно, найденная корреляция — еще не доказательство. Демонстрация того, что люди из этих категорий подвергались сексуальным злоупотреблениям в детстве, еще не доказывает, что такое злоупотребление было причиной их дальнейшего поведения. Вероятно, здесь имеет место целый ряд факторов, таких, как семейные конфликты, отсутствие заботы со стороны родителей и физическое насилие. Последние опросы, касающиеся сексуальных злоупотреблений С начала 1980-х гг. в Великобритании было проведено более сорока опросов, касающихся сексуальных злоупотреблений. Одним из самых дискуссионных стал кливлендский опрос 1987 г. В опросе участвовали два врача — Мариэтта Хиггс и Джеффри Вайат. Они установили, что ряд детей в этом районе подвергались сексуальным злоупотреблениям со стороны членов их семей. В результате социальные работники отняли детей у родителей, которые, в свою очередь, заявили гневные протесты, настаивая на своей невиновности. Полицейские доктора не согласились с диагнозами, что вызвало дебаты по всей стране и появление множества статей в прессе по данному делу. В конце концов начальник социальной службы Кливленда признал, что двенадцать семей, в которых было двадцать шесть детей, обвинены ошибочно. Мало какие преступления вызывают столь же сильные эмоции, так что виновные в сексуальном злоупотреблении с детьми предпочитают решительно все отрицать. С другой стороны, если родителей или других членов семьи обвиняют ошибочно, это причиняет очень сильные эмоциональные страдания. Наиболее крупное исследование злоупотреблений с детьми в Великобритании касалось обвинений в злоупотреблениях не внутри семей, а в государственном учреждении. В 1996 г. было начато расследование в Уотерхаузе по поводу заявлений о злоупотреблениях с детьми в детских домах в двух районах Северного Уэльса. Комиссия по расследованию работала более 200 дней и опросила 575 свидетелей, в том числе 259 бывших воспитанников. В отчете, опубликованном в феврале 2000 г., признается, что в период между 1974 и 1990 гг. было широко распространено исходившее в основном от старших администраторов и медицинских работников физическое и сексуальное насилие над мальчиками и, в меньшей степени, над девочками в ряде домов, подчинявшихся местным органам власти. В отчете жизнь в одном из детских домов, Брюн Эстин, описывается как «форма пытки или того хуже, так что в результате (дети) покидали дом в значительно худшем состоянии по сравнению с тем, в котором они в него попали» (Waterhouse Inquiry 2000). Большинство представленных комиссии заявлений касалось непрерывного и повторяющегося применения силы, в том числе побоев, притеснений, запугивания и эмоционального насилия. Однако основное внимание было уделено сексуальным злоупотреблениям над мальчиками со стороны персонала. В отчете подтверждается, что два старших надзирателя регулярно в течение десяти лет насиловали мальчиков. Заместитель начальника одного из детских домов имел привычку ежедневно приглашать поздно вечером к себе на квартиру группу воспитанников и насиловать их. Персонал, знавший об этих действиях, никогда не говорил о недостойном поведении начальника, создав вокруг случаев злоупотреблений то, что в отчете названо «культом молчания». Детям препятствовали в подаче жалоб, а вышестоящие социальные службы использовали неадекватные методы контроля и управления местными учреждениями.Споры о семейных ценностях
«Семья гибнет!» — восклицают адвокаты семейных ценностей, глядя на изменения, произошедшие за последние несколько десятилетий: более либеральное и открытое отношение к сексуальности, постоянно растущий уровень разводов и поиск личного счастья, отвергая устаревшие представления о семейном долге. Необходимо возродить моральный дух семьи, убеждают они. Нужно восстановить традиционную семью, которая была значительно стабильнее и упорядоченнее, чем запутанная сеть связей, в которой большинство из нас оказалось. «Нет!» — отвечают критики. «Вы считаете, что семья гибнет. На самом деле она просто меняется. Мы должны активно поддерживать многообразие форм семьи и видов сексуальной жизни, вместо того чтобы считать, что все должны быть зажаты в один шаблон». Кто же прав? Вероятно, следует критически отнестись к обоим точкам зрения. Возврат к традиционной семье — не выход. Дело не только в том, что, как объяснялось ранее, традиционная семья в том виде, как о ней обычно думают, никогда не существовала, или в том, что в прошлом в семьях было слишком много тягостных сторон, чтобы делать эти семьи моделями семей сегодняшних. Просто социальные изменения, приведшие к преобразованию прежних форм брака и семьи, большей частью необратимы. Женщины в большинстве не вернутся к той домашней жизни, из которой они сумели вырваться. Сегодня сексуальное партнерство и брак, независимо от того, стали они лучше или хуже, не могут походить на прежние. Центральными для нас в личной и семейной жизни стали эмоциональные связи, точнее, активноесоздание и поддержание отношений. К чему мы придем? Уровень разводов может перестать расти и выйти на постоянное значение, но падать не будет. Все измерения уровня разводов являются в некоторой степени оценочными, но на основе прошлых тенденций можно предположить, что около 60 % всех браков, заключенных сегодня, могут окончиться разводом в течение десяти лет. Как мы видели, развод — не всегда отражение несчастливой жизни. Люди, которые раньше чувствовали себя вынужденными сохранять неудачный брак, могут теперь попробовать все заново. Но нет сомнений, что тенденции изменений сексуальности, брака и семьи порождают в одних чувство глубокой тревоги, в то время как в других рождают новые возможности для удовлетворения и самовыражения. Те, кто считают, что следует приветствовать большое разнообразие имеющихся сегодня форм семьи, так как они освобождают нас от существовавших в прошлом ограничений и страданий, также во многом правы. Мужчины и женщины могут оставаться одинокими, если они этого хотят, не сталкиваясь при этом с общественным осуждением, которое испытывают холостяки и особенно вдовы. Пары, живущие вместе, уже не вызывают осуждения со стороны их более «респектабельных» женатых друзей и подруг. Гомосексуальные пары могут открыто вести семейную жизнь и воспитывать детей, не сталкиваясь с тем уровнем враждебного отношения, который был по отношению к ним раньше. После этих замечаний трудно удержаться от вывода, что мы стоим на перепутье. Принесет ли будущее дальнейший распад продолжительных браков или связей? Будем ли мы все больше и больше обживать эмоциональный и сексуальный пейзаж, обезображенный горечью и жестокостью? Никто не скажет с определенностью. Однако тот социологический анализ брака и семьи, который мы завершаем, убеждает нас, что мы не можем решить наши проблемы, глядя в прошлое. Мы должны попробовать примирить высоко ценимые нами в личной жизни индивидуальные свободы с необходимостью образования стабильных и длительных отношений с другими людьми.Краткое содержание
1. Родственные связи, семья и брак — тесно связанные понятия, имеющие ключевое значение для социологии и антропологии. Родственные связи включают либо генетические связи, либо связи, возникшие в результате брака. Семья — это группа родственников, несущих ответственность за воспитание детей. Брак — это санкционированные обществом узы, соединяющие двух людей, имеющих сексуальные отношения. 2. Нуклеарная семья — это проживающая в одном доме супружеская пара со своими или приемными детьми. Когда вместе с супружеской парой и их детьми под одной крышей живут родственники, или эти родственники поддерживают тесные и длительные отношения, то говорят о расширенной семье. 3. В западных обществах брак и семья ассоциируются с моногамией (санкционированные культурой сексуальные отношения между одной женщиной и одним мужчиной). Многие другие культуры допускают или поощряют полигамию, когда один индивид может состоять в браке с двумя и более супругами одновременно. 4. Преобладавшая в течение XX в. традиционная нуклеарная семья в большинстве индустриальных стран постепенно разрушается. В настоящее время существует много разных форм семьи. 5. Для изучения семьи были использованы различные теоретические подходы. Функционалисты подчеркивали, что семья является одним из фундаментальных институтов общества, и особенно выделяли роль семьи в социализации детей. Феминисты изучали неравенство во многих областях семейной жизни, включая домашнее разделение труда, неравные властные взаимоотношения и неравенство в деятельности по уходу. 6. В послевоенные годы вырос уровень разводов, а число первых браков уменьшилось. В результате растущая доля населения»живет в неполных семьях. 7. Довольно высок уровень повторных браков. Они приводят к образованию восстановленных семей, т. е. семей, в которых по крайней мере один взрослый имеет детей от предыдущего брака или сожительства. Термин «безотцовщина» относится к случаю, когда отцы после развода или разрыва имеют редкие контакты со своими детьми или вообще их не имеют. 8. Среди групп этнических меньшинств наблюдается большое разнообразие форм семьи. В Великобритании семьи выходцев из южноазиатского и афро-карибского регионов отличаются от типов семей коренного населения. 9. Брак более не является определяющей основой союза двух людей. Сожительство (когда пара живет вместе, имея сексуальные отношения вне брака) становится все более распространенным во многих индустриальных странах. По мере того как отношение общества к гомосексуальности становится более спокойным, геи и лесбиянки все чаще живут вместе парами. В ряде случаев гомосексуальные пары получают законное право называть себя семьей. 10. Семейная жизнь далеко не всегда представляет картину гармонии и счастья; в семьях встречаются случаи домашнего насилия и сексуального злоупотребления. В большинстве случаев сексуальные злоупотребления с детьми и домашнее насилие осуществляются мужчинами; по-видимому, это связано с другими типами жестокого поведения, характерными для некоторых мужчин. 11. Брак перестал быть условием регулярных половых сношений для лиц обоего пола; он также не является фундаментом экономической деятельности. По-видимому, меняющиеся формы социальных и сексуальных отношений будут развиваться и дальше. Брак и семья продолжают быть твердо устоявшимися общественными институтами, все же подвергающимися сильному давлению и трансформациям.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Все ли формы семьи в равной степени приемлемы в современных обществах? 2. Может ли в современном обществе иметь место полигиния или полиандрия? 3. Каким образом растущий уровень разводов указывает на то, что брачные отношения становятся более, а не менее важными? 4. Какие социальные меры можно принять для уменьшения уровня насилия внутри семей? 5. С уменьшением роли мужчины как «кормильца» какие новые роли могут быть предложены мужчинам в семье? 6. Может ли только одна любовь сохранить институт семьи?Дополнительная литература
Hantrais Linda and Lohkamp-Himminghofen Marlene (eds.). Changing Family Forms, Law and Policy. Loughborough: Cross-National Research Group, European Research Centre, Loughborough University, 1999. Horgett Brenda M. et al. The Family, Law and Society: Cases and Materials. London: Butterworths, 1996. Hughes Gordon and Ferguson Ross (eds.). Ordering Lives: Family, Work and Welfare. London: Routledge, 2000. Lerner Richard M. and Castellino Domini R. (eds). Adolescents and their Families: Structure and Parent—Youth Relationships. N.Y.: Garland, 1999. Wilkinson Helen (ed). Family Business. London: Demos, 2000.Интернет-линки
Австралийский институт изучения семьи http://www.aifs.org.au/ Центр стратегических исследований — «мозговой центр», созданный Маргарет Тэтчер, чтобы способствовать исследованию проблем семьи, предпринимательства, развития личности и свободы http://www.cps.org.uk Центр анализа информации по международным исследованиям детей, юношества и семьи http://www.childpolicyintl.org/ Демос — исследовательский центр по изучению семьи и бедности http://www.demos.co.ukГЛАВА 8 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Мы все знаем, кто это такие — люди, чье поведение отклоняется от нормы, или, по крайней мере, нам кажется, что мы знаем. Индивидуумы с девиантным поведением — это люди, отказывающиеся жить по правилам, которым следует большинство из нас. Это безжалостные преступники, наркоманы или опустившиеся бродяги, которые явно не соответствуют приемлемым для большинства людей стандартам нормальности. В действительности, однако, ситуация не вполне такая, как она представляется на первый взгляд, — этот урок нам часто преподает социология, потому что она побуждает нас заглянуть в суть явлений. Понятие отклонения от нормы объяснить отнюдь не просто, и связь между девиантным поведением и преступлением вовсе не является такой уж прямой. Кевина Митника характеризовали как «самого знаменитого компьютерного хакера в мире». По справедливости следовало бы наверное сказать, что тридцатишестилетний житель Калифорнии Митник вызывал в равной мере и восхищение и презрение. Для 100 000 компьютерных хакеров, существующих в мире, Митник — гениальный новатор, которого несправедливо и безосновательно осудили в США на пять лет тюрьмы, что является конкретным доказательством того, насколько ошибочно стало трактоваться компьютерное хакерство по мере распространения информационной технологии. Что же касается американских властей и хай-тек корпораций, таких как «Сан Майкросистемс», «Моторола» и «Нокиа», то для них Митник — один из самых опасных людей в мире. Он был арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) США в 1995 г. и позднее осужден за хищение основных кодов и кражу у этих и других компаний программного обеспечения стоимостью, как утверждалось, в многие миллионы долларов. В качестве условия для его освобождения из тюрьмы в январе 2000 г. Митнику было запрещено пользоваться компьютерами и выступать с публичными заявлениями по проблемам технологии. За последнее десятилетие или около того хакеры постепенно превратились из малозаметной горстки компьютерных энтузиастов в широко осуждаемую группу людей с девиантным поведением, которые якобы угрожают самой стабильности информационного века. Атака, которой в феврале 2000 г. подверглись веб-сайты ряда известных фирм торговли по Интернету, от имени которых рассылались отказы в обслуживании (The distributed deniel of service, DDoS), привела к «антихакерской истерии» в средствах массовой информации, в мире корпораций и среди международных правоохранительных организаций. Некоторые из наиболее посещаемых сайтов Интернета, как, например, Yahoo!, e-bay.com, Amazon.com, на много часов прервали свою работу в связи с тем, что их серверы подверглись бомбардировке ложными запросами информации, посланными с компьютеров со всех концов Земли. И прежде чем кто-либо из участников онлайн-налетов был пойман, люди стали указывать пальцем на «компьютерных хакеров», изображаемых как сомнительная группа населения, состоящая из «социально неадаптированных» молодых людей, (преимущественно мужчин), избегающих контактов с людьми и создающих себе альтернативную жизнь под прикрытием псевдонимов онлайн-пользователей. Вместе с тем, по мнению Митника и других членов сообщества хакеров, такие патологические характеристики весьма далеки от истины. «Хакер — это термин, выражающий уважение и почет, — утверждал Митник в статье, написанной им вскоре после освобождения из тюрьмы, — это термин, характеризующий мастерство, а не деятельность, совершенно так же, как термин „доктор“ указывает на высокую квалификацию. Термин „хакер“ употреблялся десятилетиями для обозначения талантливых компьютерных энтузиастов, людей, чье мастерство в использовании компьютеров для решения технических проблем и головоломок вызывало и вызывает уважение и восхищение у других людей, обладающих аналогичным техническим мастерством» (Mitnick 2000). Хакеры не замедлили заявить, что большая часть их деятельности не имеет никакого отношения к криминалу. Напротив, в первую очередь они заинтересованы в исследовании возможностей компьютерной технологии, с тем чтобы обнаружить ее слабые места и определить, насколько глубоко возможно проникнуть в чужие компьютерные системы. В случае обнаружения изъяна, согласно «хакерской этике», данная информация должна быть сделана публичной. Многие хакеры даже служили в качестве консультантов крупных корпораций и правительственных организаций, помогая им защищать их системы против вмешательства извне. Хакеры считают, что в последние годы их несправедливо превратили в некую угрозу обществу, и это связано с тем, что термин «хакер» стали широко — и неточно — применять для обозначения все увеличивающегося числа компьютерных «взломщиков» — «крэкеров», которые бесчинствуют на интернет-сайтах, совершают преступления онлайн или устраивают атаки с рассылкой отказов в обслуживании. Впечатляющая онлайн-кража 12 млрд долл. со счетов Сити-банка в 1992 г. и недавнее хищение 300 000 номеров кредитных карт с сайта CD Universe — эти преступления были приписаны хакерскому сообществу, несмотря на возражения с их стороны. Хакерами называют также множащуюся в числе «компьютерную мелюзгу» («script-kiddies») — тинэйджеров, которые прячутся за личностями других людей онлайн и дезорганизируют работу Интернета, вмешиваясь в частную интернет-переписку. Митник и другие хакеры относят себя к другой категории, чем те люди, целью которых является причинение вреда. Как сказал Митник американским СМИ после своего освобождения из тюрьмы, «я считаю себя крутым гонщиком на электронном автомобиле, и отнюдь не считаю себя вором». Мы уже говорили выше о том, что социальная жизнь людей подчиняется правилам и нормам. Наша деятельность превратилась бы в хаос и потерпела бы крах, если бы мы не придерживались правил, которые определяют известные виды поведения в определенных контекстах как надлежащие, адекватные, а другие как неадекватные. Когда мы начинаем изучение девиантного поведения, мы должны посмотреть, какие именно правила люди соблюдают, а какие нарушают. Никто не нарушает всех правил. Мы создаем правила, точно так же мы их нарушаем. Даже люди, казалось бы, находящиеся за пределами респектабельного общества, как, например, неоднократно поносимые компьютерные хакеры, обычно следуют правилам тех групп, членами которых они являются. Так, хакеры признают себя частью более широкого общества, придерживающегося определенных коллективных принципов и кодекса чести. Тех, чьи действия отклоняются от неформальных законов поведения, — как «взломщики»-крэкеры — сообщество хакеров может подвергнуть остракизму. Исследование преступлений и девиантного поведения представляет собой одну из самых увлекательных и вместе с тем сложных областей социологии. Оно учит, что никто из нас не является таким уж нормальным, как нам, вероятно, хотелось бы думать. Оно также позволяет увидеть, что людей, чье поведение кому-то, возможно, кажется непостижимым или странным, можно считать разумными существами, если понять, почему они поступают именно так.Социология девиантного поведения
Девиантное поведение можно определить как несоответствие данной совокупности норм, которая принята значительным числом людей в группе или обществе. Ни одно общество, как уже подчеркивалось, невозможно разделить сколько-нибудь простым способом на тех, чье поведение отклоняется от норм, и тех, чье поведение соответствует им. Большинство из нас в тех или иных случаях нарушает общепринятые правила поведения. Мы, возможно, когда-то совершили небольшую кражу, например, унесли что-то из магазина, не заплатив, или взяли какие-то мелочи на работе, вроде фирменной почтовой бумаги или пишущей ручки — для личного пользования. В тот или иной момент жизни мы, возможно, превысили скорость, допустимую при езде на автомобиле, позвонили в шутку по телефону или выкурили сигарету с марихуаной. Девиантное поведение и преступление — отнюдь не одно и то же, хотя во многих случаях они могут пересекаться. Понятие девиантного поведения гораздо шире понятия преступления, которое относится только к отклоняющемуся от нормы поступку, при котором происходит нарушение закона. Многие формы девиантного поведения закон не карает санкциями. Так, изучение отклонений от норм поведения может включать такие столь различные явления как натурализм (нудизм), экстатическая культура или странники Нового Века.Смотри дополнительно материал о «Ценностях и нормах» в связи с понятием культуры (глава 2, раздел «Концепция культуры»).
Понятие девиантности может относиться как к поведению отдельного человека, так и к действиям целых групп людей. Иллюстрацией может служить культ Харе Кришна — религиозная группа, верования и образ жизни которой отличаются от верований и образа жизни большинства жителей Великобритании. Этот культ возник в 1960-х гг., когда на Запад из Индии приехал, чтобы распространять учение «Сознание Кришны», Шри Прабхупада. Он обращался со своим призывом в первую очередь к молодым людям, употреблявшим наркотики, провозглашая, что, следуя его учению, можно «все время пребывать в возвышенном состоянии и найти вечное блаженство». Последователи культа Харе Кришна стали привычным зрелищем в Великобритании — они танцуют, сопровождая свои танцы песнопениями на улицах, содержат вегетарианские кафе, раздают прохожим литературу о своих верованиях. Большинство населения относится к ним как правило с терпимостью, несмотря на то что их взгляды представляются несколько эксцентричными. Приверженцы культа Харе Кришна являют пример субкультуры отклонения. Хотя количество членов этого культа в наши дни сократилось по сравнению со своим пиком, наблюдавшимся несколько лет назад, они смогли довольно легко выжить внутри более широкого общества. Харе Кришна — организация богатая, финансируемая за счет пожертвований своих членов и сочувствующих. Ее положение существенно отличается от положения другой субкультуры отклонения, которую можно было бы упомянуть здесь в порядке контраста: субкультуру людей, лишенных постоянного места жительства. Люди, потерпевшие крушение в жизни, живут на улице, проводя дневное время в парках или общественных зданиях. По ночам же они спят на улице или находят себе прибежище в каких-нибудь ночлежках. Большинство людей, постоянно не имеющих крыши над головой, еле-еле перебиваются и влачат жалкое существование на самой обочине общества. Изучением преступлений и девиантного поведения занимаются две разных, хотя и связанных между собой дисциплины. Криминология занимается формами поведения, которые предусмотрены уголовным законодательством. Криминолога, как правило, интересуют критерии преступления, изменения в уровне преступности и политика, направленная на сокращение преступности в общинах. Социология девиантного поведения использует данные криминологических исследований, но, кроме того, изучает поведение людей, которое не относится к компетенции уголовного права. Социологи, изучающие девиантное поведение, стремятся понять, почему некоторые виды поведения обычно рассматриваются как девиантные и как эти представления об отклонениях от нормы по-разному применяются к людям в пределах общества. Изучение отклонений от нормы связано, таким образом, с властью в обществе, также как с влиянием социального класса, — с разделением на богатых и бедных. Если мы рассматриваем отклонение от социальных правил или норм или соответствие им, мы всегда должны задавать себе вопрос: чьи правила имеются в виду? Как мы увидим дальше, на социальные нормы огромное влияние оказывают отношения к власти и классу.
Попытки объяснения преступления и девиантного поведения
В отличие от некоторых других областей социологии, в которых с течением времени сложились конкретные теоретические подходы, ставшие доминирующими, в изучении девиантного поведения ни одна из теорий не дает исчерпывающего объяснения данному явлению, и здесь по-прежнему сохраняют свое значение многие теоретические подходы. Кратко рассмотрев биологические и психологические объяснения, мы обратимся к четырем социологическим теориям, оказавшим влияние на исследования в области социологии девиантного поведения: к функционалистским теориям, теориям интерактивности, теориям конфликта и теориям контроля.────────────────────────────┐ ■ Нормы и санкции Чаще всего мы следуем социальным нормам, потому что вследствие процесса социализации мы привыкли поступать именно так. Все социальные нормы сопровождаются предусмотренными законом мерами наказания, которые стимулируют подчинение нормам и защищают от нарушений. Санкция — это любая реакция со стороны других людей на поведение отдельного человека или группы, которая направлена на то, чтобы обеспечить подчинение данной норме. Санкции могут быть позитивными (предоставление награды за соблюдение норм) или негативными (наказание за поведение, не соответствующее нормам). Санкции могут налагаться формально или неформально. Формальные санкции осуществляются особым органом или организацией, гарантирующей соблюдение конкретной совокупности норм. Основные типы формальных санкций в современных обществах представлены судами и тюрьмами. Закон — это формальная санкция, определенная властями в качестве правила или принципа, которому должны следовать граждане: он используется против людей, которые ему не подчиняются. Неформальные санкции представляют собой менее организованные и более спонтанные реакции на подчинение нормам. Разновидности неформальной санкции может подвергнуться, например, прилежный ученик, когда одноклассники дразнят его за то, что он много работает, или юноша или девушка, когда им дают прозвище «зануда» за то, что они отказываются гулять по вечерам. Неофициальные санкции имеют место также, например, в тех случаях, когда какой-то человек сделал замечание, оскорбительное для представителей того или иного пола или расы, и это встретило неодобрительную реакцию со стороны друзей или коллег. ────────────────────────────┘
Биологические теории: «криминальные типы»
Некоторые из первых попыток объяснения преступления были по своему характеру преимущественно биологическими. Причину преступных наклонностей и девиантного поведения видели во врожденных свойствах человека. Итальянский криминалист Чезаре Ломброзо, работавший в 1870-х гг., считал, что криминальные типы можно идентифицировать по определенным анатомическим признакам. Он изучил внешность и физические характеристики преступников, такие как форма черепа и лба, величина челюсти и длина рук, и пришел к выводу, что они обнаруживают черты, отражающие более ранние стадии развития человека. Ломброзо признавал, что социальные условия могут влиять на развитие криминального поведения, но считал большинство преступников с биологической точки зрения дегенеративными и умственно отсталыми. Именно потому что они якобы не достигли полного развития как человеческие существа, их действия обычно не соответствуют установлениям человеческого общества. Взгляды Ломброзо были в целом опровергнуты, но сходные с ними идеи высказывались неоднократно вновь и вновь. В одной из более поздних теорий выделялись три основных физических типа людей и утверждалось, что один из этих типов прямо связан со склонностью к правонарушениям. Согласно этой теории, мускулистые энергичные типы (мезоморфы) являются более агрессивными и физически сильными и потому они более склонны к правонарушениям, чем люди более субтильного телосложения (эктоморфы) или люди более полной комплекции (эндоморфы) (Sheldon 1949; Glueck and Glueck 1956). Подобные взгляды также вызвали резкую критику со стороны многих ученых. Даже если допустить, что существует некоторая общая связь между физическим строением человека и склонностью к правонарушениям, это еще ничего не говорит о влиянии наследственности. Возможно предположить, что людей с мускулистым телосложением привлекает криминальная деятельность, потому что она дает им возможность физического проявления силы и ловкости. Более того, почти все исследования в этой области были ограничены изучением правонарушителей в исправительных колониях, и вполне вероятно, что в такие учреждения обычно направляют именно более крепких атлетически сложенных юношей, а не хилых и слабых людей. Криминальные типы, представленные в книге Чезаре Ломброзо (1835–1909): грабитель из Неаполя; фальшивомонетчик из Пьемонта; Борджиа-убийца; Картуш, чьи криминальные склонности разнообразны; жена бандита; отравитель
Криминальные типы, представленные в книге Чезаре Ломброзо (1835–1909): грабитель из Неаполя; фальшивомонетчик из Пьемонта; Борджиа-убийца; Картуш, чьи криминальные склонности разнообразны; жена бандита; отравитель
Некоторые люди, возможно, склонны к раздражительности и агрессивности, и это может найти выражение в преступлениях, связанных с физическим насилием над другими людьми. Однако нет никаких убедительных доказательств того, что какие-либо черты личности при этом наследуются, и даже если бы они наследовались, их связь с преступными наклонностями, самое большее, была бы только весьма отдаленной.
Психологические теории: «анормальные психические состояния»
Подобно биологическим теориям, психологические теории преступления ищут объяснение отклонений поведения в индивидууме, а не в обществе. Но если при биологическом подходе внимание фокусируется на физических качествах, которые якобы предрасполагают человека к преступлению, психологические теории сосредотачиваются на типах личности. Значительная часть криминологических исследований в прошлом проводилась в тюрьмах и психиатрических лечебницах. В подобных условиях, вполне естественно, существенное влияние оказывали идеи психиатрии. Упор делался на отличительных чертах преступников — включая «слабоумие» и «моральную деградацию». Ханс Эйсенк высказал предположение, что анормальные психические состояния наследуются: они могут либо предрасполагать человека к преступлению, либо создавать трудности для него в процессе социализации (Eysenk 1964). Некоторые ученые предположили, что у небольшого числа людей развивается аморальный, или психопатический тип личности. Психопатические личности, или психопаты, — это замкнутые в себе, лишенные эмоций личности, действующие импульсивно и редко испытывающие чувство вины. Некоторые психопаты получают наслаждение от насилия как такового. Индивидуумы с психопатическими чертами действительно иногда совершают жестокие преступления, но главные трудности как раз и вызывает определение понятия психопатической личности. Совсем не очевидно, что психопатические черты обязательно свидетельствуют о преступных наклонностях. Почти все исследования, посвященные людям, которые, как считалось, обладали такими характеристиками, проводились среди осужденных в тюрьмах, и их личности неизбежно должны были изображаться в негативном свете. Если же мы опишем те же самые черты в положительном свете, тип личности получается совершенно другим, и нет, по-видимому, никаких оснований считать людей подобного рода прирожденными преступниками. Психологические теории преступления в лучшем случае могут объяснить только некоторые аспекты этого явления. Хотя отдельные преступники, возможно, и обладают личностными свойствами, отличающими их от остальной части населения, крайне маловероятно, что это относится к большинству преступников. Существуют самые разные виды преступлений, и вряд ли можно предположить, что у тех, кто их совершает, имеются какие-то особые общие характерные психологические черты. И при биологических, и при психологических подходах к явлению преступности предполагается, что девиантность является знаком того, что что-то «неладно» с индивидуумом, но не с обществом. Утверждается, что преступление обусловлено факторами, которые человек не может контролировать, и что они заключены либо в его теле, либо в его мозгу. Поэтому если бы научной криминологии удалось установить причины преступления, появилась бы возможность воздействовать на такие причины. В этом отношении как биологические, так и психологические теории преступления являются по своей сущности позитивистскими. Как мы выяснили при обсуждении взглядов Конта в главе 1, позитивизм — это вера в то, что, применяя научные методы к изучению социального мира, можно выявить его основные законы. В случае позитивистской криминологии это приводило к вере в то, что с помощью эмпирического исследования можно точно установить причины преступлений и потом высказывать рекомендации о том, как их искоренить.Социологические теории преступления и девиантного поведения
Последующие поколения ученых подвергли старую позитивистскую криминологию резкой критике. Они утверждали, что удовлетворительным объяснением преступления может быть только объяснение социологическое, поскольку то, что признается преступлением, зависит от социальных институтов общества. Со временем внимание исследователей переместилось от индивидуалистических объяснений преступления как свойства человека к теориям, выдвигающим на первый план социальный и культурный контекст, в котором имеет место девиантное поведение.Функционалистские теории
Функционалистские теории рассматривают преступление и девиантное поведение как результат структурных сбоев и отсутствия в обществе морального регулирования. Если чаяния отдельных людей или групп в обществе не совпадают с получаемым вознаграждением, этот разрыв между желаниями и их осуществлением может проявиться в девиантных мотивациях некоторых его членов. Преступление и аномия: Дюркгейм и Мёртон Как мы видели в главе 1, понятие аномия было впервые введено Эмилем Дюркгеймом, высказавшим предположение о том, что в современных обществах традиционные нормы и стандарты разрушаются, не успев замениться новыми нормами и стандартами. Аномия наблюдается в тех случаях, когда отсутствуют ясные стандарты, которые управляли бы поведением людей в той или иной сфере социальной жизни. По мнению Дюркгейма, в таких условиях люди чувствуют себя дезориентированными и незащищенными: аномия, следовательно, — это один из факторов, побуждающих людей к самоубийству. Дюркгейм рассматривал преступление и отклонение от нормы как факты социальные: он считал, что оба эти явления представляют собой неизбежные и необходимые элементы современных обществ. Согласно Дюркгейму, в современную эпоху люди менее скованы, чем это было в традиционных обществах. Именно потому, что современный мир предоставляет индивидууму более широкую свободу выбора, с неизбежностью возникает некоторый нонконформизм. Дюркгейм указывал, что ни в одном обществе никогда не бывает полного консенсуса в отношении господствующих в нем норм и ценностей. Девиантное поведение также, по мнению Дюркгейма, необходимо для общества: оно выполняет в нем две важные функции. Во-первых, отклонение от нормы выполняет адаптивную функцию. Вводя в общество новые идеи и проблемы, девиантность выступает как фактор обновления. Она осуществляет изменение. Во-вторых, девиантность способствует сохранению границы между «хорошим» и «плохим» поведением в обществе. Преступное деяние может вызвать такую коллективную реакцию, которая укрепит групповую солидарность и прояснит социальные нормы. Например, жители какого-то района, где действуют наркодилеры, могут объединиться в ответ на перестрелку, возникшую в ходе борьбы между торговцами наркотиками за сферы влияния, и принять решение сделать свой район зоной, свободной от наркотиков.────────────────────────────┐ ■ Роберт К. Мёртон: упования и вознаграждение Мёртон рассматривал девиантность как естественную реакцию людей на те ситуации, в которых они оказываются. Он выделил пять возможных реакций на напряженность, возникающую из-за несоответствия между социально одобряемыми ценностями и ограниченными средствами для их достижения: • Конформисты принимают как общепринятые ценности, так и обычные способы их достижения, независимо от того, добиваются ли они успеха или нет. Большинство населения входит в эту категорию. • Инноваторы также принимают социально одобренные ценности, но используют незаконные или околозаконные средства, чтобы следовать им. Примером подобного типа людей являются преступники, достигшие благосостояния путем противозаконной деятельности. • Ритуалисты ведут себя в соответствии с социально принятыми стандартами, хотя они давно уже утратили ощущение смысла ценностей, стоящих за данными стандартами. Правила выполняются ради самих правил без какой-либо более широкой цели впереди, как бы помимо воли. К ритуалистам относятся люди, посвятившие себя скучной и утомительной работе, даже при том, что такая работа не дает перспективы продвижения по службе и приносит мало удовлетворения. • Ретриатисты (отступники) полностью отказываются от участия в конкурентной борьбе, отвергая, таким образом, и господствующие в обществе ценности, и принятые способы их достижения. Такие люди обычно «выпадают» из общества. Примером могут служить члены какой-либо независимой коммуны. • Бунтари отвергают как существующие ценности, так и нормативные средства их достижения, но активно стремятся заменить их новыми и преобразовать социальную систему. В эту категорию входят члены радикальных политических группировок. ────────────────────────────┘
Взгляды Дюркгейма на преступление и девиантное поведение способствовали переключению внимания ученых с объяснений, в основе которых — индивидуум, на социальные факторы. Его понятие аномии было использовано американским социологом Робертом К. Мертоном, создавшим широко известную теорию девиантного поведения, в которой источник преступления оказался в самой структуре американского общества (Merton 1957). Мёртон модифицировал понятие аномии, отнеся его к напряженности, возникающей в поведении человека, оказавшегося в ситуации, когда общепринятые нормы вступают в конфликт с социальной реальностью. В американском обществе, а в известной степени и в других индустриальных обществах, общепринятые ценности акцентируют внимание на материальном успехе, и средствами для достижения успеха считаются самодисциплина и интенсивная работа. Соответственно, люди, которые действительно упорно работают, должны, исходя из этих установок, добиться успеха, независимо от того, с чего они начинали в жизни. На самом же деле, это мнение не соответствует реальности, потому что большинство людей, находящихся в неблагоприятных обстоятельствах, располагает только ограниченными возможностями для продвижения в жизни или вообще не имеет никаких шансов. И тем не менее тех, кому не удалось «преуспеть», осуждают за их якобы неспособность добиться материального благополучия. В подобной ситуации возникает сильное искушение попытаться продвинуться вперед любыми средствами, законными или незаконными. По мнению Мертона, таким образом, девиантность является побочным продуктом экономического неравенства и отсутствия равных возможностей. В трудах Мертона затрагивается одна из основных загадок, с которыми сталкивается изучение криминологии: если в наше время общество в целом становится более богатым, то почему же продолжает расти уровень преступности? Указывая на противоречие между растущими чаяниями и сохраняющимся неравенством, Мертон считает относительную депривацию важным элементом девиантного поведения. Объяснения, исходящие из понятия субкультуры В более поздних теориях девиантность рассматривается в связи с субкультурными группами, в которых приняты нормы, поощряющие или вознаграждающие криминальное поведение. Подобно Мертону, Альберт Коэн считал основной причиной преступлений противоречия, существующие в американском обществе. Однако, если Мертон делал упор на девиантной реакции индивидуумов на несоответствие между ценностями и средствами для их достижения, то Коэн на первый план выдвигал реакции, возникающие коллективно посредством субкультур. В книге «Подростки-правонарушители» Коэн утверждает, что молодые люди из низших слоев рабочего класса, разочарованные своим положением в жизни, часто сбиваются в субкультуры правонарушителей, подобные бандам. Такие субкультуры отвергают ценности среднего класса и заменяют их нормами, прославляющими неповиновение, как, например, правонарушения и другие акты нонконформизма (Cohen 1955). Ричард А. Кловард и Ллойд Е. Олин в своем исследовании соглашаются с Коэном в том, что большинство юношей-правонарушителей происходит из низов рабочего класса. Вместе с тем, наибольший «риск», по их мнению, представляют те молодые люди, которые усвоили ценности среднего класса и которых поощряли, исходя из их способностей, стремиться к будущему, характерному для среднего класса. В тех случаях, когда такие молодые люди оказываются не в состоянии реализовать свои цели, они особенно склонны прибегать к противоправной деятельности. Изучая молодежные преступные группировки, Кловард и Олин обнаружили, что такие банды возникают в общинах с субкультурой, где мало шансов достичь успеха легальными способами, как, например, среди обездоленных групп этнических меньшинств (Cloward and Ohlin 1960). Оценка Функционалистские теории справедливо подчеркивают связь между конформностью и девиантностью в различных ситуациях. Отсутствие благоприятной возможности добиться успеха в рамках более широкого общества — это главный разграничивающий фактор между людьми, прибегающими в этом случае к криминальным действиям, и теми, кто этого не делает. Следует, однако, проявлять осторожность относительно утверждения о том, что люди в более бедных сообществах стремятся к тому же уровню благополучия, что и более богатые граждане. Большинство людей обычно приспосабливает свои устремления к тому, что они считают своим реальным положением. Мёртон, Коэн, Кловард и Олин — всех этих ученых можно критиковать за то, что они были убеждены, что ценности среднего класса в обществе являются общепринятыми. Ошибочно также полагать, что несовпадение стремлений и возможностей присуще только непривилегированным слоям населения. И в других группах существуют обстоятельства, подталкивающие к криминальной деятельности, о чем свидетельствуют так называемые преступления «белых воротничков», такие как хищения, мошенничество и уклонение от уплаты налогов, которые мы рассмотрим дальше.
Интеракционистские теории
Социологи, изучающие преступления и девиантное поведение, исходя из традиции интеракционизма, трактуют девиантность как феномен, порождаемый обществом. Они отвергают идею о том, что существуют типы поведения, являющиеся изначально «девиантными». Напротив, интеракционисты задаются вопросом, почему некоторые типы поведения первоначально получили определение «девиантных» и как случилось, что одни группы людей характеризуются как девиантные, а другие нет. Воспринятая девиантность: дифференцированные связи Одним из первых авторов, предположивших, что девиантности можно научится путем взаимодействия с другими людьми, был Эдвин X. Сазерленд. В 1949 г. Сазерленд выдвинул теорию, которая оказала влияние на многие последующие работы интеракционистов: он связал преступление с дифференцированными связями. Его идея была очень простой. В обществе, включающем множество субкультур, некоторые социальные окружения обычно поощряют нелегальную деятельность, тогда как другие ей не способствуют. Индивидуумы становятся правонарушителями, общаясь с людьми, которые являются носителями криминальных норм. По большей части, согласно Сазерленду, криминальному поведению обучаются в первичных группах, в частности в группах сверстников. Теория Сазерленда противостоит мнению, согласно которому преступники отличаются от других людей своими психологическими особенностями: Сазерленд считает, что криминальной деятельности люди научаются совершенно так же, как законопослушному поведению, и что она направлена на те же самые потребности и ценности. Воры совершенно так же, как люди занятые обычной деятельностью, стараются заработать деньги, но только для достижения этой цели они выбирают противозаконные методы. Теория стигматизации (наклеивания ярлыков) Один из наиболее важных подходов к пониманию преступности получил название теории стигматизации, т. е. теории наклеивания ярлыков. Сторонники этой теории трактуют девиантность не как совокупность характерных признаков индивидуумов или групп людей, но как процесс взаимодействия между людьми с девиантным и недевиантным поведением. С их точки зрения, необходимо выяснить, почему на некоторых людей навешивают ярлык «девиантные», и таким путем понять сущность девиантного поведения как такового. В преобладающем большинстве случаев наклеиванием ярлыков занимаются люди, представляющие силы закона и порядка, или имеющие возможность навязывать другим определение принципов традиционной морали. Таким образом, ярлыки, создающие категории девиантности, отражают структуру власти, существующую в обществе. В общем и целом, правила, на основе которых определяются отклонения от нормы, составляются богатыми для бедных, мужчинами для женщин, старыми людьми для молодых и этническими группами, составляющими большинство населения, для этнических меньшинств. Скажем, дети часто забираются в чужие сады и воруют фрукты или прячутся там и прогуливают уроки. В богатом районе такие поступки скорее всего были бы сочтены в равной степени родителями, учителями и полицией как невинная детская шалость. В бедных районах такие поступки, как правило, были бы расценены как доказательство склонности к подростковым правонарушениям. А если уж на ребенка хоть однажды наклеили ярлык правонарушителя, и учителя, и возможные будущие работодатели его будут клеймить как преступника и будут считать не заслуживающим доверия. В обоих случаях поступки были одинаковы, но им было приписано разное значение. Одним из социологов, наиболее тесно связанных с теорией стигматизации, является Говард Беккер. Его целью было показать, что девиантные индивидуальности создаются не девиантной мотивацией или поведением, но приклеиванием соответствующих ярлыков. По словам Беккера, «девиантное поведение — это поведение, которое так определяют люди». Он в высшей степени критически относился к криминологическим теориям, которые заявляли о наличии четкой границы между тем, что «соответствует норме» и тем, что «отклоняется от нормы». Для Беккера девиантное поведение не является фактором, который обусловливал бы обязательное превращение человека в «девианта». Существуют процессы, не связанные с поведением как таковым, которые оказывают огромное влияние на то, будет ли на человека наклеен данный ярлык или нет. Ключевыми факторами могут здесь выступать одежда человека, его манера говорить или страна,откуда он приехал. Теория стигматизации теперь часто ассоциируется с исследованиями Беккера, посвященными курильщикам марихуаны (Becker 1963). В начале 1960-х гг. курение марихуаны рассматривалось как маргинальная деятельность внутри субкультур, а не как выбор стиля жизни, как в наши дни. Беккер установил, что стать курильщиком марихуаны человек мог, только если он был принят в состав определенной субкультуры, если он близко общался с опытными курильщиками и если он соответствующим образом относился к тем, кто не курит марихуану. Наклеивание ярлыков воздействует не только на то, как окружающие люди представляют себе того или иного человека, оно также оказывает влияние на восприятие человеком самого себя. Эдвин Лемерт предложил модель для понимания того, как девиантность может сосуществовать с индивидуальностью человека, либо стать ее центром (Lemert 1972). Лемерт утверждал, что в отличие от распространенного мнения девиантность в действительности представляет собой вполне обыденное явление, и людям она обычно сходит с рук! Например, некоторые девиантные поступки, такие как нарушения правил дорожного движения, редко выходят наружу, а на другие, как, например, на мелкие кражи с места работы, зачастую смотрят сквозь пальцы. Лемерт называл «правонарушение, совершенное впервые», первичной девиантностью. В большинстве случаев такие поступки остаются «периферийными» для самоиндентификации человека — происходит процесс, посредством которого девиантный поступок нормализуется. Однако в некоторых случаях нормализации не происходит, и на человека наклеивают ярлык преступника или правонарушителя. Лемерт использует термин вторичная девиантность для обозначения случаев, когда люди принимают наклеенный на них ярлык и воспринимают себя как преступивших норму. В таких случаях ярлык может стать центром индивидуальности человека и привести к продолжению или усилению девиантного поведения. Возьмем конкретный пример. Люк, гуляя с друзьями в субботу вечером по городу, разбивает витрину магазина. Этот поступок можно, по всей вероятности, назвать случайным результатом чересчур бурного поведения, извинительного для молодых людей. Возможно, что Люк отделался бы выговором и небольшим штрафом. Если бы он происходил из «респектабельной» семьи, такой результат был бы вполне вероятен. Если юношу воспримут как человека приличного, который в данном случае вел себя слишком буйно, разбитая витрина останется первичной девиантностью. Если же, напротив, полиция и суд вынесут Люку условный приговор и заставят его являться к социальному работнику, инцидент может превратиться в первый шаг на пути к вторичной девиантности. Процесс «обучения девиантному поведению» обычно усугубляется теми же самыми организациями, которые, казалось бы, были призваны исправлять девиантное поведение — тюрьмами и социальными органами.────────────────────────────┐ ■ Усиление девиантного поведения Лесли Уилкинса интересовали способы «управления» людьми с девиантным поведением и включения их в повседневную жизнь (Wilkins 1964). Он предположил, что зачастую результатом этого процесса является усиление девиантного поведения. Этот термин указывает на те неожиданные последствия, которые могут возникнуть, когда, объявив некоторое поведение девиантным, контролирующий орган практически провоцирует усиление этого самого девиантного поведения. Если лицо, которое заклеймили таким ярлыком, включает эту характеристику в свою индивидуальность, совершив вторичный девиантный поступок, это обычно вызывает еще более сильную реакцию со стороны контролирующих органов. Иными словами, то самое поведение, которое было признано нежелательным, получает еще большее распространение, а люди, которым приклеили ярлык нарушителей норм, начинают еще больше сопротивляться изменению своего поведения. Широкие последствия усиления девиантного поведения были проиллюстрированы в известной книге Стэнли Коэна «Народные дьяволы и моральная паника» (1980). В этой классической работе Коэн проанализировал, почему попытки полиции проконтролировать определенные молодежные субкультуры в 1960-х гг. — так называемых модзов[2] и рокеров — завершились только тем, что привлекли к ним еще больше внимания и сделали их еще более популярными среди молодежи. Процесс наклеивания на группу ярлыка чужаков и смутьянов — в попытке установить над ней контроль — привел к прямо противоположным результатам и создал еще большие проблемы для общественного правопорядка. Чрезмерное и сенсационное освещение модзов и рокеров в средствах массовой информации породило моральную панику — этот термин употребляется социологами для обозначения инспирированной СМИ неадекватной реакции по отношению к определенной группе людей или типу поведения. Моральную панику часто вызывают общественные проблемы, рассматриваемые как симптомы общего социального беспорядка; моральная паника возникала в последние годы по поводу таких тем, как молодежная преступность и незаконные притязания на получение политического убежища. ────────────────────────────┘
Оценка Теория стигматизации важна потому, что она исходит из допущения, согласно которому один поступок не является изначально криминальным. Определения преступлений устанавливаются людьми, наделенными властью, — они формулируют законы и регламентируют их интерпретацию полицией, судом и исправительными заведениями. Критики теории стигматизации иногда обращали внимание на то, что существуют деяния, которые однозначно запрещаются практически во всех культурах, такие как убийства, изнасилования и грабежи. Однако такой взгляд, несомненно, неверен: в Великобритании, например, лишение жизни не всегда признается убийством. Во время войны уничтожение врага воспринимается положительно, и до самого последнего времени законы Великобритании не признавали изнасилованием половой акт, насильственно совершенный с женщиной ее мужем. Теорию стигматизации можно критиковать более убедительно по другим причинам. Во-первых, делая упор на активном процессе наклеивания ярлыков, данная теория упускает из виду те процессы, которые привели к действиям, характеризуемым как девиантные. Дело в том, что определение некоторых видов деятельности как девиантных не является абсолютно произвольным: различия в социализации, настроениях и возможностях в известной мере обусловливают степень вероятности для тех или иных людей поведения, которое скорее всего будет оценено как девиантное. Например, дети из бедных семей чаще, чем дети более богатых родителей, совершают кражи в магазинах. Однако на воровство их, в первую очередь, толкнуло не наклеивание ярлыка, а окружающая их обстановка. Во-вторых, не вполне ясно, действительно ли наклеивание ярлыков приводит в результате к большему распространению девиантного поведения. После признания человека виновным у него обычно усугубляется девиантное поведение, но является ли это результатом наклеивания ярлыка как такового? Возможно, здесь действуют другие факторы, например усиление взаимодействия с другими правонарушителями или знакомство с новыми возможностями совершения преступлений.
Теории конфликта: «новая криминология»
Публикация в 1973 г. Тейлором, Уолтоном и Янгом книги «Новая криминология» ознаменовала существенный отход от прежних теорий девиантности. Указанные авторы использовали элементы марксистской философии, стремясь доказать, что девиантное поведение выбирается сознательно и часто носит политический характер. Они отвергли идею предопределенности девиантного поведения такими факторами как биология, индивидуальность, аномия, социальная дезорганизация и наклеивание ярлыков. По их мнению индивидуумы активно решают, прибегнуть ли им или нет к девиантному поведению как к реакции на неравенство, царящее в капиталистической системе. Таким образом, члены контркультурных групп, признаваемых «девиантными», — такие, как последователи движения «Власть черным!» или движения за освобождение геев — совершали явно политические действия, направленные против социального порядка (Taylor, Walton and Young 1973). Теоретики школы «новой криминологии» сформулировали свое понимание преступления и девиантного поведения исходя из понятий структуры общества и стремления господствующих классов к сохранению своей власти. Широкие перспективы, намеченные авторами книги «Новая криминология», получили конкретное развитие в исследованиях других ученых. Стюарт Холл и другие исследователи в Бирмингемском центре изучения современной культуры провели важное обследование явления, которое в начале 1970-х гг. привлекло к себе в Великобритании огромное внимание, — ограблений при нападении сзади. Несколько ограблений получили громкую известность благодаря средствам массовой информации и подогрели широкую общественную озабоченность новым взрывом уличной преступности. Грабителей в подавляющем большинстве случаев изображали чернокожими, и это укрепляло бытовавшее мнение, согласно которому вина за упадок общества лежит в основном на иммигрантах. В книге «Меры по преодолению кризиса» Холл и его коллеги утверждали, что моральная паника, вызванная ограблениями, поддерживалась как государством, так и СМИ, с тем чтобы отвлечь внимание от растущей безработицы, сокращения заработной платы и других глубоких структурных пороков общества (Hall et al. 1978). Примерно в то же время другие криминологи изучали создание и использование законов в обществе и пришли к заключению, что законы — это орудие, используемое для сохранения своего собственного привилегированного положения. Они отвергли мнение о «нейтральности» законов и о том, что законы одинаково применяются ко всему населению. По их словам, напротив, по мере того как растет разрыв между господствующим классом и классом рабочим, закон становится все более важным инструментом в руках властей предержащих для сохранения существующего порядка. Эту динамику можно видеть в действии системы уголовного правосудия, которая становится все более жестокой в отношении «нарушителей закона-» из среды рабочего класса; или в применении налогового законодательства, которое является непропорционально выгодным для богатых. Такой дисбаланс власти наблюдается, однако, не только при создании законов. По утверждению ученых, богатые тоже нарушают законы, только их очень редко привлекают к ответственности. Эти преступления в целом гораздо более значительны, чем повседневные преступления и правонарушения, на которые обращают обычно наибольшее внимание. Однако опасаясь последствий, которые может иметь судебное преследование преступников из числа «белых воротничков», служители закона вместо этого сосредоточивают все свои усилия на менее могущественных членах общества, таких как проститутки, наркоманы и мелкие воришки (Pearce 1976; Chambliss 1978). Эти и другие исследования, связанные с «новой криминологией», имели важное значение — они расширили рамки обсуждения проблемы преступления и девиантного поведения, включив в него вопросы социальной справедливости, власти и политики. Они показали, что преступления совершаются на всех уровнях общественной структуры и что их следует понимать в контексте неравенства и противоречия интересов различных социальных групп. Новый левый реализм В 1980-х гг. возникло новое направление в криминологии, известное как новый левый реализм. Оно опиралось на некоторые идеи неомарксизма, использованные теоретиками «новой криминологии», о которых говорилось выше, но дистанцировалось от «левых идеалистов», которые, по их мнению, романтизировали девиантное поведение и недооценивали подлинный страх перед преступлениями, испытываемый значительной частью населения. В течение длительного времени многие криминологи обычно преуменьшали важное значение всплесков преступности, отмечаемых в официальной статистике. Они пытались доказать, что СМИ создали никому не нужную обеспокоенность у людей по этому поводу, или утверждали, что большинство преступлений — это завуалированная форма протеста против неравенства. Новые левые реалисты заявили, что криминологам нужно отойти от этой позиции, подчеркивая, что рост преступности действительно произошел и что люди вполне обоснованно этим озабочены. Новые левые реалисты кроме того признали, что криминологам следует больше заниматься актуальными вопросами контроля за преступлениями и социальной политикой, вместо того чтобы вести о них абстрактные дискуссии (Lea and Young 1984; Matthews and Young 1986). Новый левый реализм привлек внимание к жертвам преступлений и утверждал, что изучение жертв преступлений (см. раздел «Модели преступности в Соединенном Королевстве» этой главы) дает более соответствующую действительности картину размаха преступности, чем официальная статистика (Evans 1992). Такие обследования показывают, что преступления представляют собой серьезную проблему, особенно в бедствующих районах внутренних городов. Новые левые реалисты указывали, что наибольшее количество преступлений и жертв приходится именно на маргинализированные округа — обездоленные группы общества подвергаются гораздо большему риску преступлений, чем другие группы. Опираясь на Мертона, Кловарда, Олина и др., новые левые реалисты считают, что во внутренних городах создаются криминальные субкультуры. Подобные субкультуры рождаются не из-за бедности как таковой, но потому, что они исключены из более широкого общества. Криминализованные молодежные группировки, например, действуют на периферии «респектабельного общества» и борются против него. Тот факт, что количество преступлений, совершенных черными, в последние годы выросло, объясняется провалом политики расовой интеграции. В качестве адекватной реакции на подобные тенденции в области преступности новые левые реалисты выдвинули «реалистические» предложения об изменении действий полиции. По их мнению, силам правопорядка следовало бы больше прислушиваться к нуждам общин, а не опираться на методы «военной полиции», которые вызывают отчуждение людей и лишают полицию их помощи. Новые левые реалисты выдвинули предложение о «минимальном использовании полиции» — чтобы выбранные местными жителями полицейские власти были подотчетны гражданам, чье мнение стало бы более веским при определении приоритетов для полиции в их округе. Кроме того, полиция могла бы вернуть доверие к себе со стороны местных общин, если бы тратила больше времени на раскрытие преступлений и меньше на рутинную или административную работу. В целом новый левый реализм представляет собой более прагматический и ориентированный на некарательные меры подход, чем многие предшествующие ему теории криминологии. Критики нового левого реализма признают важность изучения жертв преступлений. Однако они указывают, что восприятие преступления в обществе часто основывается на стереотипах. Представители нового левого реализма, возможно, ненамеренно подкрепили стереотип: черный — преступник. Данный подход критиковали также за то, что он уж очень сосредоточил внимание на жертвах преступлений. Необходимо же исследовать опыт не только жертв, но и нарушителей закона. Сосредоточившись на жертвах, новые левые реалисты недостаточно внимания уделили мотивам, способствовавшим криминальному поведению (Hughes G. 1991).Теории контроля
Теория контроля постулирует, что преступление совершается в результате дисбаланса между побуждениями к криминальной деятельности и социальными или физическими факторами контроля, удерживающими от преступления. Для нее меньший интерес представляет мотивация индивидуумов, толкающая их на преступления; более того, она утверждает, что люди действуют рационально и что при удобном случае любой человек способен совершить девиантный поступок. Согласно этой теории, многие типы преступлений являются результатом «ситуационных решений» — человек видит представившуюся возможность, и это побуждает его к совершению поступка. Один из наиболее известных социологов — приверженцев теории контроля Тревис Хирши считает, что люди, в принципе, эгоистические существа, которые сознательно принимают решения относительно того, заниматься им преступной деятельностью или нет, взвешивая потенциальные выгоды и риски. В книге «Причины правонарушений» (1969) Тревис Хирши выделил четыре типа отношений, привязывающих людей к обществу и законопослушному поведению: привязанность, обязательство, вовлеченность и вера. Когда эти факторы достаточно сильны, они помогают сохранить социальный контроль и конформность, делая людей несвободными и удерживая от нарушения правил. Если же эти связи с обществом слабы, могут возникнуть правонарушения и девиантность поведения. По мнению Хирши, правонарушителями часто являются индивидуумы, низкий уровень самоконтроля которых представляет собой результат недостаточной социализации дома и в школе (Gottfredson and Hirschi 1990). Некоторые сторонники теории контроля видят причину роста преступности в увеличении в современном обществе числа возможностей и объектов для совершения преступлений. По мере того как население становится богаче, а потребительство превращается в смысл жизни, все больше и больше людей становятся обладателями таких товаров, как телевизоры, видеотехника, компьютеры, автомобили и одежда от кутюрье — того, что воры любят больше всего. Жилые дома все чаще остаются без хозяев в дневное время в связи с тем, что все большее число женщин работает по найму вне дома. «Мотивированные правонарушители», заинтересованные в совершении преступления, могут выбирать себе «подходящую цель» из широкого круга возможностей. Реагируя на такие изменения, многие официальные органы, стремясь к предупреждению преступлений, в последние годы сосредоточили внимание на ограничении возможностей совершения преступлений. Центральной для такой политики является идея укрепления мишени — попытки затруднить совершение преступления, вмешавшись непосредственно в потенциальную «ситуацию преступления». Например, законы, согласно которым требуется установка ограничителя поворота колес во всех новых автомобилях, имеют целью ограничить поле действия угонщиков автомобилей. В некоторых регионах общественные телефоны-автоматы были оснащены более прочными коробками для монет для защиты от способных воспользоваться удобным случаем вандалов. Установка систем визуального наблюдения в городских центрах и общественных местах — еще одна попытка предотвратить криминальные действия. Сторонники теории контроля утверждают, что чем пытаться изменить преступника, лучше избрать политику практических мер и контролировать возможности преступника совершить преступление. Методы укрепления потенциальных мишеней преступления и политика нулевой терпимости к правонарушителям стали в последние годы популярными среди политиков и по-видимому в некоторых обстоятельствах оправдали себя, сократив число правонарушений. Но у такого подхода также есть слабые места, вызывающие критику. Укрепление потенциальных объектов преступлений и политика нулевой терпимости никак не воздействуют на скрытые причины преступлений, но нацелены на защиту и ограждение от преступлений определенных слоев общества. Растущая популярность частных охранных служб, охранных устройств на автомобилях и в домах, использование сторожевых собак и закрытых охраняемых поселков с пропускной системой — все это привело к тому, что людям стало казаться, что они живут в «бронированном обществе», в котором одни слои населения чувствуют необходимость защищаться от других. Такая тенденция наблюдается не только в Великобритании и Соединенных Штатах в связи с увеличением разрыва между самыми богатыми и самыми бедными гражданами, но она особенно заметна в таких странах, как бывший Советский Союз, ЮАР и Бразилия, где у тех, кто находится в привилегированном положении, сформировалась ментальность «людей, живущих в крепости». Существует еще одно неожиданное последствие подобной политики: по мере «укрепления» излюбленных преступниками мишеней модели преступности могут просто передвинуться из одной области в другую. Например, оснащение противоугонными устройствами стало в Соединенном Королевстве обязательным для всех новых автомобилей, но этого не требуется для более старых автомобилей. И в результате мишени автомобильных краж сместились: вместо новых моделей автомобилей стали в основном угонять более старые автомобили. Подходы, основанные на укреплении мишеней преступлений и на политике нулевой терпимости, таят угрозу перемещения уголовных преступлений из лучше защищенных областей в более уязвимые области. В бедных районах или в районах, где отсутствует социальная сплоченность, вполне может произойти рост преступлений и правонарушений, если богатые регионы усилят свою защищенность.────────────────────────────┐ ■ Теория «разбитых окон» Теория контроля связана с популярным курсом практических мероприятий, известным как теория «разбитых окон». Выдвинутая около двух десятилетий назад (Wilson and Kelling 1982), эта теория содержит предположение о существовании прямой связи между появлением беспорядка в том или ином регионе и собственно преступлениями. Если в каком-либо районе одно разбитое окно остается непочиненным, подобное событие как бы подает сигнал потенциальным преступникам, что ни полиция, ни местные жители не занимаются поддержанием порядка в данной общине. Со временем к разбитому окну присоединятся другие свидетельства беспорядка — граффити, скопление мусора, различные проявления вандализма и брошенные автомобили. Начинается постепенный процесс деградации, «респектабельные» жители этого района будут стараться уехать из него, и вместо них появятся «девиантные» новые жители — наркоторговцы, бездомные и условно освобожденные правонарушители. Теория разбитых окон послужила основой для так называемой политики нулевой терпимости — подхода, при котором ключевым моментом для уменьшения числа серьезных преступлений считается расширение процесса поддержания порядка. Политика нулевой терпимости направлена против мелких преступлений и хулиганства в различных формах, таких как вандализм, шатание без дела, приставание к людям, выпрашивание денег, появление в публичных местах в нетрезвом виде. Считается, что жестокие меры, применяемые полицией против правонарушений незначительного масштаба, дают положительные результаты, сокращая число более серьезных форм преступлений. После явных успехов, к которым привела политика нулевой терпимости в Нью-Йорке, она стала широко применяться в больших городах Америки. Начав с решительной кампании за восстановление порядка в городском метрополитене (подземке), департамент полиции Нью-Йорка распространил свою политику нулевой терпимости на происходящее на улицах, ужесточив ограничения против нищих, бездомных, уличных торговцев и владельцев книжных лавок и клубов для взрослых. При этом не только резко снизился уровень стандартных преступлений (таких, как ограбления и кражи), но до самого низкого почти за сто лет уровня сократилось число убийств (Kelling and Coles 1997). Важный недостаток теории разбитых окон заключается, однако, в том, что она предоставляет полиции право определять, что именно следует считать «общественным беспорядком». При отсутствии четкого определения «беспорядка» полиция получает полное право объявлять почти все свидетельством беспорядка и почти в любом человеке видеть угрозу. В действительности же, в то время как уровень преступности в Нью-Йорке в 1990-х гг. упал, увеличилось количество жалоб на неправомерные действия и преследование полиции, особенно со стороны молодых чернокожих городских жителей, которые соответствовали «портрету» потенциального преступника. ────────────────────────────┘
Теоретические выводы
Какие же выводы можно сделать из этого обзора теории преступления? Прежде всего следует напомнить сказанное нами раньше: хотя преступление — лишь одна подкатегория девиантного поведения в целом, оно включает огромное многообразие форм деятельности — от кражи в магазине плитки шоколада до массового убийства, поэтому вряд ли возможно создать единую теорию, которая объясняла бы все формы криминальной деятельности. Вклад социологических теорий в изучение преступлений носит двоякий характер. Во-первых, эти теории справедливо указывают, что между криминальным и «респектабельным» поведением существует бесконечный ряд переходов. Значительно варьируют ситуации, в которых определенные типы деятельности рассматриваются как криминальные и преследуются законом. Это вне всякого сомнения связано с проблемой власти и неравенства в обществе. Во-вторых, все ученые согласны, что в случае криминальных действий важно окружение, контекст. Совершит ли некто криминальный поступок и будет ли он назван преступником, во всем этом определяющую роль играют социальный опыт и социальное окружение. Несмотря на все свои недостатки, теория стигматизации имеет, по-видимому, наиболее широкое применение как подход для понимания преступления и девиантного поведения. Данная теория позволяет нам осмыслить, при каких условиях некоторые действия определяются как противозаконные, а также осознать роль властных структур в создании таких определений и тех обстоятельств, при которых конкретный индивид вступает в конфликт с законом. От того, как понимаются преступления, прямо зависят меры, разрабатываемые для борьбы с ними. Например, если преступление рассматривается как продукт нищеты или социальной дезорганизации, предпринимаемые меры должны быть направлены на уменьшение бедности и укрепление системы социальной помощи. Если же преступление воспринимается как нечто умышленное и свободно выбранное человеком, попытки борьбы с ним примут иную форму. Далее мы переходим к обсуждению современных тенденций в сфере преступлений в Соединенном Королевстве и рассмотрим некоторые политические отклики на них.Модели преступности в Соединенном Королевстве
Начиная с 1950-х гг. в Соединенном Королевстве наблюдается неуклонный рост количества зарегистрированных преступлений. Среди населения широко бытует представление о том, что с течением времени преступлений становится все больше и они приобретают все более серьезный характер. Если раньше преступления воспринимались как нечто маргинальное и исключительное, то за последние полвека они стали существенной проблемой в жизни многих людей. Обследования показывают, что люди в наши дни гораздо больше опасаются преступлений, чем раньше, и испытывают острое чувство тревоги, когда надо выходить из дома после наступления темноты, боятся, как бы не обокрали их дом и как бы не стать жертвой насилия. Насколько в реальности распространены преступления и насколько реально велика опасность для населения стать жертвой преступления? Что можно сделать, чтобы сдержать такой резкий рост преступности? Эти вопросы в последние несколько десятилетий бурно обсуждались, поскольку средства массовой информации стали более широко освещать преступления, отражая растущее возмущение общественности и в связи с тем, что сменявшие друг друга правительства обещали «вести бескомпромиссную борьбу с преступностью». Однако разобраться в природе преступлений и их распространении, не говоря уже о методах борьбы с ними, оказалось далеко не просто.Таблица 8.1 Причины, по которым люди не сообщают о преступлении в полицию. Англия и Уэльс. 1997 г.
 Цифры указывают процентное соотношение количества людей, ставших жертвами преступлений, но не сообщивших об этом в полицию. Иногда называлась не одна причина, а несколько.
Источник: British Crime Survey. Home Office. From Social Trends. 29. 1999. P. 156. Crown copyright.
Цифры указывают процентное соотношение количества людей, ставших жертвами преступлений, но не сообщивших об этом в полицию. Иногда называлась не одна причина, а несколько.
Источник: British Crime Survey. Home Office. From Social Trends. 29. 1999. P. 156. Crown copyright.
Таблица 8.2 Соотношение совершенных преступлений — тех, о которых было заявлено в полицию, и тех, которые были зарегистрированы полицией. Англия и Уэльс
 Источник: British Crime Survey. Home Office. From Social Trends. 29. 1999. P. 152.
Источник: British Crime Survey. Home Office. From Social Trends. 29. 1999. P. 152.
Преступления и криминальная статистика
Чтобы определить масштабы преступности и наиболее обычные формы преступлений, можно для начала обратиться к официальной криминальной статистике. Поскольку такие статистические данные публикуются регулярно, казалось бы, не должно было составить труда определить уровень преступности, однако такое допущение оказывается совершенно ошибочным. Из всей официально публикуемой информации по социальным вопросам статистика преступности и правонарушений является, вероятно, самой ненадежной. Многие криминологи неоднократно подчеркивали, что официальную статистику нельзя считать вполне надежной, и следует обращать внимание, как эти статистические данные были получены. Наиболее существенным ограничением официальной криминальной статистики является то, что она учитывает только те преступления, которые были реально зарегистрированы полицией. Однако между возможным преступлением и его регистрацией в полиции существует длинная цепь проблематичных решений. О большинстве преступлений, особенно о мелких кражах, сведения вообще никогда не доходят до полиции (см. табл. 8.1). Даже в случае насильственных преступлений более одной трети жертв предпочитает не обращаться в полицию, заявляя, что это их личное дело или что они разберутся с ним сами (HMSO 1999). Причины представлены в виде процентного соотношения людей, ставших жертвами преступлений, но не сообщивших об этом в полицию. Иногда называлась не одна причина, а несколько. Что касается тех преступлений, о которых полиция узнает, то многие из них не находят отражения в статистике. Номинальный «Британский обзор преступности» 1998 г. показал, что лишь немногим больше половины преступлений, о которых поступило сообщение в полицию Англии и Уэльса в 1997 г., были зарегистрированы. Это может произойти по ряду причин. Полиция может усомниться в достоверности некоторой информации о преступлении или жертва может не захотеть подать официальную жалобу. Таким образом, до полиции доходит только часть информации о преступлениях, да еще только часть ставших известными полиции преступлений регистрируется. И в результате официальная статистика преступлений отражает лишь часть всех случаев преступления (см. табл. 8.2). Преступления, не зафиксированные в официальной статистике, называют «темной цифрой» незарегистрированных преступлений. До «Британских обзоров преступности», опубликованных в 1982 и 1984 гг., в Соединенном Королевстве не было официальной оценки незарегистрированных преступлений. Начиная с того времени данные БОП играли важную роль, демонстрируя расхождения между официальной статистикой и реальным опытом людей, столкнувшихся с преступлениями. Задавая респондентам вопрос, не были ли они жертвой преступления в предыдущем году, исследователи установили, что гораздо более высокий процент населения оказался жертвой преступления, чем считалось раньше. Такие типы обследований стали известны как изучение жертв. Хотя подобные исследования жертв содержат ценный материал, к ним следует относиться с осторожностью. В некоторых случаях, таких, например, как при исследовании насилия в семье, методология самого обследования может дать в значительной мере недостоверные результаты. БОП проводятся путем опроса респондентов у них дома, поэтому вполне вероятно, что жертва домашнего насилия не сообщит о случаях насилия в присутствии обидчика. Для определения истинного уровня преступности недостаточно к официальным цифрам полиции просто добавить число несообщенных преступлений, потому что существенно различается практика регистрации преступлений местных органов полиции. Некоторые докладывают о меньшем числе преступлений из-за некомпетентности или стараясь, чтобы их журнал арестов выглядел более выигрышно. В Великобритании правительство регулярно проводит Всеобщий обзор домовладений, исследуя домовладения по всей стране. Обследование включало вопрос о домашних кражах со взломом в 1972, 1973, 1979 и 1980 гг. Домовладельцам был задан вопрос, не было ли у них краж со взломом в течение двенадцати предшествовавших месяцев. По данным Обзора 1981 г., в количестве краж со взломом между 1972 и 1980 гг. не произошло почти никаких изменений, тем не менее за тот же период официальная криминальная статистика в Великобритании, основанная на информации о преступлениях, поступившей в полицию, засвидетельствовала рост на 50 % (Bottomley and Pease 1986, 22–23). Такой заметный рост количества квартирных краж, возможно, объясняется тем, что люди стали более серьезно относиться к преступлениям и чаще сообщать о них в полицию, а также тем, что полиция стала применять более эффективные способы сбора информации о фактах преступлений. Кроме того, в это же время выросло число домовладельцев, застраховавших свои жилища, — еще один фактор, который, вероятно, привел к более широкому информированию полиции о преступлениях. Рис. 8.1. Заявленные правонарушения, зарегистрированные полицией в 1971–1997 гг.
Источник: Home Office; Royal Ulster Constabulary. From Social Trends. 29. 1999. P. 151. Crown copyright.
Рис. 8.1. Заявленные правонарушения, зарегистрированные полицией в 1971–1997 гг.
Источник: Home Office; Royal Ulster Constabulary. From Social Trends. 29. 1999. P. 151. Crown copyright.
Если судить по статистике преступлений, ставших известными полиции, уровень преступности в Соединенном Королевстве на протяжении более полувека рос более или менее постоянно. До 1920 г. в Англии и Уэльсе ежегодно регистрировалось меньше 100 тыс. правонарушений. К 1950 г. эта цифра достигла 500 тыс., а к 1992 г. — 5,6 млн. После этого число преступлений несколько сократилось, — до 4,5 млн в 1998 г. Таким образом, в настоящее время полиция регистрирует ежегодно свыше восьми преступлений на каждые сто человек населения. В Северной Ирландии, хотя она, вероятно, ассоциируется с высоким уровнем насилия, связанного с терроризмом, общий уровень преступности, судя по полицейской статистике, значительно ниже, чем в Англии и Уэльсе, — только четыре зарегистрированных преступления на каждые сто человек (см. рис. 8.1). Важно отметить, что наблюдаются различия в темпах роста и сокращения разных типов преступлений. Данные Национального обзора преступности свидетельствуют, что в 1980-х гг. имущественные преступления увеличились на 95 %, тогда как число насильственных преступлений против личности выросло на 21 %. В 1990-х гг. число имущественных преступлений — самой многочисленной категории преступлений — начало уменьшаться. В Англии и Уэльсе, например, между 1991 и 1997 гг. количество квартирных грабежей сократилось на 17 %, а количество краж и торговля краденными вещами упали на 22 %. Мошенничество и подлоги сократились за этот же период на 23 %, но в 1998–1999 гг. их количество резко подскочило, в значительной степени в связи с ростом преступлений, связанных с Интернетом (см. подраздел «Киберпреступления» в разделе «Организованная преступность» этой главы). В 1998 г. насильственные преступления, на протяжении предшествующих двух десятилетий, обнаруживавшие крутой рост, впервые за многие годы стали уменьшаться в числе. Среди ученых нет единого мнения относительно того, имело ли демонстрируемое статистикой сокращение числа преступлений место в действительности, и отражает ли оно реальное уменьшение их количества или же просто связано с проблемами регистрации правонарушений. Вполне возможно, что это объясняется ростом «темной цифры» незарегистрированных преступлений, поскольку люди предпочитают не сообщать в полицию об имущественных преступлениях из страха, например, что будут увеличены их страховые взносы. Тот факт, что в середине века происходил непрерывный рост уровня преступности, приводит к мысли о том, что спад преступности, о котором говорят в последние годы, является просто заблуждением.
Стратегия снижения преступности в обществе рисков
Несмотря на то что официальная статистика преступлений создает картину, не соответствующую действительности, если ее данные рассматривать вместе с данными обследований жертв преступлений, становится ясно, что уголовные преступления приобретают более важную роль в британском обществе. Более того, граждане осознают, что они подвергаются большему риску стать жертвой преступления, чем в прошлые времена. Жители районов внутренних городов имеют больше оснований беспокоиться об опасности преступлений, чем люди, живущие в других районах (см. табл. 8.3). В 1998 г. на основе материалов Британского обзора преступности впервые был создан «индекс риска», указывающий, какие части населения в наибольшей степени подвергаются риску стать жертвами определенных преступлений (см. рис. 8.2). Перед лицом огромного множества перемен и неопределенностей в окружающем мире мы все заняты непрерывным процессом управления рисками. Преступление — это один из наиболее очевидных рисков, с которыми сталкиваются люди в конце XX в. Однако управлением рисками занимаются не только отдельные люди, правительства также имеют теперь дело с обществами, по-видимому, более опасными и более неопределенными, чем когда-либо раньше. Одной из центральных задач социальной политики в современных государствах является контроль за преступлениями и правонарушениями. Но если прежде государства старались обеспечить своим гражданам безопасность, то теперь политика все больше нацеливается на «управление» опасностями.Таблица 8.3 Распределение преступлений по типам округов. Англия и Уэльс. 1998 г.
 Цифры показывают процент людей, ставших жертвой преступления один раз или более. Данные о преступлениях, связанных с автомобилями, представлены как процент от владельцев машин.
Источник: British Crime Survey. Home Office. From Social Trends. 30. 2000. P. 155. Crown copyright.
Цифры показывают процент людей, ставших жертвой преступления один раз или более. Данные о преступлениях, связанных с автомобилями, представлены как процент от владельцев машин.
Источник: British Crime Survey. Home Office. From Social Trends. 30. 2000. P. 155. Crown copyright.
 Рис. 8.2. Домовладельцы, подвергающиеся наибольшему риску квартирной кражи: в каждой категории указан процент домовладельцев, ставших жертвами преступлений один или более раз
Источник: British Crime Survey. 1998. From Sociology Review. 8.4. Apr. 1999.
Рис. 8.2. Домовладельцы, подвергающиеся наибольшему риску квартирной кражи: в каждой категории указан процент домовладельцев, ставших жертвами преступлений один или более раз
Источник: British Crime Survey. 1998. From Sociology Review. 8.4. Apr. 1999.
Реакция политиков на преступность
Приход к власти Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональда Рейгана в Соединенных Штатах двадцать лет назад привел в обеих странах к появлению мощной тенденции трактовать преступления с позиций «закона и порядка». Рост преступности и правонарушений был связан с моральной деградацией, упадком семьи и разрушением традиционных ценностей. Публичные дискуссии и многочисленные материалы в средствах массовой информации концентрировали внимание на том, что общество стоит перед угрозой кризиса насилия и беззакония. Девиантность изображалась как индивидуальная патология — совокупность разрушительных противоправных действий, сознательно выбранных и совершенных индивидуумом, лишенным самоконтроля и нравственных устоев. В ответ на заметную эскалацию беззакония и общего страха перед преступностью консервативные правительства начали усиливать деятельность правоохранительных органов. Были укреплены полицейские силы, расширено финансирование системы уголовного правосудия, приговоры к длительному тюремному заключению все больше признавались наиболее эффективным средством против преступности. Популярным подходом к «управлению» риском преступлений было предупреждение «ситуации» преступления — укрепление возможных мишеней преступления и система наблюдения. Такие приемы часто привлекали политиков, потому что их достаточно просто можно было ввести наряду с уже существующими полицейскими методами, а кроме того они приободряют граждан, создавая у них впечатление, что против преступников принимаются решительные меры. Однако поскольку подобные методы никак не затрагивали глубинных причин преступности, таких как социальное неравенство, безработица и нищета, самое большее, чего с помощью таких методов удалось добиться — это защитить от преступников определенные сегменты населения и переместить правонарушения в другие сферы. Рис. 8.3. Правонарушители в процентном отношении к населению, по половым и возрастным группам. Англия и Уэльс. 1997 г.
Источник: Home Office. From Social Trends. 29. 1999. P.158. Crown copyright.
Рис. 8.3. Правонарушители в процентном отношении к населению, по половым и возрастным группам. Англия и Уэльс. 1997 г.
Источник: Home Office. From Social Trends. 29. 1999. P.158. Crown copyright.
Одной из иллюстраций подобного развития событий можно считать физическое исключение некоторых категорий людей из общественных мест в попытке сократить преступность и осознаваемый риск преступления. В качестве реакции на чувство незащищенности у населения в целом публичные места в обществе, такие как библиотеки, парки и даже уличные перекрестки, все более превращаются в «мыльные пузыри безопасности». Меры по предотвращению рисков, как, например, полицейский мониторинг, команды частных охранников и системы наблюдения имеют целью защитить людей от возможных рисков. В местах массовой торговли, например, принимаемые меры безопасности становятся все более заметными как часть «договорной сделки» между бизнесом и покупателем. Чтобы привлечь и удержать покупателей, торговые фирмы должны обеспечить безопасность и комфорт своих клиентов. Подростки обычно исключаются из таких мест непропорционально, потому что считается, что они представляют большую угрозу для безопасности и, согласно статистике, более склонны к правонарушениям, чем взрослые (см. рис. 8.3). И получается, что создание «мест доверия» для потребителей все более сокращает общедоступные площади, открытые для подростков.
Эти проблемы обсуждаются также в подразделе «Преступность и социальное отчуждение» (глава 11, раздел «Социальное отчуждение»).
В связи с ростом преступности были также увеличены силы полиции. Когда уровень преступности растет, почти неизбежно население требует, чтобы «на улицах» было больше полицейских. Правительства, стараясь продемонстрировать свою решимость в борьбе с преступностью, обычно с готовностью идут на увеличение количественного состава и ресурсов полиции в попытке сдержать преступность. Широко распространено мнение,согласно которому действия полиции — это краеугольный камень в поддержании законности и порядка. Но какова же реально роль полиции в контроле за преступлениями? Отнюдь не очевидно, что увеличение числа полицейских обязательно приводит к снижению уровня преступности. В Соединенном Королевстве, например, официальная статистика уровня преступности и численности полицейских заставляет усомниться в наличии между этими факторами прямой связи. А это ставит перед нами несколько весьма трудных вопросов. Если увеличение сил полиции не предотвращает правонарушения, почему же тогда люди требуют, чтобы полицейские зримо присутствовали на улицах? Какую же роль играет полиция в нашем обществе?
Полиция в обществе рисков
Некоторые социологи и криминологи предполагают, что видимые действия полиции, такие как патрулирование улиц, оказывают на людей успокаивающее воздействие. Такие действия соответствуют представлению о том, что полиция активно занимается контролированием преступности, расследованием преступлений и поддержанием системы уголовного правосудия. Однако в недавно вышедшей книге «Полиция в обществе рисков» Ричард Эриксон и Кевин Хэггерти говорят о том, что следует по-новому оценить роль полиции в конце XX в. Хотя поддержание законности и порядка, взаимодействие с гражданами и предоставление услуг действительно является частью работы современной полиции, все это составляет только небольшую долю того, что полиция делает на самом деле. Функции полиции, утверждают авторы книги, заключаются сейчас не столько в том, чтобы контролировать преступность, сколько в том, чтобы выявлять и нейтрализовать риски. В значительной мере это означает: сообщать информацию о рисках другим общественным институтам, нуждающимся в такой информации (Ericson and Haggerty 1999). По мнению Эриксона и Хэггерти, полицейские — это в первую очередь и преимущественно «люди, работающие с информацией». Под этим они подразумевают, что подавляющая часть времени полицейских уходит на то, чтобы обрабатывать информацию, составлять доклады или передавать данные. «Простой» случай, связанный с автомобильной аварией в Онтарио (Канада), может послужить иллюстрацией этого утверждения. Полицейский был вызван на место автомобильной аварии, затронувшей две машины. Никто не погиб, но некоторые участники получили незначительные травмы, а один из водителей был пьян. Расследование инцидента заняло один час: пьяному водителю было предъявлено обвинение в неумелом управлении автомобилем, что привело к причинению телесных повреждений, а также в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Его водительские права автоматически были приостановлены на двенадцать часов. После этого рутинного расследования полицейский пишет шестнадцать различных рапортов, документируя происшествие, и тратит на это не менее трех часов. Именно в этом и проявляется роль полицейских как «брокеров» информации. • Отдел регистрации автомобилей провинции Онтарио требует информацию о месте, где произошло дорожно-транспортное происшествие, об автомашинах и людях, которые в нем участвовали. Эта информация необходима, чтобы определить «контур риска», используемый в мероприятиях по предотвращению ДТП, для управления движением на дорогах и для распределения финансовых ресурсов. • Автомобильной промышленности нужно знать об автомобилях, попавших в аварию, чтобы повысить стандарты безопасности, сообщить об этом обратно в органы власти и предоставить информацию о безопасности группам потребителей. • Страховые компании нуждаются в информации о дорожно-транспортном происшествии для того, чтобы определить ответственность и в данном случае назначить страховые премии. Им также требуется информация от полиции для создания собственных статистических контуров риска, чтобы определять размеры страховых выплат и компенсаций клиентам. • Государственная система здравоохранения требует подробности о полученных травмах и о том, как они были получены. Эта информация используется для составления статистических профилей и для планирования работы служб неотложной помощи в чрезвычайных обстоятельствах. • Судам по уголовным делам нужна информация от полиции как материал для судебного преследования и как доказательство того, что дело было должным образом расследовано и что были собраны все свидетельские показания. • Полицейское управление само требует отчета об инциденте как для внутреннего пользования, так и для общенациональной компьютерной базы данных. Приведенный пример показывает, что полиция является центральным узлом в сложном информационном кругообороте институтов, которые все занимаются проблемой управления рисками. Эриксон и Хэггерти утверждают, что с помощью новых форм технологии работа полиции все более связана с «картированием» и предсказанием рисков среди населения. Эриксон и Хэггерти высказывают предположение, что суть работы полиции в настоящее время прямо определяется информационными запросами других институтов, таких как, например, индустрия страхования. Полиция вынуждена собирать данные и передавать информацию таким образом, чтобы она была совместима с информационными потребностями других, посторонних организаций. Сейчас способ передачи информации в полиции определяется компьютеризированными системами и формами. Полиция теперь не пишет отчетов, повествующих об инцидентах, но вводит «обстоятельства» того или иного дела в стандартизированные формы, проверяя файлы и делая выбор среди подходящих «опций». Информация, включенная в такие форматы, используется для распределения по категориям людей и событий как часть работы по созданию профилей риска. Однако, по мнению Эриксона и Хэггерти, такой «краткосрочный» характер форматов сообщения оказывает воздействие на то, что полиция замечает и расследует, как полицейские понимают и трактуют инцидент и как они подходят к решению той или иной проблемы. Подобный упор на сбор информации и ее обработку может быть для полиции разочаровывающим и вызывающим фрустрацию. Для многих полицейских существует различие между «настоящей полицейской работой», такой как расследование преступлений, и «мартышкиным трудом», таким как составление рапортов и возня с бумагами. Бюрократические процедуры по составлению отчетов для многих полицейских — это «движение в одну сторону», они не понимают смысла в той обширной документации, которую от них требуют. По мнению Эриксона и Хэггерти, главной формой деятельности полиции в обществе рисков является активизация полицейских в общинах и групп по охране порядка на местах. В таких случаях полиция стимулирует местных жителей к активному участию в мониторинге их собственных рисков и в оказании содействия в управлении рисками. В свою очередь, эти группы могут вводить информацию о местных рисках в информационные сети благодаря своим связям с местной полицией, которая, подобно посреднику, передает информацию другим институтам.Работа полиции в общинах
Предотвращение преступлений, также как и уменьшение страха перед преступлениями, тесно связано с восстановлением крепких общин. Как можно было видеть из нашего обсуждения теории «разбитых окон» выше в настоящей главе, одним из наиболее значительных открытий в криминологии в последние годы было установление непосредственной связи между существованием разрухи в повседневной жизни людей и преступностью. В течение длительного времени внимание было сосредоточено на серьезных преступлениях — грабежах, изнасилованиях или разбойных нападениях. Однако мелкие преступления и незначительные формы нарушения общественного порядка обычно имеют кумулятивный характер. Когда в городах Европы и Америки жителей беспокойных районов просят рассказать о своих наиболее острых проблемах, они обычно называют брошенные автомобили, надписи на стенах, граффити, проституцию, молодежные банды и подобные явления. Опасения, вызванные указанными явлениями, заставляют людей действовать: если могут, они переезжают из подобных районов или ставят на двери крепкие замки, а на окна — железные решетки; кроме того, они перестают посещать общественные места. Хулиганские поступки, совершаемые безнаказанно, являются для граждан знаком того, что их регион небезопасен. Напуганные жители держатся подальше от таких улиц, избегают определенные районы, ограничивают объем своей обычной деятельности и круг общения. По мере того как жители сокращают свое физическое присутствие, уходят в себя, они также отказываются от выполнения долга взаимной поддержки по отношению к своим согражданам, тем самым отказываясь от функции общественного контроля, которая раньше помогала поддерживать гражданскую жизнь в данной общине. Что же следует делать, чтобы предотвратить подобное развитие событий? Идея, которая приобрела популярность в последние годы, заключается в том, что полиции нужно работать в тесном контакте с гражданами по повышению стандартов жизни в местной общине и нормализации поведения в общественных местах, используя при этом образование, убеждение и рекомендации, а не заключение под стражу. Работа полиции в общинах предполагает не только опору на самих жителей, но изменение подходов, характерных для полиции. Возрождение внимания в первую очередь к предупреждению преступлений, а не к насаждению правопорядка может идти одновременно с процессом сближения полиции с общиной. Изоляция полиции от тех, кому она, как предполагается, должна служить, часто приводит к появлению у полицейских ощущения, будто они находятся «в осажденной крепости», поскольку у них практически отсутствует регулярный контакт с обычными гражданами. Для того чтобы работа велась по-настоящему, сотрудничество между правительством и социальными органами, системой уголовного правосудия, местными ассоциациями и общинными организациями должно быть всеобъемлющим — в нем должны принимать участие все экономические и этнические группы общества (Kelling and Coles 1997). Правительство и бизнес могут действовать вместе, помогая устранить городскую разруху. Одной из моделей сотрудничества является создание округов, в которых бизнесмены будут помогать восстановлению порядка, и предоставление налоговых льгот корпорациям, участвующим в стратегическом планировании и вкладывающим инвестиции в соответствующих регионах. Чтобы подобные схемы оказались успешными, необходима длительная работа по воспитанию в обществе приверженности к социальным целям. Внимание к таким стратегиям отнюдь не означает отрицания связи между безработицей и бедностью, с одной стороны, и преступностью, с другой. Напротив, борьба против указанных социальных зол должна координироваться с работой по предупреждению преступлений, проводимой в общине. Эти меры могут в действительности прямо или косвенно способствовать расширению социальной справедливости. Там, где общественный порядок пришел в упадок вместе с социальными службами, другие возможности, как, скажем, возможность найти новую работу, также оказываются подорванными. Улучшение качества жизни в том или ином регионе может привести к его возрождению.Жертвы преступлений и преступники
Можно ли сказать, что определенные индивидуумы или группы более, чем другие, склонны совершать преступления или становиться жертвами преступлений? Криминологи отвечают на этот вопрос утвердительно — исследования и статистика преступлений показывают, что преступления и жертвы распределяются среди населения не случайно. Мужчины, например, совершают преступления чаще, чем женщины; молодежь вовлекается в преступления чаще, чем пожилые люди. Вероятность того, что тот или иной человек станет жертвой преступления, тесно связана с местом его проживания. В районах, страдающих в большей мере от материальных лишений, как правило, наблюдается более высокий уровень преступности. Люди, живущие в районах внутренних городов, подвергаются гораздо большему риску стать жертвой преступления, чем жители более благоустроенных пригородных районов. Существенную роль в том, что среди этнических меньшинств более высок процент жертв преступлений, играет то обстоятельство, что этнические меньшинства в непропорционально большом количестве сконцентрированы в районах внутренних городов.Дополнительный материал об отношении между этническими меньшинствами в Соединенном Королевстве и преступностью и системой уголовного правосудия см. в подразделе «Раса и преступность» (глава 9, раздел «Иммиграция в Соединенном Королевстве»).
Гендер и преступность
Так же как и в других областях социологии, в криминологических исследованиях женская половина населения традиционно игнорировалась. Феминисты совершенно справедливо критиковали криминологию за то, что эта дисциплина ориентировалась только на мужчин, а женщины как в теоретических рассуждениях, так и в эмпирических исследованиях были в основном «невидимы». Начиная с 1970-х гг. появилось много феминистических работ, которые привлекли внимание к тому, что нарушения закона женщинами происходят в иных обстоятельствах, чем преступления мужчин, и что на отношение системы уголовного правосудия к женщинам оказывают влияние некоторые гендерные предубеждения относительно надлежащей роли мужчин и женщин. Феминисты также обратили внимание на то, что насилие против женщин преобладает как в семье, так и в общественных местах. Уровень мужской и женской преступности Статистика, посвященная гендеру и преступности, поражает. Например, из всех признанных виновными или задержанных за уголовное преступление в Англии и Уэльсе в 1997 г. подавляющее большинство — 83 % — составляли мужчины. Не только в Великобритании, но и во всех индустриальных странах существует огромный дисбаланс в числе содержащихся в тюрьмах мужчин и женщин. Женщины составляют только 3 % заключенных британских тюрем. Существуют также различия в типах преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами. Преступления, совершаемые женщинами, редко связаны с насилием, и они почти все являются незначительными. Типичные женские преступления — это мелкие кражи, подобные кражам из магазинов, или нарушения общественного порядка, подобные появлению в публичных местах в нетрезвом виде или проституции (Flowers 1987). Разумеется, вполне вероятно, что в действительности различия в уровне преступности по признаку пола не столь велики, как это следует из официальной статистики. Такое предположение было высказано в 1950-х гг. Отто Поллаком, утверждавшим, что о некоторых преступлениях, совершенных женщинами, обычно не сообщается в полицию. Он считал, что поскольку женщины находятся преимущественно дома, это дает им возможность совершать преступления в домашней и частной сфере. По мнению Поллака, женщины по природе лживы и в высшей степени ловко скрывают свои преступления. Это якобы основано на биологии, поскольку женщины научились скрывать от мужчин испытываемую ими боль и дискомфорт при менструациях и способны также симулировать интерес во время полового акта так, как не умеют мужчины! Поллак также утверждал, что с женщинами-преступницами обращаются более мягко, потому что полицейские-мужчины обычно придерживаются «рыцарского» отношения к ним (Pollak 1950). Представление о женщинах как о существах хитрых и лживых, созданное Поллаком, строилось на беспочвенных стереотипах, а его заявление о том, что система криминального правосудия обращается с женщинами более снисходительно, чем с мужчинами, вызвало много споров и проверок. Тезис «рыцарского отношения» был истолкован двояко. Во-первых, возможно, что полицейские и другие официальные лица считают правонарушителей-женщин менее опасными, чем мужчин, и прощают им действия, за которые мужчина был бы арестован. Во-вторых, в качестве наказания за уголовное преступление женщины обычно реже приговариваются к тюремному заключению, чем мужчины. Был предпринят ряд эмпирических исследований для проверки тезиса о рыцарском отношении, однако результаты их остаются неубедительными. Одна из главных трудностей заключается в том, чтобы оценить относительное влияние гендера по сравнению с другими факторами, такими, как возраст, класс и раса. Например, представляется, что к пожилым женщинам-преступницам обычно относятся менее сурово, чем к их сверстникам-мужчинам. Другие исследования показали, что полиция обращается с черными женщинами хуже, чем с белыми женщинами. Другим направлением исследований, предпринятых феминистами, было изучение того, как социальное понимание «женственности» влияет на судьбу женщин в системе криминального правосудия. Так, Фрэнсес Хейденсон утверждает, что с женщинами обращаются более сурово в тех случаях, когда они якобы отклоняются от норм женской сексуальности. Например, молодых женщин, замеченных в сексуальной распущенности, чаще подвергают аресту, чем молодых мужчин. В подобных случаях женщин считают «дважды виновными» — ведь они не только нарушили закон, но они также попрали «достойное» поведение женщин. В этих случаях женщин судят не столько за конкретное преступление, которое они совершили, сколько за выбор «девиантного» образа жизни (Heidenson 1985). Хейденсон и другие указали на существование в системе уголовного правосудия двойных стандартов: если агрессия и насилие у мужчин рассматриваются как естественное явление, объяснение для женщин, нарушивших закон, пытаются искать в «психологической» неуравновешенности. Стремясь сделать женскую преступность более «видимой», феминисты осуществили серию детальных исследований женщин, совершивших преступления, — начиная от молодежных преступных группировок, состоящих из девушек, кончая женщинами-террористками и другими женщинами, заключенными в тюрьмах. Такие исследования показали, что насилие характерно не только для мужских преступлений. Хотя женщины гораздо реже, чем мужчины, склонны участвовать в преступлениях с применением насилия, им не всегда удается удержаться от участия в насильственных действиях. Почему же тогда уровень преступности среди женщин настолько ниже, чем среди мужчин? Существуют некоторые свидетельства того, что нарушившие закон женщины довольно часто избегают судебного разбирательства, поскольку им удается убедить полицию или другие властные структуры рассматривать их действия в особом свете. Они взывают к тому, что получило название «гендерный контакт», к молчаливому соглашению между мужчинами и женщинами, по которому быть женщиной — значит быть сумасбродной и импульсивной, с одной стороны, и нуждающейся в защите, с другой (Worrall 1990). Однако неодинаковое отношение органов правопорядка и правосудия к мужчинам и женщинам вряд ли может объяснить различие между уровнем мужской и женской преступности. Причины здесь почти наверняка те же, что объясняют гендерные различия в других сферах. Существуют, конечно, определенные специфические «женские преступления» — в первую очередь проституция, — за которые женщин привлекают к ответственности, тогда как их клиенты-мужчины наказания избегают. «Мужские преступления» остаются «мужскими» из-за различий в социализации и потому что деятельность и интересы мужчин все еще лежат вне дома больше, чем деятельность и интересы большинства женщин. Как мы видели, анализируя теорию Поллака, гендерные различия в области преступности зачастую пытались объяснить якобы врожденными биологическими или психологическими различиями — исходя из того, что женщины менее сильны физически, более пассивны и заняты воспитанием детей. В наши дни женские качества рассматриваются как обусловленные в основном социумом, так же как и черты «мужественности». При социализации многие женщины приучаются ценить иные ценности в социальной жизни, нежели те, которые ценят мужчины (беспокоиться о других, поддерживать личные связи). Не менее важно, что под влиянием идеологии и других факторов, таких как идеал «порядочной девушки», поведение женщин часто сдерживается в определенных рамках и контролируется так, как не регламентируется деятельность мужчин. С конца XIX в. криминологи предсказывали, что уравнивание женщин в правах с мужчинами сократит или вообще устранит различия в масштабах преступности мужчин и женщин, однако до сих пор в области преступлений различия по признаку пола сохраняются. И до сих пор невозможно сказать с уверенностью, исчезнут ли когда-либо расхождения в уровне преступности среди мужчин и среди женщин. Преступность и «кризис мужественности» Высокий уровень преступности, характерный для более бедных районов крупных городов, ассоциируется в первую очередь с деятельностью молодых людей. Почему же так много молодежи в этих районах совершают преступления? Некоторые ответы мы уже упоминали. Юноши нередко с раннего возраста являются членами банд, в субкультуре которых известные формы преступлений представляют собой образ жизни. И поскольку власти назвали членов банды преступниками и этот ярлык за ними закрепился, они постоянно занимаются криминальной деятельностью. Несмотря на то что в настоящее время существуют и женские банды, такие субкультуры являются преимущественно мужскими и вдохновляются такими мужскими ценностями, как стремление к приключениям и опасностям и чувство товарищества. В главе 5 («Гендер и сексуальные отношения») обсуждалась теория о том, что современные общества являются свидетелями «кризиса мужественности». Если некогда молодые люди могли с уверенностью смотреть в будущее и надеяться на успешную карьеру в течение жизни и на то, что они будут стабильно выполнять роль кормильцев семьи, то сейчас для многих мужчин такая роль все более превращается в ускользающую мечту. Изменения на рынке труда привели к тому, что безработица и неуверенность в завтрашнем дне стали для них реальной угрозой, в то время как женщины приобретают все большую финансовую, профессиональную и другую самостоятельность. Мысли Коннелла о «мужественности гегемона» (см. раздел «Черты женственности, мужественности и гендерные отношения» в главе 5) были использованы многими социологами и криминалистами для объяснения, почему стремление к насилию и агрессии можно считать приемлемой стороной индивидуальности мужчины. Уровень преступности среди молодых людей тесно связан с безработицей: среди тех, кто совершил имущественные преступления и преступления с применением насилия, непропорционально много безработных молодых людей в возрасте 16–24 лет. Анализ, проведенный по отдельным регионам, подтверждает указанную связь. Основные места, где сосредоточены чернокожие рабочие в Великобритании — Мерсисайд, Большой Манчестер, Западный Мидлендс, Южный Уэльс и Большой Лондон — являются также и средоточием преступлений чернокожих людей (Wells 1995). Некоторые авторы предположили, что высокий уровень безработицы среди мужчин приводит к тому, что возникает такая новая категория, как профессиональные преступники. Опубликованный в 1996 г. министерством внутренних дел доклад содержит материалы исследований по этому вопросу. Исследование, описанное в докладе, представляет собой интервью с 2 500 молодых людей обоего пола в возрасте между 14 и 25 годами. Исследователи не полагались на официальную статистику, не просили интервьюируемых сообщить конфиденциально, совершали ли они какие-либо преступления. Результаты опроса показали, что к тому времени, когда респонденты достигли возраста 25 лет, не менее 30 % из них были заняты той или иной формой криминальной деятельности, включая нелегальное употребление наркотиков или нарушение правил дорожного движения. В прошлом криминальная деятельность молодых мужчин обычно резко обрывалась вскоре после того как им исполнялось 20 лет, однако данное исследование продемонстрировало, что сейчас дело обстоит иначе. Так, доля молодых людей 22–25 лет, совершивших кражу собственности, оказалась выше, чем в возрастной группе 18–21 года. Такие факты указывают на то, что молодые люди больше не «перерастают тягу к преступлению», как это было раньше. В 1996 г. 70 % мужчин, осужденных за уголовные преступления, уже были в прошлом судимы один или более раз. В отличие от этого только меньше половины женщин повторно становятся на путь преступления (HMSO 1999). Такие данные указывают, что отсутствие перспективы стабильной работы мешает значительной части молодого поколения стать ответственными взрослыми людьми. Преступления против женщин Существуют определенные категории преступлений, при которых мужчины в подавляющем большинстве случаев являются агрессорами, а женщины — жертвами. Преступления, в которых мужчины используют против женщин свое превосходство в социальном или физическом плане, — это домашнее насилие, сексуальное домогательство, сексуальное посягательство и изнасилование. Хотя каждое из этих преступлений может применяться и женщинами против мужчин, они все-таки остаются почти исключительно преступлениями, направленными против женщин. Считается, что четвертая часть женщин в какой-то момент их жизни были жертвами насилия, но такие преступления прямо или косвенно представляют угрозу для всех женщин. Многие годы система уголовного правосудия игнорировала преступления против женщин: жертвам приходилось проявлять огромное упорство, чтобы добиться помощи закона против преступника. Даже в наши дни рассмотрение в судебном порядке преступлений против женщин остается далеко не простым делом. Тем не менее феминистической криминологии удалось многое сделать, чтобы привлечь внимание к преступлениям против женщин и сделать их предметом общего обсуждения на дискуссиях по поводу преступлений в целом. В этом разделе мы рассмотрим преступление — изнасилование, оставив обсуждение проблем домашнего насилия и сексуальных домогательств для других глав (см. главы 7 «Семья» и 13 «Труд и экономическая жизнь»). Масштабы такого преступления, как изнасилование, очень трудно определить сколько-нибудь точно. Только небольшая часть подобных преступлений становится известна полиции и находит отражение в статистике. Ежегодно в полицию в среднем сообщается о 6 000 случаев изнасилования и о 17 300 случаев непристойных приставаний. Однако в исследовании, опубликованном министерством внутренних дел в феврале 2000 г., указывается, что, согласно их подсчетам, истинное число изнасилований и нападений сексуального характера в Великобритании в действительности колеблется между 118 000 и 295 000 ежегодно (Guardian. 18 Febr. 2000). В течение 1990-х гг. наблюдался рост числа инцидентов, о которых сообщается в полицию, когда насильник был известен жертве. 43 % сексуальных преступлений совершалось родственниками, друзьями, бывшими партнерами или новыми знакомыми — так называемые изнасилования «знакомыми» или теми, с кем идут на «свидание». Подсчитано, что половина всех случаев изнасилования «знакомыми» совершается людьми, с которыми жертвы были знакомы менее суток. Хотя общее число изнасилований, совершенных «знакомыми», выросло, число доведенных до сведения полиции изнасилований, совершенных незнакомыми людьми, сократилось и составляет 12 % всех нападений. До 1991 г. в Великобритании насилие в браке не признавалось изнасилованием. В своем судебном постановлении, принятом в 1736 г., сэр Мэтью Хэйл объявил, что муж «не может быть признан виновным в изнасиловании собственной законной жены, потому что по их взаимному брачному согласию и контракту жена отдала себя в этом качестве своему супругу и не имеет права расторгнуть контракт» (цит. по: Hall R. et al. 1984, 20). Это постановление считалось законом в Англии и Уэльсе вплоть до последнего десятилетия XX в., когда палата лордов вынесла постановление, согласно которому в современную эпоху мнение о том, что муж имеет право силой принуждать жену к сожительству, является неприемлемым. Существует много причин, по которым женщина предпочитает не сообщать о сексуальном насилии в полицию. Большинство женщин, подвергшихся насилию, либо хотят как можно скорее забыть об инциденте, либо не хотят принимать участие в достаточно унизительном процессе медицинского освидетельствования, дачи показаний в полиции и перекрестного допроса в суде. Судебный процесс иногда длится очень долго и может быть устрашающим. Судебное разбирательство является публичным, и жертве приходится сталкиваться лицом к лицу с обвиняемым. Необходимо представить доказательство совершения полового акта, установить личность насильника и доказать, что половая близость имела место без согласия женщины. У женщины может появиться ощущение, что это ее судят, особенно когда начинают публично анализировать ее сексуальную жизнь, как это зачастую бывает. В последние несколько лет под давлением женских организаций произошло некоторое изменение в отношении юристов и общественности к проблеме изнасилования. Женские организации настойчиво утверждают, что изнасилование следует рассматривать не как сексуальное преступление, но как разновидность преступления, совершенного с применением насилия. Это не просто физическое насилие, но преступление против неприкосновенности и достоинства личности. Изнасилование явно предполагает ассоциирование мужественности с властью, господством и жестокостью. В большинстве случаев оно не является результатом непреодолимого сексуального желания, но следствием связи между сексуальностью и ощущением власти и превосходства. Сам половой акт менее важен, чем унижение женщины (Estrich 1987). Кампания, проведенная женскими группами, дала реальные плоды, и в наши дни изнасилование обычно законодательно признается частным случаем преступления против личности с применением насилия. Можно сказать, что в каком-то смысле все женщины так или иначе являются жертвами изнасилования. Женщины, никогда не подвергавшиеся насилию, испытывают такую же тревогу, как те, кто был изнасилован. Они могут бояться выходить без провожатых по вечерам даже на многолюдные улицы, и испытывают почти такой же страх, оставаясь одни в доме или квартире. Подчеркивая близкую связь между изнасилованием и обычной мужской сексуальностью, Сьюзен Браунмиллер утверждает, что изнасилование — это часть системы запугивания со стороны мужчин, которая держит в страхе всех женщин. Тех, кто не подвергся насилию, терзают страхи, вызванные возможностью насилия и необходимостью быть гораздо более осторожными в повседневной жизни, чем приходится быть мужчинам (Brownmiller 1975).Преступления против гомосексуалистов
Феминисты указывают, что понимание насилия существенно различается у представителей разного пола и что на него оказывают влияние исходящие из «здравого смысла» представления о риске и ответственности. Поскольку обычно считается, что женщины менее способны защитить себя против насильственного нападения, здравый смысл якобы подсказывает, что им надо изменить свое поведение, чтобы уменьшить риск стать жертвой насилия. Например, женщинам не только не следует ходить без провожатых по небезопасным районам и по вечерам, но им следует быть осторожными и не одеваться вызывающе и не вести себя так, чтобы их поведение могло быть неправильно истолковано. Женщин, которые нарушают указанные правила, можно обвинить в том, что они «сами напрашиваются на неприятность». На суде их поведение может быть использовано как обстоятельство, смягчающее вину насильника (Richardson and May 1999; Dobash and Dobash 1992). Было высказано мнение, согласно которому аналогичная логика «здравого смысла» применима и в случае насильственных актов против гомосексуалистов и лесбиянок. Обследование жертв преступлений показывает, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией часто подвергаются насилию и преследованиям. Общенациональное обследование 4 000 гомосексуалистов и лесбиянок засвидетельствовало, что за предшествующие пять лет одна третья часть гомосексуалистов и одна четвертая часть лесбиянок были жертвами по меньшей мере одного насильственного нападения. Одна треть подверглась в той или иной форме преследованиям, включая угрозы и нападения. А подавляющее большинство из них — 73 % — подверглись на публике словесным оскорблениям (Mason and Palmer 1996; цит. по: Richardson and May 1999). Диана Ричардсон и Хэйзел Мэй утверждают, что поскольку люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией по-прежнему являются презираемыми и отверженными во многих обществах, наблюдается тенденция считать их «заслуживающими» преступления, а не его невинными жертвами. Гомосексуальные отношения все еще рассматриваются как явление частной жизни людей, тогда как в публичной жизни господствуют гетеросексуальные отношения, признаваемые нормой. По этой причине, согласно Ричардсон и Мэй, лесбиянки и геи, нарушающие это соглашение о приватности — публичности и проявляющие свои гомосексуальные отношения на публике, часто порицаются за то, что они напрашиваются на преступление. Существует мнение, что проявление гомосексуальности в публичной сфере представляет собой якобы форму провокации. Такое мнение образует основу довода о законной защите, вызванной «паническим страхом перед гомосексуалистами», который может быть использован в судебных системах Великобритании и Америки, чтобы заменить обвинение в убийстве обвинением в непредумышленном лишении жизни. Представший перед судом убийца может заявить, что нежелательное гомосексуальное предложение заставило его потерять над собой контроль и напасть на жертву. Такой метод защиты был недавно успешно применен молодым человеком в американском штате Вайоминг в судебном процессе по делу об убийстве студента университета Мэтью Шепарда. Обвиняемый и два других человека зверски избили Шепарда около бара, а потом отвезли его в лес и, привязав к дереву, оставили его в лесу, где он и умер пять дней спустя. В подобных случаях насилие в отношении гомосексуалистов, вызванное гомофобией, воспринимается как извиняющая реакция, а неотъемлемая «индивидуальность» или право на жизнь жертвы не принимается в расчет или отрицается. Преступления, подобные убийству Мэтью Шепарда, побудили многие социальные группы выступить с призывом принять законы против «преступлений на почве ненависти» и защитить людей, относящихся к группам, которые по-прежнему остаются в обществе униженными.Молодежь и преступность
Наибольший страх у людей вызывают «уличные преступления» (такие как воровство, грабежи, разбойные нападения и изнасилования), которые в основном рассматриваются как характерные для молодых людей из рабочего класса. При освещении в средствах массовой информации роста преступности внимание часто фокусируется на «моральном упадке» в среде молодых людей, и такие явления как вандализм, прогуливание уроков и употребление наркотиков изображаются как иллюстрация «вседозволенности», все более распространяющейся в обществе. По мнению ряда социологов, попытки связать молодежь с криминальной деятельностью отнюдь не являются чем-то новым. Молодежь часто рассматривается как показатель здоровья и благополучия самого общества. Как мы видели выше (рис. 8.3), официальная статистика преступлений действительно свидетельствует о более высоком уровне правонарушений среди молодых людей. Две пятых всех правонарушителей, получивших предупреждение или осужденных за уголовные преступления в 1997 г., относились к возрастной группе до 21 года. И для мужчин, и для женщин больше всего преступлений совершается в возрасте 18 лет (HMSO 1999). Вместе с тем, как заметил Джон Манси, к высказываниям о связи молодежи с преступностью следует относиться с известной осторожностью. По его мнению, «моральная паника» по поводу юношеской преступности, вполне возможно, не отражает сколько-нибудь точно социальную действительность. Изолированный пример преступления, совершенного молодым человеком, может символически трансформироваться в полный «кризис детства», требующий жесткой реакции в духе политики «закона и порядка» (Muncie 1999). Широко известное убийство двухлетнего Джеймса Балджера двумя десятилетними подростками является примером того, как моральное возмущение может отвлечь внимание общественности от более широких социальных проблем. В данном случае замкнутая цепь видеокамер в торговом центре зафиксировала образ старших мальчиков, которые вели за руку малыша Балджера, и этот образ запечатлелся в сознании людей. По мнению Манси, это жестокое убийство явилось определенной вехой в том, как стали изображаться молодежные преступления политиками и средствами массовой информации. Даже детей стали представлять как потенциальную страшную угрозу. Десятилетние мальчики были заклеймлены как «демоны», «чудовища» и «звери», и гораздо меньше внимания было уделено личным историям малолетних преступников или тому факту, что, несмотря на ранние проявления склонности к жестокости и агрессии у одного из мальчиков, никаких мер к нему не было принято (Muncie 1999). Сходным образом следует проявлять осторожность относительно распространенного мнения, будто бы большая часть молодежных преступлений совершается в связи с наркотиками. Так, Манси заметил, что согласно общепринятому представлению грабежи, например, совершаются молодыми людьми, чтобы добыть деньги для покупки наркотиков. Исследования последнего времени показывают, что употребление наркотиков и алкоголя в среде молодежи относительно «нормализовалось». Обследование почти 7 000 подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружило, что более 94 % из них употребляют алкоголь, примерно одна треть за предшествовавшие обследованию тридцать дней выкурила хотя бы одну сигарету и 42 % хотя бы однажды попробовали запрещенные наркотики (Miller and Plant 1996). Тенденция в употреблении наркотиков изменилась: сдвиг от «тяжелых» наркотиков, таких как героин, к сочетанию субстанций, подобных амфетаминам, алкоголю и экстази. В особенности экстази стал наркотиком, который символизирует определенный образ жизни, ассоциируемый с рейвом и субкультурой клубов, а не с дорогостоящими наркотическими пристрастиями. По утверждению Манси, «война с наркотиками» приводит к криминализации больших групп молодежи, которые обычно в целом законопослушны (Muncie 1999). Изучение молодежной преступности в большинстве случаев сопряжено с трудностями. Дело в том, что преступление предполагает нарушение закона, юношеская же преступность часто ассоциируется с действиями, которые, строго говоря, преступлениями не являются. Антиобщественное поведение, субкультуры и неконформность молодых людей можно рассматривать как правонарушение, но в действительности они не представляют собой криминального поведения.Преступления «белых воротничков»
Хотя существует тенденция ассоциировать преступления с молодыми людьми, особенно с молодыми людьми мужского пола, представляющими низшие классы, участие в криминальной деятельности отнюдь не ограничивается этим слоем населения. Многие богатые и могущественные люди совершают преступления, последствия которых могут быть гораздо более значительными, чем те мелкие преступления, которые в большинстве случаев совершают бедные. Термин преступления «белых воротничков» был впервые введен Эдвином Сазерлендом для обозначения преступлений, совершенных представителями более состоятельных слоев общества. Термин охватывает многие типы криминальной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов, нелегальные торговые сделки, махинации с ценными бумагами и земельными участками, растраты, изготовление или продажу опасных для жизни продуктов, а также прямые хищения. Распространенность подобных преступлений определить еще труднее, чем в случае других типов преступлений: большинство форм преступлений «белых воротничков» вообще не находит отражения в официальной статистике. Можно разграничить преступления «белых воротничков» и преступления, совершаемые людьми, наделенными властью. Преступления «белых воротничков», как правило, представляют собой использование положения представителя среднего класса или специалиста для занятия противозаконной деятельностью. Преступления лиц, наделенных властью, предполагают использование власти, которую дает служебное положение, в преступных целях, как, например, получение официальным лицом взятки за поддержку определенной политики. Хотя власти относятся к таким преступлениям гораздо более терпимо, чем к преступлениям менее привилегированных людей, цена преступлений «белых воротничков» огромна. Исследованием преступлений «белых воротничков» больше занимались в Соединенных Штатах, чем в Великобритании. В Америке было подсчитано, что суммы денег, вовлеченных в преступления «белых воротничков», такие как уклонение от уплаты налогов, махинации в сфере страхования, мошенничество, связанное с недвижимостью и ремонтом автомобилей, в сорок раз превышают суммы, фигурирующие при «обычных преступлениях» против собственности (грабежах, кражах со взломом, карманных кражах, изготовлении фальшивых денег и угонах автомобилей) (President’s Comission on Organised Crime 1986). Корпоративные преступления Некоторые криминологи выделяют в особый тип корпоративную преступность — разновидности правонарушений, совершаемых в обществе крупными корпорациями. Загрязнение окружающей среды, использование фальшивых этикеток на товарах и нарушение правил, охраняющих здоровье и безопасность потребителей, затрагивают гораздо большее количество людей, чем мелкие преступления. Растущая власть и могущество крупных корпораций и их все большее распространение в мире означают, что они оказывают воздействие на нашу жизнь с разных сторон. Корпорации участвуют в производстве автомобилей, на которых мы ездим, и продуктов питания, которые мы потребляем. Они также оказывают огромное влияние на окружающую природу и финансовые рынки, т. е. на стороны жизни, затрагивающие всех нас. Гэри Слэппер и Стив Томз проанализировали как количественные, так и качественные исследования корпоративной преступности и пришли к выводу, что значительное число корпораций не выполняет предписаний закона, относящихся к ним (Slapper and Tombs 1999). Как они утверждают, корпоративные преступления не ограничены несколькими «паршивыми овцами», но являются широко распространенными и всепроникающими. В исследованиях было выделено шесть типов нарушений закона, связанных с деятельностью крупныхкорпораций: административные (нарушения в ведении документации, несоблюдение правил); природоохранные (загрязнение окружающей среды, нарушение разрешения на деятельность); финансовые (налоговые нарушения, незаконные выплаты); трудовые (нарушения, связанные с условиями труда и практикой найма на работу); производственные (нарушения, связанные с безопасностью производимых товаров, с товарными знаками), некорректные формы профессиональной деятельности (нарушение законов конкуренции, лживая реклама). При корпоративных преступлениях установить потерпевших отнюдь не просто. Иногда жертвы «очевидны», как в случае катастроф для окружающей среды, подобных выбросу вредных химических веществ на химической фабрике в Бхопале (Индия), или опасности для здоровья женщин, возникающей при имплантации силиконовой груди. В последние годы люди, пострадавшие в железнодорожных катастрофах, и родственники погибших призвали привлечь к суду руководителей компаний, отвечающих за состояние железных дорог и поездов, если будет установлено, что компании проявили недобросовестность. Однако очень часто жертвы корпоративных преступлений не считают себя таковыми. Причина заключается в следующем. При «обычных» преступлениях контакт между жертвой и преступником является достаточно тесным — трудно, скажем, не заметить, что тебя на улице ограбили! В случае же корпоративных преступлений, при больших расстояниях во времени и пространстве, разделяющих преступление и жертву, жертвы могут не осознавать, что являются пострадавшими, или не знают, где искать возмещение ущерба, причиненного преступлением. Последствия корпоративной преступности зачастую ощущаются разными слоями общества неодинаково. Так, люди, находящиеся в неблагоприятных условиях из-за других типов социально-экономического неравенства, обычно страдают в наибольшей степени. Например, риски, связанные с безопасностью и охраной здоровья на рабочем месте, обычно сконцентрированы главным образом в низкооплачиваемых профессиях. Многие из гигиенических и фармацевтических товаров воздействуют больше на женщин, чем на мужчин, как обстоит дело с противозачаточными средствами или средствами для лечения от бесплодия, которые имеют вредный побочный эффект (Slapper and Tombs 1999). Представляющие угрозу для жизни аспекты корпоративной преступности менее очевидны, чем в случаях убийств или разбойных нападений, тем не менее они столь же реальны, и иногда они могут быть гораздо более серьезными по своим последствиям. Например, нарушение предписаний, связанных с производством новых лекарств, с безопасностью на рабочих местах или с загрязнением окружающей среды может причинить вред здоровью или даже принести смерть большому количеству людей. Число смертей от несчастного случая на работе значительно превосходит число убийств, хотя точные цифры о несчастных случаях на работе получить трудно. Разумеется, нельзя утверждать, что все или даже большинство случаев смерти или увечий, полученных на рабочем месте, являются результатом пренебрежения со стороны предпринимателей правилами безопасности труда, за которые они несут ответственность перед законом. Тем не менее есть некоторые основания предполагать, что причиной многих несчастных случаев является действительно пренебрежение со стороны предпринимателей или управляющих обязательной по закону техникой безопасности.────────────────────────────┐ ■ Распространение наркотиков Насколько легко можно купить марихуану в школе или колледже? Был ли когда-либо хоть один фестиваль поп-музыки, свободный от наркотиков? Как это ни прискорбно, большинство молодых людей в Великобритании имеют сравнительно легкий доступ к нелегальным наркотикам. От каких факторов зависит доступность нелегальных наркотиков в вашей общине? Важен, разумеется, уровень бдительности полиции, с одной стороны, и величина спроса на местах, с другой. Однако не менее важным является наличие сети торговцев наркотиками, способной доставить наркотики из стран, где их выращивают, в ваш родной город. Условия, при которых эти сети имеют возможность процветать, сложились частично благодаря глобализации. Хотя выращивать марихуану можно даже на заднем дворе у себя дома, почти все плантации коки и опиумного мака находятся в странах третьего мира. Каждый год миллиардные суммы тратятся на помощь странам третьего мира в их попытках выкорчевать эти плантации, но, несмотря на столь массивные траты, практически нет никаких свидетельств того, что усилия по уничтожению плантаций и запрету на выращивание наркосодержащих растений сколько-нибудь существенно уменьшили поставку нелегальных наркотиков в Великобританию и другие европейские страны. Почему же все указанные усилия пропали даром? Один из ответов заключается в том, что просто слишком силен мотив выгоды. Фермеры в Боливии или Перу, с трудом сводящие концы с концами, чтобы выжить, члены наркокартелей в Колумбии и мелкие наркодилеры на улицах наших городов и в наших клубах — все получают значительное денежное вознаграждение за свою противозаконную деятельность. И такое вознаграждение создает мощный стимул для изобретения способов противостояния антинаркотическим усилиям, даже при наличии риска быть пойманным. Еще один ответ — ответ, который в последнее время обсуждался на саммите лидеров восьми главных индустриальных держав, — состоит в том, что торговцы наркотиками сумели воспользоваться глобализацией. Во-первых, стремясь избежать столкновения с властями, они использовали все коммуникационные технологии, которые предоставил в их распоряжение глобальный век. Как выразился один из участников дискуссии, торговцы наркотиками «сейчас применяют изощренную технологию, например, перехват сигналов, чтобы ускользнуть от радара и избежать мониторинга... [и] они имеют возможность использовать факсы, компьютеры и сотовые телефоны для координации своих действий и для того, чтобы их операции проходили гладко». Во-вторых, глобализация финансового сектора помогла создать инфраструктуру, в которой большие суммы денег могут передаваться по всему миру в считанные секунды с помощью средств электроники, что значительно облегчает «отмывание» денег, полученных от торговли наркотиками (придавая им вид денег, полученных от занятия законным бизнесом). В-третьих, произошедшие в последние годы изменения в политике правительств, направленные на то, чтобы сделать более свободным поток людей и законных товаров через границы между государствами, привели к расширению возможностей для контрабанды. В то же время глобализация может создать новые возможности и для правительств в их совместной борьбе против торговли наркотиками. На деле мировые лидеры недавно призвали к усилению международного сотрудничества в наведении порядка в этой области, подчеркивая необходимость обмена информацией и объединенных усилий по выполнению законов. ────────────────────────────┘
Организованная преступность
Организованная преступность — это формы деятельности, которые имеют многие характеристики, присущие обычному бизнесу, но являются противозаконными. Организованная преступность охватывает контрабанду, незаконный игровой бизнес, торговлю наркотиками, проституцию, крупные хищения, рэкет и т. п. занятия. Она часто прибегает к насилию или к угрозам насилия при осуществлении своих операций. Хотя организованная преступность развивалась традиционно в отдельных странах своеобразными путями в зависимости от конкретных культур, она становится сейчас все более интернациональной по своим масштабам. Влияние организованной преступности ощущается в настоящее время во многих странах по всему миру, но исторически она имела особенно большую власть в некоторых странах. В Америке организованная преступность — это огромный бизнес, сравнимый с любой из самых крупных сфер экономического предпринимательства, такой, например, как автомобильная промышленность. Общенациональные и местные преступные организации предлагают запрещенные законом товары и услуги массовому потребителю. Подпольные тотализаторы на скачках, в лотереях и во время различных спортивных соревнований являются крупнейшим источником дохода, созданным организованной преступностью в Соединенных Штатах. Вероятно, организованная преступность приобрела столь важное значение в американском обществе благодаря тому, что в самом начале была связана и частично строилась по образцу деятельности промышленных «пиратских баронов» XIX в. Многие из первых промышленников составили свои состояния, эксплуатируя труд иммигрантов и как правило нарушая предписания закона относительно условий труда и используя методы коррупции в сочетании с насилием для создания своих промышленных империй. Хотя сколько-нибудь систематическая информация об организованной преступности в Соединенном Королевстве практически отсутствует, известно, что в ряде районов Лондона и в других крупных городах существует разветвленная сеть криминальных организаций. У некоторых из них есть связи в других странах, в частности Лондон является центром международных криминальных операций, базирующихся в Соединенных Штатах или где-то еще. «Триады» (китайские гангстеры, ведущие свое происхождение из Гонконга и Юго-Восточной Азии) и «Ярдиз» (наркодилеры, связанные с Карибами) — две крупнейших криминальных сети, другие криминальные группировки, представляющие организованную преступность Восточной Европы, Южной Америки и Западной Африки, занимаются отмыванием грязных денег, торговлей наркотиками и различными махинациями. Организованная преступность в Великобритании представляет собой сейчас более сложное явление, чем это было несколько лет назад. Единой общенациональной организации, которая связала бы между собой различные преступные группировки, по-видимому, не существует, вместе с тем деятельность организованной преступности стала гораздо более изощренной, чем когда-либо раньше. Например, некоторые из более крупных криминальных организаций находят способы отмывать деньги через большие клиринговые банки, несмотря на все меры, принимаемые, чтобы воспрепятствовать этому, и используют потом «чистые» деньги, инвестируя их в легальный бизнес. Полиция полагает, что ежегодно через банки Соединенного Королевства проходит от 2,5 до 4 млрд фунтов стерлингов, имеющих криминальное происхождение.Меняющийся облик организованной преступности
В книге «Конец тысячелетия» Мануэль Кастеллс пишет, что деятельность организованных преступных групп приобретает все более интернациональный размах. По его словам, координация криминальной деятельности в разных странах с помощью новых информационных технологий становится главной чертой новой глобальной экономики. Занятые различными видами деятельности, начиная от торговли наркотиками и кончая изготовлением фальшивых денег, нелегальным ввозом иммигрантов и человеческих органов, организованные преступные группировки действуют в виде гибких международных сетей и не ограничиваются пределами собственных территорий (Castells 1998). По мнению Кастеллса, криминальные группировки заключают между собой стратегические альянсы. Международная наркоторговля, торговля оружием и ядерными материалами, а также отмывание грязных денег — все это осуществляется с помощью связей между разными странами и разными преступными группами. Криминальные организации обычно создают базу для своих операций в странах «с низкими рисками», где для их деятельности существует меньше угроз. В последние годы одним из главных мест для объединения международной организованной преступности был бывший Советский Союз. Гибкий характер сетевой организации криминальной деятельности позволяет преступным группировкам сравнительно легко обходить все меры, предпринимаемые силами закона. Если какая-то одна «гавань безопасности» становится слишком опасной, «геометрическая форма организации» может измениться и преобразоваться в новую модель. Интернациональный характер преступности ощущается и в Соединенном Королевстве. В Великобритании обосновались банды японских якудза и представители итальянской и американской мафии. Среди тех, кто появился в последнее время, — представители преступного мира из бывшего Советского Союза. По мнению ряда комментаторов, новая русская мафия представляет собой самый опасный синдикат организованной преступности в мире. Криминальные сети в России заняты отмыванием денег и действуют в сговоре с практически не контролируемыми российскими банками. Некоторые наблюдатели считают, что русские преступные группировки могут превратиться в самые крупные криминальные сети в мире. Их основой считается связанное с мафией российское государство, в котором обычным делом является наличие «уголовной крыши» для многих бизнесменов. Наибольшую обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что новые представители преступного мира России, возможно занимаются в международном масштабе контрабандой ядерных материалов, похищенных из советских ядерных арсеналов. Несмотря на многочисленные кампании, проводимые правительством и полицией, торговля наркотиками является наиболее быстро растущей международной криминальной индустрией, имевшей в 1980-х и начале 1990-х гг. ежегодный коэффициент прироста более, чем 10 %, и чрезвычайно высокий уровень прибыли. Героиновые сети проходят через весь Дальний Восток и особенно Южную Азию и охватывают также Северную Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку. Поток наркотиков идет, кроме того, через Париж и Амстердам, откуда они обычно переправляются в Великобританию.Киберпреступления
Прогресс в информационных технологиях, наблюдающийся в последнее время, не только значительно облегчает деятельность международной организованной преступности; несомненно вместе с тем, что революция в области информации и телекоммуникаций приведет к коренным изменениям типов преступлений. Успехи технологии создают захватывающие новые возможности и перспективы, но они одновременно делают общество более уязвимым перед преступностью. Хотя трудно выразить в цифрах масштабы киберпреступлений — криминальных действий, совершенных с помощью информационных технологий, можно наметить некоторые из основных форм, в которых они, по-видимому, находят выражение. П. Н. Грабовски и Рассел Смит выделили девять основных типов преступлений, основанных на применении современных технологий (Grabovsky and Russel 1998): • Возможность нелегальной прослушки телекоммуникационных систем означает, что легче становится подслушивание. Это может иметь широкий круг применения, от «мониторинга» супруга до шпионажа. • Увеличивается уязвимость перед электронным вандализмом и терроризмом. Люди в западных обществах все более полагаются на компьютеризированные системы, и вмешательство извне в такие системы, подобное упомянутым выше атакам на веб-сайты торговых фирм, может привести к серьезной угрозе для безопасности. • Возможность кражи телекоммуникационных услуг означает, что люди могут заниматься нелегальным бизнесом, не опасаясь быть пойманными, или просто манипулировать телекоммуникациями и мобильными телефонами, пользоваться их услугами бесплатно или со скидкой. • Все более серьезной проблемой становится конфиденциальность телекоммуникаций. Все легче теперь нарушать законы авторского права, копируя материалы, компьютерные программы, фильмы и компакт-диски. • В киберпространстве трудно контролировать порнографию и оскорбительные по содержанию материалы. Откровенные сексуальные материалы, расистская пропаганда и инструкции по изготовлению боевых зажигательных средств — все это может быть введено в Интернет и получено из него. «Киберпутешествие» может представлять для онлайн-пользователей не только виртуальную, но и вполне реальную угрозу. • Отмечен рост махинаций в сфере телемаркетинга. Трудно отслеживать мошеннические схемы благотворительности и предложения по инвестированию. • Увеличивается опасность преступлений, связанных с электронной пересылкой денежных средств. Широкое использование банкоматов, интернет-магазинов и пересылки денег через Интернет усугубляет опасность перехвата некоторых операций. • Электронное отмывание денег может быть использовано для «перемещения» нелегально полученных криминальных доходов, с тем чтобы скрыть их происхождение. • Телекоммуникации могут быть использованы для расширения деятельности криминальных подпольных группировок. Из-за применения ими шифровальных систем и из-за огромной скорости передачи сведений органы правопорядка испытывают трудности в отслеживании информации о криминальной деятельности. Это в первую очередь относится к новым международным криминальным организациям. Судя по некоторым показателям, киберпреступность уже идет в гору. В конце 1990-х гг. в Великобритании мошенничества, связанные с Интернетом, были самой быстрорастущей категорией преступлений. За год до сентября 1999 г. количество случаев мошенничества и подлогов выросло на 29 % — увеличилось на 70 000 преступлений в течение одного года. Этот рост объясняется увеличением числа преступлений, основанных на использовании Интернета. Глобальный размах телекоммуникационных преступлений представляет собой особенно сложную проблему для сил правопорядка. Преступные действия, совершенные в одной стране, способны приводить к жертвам на другом конце Земли. Как указывают Грабовски и Смит, это имеет последствия, усложняющие раскрытие преступлений и наказание преступников. Полиции теперь приходится определять юрисдикцию, в которой деяние было совершено, и соглашаться на экстрадицию преступников и предоставление необходимых доказательств для судебного преследования. Хотя сотрудничество полиции разных стран, возможно, в будущем приостановит рост киберпреступности, в настоящее время у киберпреступников имеется огромное поле для деятельности. В то время как с помощью электронных средств происходит интеграция финансовых, торговых и производственных систем в странах по всему миру, рост мошенничества в Интернете и участившиеся случаи неправомочного вмешательства, наподобие атак на веб-сайты торговых фирм, служат убедительным предупреждением об уязвимости существующих систем компьютерной безопасности. Начиная от Федерального бюро расследований (ФБР) в Соединенных Штатах до нового отдела полиции по борьбе с хакерами при японском правительстве, правительства прилагают все усилия, чтобы противостоять новым трудноуловимым формам международной компьютерной деятельности.────────────────────────────┐ ■ Преступления будущего Представьте себе мир, в котором деньги в их материальном виде больше не существуют, все личные принадлежности человека соединены с электронными микросхемами, а самым ценным богатством является индивидуальность человека. Согласно докладу «Сразу за углом», опубликованному министерством труда и промышленности (ОТТ 2000), в скором будущем под влиянием прогресса и технологий должен измениться характер преступлений. В докладе предполагается, что в течение ближайших двух десятилетий многие товары, такие как автомобили, кино- и фотокамеры и компьютеры потеряют привлекательность как объекты краж: они будут запрограммированы таким образом, что будут работать только в руках своих законных владельцев. Повсеместным станет использование персонализированных «индивидуальностей» — таких как компьютерные микросхемы, номера личного секретного кода и кода безопасности. Они будут необходимы при осуществлении операций онлайн, чтобы использовать «смарт-карты» (виртуальные деньги) и пройти через системы безопасности. Согласно докладу, по мере того как все больше и больше аспектов жизни будет основываться на высоких технологиях, будут умножаться и случаи «мошенничества с индивидуальностью» и кражи личных индивидуальностей. ────────────────────────────┘
Тюрьмы: ответ на преступления?
Основополагающий принцип современной тюремной системы заключается в том, чтобы «исправить» преступника и подготовить его к выполнению соответствующей и надлежащей роли в обществе после освобождения. Тюрьмы и приговоры к длительным тюремным срокам считаются также мощным фактором, сдерживающим преступность. По этой причине многие политики, стремящиеся «проявить решительность» перед лицом быстрыми темпами растущей преступности, высказываются за более карательную систему правосудия и за увеличение количества тюрем. Дают ли тюрьмы желаемый результат — способствуют ли они «исправлению» осужденных преступников и предотвращению новых преступлений? Как мы увидим, это вопрос достаточно сложный, но факты, по-видимому, свидетельствуют о том, что на него приходится дать отрицательный ответ. Рис. 8.4. Количество заключенных и количество мест в тюрьмах Великобритании. 1971–1997 гг.
Источник: Home Office; Scottish Home Office Department. From Social Trends. 29. 1999. Crown copyright.
Рис. 8.4. Количество заключенных и количество мест в тюрьмах Великобритании. 1971–1997 гг.
Источник: Home Office; Scottish Home Office Department. From Social Trends. 29. 1999. Crown copyright.
────────────────────────────┐ ■ Карательное правосудие: случай Соединенных Штатов Система правосудия в Соединенных Штатах самая карательная в мире. В американских тюрьмах сейчас находится свыше 2 млн заключенных и еще 4 млн подпадают под юрисдикцию карательной системы. Хотя население Соединенных Штатов составляет только 5 % всего населения Земли, на их долю приходится 25 % всех преступников, отбывающих тюремное заключение.
 Рис. 8.5. Количество людей, приговоренных к смерти в США. 1957–1997 гг.
Источник: US Bureau of Justice. Capital Punishment 1997. Statistics Bulletin. US Government Printing Office, 1998.
Рис. 8.5. Количество людей, приговоренных к смерти в США. 1957–1997 гг.
Источник: US Bureau of Justice. Capital Punishment 1997. Statistics Bulletin. US Government Printing Office, 1998.
Обслуживающий персонал американских тюрем насчитывает свыше 500 000 человек, и на содержание тюремной системы расходуется ежегодно 35 млрд долл. Кроме того, тюремная система в Америке является частично приватизированной, частные компании имеют сейчас возможность выиграть правительственные контракты на строительство тюрем и управление ими, чтобы вместить растущее количество заключенных. Критики утверждают, что «возник тюремно-индустриальный комплекс»: множество людей, в том числе чиновники, политики и обслуживающий персонал тюрем, материально заинтересованы в существовании и дальнейшем расширении тюремной системы. В Соединенных Штатах широкой поддержкой пользуется высшая мера наказания («смертная казнь»). В 1999 г. 71 % опрошенных взрослых американцев заявил о том, что верит в высшую меру наказания, и только 21 % высказался против нее. Эти цифры свидетельствуют о значительном сдвиге по сравнению с 1965 г., когда только 38 % опрошенных поддержали смертную казнь, а 47 % выступили против нее. Число заключенных, ожидающих исполнения смертного приговора, неуклонно росло начиная с 1977 г., когда Верховный суд поддержал законы штатов в отношении смертной казни (см. рис. 8.5). В конце 1997 г. в «очереди на смерть» стояли свыше 3 000 заключенных. Из них 99 % составляли мужчины, 56 % белые и 42 % черные (US Bureau of Justice 1998.). Сторонники суровых приговоров указывают на общее падение преступности в Соединенных Штатах в последнее десятилетие как на доказательство того, что тюрьмы выполняют свое назначение. Их оппоненты возражают, указывая, что уменьшение преступности может быть объяснено другими факторами, такими, например, как крепкая экономика и низкий уровень безработицы. Они утверждают, что высокий процент заключенных в тюрьмах приводит к разрушению семей и общин без особой на то необходимости. Более одной четвертой всех афроамериканцев-мужчин либо находится в тюрьме, либо под контролем пенитенциарной системы. Около 60 % заключенных в американских тюрьмах отбывают наказание за преступления, не связанные с насилием (распространение наркотиков). По мнению критиков, столь явное несоответствие доказывает, что заключение в тюрьму больше не является «крайней мерой», — к тюрьме теперь прибегают как к средству для решения всех социальных проблем. ────────────────────────────┘
В Великобритании система уголовного правосудия в последние годы приобрела более карательный характер. Как показывает рис. 8.4, количество заключенных в тюрьмы неуклонно росло: в 1997 г. в тюрьмах находились 67 000 заключенных, что на 10 % больше, чем в предыдущем году (HMSO 1999). По отношению к населению в целом в Англии и Уэльсе в тюрьмах сидит больше людей, чем во всех западноевропейских странах за исключением Португалии (Guardian. 23 Febr. 2000). Кроме того, суды Англии и Уэльса обычно приговаривают преступников к более длительным срокам тюремного заключения, чем суды других европейских стран. Некоторые критики опасаются, что Великобритания слишком точно повторяет путь Соединенных Штатов — самой карательной страны в мире (см. предыдущую врезку «Карательное правосудие: случай Соединенных Штатов»). Заключенных обычно больше не подвергают физическим издевательствам, что было некогда общераспространенной практикой, однако они тем не менее страдают от многих других видов наказания. Их лишают не только свободы, но и надлежащего дохода, общения со своими близкими и бывшими друзьями, гетеросексуальных связей, собственной одежды и других личных вещей. Они часто живут в переполненных камерах и вынуждены подчиняться строгим дисциплинарным предписаниями жестокой регламентации своей повседневной жизни. Жизнь в таких условиях скорее вбивает клин между обитателями тюрем и остальным миром и вовсе не способствует адаптации их поведения к нормам этого общества. Заключенные вынуждены принимать условия, которые совершенно отличны от «внешнего мира», а навыки и отношения, усваиваемые ими в тюрьме, весьма часто прямо противоположны тем, которые, как предполагается, они должны были усвоить. Например, у них может развиться чувство недоброжелательства по отношению к обычным гражданам, возможно, что они научатся воспринимать насилие как вполне нормальное явление, познакомятся с закоренелыми преступниками-рецидивистами и сохранят эти контакты и после освобождения, возможно также, что они приобретут криминальные навыки, которых у них раньше не было. По этой причине тюрьмы иногда называют «университетами преступности». Неудивительно поэтому, что так устрашающе велики масштабы рецидивизма — повторного совершения преступлений теми, кто уже сидел в тюрьме. Свыше 60 % всех мужчин, освобожденных после отбывания срока в тюрьме в Соединенном Королевстве, снова подвергаются аресту в течение четырех лет со времени совершения ими первого преступления. Как мы уже видели раньше, молодые правонарушители теперь менее склонны «перерастать преступления», чем это было раньше. Хотя факты, по всей видимости, свидетельствуют о том, что тюрьмы не справляются с задачей реабилитации заключенных, по-прежнему наблюдается сильное давление общественности, требующей увеличить количество тюрем и сделать еще более суровыми тюремные сроки за многие преступления. Тюремная система перегружена, что порождает призывы к строительству новых исправительных учреждений. Вместе с тем, критики заявляют, что программы строительства тюрем представляют собой не только необоснованно дорогое бремя, ложащееся на налогоплательщиков, но что это никак не повлияет на уровень преступности. Некоторые сторонники реформы пенитенциарной системы считают, что необходим переход от карательного правосудия к формам правосудия восстановительного. «Восстановительное правосудие» ставит целью добиться осознания преступником последствий своего преступления с помощью «наказания», которое преступник отбывает в общине. От правонарушителей можно было бы потребовать участия в проектах по организации услуг в общине или попытки с помощью посредника добиться примирения с жертвой преступления. Вместо того чтобы изолировать преступников от общества и закрывать их от последствий их преступных деяний, этих людей следует поставить перед лицом того, что они совершили, так, чтобы они осознали цену преступления. Не существует простого ответа в споре о том, «работают» ли тюрьмы или нет. Хотя тюрьмы, судя по всему, не достигают успеха в перевоспитании заключенных, возможно, они удерживают людей от совершения преступлений. Хотя тех, кто уже сидит в тюрьме, удержать от преступлений не удалось, неприглядные стороны тюремной жизни, вполне возможно, предостерегут от преступлений других людей. Для реформаторов тюремной системы здесь имеется одна почти неразрешимая проблема. Если сделать тюрьмы абсолютно неприемлемым местом для пребывания, это вероятно поможет удержать от преступлений потенциальных правонарушителей, однако это сделает в высшей степени трудновыполнимой поставленную перед тюрьмой цель реабилитации заключенных. Однако, с другой стороны, чем менее суровы условия содержания заключенных в тюрьме, тем больше теряется сдерживающий эффект тюремного заключения. Хотя благодаря тюрьмам улицы действительно освобождаются от некоторых опасных личностей, факты свидетельствуют, что нужно искать другие способы сдерживания преступности. Социологическая трактовка преступления неопровержимо доказывает, что быстрых путей здесь не существует. Причины преступности связаны со структурными условиями общества, включая нищету, обстановку внутренних городов и ухудшающиеся обстоятельства жизни многих молодых людей. Хотя необходимо и дальше осуществлять такие краткосрочные меры, как реформы, направленные на превращение тюрем из мест простого отбывания срока наказания в места перевоспитания, а также проводить в жизнь эксперименты с наказаниями, альтернативными тюремному заключению, такими как работа в общине. Тем не менее, чтобы добиться эффективного решения проблемы, следует обратиться к долгосрочным мерам (Currie 1998 b).
Заключение: преступление, девиантное поведение и социальный порядок
Было бы ошибкой рассматривать преступления и девиантное поведение исключительно в негативном свете. В любом обществе, признающем, что у человеческих существ могут быть различные ценности и интересы, должно найтись место для отдельных людей и групп людей, чьи действия не соответствуют нормам, которых придерживается большинство. Люди, создающие новые идеи в политике, науке, искусстве или других областях, зачастую вызывают подозрение или враждебность у людей, следующих ортодоксальными путями. Например, политические идеалы, рожденные американской революцией, — свобода личности и равенство возможностей — были в то время встречены многими людьми с ожесточенным сопротивлением, а теперь они приняты во всем мире. Отступление от господствующих в обществе норм требует мужества и решительности, но оно нередко играет ключевую роль в осуществлении процессов изменения, которые впоследствии будут признаны отвечающими интересам всех людей. Являются ли «опасные отклонения в поведении» той платой, которую должно платить общество, если оно предоставляет значительную свободу своим гражданам, действия которых отличаются неконформностью? Например, следует ли признать высокий уровень преступлений, связанных с насилием, той ценой, которой приходится расплачиваться обществу в обмен на индивидуальные свободы, которыми обладают его граждане? Некоторые социологи придерживаются именно такого мнения, утверждая, что преступления, связанные с насилием, неизбежны в обществе, где не существует жестких правил поведения. Однако такие взгляды не выдерживают критики при более пристальном рассмотрении. В некоторых обществах, где признается широкий спектр личных свобод и наблюдается терпимость к девиантным поступкам (например, в Нидерландах), количество преступлений с применением насилия невелико. И наоборот, в странах, где рамки индивидуальных свобод ограничены (как, например, в некоторых латиноамериканских обществах), может обнаруживаться высокий уровень насилия. Общество, проявляющее терпимость к девиантному поведению, совсем не обязательно должно страдать от социальной дезинтеграции. Однако избежать негативных последствий можно, по-видимому, только в том случае, если индивидуальные свободы будут сочетаться с социальной справедливостью — при социальном строе, где нет вопиющего неравенства и где у каждого есть возможность вести полноценную и приносящую удовлетворение жизнь. Если свобода не сбалансирована равенством и если многие люди не могут успешно самореализоваться в своей жизни, девиантное поведение обычно принимает деструктивные формы.Краткое содержание
1. Термином «девиантное поведение» называют поступки, которые нарушают общепринятые нормы. То, что признается «девиантным», может быть различным в разное время и в различных местах: «нормальное» поведение в условиях одной культуры может быть признано «девиантным» в другой культуре. Понятие девиантности шире понятия преступления: последнее относится только к неконформному поведению, при котором нарушается закон. 2. Для поддержания социальных норм общество применяет санкции как формальные, так и неформальные. Законы — это нормы, устанавливаемые и приводимые в действие правительствами. 3. Существуют биологические и психологические теории, пытающиеся доказать, что преступления и другие формы девиантного поведения генетически обусловлены, однако в настоящее время эти теории в основном не встречают поддержки. Социологи утверждают, что подчинение нормам и уклонение от них по-разному трактуется в разных социальных контекстах. Огромное влияние на то, какие возможности открыты для разных групп индивидуумов, и на то, какого рода действия будут признаны криминальными, оказывает существующее в обществе неравенство в распределении богатства и власти. Криминальным видам деятельности научаются совершенно так же, как навыкам законопослушания, и обычно они направлены на достижение тех же целей. 4. Согласно теориям, связанным с функционализмом, преступления и девиантное поведение порождаются структурным напряжением в обществе и отсутствием морального регулирования. Для обозначения чувства тревоги и дезориентации, возникающего в современном обществе из-за разрушения традиционных устоев жизни, Дюркгеймом был введен термин «аномия». Роберт Мёртон расширил понятие аномии и включил в него напряженность, которую испытывают индивидуумы, когда принятые в обществе нормы вступают в конфликт с социальной реальностью. Объяснения, исходящие из субкультур, привлекают внимание к таким группам людей, как криминальные сообщества, которые отвергают ценности, разделяемые большинством, и заменяют их нормами, прославляющими неповиновение, правонарушения и неконформность. 5. Теория стигматизации, утверждающая, что если определить поступки какого-либо человека как девиантные, то это еще более усилит девиантный характер его поведения, ценна потому, что исходит из допущения, согласно которому ни один поступок сам по себе изначально не является ни криминальным, ни, наоборот, нормальным. Последователей теории стигматизации в первую очередь интересует вопрос, как получается, что некоторые типы поведения определяются как девиантные, и почему именно данные группы, а не другие, характеризуются как девиантные. 6. Теории конфликта анализируют преступления и девиантное поведение, исходя из структуры общества, конфликта интересов различных социальных групп и стремления элиты сохранить свою власть. Новый левый реализм (НЛР) представляет собой направление в криминологии, которое испытало влияние указанной традиции, но отходит от нее в ряде важных отношений. НЛР привлекает внимание к жертвам преступлений и призывает к изменению практической деятельности полиции, с тем чтобы сделать работу органов правопорядка и охраны закона более чутко реагирующей на нужды общин, особенно в районах внутренних городов. 7. Теории контроля постулируют, что преступления совершаются там и тогда, где и когда существующие формы социального и физического контроля оказываются недостаточными для их предотвращения. Рост преступности в современных обществах связан с ростом возможностей и мишеней для преступлений. Согласно теории разбитых окон, существует прямая связь между появлением в том или ином регионе беспорядка и совершением здесь реальных преступлений. 8. Подлинные масштабы преступности в обществе оценить нелегко, поскольку не обо всех преступлениях сообщается в полицию. «Темной цифрой» незарегистрированных преступлений называют правонарушения, не зафиксированные в официальной статистике. Изучение жертв преступлений (обследования, в которых респондентам задают вопрос, не были ли они жертвами каких-либо преступлений в предшествующем году) обнаруживает расхождения между официальными данными о преступлениях и реальным опытом людей. 9. Число зарегистрированных преступлений в Великобритании растет начиная с 1950-х гг., и граждане осознают, что подвергаются сейчас большему риску стать жертвой преступления, чем в прежние времена. Реакцией на рост преступности со стороны правительства было усиление правоохранительной деятельности, использование методов предупреждения ситуационных преступлений (таких как надзор и укрепление потенциальных мишеней преступления), частные охранные службы и полицейские инициативы в общинах. 10. Уровень преступности среди женщин значительно ниже, чем у мужчин, возможно, в силу общих различий, наблюдающихся при социализации мужчин и женщин плюс более активное участие мужчин в деятельности вне дома. Более высокий уровень мужской преступности объясняли также влиянием безработицы и «кризиса мужественности». При некоторых типах преступлений жертвами являются в подавляющем большинстве женщины. С почти полной уверенностью можно сказать, что изнасилования гораздо более распространены, чем показывает официальная статистика. Существует мнение, согласно которому все женщины являются жертвами изнасилования, поскольку все они должны для своей защиты принимать особые меры предосторожности и жить под страхом возможного изнасилования. Гомосексуалисты и лесбиянки часто становятся жертвами преступлений и преследований, однако из-за маргинализированного положения в обществе их нередко признают «заслуживающими» преступления, а не безвинными жертвами. 11. Страх людей перед преступлениями зачастую концентрируется прежде всего на уличных преступлениях, таких как кражи, грабеж и разбойное нападение, которые совершаются в основном молодыми мужчинами из среды рабочего класса. Официальная статистика свидетельствует о высоком уровне правонарушений среди молодых людей, тем не менее следует относиться с осторожностью к моральной панике, которую вызывает молодежная преступность. Во многих случаях девиантное поведение молодых людей, например антиобщественное поведение или неконформность, в действительности преступлениями не являются. 12. Преступления «белых воротничков» и корпоративные преступления — это преступления, совершаемые людьми, которые относятся к более благополучным слоям общества. Последствия таких преступлений могут быть гораздо более серьезными, чем последствия мелких преступлений, совершаемых бедными, однако органы законности и правопорядка обращают на них меньше внимания. Организованной преступностью называются институционализированные формы криминальной деятельности, обладающие многими чертами обычных организаций, но деятельность которых неизменно носит противозаконный характер. Киберпреступлениями называют криминальную деятельность, которая осуществляется с помощью информационной технологии, как, например, электронное отмывание денег или мошенничество в Интернете. 13. Тюрьмы были созданы отчасти для защиты общества от преступников, а отчасти с целью «исправления» преступников. По всей видимости, тюрьмы не предотвращают преступления, и степень перевоспитания заключенных в тюрьмах, чтобы они потом могли жить в мире, существующем за тюремными стенами, не обращаясь снова к криминальной деятельности, вызывает большие сомнения. Рецидивизм — это повторное совершение преступлений людьми, уже отбывавшими наказание в тюрьмах. Были предложены некоторые альтернативы тюремному заключению, как, например, отбывание наказания в общине, с выполнением работы, полезной для ее членов.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Как можно было бы интерпретировать действия человека, получившего ярлык «девиантный», так, чтобы они отличались от действий «нормального» человека? 2. Почему изучение жертв преступлений могло бы дать более правдивую картину масштабов преступности, чем официальная статистика? 3. Верно ли, что полицейские работают теперь по большей части с информацией? 4. Повлечет ли тот факт, что все больше женщин работает сейчас в публичной сфере, неизбежные изменения в женской преступности? 5. Является ли исполнительный директор корпорации более типичным преступником, чем безработный юноша? 6. Какое влияние оказывают на преступность процессы глобализации?Дополнительная литература
Goode Erich. Deviant Behaviour. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997. Holdaway Simon and Rock Paul (eds.). Thinking about Criminology. London: UCL Press, 1998. Walton Paul and Young Jock (eds.). The New Criminology Revisited. London: Macmillan, 1998.Интернет-линки
Австралийский институт криминологии www.aic.gov.au Британский криминологический журнал www3.oup.co.uk/crimin Министерство внутренних дел Великобритании Home Office (UK) www.homeoffice.gov.uk Институт криминологии при Кембриджском университете http://www.law.cam.ac.uk/crim/CRIMLINK.HTM Национальная ассоциация по попечению и переселению заключенных www.nacro.org.ukГЛАВА 9 РАСА, ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ИММИГРАЦИЯ
Вплоть до последнего десятилетия XX в. в Южной Африке господствовал апартеид — система насильственной расовой сегрегации. При апартеиде каждый житель Южной Африки подпадал пододну из четырех категорий: белые (потомки европейских иммигрантов), «цветные» (люди, предками которых были представители более чем одной «расы»), азиаты и черные. Меньшинство белых южноафриканцев, составлявшее около 13 % населения, управляло небелым большинством. Небелые не имели права голоса и не были представлены в центральном правительстве. Сегрегация была обязательна на всех уровнях жизни общества, от мест общественного пользования, таких как туалеты и железнодорожные вагоны, до соседства по месту жительства и школ. Миллионы черных жителей страны были согнаны в так называемые homelands — резервации подальше от главных городов — и работали в качестве временных рабочих на золотых и алмазных приисках, кочуя с места на место. Апартеид был закреплен законодательством, но навязывался с помощью насилия и жестокости. Национальная партия, которая официально узаконила апартеид после прихода к власти в 1948 г., использовала и силу закона, и органы безопасности для подавления всякого сопротивления режиму апартеида. Оппозиционные объединения были поставлены вне закона, а политических инакомыслящих бросали в тюрьмы без суда и нередко подвергали пыткам. Мирные демонстрации часто заканчивались расправами с их участниками. После многих лет международного осуждения, экономических и культурных санкций и растущего сопротивления в самой стране режим апартеида начал утрачивать силу. Когда в 1989 г. президентом Южной Африки стал Ф. У. де Клерк, он получил в наследство страну, находившуюся в состоянии глубокого кризиса и практически неуправляемую. В 1990 г. де Клерк снял запрет с Африканского национального конгресса (АНК), основной оппозиционной партии, и освободил из тюрьмы ее лидера Нельсона Манделу после двадцати семи лет заключения. Затем последовал целый ряд сложных переговоров, которые проложили путь к первым национальным выборам с участием как белых, так и небелых. 27 апреля 1994 г. АНК получил на выборах подавляющее большинство голосов — 62 %, и Нельсон Мандела стал первым после периода апартеида президентом Южной Африки. Трудности, которые стояли перед Манделой и АНК, были огромными. В стране с населением 38 млн чел. 9 млн жили в нищете и 20 млн обходились без электричества. Широко распространена была безработица. Более половины черного населения оставалось неграмотным, и уровень детской смертности был в десять раз выше среди черных, чем среди белых. Но помимо того, что в Южной Африке наблюдалось огромное неравенство в распределении материальных благ, страна представляла собой также крайне расколотое общество. Десятилетия господства идеологии, основанной на расовом превосходстве белых, оставили глубокие шрамы; страна отчаянно нуждалась в примирении. Язвы режима апартеида необходимо было врачевать, а культуру расового угнетения предстояло подвергнуть демонтажу. Межэтническая напряженность внутри африканского населения вырывалась наружу вспышками насилия и грозила привести к гражданской войне. На протяжении всего срока президентства, которое завершилось в 1999 г., Мандела упорно трудился, закладывая основы справедливого многоэтнического общества. Принятая в 1996 г. конституция является одной из самых прогрессивных в мире, ставя вне закона все виды дискриминации по признаку расы, этнической или социальной принадлежности, религии или верований, а также сексуальной ориентации, инвалидности или беременности. Своими неоднократными призывами к «новому патриотизму» Мандела пытался объединить в общем стремлении к образованию нации как «нервничающих белых», так и «нетерпеливых черных». Представители оппозиционных групп, таких как, например, Партия свободы, Инката (Inkatha Freedom Party), опирающаяся на народность зулу, были введены в правительство, чтобы снять этническую и политическую напряженность, которая могла бы привести к насилию. Одно из самых примечательных событий, имевших место во время президентства Манделы, было связано с наследием, доставшимся от эпохи апартеида. С апреля 1996 г. до июля 1998 г. Комиссия по восстановлению правды и примирению (КВПП, Truth and Reconciliation Commission) проводила слушания в общинах по всей Южной Африке для выявления случаев нарушения прав человека, допущенных при апартеиде. Лауреат Нобелевской премии архиепископ Десмонд Туту возглавлял КВПП в расследовании актов насилия и нарушения прав, совершенных в период между 1960 и 1994 гг. Было получено и зафиксировано свыше 21 тыс. свидетельских показаний; заседания были открытыми для публики, и то, что на них происходило, освещалось в средствах массовой информации. Слушания, проводимые КВПП, имели целью вскрыть для всеобщего обозрения подлинную картину жизни эпохи апартеида — все ее реальные обстоятельства — от самых ужасных до самых банальных. Эти слушания не являлись судебными заседаниями и не должны были выносить приговоры. Тем, кто совершил преступления при апартеиде, включая полицейских и руководителей служб безопасности, была предложена амнистия в обмен на честные признания и «полное раскрытие» всей относящейся к делу существенной информации. В 1998 г. КВПП обнародовала свои материалы и факты, которые ей удалось установить, в виде доклада объемом в 3 500 страниц. Неудивительно, что главным виновником преступлений в области прав человека было названо правительство апартеида, хотя были отмечены также нарушения, допущенные и другими организациями, включая АНК. Некоторые критиковали КВПП, заявляя, что она представляет собой немногим больше, чем архив преступлений, совершенных в эпоху апартеида, и неспособна исправить зло, причиненное тогда людям. Однако многие другие убеждены, что уже сам процесс сбора свидетельских показаний — как от тех, кто совершал нарушения справедливости, так и от тех, чьи права нарушались, — привлек всеобщее внимание к попранию справедливости в эпоху апартеида. Конечно, в одиночку КВПП не может изменить ситуацию, сложившуюся за десятилетия расового разделения и дискриминации. Южная Африка остается расколотым на части обществом и продолжает бороться против фанатизма и нетерпимости. В 2000 г. был принят целый ряд «законов о преобразованиях», запрещавших публичное выражение ненависти и учредивших «суды по восстановлению равноправия» для рассмотрения дел по обвинению в расовой дискриминации. И тем не менее слушания, проводимые Комиссией по восстановлению правды и примирению, были событием огромной значимости в истории Южной Африки после падения апартеида и создали новые стандарты открытости и честности в решении расовых проблем. Комиссия заставила обратить внимание на опасные последствия, к которым приводит расовая ненависть, и своим примером продемонстрировала, насколько в процессе примирения важны общение и диалог. В данной главе мы проанализируем понятие расы и этнической принадлежности, а также остановимся на вопросе, почему расовые и этнические разделения так часто приводят к социальным конфликтам — как это было в Южной Африке и многих других обществах. Рассмотрев, как представители социальных наук понимают и употребляют термины «раса» и «этническая принадлежность», мы обратимся к темам предрассудков, дискриминации и расизма и обсудим попытки их психологического и социологического объяснения, помогающие понять их живучесть. После этого мы обратимся к моделям этнической интеграции и проанализируем примеры этнических конфликтов, после чего перейдем к моделям глобальной миграции, которые приводят к дальнейшей интеграции населения Земли. В последних разделах данной главы мы рассмотрим этническое многообразие и межэтнические отношения в Соединенном Королевстве и Европе, обратив особое внимание на тенденции, наблюдающиеся в процессе миграции, и на существующие модели этнического неравенства.Понимание расы и этнической принадлежности
Раса
«Раса» является одним из самых сложных понятий социологии, что в немалой степени связано с расхождением между его использованием в обыденной жизни и его научным обоснованием (или отсутствием оного). Многие люди в наши дни полагают, причем полагают ошибочно, что людей можно легко разделить на биологически различающиеся расы. Это не должно вызывать удивление, учитывая многочисленные попытки со стороны ученых создать классификацию народов мира по признаку расы. Некоторые авторы выделяли четыре или пять основных рас, другие же утверждали, что их существует не менее трех десятков. Научные теории расы появились в конце XVIII – начале XIX вв. Они были использованы для оправдания социального порядка, который складывался по мере того, как Англия и другие европейские страны превращались в имперские державы, владычествующие над подчиненными территориями и народами. Граф Жозеф Артюр де Гобино (1816–1882), которого иногда называют отцом современного расизма, предложил различать три расы: белую (кавказскую), черную (негроидную) и желтую (монголоидную). Согласно Гобино, представители белой расы обладают наиболее высоким интеллектом, моральными убеждениями и силой воли; именно благодаря этим передаваемым по наследству качествам влияние Запада распространилось по всему миру. Напротив, черные наделены способностями в наименьшей мере, близки по своей природе к животным, не имеют моральных устоев и эмоционально нестабильны. Идеи Гобино и его единомышленников, проповедовавших научный расизм, оказали впоследствии влияние на Адольфа Гитлера, превратившего их в идеологию нацистской партии, и на другие группы сторонников превосходства белой расы, такие как Ку-клукс-клан в Соединенных Штатах и архитекторы апартеида в Южной Африке. В годы, последовавшие за Второй мировой войной, «наука о расах» была полностью дискредитирована. С точки зрения биологии не существует четко отграниченных друг от друга рас, существует только некоторый ряд физических разновидностей человеческих существ. Различия в физическом типе между разными группами людей возникают из-за близкородственных браков среди населения, которые варьируют в зависимости от степени контактов между различными социальными и культурными группами. Население Земли представляет собой некую непрерывность. Генетическое разнообразие в группах людей, обладающих видимыми общими физическими чертами, столько же велико, как и различие между самими этими группами. В силу указанных причин научное сообщество фактически отказалось от понятия расы. Многие представители социальных наук сходятся во мнении, что раса — это не что иное, как идеологический конструкт, использование которого в научных кругах способствует увековечиванию распространенного мнения, будто бы «раса» имеет биологическое обоснование (Miles 1993). Другие ученые не согласны с этим и утверждают, что раса как понятие имеет смысл для многих людей, пусть даже оно утратило свою биологическую основу. По их мнению, для социологических исследований раса остается в высшей степени необходимым, хотя и дискуссионным понятием. По этой причине некоторые ученые предпочитают употреблять слово «раса» в кавычках, чтобы подчеркнуть, что оно может вводить в заблуждение, несмотря на то что имеет широкое хождение. Что же тогда такое раса, если она не связана с биологическими категориями? Между людьми существуют заметные физические различия, и некоторые из этих различий передаются по наследству. Однако вопрос о том, почему некоторые различия, а не какие-либо другие становятся поводом для социальной дискриминации и предрассудков, не имеют никакого отношения к биологии. Расовые различия поэтому следует понимать как физические признаки, выбранные членами общины или сообщества как социально значимые. Значимыми, например, считаются различия в цвете кожи, тогда как различия в цвете волос таковыми не признаются. Расу можно трактовать как совокупность социальных отношений, которые позволяют определить отдельных людей или их группы, исходя из признаков, имеющих биологическую основу, и приписать людям, исходя из этого же, различные характеристики и особенности. Расовые различия представляют собой нечто большее, чем способы описания различий между людьми — они служат также важными факторами в воспроизводстве моделей власти и неравенства в обществе. Процесс, в ходе которого то или иное понимание расы используется для классификации отдельных людей или групп людей, называется установлением расовой принадлежности (racialization). С исторической точки зрения определение расовой принадлежности означало, что некоторые группы людей на основе естественно возникших физических признаков начали характеризовать как особые биологические группы (как это предлагал делать Гобино). Начиная с XV в., когда европейцы все чаще стали вступать в контакт с людьми из разных регионов мира, предпринимались попытки систематизации полученных знаний путем их классификации по категориям и объяснения явлений как природных, так и социальных. Неевропейские народы были отнесены к «расам», отличающимся от «белой расы» европейцев. В некоторых случаях определение «расовой принадлежности» приняло «кодифицированную» форму, установленную государством, как в случае рабства в американских колониях или апартеида в Южной Африке. Однако значительно чаще обычные социальные институты становились расово-ориентированными де-факто. В расово-ориентированной системе все аспекты каждодневной жизни людей — такие как работа, личные отношения, жилищные условия, медицинское обслуживание, образование и правовая защита — формируются и ограничиваются расово-ориентированным положением людей в этой системе.Этническая принадлежность
В то время как понятие расы ошибочно предполагает нечто устойчивое и биологическое, «этническая принадлежность» — это понятие по своему значению чисто социальное. Этническая принадлежность связана с культурными обычаями и взглядами того или иного сообщества людей, которые отличают его от других сообществ людей. Члены этнических групп считают, что они отличаются в отношении культуры от других групп в обществе, и в свою очередь признаются другими группами как иные в области культуры. Особенности культуры, отличающие одни этнические группы от других, могут быть различными, но чаще всего это язык, история, предки (реальные или вымышленные), религия и стиль одежды или украшений. Этнические различия представляют собой различия усваиваемые, и это кажется вполне самоочевидным до тех пор, пока мы не вспоминаем, как часто некоторые группы объявлялись «рожденными править» или «ленивыми», «неспособными» и т.д. В действительности в этнической принадлежности нет ничего врожденного, это чисто социальный феномен, который производится и воспроизводится с течением времени. Посредством социализации молодежь усваивает образ жизни, нормы и верования, существующие в их общинах. Для многих людей этническая принадлежность является центральной для идентификации индивида или группы. Она может служить важной связующей нитью с прошлым и часто сохраняется благодаря осуществлению культурных традиций. Каждый год на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл[3] проходит карнавальное шествие, которое своим праздничным возбуждением и великолепным оформлением являет живую традицию региона Карибского моря. Другим примером могут служить американцы ирландского происхождения в третьем поколении, которые с гордостью говорят о себе как об американцах ирландского происхождения, несмотря на то что прожили всю жизнь в Соединенных Штатах. Ирландские традиции и обычаи часто передаются от одного поколения к другому и в семьях, и в пределах более крупных ирландских общин. Хотя принадлежность к тому или иному этносу поддерживается традицией, она отнюдь не является чем-то статическим и неизменным. Напротив, этническая принадлежность изменчива и может приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Так, в случае американцев ирландского происхождения можно видеть, как народные ирландские обычаи хотя и сохранились, но претерпели изменения в контексте американского общества. Одним из примеров того, как ирландское наследие получает новую форму, имеющую отчетливо американскую окраску, являются шумные парады во многих американских городах в день Святого Патрика. Сходные явления можно наблюдать во многих местах земного шара — там, где в результате миграции, войны, перемещения рынков труда или каких-либо других фактов происходило смешение народов и возникали этнически разные общины. Социологи охотно используют термин «этническая принадлежность», поскольку по своему смыслу это понятие является полностью социальным. Однако ссылки на «этническую принадлежность» и этнические различия могут становиться неубедительными, особенно если при этом подразумевается противопоставление некоей «этнической» норме. В Великобритании, например, термин «этническая принадлежность» используется, как правило, по отношению к культурным обычаям и традициям, отличающимся от «исконных» британских обычаев. В широком смысле термин «этнический» используется применительно к таким различным явлениям, как кухня, одежда, музыка и соседи по месту жительства и обозначает обычаи, которые представляются «не-английскими». Использование этнических ярлыков в столь обобщенном виде таит в себе опасность и может привести к противопоставлению «нас» и «их» в тех регионах, где определенные части населения воспринимаются как «этнические», а другие нет. В действительности этническая принадлежность — это свойство, которым обладают все люди, живущие на Земле, а не просто отдельные части населения. Однако на практике, как мы увидим дальше, понятие «этническая принадлежность» чаще всего ассоциируется с группами, составляющими меньшинство населения. Этнические меньшинства Понятие этнических меньшинств (групп, составляющих меньшинство населения) широко используется в социологии и является не просто количественной характеристикой. Можно назвать много групп людей, образующих меньшинство в статистическом смысле, скажем, люди, обладающие ростом выше шести футов (и 1,86 м), или люди весом свыше 250 фунтов (≈ 113 кг), но с точки зрения социологии эти группы людей меньшинствами не считаются. Понятие меньшинства в социологии предполагает, что члены меньшинства находятся в менее благоприятном положении в обществе по сравнению с большинством населения и что им присуще определенное чувство групповой солидарности, чувство общности. Это чувство лояльности по отношению к группе, а также ощущение общих интересов обычно усиливаются, если группа становится жертвой предрассудков и дискриминации. Таким образом, социологи используют термин «меньшинство» не в буквальном смысле, а в значении «группа, занимающая в обществе подчиненное положение» — независимо от ее реальной численности. Известно много случаев, когда «меньшинство» является в действительности большинством населения! В некоторых географических регионах, например во внутренних городах, группы этнических меньшинств образуют большинство населения, но их тем не менее называют «меньшинствами». Это происходит потому, что термин «меньшинство» отражает их неблагоприятное положение. Иногда женщин называют группой меньшинства, хотя во многих странах мира они в количественном отношении составляют большинство. Тем не менее, чтобы подчеркнуть тот факт, что женщины обычно находятся в неравном положении с мужчинами («большинство»), термин «меньшинство» применяют и по отношению к ним. Представители групп меньшинств зачастую сами имеют тенденцию рассматривать себя как людей, обособленных от большинства. Обычно они и физически, и социально изолированы от более крупного сообщества. Они, как правило, сконцентрированы в определенных регионах, городах или областях страны. Почти не наблюдается смешанных браков между представителями групп большинства и группами меньшинств или между представителями групп этнических меньшинств. Члены групп этнических меньшинств иногда весьма активно поддерживают идею эндогамных браков (т. е. браков, заключаемых внутри группы), с тем чтобы сохранить свою своеобразную культуру. Некоторые социологи считают правильным употреблять термин «меньшинство» обобщенно — применительно к любым группам, страдающим от предрассудков со стороны «большинства» общества. Термин «меньшинство» привлекает внимание к всеобъемлющему распространению дискриминации, подчеркивая сходство жизненного опыта различных притесняемых групп общества. Так, много общих черт имеют антисемитизм, гомофобия (ненависть к гомосексуалистам) и расизм, и на примере этих явлений можно видеть, как притеснение, направленное против различных групп, часто приобретает сходные формы. Однако в то же время, если говорить о «меньшинствах» обобщенно, это может привести в результате к обобщениям относительно дискриминации и угнетения, которые не будут точно отражать то, что испытали на себе конкретные группы. Хотя и гомосексуалисты, и пакистанцы образуют в Лондоне меньшинства, притеснения, которым они подвергаются в обществе, отнюдь не являются одинаковыми.────────────────────────────┐ ■ «Черный» как этническое определение В использовании термина «черный» для определения отдельных людей или целых народов с течением времени произошли коренные изменения, и он является сейчас в высшей степени спорным. Долгое время «черный» было презрительным ярлыком, который использовался белыми. И только в 1960-е гг. этот термин оказался «востребованным» американцами и британцами африканского происхождения, которые стали применять его к самим себе с позитивной оценкой. «Черный» теперь не оскорбление по расовому признаку, но источник гордости и идентичности. Лозунг «черный — это значит прекрасный», а также мотивационное понятие «власть черных» были ключевыми для освободительного движения «черных». Сходные идеи были использованы, чтобы в противопоставлении «белого» и «черного» как символов устранить превосходство «белизны» над «чернотой». По мере того, как термин «черный» становился в обществе все более принятым, его начали применять по отношению к небелым гражданам неафриканского происхождения, в частности, к выходцам из Азии. Однако термин «черный» представлял собой нечто большее, чем просто внешнее определение: он также содержал в подтексте некое политическое сообщение. Это был призыв ко всем «черным» людям сплотиться в борьбе за перемены, поскольку все они испытали расизм и отчуждение со стороны белого населения. В конце 1980-х гг. некоторые ученые и представители этнических меньшинств высказали сомнение в корректности использования термина «черный» применительно ко всему небелому населению в целом. По их утверждению, хотя все небелые подвергались угнетению в равной степени, термин «черный» затушевывает различия между разными этническими группами. По мнению тех, кто возражал против обобщенного употребления этого термина, следует уделять больше внимания особенностям опыта отдельных этнических меньшинств, а не исходить из общности их опыта. Один из главных критиков, Тарик Модуд, утверждал, что термин «черный» употребляется слишком расплывчато — иногда он обозначает только лиц африканского происхождения, в других же случаях его относят обобщенно и к выходцам из Азии. По мнению Модуда, термин «черный» излишне подчеркивает, что угнетение основано на признаке цвета кожи и игнорирует тот факт, что расизм в значительной мере опирается и на различие культур. По словам Модуда, выходцы из Азии обычно не считают себя «черными» из-за мощных ассоциаций между термином «черный» и судьбой людей африканского происхождения. Наконец, как указывает Модуд, определение «черный» подразумевает наличие некоего существенного единства, что изначально неверно. Небелые народы представлены множеством разных типов, совершенно так же, как группы внутри так называемого «белого» населения (Modood 1994). В социологии также нет согласия относительно употребления термина «черный». Хотя критические замечания, высказанные Модудом и другими авторами, являются, несомненно, обоснованными, термин «черный» остается удобным способом указания на тот факт, что большинство небелых одинаково испытали на себе, что такое белый расизм. Если судить по тенденциям, имеющим место в социологии последних лет, озабоченность Модуда встретила поддержку. Авторы, близкие к школе постмодернизма, выдвигают на первый план различия между разными группами этнических меньшинств и не ограничиваются признанием важности обобщенного определения «черный». ────────────────────────────┘
Многие меньшинства отличаются от остальной части населения и в этническом, и в физическом отношении. Так обстоит дело с выходцами из Вест-Индии и Азии в Великобритании и с афроамериканцами, китайцами и несколькими другими группами в Соединенных Штатах. Как уже говорилось выше, определение какой-то группы людей или системы традиций как «этнических» отличается некоторой избирательностью. Например, если вест-индийцы в Великобритании и афроамериканцы в Соединенных Штатах явно представляют собой меньшинства, британцы или американцы итальянского или польского происхождения с меньшей вероятностью будут признаны этническими меньшинствами. Часто решающим фактором при выделении этнических меньшинств являются такие физические различия, как цвет кожи. Как будет показано в этой главе, этнические разграничения редко бывают нейтральными — обычно они ассоциируются с неравным положением по отношению к богатству и власти, а также с антагонизмом между группами.
────────────────────────────┐ ■ Дело Стивена Лоуренса В 1993 г. черный подросток Стивен Лоуренс был убит пятью белыми молодыми людьми в результате нападения на расовой почве, когда он с другом ждал автобуса на остановке на юго-востоке Лондона. Без всякой причины молодые люди напали на Лоуренса, дважды ударили его ножом и скрылись, оставив его умирать на тротуаре. За это убийство никто не понес наказания, что явилось грубым нарушением правосудия и свидетельством глубокого проникновения расизма в системы правопорядка и уголовного права. Комиссия, рассматривавшая это дело, вынесла заключение о том, что расследование убийства Лоуренса с самого начала велось неправильно (Macpherson 1999). Прибыв на место преступления, полиция не сделала никаких попыток задержать молодых людей, напавших на Лоуренса, и продемонстрировала неуважение к его родителям, отказав им в доступе к информации по делу об убийстве их сына, хотя они имели на это полное право. Была выдвинута ошибочная версия о том, что Лоуренс был не невинная жертва неспровоцированного нападения расистов, но якобы он участвовал в уличной драке. Полицейское наблюдение за подозреваемыми было плохо организовано и велось как «акция, не представляющая срочности»; обыски дома у подозреваемых, например, были проведены поверхностно, несмотря на имевшиеся сведения о том, где могло храниться орудие убийства. Старшие офицеры, которые могли вмешаться и исправить допущенные ошибки, не сделали этого. В ходе следствия и последующих дополнительных расследований полицейские скрывали важную информацию, выгораживали друг друга и отказывались нести ответственность за совершенные ошибки. Благодаря настойчивости родителей Лоуренса трое подозреваемых были в 1996 г. привлечены к суду, но дело против них развалилось после того, как судья исключил из материалов дела показания одного свидетеля, объявив их неприемлемыми. В 1997 г. министр внутренних дел Джек Стро заявил о проведении полного расследования дела Лоуренса: материалы расследования были опубликованы в 1999 г. в Докладе Макферсона. Авторы доклада были единодушны в своем заключении:
Выводы, которые следует сделать, исходя из всех материалов, связанных с расследованием убийства Стивена Лоуренса на почве расизма, очевидны. Нет никаких сомнений в том, что в ходе следствия были допущены серьезные ошибки. Расследование обнаружило профессиональную некомпетентность, а также проявления институционального расизма и отсутствие контроля со стороны руководства полиции.Одним из важнейших результатов работы комиссии было обвинение в институциональном расизме. Авторы Доклада пришли к заключению, что не только полиция Лондона, но и многие другие институты, включая систему уголовного правосудия, виновны в «общей неспособности... предоставить адекватные профессиональные услуги людям из-за цвета кожи, культуры или этнического происхождения. Это можно увидеть или проследить в процессах, отношениях и действиях, которые являются, по существу, дискриминационными из-за неосознанного предубеждения, невежества, бездумности и расистских стереотипов, которые ставят представителей этнических меньшинств в неблагоприятное положение» (Macpherson 1999). В завершении Доклада Макферсона говорилось, что «каждый общественный институт обязан проанализировать свою политику и результаты своей политики», чтобы гарантировать, что ни одна часть населения не окажется в неблагоприятном положении. Было предложено семьдесят рекомендаций для улучшения методов расследования полицией преступлений, связанных с расизмом. В числе этих рекомендаций обучение полицейских внимательному отношению к расовым проблемам, более широкие властные полномочия для увольнения расистски настроенных полицейских, более четкое определение того, что следует считать инцидентом на почве расизма и обязательство увеличить в органах полиции общее число черных полицейских и полицейских — выходцев из Азии. ────────────────────────────┘
Предрассудки, дискриминация и расизм
Понятие расы возникло в современную эпоху, но предрассудки и дискриминация были широко распространены в истории человечества, и нам следует начать с четкого разграничения этих понятий. Предрассудки относятся к мнениям или отношениям, которые существуют у членов одной группы относительно другой группы. Предвзятое мнение предубежденного человека зачастую основано на молве, а не на прямых свидетельствах и с трудом поддается изменению даже перед лицом новой информации. У людей могут быть благожелательные предубеждения по отношению к группам, с которыми они отождествляют себя, и отрицательные предубеждения по отношению к другим. Человек, предубежденный против какой-либо конкретной группы, откажется судить о ней по справедливости. Предубеждение часто основывается на стереотипах — закрепленных и неизменных характеристиках, которые приписываются той или иной группе людей. Стереотипы нередко закрепляются за группами этнических меньшинств, как, например, мнение о том, что все черные мужчины от природы — прекрасные спортсмены или что все выходцы из Восточной Азии трудолюбивые, прилежные учащиеся. В некоторых стереотипах содержится крупица истины, но в крайне преувеличенном виде. Другие стереотипы представляют собой просто некий механизм замещения, при котором чувство враждебности или гнева направляется против объектов, не являющихся подлинной причиной указанных эмоций. Стереотипы укореняются в культурных представлениях людей и с трудом поддаются выкорчевыванию, даже если они являются грубым искажением действительности. Примером живучести стереотипа, не имеющего реального основания в действительности, может служить убеждение, согласно которому матери-одиночки предпочитают получать социальное пособие и отказываются работать. На самом деле очень большое число одиноких матерей работает и многие из тех, кто получает государственное пособие, предпочли бы работать, но не имеют возможности пристроить детей в детские учреждения. Если понятие предубеждения связано с отношениями и мнениями, то дискриминация означает реальное поведение по отношению к другой группе или человеку. Дискриминацией можно считать действия, которые лишают представителей одной группы тех возможностей, которые открыты для других, как в том случае, когда черному британцу отказывают в работе, тогда как белому ее предоставляют. Хотя в основе дискриминации часто лежит предубеждение, эти два явления могут существовать раздельно. Людям может быть присуще предубежденное отношение к кому-либо, но они не обязательно руководствуются им в своих действиях. Столь же важно, что дискриминация не обязательно возникает непосредственно из предубеждения. Например, покупая дом, белый может постараться не приобретать собственность в районах, где преобладает черное население, однако не из враждебного отношения к тем, кто там живет, но опасаясь возможного падения цен на недвижимость в этом месте. В данном случае предубежденное отношение влияет на дискриминацию, но влияет опосредованно.Расизм
Для существования расизма — предубеждения, основанного на социально значимых физических различиях, — принципиально важным является понятие расы. Расист — это человек, считающий, что некоторые люди стоят выше или ниже других в силу особенностей, связываемых с расой. Расизм обычно понимают как поведение или отношение, присущее определенным людям или группам людей. Так, отдельный человек может проповедовать расистские взгляды или он может присоединиться к группе, например, к организации сторонников превосходства белых, деятельность которой носит расистский характер. Однако многие считают, что расизм есть нечто большее, чем просто взгляды, проповедуемые горсткой фанатиков. Расизм укоренен в самой структуре и функционировании общества. Понятие институционального расизма предполагает, что расизм регулярным образом пронизывает все общественные структуры. Согласно этой точке зрения, такие институты, как полиция, органы здравоохранения и система образования — все проводят политику, которая является благоприятствующей для отдельных групп населения и одновременно дискриминационной в отношении других. Понятие институционального расизма было выдвинуто в конце 1960-х гг. в Соединенных Штатах борцами за гражданские права, считавшими, что расизм — это не просто выражение мнения незначительного меньшинства населения, но что он пронизывает самую ткань общества. В последующие годы существование институционального, или ведомственного, расизма стало широко принятым и было открыто признано во многих ситуациях. Проведенная недавно проверка действий Столичной полиции в Лондоне в связи с убийством Стивена Лоуренса (см. предыдущую врезку «Дело Стивена Лоуренса» в первом разделе этой главы) показала живучесть ведомственного расизма в полицейских органах и системе уголовного правосудия. В сфере культуры и искусства ведомственный расизм проявил себя в телевизионных передачах (отрицательное или одностороннее изображение этнических меньшинств в программах) и в международной индустрии моды (повсеместно распространенное предубеждение против небелых манекенщиц). От «старого расизма» к «новому расизму» Подобно тому, как дискредитировало себя понятие биологической расы, в наши дни в обществе редко находит открытое выражение и «биологический» расизм старого толка, основанный на различиях в физических свойствах людей. Важными поворотными пунктами в отказе от «биологического расизма» послужили такие события, как конец закрепленной законом сегрегации в Соединенных Штатах и падение апартеида в Южной Африке. В обоих этих случаях прокламировались расистские взгляды, устанавливающие прямую связь между физическими признаками и биологической неполноценностью. Подобные откровенно расистские идеи редко высказываются сегодня, за исключением случаев преступлений на почве расовой ненависти или политических программ определенных экстремистских группировок. Но это вовсе не означает, что расистских взглядов в современных обществах больше не существует. Скорее, как утверждают некоторые ученые, на смену им пришел более изощренный новый расизм (или культурный расизм), который использует идею различий в культуре для изоляции определенных групп населения (Barker 1981). Те, кто говорит о возникновении «нового расизма», указывают на то, что теперь вместо аргументов биологических для дискриминации определенных частей населения используются аргументы от культуры. Согласно этим взглядам, иерархии по шкале высший — низший строятся исходя из ценностей культуры большинства населения. Группы людей, стоящие обособленно от большинства, могут оттесняться на периферию общества или подвергаться очернению за отказ от ассимиляции. Высказывается предположение о том, что «новый расизм» имеет явную политическую окраску. В Великобритании это можно наблюдать в содержании учебных планов государственных школ, в котором упор делается на творчество «коренных» британских писателей и на британскую историю, а не на многообразие культур, а также в политике ограничения иммиграции, направленной на сокращение числа небелых иммигрантов. Другими очевидными примерами «нового расизма» являются попытки некоторых американских политиков проводить в области языка официальную политику «только английский», а также в конфликтах во Франции по поводу девушек, выражающих желание носить в школах исламский головной платок. То обстоятельство, что расизм все больше прибегает не к биологическим доводам, а к доводам из области культуры, привело некоторых ученых к мнению, что мы живем в век «множества расизмов», когда дискриминации подвергаются разные части населения по разным причинам (Modood et al. 1997).Попытки объяснения явлений расизма и дискриминации по этническому признаку
Психологические объяснения
Психологические теории могут помочь нам в понимании природы предубеждений, а также того, почему этнические различия столь важны для людей. Поучительны в этом отношении два подхода, существующие в психологии. В первом случае отталкиваются от того факта, что предубеждение оперирует в основном стереотипами мышления. Некоторые люди иногда, опираясь на стереотипы, дают выход своему антагонизму против «козлов отпущения», т. е. против людей, на которых возлагают вину за то, в чем те не виноваты. Поиски козлов отпущения часто наблюдаются там, где две притесняемые этнические группы конкурируют одна с другой ради достижения экономических выгод. Например, люди, выступающие с прямыми расистскими нападками против черных, зачастую сами находятся в таком же экономическом положении, что и черные. Они обвиняют черных в тех бедах, причины которых совершенно иные. Козлами отпущения, как правило, становятся те группы людей, которым присущи отличия и которые сравнительно слабы, вследствие чего их легко сделать объектом преследования. В различные эпохи истории Западного мира в роли невольных козлов отпущения выступали протестанты и католики, евреи и итальянцы, черные африканцы и цыгане, наряду с многими другими. При другом подходе исходят из предположения, что, возможно, существуют известные типы людей, которые в результате ранней социализации особенно склонны к мышлению стереотипами и к проецированию — бессознательному приписыванию другим людям своих собственных желаний или неприятий. В знаменитом исследовании, проведенном Теодором Адорно и его сотрудниками в 1940-х гг., был диагностирован тип человеческого характера, названный термином авторитарная личность (Adorno et al. 1950). Исследователи создали несколько шкал измерения для оценки уровня предубежденности. При работе с одной шкалой людей, например, спрашивали, согласны они или нет с рядом утверждений, выражающих крайне антисемитские взгляды. Люди, которых диагностировали как предубежденных против евреев, обычно выражали также негативное отношение к другим меньшинствам. Люди, обладающие авторитарным типом личности, по мнению исследователей, обычно бывают суровыми конформистами, покорными по отношению к вышестоящим и неприступными по отношению к подчиненным. Такие люди являются также крайне нетерпимыми в своих религиозных и сексуальных воззрениях. Как предположили исследователи, характерные черты авторитарной личности являются результатом такой модели воспитания, при которой родители не могут прямо выразить свою любовь к детям и ведут себя отчужденно и строго. Такие дети, став взрослыми людьми, испытывают постоянное беспокойство, с которым они могут справиться только приняв для себя жесткие взгляды. Они не способны действовать в неоднозначной ситуации и, не замечая противоречий, имеют тенденцию думать стереотипами. На это исследование Адорно обрушился шквал критики. Некоторые авторы поставили под сомнение научную ценность использованных шкал, по которым производилось измерение признаков. Другие утверждали, что авторитарность не является свойством личности, но отражает ценности и нормы конкретных субкультур внутри более широкого общества. Вероятно, исследование представляет больший интерес для понимания авторитарных моделей мышления в целом, чем для выделения конкретного типа личности. Наконец, следует сказать, что подобные теории исходят из того, что расизм представляет собой систему верований, присущих небольшому числу людей, которые обнаруживают определенные психологические черты. В противоположность этому многие социологи, пытаясь объяснить такое явление, как расизм, ищут причины расизма и предубеждений в культуре или структурах самого общества.Социологические объяснения
Психологические механизмы, очерченные выше, встречаются у представителей всех обществ, и они помогают понять, почему антагонизм между разными этническими группами — столь обычное явление в разных культурах. Однако они очень мало говорят нам о тех социальных процессах, которые оказываются вовлеченными при дискриминации. И при изучении таких процессов нужно исходить из понятий социологии. Этноцентризм, групповая закрытость и распределение ресурсов Социологическими понятиями, важными для понимания проблемы этнических конфликтов в общем плане, являются понятия этноцентризма, закрытости группы и распределения ресурсов. Этноцентризм — это подозрительное отношение к чужим, сочетающееся с тенденцией оценивать культуру других людей исходя из своей собственной культуры, и мы уже сталкивались с этим понятием выше (раздел «Концепция культуры» в главе 2). По существу, все культуры были до известной степени этноцентричными, и нетрудносебе представить, как этноцентризм сочетается с мышлением стереотипами. Люди, не являющиеся членами группы, воспринимаются как чужаки, варвары или как люди морально и умственно неполноценные. Именно так в большинстве цивилизаций относились к представителям более мелких культур, например, и такое отношение послужило причиной бесчисленных этнических столкновений в истории человечества. Этноцентризм часто сопровождается закрытостью этнических групп. Закрытость группы является результатом процесса, посредством которого группа возводит границы, отгораживающие ее от других групп. Эти границы образуются с помощью приемов исключения, усугубляющих различия между этническими группами. К числу таких приемов относятся ограничение или полное запрещение смешанных браков между группами, сокращение социальных контактов и экономических связей, как, например, торговли, и физическое разделение групп (как в случае этнических гетто). Афроамериканцы в США испытали на себе все три механизма исключения: в некоторых штатах смешанные браки между представителями разных рас были вне закона, экономическая и социальная сегрегация на Юге была закреплена законом, а обособленные черные гетто до сих пор существуют в большинстве крупных городов. Иногда границы разделения взаимно навязывают друг другу группы, имеющие одинаковый социальный статус: их члены держатся отдельно друг от друга, но ни одна из групп не доминирует над другой. Однако чаще какая-то этническая группа обладает известной властью над другой. При таких условиях закрытость группы совпадает с характером распределения ресурсов, устанавливая неравенство в распределении богатства и материальных благ. Некоторые из самых ожесточенных конфликтов между этническими группами были вызваны именно закрытостью групп, потому что границы между ними сигнализируют в первую очередь о неравенстве в отношении к богатству, власти или социальному положению. Понятие закрытости, обособленности этнической группы помогает понять не только бросающиеся в глаза, но и более скрытые различия, отделяющие одну человеческую общину от другой, т. е. не просто, почему членов некоторых групп убивают, линчуют, избивают или преследуют, но также и почему их не берут на хорошую работу, почему они не получают хорошее образование или не могут жить, где хотят. Богатство, власть и социальный статус — ресурсы, которых немного, и у некоторых групп их больше, чем у других. Чтобы сохранить свое особое положение, привилегированные группы иногда совершают крайние акты насилия против других групп. Точно так же к насилию как к средству улучшить свое положение могут прибегнуть и члены групп, ущемленных в правах.────────────────────────────┐ ■ Живучесть расизма В чем причины распространенности расизма? Таких причин несколько. Одна из них заключается в том, что в европейской культуре противопоставление белого и черного в качестве культурных символов имело глубокие корни. Белое в течение долгого времени ассоциировалось с чистотой, черное — со злом (этот символизм никак не связан с природой вещей, в других культурах наблюдается обратное соотношение). Символ «черный цвет» имел отрицательное значение задолго до того, как Запад стал широко контактировать с черными народами. Эти символические значения оказали влияние на отношение европейцев к черным, когда они впервые встретились на побережье Африки. Ощущение, что между черными и белыми народами существует коренное различие, а также то обстоятельство, что черные были «язычниками», т. е. не имели представления о христианстве, привели к тому, что многие европейцы стали относиться к черным с презрением и страхом. И хотя более крайние проявления такого отношения в наши дни исчезли, трудно отказаться от мысли, что элементы этого культурного символизма «черный — белый» по-прежнему имеют широкое распространение. Вторым важным фактором, приведшим к современному расизму, было появление и распространение самого понятия расы. Известно, что квазирасистские взгляды существовали сотни лет, но понятие расы как совокупности устойчивых признаков возникло вместе с появлением «науки о расах», о которой мы уже говорили выше. Понятие превосходства белой расы, не имеющее никакой реальной ценности, до сих пор остается ключевым элементом белого расизма. Третьей причиной возникновения современного расизма являются эксплуататорские отношения, которые европейцы установили с небелыми народами. Наверное, не было бы торговли рабами, если бы не глубокая уверенность европейцев в том, что черные принадлежат к низшей расе и, по существу, не являются людьми. Расизм помогал оправдывать колониальное угнетение небелых народов и отказывал им в праве на участие в политической жизни, которое было завоевано белыми в европейских странах. Некоторые социологи считают, что лишение небелых народов гражданских прав и поныне остается главной характерной чертой современного расизма. ────────────────────────────┘
Теории конфликта Некоторые ученые попытались ввести расизм в общую культуру общества, утверждая, что он представляет собой разновидность естественного консерватизма, возникающего во времена изменений и нестабильности. В таких объяснениях расизм предстает как разновидность защитной реакции против введения новых обычаев, языков и нового образа жизни, угрожающих существующему порядку (Cashmore 1987). Однако подобные аргументы не вполне убедительны, поскольку они не объясняют, как именно расизм связан со структурами и силами на уровне общества, а не на уровне отдельных людей. В отличие от этого теории конфликта изучают связи между расизмом и предубеждениями с одной стороны и властными структурами и неравенством — с другой. Раньше такие объяснения расизма отражали серьезное влияние идей Маркса, согласно которым определяющим фактором для всех аспектов общества признавалась экономическая система. В некоторых марксистских теориях утверждалось, что расизм — порождение капиталистической системы, и указывалось, что правящий класс использовал рабство, колонизацию и расизм как орудия эксплуатации трудящихся (Сох 1959). Впоследствии представители неомарксизма признали подобные формулировки слишком жесткими и упрощенными и высказывали мнение, что расизм является порождением не только исключительно экономических сил. Так, в ряде статей, опубликованных Бирмингемским центром изучения современной культуры в 1982 г. под названием «Ответный удар со стороны империи», был выражен более широкий взгляд на истоки расизма. Соглашаясь с тем, что капиталистическая эксплуатация труда является одним из важных факторов, вызывающих появление расизма, Джон Соломос, Пол Джилрой и другие указывают также на множество исторических и политических сил, которые привели к появлению конкретного рода расизма в Великобритании в 1970-х и 1980-х гг. По их мнению, расизм — это сложное и многостороннее явление, предполагающее взаимодействие сущности и верований как этнического меньшинства, так и рабочего класса. Для них расизм представляет собой нечто гораздо большее, чем система идей, используемая для подавления небелого населения могущественными элитами (Hall S. et al. 1982).
Этническая интеграция и этнические конфликты
Во многих государствах мира в настоящее время существует многоэтническое население. Часто такая ситуация наблюдалась на протяжении веков. В ряде государств Среднего Востока и Центральной Европы, например в Турции или Венгрии, этническая неоднородность возникла в результате многовековой истории, в ходе которой неоднократно менялись границы, а также как следствие оккупации чужими странами и региональной миграции. Превращение других обществ в многоэтнические образования происходило более быстрыми темпами благодаря сознательной политике, поощряющей миграцию, или в результате наследства, полученного при распаде колониальных империй. В век глобализации и быстрых социальных перемен все возрастающее число государств сталкивается и с большими преимуществами, которые дает этническое разнообразие, и одновременно с серьезными проблемами, с которыми оно сопряжено. По мере дальнейшей интеграции мировой экономики ускоряются темпы международной миграции; по-видимому, можно с уверенностью сказать, что передвижение и смешение населения в последующие годы усилятся. Между тем, напряженность в межэтнических отношениях и конфликты продолжают вспыхивать в различных обществах по всему миру, угрожая привести к распаду некоторых многоэтнических государств и к возникновению в других государствах постоянных очагов насилия. Как можно сгладить этнические противоречия и предотвратить межэтнические столкновения? Каковы должны быть отношения в многоэтнических обществах между группами этнических меньшинств и большинством населения? Существуют три основных модели этнической интеграции, которые были приняты в многоэтнических обществах с учетом указанных сложных задач: ассимиляция, «плавильный котел» и плюрализм.Модели этнической интеграции
Первый путь — это ассимиляция, которая означает, что иммигранты отказываются от своих исконных обычаев и действий и формируют свое поведение в соответствии с ценностями и нормами большинства населения. По мнению сторонников ассимиляции, иммигранты должны изменить свой язык, одежду, образ жизни и культурные воззрения, для того чтобы интегрироваться в новый социальный порядок. Так, в Соединенных Штатах, которые сформировались как «нация иммигрантов», на многие поколения иммигрантов оказывалось давление, чтобы они «ассимилировались» таким образом и многие из детей иммигрантов стали в результате более или менее полными «американцами». В Соединенном Королевстве политика также была преимущественно направлена на ассимиляцию иммигрантов в британское общество. Вторая модель — это модель «плавильного котла». В соответствии с этой моделью традиции иммигрантов не устраняются в пользу традиций, преобладающих у исконного населения, как это происходит при ассимиляции, но смешиваются с ними и образуют новые развивающиеся модели культуры. При этом в общество не только «привносятся» извне другие культурные ценности и нормы, но создается также многообразие, по мере того как этнические группы приспосабливаются к более широким социальным окружениям, в которых они оказались. Многие полагали, что модель «плавильного котла» является наиболее желательным результатом в ситуации этнической неоднородности. Традиции и обычаи иммигрантов не исчезают, но вносят свой вклад в формирование постоянно меняющейся социальной среды. Свидетельством осуществляющейся модели «плавильного котла» являются гибридные формы кухни, моды, музыки и архитектуры. В известной, ограниченной, степени эта модель является точным выражением развития определенных аспектов американской культуры. Хотя преобладающей остается культура «англо», ее характер в некоторых областях отражает влияние многих различных групп, составляющих в настоящее время американское население. Третья модель — это модель культурного плюрализма. С точки зрения культурного плюрализма наиболее благоприятным является путь, который способствует развитию подлинно плюралистического общества — общества, где многочисленные различные субкультуры признаются в равной степени ценными. При плюралистическом подходе группы этнических меньшинств рассматриваются в обществе как равноценные партнеры, понимая под этим, что они обладают одинаковыми правами с этническим большинством населения. Этнические различия уважаются и приветствуются как необходимые компоненты национальной жизни государства в целом. Соединенные Штаты и другие западные страны являются плюралистическими во многих отношениях, но этнические различия ассоциировались в них по большей части с неравенством, а не с равным, но независимым членством в национальном сообществе. В Великобритании и других странах Европы лидеры большинства групп этнических меньшинств все больше склоняются к плюрализму. Чтобы достичь статуса «другой, но равный», потребуются значительные усилия, и пока это представляется весьма отдаленной перспективой. Этнические меньшинства все еще воспринимаются большинством людей как угроза: угроза их занятости, их безопасности и «национальной культуре». Сохраняется тенденция превращать этнические меньшинства в козлов отпущения. Поскольку молодому поколению в Западной Европе очень часто присущи те же предрассудки, что и старшим поколениям, этническим меньшинствам в большинстве стран придется и в будущем иметь дело с продолжающейся дискриминацией, при том что социальный климат будет характеризоваться напряженностью и тревогой.Этнические конфликты
Этническое многообразие может значительно обогащать общества. Мультиэтнические государства часто представляют собой полные жизни динамические образования, сильные благодаря тому вкладу, который вносят в их благоденствие разные группы их жителей. Но такие государства могут также оказаться беспомощными перед лицом внутренних столкновений или внешней угрозы. Различия в языке, в религии и культуре могут стать поводом для открытого антагонизма между этническими группами. Иногда общество, история которого на протяжении долгого времени характеризовалась этнической терпимостью и интеграцией, быстро охватывают этнические конфликты — враждебные столкновения между различными этническими группами или общинами. Именно это недавно произошло в бывшей Югославии — регионе, который широко известен своей богатой мультиэтнической историей. Балканы в течение многих веков были перекрестком дорог для Европы. Столетия миграции и господства сменявших друг друга империй привели к появлению неоднородного, смешанного населения, состоящего преимущественно из славян (таких как православные сербы и хорваты-католики), мусульман и евреев. Начиная с 1991 г. параллельно с важными политическими и социальными изменениями, последовавшими за падением коммунизма, в нескольких районах бывшей Югославии разразились кровавые столкновения между разными этническими группами. Эти конфликты в бывшей Югославии включали попытки этнических чисток, создания этнически однородных территорий путем массового изгнания оттуда других этнических групп населения. Так, Хорватия стала независимым «моноэтническим» государством после дорого обошедшейся войны, в ходе которой из страны были изгнаны тысячи сербов. Война, разразившаяся на Балканах в 1992 г. между сербами, хорватами и мусульманами, повлекла за собой этническую чистку мусульманского населения Боснии, предпринятую сербами. Тысячи мусульманских мужчин были брошены в лагеря для интернированных, а мусульманские женщины систематически подвергались насилию. Причиной войны в Косове в 1999 г. послужили выдвинутые против сербской армии обвинения в том, что она проводит в этой области этническую чистку населения от косовских албанцев (мусульман). И в Боснии, и в Косове этнический конфликт приобрел международный характер. Сотни тысяч беженцев наводнили соседние регионы, еще больше дестабилизируя там обстановку. Чтобы защитить права представителей этнических групп, ставших жертвой этнических чисток, в конфликт вмешались западные государства, используя как средства дипломатии, так и силы военных контингентов. В короткий срок такое вмешательство помогло остановить непрекращавшееся кровопролитие. Однако обнаружились и непредвиденные последствия. В Боснии установился хрупкий мир, но только благодаря присутствию миротворческих войск и расчленению страны на отдельные этнические анклавы. В Косове после серии бомбардировок со стороны сил НАТО прошел процесс «противоположных этнических чисток». Этнические албанцы — косовары начали вытеснять из Косова местное сербское население, при этом присутствие в крае руководимых ООН войск Косовской армии освобождения оказалось недостаточным для предотвращения новой вспышки этнического конфликта. Этнические чистки предполагают вынужденное переселение определенных этнических групп населения путем целенаправленных насильственных действий, преследования, угроз и кампании террора. Геноцид, в отличие от этнических зачисток, — это систематическое уничтожение одной этнической группы другой этнической группой. Термин «геноцид» часто использовался для описания процесса, в ходе которого исконное население Северной и Южной Америки было истреблено после прибытия европейских первооткрывателей и поселенцев. Болезни, принудительное переселение и кампании насилия привели к исчезновению многих туземных народов, хотя о степени преднамеренности и систематическом характере этих действий можно спорить. XX в. был свидетелем появления «организованного» геноцида, и ему принадлежит сомнительная слава самого «геноцидного» столетия в истории. Во время геноцида армян с 1915 по 1923 гг. свыше одного миллиона армян погибло от рук оттоманских турок. Нацистский холокост привел к гибели свыше шести миллионов евреев и остается самым страшным примером планомерного уничтожения одной этнической группы со стороны другой. В более недавнее время этническое большинство хуту в Руанде развязало в 1994 г. кампанию геноцида против этнического меньшинства тутси, в ходе которой за три месяца погибло свыше 800 тыс. чел. Более двух миллионов жителей Руанды бежали в соседние страны, что привело к усилению этнической напряженности в таких странах, как Бурунди и Заир (теперь Конго). Было замечено, что кровавые конфликты на всем земном шаре все чаще имеют причиной этнические различия. Только незначительная часть войн в наши дни происходит между государствами, в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с гражданскими войнами на этнической почве. В мире растущей взаимозависимости и конкуренции все более важными становятся интернациональные факторы в формировании межэтнических отношений, в то время как последствия «внутренних» этнических конфликтов дают о себе знать далеко за пределами национальных границ. Как мы уже видели, этнические конфликты привлекают международное внимание и иногда приводят к прямому вмешательству. Были созданы международные трибуналы по расследованию военных преступлений с целью ареста и предания суду виновников этнических чисток и геноцида в Югославии и Руанде. Необходимость реагировать на межэтнические конфликты и предотвращать их — это одна из ключевых проблем, стоящих как перед отдельными государствами, так и перед международными политическими структурами. Хотя случаи этнической напряженности часто наблюдаются, интерпретируются и описываются на местном уровне, они все больше приобретают национальные и интернациональные масштабы.Глобальная миграция
Много веков назад европейский экспансионизм привел к массовому переселению народов, которое и привело к складыванию многих из мультиэтнических обществ в мире. Однако и после этих первоначальных волн глобальной миграции народы земли продолжали взаимодействовать и смешиваться, и это в основном определило этнический состав населения многих стран. В настоящем разделе книги мы сначала рассмотрим понятия, связанные с глобальной миграцией, а потом обратимся к тем последствиям, которые имела миграция в частности для Соединенного Королевства.Миграционные движения
Хотя миграция — явление не новое, темпы ее, по-видимому, ускоряются в связи с наблюдаемым процессом глобальной интеграции. В моделях происходящей во всем мире миграции можно видеть отражение быстро меняющихся экономических, политических и культурных связей между странами. Согласно некоторым подсчетам, в 1990 г. миграцией было охвачено свыше 80 млн чел., 20 млн из которых были беженцами. Как представляется, эти цифры в начале XXI в. еще больше возрастут, вследствие чего некоторые ученые уже назвали этот век «веком миграций» (Castles and Miller 1993). Иммиграция (въезд людей в страну для постоянного проживания) и эмиграция (процесс, в ходе которого люди покидают одну страну, чтобы поселиться в другой), сочетаясь вместе, образуют модели глобальной миграции, связывающие страны, откуда уезжают мигранты, со странами, куда они направляются. Миграционные движения еще больше увеличивают этническое и культурное разнообразие во многих обществах и способствуют формированию демографической, экономической и социальной внутренней динамики. Интенсификация глобальной миграции после Второй мировой войны и особенно в последние два десятилетия сделала иммиграцию для многих стран серьезной политической проблемой. Во многих западных странах рост иммиграции поставил под сомнение общераспространенное понятие национального тождества и заставил пересмотреть понятие гражданства. Учеными были выделены четыре модели миграции, характеризующие основные глобальные движения населения с 1945 г. Классическая модель миграции присуща таким странам, как Канада, Соединенные Штаты и Австралия, которые сложились как «нации иммигрантов». В этих случаях иммиграция в значительной степени поощрялась и вновь прибывшим было обещано предоставление гражданства, хотя ограничения и квоты помогали регулировать ежегодный приток иммигрантов. Колониальная модель иммиграции, характерная для таких стран, как Франция и Соединенное Королевство, обычно более благоприятствовала притоку иммигрантов из бывших колоний по сравнению с иммигрантами из других стран. Отражением этой тенденции может служить наличие в Великобритании большого числа иммигрантов из новых стран Содружества. Такие страны, как Германия, Швейцария и Бельгия, проводили другую политику — соответствующую модели гастарбайтеров. При такой системе иммигранты допускаются в страну на временной основе, зачастую для того, чтобы удовлетворить потребности рынка труда, но они не получают прав гражданства даже после многолетнего проживания в стране. Наконец, все большее распространение находят нелегальные модели иммиграции, порождаемые ужесточением во многих индустриальных странах законов об иммиграции. Иммигранты, сумевшие въехать в страну незаконно или под каким-либо предлогом, не связанным с иммиграцией, во многих случаях продолжают здесь нелегально жить за пределами официального общества. Иллюстрацией этого явления может служить большое число мексиканцев — «нелегальных иностранцев» — во многих штатах Юга Америки, а также рост международного бизнеса контрабандной переброски беженцев через границы государств (см. подраздел «Иммиграция и Европейский Союз» в разделе «Иммиграция и межэтнические отношения на континенте» этой главы). Какие же силы стоят за глобальной миграцией и как они изменяются в результате глобализации? В прошлом многие теории миграции концентрировали внимание на так называемых отталкивающих и притягивающих факторах. «Отталкивающие» факторы — это движущие силы внутри исходной страны, вынуждающие людей эмигрировать, как то: война, голод, политические репрессии или перенаселенность. Напротив, факторы «притягивающие» — это те особенности страны назначения, которые привлекают иммигрантов: «притянуть» иммигрантов из других регионов могут процветающий рынок труда, лучшие жилищные условия и меньшая плотность населения. Позднее теории миграции, основанные на «отталкивании» и «притягивании», были подвергнуты критике за то, что предлагали слишком упрощенное объяснение очень сложного и многоаспектного явления. Отвергая подобные теории, ученые, изучающие миграцию, все больше склоняются к тому, чтобы рассматривать модели глобальной миграции как некоторые «системы», образуемые взаимодействием процессов, происходящих на макро- и микроуровне. Эта идея может показаться сложной, но в действительности она очень проста. Под факторами макроуровня понимаются такие возвышающиеся над всем остальным проблемы, как политическая ситуация в регионе, законы и правила, регулирующие иммиграцию и эмиграцию, или изменения в международной экономике. Факторы микроуровня связаны с ресурсами, знаниями и способностями, которыми обладают сами мигранты. Пересечение макро- и микропроцессов можно увидеть на примере многочисленной общины турецких иммигрантов в Германии. На макроуровне наблюдаются такие факторы, как потребность экономики Германии в рабочей силе, проводимая ею политика допуска в страну рабочих, приезжающих по приглашениям в качестве гастарбайтеров, и состояние турецкой экономики, не дающей многим туркам возможности зарабатывать столько, сколько им бы хотелось. На микроуровне можно видеть наличие в турецкой общине в Германии неофициальных сетей и каналов взаимной поддержки, а также сильную привязанность к семье и друзьям, оставшимся в Турции. Среди потенциальных турецких иммигрантов осведомленность о Германии и «социальный капитал» — свои собственные возможности и ресурсы общины, на которые можно рассчитывать, — делают Германию одной из самых привлекательных стран для иммигрантов. Сторонники системного подхода к миграции подчеркивают, что ни один фактор, взятый отдельно, не может объяснить процесс миграции. Каждое конкретное миграционное движение, подобное движению между Турцией и Германией, является результатом взаимодействия процессов макро- и микроуровня. Исследуя недавние явления в глобальной миграции, Стивен Каслз и Марк Миллер выделили четыре основных тенденции, которые будут, по их мнению, определять модели миграции в ближайшие годы (Castles and Miller 1993): • Ускорение. Миграция, преодолевающая границы, приобретает более массовый характер, чем когда-либо раньше. • Многообразие форм. Большинство стран сейчас принимает иммигрантов многих различных типов, в отличие от прежних времен, когда преобладали определенные типы иммиграции, такие, например, как трудовая иммиграция или беженцы. • Глобализация. Миграция все больше становится общемировой по своему характеру и охватывает все больше стран как в качестве стран исхода, так и в качестве стран назначения. • Феминизация. Среди мигрантов растет число женщин, что делает современную миграцию гораздо менее «мужской», чем это было прежде. Увеличение числа мигрантов-женщин тесно связано с изменениями на мировом рынке труда, включая растущую потребность в работниках по дому, распространение секс-туризма и «торговли» женщинами (см. раздел «Проституция» в главе 5), а также феномен «невест по переписке».Глобальные диаспоры
Еще один путь к пониманию моделей глобальной миграции связан с изучением диаспор. Термин диаспора обозначает исход определенной этнической группы населения из первоначальной родины в чужие ареалы часто в результате насилия или под давлением угрожающих обстоятельств. В качестве примеров того, как народы могут оказаться рассеянными по всему миру вследствие рабства или геноцида, часто ссылаются на африканскую и еврейскую диаспоры. Хотя члены диаспоры, по определению, разделены географически, их объединяют такие факторы, как общая история, коллективная память об исконной родине и чувство этнической общности, которое культивируется и сохраняется. Робин Коэн утверждает, что встречается несколько различных форм диаспор, хотя наиболее часто приводятся примеры диаспор, возникших принудительно, вследствие преследований и насилия. В книге «Глобальные диаспоры» (Cohen 1997) используется исторический подход и выделяется пять различных категорий диаспор с учетом того, какие силы лежали в основе первоначального исхода народа: жертвы (например, африканская, еврейская и армянская диаспоры), имперские интересы (британская диаспора), проблема занятости (индийская диаспора), торговля (китайская диаспора) и культура (диаспора выходцев из Карибского региона). В некоторых из этих случаев, скажем, в случае китайской диаспоры, массовое движение населения происходило на добровольной основе, не под давлением угрожающих обстоятельств. Вместе с тем, несмотря на многообразие форм, всем диаспорам присущи некоторые ключевые характеристики. Коэн считает, что все диаспоры отвечают следующим критериям: • насильственное или добровольное переселение из исконной родины в новый регион или регионы; • общая память о первоначальной родине и стремление сохранить эту память, а также вера в возможность когда-нибудь вернуться на родину; • сильное чувство этнического тождества, сохраняющееся наперекор расстоянию и времени; • чувство солидарности с членами той же этнической группы, также живущими в ареалах диаспоры; • известная степень напряженности в отношениях с обществами, принимающими мигрантов; • потенциальная возможность внести ценный и созидательный вклад в плюралистические общества, принимающие мигрантов. Некоторые ученые обвинили Коэна в попытках упростить сложные и отличающиеся друг от друга случаи миграции, подводя их под небольшое число типов и связывая «категории» диаспор с конкретными этническими группами. Другие критики указывали, что само понимание диаспоры у Коэна не является достаточно четким для того исследования, которое он предпринял. Тем не менее, несмотря на все критические замечания, труд Коэна ценен, поскольку он показывает, что диаспоры не являются чем-то статическим, а представляют собой развивающиеся процессы сохранения коллективного тождества и продолжения этнической культуры в быстро глобализирующемся мире.Иммиграция в Соединенном Королевстве
Хотя иммиграцию в Великобританию часто считают характерной чертой XX в., на самом деле этот процесс уходит своими корнями в самые древние исторические эпохи, от которых до нас дошли письменные памятники, и в еще большие глубины истории. Значительное количество ирландских, валлийских и шотландских имен, встречающихся у англичан в наши дни, является напоминанием о традиционном притоке людей с «кельтских окраин» в городские центры Англии. В начале XIX в., задолго до возникновения массовой иммиграции из отдаленных колоний, развивающиеся английские города привлекали мигрантов из менее процветающих регионов Британских островов. Однако рост индустриализации привел к резкому изменению моделей миграции как внутри страны, так и международной иммиграции в Англию. Более широкие возможности найти работу в городских районах в сочетании с одновременным упадком единоличного производства в сельских районах стимулировали миграцию из сельской местности в города. Потребности рынка труда также дали новый импульс иммиграции из-за границы. Хотя ирландская, еврейская и черная общины существовали в Великобритании задолго до Промышленной революции, резкий взлет возможностей радикально изменил масштабы и границы международной иммиграции. Новые волны нидерландских, китайских, ирландских и черных иммигрантов способствовали изменению социоэкономического климата в Англии. Позднее, ближе к нашим дням, значительная волна иммиграции в Великобританию наблюдалась в начале 1930-х гг., когда из-за преследований нацистов целое поколение европейских евреев было вынуждено бежать на Запад в поисках спасения. По некоторым подсчетам, между 1933 и 1939 гг. в Соединенное Королевство переселилось свыше 60 000 евреев, однако реальные цифры вполне могут быть выше. Между 1933 и 1939 гг. в Великобританию приехало около 80 000 беженцев из Центральной Европы и еще около 70 000 прибыло во время самой войны. К маю 1943 г. перед Европой встала беспрецедентная по масштабам проблема беженцев: миллионы людей превратились в беженцев. Несколько сотен тысяч из них поселились в Великобритании. В период после Второй мировой войны в Великобритании наблюдалась еще одна огромная волна иммиграции — большинство новых иммигрантов прибыло из стран Содружества в надежде найти работу. В послевоенной Великобритании ощущалась острая нехватка рабочих рук, и какое-то время предприниматели активно стремились использовать труд иммигрантов. Помимо того, что было необходимо восстановить страну и экономику после разрушений, которые принесла война, благодаря развитию индустрии британские рабочие получили невиданную раньше возможность переезжать с места на место и появилась нужда в неквалифицированном и ручном труде. Представители правящих кругов, находясь под влиянием идей о наследии великой Британской империи, считали, что жители Вест-Индии, Индии и Пакистана, а также бывших колоний в Африке все являются британскими подданными и имеют право селиться в Великобритании. Наплыву иммигрантов способствовало принятие в 1948 г. Закона о британском гражданстве, который предоставлял гражданам стран Содружества благоприятствование в праве на иммиграцию.Изменение иммиграционной политики в Великобритании
1960-е годы ознаменовались в Великобритании началом постепенного отхода от представления о том, что жители Британской империи имеют право иммигрировать в Великобританию и претендовать на гражданство. Хотя известную роль в новых ограничениях на иммиграцию сыграло изменение ситуации на рынке труда, они были вызваны также отрицательной реакцией на наплыв иммигрантов со стороны многих белых британцев. В частности, рабочие, жившие в более бедных районах, куда в большинстве случаев направлялись новые иммигранты, особенно остро почувствовали разрушительное воздействие иммиграции на их повседневную жизнь. Отношение к вновь прибывшим часто бывало враждебным. Столкновения, произошедшие в 1958 г. в Ноттинг-Хилле, в ходе которых белые жители нападали на черных иммигрантов, свидетельствовали о силе расистских настроений. Растущий хор голосов, призывающих установить контроль над иммиграцией, нашел отражение в известном высказывании Инока Пауэлла, министра теневого кабинета консерваторов. Выступая в 1962 г. в Бирмингеме, Пауэлл, предсказывая значительный рост небелого населения Великобритании, сказал: «Подобно римлянам, я, как мне кажется, вижу, что „река Тибр вместо воды переполнилась кровью“»[4]. Опрос института Гэллопа показал, что 75 % населения в целом сочувственно относились к взглядам Пауэлла. Борцы против расизма и некоторые писатели утверждали, что британская миграционная политика носит расистский характер и является дискриминационной по отношению к небелым. Начиная с 1962 г., после принятия Закона об иммигрантах из стран Содружества был принят целый ряд мер, ограничивающих въезд в Великобританию и право на жительство для небелых и в то же время гарантировавших возможность относительно свободного въезда в Великобританию для белых. Даже в случае граждан государств, входящих в Британское Содружество, иммиграционные законы были дискриминационными по отношению к жителям преимущественно небелых государств — новых членов Содружества и в то же время защищали права иммигрантов из «старых» стран Содружества, таких как Канада и Австралия. Введение в Закон об иммигрантах из стран Содружества 1968 г. принципа «отцовства» (patriality principle) означало, что с этого времени для того, чтобы претендовать на британское гражданство, гражданин страны Содружества должен быть рожден, усыновлен либо натурализован в Соединенном Королевстве или же иметь одного из родителей либо бабушку или дедушку, отвечающих этим критериям. В целом подобные требования сделали иммиграцию гораздо более доступной для белых, чем для небелых (Skellington 1996). Закон о британском гражданстве, принятый в 1981 г., ужесточил условия, на которых люди из бывших или существующих зависимых территорий могли въехать в Соединенное Королевство. Британское гражданство было отделено от гражданства британских зависимых территорий. Была создана категория «британские заморские граждане», относившаяся в основном к жителям Гонконга, Малайзии и Сингапура; им не предоставлялись права жительства в Соединенном Королевстве, и дети не наследовали прав гражданства своих родителей. Граждане стран Содружества, которые раньше могли регистрироваться в качестве британских граждан после пятилетнего проживания в стране, теперь должны были обращаться за натурализацией на тех же условиях, что и иммигранты из любых других стран мира. Были дополнительно введены и другие ограничения на въезд и право жительства в Великобритании. Законы, принятые в 1988 и 1996 гг., еще больше ужесточили эти ограничения. Обвинения в расистском характере проводимой правительством Великобритании иммиграционной политики могут вызвать также нормы допуска в страну иностранцев, приезжающих с краткосрочными визитами. Согласно данным министерства внутренних дел, в 1992 г. в результате иммиграционного контроля отказ в визе получил один из каждых 63 жителей Ямайки и один из каждых 82 жителей Бангладеш, желавших приехать в Великобританию с гостевым визитом. Для гостей из Америки и Швеции соотношение было один отказ на 3,011 и один отказ на 4,319 жителей соответственно (Skellington 1996). Великобритания также ограничила возможности въезда в страну для тех, кто спасался от политических и религиозных преследований. В 1991 г. был принят Закон о политическом убежище, вводящий процедуру строгой проверки для лиц, претендующих на статус беженца, включающую взятие отпечатков пальцев, ограничение возможности получения бесплатной юридической помощи и увеличение вдвое штрафов, налагаемых на авиакомпании, которые ввозят в страну пассажиров, не имеющих надлежащих виз. Закон 1993 г. об Обращениях по поводу предоставления убежища и иммиграции привел к увеличению количества отказов и росту числа соискателей права политического убежища, содержащихся в лагерях для интернированных в течение длительного времени. В апреле 2000 г. вступили в действие новые законы, согласно которым суровому наказанию подвергались водители грузовиков, уличенные во ввозе в Великобританию контрабандой лиц, ищущих политического убежища. Более того, лицам, стремящимся получить право убежища и находящимся в Великобритании в ожидании решения по поводу их обращения, грозит депортация, если обнаружится, что они просят милостыню, и кроме того, им отныне для приобретения продуктов и других предметов первой необходимости вместо денег стали выдавать ваучеры. Особенно резко обвинения в расистском характере иммиграционной политики звучали в период правления консервативной партии при Маргарет Тэтчер, хотя аналогичные высказывания раздавались и при новом лейбористском правительстве. Борцы против расизма отметили наблюдающуюся тенденцию со стороны некоторых политиков разыгрывать в своих публичных выступлениях и дебатах «расовую карту». Используя стереотипы и приводя неточную информацию о моделях иммиграции, политики могут поднять общественное мнение против «потока» иностранцев, пытающихся просочиться в Великобританию. Например, представление о том, что большинство людей, стремящихся получить право политического убежища, являются в основном нищими и неквалифицированными иммигрантами, которые просто стараются таким образом обойти стандартные иммиграционные процедуры, никак не соответствует действительности, но имеет широкое распространение среди тех, кто настроен скептически по отношению к иммиграционной политике и политике предоставления права политического убежища.Этническое многообразие в Соединенном Королевстве
В настоящее время группы этнических меньшинств составляют свыше 6 % всего населения Великобритании. Как мы уже видели, важным фактором формирования этнического состава населения страны была иммиграция. Однако необходимо также отметить, что в нынешний век на иммиграции лежит ответственность за уменьшение доли населения, приходящейся на этнические меньшинства. Большинство членов групп этнических меньшинств родились в Соединенном Королевстве. Это четко видно, если посмотреть на возрастную структуру этнических меньшинств — для каждой этнической группы существует гораздо большая вероятность, что в Великобритании родились дети, нежели их родители (табл. 9.1). Так, среди индийцев, живущих в Великобритании, более 96 % в возрасте 16 лет и моложе родились в Великобритании, тогда как в возрастной группе тех, кто достиг 35 лет и выше, родившиеся в Великобритании составляют лишь 1 % (HMSO 1999). Эти данные свидетельствуют о произошедшем заметном сдвиге в Великобритании от «иммигрантского населения» к небелому населению, обладающему всеми правами гражданства. При переписи 1991 г. опрашиваемых впервые просили указать свою этническую принадлежность. До этого времени данные об этническом составе населения устанавливались исходя из сведений о месте рождения «главы семьи». Однако по мере того, как все больше росла доля представителей этнических меньшинств, родившихся в Великобритании, такой подход был признан несостоятельным. Для большинства официальных обследований и опросов, как, например, для Обследования трудовых ресурсов (Labour Force Survey), стандартными в настоящее время стали методы «самоидентификации» принадлежности к той или иной этнической группе. Вместе с тем, поскольку классификации этнических групп, используемые в разных исследованиях, не всегда совпадают, сравнение материалов разных исследований представляет трудность (Mason 1995). Как всегда, необходимо проявлять осторожность в оценке точности официальной статистики. Например, понимание опрашиваемыми своей этнической принадлежности может быть более сложным, чем предлагаемые им на выбор при обследовании графы или категории (Moor 1995). В первую очередь это относится к лицам смешанного этнического происхождения. Этнические меньшинства в населении Великобритании, насчитывающие сейчас более 3 млн чел., сосредоточены главным образом в наиболее густо населенных городских регионах Англии. Перепись 1991 г. показала, что высокая концентрация этнических меньшинств наблюдается в Лондоне и в Западном Мидлэндсе (западных центральных графствах) (44,8 и 14 % этнических меньшинств соответственно), тогда как в пригородных и сельских районах они представлены в гораздо меньшей степени (Owen 1992). Большинство черных живет в старых, центральных частях города не по собственному желанию, они поселились там потому, что таких мест избегают белые, и поскольку белое население оттуда уезжает, там освобождается жилье. Сравнение данных переписи 1991 г. с более ранними данными прежних переписей показало, что общаятенденция движения населения из городских районов в сельские для этнических меньшинств не характерна. Напротив, она, по-видимому, способствовала дальнейшей концентрации групп этнических меньшинств в городских регионах, белое население которых постепенно сокращается (Owen 1992). Из всех групп этнических меньшинств Великобритании самой молодой является группа выходцев из Бангладеш — 45 % ее членов имеют возраст 16 лет и моложе (HMSO 1999). С точки зрения пола состав большинства групп этнических меньшинств более сбалансирован, чем это было в прежние времена. Раньше основную часть иммигрантов, особенно из новых стран Содружества, составляли мужчины. Позднее иммиграционная политика благоприятствовала иммиграции с целью воссоединения семей, и эта тенденция помогла уравнять соотношение мужчин и женщин во многих группах этнических меньшинств.Таблица 9.1 Доля людей (в процентах), родившихся в Соединенном Королевстве, по этническим группам и по возрастным категориям. Великобритания. 1997–1998 гг.
 Графа «Другие» включает лиц смешанного происхождения; графа «Все этнические группы» включает тех, кто не указал своей принадлежности к определенной этнической группе.
Источник: Labour Force Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 29. 1999. P. 33. Crown copyright.
Графа «Другие» включает лиц смешанного происхождения; графа «Все этнические группы» включает тех, кто не указал своей принадлежности к определенной этнической группе.
Источник: Labour Force Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 29. 1999. P. 33. Crown copyright.
Приведенное выше описание этнического многообразия населения Великобритании следует воспринимать лишь как самое общее указание на чрезвычайно сложные и многообразные модели, характерные для ее населения. Социологи и представители других наук все более настойчиво подчеркивают необходимость сосредоточить в первую очередь внимание на различиях между группами этнических меньшинств Великобритании, а не говорить в целом об этнических меньшинствах вообще. Как будет показано в следующем разделе, посвященном проблеме расы и неравенства, хотя по сравнению с белым населением в целом и черные, и выходцы из Азии в Великобритании находятся в неблагоприятном положении, однако между группами этнических меньшинств наблюдается значительная дифференциация, и это обстоятельство заслуживает серьезного внимания.
Трудовая деятельность и экономический успех
Трудовая деятельность — это важнейшая сфера, в которой проявляются последствия социального и экономического неравенства, вызванного такими факторами, как пол, возраст, класс и этническая принадлежность. Изучение положения этнических меньшинств на рынке труда выявило модели неравенства, связанные с распределением, уровнем заработной платы, дискриминацией при найме на работу и продвижении по службе, а также с уровнем безработицы. Некоторые из этих проблем будут рассмотрены ниже. Тенденции в области профессиональной занятости этнических меньшинств после 1960-х гг. В ходе самого раннего общенационального обследования этнических меньшинств в Великобритании, проведенного Институтом политических исследований (Policy Studies Institute) в 1960-х гг., было обнаружено, что новые иммигранты в непропорционально большом количестве представлены в ограниченном числе отраслей промышленности на работах, связанных с ручным трудом. Даже те из вновь прибывших иммигрантов, кто получил профессию у себя дома, обычно выполняли работу, несоизмеримую с их квалификацией. Дискриминация по причине этнической принадлежности была широко распространена и проводилась открыто — некоторые предприниматели отказывались нанимать небелых рабочих и соглашались брать их на работу только при отсутствии необходимого числа белых рабочих. К 1970-м гг. в моделях профессиональной занятости произошли небольшие изменения. Представители групп этнических меньшинств по-прежнему выполняли в большинстве случаев полуквалифицированную или неквалифицированную физическую работу, хотя увеличилось число иммигрантов, занятых квалифицированным ручным трудом. В профессиональных и управленческих видах деятельности были представлены немногие этнические меньшинства. Несмотря на изменения в законодательстве, направленные на предотвращение расовой дискриминации при найме на работу, в ходе исследования было обнаружено, что белым постоянно оказывалось предпочтение в приглашении на интервью и в предоставлении работы по сравнению с имеющими такую же квалификацию небелыми претендентами. Проведенное Институтом политических исследований (ИПИ) в 1982 г. третье общенациональное обследование этнических меньшинств показало, что за исключением мужчин-афроазиатов и индийцев, уровень безработицы, вызванной общим экономическим спадом, оказавшим сильное влияние на перерабатывающие отрасли, был среди этнических меньшинств в два раза выше, чем среди белых. Вместе с тем увеличилось количество квалифицированных небелых, хорошо владеющих английским языком, выполняющих работу «белых воротничков», и в целом наблюдалось сокращение разрыва в заработной плате между этническими меньшинствами и белыми. С конца 1970-х гг. все больше представителей этнических меньшинств открывают собственный бизнес, тем самым способствуя более высоким заработкам и снижению уровня безработицы, особенно среди индийцев и афро-азиатов. Материалы недавних обследований Последнее по времени общенациональное обследование этнических меньшинств Великобритании, проведенное ИПИ, было основано на представительной выборке, включавшей 5 196 британских граждан — выходцев из Азии и Карибского региона (в добавление к 2 867 белым), и его результаты были опубликованы в книге «Этнические меньшинства в Великобритании: Многообразие и неравенство» (Modood et al. 1997). Оно обнаружило, что положение различных этнических меньшинств на рынке труда различается значительнее, чем когда-либо прежде. Хотя этнические меньшинства в целом по-прежнему находятся в неравном положении с белыми в том, что касается оплаты труда, страдают от дискриминации при найме на работу и среди них более высок уровень безработицы, небелое население Великобритании весьма неоднородно, и некоторым этническим группам удалось добиться большего успеха в сфере трудовой деятельности, чем другим. Например, мужчины-выходцы из Пакистана и Республики Бангладеш продолжают в непропорционально большом числе выполнять работу, требующую физического труда, и вероятность того, что они получат работу специалистов или менеджеров, составляет меньше двух третей от такой же вероятности для белых мужчин. Что касается женщин, то по сравнению с другими этническими группами, по найму за пределами дома работает только одна треть пакистанок и одна десятая женщин из Бангладеш (Modood et al. 1997). На другом конце спектра располагаются черные выходцы из Азии и китайцы. Для этих групп уровень заработков сейчас практически равен заработкам белых и процент безработицы также сопоставим. Мужчины-афроазиаты имеют равную с их белыми коллегами возможность работать специалистами, менеджерами и предпринимателями, а возможности китаянок работать в этих сферах в два раза превышают возможности белых женщин. Авторы общенационального обследования приходят к заключению, что было бы неправильно и дальше рассматривать указанные группы как находящиеся в неравном положении с белыми, поскольку в действительности они обгоняют белое население по ряду социоэкономических показателей (Modood et al. 1997). Положение на рынке труда молодых мужчин — выходцев из Карибского региона существенно отличается от положения индийцев и белых. Анализ, основанный на материалах проводившегося в течение одиннадцати лет обследования рабочей силы (Labour Force Survey), показал, что безработица среди мужчин из Карибского региона в два раза выше, чем у их белых коллег, и что зарабатывают они, как правило, меньше членов других групп. Еще одно поразительное несоответствие состоит в том, что перспектива найти работу у мужчин — выходцев из Африки, выпускников высших учебных заведений, весьма мала, несмотря на их успехи на поприще образования, и они в семь раз вероятнее окажутся без работы, чем имеющие такое же образование белые (Berthoud 1999). Модели трудовой занятости небелых женщин также весьма неодинаковы. Карибские женщины гораздо реже, чем белые женщины, работают там, где требуется физический труд, тогда как женщины из Индии, так же как и пакистанки, выполняют преимущественно ручную работу. Среди женщин из Карибского региона и Индии наблюдается гораздо большая степень экономической активности, чем активность на рынке труда женщин из Пакистана и Бангладеш. В среднем женщины из Карибского региона и Индии обычно зарабатывают при полной рабочей неделе немного больше, чем белые женщины, однако среди индийских женщин наблюдается резкая поляризация между теми, кто имеет относительно высокий и низкий доход (Modood et al. 1997). Экономический успех индийцев Среди небелого населения наибольшего успеха добились, если измерять успех уровнем доходов, те выходцы из Южной Азии, которые стали мелкими предпринимателями или работают единолично. Количество людей в этой категории за последние двадцать лет постоянно росло. В настоящее время выходцы из Индии, и мужчины, и женщины, более чем в два раза чаще, чем белые, работают на условиях самонайма. Азиатские лавочки на углах улиц и другие формы бизнеса, осуществляемого выходцами из Индии, стали весьма заметным явлением британского общества, и некоторые высказали предположение, что они могли бы привести к экономическому возрождению районов внутренних городов. По мнению Тарика Модуда, «экономический успех индийцев» является результатом тяжелого труда, поддержки общины и семьи и первоочередного значения, придаваемого образованию (Modood et al. 1991). Важно, однако, не переоценивать процветание мелкого бизнеса выходцев из Южной Азии и его потенциальное влияние. Многие работающие на себя выходцы из Азии трудятся долгие часы — шестьдесят, а то и восемьдесят часов в неделю — и получают в целом относительно низкий доход. Они регистрируются как работающие по самонайму, но по существу их нанимают другие члены семьи, которые являются хозяевами бизнеса, а они оказываются лишенными тех льгот, которые обычно имеют наемные работники, как то: оплата бюллетеней по болезни, оплачиваемый отпуск, взносы нанимателя в фонд социального страхования. Трудности восхождения на вершину Изменения к лучшему, происходящие в структуре профессиональной занятости этнических меньшинств, не всегда сопровождаются увеличением числа их представителей на верхних ступенях иерархии. Несмотря на то, что места служащих и специалистов сейчас занимают больше представителей этнических меньшинств, чем когда-либо раньше, существует, как представляется, некий «стеклянный потолок», который позволяет лишь очень немногим представителям этнических меньшинств подняться до самых высоких должностей в крупных компаниях и организациях. В целом мужчины из этнических меньшинств — даже наиболее высоко квалифицированные из них — имеют вдвое меньше шансов, чем белые мужчины, быть представленными среди лиц, занимающих верхние 10 % мест, дающих власть, высокий статус и заработок (Modood et al. 1997). Как отмечается в недавнем докладе Конгресса тред-юнионов (КТЮ), озаглавленном «Похоже на расизм» («Qualifying for Racism», 2000), «разрыв» между белыми и небелыми среди менеджеров и руководителей в 1990-е гг. увеличился. КТЮ призвал к обязательному мониторингу всех предпринимателей, с тем чтобы положить конец расовой дискриминации в отношении высококвалифицированных черных рабочих и выходцев из Азии, чьи шансы на продвижение по службе ограничиваются из-за их расовой принадлежности. Преграды на пути к управленческой деятельности с течением времени, разумеется, обязательно должны ослабеть, но в настоящее время они остаются серьезным напоминанием о живучести предубеждений и расизма, с которыми приходится сталкиваться представителям этнических меньшинств.Жилищные условия
На рынке жилья этнические меньшинства в Великобритании обычно сталкиваются с дискриминацией, притеснениями и материальными лишениями. Со времени самых первых призывов к контролю за иммиграцией жилье оказалось в центре борьбы за ресурсы между группами и тенденциями к закрытости этнических групп. Одной из причин, возможно, было то, что жилье имеет в высшей степени символическое значение — оно указывает на статус, обеспечивает безопасность и вообще тесно переплетается со всеми обстоятельствами жизни. Так же, как в отношении моделей профессиональной занятости, качество и тип жилья в этнических группах значительно варьируют. Хотя небелое население в целом находится в отношении жилья в менее благоприятном положении, чем белые, картина здесь очень неоднородна. Так, среди некоторых групп, например, среди выходцев из Индии, очень высок процент лиц, владеющих собственным жильем, тогда как другие группы в непропорционально большом числе живут в условиях, не соответствующих стандартам, или сосредоточены в секторе социального жилья (Ratcliffe 1999).────────────────────────────┐ ■ Этнические меньшинства и «новая экономика» В связи с тем, что рабочие из этнических меньшинств в значительной степени сконцентрированы в обрабатывающих и других отраслях промышленности, многими наблюдателями было высказано предположение о том, что упадок индустриальной экономики оказывает непропорционально сильное воздействие на эту часть населения. Более высокий уровень безработицы, по их мнению, является отражением последствий экономической перестройки для рабочих из этнических меньшинств, поскольку они менее квалифицированны и потому являются более уязвимыми. Поворот британской экономики от экономики индустриальной к экономике, основанной на развитии технологий и сектора услуг, нанес ущерб рабочим из этнических меньшинств, менее подготовленным к переходу к новым профессиям. Это общераспространенное мнение было поставлено под сомнение благодаря данным, полученным Институтом политических исследований (см. выше), и сравнительному анализу материалов Обследования трудовых ресурсов и статистических материалов переписи (Iganski and Payne 1999). Эти обследования продемонстрировали, что некоторые группы небелых в действительности достигли в последние десятилетия высокого уровня экономического и профессионального успеха, во многом так же, как преуспевшие белые рабочие. По словам авторов исследования, процесс экономической реструктуризации по существу способствовал сокращению разрыва, существовавшего на рынке труда между этническими меньшинствами и белым населением. Это объясняется тем, что крупные изменения в экономике обычно затрагивали как этнические меньшинства, так и белое население (Modood et al. 1997). Используя данные проводимых на протяжении трех десятилетий Обследований трудовых ресурсов и переписей населения (1971, 1981 и 1991 гг.), Пол Игански и Джофф Пейн установили, что в целом группы этнических меньшинств пострадали от потери работы в меньшей степени, чем другие индустриальные рабочие. Так, между 1971 и 1991 гг. работу в обрабатывающем производстве среди небелых потеряли 12 % тех, кто был экономически активен в 1971 г., тогда как среди рабочих в целом эта цифра была равна 14,4 %. Игански и Пейн отмечают значительные расхождения в пределах этой общей тенденции — например, между мужчинами и женщинами, а также между различными секторами промышленности. Но в общем, как они обнаружили, движение к «новой экономике» имело тенденцию сметать с пути и небелых, и белых так, что при этом уменьшался разрыв между ними. По мнению Игански и Пейна, в настоящее время в Великобритании существует значительное небелое население, структура профессиональной занятости которого изменяется совершенно так же, как это происходит у белого большинства населения. Игански и Пейн специально оговаривают, что заметный прогресс, достигнутый некоторыми группами этнических меньшинств, отнюдь не означает исчезновения неравенства в профессиональной сфере. Скорее, по их мнению, эта «коллективная социальная мобильность» свидетельствует, что силы постиндустриального реструктурирования оказываются могущественнее, чем силы расовой дискриминации и сохраняющегося неравенства (Iganski and Payne 1999). ────────────────────────────┘
Различию в жилищных условиях между небелыми и белыми, а также между различными группами небелых способствовал ряд факторов. Участившиеся не только в Великобритании, но и по всей Европе расовые преследования или жестокое насилие, по-видимому, способствуют известной степени этнической сегрегации в моделях расселения. Небелые семьи, имеющие достаточно средств, чтобы переехать в более благоустроенные районы, населенные преимущественно белыми, могут отказаться от переезда, опасаясь враждебного отношения со стороны соседей. Другой фактор связан с материальным состоянием жилья. В целом жилье, занимаемое группами этнических меньшинств, является обычно более ветхим и нуждающимся в ремонте, чем жилье, где проживает белое население. Значительная часть пакистанцев и выходцев из Бангладеш живет в жилищах, которые являются перенаселенными (из-за большой, как правило, величины их семей), обычно бывают сырыми и зачастую не имеют центрального отопления (см. табл. 9.2).
Таблица 9.2 Семьи, живущие в трудных жилищных условиях, по этническим группам. Великобритания. 1991 г.
 Источник: Owen D. in Mason David. Race and Ethnicity in Modern Britain. Oxford University Press, 1995.
Источник: Owen D. in Mason David. Race and Ethnicity in Modern Britain. Oxford University Press, 1995.
Напротив, выходцы из Индии столь же часто, как и белые, живут в отдельных домах на одну семью или в «полуотдельных домах» (занимают половину двухквартирного дома, имеющую отдельный вход) и реже других этнических групп селятся в старой, центральной части города. В то же время семьи выходцев из Карибского региона предпочитают снимать квартиры в секторе социального жилья, но не покупать жилье. Это, возможно, связано с высоким процентом неполных семей в этой этнической группе. Обеспокоенные неравенством в области жилищных условий и «жилищным стрессом», от которого страдают этнические меньшинства в городе Брэдфорде, члены Брэдфордского жилищного форума провели в 1995 г. локальное исследование потребности в жилье. Полученные результаты оказались существенными во многих отношениях, далеко выходящих за пределы самого города Брэдфорда. Обследование 1 000 небелых семей позволило сделать два главных вывода. Во-первых, выяснилось, что примерно в половине опрошенных пакистанских семей и семей выходцев из Бангладеш ни один из членов семьи не имел работы с полным рабочим днем. Спад промышленного производства в Брэдфорде оказал сильное влияние на общины этнических меньшинств и привел к высокому уровню безработицы. Во-вторых, в наиболее обездоленных небелых семьях было обнаружено чрезвычайно много случаев длительных заболеваний и нетрудоспособности. Сходным образом сведения о заболеваемости, полученные при переписи населения 1991 г., также показали, что в группах этнических меньшинств наблюдается непропорционально много случаев хронических заболеваний, таких как респираторные заболевания и болезни легких. Результаты обследования в Брэдфорде еще раз подтвердили, что между жилищными условиями и физическим здоровьем людей существует тесная связь. Как следует понимать различия в жилищных условиях, существующие у разных этнических групп? Некоторые социологи считают, что в результате процесса конкуренции на рынке жилья этнические меньшинства превратились в особый «класс» в отношении жилья (Rex and Moor 1967). Согласно такому подходу, трудности, с которыми сталкиваются группы меньшинств — от экономического неравенства до расовой дискриминации — означают, что у этнических меньшинств практически нет возможности выбора и мало шансов контролировать свои жилищные условия. Этнические меньшинства в основном вынуждены мириться с неадекватным жильем, потому что в этом вопросе выбор для них либо крайне невелик, либо его вообще нет. Хотя на рынке жилья существует много неблагоприятных обстоятельств, приводящих к неравному положению этнических меньшинств, было бы неверно делать вывод, что они являются просто пассивными жертвами дискриминационных или расистских сил. Модели и практика в области жилья с течением времени изменяются под влиянием меняющихся форм и видов выбора, которые делают представители разных социальных слоев. Дискриминация также может стать стимулом к творческим действиям.
Раса и преступность
С 1960-х гг. члены групп этнических меньшинств все чаще и чаще фигурируют в системе уголовного судопроизводства — и в качестве правонарушителей, и в качестве жертв. По сравнению с их долей населения в целом, этнические меньшинства в непропорционально большом количестве представлены в тюрьмах. В 1997 г. один из каждых восьми заключенных-мужчин в тюрьмах Англии и Уэльса был представителем группы этнического меньшинства (HMSO 1999). Столь же непропорционально велико оказалось число арестованных среди выходцев из Африки и Карибского региона — хотя они составляли только 2 % всего населения, среди 1,3 млн арестованных в 1998–1999 гг. их доля достигала 7 %. Есть основания полагать, что члены групп этнических меньшинств, попадая в систему уголовного правосудия, страдают от дискриминационного отношения. Так, небелых чаще присуждают к тюремному заключению, даже в тех случаях, когда у них раньше не было судимостей или их было мало. Находясь в тюрьме, члены этнических меньшинств обычно также чаще, чем белые, подвергаются дискриминации или преследованию на расовой почве. Некоторые ученые обращали внимание на то, что администрация системы отправления уголовного правосудия в подавляющем большинстве состоит из белых. Лишь незначительный процент практикующих юристов составляют черные, а среди полицейских их меньше — 2 % (Denney 1998). Все группы небелых страдают от той или иной формы расизма — включая расово-мотивированное насилие. Большинству удается избежать такой участи, но для меньшинства такой опыт бывает опасным и жестоким. Обследование, проведенное Институтом политических исследований (Modood 1997), показало, что в предшествующем году 12 % опрошенных подверглись преследованиям, оскорблениям и нападениям на расовой почве. В прошедшем году из этих 12 % жертвами преследований пять и более раз оказались 25 %. Четвертая часть опрошенных призналась, что обеспокоена возможностью стать жертвой расового преследования. В последние годы расово-мотивированные преступления против этнических меньшинств привлекают к себе все больше внимания. Обнаружилось, что жертвы преступлений более склонны считать расово-мотивированными такие преступления, как угрозы, акты вандализма и разбойные нападения, чем, например, ограбление. Проведенное в 1998 г. Исследование преступности в Великобритании установило, что респонденты — выходцы из Пакистана и Бангладеш более склонны считать преступления против них расово-мотивированными (26 % всех преступлений), чем индийцы (13 %) и черные (9 %), которые несколько реже видят в преступлениях расовую мотивацию (HMSO 1999). По сравнению с этим только 1 % белых воспринимает преступления против них как расово-мотивированные. Как можно объяснить такие модели преступности и преследований? Как было отмечено нами в главе 8 («Преступление и девиантное поведение»), преступность распространяется среди населения неравномерно. В моделях преступности и преследований существует, как представляется, отчетливый территориальный элемент. В регионах, страдающих от нищеты, обычно бывает более высокий уровень преступности, и люди, живущие в таких регионах, подвергаются большей опасности стать жертвой преступления. Лишения, которым подвергаются люди из-за расизма, одновременно и порождаются разрухой, царящей во внутренних городах, и сами порождают ее (см. также главу 18 «Города и городские пространства»). Здесь наблюдается четкая корреляция между расой, безработицей и преступностью, что особенно сказывается на положении молодых черных мужчин из-за созданной политиками и средствами массовой информации «моральной паники» в связи с преступностью (см. врезку «Усиление девиантного поведения» в разделе «Социологические теории преступления и девиантного поведения» главы 8), у людей установилась связь между расой и преступностью. Как комментировала газета «Дейли Телеграф»: «Многие молодые выходцы из Вест-Индии в Великобритании и — под их влиянием — растущее число молодых белых не осознают, что страна, в которой они живут, составляет часть их самих. Поэтому граждане этой страны становятся для них всего лишь объектами жестокой эксплуатации» (цит. по: Solomos and Rackett 1991, 44). Однако опыт многих молодых черных показывает, что как раз именно они являются «объектами жестокой эксплуатации», когда сталкиваются с белыми, а в известной степени, к сожалению, также и с полицией. Расизм в полиции Исследования социологов помогли выявить расистские настроения среди полицейских. В своем исследовании, посвященном полиции, Роджер Грэф пришел к заключению, что «полиция активно враждебна ко всем группам меньшинств». Он отметил, что, говоря об этнических меньшинствах, полицейские часто используют стереотипы и оскорбительные расистские замечания (Graef 1989). В 1990-х гг. несколько инцидентов в Великобритании и Соединенных Штатах позволили увидеть расизм в полиции так отчетливо и убедительно, как это не смогло бы сделать ни одно исследование. Убийство в 1993 г. Стивена Лоуренса, о котором шла речь выше в настоящей главе, привело к существенному изменению сути споров о расизме в Великобритании, продемонстрировав, что расизм не ограничивается отдельными людьми, но может охватывать целые организации. Вслед за публикацией в 1999 г. Доклада Макферсона по поводу расследования убийства Стивена Лоуренса министр внутренних дел Великобритании Джек Стро обратился к полиции с призывом «стать поборниками многокультурного общества». Многие из семидесяти рекомендаций, содержащихся в Докладе, были реализованы в течение года после этой публикации, хотя критики утверждают, что изменения идут недостаточно быстро. Так, в течение первого года после появления Доклада в более чем третью часть полицейских подразделений не было дополнительно принято ни одного черного полицейского или выходца из Азии, а в 9 из 43 полицейских подразделений в Англии и Уэльсе количество полицейских из этнических меньшинств даже сократилось. Наблюдались также проявления «антимакферсоновской реакции» среди определенной части представителей правоохранительных органов, которые считали, что в Докладе в качестве мишени для нападок несправедливо выбрана полиция. В Соединенных Штатах аналогичным образом обеспокоенность существованием институционального расизма возникла в последнее десятилетие в связи с рядом кровавых инцидентов между белыми полицейскими и черными гражданами. Жестокое избиение черного автомобилиста Родни Кинга полицейскими из департамента полиции Лос-Анджелеса в 1991 г. было заснято на видео и несколько раз показано по американскому телевидению потрясенной публике. Когда в 1992 г. полицейские были оправданы, во многих районах Лос-Анджелеса вспыхнули бунты. В ходе длившихся почти неделю столкновений погибло сорок человек, пять тысяч человек были арестованы, а ущерб от разрушений превысил миллиард долларов. В Нью-Йорке были оправданы четверо белых полицейских, застреливших в 1999 г. Амаду Диалло, и это вызвало новую волну обвинений полиции в расизме. Диалло, иммигрант из Гвинеи, был убит на пороге собственного дома, когда полез в карман за кошельком. Решив, что у него в кармане оружие, полицейские выпустили в него сорок три пули. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и комиссар полиции города Уильям Сэфир подверглись резкому осуждению за поддержку жестокой политики «закон и порядок», основной мишенью которой стали небелые жители Нью-Йорка. Стремление произвести как можно больше арестов привело, по мнению критиков, к ситуации, при которой плохо обученные и чересчур рьяные полицейские действуют по принципу «сначала стреляй, а уж потом задавай вопросы». В свете подобных инцидентов не вызывает удивления подтвержденный исследованием факт, что враждебное отношение к полиции — обычное явление среди групп черных, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. До известной степени такое отношение представляет собой просто результат непосредственного отрицательного опыта людей; в частности, отношение черной молодежи особенно часто формируется под воздействием политики, проводимой в отношении их полицией. Обследование, проведенное Институтом политических исследований, показало, что только четвертая часть респондентов, которые подверглись преследованиям на расовой почве в течение прошедшего года, решилась сообщить о преступлениях против них в полицию. Половина тех, кто обратился в полицию, были разочарованы тем, как с ними там обошлись. У многих сложилось впечатление, что полиция в действительности не заинтересована по-настоящему ни в том, чтобы узнать об инциденте, ни тем более в том, чтобы его расследовать (Modood et al. 1997). Этнические меньшинства остро нуждаются в защите со стороны полиции и системы уголовного судопроизводства, потому что они чаще, чем белые, становятся жертвами преступлений, однако, судя по некоторым свидетельствам, политика правоохранительных органов носит расовый характер и нацелена против небелых. Использование полицией «расового профилирования» («racial profiling») означает, что члены этнических групп привлекают к себе более пристальное внимание и более сильное подозрение в правонарушениях, чем белые. Мишенью политики, получившей название «задержать и обыскать», обычно в подавляющем большинстве случаев становятся небелые — в Лондоне, например, небелые более чем в шесть раз чаще задерживаются полицией и гораздо чаще, чем белые, подвергаются аресту. Кроме того, как указывают другие исследователи, полицейские реагируют на обращения небелых за помощью к полиции не столь быстро, как на обращения белых граждан, и относятся к ним менее серьезно.Иммиграция и межэтнические отношения на континенте
Подобно Великобритании, большинство других европейских стран претерпело в XX в. глубокие изменения в результате иммиграции. В первые два десятилетия после Второй мировой войны в Европе наблюдались крупномасштабные процессы иммиграции. Страны Средиземноморья поставляли в страны Севера и Запада дешевую рабочую силу. В течение известного времени испытывавшие острую нехватку рабочих принимающие страны активно поощряли иммиграцию из таких регионов, как Турция, Северная Африка, Греция, юг Испании и Италии. В Швейцарии, Германии, Бельгии и Швеции осела значительная группа иммигрантов-рабочих. В то же время в странах, некогда бывших колониальными державами, наблюдался приток иммигрантов из прежних колоний, в первую очередь это касается Франции (алжирцы) и Нидерландов (индонезийцы), так же как и Соединенного Королевства. Трудовая иммиграция в Западную Европу и из одного ее региона в другой значительно замедлилась два десятилетия назад, по мере того, как экономический бум сменился спадом. Но после падения Берлинской стены в 1989 г. и в связи с изменениями, происходившими в странах Восточной Европы и в бывшем Советском Союзе, Европа стала свидетельницей рождения явления, получившего название новой миграции. «Новая миграция» ознаменовалась двумя главными событиями. Во-первых, открытие границ между Востоком и Западом привело к тому, что между 1989 и 1994 гг. в Европу мигрировало свыше 5 млн чел. А во-вторых, война и этнические столкновения в бывшей Югославии вызвали переселение примерно 5 млн беженцев в другие регионы Европы (Koser and Lutz 1998). Географические модели миграционных движений в Европе также претерпели изменение, причем границы между странами исхода и странами назначения все больше затемнялись. Так, для многих иммигрантов целью стали страны Южной и Центральной Европы, что было явным отклонением от прежних направлений иммиграционных потоков. Другой отличительной чертой «новой миграции» является этническая «несмешиваемость». В бывшем Советском Союзе, в бывшей Югославии и в некоторых государствах Центральной Европы изменение границ, смена политических режимов или вспышки конфликтов привели к иммиграции, основанной на принципе «этнического родства». Ярким примером этого может служить судьба тысяч этнических русских, оказавшихся в ставших независимыми после распада Советского Союза странах — таких как Латвия, Казахстан или Украина. Многие из этнических русских предпочитают иммигрировать обратно в Россию, что характерно для процесса этнического «несмешивания» (Brubaker 1998).Иммиграция и Европейский Союз
Как часть движения к европейской интеграции в Европе были устранены многие существовавшие раньше барьеры на пути свободного перемещения товаров, капитала и наемных рабочих. Это привело к резкому росту региональной миграции между европейскими странами. Граждане стран Европейского Союза теперь имеют право работать в любой стране ЕС. Специалисты самой высокой квалификации и подготовки влились в ряды тех, кто ищет политическое убежище, и экономических иммигрантов и составили самую многочисленную группу европейских мигрантов. С учетом этого изменения, ученые отметили растущую поляризацию среди иммигрантов между «имущими» и «неимущими», т. е. тех, кто имеет шансы на успех, и тех, кто таких шансов не имеет. Иммиграция в страны ЕС из стран, не входящих в ЕС, стала одной из самых острых проблем на повестке дня в ряде европейских государств. По мере развития процесса европейской интеграции некоторые страны сняли, во исполнение Шенгенского соглашения, контроль на внутренних границах с соседними государствами. Страны, подписавшие это соглашение, сейчас осуществляют контроль только на своих внешних границах и разрешают свободный доступ в свои страны граждан соседних государств — членов ЕС. Такое изменение в системе охраны границ в странах Европы оказало огромное влияние на нелегальную иммиграцию в ЕС и на преступления, связанные с нелегальным пересечением границ. Нелегальные иммигранты, которым удается въехать в какое-либо государство, участвующее в Шенгенском соглашении, могут потом беспрепятственно передвигаться по всей Шенгенской зоне. Поскольку большинство государств Европейского Союза в настоящее время ограничили легальную иммиграцию случаями воссоединения семей, наблюдается рост нелегальной иммиграции. Некоторые нелегалы въезжают в ЕС легально в качестве студентов или по гостевым визам и остаются здесь после истечения срока визы, однако все больше нелегальных иммигрантов перевозится через границы ЕС контрабандой (см. рис. 9.1). По подсчетам Международного центра развития иммиграционной политики, ежегодно в страны ЕС контрабандой ввозится 400 000 чел. Длинная береговая полоса, вдоль которой проходит граница Италии, считается одной из самых удобных для проникновения в Европу и привлекает нелегальных иммигрантов из близлежащей Албании, бывшей Югославии, Турции и Ирака. После присоединения к Шенгенскому соглашению Италия значительно укрепила свою внешнюю границу. Германия, на долю которой приходится непропорционально много нелегальных иммигрантов и обращений о предоставлении политического убежища, начала работать с правительствами Польши и Чешской Республики над проблемой укрепления контроля на их восточных границах. Будучи претендентами на «ускоренное принятие» в ЕС, эти страны через несколько лет станут частью восточной оконечности Европейского Союза, и тогда их протяженные границы со Словакией, Украиной, Белоруссией и Калининградской областью России могут оказаться новым «слабым звеном» в иммиграционном контроле Европейского Союза. Усиление контроля за «новыми иммигрантами» происходит, однако, не в вакууме. Неофициальной реакцией на изменения в иммиграционной политике являются новые ухищрения в сетях тайной перевозки нелегалов и контрабанды. Операции с иммигрантами-нелегалами превратились в одну из самых быстро развивающихся отраслей организованной преступности в Европе. Подобно тому, как криминальные группировки занимаются переброской через границы наркотиков, оружия и краденых товаров, они также используют разные способы для тайной переправки нелегальных иммигрантов. И иммигранты, и контрабандисты, опираясь на знания и опыт других иммигрантов, выбирают свои собственные пути передвижения. В этом смысле политика ужесточения ограничений вызывает, по-видимому, новые формы сопротивления (Koser and Lutz 1998). Рис. 9.1. Количество нелегальных иммигрантов (в тысячах), въехавших в страны Европейского Союза в 1993–1999 гг.
Источник: International Centre for Migration Policy Development. From The Economist. 16 Oct. 1999. P. 31.
Рис. 9.1. Количество нелегальных иммигрантов (в тысячах), въехавших в страны Европейского Союза в 1993–1999 гг.
Источник: International Centre for Migration Policy Development. From The Economist. 16 Oct. 1999. P. 31.
Беженцы, соискатели политического убежища и экономические мигранты
По мере ужесточения охраны границ ЕС обращение за предоставлением убежища стало одной из немногих оставшихся возможностей для неграждан стран ЕС получить разрешение поселиться в Европейском Союзе. Соискатель политического убежища — это лицо, которое просит убежища в чужой стране из-за опасности преследований на родине. Право обращаться с просьбой о предоставлении убежища считается универсальным, однако политика, связанная с рассмотрением дел о предоставлении убежища, вызывает во многих государствах ЕС крайне противоречивое отношение. Критики официальной политики утверждают, что с теми, кто просит убежища, обращаются не лучше, чем с преступниками — их заставляют жить в переполненных и похожих на тюрьмы лагерях для интернированных в течение всего времени, пока рассматриваются их заявления. Во многих странах образовались длинные очереди из нерассмотренных дел, в том числе в Соединенном Королевстве в начале 2000 г. решения своей судьбы ждали свыше 100 000 желающих получить убежище. Вместе с тем правительства стран ЕС настаивают на необходимости поставить заслон на пути фиктивных обращений за политическим убежищем и одновременно защитить права тех, кто действительно и обоснованно опасается преследований в своей стране. Поскольку широко известно, что в Европейском Союзе существует очень высокий уровень зарплаты, эффективная система социальной защиты и один из самых высоких стандартов жизни в мире, некоторые «экономические мигранты» не из страха перед преследованиями, а из стремления к лучшей жизни, но не имея другой возможности приехать в ЕС, иногда пытаются добиться своей цели, обратившись с просьбой о предоставлении убежища. Строгая политика в вопросе о предоставлении политического убежища привела к тому, что многие стали говорить о Европе-крепости — защищенной зоне, которая действует сообща, ограждая свои блага и высокий уровень жизни от «штурма» со стороны мигрантов из других частей мира, желающих принять участие в ее процветании. Во многих западноевропейских странах прошли кампании за возвращение мигрантов в те страны, откуда они приехали, и раздавались угрозы их возможной депортации в случае, если они являются безработными или совершили преступление. Моральные опасения, вызванные представлением о мигрантах как о преступниках или нахлебниках государства всеобщего благосостояния, ведут к дальнейшему ужесточению иммиграционной политики во многих странах. Робин Коэн использует выражение «границы идентичности» для обозначения того, как споры в обществе способствуют распространению в нем определенного видения национального наследия и воздвигают барьеры против людей, которые являются «чужими» или «другими» (Cohen 1994). Расизм, связанный с антииммигрантскими настроениями, привел в 1990-х гг. в Европе к ряду серьезных инцидентов. В 1991 и 1992 гг. в недавно объединившейся Германии имели место сотни нападений на иностранцев — в том числе и на турецких рабочих, многие из которых прожили в стране свыше двадцати лет. В ряде стран Центральной и Восточной Европы участились нападения на цыганское население.Заключение
В нашем глобализирующемся мире идеи — и люди — проникают через границы в больших количествах, чем когда-либо раньше в истории. Эти процессы влекут за собой глубокие изменения в обществах, в которых мы живем. Многие общества впервые становятся этнически неоднородными, другие обнаруживают, что существующие модели мультиэтничности изменяются или, напротив, укрепляются. Однако во всех обществах индивидуумам приходится вступать в регулярный контакт с людьми, которые думают по-другому, выглядят по-другому и живут иначе, чем они. Это взаимодействие происходит как при личных контактах в результате глобальной миграции, так и благодаря образам, которые передаются средствами массовой информации и через Интернет. Некоторые приветствуют это новое этническое и культурное многообразие как жизненно важный компонент космополитического общества. Другие считают его опасным и угрожающим. Люди, придерживающиеся фундаменталистских взглядов на мир, ищут прибежища в установленных традициях и отвергают диалог с теми, кто от них отличается (см. главу 17 «Религия»), Многие из этнических конфликтов, бушующих сейчас на земном шаре, можно считать проявлением такого рода фундаменталистского подхода. Одна из главных проблем, стоящих в настоящее время перед нашим глобализующимся миром, заключается в том, как построить общество, которое было бы более космополитическим по своей природе. Как показали кропотливые и упорные усилия Комиссии по восстановлению правды и примирению в ЮАР, создание форума для открытого и уважительного диалога является трудным, но эффективным первым шагом к достижению расового примирения.Краткое содержание
1. Понятие расы относится к физическим характеристикам людей, таким как цвет кожи, которые рассматриваются членами общины или сообщества как этнически значимые, т. е. как свидетельствующие об особых культурных характеристиках. Многие распространенные представления о расе являются не чем иным, как мифами. Не существует никаких четко выраженных признаков, с помощью которых было бы возможно разделять людей по разным расам. 2. Отдельные части населения образуют этнические группы в силу того, что их объединяют некоторые общие характеристики, отличающие их отдругих частей населения. Этническая принадлежность указывает на культурные различия, которые отграничивают одну группу людей от другой. Главными отличительными признаками этнической группы являются язык, история или происхождение, религия и стили одежды или украшений. Хотя иногда этнические различия считаются данными от природы, на самом деле они целиком являются приобретаемыми. 3. Меньшинство — это такая группа, члены которой подвергаются дискриминации со стороны большинства населения данного общества. У членов групп этнических меньшинств часто существует сильное чувство групповой солидарности, возникающее в известной мере вследствие коллективного опыта социальной изоляции. 4. Замещение и поиски козлов отпущения представляют собой психологические механизмы, связанные с предрассудками и дискриминацией. При замещении чувство враждебности обращается людьми против объектов, которые не являются подлинной причиной их тревоги. Люди проецируют свое чувство тревоги и неуверенности на козлов отпущения. Предрассудки предполагают существование предвзятого мнения об отдельном человеке или группе людей; дискриминация же подразумевает реальные действия, направленные на то, чтобы лишить членов одной группы возможностей, открытых для других групп. 5. Расизм — это ошибочное приписывание наследуемых черт личности или поведения лицам с определенными внешними характеристиками. Расист — это человек, который считает, что возможно дать биологическое объяснение признакам неполноценности, якобы присущим людям того или иного физического типа. Институциональный расизм обозначает модели дискриминации по признаку этнической принадлежности, которые встроены в структуры существующих социальных институтов. Новым расизмом называют расистские взгляды, находящие выражение не в понятии биологической неполноценности, но в понятиях культурного отличия. 6. Во многих ситуациях межэтнического антагонизма важной составной частью являются закрытость групп и привилегированный доступ к ресурсам. Однако некоторые из фундаментальных аспектов современных этнических конфликтов, особенно расистские настроения белых в отношении черных, следует понимать, исходя из истории экспансионистской политики Запада и колониальных захватов. 7. В мультиэтнических обществах были приняты три модели этнической интеграции. В случае ассимиляции группы новых иммигрантов усваивают отношения и язык господствующего сообщества. В случае модели «плавильного котла» различные культуры и воззрения этнических групп соответствующего общества соединяются вместе. Плюрализм означает, что разные этнические группы существуют в обществе раздельно, но рассматриваются как равноправные участники экономической и политической жизни. 8. Некоторые мультиэтнические государства неустойчивы, и иногда в них имеют место этнические конфликты. Этнические чистки представляют собой форму этнического конфликта, в ходе которого создаются этнически однородные ареалы путем массового вытеснения других этнических групп. Геноцид — это уничтожение одной этнической группы другой группой. 9. Миграцией называют движение людей из одного региона или общества в другой с целью обосноваться там для проживания. Глобальная миграция, движение людей через границы государств, выросла в годы после Второй мировой войны и продолжает усиливаться и дальше в связи с глобализацией. Диаспора указывает на рассеяние этнического населения с родины в чужие страны, часто насильственное или под давлением трагических обстоятельств. 10. Иммиграция привела к тому, что сейчас в Великобритании, Соединенных Штатах и других индустриальных странах существуют многочисленные различные этнические группы. В Великобритании группы этнических меньшинств в целом находятся в неблагоприятном положении по сравнению с белым населением в таких сферах, как профессиональная занятость, доходы, жилищные условия и др. Однако в моделях неравенства между группами этнических меньшинств сейчас обнаруживаются существенные различия, причем некоторые группы в значительной мере достигли равенства с белым населением. 11. Новая миграция указывает на изменившиеся модели миграции в Европе, что явилось результатом окончания холодной войны, затяжного этнического конфликта в бывшей Югославии и углубления европейской интеграции. По мере того как возможности легальной иммиграции в страны Европейского Союза постепенно ограничиваются, растет иммиграция нелегальная.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Как могло бы оказаться, что непредубежденный человек проявляет дискриминационные настроения? 2. Нужно ли знать историю, чтобы понимать современные модели миграции и этнического антагонизма? 3. Насколько ценным является понятие мультикультурности в обществе? 4. В чем заключаются преимущества тех, то живет в обществе, где осуществляется модель «плавильного котла»? 5. Следует ли социологам отказаться от понятия расы? 6. Смогли ли бы вы жить и работать в любой стране мира?Дополнительная литература
Bulmer Martin and Solomos John (eds.). Ethnic and Racial Studies Today. N. Y.: Routledge, 1999. Cohen Phil (ed.). New Ethnicities, Old Racisms? London: Zed Books, 1999. Cornell Stephen and Douglas Hartmann. Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 1998. Fawcett Liz. Religion, Ethnicity and Social Change. Basingstoke: Macmillan, 2000. Ignatieff Michael. Blood and Belonging. Toronto: Viking, 1993. Kymlicka Will. The New Debate over Minority Rights. Toronto: University of Toronto, 1997. Poole Ross. Nation and Identity. London: Routledge, 1999.Интернет-линки
Историческая карта черных и азиатских народов www.blackhistorymap.com Центр исследований этнических отношений (Уорвикский университет) www.csv.warwick.ac.uk/fac/soc/CRER.RC Комиссия по проблемам расового равенства http://www.cre.gov.uk Уполномоченный Комиссар ООН по делам беженцев http://unhcr.chГЛАВА 10 КЛАСС, КЛАССОВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО
Социологи говорят о социальной стратификации, имея в виду неравенство, которое существует в человеческих обществах между отдельными людьми и группами людей. Часто мы связываем стратификацию с привилегиями или собственностью, но она может также возникать на основе других признаков, таких, как, например, гендер, возраст, религиозная принадлежность или военный ранг. Отдельные люди и группы людей имеют дифференцированный (неравный) доступ к благам в зависимости от их положения в системе стратификации. Следовательно, стратификацию проще всего охарактеризовать как структурированное неравенство между различными группами людей. Социальную стратификацию можно уподобить геологическим слоям пород земной поверхности. Можно представить себе, что общества состоят из «пластов», образующих определенную иерархию, в которой более удачливые находятся на вершине, а менее привилегированные ближе к низу. С исторической точки зрения, в человеческих обществах существовали четыре основные системы стратификации: рабство, каста, сословие и класс. Рабство — это крайняя форма неравенства, при которой одни люди владеют другими в буквальном смысле, как собственностью. Как формальный институт рабство было постепенно искоренено и в настоящее время почти полностью исчезло с лица земли. Каста ассоциируется прежде всего с культурами индийского субконтинента и с индуистской верой в повторное рождение. Согласно этим верованиям, люди, не выполняющие ритуалы и обязанности своей касты, при следующей реинкарнации окажутся в более низком положении. Кастовые системы структурируют тип взаимоотношений, существующий между членами, имеющими различный ранг. Сословия были характерны для многих традиционных цивилизаций, включая европейский феодализм. Феодальные сословия состояли из слоев, имевших различные обязательства и права по отношению друг к другу. В Европе высшим сословием являлась аристократия и мелкопоместное дворянство, второе сословие составляли служители церкви, а к так называемому «третьему сословию» относились простолюдины (крепостные, торговцы и ремесленники). Классовая система во многих отношениях отличается от рабства, каст и сословий. Классы можно определить как большие группы людей, обладающих сходными экономическими ресурсами, что оказывает сильное влияние на доступный им образ жизни. Владение богатством, а также род занятий являются главной основой классовых различий. Классы отличаются в ряде отношений от более ранних форм стратификации: • В отличие от других типов страт, классы по своему происхождению не связаны с юридическими или религиозными установлениями; принадлежность к классу не основана на наследуемом статусе, который определялся бы законом или обычаем. Классовая система, как правило, более подвижна, чем другие типы стратификации, и границы между классами никогда не бывают четко очерченными. Не существует также формальных ограничений на смешанные браки между членами разных классов. • Отдельный человек, по крайней мере в какой-то степени, достигает принадлежности к определенному классу, она не просто «дана» ему при рождении, как это обычно происходит в других типах систем стратификации. Социальная мобильность — движение вверх или вниз в классовой структуре — распространена здесь гораздо больше, чем в других типах. (При кастовой системе переход человека из одной касты в другую вообще невозможен.) • Классы обусловлены экономическими различиями между группами людей — неравенством в обладании материальными ресурсами и контроле над ними. В других типах систем стратификации самыми важными являются обычно неэкономические факторы (такие, как влияние религии в индийской кастовой системе). • В других типах систем стратификации неравенство находит выражение преимущественно в личных отношениях долга или обязанности — между крепостным и феодальным сеньором, между рабом и хозяином или между членом более низкой и более высокой касты. В отличие от этого классовые системы проявляются в основном через крупномасштабные отношения безличного характера. Например, одним из главных источников классовых различий следует считать неравенство в оплате и условиях труда; оно затрагивает всех людей в конкретных профессиональных категориях и зависит от экономической ситуации, преобладающей в экономике в целом.Теории класса и стратификации
В основе большинства социологических исследований, посвященных классам и стратификации, лежат идеи, которые были сформулированы Карлом Марксом и Максом Вебером. Ученые, работающие в рамках традиции марксизма, развили дальше идеи, выдвинутые Марксом; другие социологи попытались разработать взгляды Вебера. Мы начнем с анализа теорий Маркса и Вебера, а потом рассмотрим неомарксистский подход, предложенный Эриком Олином Райтом.Теория Карла Маркса
Хотя большая часть трудов Маркса была посвящена стратификации общества и, в первую очередь, социальному классу, тем не менее, и это вызывает удивление, в них отсутствует систематический анализ понятия «класс». Рукопись, над которой Маркс работал незадолго до смерти (впоследствии опубликованная как часть его главного труда «Капитал»), обрывается как раз на том месте, где он задает вопрос «что составляет класс?». То, как Маркс понимал класс, приходится поэтому реконструировать, исходя из всей совокупности его работ. Поскольку различные фрагменты, в которых он обсуждает понятие «класс», не всегда полностью последовательны, среди ученых возникало много споров относительно того, что же Маркс в действительности имел в виду? В основных чертах, однако, его взгляды достаточно ясны. Природа класса Для Маркса класс — это группа людей, которые находятся в одинаковом отношении к средствам производства — средствам, с помощью которых они обеспечивают свое существование. До возникновения современной промышленности средства производства состояли преимущественно из земли и орудий, используемых для выращивания урожая или в скотоводстве. В доиндустриальных обществах, следовательно, существовали два основных класса: те, кто владел землей (аристократы, мелкопоместное дворянство или рабовладельцы), и те, кто был непосредственно занят в производстве на земле (крепостные, рабы и свободные крестьяне). В современных индустриальных обществах более важную роль приобрели фабрики, конторы, оборудование, а также богатство или капитал, необходимый для их приобретения. Двумя основными классами сейчас являются те, кто владеет этими новыми средствами производства — предприниматели или капиталисты, и те, кто зарабатывает себе на жизнь, продавая им свой труд, — рабочий класс, или, если использовать несколько устаревший термин, который некогда предпочитал Маркс, «пролетариат». Согласно Марксу, отношение между классами было отношением эксплуатации. В феодальных обществах эксплуатация часто принимала форму прямого перехода продукции, произведенной крестьянами, к аристократии. Крепостные были вынуждены отдавать определенную часть продукции хозяевам-аристократам или работать определенное число дней каждого месяца на полях землевладельца, чтобы вырастить урожай, чтобы его потребляли хозяин и его окружение. В современных капиталистических обществах источник эксплуатации менее очевиден, и Маркс приложил много усилий, пытаясь прояснить его природу. Маркс рассуждал так: в течение рабочего дня рабочие производят товаров больше, чем реально необходимо предпринимателям для оплаты труда рабочих. Эта прибавочная стоимость является источником прибыли, которую капиталисты присваивают для своих собственных нужд. Группа рабочих на швейной фабрике может, скажем, производить сто костюмов в день. Продажа 75 % этих костюмов принесет достаточно дохода для того, чтобы предприниматель заплатил зарплату рабочим и оплатил стоимость фабрики и оборудования. Доход от продажи оставшихся костюмов присваивается как прибыль. Маркс был поражен неравенством, которое порождала капиталистическая система. Хотя в более ранние эпохи аристократы жили в роскоши и их жизнь коренным образом отличалась от жизни крестьян, земледельческие общества были в целом относительно бедными. Даже если бы аристократии не существовало, уровень жизни все равно неизбежно был скудным. Однако с развитием современной индустрии материальные блага стали производиться в масштабах, далеко превосходящих все существовавшие раньше, но рабочие практически не имеют доступа к богатству, созданному их трудом. Они по-прежнему живут в относительной бедности, тогда как богатство, накапливаемое имущим классом, постоянно растет. Характеризуя процесс все большего обнищания рабочего класса по сравнению с классом капиталистов, Маркс использовал термин пауперизация. Даже если жизнь рабочих в абсолютных цифрах улучшается, пропасть, отделяющая их от класса капиталистов, продолжает увеличиваться. Неравенство между классом капиталистов и классом рабочих носило не только экономический характер. Как отмечал Маркс, развитие современных фабрик и заводов и механизация производства приводит к тому, что работа часто становится крайне тягостной и однообразной. Труд, являющийся источником нашего богатства, зачастую приводит и к физическому истощению, и к умственной усталости, как в случае фабричного рабочего, работа которого состоит из рутинных операций, осуществляемых изо дня в день в одной и той же не меняющейся обстановке.Теория Макса Вебера
Подход Вебера к социальной стратификации в обществе был основан на идеях, высказанных Марксом, но видоизмененных им и развитых дальше. Подобно Марксу, Вебер считал, что общество характеризуется борьбой за власть и ресурсы. Однако если Маркс был убежден, что в основе любого социального конфликта лежат экономические проблемы и противоположность классовых интересов, то Вебер рассматривал общество как более сложное многомерное явление. Согласно Веберу, социальная стратификация связана не только с классом, но формируется под влиянием еще двух факторов — статуса и партии. Указанные три накладывающиеся друг на друга элемента стратификации образуют огромное число возможных положений в обществе, а не жесткую двухполюсную модель, которую предложил Маркс. Хотя Вебер соглашался с Марксом в том, что класс основывается на объективно данных экономических условиях, он полагал, что для образования класса важно большее число экономических факторов, чем определял Маркс. Согласно Веберу, деление на классы возникает не только из-за наличия или отсутствия контроля над средствами производства, но также под воздействием экономических различий, не имеющих прямого отношения к собственности. К числу таких факторов относится мастерство, квалификация или рекомендации, которые оказывают влияние на виды работ, на которые человек может рассчитывать. Вебер считал, что положение человека на рынке труда в значительной мере определяет его общие «шансы в жизни». Менеджеры, адвокаты, врачи и другие специалисты зарабатывают больше и условия их труда более благоприятны, чем, например, у рабочих. Удостоверения о квалификации, которой они обладают, такие, как ученая степень, дипломы, а также мастерство, которое они приобрели, делают их положение на рынке труда более выгодным, а их труд более «продаваемым», чем труд других людей, не имеющих указанных преимуществ. Даже на более низком уровне — среди рабочих — умелые мастера могут получать более высокую заработную плату, чем полу- или неквалифицированные рабочие. Статус, по теории Вебера, связан с различиями между социальными группами в отношении престижа или социального уважения, с которым к ним относятся другие группы. В традиционных обществах статус часто определялся на основе непосредственного знания о человеке, полученного в результате многократного взаимодействия с ним в различных обстоятельствах в течение длительного времени. Однако по мере усложнения общества приобретение статуса подобным путем возможно далеко не всегда. Вместо этого, согласно Веберу, статус стал выражаться через образ жизни. Показатели и символы статуса, такие как жилищные условия, одежда, манера говорить, род занятий — все способствуют формированию социального статуса человека в глазах других людей. Люди, обладающие сходным статусом, образуют общину, в которой существует чувство общей идентичности. Если Маркс считал различия в статусе результатом классовых различий в обществе, то Вебер утверждал, что статус часто варьирует независимо от разделения на классы. Обладание богатством обычно приводит к получению высокого статуса, вместе с тем это имеет многочисленные исключения. Так, выражение «благородная бедность» указывает на один такой случай. В Великобритании представители аристократических семей продолжают пользоваться значительным социальным уважением даже тогда, когда утрачивают состояние. И наоборот, состоятельные люди из старых аристократических семей часто смотрят с некоторым презрением на недавно разбогатевших выскочек. В современных обществах, отмечал Вебер, существование партий является важным аспектом власти и может оказывать влияние на стратификацию независимо от класса или статуса. Партией называют группу людей, которые действуют солидарно в силу того, что имеют общие истоки, цели и интересы. Часто партия работает организованно для достижения конкретной цели, отвечающей интересам членов партии. Маркс обычно объяснял как различия в статусе, так и формирование партий, исходя из понятия класса. По мнению Вебера, в действительности ни то, ни другое нельзя сводить к делению на классы, хотя классы оказывают на них свое влияние; в свою очередь, и статус, и партийная принадлежность могут воздействовать на экономические условия отдельных людей и групп, тем самым затрагивая класс. Партии могут апеллировать к чаяниям людей, отличающимся от классовых интересов, например, могут опираться на религиозную принадлежность или националистические идеалы. Последователь марксизма, возможно, попытается, например, объяснить конфликт между католиками и протестантами в Северной Ирландии исходя из понятия класса, поскольку среди рабочих больше католиков, чем протестантов. Последователь же Вебера сказал бы, что такое объяснение неубедительно, поскольку многие протестанты также являются выходцами из рабочих семей. Партии, в которые вступают люди, выражают как классовые, так и религиозные различия. Труды Вебера, посвященные стратификации, важны, так как они показывают, что на жизнь людей сильное влияние оказывают, помимо класса, и другие параметры стратификации. Если Маркс попытался свести социальную стратификацию исключительно к делению на классы, Вебер привлек внимание к сложному взаимодействию класса, статуса и партии в качестве отдельных аспектов социальной стратификации. Большинство социологов придерживается мнения, что теория Вебера дает более гибкую и адекватную основу для изучения стратификации, чем та, которую предложил Маркс.Теория класса Эрика Олина Райта
Американский социолог Эрик Олин Райт создал теорию классов, которая соединила некоторые аспекты подходов Маркса и Вебера и оказала заметное влияние на социологов (Wright 1978; 1985; 1997). Согласно Райту, в современном капиталистическом производстве существуют три вида контроля над экономическими ресурсами, и они позволяют идентифицировать основные существующие классы. 1. Контроль над инвестициями или финансовым капиталом. 2. Контроль над материальными средствами производства (землей, или предприятиями или учреждениями). 3. Контроль над рабочей силой. Лица, принадлежащие к классу капиталистов, обладают контролем над каждым из указанных составляющих системы производства. Представители рабочего класса не имеют контроля ни над одним из них. Однако между этими двумя главными классами есть группы, положение которых является менее определенным — например, менеджеры и служащие — «белые воротнички», упомянутые выше. Классовое положение этих групп Райт называет противоречивым, потому что они способны влиять на некоторые аспекты производства, но лишены контроля над другими его аспектами. Служащие и работающие по найму специалисты, например, чтобы заработать на жизнь, должны заключить контракт с работодателем о продаже ему своей рабочей силы, совершенно так же, как это делают рабочие. Но в то же время они обладают большей степенью контроля над условиями труда, чем большинство рабочих. Райт называет классовое положение таких работников «противоречивым», потому что они не являются ни капиталистами, ни рабочими, хотя имеют некоторые общие характеристики и с теми, и с другими. Большая часть населения — по подсчетам Райта от 85 до 90 % (Wright 1997) — попадает в категорию тех, кто вынужден продавать свой труд, потому что они не контролируют средства производства. Однако это население отличается большой неоднородностью: от обычных неквалифицированных рабочих до служащих в конторах. Чтобы дифференцировать людей по классовой принадлежности в пределах этой большой части населения, Райт предлагает учитывать два фактора: отношение к власти и обладание мастерством или знаниями. Во-первых, как утверждает Райт, многие работники, относящиеся к среднему классу, такие как менеджеры и супервайзеры, находятся в более благоприятных отношениях с властью, чем представители рабочего класса. Таких людей капиталисты призывают на помощь, чтобы контролировать рабочий класс, — например, для мониторинга труда наемных работников или для проведения проверки и оценки персонала — и их вознаграждают за «преданность» более высокими зарплатами и регулярным продвижением по службе. Тем не менее, одновременно эти люди остаются под контролем хозяев-капиталистов. Иными словами, они являются и эксплуататорами, и эксплуатируемыми в одно и то же время. Другой фактор, дифференцирующий классовое положение людей, принадлежащих к средним классам, — это обладание мастерством и знаниями. По мнению Райта, представители среднего класса, обладающие навыками, востребованными на рынке труда, способны оказывать особого рода влияние на капиталистическую систему. При условии, если на рынке труда таких знаний и опыта, какими обладают они, не хватает, они могут получить более высокую зарплату. Высокооплачиваемые должности, предоставляемые специалистам в области информационных технологий в складывающейся экономике знания, иллюстрируют указанное явление. Более того, как утверждает Райт, поскольку работниками, обладающими знаниями и мастерством, труднее управлять и их труднее контролировать, чтобы завоевать их преданность и сотрудничество, работодатели вынуждены соответствующим образом их вознаграждать.Измерение класса
Исследованию связи между классовым положением и другими измерениями социальной жизни, такими, как модели голосования на выборах, достижения в образовании, физическое здоровье и т. п., были посвящены как теоретические, так и эмпирические труды. Тем не менее, как мы уже видели, понятие «класс» отнюдь не является четким. Как среди ученых, так и в обычном употреблении термин «класс» понимается и используется весьма разнообразно. Как же тогда социологи и исследователи могут определить такое неточное понятие, как «класс», чтобы его можно было использовать в эмпирических работах? Когда абстрактное понятие, подобно понятию «класс», трансформируется в исследовании в переменную величину, поддающуюся, измерению, говорят, что понятие было операционализировано. Это значит, что оно получило достаточно четкое и конкретное определение и его можно проверить в эмпирическом исследовании. Социологи подвергли понятие «класс» операционализации посредством множества схем, в которых делается попытка представить классовую структуру общества схематически. Такие схемы дают теоретические рамки, с помощью которых люди распределяются по категориям социальных классов. Общей чертой большинства схем классовой структуры общества является то, что они построены на основе структуры, отражающей род занятий. Социологи полагали, что классовые деления в целом совпадают с материальным и социальным неравенством, связанным с типами деятельности. Развитие капитализма и индустриализации было отмечено растущим разделением труда и все более усложняющейся структурой различных родов занятий. Хотя уже не столь непреклонно, как это было раньше, род занятий — это один из самых решающих факторов, определяющих социальное положение человека, его перспективы в жизни и уровень его материального благополучия. Представители социальных наук широко использовали род занятий как показатель социального класса, потому что полагали, что люди, занимающиеся одним видом трудовой деятельности, обычно в одинаковой степени испытывают социальные преимущества или препятствия, поддерживают сопоставимый образ жизни, и жизнь предоставляет им сходные возможности. Схемы классов, основывающиеся на распределении людей по роду занятий, принимают ряд различных форм. Некоторые схемы по своей сути являются преимущественно описательными — они отражают деление по роду занятий и классовую структуру в обществе, не обращаясь к отношениям между социальными классами. Таким моделям оказывают предпочтение ученые, которые считают стратификацию несомненным фактом, частью естественного социального порядка, подобно тем социологам, кто работает в традициях функционализма. Другие схемы более информативны с теоретической точки зрения — часто они опираются на идеи Маркса или Вебера — и стремятся объяснить отношения между классами в обществе. Социологи, работающие в русле парадигмы конфликтов, предпочитают схемы, которые отражают отношения классов, позволяющие продемонстрировать расслоение и напряженность внутри общества. Схема классовой структуры, предложенная Эриком Олином Райтом (см. выше в разделе «Теории класса и стратификации» этой главы), является примером схемы, отражающей отношения между классами, потому что она пытается представить эксплуатацию одних классов другими с марксистских позиций. В Великобритании в качестве одной из двух официальных классификаций родов занятий, которые используются правительственными органами статистики, является Социальный класс Генерального регистратора (СКГР). Это пример скорее «дескриптивной», чем теоретически обоснованной схемы классов. СКГР — это иерархия, включающая шесть категорий видов трудовой деятельности: специалисты, промежуточная категория (преобладает нефизический труд), квалифицированный нефизический труд, квалифицированный физический труд, частично квалифицированный труд и неквалифицированный труд. Считается, что эти категории отражают распространенные представления о высоко- и низкооплачиваемых родах занятий в британском обществе. В пределах системы СКГР принадлежность человека к тому или иному социальному классу определяется в строгом соответствии с его родом занятий. В официальном издании «Классификация профессий» перечислено свыше 500 профессий, и каждая отнесена к одной из шести указанных категорий. В настоящее время в преддверии переписи 2001 г. СКГР пересматривается. Как ожидают, данная схема по-прежнему будет использоваться для целей социальной политики, но, возможно, подвергнется некоторой модификации.Джон Голдторп: класс и род занятий
Некоторые социологи были разочарованы описательными схемами классовой структуры, подобными схеме КСГР, утверждая, что они просто отражают социальное и материальное неравенство между классами и не пытаются объяснить те классовые процессы, которые его порождают. Имея в виду именно такие задачи, социолог Джон Голдторп создал схему, предназначенную для использования в эмпирическом исследовании социальной мобильности. Схема классов Голдторпа была задумана не как иерархия, но как представление «реляционного» характера современной классовой структуры. Хотя сейчас Голдторп не признает влияния на свою схему какой-либо определенной теории (Ericson and Goldthorpe 1993), социологи часто указывали на классификацию Голдторпа как на пример неовеберианской классовой структуры. Это объясняется тем, что в первоначальном варианте Голдторп определял классовое положение на основе двух главных факторов: ситуации на рынке и ситуации в труде. Для того или иного человека ситуация на рынке касается уровня оплаты его труда, гарантий сохранения им работы и перспектив продвижения; упор делается на материальном вознаграждении и общих «возможностях в жизни». Напротив, ситуация в труде связана с контролем, властью и авторитетом в пределах профессии. Для конкретного человека ситуация в труде определяется степенью самостоятельности на рабочем месте и общими отношениями контроля, затрагивающими работника. Голдторп построил свою схему, используя оценку родов занятий с точки зрения их ситуации на рынке и ситуации в труде. Полученная таким образом классификация приведена в табл. 10.1. Схема Голдторпа включает одиннадцать категорий и является более детализированной, чем многие другие. Однако в более широком употреблении классовые позиции объединяются в схеме в три основные классовые страты: класс «служащих» (классы I и II — service class), класс «промежуточный» (классы III и IV) и «рабочий класс» (классы V, VI и VII). Голдторп также признает наличие на самом верху структуры так называемой элиты — класса владельцев собственности, но утверждает, что он представляет собой такую небольшую часть общества, что в эмпирическом исследовании как категория он не существен. В последних работах Голдторпа на первый план внутри его схемы выдвинуты отношения найма, а не понятие ситуации труда, которое было описано выше (Goldthorpe and Marshall 1992). Этим Голдторп привлекает внимание к различным типам контрактов найма. Трудовой контракт предполагает обмен заработной платы и трудовых усилий, который конкретно определен и ограничен, тогда как контракт о найме на службу содержит такой «предполагаемый на будущее» элемент, как возможность повышения жалования и продвижения по службе. Согласно Голдторпу, для рабочего класса характерны трудовые контракты, а для класса служащих — контракты о найме на службу. Как можно понять, работники, принадлежащие к промежуточному классу, характеризуются промежуточными типами отношений найма.Оценка схем классовой структуры
В эмпирических исследованиях широко использовались схемы классов и СКГР, и Голдторпа. Они оказались полезными, поскольку проливали свет на неравенство, обусловленное классовым положением, как, например, неравенство, связанное со здоровьем и образованием, а также классово обусловленные различия в моделях голосования на выборах, в политических взглядах и в общей социальной настроенности. Важно, однако, отметить несколько существенных ограничений, присущих подобным схемам, которые должны предостеречь нас от их некритического использования. Классовые схемы, в основе которых лежит профессия, трудно применимы к тем, кто экономически неактивен, а именно к безработным, студентам, пенсионерам и детям. Безработные и люди, ушедшие на пенсию, часто классифицируются исходя из их предшествующей трудовой деятельности, хотя это может быть проблематичным, когда речь идет о людях, давно потерявших работу, или тех, кто работал с перерывами. Студентов нередко можно классифицировать в соответствии с выбранной ими специализацией, но это обычно оказывается более успешным в тех случаях, когда область изучения точно соответствует той или иной конкретной профессии (такой, например, как инженерное дело или медицина). Классовые схемы, основанные на различии профессий, неспособны также отразить важное значение, которое имеет для социального класса владение собственностью и богатством. Только название профессии не является еще достаточным показателем богатства, которым владеет тот или иной человек, или его преимуществ в целом. Это особенно справедливо по отношению к самым богатым членам общества, включая предпринимателей, финансистов и «старых богачей», чей род занятий, определенный как «член правления» или «администратор», побуждает отнести их к той же категории, что и многих специалистов с гораздо более ограниченными средствами. Иными словами, схемы классовой структуры, исходящие из категории «род занятий», не отражают огромной концентрации богатства в руках «экономической элиты». Отнеся ее представителей к тому же классу, что и других специалистов из высшего класса, подобные классовые схемы искажают относительный вес отношений собственности в социальной стратификации. Одним из социологов, выступивших против мнения, которого придерживался, как говорилось выше, Голдторп, согласно которому число богатых людей столь невелико, что их можно не учитывать в схемах, детализирующих классовую структуру, является Джон Вестергаард. По мнению Вестергаарда, «именно интенсивная концентрация власти и привилегий в столь немногих руках возводит этих людей на самый верх. Их роль в социальной структуре общества, в целом непропорционально большая, если учесть их немногочисленность, делает общество, верхушку которого они образуют, классовым, независимо от того, какие модели членения существуют в остальной части общества» (Westergaard 1995, 127).Таблица 10.1 Схема классов Голдторпа
 Источник: Adapted from Crompton R. Class and Stratification. 2nd edn. Polity, 1998. P. 67.
Источник: Adapted from Crompton R. Class and Stratification. 2nd edn. Polity, 1998. P. 67.
Как можно видеть, создание схем, которые давали бы достоверную картину классовой структуры общества, сталкивается с рядом проблем. Измерение и «картирование» социальных классов сопряжено с трудностями, даже если исходить из относительно «стабильной» структуры родов занятий. Вместе с тем, быстрые экономические преобразования, происходящие в индустриальных обществах, сделали определение класса еще более проблематичным и даже привели к тому, что была поставлена под вопрос полезность самого понятия «класс». Возникают новые категории профессий, наблюдается общее движение от индустриального производства к сфере обслуживания и информационных услуг; а, кроме того, в последние десятилетия в состав трудовых ресурсов влилось огромное число женщин. Таким образом, классовые схемы, построенные на основе родов занятий, отнюдь не всегда способны учесть динамические процессы формирования классов, мобильность и изменения, вызываемые такими социальными сдвигами.
Деление на социальные классы в западном обществе сегодня
Проблема высшего класса
Кто же прав — Вестергаард или Голдторп? Существует ли в наши дни особый высший класс, основанный на владении богатством и собственностью? Или же следует говорить скорее о более широком классе служащих, как это предлагал Голдторп? Один из способов подойти к этим проблемам заключается в том, чтобы рассмотреть, насколько богатство и доходы сконцентрированы в руках немногих.Таблица 10.2 Распределение богатства в Великобритании
 Источник: Inland Revenue. From Social Trends. 29. 1999. P. 100.
Источник: Inland Revenue. From Social Trends. 29. 1999. P. 100.
Получить достоверную информацию о распределении богатства трудно. В некоторых странах имеется более точная статистика, чем в других, но всегда приходится в значительной мере прибегать к догадкам. Состоятельные люди обычно не демонстрируют в полном объеме свои активы, недаром часто отмечается, что нам гораздо больше известно о бедных, чем о богатых. Несомненным фактом является то, что богатство действительно сосредоточено в руках незначительного меньшинства. В Великобритании 1 % «верхушки» владеет около 19 % всех личных богатств (богатств, принадлежащих частным лицам, а не организациям). Самые богатые 10 % населения владеют почти половиной всего богатства, находящегося в собственности семей, тогда как наименее богатой половине населения принадлежит только 8 % всего богатства (см. табл. 10.2). Владение ценными бумагами и акциями распределяется еще более неравномерно, чем обладание богатством в целом. В Соединенном Королевстве 1 % владеет около 75 % акций частных корпораций; верхние 5 % владеют свыше 90 % всех акций. Но в этом отношении также наблюдаются большие изменения. Сейчас акциями владеют около 25 % населения, что можно сравнить с 14 % в 1986 г. Многие купили акции впервые в ходе программы приватизации, которую проводило правительство консерваторов. Этот рост представляется еще более заметным, если взять более продолжительный период времени — так, например, в 1979 г. держателями акций были только 5 % населения. В большинстве случаев эти пакеты акций невелики (стоимостью менее 1 000 фунтов стерлингов в ценах 1991 г.). Что касается институционального владения акциями, — когда компании являются держателями акций других фирм, — то оно растет быстрее, чем владение акциями среди частных лиц. «Богатые» не представляют собой однородной группы. Не являются они также и неизменной категорией. Отдельные люди, следуя разными путями, приобретают или теряют состояние. Некоторые богатые люди родились в семьях со «старыми деньгами» — выражение указывает на давнишнее богатство, которое передавалось по наследству на протяжении многих поколений. Другие состоятельные люди «сделали себя сами»; выйдя из более скромных семей, они добились успеха и приобрели богатство. Жизненные пути самых богатых членов общества чрезвычайно различны. За членами старинных богатых семей следуют знаменитости из мира музыки и кино, спортсмены и представители «новой элиты», заработавшей миллионы благодаря развитию и продвижению компьютеров, телекоммуникаций и Интернета. Так же как бедность, богатство следует рассматривать в контексте жизненных циклов. Некоторые люди становятся богатыми очень быстро, но потом теряют большую часть своего богатства или все богатство целиком; у других же богатство может возрастать или сокращаться постепенно, с течением времени.
Таблица 10.3 Десять самых богатых людей Великобритании
 Источник: Sunday Times. 2000. Rich List.
Источник: Sunday Times. 2000. Rich List.
Хотя собрать точную информацию о состоянии и жизни богатых людей трудно, возможно проследить широкие сдвиги в составе богатейшей части общества. Некоторые примечательные тенденции наблюдаются в Великобритании в недавнее время. Во-первых, всё большую часть самых богатых людей составляют, по-видимому, миллионеры, «сделавшие себя сами». По данным на 2000 г., более 70 % из 1 000 самых богатых британцев не унаследовали свое богатство, а заработали его сами. Некоторые «сделавшие себя сами» миллионеры заработали деньги на «новой экономике» — на программном обеспечении, СМИ, Интернете, телекоммуникациях. Во-вторых, среди богатых все более увеличивается количество женщин. В 1989 г. среди самых богатых британцев было только шесть женщин. К 2000 г. их число увеличилось более чем в десять раз и достигло 64. В-третьих, многие из самых богатых членов общества являются совсем молодыми — это двадцати–тридцатилетние люди. В 2000 г. среди тех, чье состояние оценивалось более чем в 30 млн фунтов стерлингов, было семнадцать британцев, не достигших тридцатилетнего возраста. Наконец, среди сверхбогатых все более заметным становится присутствие представителей этнических меньшинств, особенно выходцев из Азии (Sunday Times 2000. Список самых богатых людей). В 1999–2000 гг. в Великобритании совокупное богатство двухсот наиболее богатых людей азиатского происхождения увеличилось на 40 %. Хотя состав категории богатых людей, несомненно, меняется, вряд ли можно согласиться с мнением, что четко определяемого высшего класса больше не существует. Джон Скотт утверждал, что высший класс в наши дни изменил облик, но сохранил свое особое положение (Scott 1991). Он указывает на три отличающихся друг от друга группы, которые вместе образуют совокупность интересов в контроле над большим бизнесом и получении от этого прибыли. Высшие должностные лица в больших корпорациях не могут быть владельцами своих компаний, но они часто в состоянии аккумулировать в своих руках акции, и это сближает их одновременно и спромышленниками и предпринимателями старого стиля, и с «финансовыми капиталистами». «Финансовые капиталисты», категория, включающая людей, управляющих страховыми компаниями, банками, инвестиционными фондами и другими организациями, которые являются крупными институциональными держателями акций, составляют, по мнению Скотта, самое ядро высшего класса в настоящее время. Политика, поощряющая предпринимательство в 1980-х гг., и бум в области информационных технологий в 1990-х гг. привели к новой волне пополнения высшего класса людьми, нажившими состояния за счет бизнеса и прогресса в технологиях. Одновременно рост держателей акций различных корпораций среди семей среднего класса расширил круг владельцев корпораций. Тем не менее, концентрация власти и богатства в руках высшего класса остается неизменной. Хотя модели владения корпорациями сейчас более размыты, чем в прежние времена, основную выгоду от держания акций получает в действительности по-прежнему незначительное меньшинство. Из сказанного можно сделать вывод, что нам нужны оба понятия — как высшего класса, так и класса служащих. Высший класс состоит из незначительного меньшинства людей, которым принадлежит как богатство, так и власть, и которые могут передавать свои привилегии по наследству своим детям. Приблизительно высший класс можно определить как верхний 1 % обладателей богатства. Ниже этого класса располагается класс служащих, состоящий, по словам Голдторпа, из специалистов, менеджеров и административной верхушки. Они составляют примерно 5 % населения. Тех, кого Голдторп называет «промежуточным классом», наверное, проще называть средним классом. Рассмотрим этот класс более подробно.
Средний класс
Выражение средний класс охватывает широкий спектр людей, занятых многими различными видами деятельности, от служащих в индустрии услуг до школьных учителей и медицинских работников. Чтобы привлечь внимание к многообразию профессий, классовых и статусных позиций, а также жизненных возможностей, характерному для членов этого класса, некоторые авторы предпочитают говорить о «средних классах». По мнению большей части наблюдателей, средний класс в настоящее время включает большинство населения Великобритании и многих других индустриальных стран. Это объясняется тем, что доля труда «белых воротничков» в течение XX в. заметно возросла по сравнению с долей физического труда «синих воротничков» (см. главу 13 «Труд и экономическая жизнь»). Члены среднего класса, благодаря своему образованию и технической квалификации, занимают положение, предоставляющее им большие материальные и культурные преимущества, чем те, которые имеют рабочие. В отличие от рабочего класса, представители среднего класса могут продать свою и умственную, и физическую трудовую силу, чтобы заработать средства к существованию. Данное различие полезно, чтобы провести примерную границу между средним классом и классом рабочих, но динамический характер структуры профессий и возможность социальной мобильности как восходящей, так и нисходящей, затрудняют сколько-нибудь четкое определение границ среднего класса. Средний класс не является внутренне сплоченным и вряд ли когда-нибудь станет таким, учитывая разнородность его членов и различие их интересов (Butler and Savage 1995). Действительно, средний класс не столь однороден, как рабочий класс, и члены среднего класса не имеют общего социального происхождения или культурных предпочтений, как это наблюдается в значительной степени у верхушечных слоев высшего класса. Однако неопределенный состав среднего класса — явление отнюдь не новое, это было его постоянной чертой со времени возникновения в начале XIX в. Специалисты, работники менеджмента и администрации представляли собой наиболее быстро растущие части среднего класса. Для этого есть несколько причин. Первая из них связана с важным значением в современном обществе крупномасштабных организаций (см. главу 12 «Современные организации»). Расширение бюрократии создало возможности и потребность в служащих, работающих в учреждениях. Врачи, адвокаты и другие специалисты, которые раньше работали индивидуально, теперь предпочитали работать в условиях учреждений. Второй причиной роста числа специалистов является увеличение численности работников в тех секторах экономики, где главную роль играет правительство. Создание государства всеобщего благосостояния привело к огромному росту занятости во многих профессиях, осуществляющих функции такого государства, — социальных работников, учителей и работников системы медицинского обслуживания. Наконец, по мере экономического и социального развития все больше росла потребность в услугах экспертов в области права, финансов, бухгалтерского дела, технологии и информационных систем. В этом смысле подобных специалистов можно рассматривать и как продукт современной эпохи, и как центральный фактор, способствующий ее эволюции и расширению. Специалисты, менеджеры и администраторы более высокого ранга добиваются своего положения в значительной степени благодаря обладанию некоторыми «верительными грамотами» — учеными степенями, дипломами и другими квалификационными документами. В целом их служебная карьера оказывается относительно надежной и благополучной, и их обособление от людей, выполняющих более рутинную нефизическую работу, в последние годы стало более резко выраженным. Некоторые авторы высказывали мнение, что специалисты и другие группы «белых воротничков» более высокого ранга образуют особый класс — класс «специалистов и менеджеров» (Ehrenreich and Ehrenreich 1979). Однако граница между ними и остальными служащими, по-видимому, не является ни достаточно глубокой, ни достаточно отчетливой, чтобы такое мнение можно было считать обоснованным. Другие авторы исследовали способы, с помощью которых специалисты определенных профессий объединяются вместе с целью максимальной защиты своих собственных интересов и обеспечения высокого уровня материального вознаграждения и престижа. Яркой иллюстрацией этого служит пример с медицинской профессией (Party and Party 1976). Представители этой профессии весьма успешно организовались для защиты своего положения в обществе и для обеспечения себе высокого уровня материального вознаграждения. Это было осуществлено благодаря использованию трех основных критериев профессиональной организации: членами медицинского сообщества могли быть только те, кто полностью отвечает строгому набору определенных требований (показателей квалификации); профессиональная ассоциация следит за поведением и деятельностью своих членов и контролирует их; существует общепринятое мнение, что только члены ассоциации имеют право осуществлять медицинскую практику. С помощью этих каналов самоуправляющиеся профессиональные ассоциации имеют возможность исключать нежелательных лиц из своей профессиональной среды и укреплять положение своих собственных членов на рынке.────────────────────────────┐ ■ Возникновение «сетевых работников» Глобализация, прогресс в области информационных технологий и изменения в характере труда — все это вместе способствовало возникновению нового типа экономики, часто определяемой как экономика знания (см. главу 13 «Труд и экономическая жизнь»). Наиболее динамично развивающиеся секторы этой новой экономики — компьютеры, финансы, программное обеспечение, телекоммуникации, именно они зависят от «информационных работников»: наемных служащих, работающих с информацией и производящих информацию, а не материальные блага. Одна из наиболее быстро растущих частей среднего класса включает людей, работающих в секторе информационных технологий. Эти так называемые «сетевые работники» имеют широкий круг деятельности: работают в качестве дизайнеров веб-сайтов, работников интернет-торговли, продавцов по каталогам, аналитиков данных, системных аналитиков, создателей рекламы, программистов, графических компьютерных дизайнеров и финансовых консультантов. Несмотря на такое разнообразие занятий, сетевых работников объединяет несколько общих признаков. Они обычно проводят большую часть дня за компьютером в неиерархической свободной обстановке. «Сетевые работники» выполняют не шаблонные повторяющиеся задания, а заняты активной работой, связанной с решением проблем. Число «сетевых работников» трудно определить сколько-нибудь точно, но некоторые исследователи считают, что они составляют около трети всей рабочей силы в странах Европейского Союза и еще больше в Соединенных Штатах. По общему мнению, информационная экономика все еще находится на стадии формирования, и количество «сетевых работников», безусловно, будет расти. «Сетевые работники» принадлежат к тем, кто в первую очередь воспринимает новую политическую культуру, выходящую за пределы традиционной политики «левых-правых». При этом новом подходе политические взгляды основываются не на традиционных классовых проблемах, таких как налогообложение или обеспечение благосостояния, а скорее на проблемах стиля жизни, которые отражают личные чаяния и ценности (Кларк и Хоффман-Мартино 1998). ────────────────────────────┘
Меняющаяся природа рабочего класса
Маркс считал, что рабочий класс — люди, работающие на производстве и занятые физическим трудом, — будет постепенно становиться все более и более многочисленным. Этот тезис лежал в основе его теории о том, что рабочий класс явится движущей силой для революционного преобразования общества. В действительности же рабочий класс все более сокращался. Всего лишь четверть века назад около 40 % работающего населения было занято физическим трудом. Сейчас в Соединенном Королевстве их только 18 %, и эта цифра продолжает сокращаться. Более того, условия, в которых живут представители рабочего класса, и стиль их жизни меняются. В британском обществе, также как и в большинстве других индустриальных стран, есть значительное число бедных. Однако большинство людей, занятых физическим трудом («синих воротничков»), больше не живет в бедности. Как уже упоминалось раньше, доходы работников физического труда с начала века значительно выросли. Рост уровня жизни нашел выражение в возросшей доступности потребительских товаров для всех классов. Около 50 % рабочих физического труда являются сейчас собственниками своих домов. У весьма значительной части семей имеются автомобили, стиральные машины, телевизоры и телефоны. Феномен зажиточности рабочего класса указывает еще один возможный путь в направлении общества, где преобладал бы средний класс. Может быть, по мере того, как рабочие будут становиться все более зажиточными, произойдет их сближение со средним классом? Эта идея, под влиянием характерной для социологов любви к неудобоваримым терминам, стала известна как тезис об обуржуазивании рабочего класса. Обуржуазиться, т. е. «стать более буржуазным», — термин, выдержанный в духе марксизма, — имеет значение «становиться более похожим на средний класс». В 1950-х гг., когда этот тезис впервые получил известность, его сторонники утверждали, что если многие рабочие будут зарабатывать столько же, сколько средний класс, они усвоят также и ценности среднего класса, его взгляды и стиль жизни. Широкое распространение получила вера в то, что прогресс внутри индустриального общества оказывает мощное влияние на форму социальной стратификации. В 1960-х гг. Джон Голдторп и его коллеги провели свое знаменитое исследование с целью проверки гипотезы обуржуазивания рабочего класса. Предпринимая это исследование, они утверждали, что если тезис об обуржуазивании верен, тогда зажиточные наемные рабочие будут с точки зрения их отношения к работе, стиля жизни и политических взглядов практически неотличимы от наемных «белых воротничков». Исследование было основано на опросах рабочих автомобильных и химических предприятий в Лутоне, и его материалы составили при публикации три тома. На это исследование часто ссылаются как на «Исследование состоятельного рабочего» (Goldthorpe et al. 1968–1969). Были опрошены рабочие общим числом 229 чел. и для сравнения 54 служащих. Многие из этих рабочих мигрировали в данный регион в поисках хорошо оплачиваемой работы; и действительно, по сравнению с большинством других рабочих, они являлись высокооплачиваемыми и зарабатывали больше, чем основная масса «белых воротничков» низкого уровня. Голдторп и его коллеги сосредоточили внимание на указанных выше трех измерениях жизненной позиции рабочего класса и не нашли практически никакого подтверждения тезиса обуржуазивания. Что касается экономических взглядов и отношения к работе, то авторы согласились, что многие рабочие, благодаря своему доходу и обладанию потребительскими благами, усвоили стандарт жизни, присущий среднему классу. Однако относительная зажиточность была достигнута рабочими посредством труда, приносящего небольшой доход, у них мало перспектив на продвижение и слабое внутреннее удовлетворение от работы. Авторы исследования установили, что для зажиточных рабочих типична инструментальная ориентация по отношению к своей работе: они видят в ней средство для достижения цели, получения хорошей зарплаты. Их работа была по большей части однообразной и неинтересной, и они не были к ней сколько-нибудь привязаны. Несмотря на уровень зажиточности, сопоставимый с уровнем «белых воротничков», обследованные рабочие не общались со средним классом в свободное время и не испытывали стремления подняться вверх по ступенькам классовой лестницы. Голдторп и его коллеги обнаружили, что в основном общение имело место дома с членами семьи, с родственниками или с соседями, также принадлежащими к рабочему классу. Ничто не указывало на то, что рабочие движутся в направлении норм и ценностей среднего класса. Что касается политических взглядов, то авторы исследования не обнаружили никакой связи между зажиточностью рабочих и их поддержкой консервативной партии. Вместе с тем, сторонники тезиса об обуржуазивании рабочего класса предсказали, что все возрастающее обогащение рабочих приведет к ослаблению их традиционной поддержки лейбористской партии. Результаты указанного исследования, на взгляд его авторов, были вполне очевидны: тезис об обуржуазивании рабочего класса оказался несостоятельным. Обследованные рабочие не становились более похожими на средний класс. Тем не менее Голдторп и его коллеги действительно допустили возможность известного совпадения по некоторым вопросам между нижним слоем среднего класса и верхним пластом рабочего класса. Зажиточные рабочие имели те же, что и близкие им по доходам представители «белых воротничков», модели экономического потребления, сходное отношение к дому как к центру частной жизни и выступали в поддержку инструментального коллективизма на работе (коллективных действий с помощью профсоюзов, с тем чтобы добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда). В последующие годы не проводилось исследований, сопоставимых с исследованием Голдторпа и его коллег, поэтому неясно, если допустить, что выводы, к которым пришли Голдторп и др., были для того времени справедливы, насколько они сохраняют силу в наши дни. Существует распространенное мнение, что старые, традиционные сообщества рабочего класса имели тенденцию распадаться на части или полностью исчезать по мере упадка производства и под воздействием роста потребления. Однако вопрос о том, насколько далеко зашло такое раздробление рабочего класса, остается дискуссионным.Класс и стиль жизни
Анализируя классовую принадлежность людей, социологи традиционно опирались на такие ее условные показатели, как положение на рынке труда, отношение к средствам производства и профессия. В последнее время некоторые авторы высказывают мнение, что оценивать классовую принадлежность людей следует не только или даже не главным образом исходя из экономики и рода деятельности, а учитывая также такие факторы культуры, как стиль жизни и модели потребления. Согласно подобному подходу, в наш нынешний век все более важную роль в повседневной жизни людей играют «символы» и показатели, связанные с потреблением. Индивидуальность человека во все большей степени структурируется выбором стиля жизни — тем, как он одевается, что ест, как ухаживает за телом, где отдыхает и развлекается. Французский социолог Пьер Бурдьё считает, что классовые группировки можно определить, исходя из различного уровня их культурного и экономического капитала (Bourdieu 1986). Одни люди все больше отличаются от других людей не уровнем дохода или профессией, а на основе предпочтений в области культуры и тем, как они проводят свой досуг. Им помогают в этом размножившиеся «торговцы необходимыми товарами» — растущее число людей, занятых презентацией и репрезентацией товаров и услуг, — в символической или реальной форме для потребления внутри капиталистической системы. Создатели рекламы, торговцы, дизайнеры модной одежды, стилисты, дизайнеры интерьера, личные тренеры, психиатры и психоаналитики, дизайнеры веб-страниц в Интернете и многие, многие другие — все они оказывают влияние на культурные предпочтения и способствуют распространению определенных стилей жизни среди все более расширяющегося общества потребителей. Другие ученые согласны с Бурдьё в том, что деление на классы можно связать с особыми стилями жизни и моделями потребления. Так, говоря о группировках внутри среднего класса, Сэвидж и его коллеги выделяют три части, исходя из культурных вкусов и «активов» (Savage 1992). Специалисты, состоящие на государственной службе, обладают большим «культурным капиталом» и ограниченным «экономическим капиталом» и обычно стремятся к здоровому активному образу жизни, включая занятия спортом, низкое потребление алкоголя и участие в культурной жизни и жизни общины. Напротив, менеджеры и чиновники характеризуются «неспецифическими» моделями потребления, что предполагает средний или низкий уровень занятий спортом, слабое участие в культурной жизни и предпочтение традиционных стилей в меблировке дома и моде. Жизненный стиль представителей третьей группировки, «постмодернистов», лишен какого-либо определяющего принципа и может включать элементы, традиционно не сочетающиеся друг с другом. Так, верховая езда и интерес к классической литературе могут сопровождаться увлечением экстремальными видами спорта, вроде скалолазания, и любовью к галлюциногенным наркотическим веществам и экстази. В целом трудно было бы оспорить, что разделение внутри классов, так же как разделение на классы, зависит сейчас не только от различий в роде занятий, но также от различий в потреблении и стиле жизни. Это мнение подкрепляется при анализе тенденций, наблюдаемых в обществе, взятом как целое. Быстрое распространение экономики услуг и индустрии развлечений и досуга, например, отражает все возрастающий упор на потребление в индустриальных странах. Современные общества стали обществами потребителей, нацеленными на приобретение материальных благ. В некоторых отношениях общество потребителей является «массовым обществом», в котором классовые различия в какой-то степени преодолеваются; так люди, принадлежащие к разным классам, могут смотреть сходные программы телевидения или покупать одежду в одном и том же магазине на «главной улице»; вместе с тем, классовые различия могут, напротив, интенсифицироваться посредством расхождений в образе жизни и «вкусах» (Bourdieu 1986). Однако при всем том, что необходимо помнить об указанных подвижках во взглядах, нельзя игнорировать ту ключевую роль, которую играли в воспроизводстве социального неравенства экономические факторы. Ведь те крайние социальные и материальные лишения, которые испытывают люди, отнюдь не являются в большинстве случаев частью выбранного ими стиля жизни. Напротив, их стесненные обстоятельства обусловлены факторами, связанными с экономической структурой и родом занятий (Crompton 1998).Низший класс
Термин «низший класс» часто употребляется для обозначения той части населения, которая занимает самое дно классовой структуры. Стандарты жизни представителей этого класса значительно ниже, чем у большинства членов общества. Эта группа характеризуется множеством неблагоприятных обстоятельств. Многие из входящих в нее людей давно потеряли работу или работают только на временной работе и спорадически. Некоторые являются бездомными или не имеют постоянной крыши над головой. Члены низшего класса могут в течение долгих периодов времени жить на пособие по безработице. Низший класс часто определяют как «маргинализированный» или «исключенный» из той жизни, которую ведет основная часть населения. Низший класс иногда ассоциируется с неимущими и бесправными группами этнических меньшинств. В значительной мере споры относительно низшего класса имели место в Соединенных Штатах, где преобладание черных бедняков, живущих в городских гетто, порождало разговоры о «черном низшем классе» (Wilson W. J. 1978; Murray 1984, 1990). Низший класс, однако, не является только американским феноменом. В Великобритании черные и выходцы из Азии составляют непропорционально большое число членов низшего класса. В некоторых европейских странах мигранты-рабочие, нашедшие работу во времена относительного процветания двадцать лет назад, теперь образуют значительную часть этого сектора населения. Так обстоит дело, например, с алжирцами во Франции и турецкими иммигрантами в Германии. Природа — а фактически и само существование низшего класса — вызывает среди социологов горячие споры. Мы рассмотрим вопрос о низшем классе более подробно в главе 11 «Бедность, социальная помощь и социальное отчуждение».Гендер и стратификация
На протяжении многих лет изучение стратификации в обществе характеризовалось известной «слепотой» в отношении гендерных различий — оно проводилось так, как если бы женщин вообще не существовало или как если бы для анализа неравенства в обладании властью, богатством и престижем женщины не имели значения и не представляли интереса. Однако гендер сам по себе является одним из самых первых примеров стратификации. Во всех известных обществах мужчины, по крайней мере в некоторых аспектах социальной жизни, всегда обладали большим богатством и более высоким статусом и влиянием, чем женщины. Одна из главных проблем, возникших в связи с изучением гендера и стратификации в современных обществах, звучит просто, но оказывается весьма трудной для разрешения. Это вопрос о том, насколько полно можно понять гендерное неравенство в наше время, если исходить преимущественно из классовых делений. Неравенство, связанное с гендером, имеет более глубокие исторические корни, чем классовые системы; мужчины занимали более высокое положение, чем женщины, даже в живущих охотой и собирательством обществах, где не существовало классов. Тем не менее, деление на классы в современных обществах выражено настолько заметно, что оно, несомненно, в значительной степени «перекрывает» гендерное неравенство. Материальное положение большинства женщин обычно отражает материальное положение их отцов или мужей, и отсюда создается впечатление, что мы вправе объяснять гендерное неравенство, исходя в основном из понятия классов.Определение классовой принадлежности женщин
Вплоть до самого последнего времени зачастую молчаливо предполагалось, что классовое неравенство в значительной мере определяет гендерную стратификацию. Однако критика со стороны представителей феминистского движения, а также несомненные изменения в экономической роли женщин во многих западных обществах поставили это мнение под вопрос. «Общепринятая точка зрения» при изучении классов заключалась в том, что оплачиваемый труд женщин составляет относительно незначительную долю в доходах семьи по сравнению с оплачиваемым трудом мужчин и что, следовательно, женщин можно относить к тем же классам, что и их мужей (Goldthorpe 1983). Согласно Голдторпу, чья схема классовой стратификации первоначально основывалась на этом мнении, такой подход не является выражением идеологии превосходства мужчин (сексизма). Напротив, он признает подчиненное положение, в котором оказывается большинство женщин на рынке труда. Женщины чаще, чем мужчины, заняты на работах с неполным рабочим днем и имеют больше перерывов в оплачиваемой трудовой деятельности хотя бы потому, что им приходится надолго прерывать работу для рождения детей и ухода за ними (см. главу 13 «Труд и экономическая жизнь»). Поскольку большинство женщин традиционно находилось в положении экономической зависимости от своих мужей, отсюда следует, что их классовая принадлежность чаще всего обусловливается классовой принадлежностью мужа. Аргументы Голдторпа вызвали критику в нескольких направлениях. Во-первых, в значительной части семей доходы, получаемые женщинами, играют важную роль для поддержания экономического положения семьи и ее образа жизни. В подобных обстоятельствах оплачиваемая работа женщины в известной степени определяет классовую принадлежность семьи. Во-вторых, профессия жены иногда может являться мерилом положения семьи в целом. Даже в тех случаях, когда женщина зарабатывает меньше, чем ее муж, ее положение на работе может все равно оказаться «ведущим» фактором, влияющим на классовую принадлежность мужа. Так, например, обстоит дело, если муж является неквалифицированным или полуквалифицированным рабочим, а жена, скажем, менеджером в магазине. В-третьих, в случае семей «смешанного класса», — в которых работы мужа и жены относятся к разным категориям, — могут существовать те или иные причины, по которым более целесообразно рассматривать мужчин и женщин как принадлежащих, даже в пределах одной и той же семьи, к разным классам. В-четвертых, все время растет доля семей, в которых женщины выступают единственными кормильцами. Увеличивающееся количество матерей-одиночек и бездетных работающих женщин является тому свидетельством. Такие женщины по определению оказывают решающее влияние на классовое положение своих семей, за исключением случаев, когда выплачиваемые алименты ставят женщину на тот же экономический уровень, на котором находится ее бывший муж (Stanwort 1984; Walby 1986). Голдторп и другие авторы защищали традиционную точку зрения, тем не менее в его схему были внесены некоторые существенные изменения. Для целей исследования при классификации семьи стало учитываться положение супруга, принадлежащего к более высокому классу, независимо от того, мужчина это или женщина. Иначе говоря, принадлежность к тому или иному классу определяется теперь не исходя из понятия «мужчины-кормильца», а в зависимости от «основного кормильца». Далее, класс IIIb в схеме Голдторпа был разделен на две подкатегории, чтобы отразить преобладание женщин на должностях «белых воротничков» низкого уровня. Когда схема применяется к женщинам, класс IIIb (работники нефизического труда, занятые в сфере торговли и услуг) рассматривается как класс VII. Это расценивается как более точное представление положения неквалифицированных и полуквалифицированных женщин на рынке труда. Вне семьи? В развитие спора относительно определения классовой принадлежности, некоторые авторы предложили устанавливать классовую принадлежность человека безотносительно к семье. Иными словами, предлагается определять социальный класс исходя из рода занятий для каждого отдельного лица независимо от его домашних обстоятельств. Подобный подход был использован, например, в работе Гордона Маршалла и его коллег, посвященной изучению системы классов в Соединенном Королевстве (Marshall et al. 1988). Однако такой подход также сталкивается с трудностями. Он ставит в один ряд всех, кто не занят на оплачиваемой работе, включая не только домохозяек, но также пенсионеров и безработных. Классовое положение представителей последних двух категорий можно определять исходя из их последнего рода деятельности, но если они не работали уже долгое время, определение их классовой принадлежности может оказаться затруднительным. Более того, представляется в высшей степени ошибочным полное игнорирование семьи. Наличие или отсутствие у человека семьи оказывает существенное влияние на открывающиеся перед ним возможности.Влияние наемного труда женщин на классовое расслоение
Появление женщин на рынке оплачиваемого наемного труда оказало существенное влияние на доходы семьи. Но это воздействие было неравномерным, что может привести к углублению классовых различий между семьями. Все больше женщин начинает работать специалистами и менеджерами и получает высокие оклады. Это способствует возникновению поляризации между «семьями с двумя работающими» («двухкарьерными семьями»), имеющими высокие доходы, с одной стороны, и семьями с «одним добытчиком» или вообще «без добытчика», с другой стороны (см. главу 13 «Труд и экономическая жизнь»). Исследование показало, что высокооплачиваемые работающие женщины обычно имеют высокооплачиваемых партнеров по браку и что жены специалистов и менеджеров зарабатывают больше, чем работающие женщины, имеющие партнеров в других профессиях. Брак имеет тенденцию создавать некое партнерство, в котором оба участника являются либо относительно привилегированными, либо неблагополучными, исходя из принадлежности к определенной профессии (Bonney 1992). Партнерство мужчины и женщины в таких двухкарьерных браках приобретает все большее значение благодаря тому факту, что средний возраст рожающих женщин увеличивается, особенно среди женщин-специалистов. Растущее число бездетных пар в двухкарьерных браках еще больше усугубляет разрыв между наиболее высоко- и наиболее низкооплачиваемыми семьями.Социальная мобильность
Изучая стратификацию, следует учитывать не только существующие различия между людьми в экономическом и профессиональном положении и роде занятий, но и то, что происходит с людьми, занимающими то или иное положение. Термин социальная мобильность обозначает движение отдельных людей и групп от одного социоэкономического положения к другому. Вертикальная мобильность — это движение вверх или вниз по социоэкономической лестнице. Люди, чья собственность, доходы и статус растут, перемещаются вверх — для них характерна восходящая мобильность; тогда как для тех, кто движется в противоположном направлении, характерна нисходящая мобильность. В современных обществах существует также значительная горизонтальная мобильность, которая означает географическое перемещение людей из одних регионов, городов и иных населенных пунктов в другие. Вертикальная и горизонтальная мобильности нередко сочетаются друг с другом. Например, некто, работающий в той или иной компании в определенном городе, может быть переведен с повышением в филиал данной фирмы, расположенный в другом городе или даже в другой стране. Существуют два пути в изучении социальной мобильности. При первом подходе исследуются личные карьеры отдельных людей — насколько далеко они перемещаются вверх или вниз по социальной лестнице в процессе их трудовой жизни. Это обычно называют интрагенерационной мобильностью. При другом подходе изучается, насколько часто дети выбирают тот же род деятельности, что их родители или деды. Такого рода мобильность — через поколения — называют интергенерационной.Изучение мобильности в сравнительном плане
Масштабы вертикальной мобильности в обществе являются главным индикатором «открытости» общества, показывающим, в какой мере талантливые люди, рожденные в низших слоях общества, могут подняться вверх по социально-экономической лестнице. В этом отношении социальная мобильность представляет собой важную политическую проблему, особенно в государствах, приверженных к либеральному представлению о равенстве возможностей для всех граждан. Насколько же «открытыми» являются индустриальные страны с точки зрения социальной мобильности? Предоставляет ли Великобритания людям действительно большее равенство возможностей, чем другие страны? Изучение социальной мобильности ведется уже более пятидесяти лет и оно часто включало сравнение результатов, полученных в разных странах. Из ранних исследований важное значение имело исследование, проведенное в 1960-х гг. Питером Блау и Отисом Дадли Данкэном. Их труд остается наиболее детальным обследованием социальной мобильности из всех, когда-либо предпринимавшихся в одной стране. (Несмотря на широкий охват явлений, в этом труде, подобно большинству исследований мобильности, изучались только представители мужского пола.) Блау и Данкэн собрали информацию по общенациональной выборке из 20 тыс. мужчин (Blau and Duncan 1967). Они пришли к выводу, что в Соединенных Штатах вертикальная мобильность существует в значительном объеме, но почти все передвижения происходят в рамках весьма близких друг к другу профессий. Перемещение на более «значительное расстояние» встречается редко. Хотя нисходящая мобильность также наблюдается как в карьерах отдельных людей, так и интергенерационно, она распространена гораздо меньше, чем мобильность восходящая. Причина такого положения заключается в том, что число рабочих мест для «белых воротничков» и квалифицированных специалистов росло гораздо быстрее, чем количество мест для «синих воротничков», что и дало возможность детям рабочих перейти в разряд «белых воротничков». Блау и Данкэн подчеркивают важность образования и обучения в определении шансов на успех отдельного человека. По их мнению, восходящая социальная мобильность обычно является характерной для индустриальных обществ в целом и способствует социальной стабильности и интеграции. Наверно, самое известное международное исследование социальной мобильности было осуществлено Сеймуром Мартином Липсетом и Рейнхардом Бендиксом (Upset and Bendix 1959). Они проанализировали материалы по девяти индустриальным странам — Великобритании, Франции, Западной Германии, Швеции, Швейцарии, Японии, Дании и Соединенным Штатам, — сосредоточив внимание на передвижении мужчин с видов деятельности, связанных с физическим трудом, на рабочие места «белых воротничков». Вопреки ожиданиям они не обнаружили свидетельств тому, что Соединенные Штаты являются более открытым обществом, чем европейские страны. Общий показатель вертикальной мобильности по линии «синие воротнички — белые воротнички» в Соединенных Штатах составил 30 %, в других обществах он варьируется от 27 до 31 %. Липсет и Бендикс пришли к заключению, что во всех индустриальных странах происходили сходные изменения в направлении роста числа мест для «белых воротничков». Это привело к «волне восходящей мобильности», примерно одинаковой по величине, во всех этих странах. Другие социологи высказали сомнение в выводах Липсета и Бендикса, утверждая, что если обратить больше внимания на мобильность нисходящую, а также если учесть более далекие социальные перемещения, то между странами обнаружатся весьма существенные различия (Heath 1981; Grusky and Hauser 1984). Большинство исследований социальной мобильности, подобно упомянутым выше, концентрировали внимание на «объективных» измерениях мобильности, т. е., скажем, на том, в каком объеме существует мобильность, в каких направлениях она происходит и какие части населения затрагивает. Гордон Маршалл и Дэвид Фирт в своем исследовании социальной мобильности (Marshall and Firth 1999) пошли другим путем; они исследовали «субъективные» чувства людей, связанные с изменением их классового положения. Авторы построили свое исследование как ответ на то, что они назвали «безосновательным мнением», имеющим хождение среди социологов, о якобы сходном воздействии социальной мобильности на ощущение благополучия у отдельных людей. На деле же некоторые респонденты утверждали, например, что социальная мобильность рождает ощущение беспокойства, изоляции и неустойчивости; тогда как другие придерживались более оптимистических взглядов, считая, что постепенно люди обязательно адаптируются к своему новому классу. Используя материалы, относящиеся к десяти странам — Болгарии, бывшей Чехословакии, Эстонии, Германии, Польше, России, Словении, Соединенному Королевству и Соединенным Штатам, — Маршалл и Фирт исследовали вопрос о том, связана ли классовая мобильность с усилением чувства удовлетворенности или неудовлетворенности такими аспектами повседневной жизни, как семья, община, работа, доход и политика. В целом авторы нашли мало подтверждения наличию связи между принадлежностью испытуемых к определенному классу и их общей удовлетворенностью жизнью. Это оказалось справедливым как применительно к людям, переместившимся из рабочего класса в средний класс, так и применительно к тем, кто, напротив, спустился по социальной лестнице вниз.Нисходящая мобильность
Хотя мобильность нисходящая распространена меньше, чем мобильность восходящая, она тем не менее представляет собой достаточно часто встречающееся явление. Нередко наблюдается также интрагенерационная нисходящая мобильность. Мобильность этого типа весьма часто связана с психологическими проблемами и тревогами, поскольку люди оказываются не в состоянии вести прежний образ жизни, к которому они уже привыкли. Увольнение с работы — одна из главных причин нисходящей мобильности. Так, потерявшие работу пожилые люди либо вообще не могут найти себе новое место, либо находят работу только с более низким уровнем дохода, чем прежде. До сих пор было проведено очень мало исследований нисходящей мобильности в Соединенном Королевстве. Однако, судя по всему, нисходящая мобильность, как интрагенерационная, так и интергенерационная, в Великобритании растет, как растет она в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах в недавнее время появилось несколько работ, посвященных этому явлению. В 1980-е гг. и в начале 1990-х гг. в Соединенных Штатах, впервые после Второй мировой войны, наблюдалось общее падение средних реальных заработков (заработков с поправкой на инфляцию) у «белых воротничков» среднего ранга. Так, даже если потребность в таких работниках продолжала по сравнению с другими должностями, расти, их заработки не позволяли теперь вести тот образ жизни, который они раньше обеспечивали. Основными причинами подобных изменений являются общая перестройка корпораций и «сокращение» штатов. Перед лицом растущей глобальной конкуренции многие компании урезают рабочие места. Должности «белых воротничков», как и должности «синих воротничков» с полным рабочим днем были сокращены и заменены низко оплачиваемыми должностями с неполным рабочим днем. В Соединенных Штатах нисходящая мобильность особенно распространена сегодня среди женщин разведенных или живущих с детьми отдельно от мужей. Женщины, которые вели умеренно благополучную жизнь среднего класса, когда были замужем, часто после развода едва сводят концы с концами. Во многих случаях получаемые ими алименты скудны или их вообще не выплачивают, и женщинам, пытающимся совместить работу, заботу о детях и домашние обязанности, с трудом удается прокормить семью (Schwarz and Volgy 1992).Социальная мобильность в Великобритании
На протяжении послевоенного времени в Великобритании явление мобильности в целом изучалось достаточно широко, хотя, как и в других случаях, внимание по существу было ограничено исключительно мужчинами. Руководителем одного из первых исследований был Дэвид Гласс (Glass 1954). В работе Гласса анализировалась интергенерационная мобильность на протяжении довольно большого периода времени — вплоть до 1950-х гг. Полученные им результаты совпадают с приведенными выше данными международного исследования (передвижение из «синих воротничков» в категорию «белых воротничков» составляет около 30 %). По правде говоря, материалы Гласса были широко использованы теми, кто сравнивал данные для разных стран. В целом Гласс пришел к заключению, что Великобритания не является особенно «открытым» обществом. Хотя мобильность наблюдается здесь в значительном объеме, она по большей части происходит на короткие дистанции. Восходящая мобильность существенно преобладает над мобильностью нисходящей и сосредоточена она главным образом на среднем уровне классовой структуры. Те, кто находится на самом дне, обычно так и остаются там; почти 50 % детей специалистов и менеджеров сами занимались теми же видами деятельности. Гласс также обнаружил, что элитные позиции в обществе в значительной степени пополняются за счет «саморекрутирования» подобного рода. Другая важная работа, известная как Оксфордское обследование мобильности, была осуществлена Джоном Голдторпом и его коллегами на основе материалов, полученных в 1972 г. (Goldthorpe with Llewellyn and Payne 1980). Авторы попытались выяснить, насколько изменились модели мобильности со времени появления работы Гласса, и пришли к выводу, что общий уровень мобильности мужчин в действительности выше, чем в предшествующий период, и что отмечается больше переходов на длинные дистанции. Однако главной причиной подобных явлений было и на этот раз отнюдь не то, что классификация по роду занятий стала более эгалитарной. На деле изменения были вызваны более быстрым ростом потребности в «белых воротничках» по сравнению с «синими воротничками». Исследователи обнаружили, что две трети детей неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих сами были заняты физическим трудом. Около 30 % специалистов и менеджеров вышли из среды рабочего класса. В то же время только примерно 4 % рабочих происходят из семей специалистов или менеджеров. Несмотря на данные, свидетельствующие о более высоких объемах социальной мобильности в абсолютном измерении, согласно Оксфордскому обследованию мобильности, относительные шансы на передвижение по социополитической лестнице для разных слоев населения Великобритании остаются крайне неравными, и это неравенство возможностей по-прежнему прочно укоренено в классовой структуре общества. Первоначальные выводы Оксфордского исследования мобильности были модернизированы благодаря новому материалу, собранному примерно десять лет спустя (Goldthorpe andPayne 1986). Основные результаты более ранних исследований получили подтверждение, но были обнаружены и некоторые новые явления. Увеличились, например, шансы для молодых людей из рабочих семей получить работу специалистов или менеджеров. И снова это было связано с изменениями в структуре занятости — произошло сокращение рабочих мест «синих воротничков», а число более высоких должностей специалистов и менеджеров продолжало расти. Результаты, полученные в 1980-х гг. Маршаллом и его коллегами, в значительной степени подтверждали выводы Голдторпа и его коллектива. При изучении мобильности в Эссексе авторы обнаружили, что примерно треть людей, занятых на должностях «белых воротничков» или специалистов более высокого ранга, происходили из рабочих. Подобные результаты свидетельствуют о значительной подвижности британского общества: многие люди действительно имеют возможность подняться выше в социальной иерархии на основе восходящей мобильности, как интрагенерационной, так и интергенерационной. Вместе с тем, ситуация по-прежнему была несправедлива в отношении женщин, ибо их шансам изменить положение к лучшему препятствовала непропорционально большая представленность женщин среди тех, кто занимался рутинной нефизической работой. Подвижный характер современного общества возникает преимущественно из тенденции движения к более высокооплачиваемым профессиям. Как отметил Маршалл и его коллеги, «то обстоятельство, что на вершине оказалось „больше места“, не сопровождалось сколько-нибудь значительным равенством возможностей попасть туда» (Marshall et al. 1988, 138). Следует, однако, учитывать, что мобильность, и об этом уже говорилось раньше, — это процесс долговременный, и если общество становится более «открытым», то в полной мере результаты этого можно будет почувствовать только через поколение.────────────────────────────┐ ■ Является ли Великобритания меритократией? Одним из наиболее резких критиков британской традиции изучения социальной мобильности, включая исследования Гласса и Голдторпа, был Питер Сондерс (Saunders 1990, 1996). По мнению Сондерса, Великобритания представляет собой подлинную меритократию, потому что награду здесь, естественно, получает тот, кто способен лучше других «действовать» и добиваться успеха. По его мнению, способности и усилия — это ключевые факторы в профессиональном успехе, а отнюдь не классовое происхождение. Используя эмпирические данные Национального исследования развития детей, Сондерс показывает, что способные и трудолюбивые дети достигнут успеха независимо от благоприятных или неблагоприятных социальных условий их жизни. По его представлению, британское общество, возможно, не является равноправным, но это общество справедливое. В ответ на такие заявления Ричард Брин и Джон Голдторп подвергли Сондерса критике как с точки зрения теории, так и с точки зрения методологии (Goldthorpe and Breen 1999). Они обвиняют Сондерса в необъективности при анализе материала исследования, — это видно, например, из того, что он исключил из исследования респондентов-безработных. Брин и Голдторп провели альтернативный анализ материала, который был использован Сондерсом, и получили коренным образом отличающиеся результаты. Эти результаты подтвердили их собственное убеждение в том, сколь важным препятствием для социальной мобильности являются классовые препоны. Авторы пришли к выводу, что индивидуальные способности, несомненно, представляют собой фактор, содействующий определению классового положения человека, но что сильное влияние здесь по-прежнему оказывает «классовое происхождение». Согласно Брину и Голдторпу, дети, живущие в неблагоприятных условиях, должны обладать большими способностями, чем дети благополучных родителей, чтобы добиться сходного с благополучными детьми классового положения. ────────────────────────────┘
Гендер и социальная мобильность
Хотя столь многие работы, посвященные социальной мобильности, ограничивались только проблемами мужчин, в последние годы больше внимания стали уделять моделям мобильности среди женщин. В наше время, когда девочки достигают в школе больших успехов, чем мальчики, а число молодых женщин превосходит в высших учебных заведениях число юношей, очень заманчиво было бы сделать вывод о том, что, возможно, так долго существовавшее в обществе неравенство по признаку пола утрачивает, наконец, силу. Стала ли структура занятости более «открытой» для женщин или же возможности их продвижения по-прежнему обусловлены главным образом семьей и социальным происхождением? В недавнем коллективном исследовании «Те, кому двадцать с небольшим в 1990-х», проведенном Советом по экономическим и социальным исследованиям, были прослежены судьбы девяти тысяч британцев, родившихся в одну и ту же неделю 1970 г. При самом последнем обследовании респондентов — они достигли возраста двадцати шести лет — было обнаружено, что и для мужчин, и для женщин мощными факторами влияния остаются условия жизни семьи и классовое происхождение. Выводы, полученные исследователями, гласили: лучше всего справляются с переходом во взрослое состояние молодые люди, которые получили лучшее образование, не вступили в брак и не завели детей и отцы которых были специалистами разных профессий. Молодые люди, выросшие в неблагоприятных условиях, чаще, чем другие, оказывались в тех же неблагоприятных условиях. Исследование показало, что в целом женщины в наше время имеют гораздо больше возможностей, чем их ровесницы в прошлом поколении. Больше всего выиграли от тех изменений, которые были упомянуты выше, женщины среднего класса: они с такой же вероятностью, как и их сверстники-мужчины, поступают в университеты и по окончании получают хорошо оплачиваемую работу. Эта тенденция в направлении большего равенства находит отражение также в растущей уверенности современных женщин в своих силах и в большем чувстве самоуважения по сравнению с аналогичной группой женщин, рожденных всего на двенадцать лет раньше. Шансы женщин сделать успешную карьеру улучшаются, но остаются два главных препятствия. Мужчины-менеджеры и работодатели по-прежнему дискриминируют обращающихся за работой женщин. Они поступают так, по крайней мере отчасти, потому что считают, что «женщины по-настоящему не заинтересованы в карьере» и что они обычно бросают работу, когда заводят семью. Наличие детей, действительно, до сих пор оказывает очень существенное влияние на возможность для женщин сделать карьеру. И это происходит не столько потому, что женщины не заинтересованы в карьере, сколько потому, что их в действительности настойчиво вынуждают выбирать между продвижением по службе и рождением детей. Мужчины редко изъявляют готовность полностью разделить с женщиной ответственность за работу по дому и заботу о детях. Хотя гораздо больше женщин, чем раньше, организуют свою домашнюю жизнь так, чтобы можно было продолжать служебную карьеру, они все еще сталкиваются на этом пути с большими препятствиями.Заключение
Несмотря на то что традиционное влияние класса в ряде отношений совершенно очевидно ослабевает, в частности в том, как люди себя отождествляют как личности, классовые различия по-прежнему составляют в современных обществах самую основу экономического неравенства. Класс продолжает оказывать огромное воздействие на нашу жизнь, и принадлежность к тому или иному классу соотносится с многообразными проявлениями неравенства, начиная от ожидаемой продолжительности жизни и общего физического состояния и кончая доступностью образования и хорошо оплачиваемой работы. Неравенство между бедными и более состоятельными в Великобритании за последние двадцать лет увеличилось. Является ли растущее классовое неравенство той ценой, которую приходится платить, чтобы обеспечить экономическое развитие? Такое мнение было особенно популярно в период правления правительства Маргарет Тэтчер. Рассуждали так: погоня за богатством способствует экономическому развитию, потому что это является движущей силой, стимулирующей инновации и целеустремленность. Многие авторы высказывают мнение, что в настоящее время глобализация и нерегулируемость экономических рынков приводят к увеличению разрыва между богатыми и бедными и усугублению классового неравенства. Вместе с тем важно помнить, что наша деятельность никогда не бывает полностью детерминированной разделением на классы: у многих людей наблюдается социальная мобильность. Распространение высшего образования, растущая доступность повышения профессиональной квалификации, появление Интернета и «новой экономики» — все это предоставляет важные новые возможности для восходящей мобильности. Подобные явления еще больше разрушают старые классовые и стратификационные модели и способствуют возникновению более гибкого меритократического порядка.Краткое содержание
1. Социальной стратификацией называют разделение общества на слои, или страты. Когда мы говорим о социальной стратификации, мы имеем в виду неравное положение, занимаемое отдельными людьми в обществе. Стратификация по полу и возрасту обнаруживается во всех обществах. В более крупных традиционных обществах и в индустриальных странах в наши дни наблюдается стратификация, основанная на отношении к богатству, собственности и доступу к материальным благам и культурным ценностям. 2. Выделяются четыре основных типа систем стратификации: рабовладельческая, кастовая, сословная и классовая. Тогда как первые три системы основаны на неравенстве, санкционированном законом или религией, классовое деление не является «официально» признанным, но его вызывают к жизни экономические факторы, оказывающие влияние на материальные условия жизни людей. 3. Наиболее известными и влиятельными теориями стратификации общества являются теории, разработанные Марксом и Вебером. Маркс отводил основную роль классу, который он рассматривал как объективно данную характеристику экономической структуры общества. Он считал, что основной разлом проходит между владельцами капитала и рабочими, которые капиталом не владеют. Вебер придерживался сходного мнения, но различал еще два других аспекта стратификации — статус и партию. Статус связан с уважением или «социальным престижем», которым обладают отдельные люди или группы, а партия означает активную мобилизацию групп людей для достижения определенных целей. 4. В качестве показателя социального класса часто используется род занятий. Отдельные люди, занятые одной и той же трудовой деятельностью, имеют обычно сходную степень социального благополучия или неблагополучия и сходные возможности в жизни. Для представления классовой структуры общества социологи традиционно использовали схемы профессиональных классов. Классовые схемы представляют ценность потому, что позволяют проследить широкие классово-обусловленные проявления неравенства и модели, но в других отношениях они страдают ограничениями. Например, классовые схемы с трудом применимы к экономически неактивному населению и не отражают важного значения для социального класса владения собственностью и богатством. 5. Большинство людей в современных обществах живет сейчас более зажиточно, чем это было несколько поколений тому назад, тем не менее богатство по-прежнему сосредоточено в руках сравнительно небольшого количества людей. Высший класс представляет собой незначительное меньшинство людей, обладающих и богатством, и властью, а кроме того возможностью передать свои привилегии следующему поколению. Богатые — это неоднородная и изменяющаяся группа; в последние годы ряды богатых во все большем количестве пополняют миллионеры, добившиеся богатства благодаря собственным усилиям, а также женщины и молодые люди. 6. Средний класс состоит в основном из тех, кто занят видами деятельности, характерными для «белых воротничков», — это учителя, специалисты-медики и служащие в индустрии услуг. В большинстве индустриальных стран средний класс в наши дни включает большую часть населения, что в значительной мере обусловлено ростом потребности в специалистах, менеджерах и администраторах. В отличие от представителей рабочего класса, члены среднего класса обычно обладают такими преимуществами, как образование и техническая квалификация, которые позволяют им продавать свой и умственный, и физический труд, чтобы заработать средства к существованию. 7. Рабочий класс образуют люди, занятые физическим или ручным трудом. В течение XX в. численность рабочего класса значительно уменьшилась в связи с уменьшением применения ручного труда. Представители рабочего класса сейчас живут более зажиточно, чем это было сто лет назад. 8. В последнее время некоторые авторы выдвинули предположение о том, что существенное воздействие на классовое положение оказывают такие факторы культуры, как образ жизни и модели потребления. Согласно указанному мнению, личность отдельного человека структурируется сейчас в зависимости от его образа жизни, а не в зависимости от таких традиционных показателей класса, как род занятий. 9. Изучение стратификации общества традиционно было ориентировано на положение мужской части населения. Частично это объясняется убежденностью в том, что неравенство по признаку пола отражает классовые различия. Такая точка зрения является в высшей степени сомнительной. В современных обществах фактор пола оказывает влияние на стратификацию в известной степени независимо от класса. 10. Классовая принадлежность отдельного человека, по крайней мере в какой-то степени, достигается им, а не просто «дается» ему от рождения. Достаточно распространенное явление представляет собой как восходящая, так и нисходящая социальная мобильность в классовой структуре общества. 11. При изучении социальной мобильности различают перемещение в пределах одного поколения (интрагенерационная мобильность) и перемещение при переходе от одного поколения к другому (интергенерационная мобильность). Первый тип социальной мобильности обозначает движение вверх или вниз по социальной лестнице в процессе трудовой деятельности одного человека. Второй тип социальной мобильности указывает на движение от поколения к поколению, например, когда дочь или сын из рабочей семьи становится специалистом. Социальная мобильность имеет, как правило, ограниченный масштаб. Большинство людей не уходят далеко от уровня семьи, из которой они вышли, хотя расширение потребности в «белых воротничках» на протяжении нескольких последних десятилетий создало возможность для значительного объема восходящего перемещения на короткие дистанции.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Какой из теоретических подходов к стратификации общества представляется вам наиболее релевантным исходя из вашей повседневной практики? 2. Почему так много социологов используют род занятий как критерий при определении социального класса? 3. Почему в современных обществах мобильность нисходящая имеет меньшее распространение, чем мобильность восходящая? 4. Что подразумевают социологи под «реляционными» классовыми схемами? 5. Что является наиболее подходящей единицей при изучении классов — индивидуум или семья? 6. Представляет ли собой неравенство в обществе негативное явление, если все члены этого общества обеспечены необходимыми продуктами питания и одеждой?Дополнительная литература
Crompton Rosemary. Class and Stratification: An Introduction to Current Debates. Cambridge: Polity, 1998. Lavalette Michael and Mooney Gerry (eds.). Class Struggle and Social Welfare. N.Y.: Routledge, 2000. Marshall T.H. Citizenship and Social Class, and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1950. Munt Sally R. (ed.). Cultural Studies and the Working Class. London: Cassell, 2000. Zmroczek Christine and Mahony Pat (eds.). Women and Social Class: International Feminist Perspectives. London: UCL Press, 1999.Интернет-линки
Библиография по теме «социальный класс» (Амстердамский университет) http://www.pscw.uva.nl/sociosite/CLASS/bibA.html Исследования социального неравенства http://www.trinity.edu/mkearl/strat.html Интернет-архив марксистов http://www.marxists.org Мультидисциплинарная программа исследований проблем неравенства и социальной политики Школы управления имени Кеннеди http://www.ksg.harvard.edu/inequality/ Доклад Международного фонда ООН по оказанию помощи детям (ЮНИСЕФ) «О развитии народов» (2000 г.) http://www.unicef.org/ponOO/ГЛАВА 11 БЕДНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ
Кэрол — молодая женщина двадцати четырех лет, работающая в центре телефонной связи, сообщающая информацию и оказывающая услуги клиентам, которые хотели бы по телефону сделать распоряжения относительно предполагаемого путешествия. У нее долгий рабочий день, часто он длится до позднего вечера. Все, кто работает рядом с ней на телефоне, — женщины. Они сидят в одной комнате за длинными столами, отделенные друг от друга перегородками серого цвета. Женщины говорят в микрофон, соединенный с наушниками, и одновременно посылают запрос и получают информацию из компьютерных терминалов, находящихся перед ними. Как и многие ее коллеги, Кэрол — мать-одиночка. На свою скромную зарплату она содержит двух маленьких детей. Каждый месяц она получает на детей небольшую сумму от своего бывшего мужа, но денег никогда не хватает, чтобы оплатить расходы. Кэрол живет от одной зарплаты до другой. По утрам три раза в неделю она дополнительно работает уборщицей в офисах, расположенных в здании недалеко от ее квартиры. Деньги, заработанные на этой дополнительной работе, позволяют ей вовремя оплачивать большинство счетов, покупать одежду детям и платить за содержание детей в детском учреждении. Несмотря на дополнительный заработок, Кэрол каждый месяц еле сводит концы с концами. Она живет с детьми в муниципальной квартире в районе массовой застройки. Ее первоочередная цель — продвинуться в жизни настолько, чтобы переехать с детьми в более спокойный, более благоустроенный район. По вечерам, когда Кэрол работает в телефонном центре допоздна, она бежит со службы, чтобы забрать детей у своей матери, которая ежедневно смотрит за ними после того, как детское учреждение заканчивает работу. Если Кэрол повезет, дети снова засыпают сразу же, как она привозит их домой, но очень часто ей приходится вести с ними долгую борьбу, чтобы уложить спать. К тому времени, когда дети засыпают, Кэрол уже слишком измучена, чтобы быть в состоянии что-либо делать, кроме как включить телевизор. У нее мало времени для покупки продуктов и приготовления надлежащей еды, поэтому она и дети часто едят готовые замороженные полуфабрикаты. Она знает, что им всем была бы полезнее более сбалансированная диета, но поблизости от их жилого района нет магазинов, кроме того, в любом случае, она не может позволить себе покупать много свежих продуктов. Кэрол беспокоит, что она проводит с детьми слишком мало времени, но как решить эту проблему, она не знает. После того, как они с мужем развелись, первые восемнадцать месяцев она прожила с детьми на пособие, получаемое от государства. С трудом справляясь со своим сегодняшним положением, она тем не менее не хочет становиться зависимой от социальной благотворительности. Кэрол надеется, что через несколько лет, приобретя опыт работы в телефонном центре, она сможет продвинуться по службе и получить более ответственную и лучше оплачиваемую работу. Многие люди, встретив женщину, подобную Кэрол, могут сделать некоторые предположения о ее жизни. Они могут подумать, что бедность Кэрол и ее низкое положение в обществе являются результатом ее недостаточных природных способностей или следствием ее собственного воспитания. Другие могут обвинить Кэрол в том, что она работает недостаточно упорно и поэтому не может преодолеть свое трудное положение. Насколько справедливы подобные мнения? Задача социолога как раз и состоит в том, чтобы проанализировать такие мнения и сформировать в обществе более широкий взгляд на данное явление, позволяющий объяснить то, что происходит с людьми, подобными Кэрол. Кэрол и ее дети — это лишь один пример семьи среди многих других в Соединенном Королевстве, которые существуют в условиях бедности. Согласно Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЕСР), показатели бедности в Великобритании являются одними из худших среди развитых стран. Многие испытали бы шок, узнав, что Великобритании принадлежит подобное сомнительное достижение. Более состоятельные люди часто даже не имеют представления о масштабах бедности, существующей рядом с ними.Бедность
Что такое бедность?
Что такое бедность и как ее следует определять? Социологи проводят различие между двумя разными понятиями бедности — абсолютной и относительной бедностью. Понятие абсолютной бедности основывается на идее существования прожиточного минимума — основных условий, которые должны быть выполнены, чтобы обеспечить физически нормальное существование человека. О людях, которые лишены этих фундаментальных условий, необходимых для человеческого существования — таких как достаточное питание, кров и одежда — говорят, что они живут в бедности. Понятие абсолютной бедности трактуется как имеющее универсальную применимость. Считается, что стандарты для человеческого существования более или менее одинаковы для всех людей сопоставимого возраста и телосложения, независимо от того, где они живут. О любом человеке, где бы он ни находился, если условия его жизни ниже установленных универсальных стандартов, говорят, что он живет в бедности. Не все, однако, согласны, что возможно установить такой стандарт. По мнению таких социологов, гораздо целесообразнее использовать понятие относительной бедности, которое соотносит бедность с общим стандартом жизни, преобладающим в конкретном обществе. Сторонники понятия относительной бедности утверждают, что бедность определяется с точки зрения культуры и ее нельзя измерять в соответствии с каким-либо универсальным стандартом наличия или отсутствия тех или иных условий. Ошибочно полагать, что человеческие потребности везде одинаковы, — в действительности они различаются как внутри одного общества, так и в разных обществах. То, что кажется насущно необходимым в одном обществе, может считаться роскошью в другом. Например, в большинстве индустриальных стран водопровод, сливной бачок в туалете и регулярное потребление фруктов и овощей рассматриваются как основные условия, необходимые для здоровой жизни; в таких обществах считается, что люди, лишенные этих условий, живут в бедности. Вместе с тем, во многих развивающихся странах такие вещи не являются стандартом для большей части населения, и было бы бессмысленно определять бедность в соответствии с их наличием или отсутствием. При определении и абсолютной, и относительной бедности возникают трудности. Одна из распространенных методик для измерения абсолютной бедности состоит в определении черты бедности, которая устанавливается исходя из стоимости продуктов, необходимых для выживания человека в том или ином обществе. Если доход отдельного человека или семьи находится ниже черты бедности, говорят, что они живут в бедности. Однако использование единственного критерия бедности может оказаться недостаточным, потому что при таком подходе не принимается во внимание варьирование человеческих потребностей как внутри одного общества, так и в разных обществах. В одних регионах страны жизнь может быть гораздо более дорогой, чем в других; стоимость основных продуктов питания различается от региона к региону. Другой пример — люди, занимающиеся физическим трудом на свежем воздухе, обычно нуждаются в большем количестве продуктов питания, чем, скажем, служащие в офисе, которые проводят весь свой рабочий день в помещении. При единственном критерии бедности может оказаться, что положение некоторых людей оценивается как находящееся выше черты бедности, тогда как в действительности их доход не обеспечивает даже самые необходимые для существования потребности. Понятие относительной бедности также сопряжено с рядом сложностей. Одна из главных заключается в том, что по мере развития общества понимание относительной бедности также неизбежно должно претерпеть изменение. По мере того как общества становятся более зажиточными, стандарты для определения относительной бедности постепенно поднимаются вверх. Было время, например, когда автомобили, холодильники, центральное отопление и телефоны считались предметами роскоши. Однако сейчас в большинстве индустриальных обществ они воспринимаются как необходимые для ведения полноценной и активной жизни. Некоторые критики понятия относительной бедности предупреждали, что при использовании этого понятия обычно упускается из виду тот факт, что в настоящее время даже наименее обеспеченные члены общества живут значительно лучше, чем прежде. Они задаются вопросом, можно ли вообще говорить о «настоящей» бедности применительно к обществу, подобному современной Великобритании, где такие потребительские товары, как телевизоры и стиральные машины имеются практически в каждом доме. Бесспорно, что даже семьи с самым низким уровнем дохода имеют в настоящее время гораздо больший доступ к товарам и услугам, чем два десятилетия назад. Тем не менее, было бы ошибочно полагать, что это свидетельствует об отсутствии бедности. Хотя британское общество стало в целом более обеспеченным, пропасть между самыми богатыми и самыми бедными членами общества становится все заметнее. Семьи с низким уровнем дохода, подобные семье Кэрол, едва сводят концы с концами. Используя индекс депривации, которым измеряется наличие или отсутствие предметов первой необходимости для содержания детей, социологи обнаружили, что многим семьям с трудом удается обеспечить детям «самое необходимое» — как, например, свежие фрукты хотя бы один раз в день, непромокаемую верхнюю одежду или возможность реализовать свое хобби и заниматься на досуге любимым делом (Middleton et al. 1997). Недоедание, плохое здоровье, ограниченный доступ к образованию и публичным учреждениям, а также нестабильные жилищные условия по-прежнему широко распространены среди семей с низким доходом. Все это указывает на то, что, в относительных терминах, бедность в британском обществе имеет, как и прежде, глубокие корни.Критерии бедности
Официальные критерии бедности В отличие от Соединенных Штатов Америки и многих других стран, где существует официальная «черта бедности», в Великобритании определение бедности как таковой правительством не дается. При отсутствии официального определения бедности исследователи в Соединенном Королевстве для измерения уровней бедности опирались на другие статистические показатели, такие, например, как представление государственных пособий. В исследованиях обычно определялся как «живущий в бедности» любой человек, доход которого был на уровне или ниже уровня дохода, при котором выплачивается дополнительное пособие. Дополнительное пособие — это денежные выплаты людям, чей доход не достигает уровня, который считается необходимым для поддержания существования. Люди с доходом, составляющим от 100 до 140 % того дохода, при котором полагается дополнительное пособие, характеризовались как живущие «на грани бедности». В недавнее время дополнительное пособие было заменено доплатой к доходу, и бедность теперь чаще всего измеряется исходя из числа семей, живущих на доход ниже среднего, или на доход, равный половине среднего или ниже его. Если исходить из такого определения бедности, число людей, живущих в бедности или на грани бедности, в 1980-х гг. резко увеличилось (Blackburn 1991), и это затронуло все возрастающее число детей. В 1979 г. 10 % детей (моложе пятнадцати лет) жили в семьях с доходом, на 50 % ниже национального среднего дохода; к 1991 г. доля таких детей увеличилась до 31 % (Kumar 1993). После резкого роста бедности в 1980 гг. уровень бедности оставался довольно устойчивым на протяжении 1990-х гг. Материалы, относящиеся к концу 1990-х гг., показали, что приблизительно 10,7 млн британцев жили на доходы ниже половины среднего дохода, а если учесть еще расходы на жилье, то число таких людей составило уже 14 млн (Howarth et al. 1999). Субъективные критерии бедности Некоторые исследователи полагают, что если при определении бедности исходить только из дохода, то недооцениваются реальные масштабы лишений, от которых страдают семьи с низким доходом. Было предпринято несколько важных исследований, авторы которых сделали попытку определить бедность с помощью не объективных критериев, таких как уровень дохода, а с помощью критериев субъективных.Таблица 11.1 Процент семей, ощущавших, что они не могут себе позволить некоторые необходимые вещи (сравнение по странам Европейского Союза. 1995 г.)
 Источник: Social Trends. 29. 1999. Table 5.12. Crown copyright.
Источник: Social Trends. 29. 1999. Table 5.12. Crown copyright.
К ученым, считающим, что официальные критерии бедности недостаточны, относится Питер Таунсенд. В своих исследованиях Таунсенд исходит не из статистики доходов, но обращается к субъективным представлениям людей о том, что такое бедность (Townsend 1979; Townsend et al. 1987). У респондентов спрашивали их мнение относительно того, какой доход необходим, чтобы содержать семью надлежащим образом, а также о том, насколько их доход в настоящее время соответствует этой сумме, превосходит ее или не дотягивает до нее. В самых разных семьях определяемый респондентами дополнительный доход был в среднем на 61 % выше, чем правительственный минимум, требуемый для предоставления пособия. Опрошенные сообщили также подробную информацию о своем образе жизни, включая сведения о жилищных условиях, привычках в еде, о работе, досуге, общественной деятельности. Эти данные показали, что часто между теми потребностями, которые у семьи, по мнению ее членов, существуют, и способностью семьи их удовлетворить обнаруживается резкое несоответствие. При доходе ниже некоторого уровня семьи испытывали «многочисленные лишения»; это означало, что они обходились без нескольких предметов или занятий, которые они считали необходимыми. Исходя из полученных результатов, Таунсенд пришел к выводу, что минимум для получения пособия, установленный правительством на основе проверки нуждаемости, был занижен более, чем на 50 % и составлял сумму, намного меньшую того минимального дохода, который реально нужен семье для полноценного и многостороннего участия в жизни общества. Основываясь на работах Таунсенда, два важных исследования относительной бедности в Великобритании осуществили Джоанна Мэк и Стюарт Лэнсли. Мэк и Лэнсли провели для телевизионной программы «Очередь за бесплатными обедами в Великобритании» опрос мнений, чтобы определить, что именно люди считают «предметами первой необходимости» для «приемлемого» уровня жизни. На основе полученных ответов они составили список из двадцати одного предмета первой необходимости, которые были признаны обязательными для нормальной жизни более, чем 50 % респондентов. Свыше 90 % опрошенных согласились с важностью еще пяти предметов первостепенной важности: отопление, туалет и ванная комната в доме, отдельная кровать для каждого члена семьи и отсутствие в доме сырости. Соответственно указанным двадцати шести предметам первой необходимости — и их наличию или отсутствию в британских семьях — Мэк и Лэнсли измерили уровень бедности в 1983 и снова в 1990 гг. Их результаты показали значительный рост бедности на протяжении 1980-х гг., причем число людей, живущих в бедности (определяемой как отсутствие трех или более предметов первой необходимости из двадцати шести) увеличилось с 7,5 до 11 млн, а число людей, живущих в большой бедности (у них отсутствуют семь или более предметов первой необходимости), возросло с 2,6 до 3,5 млн (Mack and Lansley 1985, 1992). Аналогичные индексы депривации, построенные на основе субъективных критериев, были использованы для измерения бедности среди детей и для сравнения уровней относительной бедности в разных странах (см. табл. 11.1).
Недавние тенденции в сфере бедности в Соединенном Королевстве
Для определения эффективности программ борьбы с бедностью Фонд Джозефа Раунтри и Институт новой политики составили ежегодно корректируемый перечень 50 показателей бедности и социального отчуждения (Howarth et al. 1999). Эти показатели включают семейный доход, но также охватывают такие факторы, как здоровье, доступ к образованию, модели занятости и общественная деятельность. Некоторые из главных результатов в 1999 г. были следующие: • Более двух миллионов детей живут в семьях, где никто из взрослых не занят на оплачиваемой работе. Более трех миллионов детей живут в семьях, доход которых составляет меньше половины среднего по стране. • Свыше двух третей глав семей, живущих в муниципальном жилье, не имеют оплачиваемой работы. • Свыше одного миллиона пенсионеров полностью зависят от государственных пенсий и пособий как средств к существованию. Пенсионеры, как и раньше, сконцентрированы в нижней половине шкалы распределения доходов. • Обнаружилось значительное неравенство в состоянии здоровья среди населения Великобритании. По сравнению с 1991 г. на 40 % увеличилось число муниципальных округов, где уровень смертности значительно превышает средний по стране. Как же можно объяснить столь широкое распространение нищеты в такой богатой стране, как Великобритания? В качестве одной из логически возможных отправных точек разумно было бы обратиться к рассмотрению растущего неравенства между «имущими» и «неимущими» в Великобритании и других индустриальных обществах. Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными членами общества в 1980-х гг. резко увеличился: Великобритания занимает второе место, уступая только Новой Зеландии, среди индустриальных стран, испытавших самый крутой рост экономического неравенства в период между 1977 и 1990 гг. К такому драматическому развитию событий привело сочетание ряда факторов, и многие из них связаны с конкретной политикой правительства, направленной на выведение экономики из застоя. В основе политики, проводимой правительством г-жи Тэтчер, лежала теория, согласно которой сокращение ставок налога для отдельных людей и корпораций должно привести к высокому экономическому росту, плоды которого «просочатся вниз» к бедным. Аналогичного курса придерживались Соединенные Штаты в период президентства Рональда Рейгана, причем результаты были сопоставимы. Факты не подтверждают тезис о «просачивании вниз» каких бы то ни было улучшений. Сможет или нет подобная экономическая политика ускорить экономическое развитие, покажет время, но результатом ее проведения является увеличение разрыва между бедными и состоятельными людьми, в действительности значительное увеличение при этом числа тех, кто живет в бедности. Политика, которую начало проводить правительство в 1980-х — начале 1990-х гг., была выгодна более богатым членам общества и усугубляла неблагоприятное положение бедных. Приватизация ранее национализированных отраслей индустрии создала возможность обогащения для инвесторов из среднего и высшего класса. Напротив, зарплата рабочих, занятых физическим и неквалифицированным трудом, зачастую сокращалась, поскольку права рабочих, зафиксированные в Законе о защите прав наемных рабочих, были урезаны. Росту социальной поляризации в Великобритании, Соединенных Штатах и в других странах способствовали также и другие изменения в структуре занятости и глобальной экономике. Как мы отмечали в главе 10 «Класс, классовая стратификация и неравенство», рост потребности в специалистах и менеджерах сопровождался относительным падением спроса на рабочих, занятых физическим трудом. Это оказало существенное влияние как на модели распределения доходов, так и на модели безработицы. Дело часто обстоит так, что неквалифицированные и полуквалифицированные рабочие с трудом находят себе работу в условиях быстро меняющегося рынка труда, где все больше требуется квалификация, которую дают образование и техническая подготовка. Хотя в секторе индустрии услуг наблюдался заметный рост возможностей, спрос был в основном на должности низкооплачиваемые и дающие мало перспектив на продвижение по службе. Появление на рынке труда женщин означало увеличение разрыва между семьями с двумя работающими и зарабатывающими много и семьями бедными, где ни один из членов не является активным участником на рынке труда. Заработки женщин стали играть более существенную роль в семейном бюджете, чем когда-либо раньше, а при том, что женщины получили возможность занимать влиятельные и высокооплачиваемые должности в гораздо больших количествах, чем прежде, их доля в заработке семьи может оказаться весьма весомой. И действительно, материальное преуспевание семей с двумя работающими, особенно бездетных, является одним из самых важных факторов в изменении модели распределения дохода. Различия между семьями с двумя работающими, с одним работающим и семьями, где ни один из членов не работает, становятся все более заметными. Быть может, самое сильное воздействие на распространение бедности оказывает безработица. Хоть это и представляется самоочевидным, указанный факт часто недооценивается. Конечно, чтобы гарантировать жизнь, свободную от бедности, одного только стабильного дохода недостаточно, однако это является важной предпосылкой. У семей, имеющих одного кормильца, и у семей, не имеющих кормильца, вообще нет шансов избежать бедности. О связи между бедностью и безработицей свидетельствуют, в частности, цифры, относящиеся к бедности детей. Последние исследования показали, что почти одна пятая детей в Соединенном Королевстве — свыше 2 млн детей — живет в семьях, где никто из взрослых не имеет оплачиваемой работы. Для правительств, настроенных на борьбу с бедностью, первоочередной задачей является оживление рынка труда, что увеличит возможность легко найти работу. Чем больше людей будет работать, тем больше будет ресурсов в национальном бюджете, которые можно направить на нужды здравоохранения, образования и других социальных служб. Как мы увидим при обсуждении реформы социального обеспечения, программы расширения занятости, которые позволили бы безработным участвовать на рынке труда, являются самой сердцевиной многих современных стратегий, направленных на борьбу с бедностью.Кто является бедным?
Невозможно представить краткое описание «бедных», бедность многолика и изменчива. Тем не менее, можно сказать, что люди, которые относятся к определенным категориям, вероятно чаще, чем другие, живут в бедности. Нередко люди, находящиеся по тем или иным причинам в неблагоприятном положении, имеют больше шансов оказаться среди бедных. Безработные, люди, работающие неполный рабочий день или на временной основе, пожилые люди, люди больные и люди с ограниченными возможностями, дети, женщины, члены больших многодетных семей и/или семей неполных, представители этнических меньшинств — все эти категории людей имеют большую вероятность в какой-то период своей жизни оказаться среди живущих в бедности. Бедность имеет широкое распространение среди пожилых людей, живущих на пенсию (см. рис. 11.1). У многих людей, имевших достаточный заработок, пока они работали, при уходе на пенсию резко сокращаются доходы. Старея, некоторые пожилые люди оказываются все более зависимы от помощи других людей — материальной, физической, эмоциональной. В Соединенном Королевстве те, кому больше 65 лет, составляют самую многочисленную группу людей, получающих пособия по нуждаемости; в 1998 г. 1,3 млн британцев жили исключительно на пенсии и пособия, выплачиваемые государством (Howarth et al. 1999). Две пятых всех средств, выделенных на социальную защиту в 1996–1997 гг., были израсходованы на эту группу (HMSO 1999). Процент детей (моложе 15 лет), живущих в семьях с доходом, составляющим меньше половины общенационального среднего дохода, в последние годы увеличился. В 1979 г. в таких семьях жили 10 % детей, а в 1991 г. их доля выросла до 31 %. Важнейшими причинами роста детской бедности являются высокий уровень безработицы, возрастание доли низкооплачиваемого труда в экономике и увеличение числа неполных семей. Рис. 11.1. Концентрация пенсионеров в нижней половине шкалы распределения дохода
Источник: Howarth C. et al. Monitoring Poverty and Social Exclusion 1999. Joseph Rowntree Foundation. 1999. Fig. 5.
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree Foundation.)
Рис. 11.1. Концентрация пенсионеров в нижней половине шкалы распределения дохода
Источник: Howarth C. et al. Monitoring Poverty and Social Exclusion 1999. Joseph Rowntree Foundation. 1999. Fig. 5.
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree Foundation.)
Влияние бедности на жизненные перспективы детей весьма существенно: дети, рожденные в социальных классах IV и V, имеют на 20 % большую вероятность иметь недостаточный вес, чем дети, родившиеся в социальных классах I, II и III; коэффициент смертности от несчастных случаев среди детей указанных двух классов в нижней части социальной лестницы выше, чем у верхних трех классов; полученное образование также отражает принадлежность детей к тому или иному социальному классу (Howarth et al. 1999). Среди бедных в непропорционально большом количестве представлены члены групп этнических меньшинств. Исследователи бедности в Великобритании в 1990-х гг. с тревогой отмечали высокий уровень бедности в семьях пакистанцев и выходцев из Бангладеш, где безработица особенно велика. Аналогичным образом внимание было обращено на преобладание среди матерей-одиночек женщин афро-карибского происхождения (Joseph Rowntree Foundation 1995). В Соединенных Штатах между этнической принадлежностью и бедностью также обнаруживается тесная связь: доля бедных среди черных американцев составляет 26,1 % (9,1 млн чел.), среди латиноамериканцев — 25,6 % (8,1 млн чел.) — иначе говоря, примерно в три раза больше, чем процент бедных среди белого населения.
Попытки объяснения бедности
Попытки объяснить такое явление, как бедность, можно разделить на две главные группы: теории, согласно которым бедные сами ответственны за свою собственную бедность, и теории, согласнокоторым бедность производится и воспроизводится структурными силами в обществе. Эти конкурирующие подходы иногда условно называют соответственно теориями «виновата жертва» и теориями «виновата система». Мы кратко обсудим их по очереди. У теорий, признающих бедных виновными в их собственном неблагоприятном положении, длинная история. Первые попытки описания последствий бедности, таких как работные дома XIX в., основывались на убеждении, что бедность — результат неадекватности или патологии людей. Считалось, что бедные — это люди, которые не способны добиться успеха в обществе — из-за недостатка сноровки, моральной или физической слабости, отсутствия мотивации или в силу низких способностей. Социальное положение понималось как отражение таланта человека и его трудовых усилий; тот, кто заслужил успех, тот его добивался, а другие, менее способные, были обречены на неудачу. Существование «победителей» и «неудачников» рассматривалось как непреложный факт жизни. В 1970-х — начале 1980-х гг. возрождение подобных взглядов наблюдалось в форме политических заявлений, подчеркивавших, что успех в обществе является вознаграждением за предприимчивость и целеустремленность, и что люди, не добившиеся успеха, сами ответственны за те обстоятельства, в которых они оказались. Зачастую объяснение бедности пытались найти в образе жизни бедных, а также в жизненной позиции и взглядах, которые им якобы присущи. Оскар Льюис выдвинул одну из наиболее влиятельных теорий подобного рода, утверждавшую, что у многих бедных людей существует культура бедности (Lewis 1961). По мнению Льюиса, бедность — это не результат неадекватности человека, но широкая социальная и культурная атмосфера, в которой социализируются дети бедняков. Культура бедности передается от одного поколения к другому, потому что молодые люди с раннего возраста привыкают к тому, что нет смысла стремиться к чему-то лучшему. Более того, они смиряются со своим жалким существованием, принимая его как неизбежность.────────────────────────────┐ ■ Социальная поляризация: виновата ли в этом глобализация? Сегодня, когда силы, способствующие глобализации, стали главным признаком нашего меняющегося мира, часто высказывается предположение, что глобализация в значительной степени виновата в растущем экономическом неравенстве. Распространение соглашений о свободной торговле понимается как возможность для неквалифицированных рабочих в некоторых странах подорвать положение неквалифицированных рабочих в других странах. Рабочие текстильных фабрик на Филиппинах, например, довольствуются более низкой заработной платой и пособиями, чем рабочие в Великобритании или Соединенных Штатах. В результате работа «уплывает за моря», так как корпорации договариваются переместить части производственного процесса на международные рынки труда. Следует, однако, быть осторожным в попытках взвалить всю вину за экономическое неравенство на глобализацию. Анализ тенденций в распределении дохода показывает, что наиболее заметное неравенство совсем не обязательно наблюдается в тех отраслях индустрии, где более значительную роль играет международная торговля. Более важную роль, несомненно, играют сдвиги в технологии, приводящие к росту спроса на квалифицированных рабочих и сокращению спроса на неквалифицированных рабочих, заработная плата и гарантии занятости которых соответственно уменьшаются. Одновременно рабочие, обладающие способностями в сфере информационных технологий, становятся более востребованными и получают возможность зарабатывать больше. ────────────────────────────┘
Тезис о культуре бедности был развит американским социологом Чарлзом Марри. Люди, являющиеся бедными «не по своей вине» — например, вдовы или вдовцы, сироты или инвалиды — попадают в другую категорию, в отличие от тех, кто принадлежит к культуре иждивенчества. Этим термином Марри обозначает бедных людей, которые рассчитывают на получение социальной помощи от правительства, а не на поиски работы на рынке труда. По его утверждению, возникновение государства всеобщего благосостояния создало субкультуру, которая подрывает личную целеустремленность и способность самому себе помочь. Вместо того чтобы ориентировать себя на будущее и пытаться добиться лучшей жизни, люди, зависящие от государственной благотворительности, довольствуются получением милостыни. Социальная помощь, как утверждает Марри, лишила людей стимула к работе (Murray 1984). Подобные теории находят, по-видимому, отклик и у населения Великобритании. Как показали опросы, большинство британцев считает бедных виновными в своей бедности и с подозрением относится к тем, кто живет «задаром» на «государственные подачки». Многие полагают, что люди, получающие государственные пособия, могли бы найти работу, если бы действительно захотели. Однако такие представления не соответствуют реальной ситуации. Почти четвертая часть тех, кто живет в бедности в Соединенном Королевстве, так или иначе работает, но их заработок слишком мал, чтобы позволить им избежать бедности. Из оставшихся большинство составляют дети, не достигшие четырнадцати лет, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше и больные люди или инвалиды. Несмотря на распространенное мнение о многочисленных случаях обмана при получении социальной помощи, меньше одного процента обращений за помощью были необоснованными — что значительно ниже, чем в случае налоговых деклараций о доходах, где, по подсчетам, более 10 % налогов недополучается из-за неправильного декларирования или утаивания доходов (см. также врезку «Зависимость от социальной помощи» в разделе «Социальная помощь и реформа государства всеобщего благосостояния» этой главы). При другом подходе для объяснения причин бедности в первую очередь обращаются к широкомасштабным социальным процессам, которые порождают условия для бедности и которые людям трудно преодолеть. Согласно этому мнению, структурные силы внутри общества — такие факторы, как класс, гендер, этническая принадлежность, род занятий, полученное образование и т. д. — формируют способ распределения ресурсов. Сторонники структурного подхода к объяснению бедности считают, что отсутствие стремления к успеху у бедных, которое часто толкуется как проявление «культуры иждивенчества», на самом деле представляет собой следствие их бедственного положения, а не его причину. Невозможно устранить бедность путем изменения взглядов людей, заявляют они, для этого нужны политические меры, направленные на более равномерное распределение в обществе доходов и ресурсов. Субсидии на содержание детей, установленный минимум почасовой оплаты труда и гарантированный уровень семейного дохода — таковы меры, с помощью которых пытались устранить существующее социальное неравенство. Оценка И у того, и у другого подхода есть много сторонников, и вариации обеих точек зрения постоянно звучат во время публичных дискуссий по проблемам бедности. Сторонников теории «культуры бедности» критики обвиняют в «индивидуализации» бедности и в попытке переложить на бедных вину за обстоятельства, которые от них не зависят. По их мнению, бедные — жертвы, а не «халявщики», которые, злоупотребляя системой, хотят сесть на шею государству. Вместе с тем следует проявлять осторожность и не принимать некритически аргументы тех, кто утверждает, что причины бедности кроются исключительно в структуре самого общества. Такой подход подразумевает, что бедные просто пассивно принимают трудную ситуацию, в которой они оказались. Это весьма далеко от истины, как мы увидим ниже.
Бедность и социальная мобильность
В большинстве исследований, посвященных проблемам бедности, в прошлом основное внимание уделялось тому, как люди попадают в категорию бедных, а также из года в год проводилось измерение уровня бедности. Меньше внимания обычно уделялось «жизненному циклу» бедности — тому, как люди с течением времени выбираются из бедности (и часто снова возвращаются в эту категорию). Широко распространено мнение, согласно которому бедность — это перманентное состояние. Однако быть бедным — отнюдь не обязательно означает навсегда увязнуть в бедности. Значительная часть людей, живущих какое-то время в бедности, либо имела более благоприятные условия для жизни в прошлом, либо, как можно ожидать, выкарабкается из бедности когда-либо в будущем. Согласно недавно проведенным исследованиям, в значительном объеме наблюдается движение как в категорию бедности, так и из нее: поразительно много людей сумели избежать бедности, и в то же время больше людей, чем считалось раньше, в какой-то период своей жизни жили в бедности. Статистические данные, полученные в ходе Обследования страховыми экспертами британских семей (British Household Panel Survey — BHPS), показывают, что немногим больше половины тех, кто по своему доходу в 1991 г. относился к нижней одной пятой части (квантили), входили в ту же категорию в 1996 г. (см. табл. 11.2). Это не обязательно означает, что люди на протяжении пятилетнего периода постоянно оставались внутри этой нижней квантили. С некоторыми из них дело, возможно, обстояло именно так, но другие, вполне вероятно, поднимались в жизни и выходили из состава этой нижней пятой части, а потом в этот же период времени снова в нее возвращались. В ходе указанного обследования также обнаружилось, что один из десяти опрошенных взрослых неизменно находился в числе беднейших 20 % в течение пяти лет из шести, на протяжении которых велось изучение. Между 1991 и 1996 гг. 60 % взрослых никогда не входили в число беднейших 20 %. В целом на основе полученных результатов можно предположить, что примерно половина взрослых из числа самых бедных 20 % в любое данное время постоянно страдает от низких доходов, в то время как в другой половине в разные годы люди то входили в состав этой нижней группы, то покидали ее (HMSO 1999). Данные относительно моделей распределения доходов в Германии между 1984 и 1994 гг. также свидетельствуют о значительной мобильности людей, относимых к категории бедных. Свыше 30 % немцев были бедными (зарабатывая меньше половины среднего дохода) в течение хотя бы одного из десяти рассматриваемых лет, и это дает цифру, более чем в три раза превышающую максимальное число бедных в любой отдельно взятый год (Leisering and Leibfried 1999). Среди тех, кто «спасся» от бедности, достигнутый средний уровень дохода был примерно на 30 % выше черты бедности. Однако свыше половины этих людей, по меньшей мере на один год в течение указанного десятилетнего периода, снова попадали в категорию бедных.Таблица 11.2 Взрослые, перемещавшиеся из одной группы в другую в зависимости от распределения дохода (в процентах). Великобритания. Между 1991 и 1996 гг.
 Источник: British Household Panel Survey. Institute for Social and Economic Research. From Social Trends. 29. 1999. P. 98. Crown copyright.
Источник: British Household Panel Survey. Institute for Social and Economic Research. From Social Trends. 29. 1999. P. 98. Crown copyright.
Ученые подчеркивали, что объяснять такие результаты следует осторожно, поскольку они легко могут быть использованы теми, кто хочет сократить социальное обеспечение или совсем отказаться от рассмотрения бедности как социальной и политической проблемы. Джон Хиллз из Центра изучения социального отчуждения предупреждает против того, чтобы для определения дохода исходили из «модели лотереи». Этим Хиллз хочет сказать, что следует скептически относиться к аргументам тех, кто представляет бедность как одиночную неудачу, которая случается с людьми якобы более или менее беспричинно при их передвижениях по иерархической шкале доходов. Если согласиться с подобными доводами, тогда неравенство между богатыми и бедными в обществе не кажется такой уж страшной угрозой; у каждого есть шанс в определенный момент либо выиграть, либо проиграть, и бедность уже не выглядит как причина для серьезной озабоченности. Согласно таким утверждениям, некоторые неудачливые люди могут в течение нескольких лет подряд иметь низкие доходы, но, в сущности, низкий доход — это дело случая. Хиллз признает, что Обследование страховыми экспертами британских семей действительно обнаружило, что среди людей, живущих в бедности, в достаточно большом объеме наблюдается небольшая социальная мобильность. Например, из людей, относящихся к самым бедным 10 % населения (беднейший дециль), 46 % на следующий год по-прежнему оставались в этой группе. Это, казалось бы, приводит к мысли, что более половины людей из этой низшей десятипроцентной части смогли спастись от бедности. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что 67 % из этих людей не поднялись выше двух нижних десятипроцентных частей, и только одной трети удается подняться выше. Еще через год 65 % нижней по доходам пятой части населения по-прежнему оставались в этой группе, 85 % оставались в пределах нижних двух пятых. Подобные результаты свидетельствуют о том, что только примерно у одной трети людей с низким доходом может измениться положение, тогда как у остальных двух третей оно не меняется. По мнению Хиллза, было бы ошибочно думать, что с течением времени население, относящееся по своим доходам к разным децилям, постепенно «перемешивается». Напротив, многие из тех, кому удалось избегнуть бедности, не уходят от нее слишком далеко и в конце концов снова опускаются вниз, и среди тех, кто оставался на дне больше одного года, доля «спасшихся» прогрессивно убывает (Hills 1998). И хотя выкарабкивание из состояния бедности несомненно сопряжено с трудностями и препятствиями, как показывает исследование, движение из категории бедности и обратно в это состояние в действительности является более «оживленным», чем считалось раньше. Бедность — это не просто результат воздействия социальных сил на пассивное население. Даже людям, находящимся в крайне неблагоприятных обстоятельствах, может подвернуться шанс улучшить свое положение; не следует недооценивать значение человеческого фактора в осуществлении изменений. Важную роль в увеличении эффективности действий со стороны неблагополучных людей и общин может сыграть социальная политика. При обсуждении проблем социальной помощи ниже в настоящей главе мы привлечем внимание к политическим мерам, направленным на сокращение бедности посредством укрепления рынка труда, распространения образования и обучения и упрочения социальных связей.
Споры по поводу понятия низшего класса
В главе 10 мы уже упоминали о низшем классе — части населения, живущей в крайне неблагоприятных условиях на самой периферии общества. Это люди, которые давно потеряли работу (или работали с очень длительными перерывами) и которые, чтобы как-то существовать, зависят в основном от государственных пособий. Сам термин «низший класс» спорен и оказался в самом центре ожесточенной дискуссии социологов. И хотя термин сейчас вошел в повседневный обиход, многие ученые и журналисты стараются его не использовать вообще! Понятие «низший класс» охватывает широкий спектр значений, и некоторые из них воспринимаются как несущие политический заряд и отрицательные коннотации. Понятие «низший класс» имеет долгую историю. Маркс писал о люмпен-пролетариате, людях, постоянно находящихся вне господствующих форм экономического производства и обмена. Позднее это понятие стали применять к «опасным классам» нищих, воров и бродяг, отказывающихся работать и существующих на краю общества как «социальные паразиты». В недавние годы представление о низшем классе, полностью зависящем от социальной помощи и лишенном всяких жизненных устремлений, вновь было возрождено, главным образом благодаря трудам Чарлза Марри, взгляды которого на данный вопрос мы рассмотрим ниже.Подоплека дискуссии о низшем классе
Поводом для недавней дискуссии о низшем классе послужила публикация нескольких важных работ американских социологов о положении бедных черных американцев, живущих в неблагоустроенных кварталах во внутренних городах. В книге «Уменьшающееся значение расы» Уильям Джулиус Уилсон, опираясь на исследование, проведенное в Чикаго, утверждает, что в последние три или четыре десятилетия в Соединенных Штатах возник достаточно многочисленный средний класс черных — из служащих и специалистов (Wilson 1978). Не все афроамериканцы по-прежнему живут в городских гетто, а те, кто продолжает там жить, делают это не под давлением активной дискриминации, но скорее под давлением экономических факторов — иными словами, по причинам, связанным с классом, а не с расой. Старые расистские барьеры исчезают, черные остаются в гетто в результате неблагоприятного экономического положения. Чарлз Марри признает, что в большинстве крупных городов существует низший черный класс. Однако, по его мнению, афроамериканцы оказываются на дне общества в результате той самой политики социальной защиты, которая проводится для улучшения их положения. Это утверждение Марри представляет собой перепев тезиса о культуре бедности. Люди якобы начинают зависеть от социальных подачек, и у них исчезает стимул искать работу, строить устойчивые общины или заключать прочные браки (Murray 1984). Отвечая на утверждения Марри, Уилсон повторил и развил свои аргументы, высказанные раньше, снова используя материалы исследования, проведенного в Чикаго. Переселение многих белых из городов в предместья, упадок городской промышленности и другие экономические проблемы городов привели, по его предположению, к высокому уровню безработицы среди мужчин-афроамериканцев. Указанные Марри формы социальной дезинтеграции, включая высокий процент незамужних черных матерей, Уилсон объяснил сокращением резерва мужчин — «потенциальных мужей» (т. е. имеющих работу). В своей более поздней работе Уилсон исследовал роль подобных социальных процессов в возникновении очагов концентрации городской нищеты, населенных так называемыми «бедняками из гетто». Представители бедняков из гетто — преимущественно афроамериканцы и латиноамериканцы — испытывают многочисленные лишения — от низкого уровня образования и стандартов здравоохранения до разгула преступности. Они страдают также от неблагоприятных условий, порождаемых слабо развитой городской инфраструктурой, включая неадекватный общественный транспорт, сферу обслуживания и образовательные учреждения — что еще больше уменьшает шансы этих людей на интеграцию в социальную, политическую и экономическую жизнь общества (Wilson 1999).Низший класс, Европейский Союз и миграция
В центре дискуссии о низшем классе в Соединенных Штатах была проблема его корреляции с таким признаком, как этническая принадлежность. Все отчетливее эта связь обнаруживается и в Европе; тенденции экономического неравенства и социального отчуждения, типичные в наши дни для Америки, укрепляются, по-видимому, как в Великобритании, так и в других странах Западной Европы. Низший класс тесно связан с проблемами расы, этнической принадлежности и миграции. В таких городах, как Лондон, Манчестер, Роттердам, Франкфурт, Париж и Неаполь, существуют зоны крайней нищеты. Гамбург, например, является богатейшим городом в Европе, если судить по среднему индивидуальному доходу; здесь проживает самое большое количество миллионеров, чем где-либо еще в Германии, и вместе с тем на Гамбург приходится самый высокий процент людей, получающих социальную помощь и пособия по безработице — на 40 % больше, чем в среднем по стране. Большинство бедных и безработных в странах Западной Европы — это исконные жители данных стран, но среди них также много иммигрантов первого и второго поколения, живущих в бедности в запущенных городских районах. Так, например, в Германии, Франции и Италии сложились значительные по величине иммигрантские общины турок, алжирцев и албанцев. Мигранты, приехавшие в Европу в поисках более высоких стандартов жизни, часто вынуждены выполнять случайную низкооплачиваемую работу, дающую мало перспектив на продвижение. Более того, мигранты нередко отсылают заработанные ими деньги домой для помощи оставшимся там членам семьи. Уровень жизни недавних иммигрантов иногда бывает ужасающе низким. Особенно высока вероятность отчужденности и маргинализации в тех случаях, когда члены семьи мигранта с целью воссоединения семьи присоединяются к нему нелегально. Из-за отсутствия какого-либо официального статуса они не имеют права обращаться за государственным пособием и поэтому лишены возможности рассчитывать на помощь государства для поддержания минимального стандарта жизни; такие люди крайне уязвимы и, попав в бедственные условия в случае кризиса или несчастья, имеют мало надежды на какую-либо помощь и поддержку.Существует ли низший класс в Великобритании?
После своих ранних работ, посвященных Соединенным Штатам, Чарлз Марри обратился к Соединенному Королевству. По его мнению, в Соединенном Королевстве пока еще нет четко выделяющегося низшего класса, но он быстро формируется. В него, как полагал Марри, войдут не только члены этнических меньшинств, но и белые из обедневших регионов, где быстрыми темпами идет социальная дезинтеграция (Murray 1990). Однако работа Марри была подвергнута резкой критике другими социологами, работающими в этой стране. Одним из социологов, считающих, что мысль о низшем классе, имеющем свою особую культуру, мало обоснована, является Данкен Голли. Анализируя материалы исследования «Инициатива социального изменения и экономической жизни», Голли высказывает мнение об отсутствии существенных различий между представителями рабочего класса и людьми, давно потерявшими работу, в том, что касается их политических взглядов или трудовой биографии. С его точки зрения, вполне возможно, что люди, давно не имеющие работы, испытывают более глубокое чувство отчужденности и обездоленности, но они продолжают отождествлять себя в более широком смысле с рабочим классом. Он обнаружил также, что для людей, долгие периоды времени остающихся безработными, понятие работы представляет большую ценность, чем для других (Gallie 1994). Лидия Моррис обследовала распространение бедности в Хартлпуле на северо-востоке Англии. Именно в таких регионах, как Хартлпул, где наблюдался упадок обрабатывающей промышленности и значительный рост безработицы, существует возможность возникновения низшего класса. Тем не менее исследование Моррис не подтверждает факта появления четко выделенного низшего класса. По ее мнению, понятие низшего класса создает слишком упрощенную (и политизированную) картину, не отражающую всей сложности явления, которое представляет собой в современном обществе бедность и социальное неблагополучие. Моррис изучала три группы безработных рабочих: первую группу составляли супружеские пары, в которых муж был без работы по меньшей мере 12 месяцев; вторая группа включала супружеские пары, в которых муж работал на одной и той же работе по крайней мере последние 12 месяцев, и наконец, третью группу составляли супружеские пары, в которых муж в последние 12 месяцев начал работать на новом месте. Эти три обследованные группы отдельных людей и семей, по свидетельству Моррис, имели примерно одинаковую степень поддержки извне, на которую они могли опереться. Те, кто был безработным больше года, всё еще занимались поисками работы, у них не возникало отрицательного настроя в отношении работы. Ситуация, в которой оказались эти мужчины, явилась результатом длительного экономического спада в этом регионе, отсутствия у них необходимой квалификации и достаточного количества неформальных контактов, которые могли бы помочь им найти работу в том же регионе. В то же время Моррис установила, что у большинства тех, кто был долгое время безработным, супруги тоже оказались безработными, и что среди их друзей также был очень высок процент безработных. Однако заключение, к которому она пришла, гласило: «Мое исследование не обнаружило прямых доказательств существования особой культуры „низшего класса“» (Morris 1993, 410). Выводы, сделанные Моррис в ее исследовании, отнюдь не являются окончательными. Оно охватило только одну часть страны, причем ту, в которой этнические меньшинства не были представлены сколько-нибудь значительно. Вместе с тем не является тайной, что мужчины-иммигранты из Вест-Индии и Азии в большей степени, чем белые мужчины, заняты полуквалифицированным трудом и уровень безработицы среди них в среднем более высок. Оценка Как следует понимать эти противоположные подходы к низшему классу? Подтверждают ли социологические исследования мысль о существовании низшего класса как особого класса обездоленных людей, объединенных сходством жизненных возможностей? Понятие низшего класса пришло из Соединенных Штатов, и там оно по-прежнему имеет смысл. В Соединенных Штатах полюса богатства и бедности более заметно маркированы, чем в Западной Европе. В особенности там, где экономическая и социальная обездоленность соединяется с расовым неравенством, группы обездоленных действительно часто оказываются отрезанными от более широкого общества в целом. При таких обстоятельствах понятие низшего класса имеет четкую направленность. В европейских же странах этого, судя по всему, не наблюдается. Хотя сходные неблагоприятные условия существуют и в Европе, они, как представляется, не столь заметно выражены, как в Соединенных Штатах. Нет или пока еще нет такого, как в Америке, уровня разделения между теми, кто живет в условиях крайней нужды, и остальной частью общества.Социальное отчуждение
В Европе большинство исследователей предпочитает использовать не понятие низшего класса, а понятие социального отчуждения. Это понятие подхватили политики, но впервые оно было введено социологами для обозначения новых источников неравенства. Термин «социальное отчуждение» указывает, каким образом отдельные люди могут оказаться отрезанными от полноценного участия в жизни общества в целом. Таким образом, это более широкое понятие, чем низший класс, и оно имеет еще и то преимущество, что подчеркивает процессы — механизмы отчуждения. Например, люди, живущие в обветшалых трущобных микрорайонах, где плохие школы и мало надежды найти хоть какую-нибудь работу, вполне возможно, окажутся лишенными тех возможностей улучшения своей жизни, которыми обладает большинство людей в обществе. Понятие социального отчуждения отличается также от понятия бедности как таковой. Оно концентрирует внимание на широком круге факторов, которые лишают отдельных людей или целые группы людей тех возможностей, что открыты для большей части населения.────────────────────────────┐ ■ Экономические последствия беременности тинейджеров Во многих дискуссиях по поводу низшего класса затрагивается высокий процент беременности среди девочек подросткового возраста. Резкое увеличение числа матерей, воспитывающих детей в одиночку, было в Великобритании фактором, способствующим бедности и увеличению расходов на социальную помощь. Случаи, когда девочки двенадцати и тринадцати лет рожали детей, отцами которых были мальчики того же возраста, подливали масла в огонь, порождая моральную панику по поводу родителей-подростков. Хотя в течение 1990-х гг. в Соединенном Королевстве доля беременных среди подростков снизилась, она все еще остается самой высокой в Европе (см. рис. 11.2). В 1996 г. в Англии и Уэльсе на 1 000 женщин в возрасте до двадцати лет приходилось 63 случая беременности. Рождение ребенка у матерей-подростков происходит вне брака гораздо чаще, чем у матерей более старшего возраста — 89 % юных матерей, родивших детей, не состояли в браке. В 29 % случаев дети были зарегистрированы одной матерью (HMSO 1999).
 Рис. 11.2. Рождение живых детей у женщин в возрасте 15–19 лет по странам ЕС (в процентах на 1 000 женщин). 1995 г.
Источник: Eurostat; Office for National Statistics. From National Trends. 39. 2000. P. 43. Crown copyright.
Рис. 11.2. Рождение живых детей у женщин в возрасте 15–19 лет по странам ЕС (в процентах на 1 000 женщин). 1995 г.
Источник: Eurostat; Office for National Statistics. From National Trends. 39. 2000. P. 43. Crown copyright.
Отдел проблем социального отчуждения (Social Exclusion Unit) при правительстве, созданный в 1997 г. премьер-министром Тони Блэром, обратил внимание в своем докладе «Одинокие беременные женщины» (1999) на феномен родителей-подростков. Результаты показывают, что подростки не получают необходимой и адекватной информации о сексе на занятиях по программам полового образования в школе. Когда тинэйджеры начинают жить половой жизнью, их невежество в отношении возможных последствий сексуальных контактов приводит к большому числу нежелательных беременностей. Тот факт, что при первом сексуальном контакте только половина британских подростков моложе шестнадцати лет использовала презервативы, подтверждает мнение о необходимости совершенствования сексуального образования. Однако не все согласны с тем, что ответом на все вопросы является сексуальное образование. Критики, придерживающиеся правых политических взглядов, утверждают, что увеличение количества информации о сексе в школе только побудит этих молодых людей к сексуальной активности в еще более раннем возрасте. Другие считают, что главными факторами, которые привели к высокому проценту случаев беременности среди подростков в Соединенном Королевстве, является социальное отчуждение, бедность и обусловленное культурой сексуальное поведение. По их мнению, отношение к сексу и отцовству у молодых людей формируется не под влиянием образования или проблемы ролевых моделей, но под воздействием того, как средства массовой информации изображают сексуальную победу и поведение «мачо». И тот факт, что Соединенное Королевство занимает ведущее место в Европе по уровню подростковой беременности, является просто отражением того, в какой огромной степени Великобритания охвачена нищетой, и социального отчуждения. Длительное исследование 9 тыс. молодых людей 1970 года рождения проливает свет на возможные последствия появления ребенка у родителей-подростков для их дальнейшей жизни. Четвертая часть опрошенных женщин, ставших матерями в подростковом возрасте, воспитывала детей в одиночку до двадцатишестилетнего возраста. Среди мужчин, ставших отцами в подростковом возрасте, 25 % были безработными и только 4 % были заняты как специалисты или менеджеры по сравнению с 25 % мужчин, ставших отцами в возрасте старше 20 лет (ESRC 1997). ────────────────────────────┘
Для того чтобы жить полноценной и активной жизнью, люди должны иметь возможность не только прокормить себя и обеспечить себя одеждой и жильем, но также должны иметь доступ к необходимым товарам и услугам, таким как транспорт, телефон, страховое и банковское обслуживание. Для социальной интеграции общины или общества в целом необходимо, чтобы их члены могли в равной мере пользоваться общими для всех учреждениями (такими как школы), медицинским обслуживанием и общественным транспортом. Пользование этими общими институтами способствует появлению у людей чувства социальной солидарности. Социальное отчуждение может принимать разные формы и иметь место в изолированных сельских общинах, отрезанных от многих служб и удобств, а может наблюдаться в районах внутренних городов с высоким уровнем преступности и плохими жилищными условиями. Отчуждение и вовлеченность в жизнь общества можно рассматривать в терминах экономических, политических и социальных. 1. Экономическое отчуждение. Отдельные люди и сообщества могут быть исключены из экономической жизни и с точки зрения производства, и с точки зрения потребления. С точки зрения производства, участие в экономической жизни подразумевает в первую очередь занятость и участие на рынке труда. В сообществах, где наблюдается высокая концентрация материальных лишений, меньше людей имеет работу с полным рабочим днем и слабее функционирует система неформального оповещения, способная помочь тем, кто не имеет работы, оказаться на рынке труда. Уровень безработицы здесь часто высокий, и шансы найти работу в целом ограничены. Оказавшись однажды вне рынка труда, люди могут столкнуться с огромными трудностями, пытаясь появиться там снова. Отчуждение от экономической жизни может также проявляться в моделях потребления, иными словами, в том, что люди покупают, потребляют и используют в своей повседневной жизни. Социальному отчуждению может способствовать отсутствие телефона — телефон является одним из главных средств обеспечения контакта между индивидуумом и более широким миром друзей, родственников, соседей и членов сообщества. Отсутствие банковского счета — еще один показатель социального отчуждения, поскольку при этом люди не имеют возможности воспользоваться многими видами услуг, которые банки предоставляют своим клиентам. Как будет показано дальше, отсутствие жилья — это одно из самых острых свидетельств социального отчуждения. Людям без постоянного места проживания почти невозможно равноправно участвовать в жизни общества. 2. Политическое отчуждение. Широкое и постоянное участие граждан в политике — основа либеральных демократических государств. Граждан призывают быть в курсе политических проблем, поднимать свой голос для поддержки или противостояния, обращаться к выбранным ими представителям со своими заботами и принимать участие в политическом процессе на всех его уровнях. Однако активное участие в политике может оказаться недоступным для людей социально отчужденных, у которых отсутствуют необходимые ресурсы, информация и возможность включиться в политический процесс. Лоббирование, участие в съездах, посещение политических собраний — все это требует известной степени мобильности, времени и доступа к информации, которые могут отсутствовать в отчужденных общинах. Подобные сложные проблемы со временем все более и более усугубляются, поскольку голоса и нужды людей, вытолкнутых из социальной жизни, так и остаются невключенными в политическую повестку дня. 3. Социальное отчуждение. Отчуждение может также ощущаться в сфере социальной, или общинной, жизни. В регионах, страдающих от высокой степени социального отчуждения, зачастую наблюдаются ограничения и в общественно-доступных коммунальных объектах, таких как парки, стадионы, культурные центры и театры. Уровень гражданского участия, как правило, низок. Вдобавок, отчужденные семьи и отдельные индивидуумы, вероятно, имеют меньше возможностей для занятий в часы досуга, для путешествий и деятельности вне дома. Социальное отчуждение может также означать ограниченность или слабость социальных связей, что приводит к изоляции и минимальным контактам с окружающими. В связи с понятием социального отчуждения возникает вопрос, откуда исходит инициатива. Ведь слово «отчуждение» предполагает, что кто-то или что-то оказывается наглухо исключенным из жизни кем-то другим. Известны, разумеется, случаи, когда люди отчуждаются от жизни общества в результате обстоятельств, от них не зависящих. Банки могут отказать в открытии текущего счета или в предоставлении кредитной карты людям, проживающим в регионах с определенным почтовым индексом. Страховые компании могут не удовлетворить обращение за страховым полисом по причине, кроющейся в личной истории обратившегося или его семьи. Работник, уволенный по сокращению штатов в пожилом возрасте, может из-за своего возраста наталкиваться на отказ при попытке найти другую работу. Однако социальное отчуждение возникает не только тогда, когда людей исключают так или иначе из социальной жизни, она может также возникнуть, если сами люди исключают себя из тех или иных аспектов жизни обычного общества. Отдельные люди могут предпочесть не получать образование, отвергнуть предложенную им работу и стать экономически неактивными или не принимать участия в голосовании во время политических выборов. Рассматривая явление социального отчуждения, необходимо постоянно помнить о взаимодействии человеческого фактора и ответственности, с одной стороны, и роли социальных сил, формирующих жизненные обстоятельства людей, — с другой.
Формы социального отчуждения
Социологи исследовали различные стороны социального отчуждения, которое может наблюдаться у отдельных людей и сообществ. Исследования охватили такие различные проблемы, как жилье, образование, рынок труда, преступность, молодежь и старые люди. Мы кратко остановимся на трех примерах отчуждения, которые привлекли внимание в Великобритании и других индустриальных обществах. Жилье и окружение Сущность социального отчуждения отчетливо проявляется в сфере жилья. Хотя многие люди в индустриальных обществах живут в комфортабельных просторных домах, многие другие обитают в жилищах перенаселенных, плохо отапливаемых и ненадежных со строительной точки зрения. Обращаясь на рынок жилья, люди имеют возможность приобрести жилье, исходя из своих реально существующих или планируемых ресурсов. Так, бездетная пара, где оба супруга работают, будет иметь более высокий шанс получить ипотечную ссуду на покупку дома в привлекательном районе, чем семья, в которой взрослые члены не имеют работы или заняты на низкооплачиваемой работе и которой будет, вероятно, предоставлен более ограниченный и менее привлекательный выбор в секторе арендуемого или муниципального жилья. Социальное неравенство на рынке жилья проявляется как на уровне семьи, так и на уровне общины. Подобно тому, как отдельные люди, находящиеся в неблагоприятных обстоятельствах, бывают лишены желательного для них выбора в сфере жилья, так и целые общины могут быть лишены возможностей и занятий, представляющих собой норму для остального общества. Отчужденность может приобретать и пространственное измерение: жилые районы существенно различаются с точки зрения безопасности, окружающих условий, а также услуг и городских сооружений. Так, например, районы, на которые наблюдается низкий спрос, обычно имеют меньше учреждений, оказывающих основные коммунальные услуги, таких как банки, продовольственные магазины и почтовые отделения, чем более привлекательные районы. Пространства, принадлежащие всему сообществу, такие как парки, спортивные площадки, библиотеки, тоже могут быть ограничены. Тем не менее, люди, живущие в неблагоустроенных местах, зачастую зависят от тех немногих учреждений, оказывающих услуги, которые там имеются. В отличие от жителей более богатых районов, они не имеют транспортных средств (или денег), которые позволили бы им посещать магазины и пользоваться учреждениями сферы услуг в других местах. В нищих районах людям трудно преодолеть отчужденность и делать усилия для более полного участия в жизни общества. Слабые социальные связи препятствуют широкому распространению информации о вакантных рабочих местах, о политических мероприятиях и событиях внутри общины. Высокий уровень безработицы и низкий уровень доходов делают жизнь семьи напряженной; преступность и правонарушения несовершеннолетних подрывают общее качество жизни в данном округе. В не пользующихся спросом районах наблюдается высокая текучесть жителей, так как многие семьи стремятся переехать в более благополучные места, и в то же время попавшие в трудное положение люди, нуждающиеся в жилье, продолжают прибывать в этот район. Молодые люди Не следует думать о молодых людях как о вероятных кандидатах на социальное отчуждение. Ведь, в конце концов, тинэйджеры и молодые люди, достигшие совершеннолетия, вступают в пору жизненного расцвета, начинают карьеру, строят семью, определяют свое будущее. Тем не менее, переход от юности во взрослое состояние сопряжен с трудностями. Многие молодые люди пытаются интегрироваться в общество, но оказываются так или иначе отчужденными от него. Ряд изменений, произошедших в последние годы, сделал отчуждение молодежи серьезной проблемой. В прежнее время переход во взрослое состояние происходил у человека в самом начале его трудовой карьеры. Теперь же рынок труда является для молодых людей менее надежным, чем раньше, и это делает переход от домашней жизни к жизни независимого взрослого человека гораздо менее прямым. Многие молодые люди с трудом находят себе работу. Неквалифицированные виды труда уступают место работе, требующей умения или знаний в области новых технологий. В 1997 г. в Великобритании примерно 160 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет не учились, не обучались ремеслу и не работали (Howarth et al. 1999). Изменение системы социальной помощи также оказало влияние на модели отчужденности, наблюдаемые среди молодых людей. При том, что политические права и статус у молодых людей сохранились, их социальные права на получение работы, на образование и жилье сокращаются. Это привело к более сильной (и более продолжительной) зависимости от семьи. В прошлом молодые люди могли рассчитывать на финансовую помощь и пособие на жилье при переходе к взрослой жизни. Сокращение системы государственной поддержки в 1980-е гг. привело к тому, что некоторые молодые люди стали чувствовать себя более уязвимыми, чем прежде, и особенно в то время, когда уровень заработков многих молодых людей падает. Весной 1999 г. 1,25 млн молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет в Великобритании получали за свою работу меньше половины среднего почасового заработка мужчин (Howarth et al. 1999). Озабоченность вызывает также то, что образовательная система — и официально, и неофициально — отторгает все большее число молодых людей. Из-за изменений в моделях занятости многим молодым людям стало казаться, что образование не играет существенной роли. Современная политика в образовании, стимулирующая конкуренцию внутри школ и между школами, ставит в неблагоприятное положение тех молодых людей, которые и так уже находятся на периферии общества (France and Wiles 1998). Отсутствие жилья представляет собой одно из главных проявлений отчужденности среди молодых людей. Рост юношеской бездомности начиная с 1980-х гг. свидетельствует о том, что современный сектор жилья плохо приспособлен для решения проблем, связанных с меняющимися моделями мобильности молодых людей. По сравнению с прошлыми периодами молодые люди сейчас покидают дом и семью в более раннем возрасте — часто для того, чтобы продолжить образование или производственное обучение в другом городе, завести семью или получить работу в другом регионе, или просто начать самостоятельную жизнь. Однако, поскольку финансовые ресурсы многих молодых людей ограничены,выбор доступного для них жилья, предлагаемого на рынке, весьма невелик. Материалы Обследования семейного бюджета (Family Expending Survey) показали, что все больше используются «переходные» или «суррогатные» формы жилья — такие как общежитие или совместная аренда жилья на равных правах, когда несколько молодых людей снимают вместе какое-либо помещение. Однако потребность молодых людей в доступном жилье различного типа отнюдь не получает удовлетворения на рынке жилья, где преобладает предложение частного или муниципального жилья. Часть молодых людей предпочитает поэтому вернуться домой, чтобы избежать проблем, связанных с рынком жилья, другие же оказываются на улице (Jones 1997). Сельские районы Хотя много внимания уделяется в первую очередь социальному отчуждению в городских условиях, люди, живущие в сельских местностях, также могут испытывать отчуждение. Некоторые социальные работники и социальные помощники считают, что проблемы отчуждения в сельской местности столь же велики, а возможно и больше, чем в городах. В маленьких деревнях и малонаселенных районах товары, услуги и удобства не являются столь широко доступными, как в более густонаселенных районах. В большинстве индустриальных обществ близость к основным видам услуг, таким как врачебная помощь, почтовые отделения, школы, церкви, библиотеки и государственные службы, рассматривается как необходимое условие для активной полнокровной и здоровой жизни. Но у сельских жителей доступ к таким услугам часто ограничен, и они целиком зависят от сферы услуг, существующей в пределах их местной общины. Одним из важнейших факторов, обусловливающих отчуждение сельских жителей, является доступность транспортных средств. Если семья владеет или имеет возможность пользоваться автомобилем, ей легче оставаться интегрированной в жизнь общества. Например, члены семьи могут подумать о том, чтобы поискать работу в других городах, регулярно ездить за покупками туда, где больше магазинов, навещать без особого труда друзей или семью в других районах. Молодежь можно привозить домой с вечеринок. Напротив, те люди, у которых нет своих собственных средств передвижения, зависят от общественного транспорта, а за городом объем таких услуг очень ограничен. Некоторые сельские жители, например, могут пользоваться автобусом только несколько раз в день, причем по уикендам и праздничным дням автобусы ходят по сокращенному расписанию, а поздно вечером не ходят вообще.Бездомные
Большинство бедных людей имеет какое-то жилье или постоянную крышу над головой. Те, у кого жилья нет, бездомные, в последние двадцать лет стали заметны на улицах городов. Бездомность — одна из самых крайних форм отчужденности. Для людей, не имеющих постоянного жилья, закрыты многие из видов повседневной деятельности, которые другие считают чем-то само собой разумеющимся, например, хождение на работу, обладание счетом в банке, приглашение друзей в гости и даже получение писем по почте. Некоторые бездомные люди сознательно предпочитают бродить по улицам, спать на открытом воздухе без удобств и быть свободными от принуждения, связанного с собственностью и имуществом. Но у значительного большинства бездомных такого желания нет, их вытолкнули в бездомность факторы, им не подвластные. Как только они оказываются без постоянного места жительства, их жизнь стремительно ухудшается из-за возрастающих по спирали трудностей и лишений. Кто же такие бездомные в Великобритании? В действительности эта категория является смешанной. Примерно одну четверть всех бездомных составляют люди, которые были пациентами больниц для душевнобольных. По крайней мере некоторые из этих людей долгое время содержались в таких лечебницах до 1960-х гг., когда людей с хроническими душевными заболеваниями стали выпускать из больниц в результате изменений политики в области здравоохранения. Этот процесс деинституализации (см. также ниже) был вызван несколькими обстоятельствами. Одним из них было желание правительства сэкономить деньги — стоимость содержания людей в больницах для душевнобольных, как и в других типах больниц, достаточно высока. Другим, более достойным мотивом было убеждение ведущих психиатров, что длительная госпитализация часто приносит больше вреда, чем пользы. Любой больной, которого можно лечить амбулаторно, должен быть переведен на такую форму лечения. Результаты не оправдали надежд тех, кто считал освобождение пациентов из больниц положительным шагом. Некоторые лечебницы выписывали пациентов, которым было некуда идти и которые в течение многих лет были оторваны от внешнего мира. Зачастую для надлежащего амбулаторного лечения пациентов не было предпринято никаких конкретных действий. Однако большинство бездомных не является бывшими пациентами больниц для душевнобольных, это также не алкоголики и не регулярные потребители запрещенных наркотиков. Это люди, которые оказались на улице, потому что на них лично обрушилось несчастье, зачастую несколько несчастий одновременно. Бездомность редко бывает результатом прямой цепочки «причина-следствие». Несколько бед могут обрушиться на человека быстро одна за другой и привести к резкому падению по спирали вниз. Женщина, например, может развестись с мужем и одновременно потерять не только дом, но и работу. Молодой человек или девушка из-за неприятностей дома могут уехать в большой город, не имея никаких средств к существованию. Исследования показали, что чаще всего бездомными становятся люди из низших слоев рабочего класса, имеющие очень низкий доход и не обладающие никакой специальной рабочей квалификацией. Главным показателем является длительное нахождение без работы. Решающее влияние оказывают также крушение семьи и распад родственных связей.────────────────────────────┐ ■ Социальное отчуждение на верхушке общества Примеры социального отчуждения, рассматривавшиеся до сих пор, все были связаны с отдельными людьми и группами людей, которые по тем или иным причинам не могли полноправно участвовать в деятельности общественных институтов и использовать возможности, доступные большинству населения. Однако не все случаи отчужденности относятся к людям, попавшим в неблагоприятные обстоятельства и находящимся на дне общества. В последние годы наблюдается появление новых механизмов, вызывающих «социальное отчуждение на верхушке общества». Под этим имеется в виду, что небольшое число людей на самом верху общества «уклоняется» от участия в деятельности обычных институтов в соответствии со своим богатством, влиянием в обществе и связями. Отчужденность от общества наверху может принимать ряд форм. Так, богатые люди могут полностью отказываться от услуг общественного образования и служб здравоохранения, предпочитая платить за частные услуги и внимание. Благоустроенные жилые районы становятся все более закрытыми для остальной части общества, превращаясь в так называемые «общины с закрытыми воротами» — расположенные за высокими ограждениями с контрольно-пропускными пунктами и охраной. Налоговые платежи и финансовые обязательства могут быть резко сокращены посредством хитрых уловок и при помощи частных финансовых консультантов. Часто, особенно в Соединенных Штатах, активное участие в политической жизни со стороны элиты заменяется крупными денежными пожертвованиями политическим деятелям, которые должны представлять их интересы. Различными способами самые богатые, используя свое богатство, влияние и связи, уклоняются от выполнения своих социальных и финансовых обязанностей, уйдя в закрытый частный мир, в значительной степени отделенный от остального общества. Точно так же, как социальное отчуждение на «дне» общества подрывает социальную солидарность и сплоченность, отчуждение «наверху» столь же вредоносно для интегрированного общества. ────────────────────────────┘
По данным благотворительного общества «Убежище», занимающегося оказанием помощи бездомным в приобретении жилья, в период с 1978 по 1992 гг. число бездомных увеличилось на 300 %. Согласно государственной статистике, в 1998 г. в Англии и Уэльсе было 132 300 бездомных. Общества защиты бездомных, как, например, «Убежище», утверждают, что реальное число бездомных значительно больше. Главное внимание благотворительных организаций, средств массовой информации и населения в целом привлекали среди бездомных те, кто спит на улице. Число таких людей в Великобритании, по последним подсчетам, достигает 2 000, причем только на улицах Лондона обитает более 600 бездомных. Спать на улице — дело опасное. Обследование, проведенное Институтом изучения социальной политики (ИИПП) и посвященное бездомности и уличной преступности в Лондоне, Глазго и Суонси, впервые дает представление о масштабах тех преступлений, жертвами которых становятся бездомные люди, ночующие на улицах. «Обследование преступности в Великобритании» — ведущий статистический справочник по преступности в этой стране — не включает бездомных в число своих респондентов. В издании «Опасные улицы» (1999) ИИПП указывает, что четверо из каждых пяти бездомных, проводящих ночь на улице, были, по крайней мере однажды, жертвами преступления. Почти половина из них подверглась насилию, но только одна пятая часть потерпевших решилась сообщить о преступлении в полицию. При этом складывается картина, показывающая, что бездомные люди страдают от высокого уровня уличной преступности, но в то же время отчуждены от систем юридической и полицейской защиты, которые, вероятно, могли бы оказать им определенную помощь. В 1999 г. правительство заявило о своем намерении к 2002 г. на две трети сократить число бездомных, ночующих на улицах. Хотя признание правительством бездомности своей первоочередной проблемой получило всеобщее одобрение, не существует единого мнения относительно того, как именно переселить людей с улиц в постоянное жилье и побудить их вести более стабильную жизнь. Защитники бездомных уверены, что нужен более долгосрочный подход — включающий консультирование, службу посредников, профессиональное обучение, программу помощи. Тем временем многие благотворительные общества отказываются от осуществления таких краткосрочных мер, как раздача супа, спальных мешков и теплой одежды уличным бездомным. Данный вопрос вызывает споры. Стремясь привлечь внимание к необходимости принятия решительных мер, «царица бездомности» Луиза Кэйси заметила, что «люди, руководимые самыми добрыми намерениями, тратят деньги, решая проблему на улицах, и оставляют ее там» (цит. по: Gillan 1999). Многие организации, помогающие бездомным с жильем, с этим согласны. Однако группы помощи бездомным и благотворительные организации, например Армия спасения, придерживаются другого мнения: до тех пор, пока есть люди, живущие на улицах, они будут продолжать приходить к ним и предлагать любую помощь, какую они в состоянии оказать. Хотя это не является полным решением проблемы в целом, ключевое значение среди многочисленных проблем бездомных, по мнению большинства социологов, занимавшихся проблемой бездомных, имеет создание более адекватных форм предоставления жилья, независимо от того, будет ли это жилье непосредственно спонсироваться правительством или нет. Кристофер Дженкс пишет в заключение своей книги «Бездомные»: «Независимо от того, почему люди оказываются на улице, обычно самое главное, что мы можем сделать, чтобы улучшить их жизнь, — это дать им жилище, которое обеспечивало бы им хоть крупицу приватности и стабильности. Если не будет постоянного жилья, ничто другое не будет работать» (Jencks 1994). Другие социологи выражают несогласие с таким подходом, подчеркивая, что бездомность только на 20 % связана с «кирпичами и известковым раствором», а на 80 % — с работой социальных служб и помощью, чтобы нейтрализовать последствия краха семьи, насилия и унижений, пристрастия к наркотикам и алкоголю и депрессии. Майк, бездомный, которому давно перевалило за пятьдесят, высказывает сходное мнение: «Я думаю, что для большинства ситуация является гораздо более сложной, чем это представляется. Часто проблема заключается в их собственной вере в себя, в чувстве собственного достоинства. Многие люди, живущие на улице, имеют низкую самооценку. Они не верят в то, что достойны чего-либо лучшего» (цит. по: Bamforth 1999).
Преступность и социальное отчуждение
Некоторые социологи утверждают что в индустриальных обществах, таких как Великобритания и Соединенные Штаты, существует тесная связь между преступностью и социальным отчуждением. По их мнению, в современных обществах наблюдается тенденция отказа от всеобъемлющих целей (основанных на гражданских правах) и установления таких порядков, которые допускают и даже способствуют отчужденности некоторой части граждан (Young 1998, 1999). Уровень преступности, возможно, отражает тот факт, что растущее число людей не чувствует, что общество, в котором они живут, их ценит или что у них есть в этом обществе какое-то будущее. Американский социолог Элиот Карри исследовал связи между социальным отчуждением и преступностью в Соединенных Штатах, особенно среди молодых людей. Карри утверждает, что американское общество представляет собой «естественную лабораторию», которая уже демонстрирует «зловещую изнанку» социальной политики, управляемой рынком, растущую нищету и бездомность, наркоманию и резкое увеличение числа преступлений, связанных с насилием. Он отмечает, что молодежь все чаще растет предоставленная сама себе без какого-либо руководства или поддержки, необходимой им со стороны взрослых. Имея перед глазами соблазнительные приманки рынка и изобилие потребительских товаров, молодые люди сталкиваются одновременно с сокращением возможностей, предоставляемых рынком труда для поддержания существования. Это может привести в результате к глубокому чувству своей собственной обездоленности и готовности прибегнуть к противозаконным средствам для поддержания желаемого уровня жизни. Согласно Карри, имеется несколько главных линий связи между ростом преступности и социальным отчуждением. Во-первых, изменения на рынке труда и в налоговой политике правительства, а также в политике минимальной оплаты труда привели к ужасающему росту как относительной, так и абсолютной бедности среди американского населения. Во-вторых, рост социального отчуждения ощущается в местных общинах, которые страдают от утраты стабильных средств к существованию, текучести населения, постоянно дорожающего жилья и ослабления социальных связей. В-третьих, материальные лишения и разобщенность людей деформируют семейную жизнь. Во многих бедных семьях взрослые вынуждены работать на нескольких работах, чтобы прокормить семью — ситуация, которая вызывает постоянный стресс, чувство тревоги и постоянное пребывание вне дома. Социализация и воспитание детей в результате всего этого ослабевают, общее «социальное обеднение» общины означает, что родители практически не имеют возможности обратиться за помощью к другим семьям или родственникам. В-четвертых, государство «зарезало» многие программы и социальные службы, которые могли бы «реинтегрировать в общество» социально отчужденных, а именно службы раннего вмешательства в детстве[5], охраны здоровья детей и охраны психического здоровья. Наконец, социально отчужденное население не может достичь с помощью законных средств стандартов экономического благосостояния и потребления, пропагандируемых в обществе. Согласно Карри, одним из вызывающих наибольшее беспокойство показателей связи между социальным отчуждением и преступностью является то, что легальным путям улучшения положения предпочитаются пути нелегальные. Преступным средствам оказывается предпочтение перед альтернативными средствами, такими как изменение политической системы или организации общины (Currie 1998а).Социальная помощь и реформа государства всеобщего благосостояния
Большинство индустриальных и индустриализующихся стран мира являются сейчас государствами всеобщего благосостояния, т. е. государствами, в которых правительство играет центральную роль в уменьшении неравенства среди населения путем предоставления или субсидирования некоторых товаров и услуг. Цель государственной помощи заключается в том, чтобы нейтрализовать негативные последствия влияния рынка на людей, которые по разным причинам сталкиваются с огромными трудностями при удовлетворении своих основных потребностей. Это способ уменьшения рисков, которые встречаются людям на протяжении их жизни: болезнь, инвалидность, потеря работы и старость. Социальные службы государства всеобщего благосостояния в разных странах различны, но, как правило, они осуществляют помощь в сфере образования, здравоохранения, жилья, предоставляют пособия по бедности, инвалидности, безработице и пенсии по старости. Масштабы расходов на государственную поддержку также различны. В некоторых странах существуют развитые системы государственной поддержки, и правительства расходуют на них значительную часть национального бюджета. В Швеции, например, расходы на государственную помощь составляют почти 50 % валового внутреннего продукта страны. Одно из главных различий между разными моделями государственной поддержки заключается в доступности социальных пособий для населения. В некоторых системах предоставление государственной помощи носит универсальный характер, это универсальные социальные пособия; получение помощи, когда она необходима, является правом, которым обладают в равной степени все, независимо от уровня дохода или экономического статуса. Системы государственной поддержки, основанные на предоставлении помощи всем нуждающимся, создаются для того, чтобы обеспечить основные социальные потребности граждан во все возрастающем объеме. Шведская система по своим принципам ближе к универсальному подходу, чем система Соединенного Королевства, в которой больше места занимают пособия, назначаемые с учетом проверки нуждаемости. Выражение «проверка нуждаемости» означает процедуру, с помощью которой та или иная служба определяет, соответствует ли тот или иной человек, обратившийся за помощью, необходимым требованиям. Проверка нуждаемости часто проводится исходя из дохода. Например, пособие на жилье могут получить только люди с низким доходом. Различие между пособиями, предоставляемыми на универсальной основе, и пособиями, предоставляемыми на основе проверки нуждаемости, нашло на политическом уровне выражение в двух противоположных подходах к государственной помощи. Сторонники институционального подхода к государственным пособиям утверждают, что доступ к получению пособий должен быть обеспечен для всех как некое право. Те, кто придерживается остаточного принципа предоставления пособий, считают, что помощь от государства должны получать только те члены общества, которые действительно нуждаются в поддержке и сами не способны обеспечить свои нужды. Споры вызывает также вопрос о налогах. Источником средств для государственных пособий, пенсий и стипендий являются налоговые сборы. Некоторые авторы полагают, что налоги должны быть высокими, потому что государство всеобщего благосостояния должно иметь хорошие источники дохода. Они утверждают, что система государственной помощи должна поддерживаться и даже расширяться, для того чтобы государство могло сдержать резко поляризующие общество последствия влияния рыночной экономики, даже несмотря на то, что это влечет за собой бремя высоких налогов. По мнению этих авторов, долг любого цивилизованного государства — обеспечивать и защищать своих граждан. Напротив, сторонники «государства всеобщего благосостояния как страховочной сетки» настаивают на том, что только наиболее нуждающиеся — а это выявляется с помощью проверки нуждаемости — должны получать государственную помощь. Они считают систему государственной поддержки дорогостоящей, неэффективной и слишком бюрократической и призывают к ее сокращению. Различие между универсальной и остаточной моделями государственной помощи находится в центре и современных споров о реформе системы государственной помощи. Во всех индустриальных странах широко обсуждается и внимательно оценивается будущее социального государства. По мере того как изменяется облик общества — под влиянием глобализации, миграции, изменений в семье и в трудовой деятельности, а также в результате других фундаментальных сдвигов — сущность государственной помощи также должна измениться. В следующем разделе мы рассмотрим возникновение системы государственной помощи в Великобритании, проблемы, с которыми она в настоящее время сталкивается, и попытки, которые предпринимаются для ее реформирования.Теории государства всеобщего благосостояния
Почему получилось так, что государства всеобщего благосостояния возникли в большинстве индустриальных стран? Как можно объяснить то, что различные государства оказали предпочтение разным моделям государственной помощи? Внешне системы государственной помощи в разных странах различны, тем не менее в целом индустриальные общества направляют значительную часть своих средств на удовлетворение общественных нужд. Было предложено много теорий для объяснения эволюции государства всеобщего благосостояния. Марксисты считали, что государственная помощь служит для укрепления капиталистической системы, в то же время, по мнению теоретиков функционализма, системы государственной помощи в условиях развитой индустриализации способствовали упорядоченной интеграции общества. Хотя эти и другие подобные взгляды имели широкое распространение на протяжении многих лет, наиболее значительный вклад в теорию государства всеобщего благосостояния внесли, вероятно, труды Т. X. Маршалла и Гёсты Еспинг-Андерсена. Маршалл: права граждан В работах Маршалла 1960-х гг. социальная помощь предстает как результат прогрессивного развития прав граждан в связи с ростом индустриальных обществ. Подойдя к проблеме с исторических позиций, Маршалл проследил эволюцию прав граждан в Великобритании и установил три ключевые стадии. XVIII столетие — это период, когда, по мнению Маршалла, были получены гражданские права. Они включали важные личные свободы, такие как свобода слова, мысли и религии, право владеть собственностью и право на справедливое разбирательство перед законом. В XIX в. были завоеваны политические права: право голоса, право занимать государственную должность и участвовать в политическом процессе. Третий комплекс прав — социальные права — были получены только в XX в. Право граждан на экономическое и социальное обеспечение посредством предоставления образования, охраны здоровья, жилья, пенсий и других услуг нашло воплощение в государстве всеобщего благосостояния. Включение социальных прав в понятие гражданства означало, что любой человек имеет право жить полноценной и активной жизнью, имеет право получать необходимый для нормальной жизни доход, независимо от своего положения в обществе. В этом отношении права, ассоциируемые с социальным гражданством, значительно продвинули идеал равенства для всех людей (Marshall 1973). Взгляды Маршалла оказали заметное влияние на споры социологов о природе участия людей в жизни общества или их социального отчуждения. Понятие прав и обязанностей людей тесно переплетается с понятием гражданства; эти идеи очень популярны в современных дискуссиях относительно того, как обеспечить «активное гражданство». Однако, хотя труды Маршалла о правах гражданства остаются по-прежнему актуальными для современных дискуссий, полезность их ограничена. Критики отмечали, что Маршалл, развивая свою теорию о правах граждан, сосредоточил свое внимание исключительно на Соединенном Королевстве, тогда как отнюдь не очевидно, что развитие системы государства всеобщего благосостояния шло по такому же пути в других странах. Еспинг-Андерсен: три типа социального государства Книга датчанина Гёсты Еспинг-Андерсена «Три типа государств всеобщего благоденствия в условиях капитализма» представляет собой более позднюю теорию государства всеобщего благосостояния (Esping-Andersen 1990). В этом важном труде Еспинг-Андерсен, сопоставив системы социальной помощи западных стран, создает типологию «режимов всеобщего благосостояния», включающую три типа. Строя свою типологическую классификацию, Еспинг-Андерсен оценивает уровень декоммодификации социальной помощи — данный термин означает, в какой степени социальная помощь свободна от влияния рынка. В системах с высоким уровнем декоммодификации социальная помощь оказывается обществом и она никак не связана с доходом человека или его экономическими ресурсами. В коммодифицированных системах социальная помощь больше расценивается как предмет потребления, т. е. она продается на рынке подобно другим товарам и услугам. Сравнивая политику разных стран в отношении пенсий, пособий по безработице и помощи людям с низкими доходами, Еспинг-Андерсен выделяет следующие три типа систем государственной помощи: • Социал-демократический тип. Социал-демократическая система социальной помощи полностью отделена от товарных отношений. Службы социальной помощи субсидируются государством и доступны всем гражданам (универсальная система пособий). Примером социал-демократической системы социальной помощи может служить большинство скандинавских стран. • Консервативно-корпоративный тип. В консервативно-корпоративных государствах, таких как Франция и Германия, социальные услуги могут быть полностью отделены от рынка, но они предоставляются далеко не всем. Величина социальной помощи, на которую имеет право гражданин, зависит от его положения в обществе. Этот тип системы социальной помощи имеет целью не устранение неравенства, но поддержание социальной стабильности, укрепление семьи и верноподданнических чувств к государству. • Либеральный тип. Соединенные Штаты являют пример либеральной системы социальной помощи. Социальная помощь уподоблена товару, коммодифицирована и продается через посредство рынка. Особо нуждающиеся получают пособия, пройдя проверку на нуждаемость, но получать социальную помощь считается крайне унизительным, потому что большинство населения, как предполагается, покупает свое социальное благополучие на рынке. Соединенное Королевство не соответствует полностью ни одному из указанных трех «идеальных типов». Раньше оно было ближе к социал-демократической модели, но после реформ в социальной сфере 1970-х гг. приблизилось к либеральной социальной системе с более высоким уровнем коммодификации.Возникновение британского государства всеобщего благосостояния
Государство всеобщего благосостояния, как мы это в настоящее время знаем, было создано в Великобритании в середине XX в. после Второй мировой войны, но уходит корнями в елизаветинскую эпоху. При переходе от земледельческого к индустриальному обществу начали разрушаться традиционные формы неформальной поддержки внутри семей и общин. Для сохранения социального порядка и уменьшения неравенства, которое принес с собой капитализм, необходимо было предоставить помощь тем членам общества, которые оказались на периферии рыночной экономики. Законы о бедных были первой попыткой правительства навести порядок в предоставлении помощи и поддержки бедным, больным и немощным[6]. В то время основным источником помощи была редкая сеть благотворительных организаций, многие из которых были связаны с церковью. Со временем, как часть процесса образования нации, государство стало играть более существенную роль в оказании помощи нуждающимся. Законодательство, согласно которому было создано национальное управление образованием и общественным здравоохранением в конце 1800-х гг., было предвестником более широких программ, появившихся почти шестьдесят лет спустя. В годы, последовавшие за Второй мировой войной, было засвидетельствовано мощное стремление к реформированию и расширению системы социальной помощи. Можно сказать, именно в этот период в Великобритании складывается современное социальное государство. Перестав ограничиваться исключительно неблагополучными и нуждающимися, объект социальной помощи стал более широким и стал включать всех членов общества. Война была напряженным и мучительным переживанием для всей нации — и для богатых, и для бедных. Она породила чувство солидарности и осознание того, что несчастья и трагедии случаются не только с обездоленными. Этот сдвиг от избирательного понимания социальной помощи к универсалистскому ее пониманию получил отражение в Докладе Бевериджа в 1942 г., который часто рассматривают как наметки современного государства всеобщего благосостояния. Доклад Бевериджа был направлен на искоренение пяти великих зол: Нужды, Болезней, Невежества, Антисанитарии и Праздности. При послевоенном лейбористском правительстве был принят ряд законодательных мер, которые начали переводить это идеальное представление в некоторые конкретные действия. В центре нового универсалистского понимания социального государства лежало несколько важных законов. Закон об образовании 1944 г. был посвящен проблеме нехватки школ, а Закон о национальном здравоохранении 1946 г. рассматривал пути улучшения качества здоровья населения. Против «Нужды» был направлен Закон о национальном страховании 1946 г., заложивший основу системы защиты на случай потери заработка, вызванной безработицей, болезнью, уходом на пенсию или потерей супруга. Закон о государственной помощи 1948 г. предоставлял, в соответствии с проверкой на нуждаемость, помощь тем, кто не подпадал под Закон о национальном страховании. Другие законы были направлены на решение проблем семьи (Закон о пособиях на семью 1945 г.) и на улучшение жилищных условий (Закон о новых городах 1946 г.). Британское государство всеобщего благосостояния возникло в некоторых конкретных условиях и в соответствии с определенными широко распространенными представлениями о природе общества. Предпосылки, на основе которых было построено государство всеобщего благосостояния, были троякими. Во-первых, государство всеобщего благосостояния приравнивало работу к оплачиваемому труду и исходило из убеждения в возможности полной занятости. Конечной целью было общество, в котором оплачиваемый труд играл бы основную роль для большинства людей, а социальная помощь обеспечивала бы нужды тех, кто оказался вне рыночной экономики из-за несчастной случайности, связанной с безработицей или инвалидностью. В связи с этим представление о государстве всеобщего благосостояния основывалось на патриархальной концепции семьи: мужчина-кормилец должен содержать семью, а жена — заботиться о доме. Программы социальной помощи создавались для этой традиционной модели семьи, а второй уровень услуг был предназначен для тех семей, в которых мужчина-кормилец отсутствовал. Во-вторых, государство всеобщего благосостояния рассматривалось как гарант национального единства. Оно должно сплотить нацию, включив все население в общую систему служб. Социальная помощь была способом укрепления связи между государством и населением. В-третьих, социальное государство было озабочено тем, чтобы нейтрализовать риски, которые случаются как естественная часть процесса человеческой жизни. В этом смысле социальная помощь рассматривалась как разновидность страхования, которое может быть использовано против потенциальных несчастий непредсказуемого характера. Так, с помощью государства всеобщего благосостояния можно было бы противостоять безработице, болезням и другим бедам в социальной и экономической жизни страны. Эти принципы заложили основу быстро развивающегося государства всеобщего благосостояния в течение трех десятилетий после войны. Пока наблюдался рост промышленной экономики, государство всеобщего благосостояния представляло удачную классовую «сделку», которая отвечала нуждам рабочего класса в такой же мере, как и нуждам экономической элиты, зависевшей от здоровой высокоактивной рабочей силы. Но, как мы увидим в следующих разделах, в 1970-х гг. начался и постепенно становился все более ярко выраженным раскол политических мнений между лагерями сторонников институционального и остаточного отношения к социальной помощи. К началу 1990-х гг. и левые, и правые признали, что условия, при которых было создано государство всеобщего благосостояния, изменились, вследствие чего видение системы социальной помощи, предложенное Бевериджем, оказалось устаревшим и нуждающимся в существенном реформировании.Реформирование государства всеобщего благосостояния
Консервативный «откат» Политическое согласие относительно задач государства всеобщего благосостояния стало нарушаться в 1970-х гг., и усиление этого процесса наблюдалось в 1980-е гг., когда правительства Маргарет Тэтчер в Соединенном Королевстве и Рональда Рейгана в Соединенных Штатах попытались сократить траты на социальные нужды. Попытки сократить социальную помощь были обусловлены несколькими обстоятельствами, вызывавшими критику. Первая причина была связана с ростом финансовой стоимости социальной помощи. Общий экономический спад, растущая безработица, а также появление огромной армии чиновников, связанной с системой социальной помощи, означали постоянный рост расходов в сфере социальной помощи, притом такими темпами, которые превышали темпы общего экономического развития производства. В ходе дебатов о расходах на социальную помощь сторонники сокращения расходов указывали на возросшие финансовые затруднения, которые испытывает система социальной помощи. Деятели, определявшие политику, подчеркивали потенциально разорительное влияние на систему социальной помощи «демографической бомбы замедленного действия»: людей, зависящих от социальной помощи, становится все больше по мере того, как население стареет, а число молодых людей трудоспособного возраста, которые платят взносы в эту систему, сокращается. Это сигнализировало о потенциальном финансовом кризисе.«Старение» населения обсуждается в разделе «Здоровье и старение» (глава 6).
Вторая линия критики была связана с понятием зависимости от социальной помощи. Критики существующих институтов социальной помощи утверждали, что люди становятся зависимыми от тех самых программ, которые, как предполагалось, должны были способствовать тому, чтобы они жили независимой и осмысленной жизнью. Люди якобы становятся не просто материально, но психологически зависимыми от получения социального пособия. Вместо того чтобы проявить активное отношение к жизни, они обычно становятся покорными судьбе, пассивными и возлагают все надежды на поддержку со стороны системы социальной помощи. В Великобритании споры о зависимости от социальной помощи были связаны с критикой «государства в роли няньки» — выражение, означающее, что государство, исполненное чувства долга (но совершенно излишне), взяло на себя заботу обо всех нуждах граждан. Консервативное правительство под руководством Маргарет Тэтчер выдвинуло в качестве основных ценностей личную инициативу и самодостаточность. Как часть перехода к полностью свободной рыночной экономике, правительство путем ряда реформ в сфере социальной помощи поставило серию заслонов перед теми, кто надеялся на получение пособия. На помощь от государства должны рассчитывать только те, кто не в состоянии оплачивать свое собственное нормальное существование. Закон о Социальной Безопасности 1988 г. позволил государству урезать расходы на социальную помощь, ужесточив требования к тем, кто обращается за поддержкой в соответствии с программами доплат при низких доходах, за кредитом на семью и пособием на жилье. Консервативное правительство провело ряд реформ в системе социальной помощи, которые начали смещать ответственность за социальную помощь с государства в частный сектор, в сектор добровольных пожертвований и местных общин. Услуги, которые раньше предоставлялись государством в основном на условиях субсидий, были приватизированы, или для их предоставления стали требовать более суровой проверки нуждаемости. Одним из примеров этого может служить приватизация в 1980-х гг. обслуживания муниципальных домов. Закон о жилье 1980 г. позволил значительно повысить плату за муниципальное жилье, создав предпосылки для крупномасштабной распродажи фонда муниципального жилья. Переход к остаточному принципу в предоставлении жилья нанес особенно сильный удар по тем людям, чьи доходы немного превышали уровень, установленный для получения пособий на жилье при проверке на нуждаемость, поскольку у них больше не было права на муниципальное жилье, но они не могли себе позволить снимать жилье по рыночным ценам. Критики этого закона утверждают, что приватизация муниципального жилья в значительной степени способствовала росту бездомности в 1980-х и 1990-х гг. Консервативное правительство стимулировало также приватизацию социальной помощи, переложив на плечи частных организаций некоторую долю ответственности за предоставление социальных услуг. Вместо того чтобы оказывать услуги непосредственно силами большого штата чиновников, государство во все возрастающих масштабах стало направлять средства, предназначенные для социальной помощи, через посредство отдельных групп, утверждая, что это значительно увеличит эффективность и качество услуг. «Откат» в социальной сфере, произошедший при консерваторах, включал также поддержку деинституционализации, процесса, посредством которого людей, находившихся на содержании государства (в медицинских учреждениях-стационарах), выписывали из стационаров и возвращали в семью и в общину (см. выше подраздел «Бездомные» в разделе «Социальное отчуждение» текущей главы). Непосредственно от деинституционализации пострадали такие категории людей, как инвалиды и душевнобольные, однако этот процесс имел также существенные последствия и для общин, и для семей, на которых теперь возлагалась ответственность за здоровье и жизнь их членов. Еще одной попыткой сокращения расходов на социальную помощь и увеличения ее эффективности было введение рыночных принципов в предоставление социальных услуг. Правительство консерваторов утверждало, что введение известной доли конкуренции в сферу социальных услуг, таких как здравоохранение и образование, обеспечит населению больше возможностей выбора и более высокое качество услуг. Потребители, как заявлялось, смогут по существу «голосовать ногами», выбирая из школ и медицинских учреждений те, которые они сами считают лучшими. Учреждения, оказывающие некачественные услуги, будут вынуждены либо улучшать свою работу, либо закрываться, подобно тому как это происходит в бизнесе. Это связано с тем, что финансирование учреждения будет зависеть от количества учащихся или пациентов, которые предпочли воспользоваться его услугами. Критики подобного курса возражали, заявляя, что «внутренние рынки» в сфере общественных услуг не поднимут их качество до равного обслуживания для всех граждан, но, наоборот, приведут к понижению их качества в целом и к иерархической системе предоставления услуг.
────────────────────────────┐ ■ Зависимость от социальной помощи Понятие «зависимость от социальной помощи» вызывает споры; некоторые отрицают, что такая зависимость имеет сколько-нибудь широкое распространение. «Быть на социалке» обычно считается позорным, и большинство людей, попавших в такое положение, надо полагать, активно старается избавиться от него как можно скорее. Кэрол Уокер проанализировала данные о том, как людям, живущим на пособие для граждан с низким доходом, удается организовать свою жизнь. Картина, которая ей представилась, весьма далека от той, которую рисуют люди, утверждающие, что жить на пособие — легкий выбор. Как показало одно из ее исследований, у 80 % опрошенных, потерявших работу, с тех пор как они стали жить на пособие, произошло ухудшение уровня жизни. Почти для всех жизнь стала гораздо более трудной. С другой стороны, для меньшинства социальная помощь может стать причиной улучшения уровня жизни. Например, безработный по достижении возраста шестидесяти лет может попасть в другую социальную категорию, в категорию «пенсионеров — претендентов на помощь», а это позволяет требовать пособия на 30 % более высокого, чем то, что он получал раньше. Категория людей, чьи жизненные обстоятельства при получении пособия могут стать лучше, включает в действительности также одиноких матерей. Исследование показывает, что около трети разведенных родителей — почти все из них женщины — стали жить после распада их брака более зажиточно, чем они жили до развода. Значительное большинство, однако, стало жить хуже. Только 12 % людей, живших на социальную помощь в 1990 г., сказали, что они «справляются вполне успешно». Большинство же сообщило, что они «просто сводят концы с концами» или «сталкиваются с трудностями». Строить планы на будущее очень трудно. Откладывать деньги невозможно, оплата счетов вызывает постоянную озабоченность. Несмотря на важное значение питания, оно зачастую рассматривается как нечто, на чем можно сэкономить, когда денег не хватает. В заключение Уокер пишет: «Вопреки сенсационным газетным заголовкам, жить на социальную помощь — это совсем не тот выбор, который сделало бы большинство людей, если бы им предложили подлинную альтернативу. Большинство людей оказываются „на социалке“ из-за какого-то трагического события в жизни: потери работы, смерти супруга или по причине тяжелого заболевания» (Walker 1994, 9). ────────────────────────────┘
Оценка сокращения социальных услуг при консерваторах До какой степени удалось консервативному правительству в 1980-х гг. затормозить развитие государства всеобщего благосостояния? В книге «Демонтаж государства всеобщего благосостояния» Кристофер Пирсон сравнивает процесс «сокращения» расходов на социальную помощь в Великобритании и Соединенных Штатах при администрации Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана и приходит к выводу, чтогосударства всеобщего благосостояния вышли из эры правления консерваторов, не потерпев существенного урона (Pierson 1994). Хотя обе администрации пришли к власти с откровенным намерением урезать расходы на социальную помощь, препятствия на пути осуществления этой политики отката в социальной сфере оказались, по утверждению Пирсона, в конечном счете больше, чем каждое из правительств могло преодолеть. Причина этого заключается в том, как социальная политика развивалась с течением времени: с самого начала социальное государство и его институты вызвали к жизни появление специфического электората, который активно защищал полученные им блага против любых попыток их сокращения. От организованных профсоюзов до ассоциаций отставников сложная сеть группировок заинтересованных лиц мобилизовала силы на защиту системы социальной помощи. Согласно Пирсону, решения о сокращении социальной помощи принимались с учетом, прежде всего, страха перед общественным возмущением и противодействием. Как обнаружили политики, сужение функций государства всеобщего благосостояния — процесс несравненно более трудный, чем противоположный ему процесс расширения социальной помощи. В результате возник новый вид политической деятельности: предпринимались попытки минимизировать сопротивление граждан с помощью компенсаций отдельным группам, которые «проигрывали» при реформах, или принимались меры, препятствующие объединению групп людей с разными интересами. «Значительно больше, чем во времена развития социального государства, — пишет Пирсон, — борьба вокруг социальной политики становится борьбой вокруг информации о причинах и следствиях изменения этой политики» (Pierson 1994, 8). И сокращению обычно подвергались именно такие социальные программы, как, например, политика в отношении жилья и пособий по безработице, в защиту которых заинтересованным группам людей помешали выступить сообща. Пирсон считает, что государство всеобщего благосостояния испытывает сильнейшее напряжение, но отрицает, что оно находится с «состоянии кризиса». По его утверждению, расходы на социальные нужды сохранились примерно на одном уровне и все центральные компоненты государства всеобщего благосостояния остались на месте. Не отрицая того факта, что в результате социальных реформ в 1980-х гг. значительно увеличилось неравенство, он указывает, что социальная политика в целом не подверглась реформированию в той же степени, как производственные отношения или политика регулирования. Огромное большинство населения Великобритании продолжает рассчитывать на государственную помощь в области охраны здоровья и образования, тогда как в Соединенных Штатах социальная помощь приобрела более «остаточный» характер. Приоритеты в реформах системы социальной помощи в последнее время Реформирование социальной сферы оставалось главным приоритетом для нового лейбористского правительства, которое пришло к власти в Соединенном Королевстве в 1997 г. Соглашаясь в некоторых вопросах с критикой системы социальной помощи со стороны консерваторов (и отказываясь от традиционной левой политики), новое лейбористское правительство заявляло, что в сфере социальной помощи нужна новая политика для преодоления бедности и неравенства, так же как и для улучшения охраны здоровья и образования. Государство всеобщего благосостояния само зачастую является причастным к возникшим трудностям, порождая иждивенческие настроения и предлагая подаяние вместо того, чтобы настраивать людей на самостоятельность. Его политика привела к появлению огромной армии чиновников, которые теперь пытаются справиться с проблемами, когда вместо того, чтобы разрешать проблемы сразу же при их возникновении, дают им достичь крайней остроты, а уже потом пытаются с ними справиться. Такой подход обнаружил свою несостоятельность при попытках как сокращения бедности, так и перераспределения дохода среди населения. В большинстве случаев, как утверждается, уменьшение бедности явилось результатом не социальной политики, но общего роста благосостояния. Одна из главных трудностей, связанных с системой социальной помощи, состоит в том, что условия, при которых она была создана, претерпели существенные изменения. К 1990-м гг. мечта о полной занятости уступила место постоянной безработице. Вследствие изменений в структуре семьи патриархальный взгляд на мужчину как на кормильца перестал соответствовать действительности. В ряды трудящихся влилась огромная масса женщин, а рост числа неполных семей потребовал от государства всеобщего благосостояния дополнительных расходов. Произошло также очевидное изменение в тех рисках, с которыми приходилось иметь дело государству всеобщего благосостояния. Так, государство всеобщего благосостояния оказалось беспомощным, столкнувшись с вредными последствиями загрязнения окружающей среды или с выбором стиля жизни, предполагающим курение. «Зеленая книга» 1998 г., предложенная правительством на обсуждение, — «Новые цели для нашей страны; новый контракт о социальной помощи» — представила оценку государства всеобщего благосостояния и нарисовала перспективу «активной социальной помощи», нацеленной на то, чтобы раскрыть перед людьми возможности как в работе, так и в личной жизни. Утверждая, что старые решения неприменимы теперь для борьбы с бедностью и неравенством, новые лейбористы выдвинули идею контракта о социальной помощи между государством и гражданами, основанного как на правах, так и на обязанностях. Роль государства состоит в том, чтобы помочь людям получить работу и стабильный доход, а не просто поддерживать их, когда они оказываются вне рынка труда. В то же время граждане должны полагаться на свой потенциал активности, чтобы изменить свои обстоятельства, а не ждать раздачи социальных пособий. Занятость стала одним из краеугольных камней социальной политики партии новых лейбористов, и огромное внимание уделялось роли в реформе социальной помощи динамично развивающегося рынка труда. Идея, которая стояла за данным подходом, заключалась в том, что рынок не только порождает неравенство, но может быть причастен также и к его сокращению. Главными мерами по сокращению бедности могут служить вовлечение людей в трудовую деятельность и приток в семьи дохода благодаря этому. Среди наиболее значительных реформ социальной системы, проведенных при правительстве новых лейбористов, были программы «от социальной помощи к работе», определяющая цель которых — перевести получателей государственной поддержки в категорию работников, получающих плату за свой труд. Пособия, выплачиваемые по программам «от социальной помощи к работе», направляются на поощрение многих групп людей к вступлению на рынок труда. Молодым людям в возрасте до 25 лет предлагается обучение и возможность более высокооплачиваемой работы вместо предоставления государственного пособия, связанного с их низким доходом; для одиноких родителей в качестве помощи на содержание детей предлагаются кредиты для уплаты налогов, а тех, кто долго не имеет работы, обучают поведению во время собеседования с работодателями. Правительство новых лейбористов предприняло также попытки расширить социальные возможности отдельных людей и общин «помочь самим себе», поддерживая местные инициативы, направленные на сокращение бедности. По всей стране были созданы зоны, где местные общины ведали проблемами охраны здоровья, занятости и образования, что давало возможность местным органам принимать решения, которые соответствовали бы нуждам местных жителей. Такой подход имеет ряд преимуществ. Оказание помощи становится более целенаправленным и прямым, можно вводить небольшие инновационные схемы, возрастает участие местного населения в принятии решений. Подобные программы способствуют возникновению более активной формы социальной помощи, при которой граждане полнее вовлекаются в построение лучшей жизни для самих себя в партнерстве с государством. Споры вокруг реформ системы социальной помощи не прекращаются, хотя все согласны, что изменения здесь необходимы. Путь, предложенный новыми лейбористами, также вызвал критику. Некоторые авторы высказываются в том духе, что программы «от социальной помощи к работе» — это безжалостный способ сокращения социальных расходов. Люди, которые оказались не в состоянии прийти на рынок труда, несмотря на обучение и меры, облегчающие родителям содержание детей, рискуют потерять свои социальные пособия. Хотя программы правительства имеют целью ограничение условий, способствующих зависимости от социальной помощи, они могут в конечном итоге вынудить тех, кто потеряет право на пособие, стать преступниками, проститутками, бродягами. Другие критики ставили под вопрос эффективность вверенных местным властям «зон» в борьбе против социального отчуждения. Они утверждают, что бедность и обездоленность не сконцентрированы исключительно в данных обозначенных регионах, тогда как программы построены так, как будто все бедные живут вместе. Результаты, полученные собственным подразделением правительства — Отделом по проблемам социального отчуждения, — подтверждают это возражение: в 1997 г. две трети всех безработных проживали вне сорока четырех регионов, признанных наиболее бедствующими в стране. Инициативы, сведенные до уровня региональных, как указывают скептики, не могут заменить общенациональную стратегию борьбы с бедностью, потому что слишком много людей оказывается за пределами указанных зон, вверенных местным органам власти.
────────────────────────────┐ ■ Оценка программ «от социальной помощи к работе» Программы «от социальной помощи к работе» были введены в Великобритании совсем недавно, и пока невозможно судить адекватно и в полной мере о том, каковы будут их последствия. Первоначальные результаты показывают, что «Новый курс»[7] программ занятости помог к концу 1999 г. получить работу более чем одному миллиону человек, из которых 170 тыс. считались людьми, давно не имевшими работы. Аналогичные программы существовали в течение некоторого времени в Соединенных Штатах, и там была некоторая возможность изучить их последствия. Дэниэл Фридлендер и Гэри Бертлес проанализировали четыре разных программы, инициированных правительством и имевших целью стимулировать получателей социального пособия искать оплачиваемую работу. Программы в общих чертах были сходными. Они предоставляли денежные пособия тем получателям социальной помощи, которые занимались активными поисками работы, а также предлагали рекомендации относительно того, как именно надо вести поиски работы и какие существуют возможности для получения образования и обучения ремеслу. Адресованы эти программы были, главным образом, таким категориям населения, как главы неполных семей, имевшие на иждивении детей и получавшие пособия, в соответствии с самой большой в стране программой социальной денежной помощи. Фридлендер и Бертлес установили, что программы действительно принесли результаты. Люди, принимавшие участие в программах, смогли либо найти работу, либо начали работать раньше, чем другие люди, не участвовавшие в программах. В случае всех четырех программ сэкономленные деньги в несколько раз превышали затраты на саму программу. Однако наименее эффективными программы оказались для тех людей, которые больше всех нуждались в помощи — для тех, кто не имел работы в течение длительного периода времени, для давних безработных (Friedlander and Burtless 1994). Хотя в Америке благодаря программам «от социальной помощи к работе» удалось сократить обращения за социальной помощью примерно на 40 %, некоторые статистические данные позволяют предположить, что конечные результаты не являются полностью позитивными. В Соединенных Штатах, например, приблизительно 20 % тех, кто перестал получать социальную помощь, не работают и не имеют самостоятельного источника дохода; почти одна треть тех, кто находит работу, снова обращается за социальной помощью в течение года. От одной трети до половины тех, кто устроился на работу и отказался от социальной помощи, обнаруживают, что их доходы уменьшились по сравнению с уровнем ранее получаемых пособий. В Висконсине, американском штате, который одним из первых ввел у себя программы «От социальной помощи к работе», две трети тех, кто отказался от социальной помощи, живут ниже черты бедности (Evans 2000). Указывая на подобные факты, критики утверждают, что кажущиеся успехи инициатив «от социальной помощи к работе» в сокращении абсолютного числа получателей социальной помощи скрывают некоторые вызывающие беспокойство повторяющиеся обстоятельства в реальной жизни тех, кто перестал получать социальную помощь. ────────────────────────────┘
Заключение: переосмысление понятий равенства и неравенства
Экономическое неравенство — это неизбежная черта всех социальных систем, включая либеральные демократии, которые открыто провозглашают свою приверженность идее равенства как неотъемлемой части права гражданства. На практике, однако, достичь равенства оказалось трудно. В системе свободного рынка неизбежно возникает неравенство. В прошлом политики левого толка стремились к уничтожению неравенства посредством перераспределения богатства от богатых к нуждающимся. Этого пытались добиться, используя ресурсы социального государства и вводя высокие налоги. Однако посредством таких подходов искоренить бедность не удалось, и помощь не всегда доходит до тех, кто в этой помощи нуждается. Во все возрастающем количестве стали возникать новые теории равенства, которые отходят от прежних «левых» и «правых» представлений о том, какой должна быть социальная политика государства. Понятие равенства переосмысливается с более динамических позиций, при которых на первый план выдвигается равенство возможностей, а также важность плюрализма и многообразия стилей жизни. Начинает изменяться и наше понимание того, что такое неравенство. Хотя экономическое неравенство сохраняется, в других отношениях наше общество становится более эгалитарным. Женщины сейчас гораздо более, чем в предшествующих поколениях, равноправны с мужчинами в экономической, социальной и культурной жизни; значительный прогресс в правовом и экономическом положении наблюдается у меньшинств. Однако на этом фоне наши общества сталкиваются с новыми рисками и опасностями. И они в равной мере угрожают и богатым, и бедным. Загрязнение, разрушение окружающей среды и неудержимый рост городских регионов — вот трудности, которые мы создали сами. Они представляют собой угрозу, за которую мы все несем ответ и которая, если мы хотим ее устранить, требует от каждого из нас изменения своего образа жизни. По мере того, как мы обращаемся к этим сложным проблемам, с неизбежностью подвергается пересмотру роль государства и служб социальной помощи. Благосостояние — это не просто материальное процветание, это также всестороннее благополучие населения. Социальная политика занимается развитием социальных связей, укреплением систем взаимозависимости и созданием максимально благоприятных условий для того, чтобы люди могли сами помогать себе. Права и обязанности приобретают новое значение — не только для тех, кто находится на самом дне и пытается отказаться от социальной помощи и найти работу, но и для тех, кто находится наверху и чье богатство отнюдь не дает им права уклоняться от выполнения своих гражданских, социальных и финансовых обязанностей.Краткое содержание
1. Существуют два разных подхода к пониманию бедности. Абсолютная бедность означает отсутствие основных средств, необходимых для поддержания здоровья и эффективного функционирования организма. Относительная бедность предполагает определение несоответствия между условиями жизни некоторых групп людей и теми условиями, в которых живет большинство населения. 2. Во многих странах официальные критерии бедности определяются по отношению к черте бедности — если люди живут ниже некоторого уровня, то говорят, что они живут в бедности. Субъективные критерии бедности основаны на том, как сами люди понимают то, что требуется для приемлемого стандарта жизни. 3. Бедность широко распространена в богатых странах. Великобритания занимает среди развитых стран одно из первых мест по бедности. Неравенство между богатыми и бедными резко возросло в результате политики, проводимой правительством, изменений в структуре занятости и безработицы. Бедные представляют собой неоднородную группу, но люди, находящиеся в неблагоприятном положении в других отношениях (например, престарелые, больные, дети, женщины и представители этнических меньшинств), чаще других оказываются в категории бедных. 4. Для объяснения бедности были созданы две основные теории. Согласно аргументам, выдвинутым в рамках концепции «культуры бедности» и «культуры иждивенчества» утверждается, что бедные сами виноваты в своем неблагоприятном положении. Бедные якобы не способны добиться успеха в обществе из-за недостаточной квалификации, по причине слабоумия или отсутствия мотивации. Некоторые из них, вместо того чтобы самим помогать себе, становятся зависимыми от помощи извне, например от предоставления социальной помощи. Согласно другой теории, бедность — это результат более крупных социальных процессов, которые способствуют неравному распределению ресурсов и создают условия, которым трудно противостоять. Бедность — продукт не индивидуальной неадекватности, но следствие не зависящих от человека структурных противоречий. 5. Бедность не есть постоянное состояние. Многим людям, живущим в бедности, удается ее преодолеть, хотя их выход из состояния бедности может быть кратковременным. Переходы в категорию бедности и из нее, по всей вероятности, являются более частыми и многообразными, чем это считалось раньше. 6. Низший класс — это часть населения, живущая в крайне неблагоприятных условиях на самой периферии общества. Первоначально понятие низшего класса было введено в Соединенных Штатах для обозначения положения бедных этнических меньшинств в городских районах. Хотя понятие низшего класса было использовано и применительно к Соединенному Королевству, как представляется, оно, по-видимому, более подходит для описания ситуации в Соединенных Штатах, где существует более резкий разрыв между людьми, крайне обездоленными, и остальной частью общества. 7. Социальное отчуждение означает процессы, посредством которых люди могут оказаться отрезанными от полного участия в более широкой жизни общества. Люди, находящиеся в социальном отчуждении от общества по причине неудовлетворительных жилищных условий, плохих школ или ограниченности средств передвижения, лишены шансов на улучшение своего положения, которыми обладает большинство людей в обществе. Одной из экстремальных форм социального отчуждения является бездомность. Бездомные, не имеющие постоянного места жительства, оказываются исключенными из многих повседневных видов деятельности, которые большинство людей принимает как само собой разумеющиеся. 8. Государство всеобщего благосостояния — это такое государство, в котором правительство играет центральную роль в уменьшении неравенства среди населения путем предоставления или субсидирования определенных товаров и услуг. Системы социальной помощи неодинаковы в разных странах, но чаще всего они включают сферу образования, охрану здоровья, жилищные условия, помощь людям с низкими доходами, пособия по инвалидности и безработице, а также пенсии. 9. В государствах всеобщего благосостояния, предоставляющих пособия всем на универсальной основе, социальная помощь является правом, которым в случае необходимости пользуются в равной мере все граждане безотносительно к уровню дохода или к экономическому положению. Напротив, пособия, предоставляемые при условии проверки на нуждаемость, доступны только для тех людей, которые соответствуют определенным требованиям, предъявляемым в соответствии с доходом и Сбережениями. В большинстве индустриальных стран идут споры о будущем системы предоставления социальной помощи. Один лагерь объединяет тех, кто считает, что социальная помощь должна быть хорошо финансируемой и универсальной, к другому лагерю относятся люди, полагающие, что социальная помощь, как страховочная сетка, предназначена для тех, кто действительно не может получить помощь другим путем. 10. Современное британское государство всеобщего благосостояния возникло в годы, последовавшие за Второй мировой войной. Оно было ориентировано на широкое понимание социальной помощи, право на которую имеют все члены общества. К 1970-м гг. государство всеобщего благосостояния подверглось критике как неэффективное, бюрократическое и слишком дорогое. Появилась обеспокоенность относительно возможной зависимости от социальной помощи — когда люди становятся зависимыми от тех самых программ, которые, по замыслу, должны помочь им вести независимую жизнь. 11. Правительство консерваторов попыталось урезать расходы на социальные нужды, переложив ответственность за социальную помощь с государства на частный сектор, добровольные организации и местные власти. Деинституционализация — это процесс, в ходе которого людей, находившихся на содержании государства (в медицинских учреждениях), выписывали из больниц и возвращали в семьи и общины. Правительство новых лейбористов продолжило реформы социальной помощи, введя, в частности, программы «от социальной помощи к работе», целью которых было побудить получателей социальной помощи искать оплачиваемую работу.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Почему Кэрол бедна? 2. Какой уровень дохода необходим вам, чтобы вы могли «полноценно и целенаправленно» принимать участие в жизни общества? 3. Почему масштабы бедности в Соединенном Королевстве после 1970 г. увеличились? 4. Является ли зависимость от социальной помощи объяснением того, что бедность по-прежнему сохраняется? 5. Каковы причины бездомности, и как лучше всего решать эту проблему? 6. Почему попытки сокращения социальной помощи в основном потерпели неудачу?Дополнительная литература
Bussemaker Jet (ed). Citizenship and Welfare State Reform in Europe. London: Routledge, 1999. Hughes Gordon and Fergusson Ross (eds.). Ordering Lives: Family, Work and Welfare. London: Routledge, 2000. Miller David. Principles of Social Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. Phillips Anne. Which Equalities Matter? Cambridge: Polity, 1999. Walker Robert (ed.). Ending Child Poverty: Popular Welfare for the Twenty-First Century? Bristol: Policy Press, 1999.Интернет-линки
Фонд Джозефа Раунтри www.jrf.org.uk Исследовательская группа по проблемам социального неравенства при Оксфордском университете http://marx.apsoc.ox.ac.uk/sdrgdocs/ Раздел: Социальное отчуждение www.cabinet-office.gov.uk/seu Программа развития ООН по определению необходимых средств к существованию http://www.undp.org/sl/ГЛАВА 12 СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Когда-то давным-давно все мы появлялись на свет в своих собственных домах. Женщины практически всегда рожали у себя дома, и люди придавали очень большое значение тому месту, где именно они родились, будь то деревня или некая другая местность, тот или иной дом или даже конкретная комната. Обычно роды проходили в основной (или общей) комнате в доме будущей матери. Как только у последней начинались схватки, местные женщины приходили к ней на помощь. Как правило, женщины рожали возле камина, особенно если за окном была холодная погода. Люди приносили и разбрасывали по полу солому примерно так же, как это делалось в коровнике во время отела. У рожениц не было никаких средств, кроме тех, что могла предложить ей местная община. В течение многих столетий идея о том, чтобы позвать на помощь кого-то, кто не входил в общину, была чужда деревенским женщинам. «Женская взаимопомощь» и «оказание взаимной поддержки» — вот словосочетания, которые постоянно возникают в записях священников и местной администрации, повествовавших о родах в XVIII и начале XIX вв. Важнейшим лицом была повитуха — женщина, имевшая опыт в родовспоможении. Сначала повитух называли «добрыми матушками»: это был кто-то, кто мог справиться с болями и проблемами более молодых женщин на важных этапах их беременности и во время самих родов. Документ, написанный во Франции в 1820-х гг., перечисляет качества, которыми следовало обладать повитухе. Она должна быть «сильной, стойкой, проворной, любезной, без телесных увечий, с длинными мягкими руками». Духовная сторона была не менее важна: этой женщине надлежало быть «добродетельной, неболтливой, благоразумной, хорошо себя вести и иметь правильные привычки» (Gelis 1991). Примерно до 1950-х гг. большинство людей в Великобритании также появлялось на свет у себя дома, и повитуха продолжала играть при этом важную роль. Однако сегодня чаще всего практикуются роды в больнице, и это изменение повлекло за собой целый ряд других немаловажных преобразований. Мало кто из нас еще чувствует связь с местом своего непосредственного рождения. Да и зачем? Теперь это место — большая, безликая больница. Просуществовав множество веков, независимые повитухи либо исчезли совершенно, либо играют второстепенную роль. Процесс родов как таковой наблюдают и контролируют профессионалы из больницы.Организации и современная жизнь
Современная больница является хорошим примером организации. Организация — это большая группа людей, собранная на не личной основе для достижения определенных целей; в случае больницы этими целями являются излечение болезней и предоставление других форм медицинской помощи. Сегодня организации играют гораздо более важную роль, чем когда-либо в прошлом. Помимо принятия нас в этот мир, они также присутствуют на каждом этапе нашей жизни и провожают нас в последний путь. Даже до нашего рождения наши матери, а возможно также и отцы, посещают различные занятия, проверки того, как протекает беременность, и т. п., которые происходят в больницах и других медицинских организациях. Каждый родившийся сегодня ребенок регистрируется правительственными организациями, которые собирают о нас информацию от рождения до смерти. Сегодня человек чаще умирает в больнице или хосписе, нежели дома, и когда момент смерти наступает, каждая кончина должна также формально быть зарегистрирована властями. Каждый раз, когда вы пользуетесь телефоном, открываете водопроводный кран, включаете телевизор или садитесь в машину, вы вступаете в контакт с организациями и до некоторой степени зависите от них. Как правило, речь идет о множестве организаций, которые постоянно сообщаются и с вами, и между собой. Например, компания по водоснабжению обеспечивает воспринимаемый нами как данность факт, что при открывании крана из него польется вода и что она также польется из кранов миллионов других людей. Однако водопроводная компания также зависит от других организаций, как например от тех, которые строят и обслуживают водные резервуары, последние, в свою очередь, зависят от других... и так практически до бесконечности. Эта цепочка может повторяться десятки раз, ибо то, что мы рассчитываем на регулярную поставку воды, — это лишь один пример зависимости человека от организаций. Необходимо помнить, что большую часть истории человечества, до того как уровень организационного развития стал столь высоким, как сегодня, люди не могли рассчитывать на некоторые жизненные аспекты, над которыми мы с вами сегодня едва ли задумываемся. Например, сто лет назад в Великобритании было мало домов с подведенным водопроводом, и большая часть используемой людьми воды была загрязненной, становясь причиной множества болезней и эпидемий. Даже сегодня, на больших территориях развивающихся стран нет водопровода; люди набирают воду ежедневно из источника или колодца, и в основном эта вода содержит множество бактерий, распространяющих различные болезни. В современных обществах питьевую воду внимательно проверяют на предмет заражения, и это связано с еще одним рядом организаций — здравоохранительными органами. Однако огромное влияние, оказываемое организациями на нашу жизнь, не может восприниматься, как исключительно положительное. Организации зачастую у нас что-то отбирают и ставят это что-то под контроль служащих или экспертов, на которых мы почти никак не можем повлиять. Например, все мы обязаны выполнять определенные правила, указанные правительством, — платить налоги, подчиняться законам, идти на войну, а в случае неповиновения — получить наказание. Будучи источниками общественной власти, организации способны подчинять индивидов приказам, которым те не в состоянии сопротивляться. В этой главе мы рассмотрим подъем современных организаций и последствия этого развития на нашу сегодняшнюю жизнь. Сначала мы проанализируем идеи двух авторов — Макса Вебера и Мишеля Фуко, — которые оказали особенно сильное влияние на воззрения социологов об организациях. Затем мы рассмотрим некоторые модели, по которым организации работают, будь то коммерческие корпорации или больницы, школы или правительственные офисы, колледжи или тюрьмы, и изучим различия, существующие между этими разнообразными типами. Мы уделим особенное внимание крупным коммерческим корпорациям, которые все больше и больше оперируют на мировом уровне. В заключительной части, мы рассмотрим, насколько сильно меняются коммерческие корпорации и другие организации в современных обществах.Теории организации
Макс Вебер разработал первую систематическую интерпретацию подъема современных организаций. Он утверждал, что организации — это способы постоянной координации человеческой деятельности, или производимых людьми товаров, во времени и пространстве. Вебер подчеркивал, что развитие организаций зависит от контроля над информацией, он также выделял письмо как ключевой по своему значению момент этого процесса: для функционирования организации необходимы письменные правила, а также папки, в которых хранится их «память». Вебер считал организации строго иерархичными, их власть обычно сконцентрирована наверху. В этой главе мы проверим, прав ли был Вебер. Если его подход был верным, то это во многом касается всех нас. Дело в том, что Вебер нашел не только связь, но и противоречие между современными организациями и демократией, которое, как он полагал, имеет далеко идущие последствия для общественной жизни.Взгляд Вебера на бюрократию
Согласно Веберу, все крупные организации по своей природе бюрократичны. Слово «бюрократия» было введено неким месье де Гурне в 1745 г., когда последний добавил к слову «бюро», означающему одновременно и офис, и письменный стол, слово, произошедшее от греческого глагола «править». Таким образом, бюрократия — это правление чиновников. Бюрократия как термин поначалу употреблялся только по отношению к правительственным чиновникам, но постепенно он расширился и стал относиться к крупным организациям в целом. С самого начала это понятие использовалось пренебрежительно. Де Гурне говорил о развитии власти чиновников как о «болезни под названием бюромания». Французский писатель Оноре де Бальзак считал бюрократию «огромной властью, находящейся в руках у пигмеев». Эта точка зрения сохранилась до наших дней: бюрократия часто ассоциируется с канцелярщиной, неэффективностью и ненужными тратами. Другие авторы, однако, смотрели на бюрократию иначе, а именно как на образец осторожности, точности и эффективного ведения дел. Они утверждали, что бюрократия на самом деле является наиболее эффективной формой организации, изобретенной человечеством, поскольку все задачи регулируются строгими правилами порядка осуществления действия. Оценка бюрократии Вебера находится примерно посередине между этими двумя крайностями. Вебер отмечал, что ограниченное число бюрократических организаций существовало и в традиционных цивилизациях. Например, бюрократическое чиновничество в императорском Китае отвечало за все правительственные дела. Полное развитие, однако, бюрократии получили только в современности. Вебер считал их центральной частью рационализации общества (см. подраздел «Макс Вебер» в разделе «Развитие социологического мышления» главы 1), касающейся всех аспектов жизни, от науки и образования до правительства. Люди современной эпохи, не полагаясь на традиционные верования и обычаи, принимают рациональные решения, ориентированные на четкую цель. Для достижения определенного результата выбирается лучший, наиболее эффективный путь. Согласно Веберу, распространение бюрократии в современных обществах неизбежно; бюрократическая власть — единственный способ справиться с административными требованиями крупных общественных систем. По мере того как задания усложнялись, чтобы суметь с ними справиться, необходимо было развить системы контроля и управления. Бюрократия возникла как рациональный и весьма эффективный ответ на эти нужды. Однако Вебер также полагал, что бюрократия обладает рядом значительных недостатков, которые, как мы с вами увидим, имеют важные последствия для характера современной общественной жизни. Чтобы понять происхождение и природу распространения бюрократических организаций, Вебер составил идеальный тип бюрократии. (В данном контексте «идеальный» относится не к чему-то наиболее желаемому, а к чистой форме бюрократической организации.) Вебер перечислил следующие характерные черты (Weber 1976): 1. Существует четкая иерархия власти. Бюрократия выглядит как пирамида, вверху которой находится наивысшая власть. Существует цепочка управления, идущая сверху вниз, которая позволяет принимать скоординированные решения. Задания в организации распределяются как «официальные обязанности», и каждое более высокое звено в цепи контролирует и надзирает над нижестоящим в этой иерархии. 2. Установленные правила определяют поведение чиновников на всех уровнях организации. Это не означает, что бюрократические обязанности — вопрос рутины. Чем выше пост, тем чаще правила охватывают самые разнообразные задачи и требуют гибкости в их интерпретации. 3. Чиновники заняты полный рабочий день и получают должностной оклад. Каждое рабочее место в иерархии подразумевает определенный и фиксированный оклад. Ожидается, что индивиды будут строить карьеру в своей организации. Продвижение по службе возможно на основе способностей, старшинства или одновременно и того и другого. 4. Существует разделение между обязанностями чиновника внутри организации и его жизнью за ее пределами. Частная жизнь чиновника отличается от его деятельности на рабочем месте, а также отделена от нее физически. 5. Ни одному из членов организации не принадлежат те материальные ресурсы, которые он использует в работе. Согласно Веберу, развитие бюрократии отделяет работников от контроля над средствами производства. В традиционных общинах, фермеры и ремесленники обычно контролировали свой производственный процесс и владели используемыми инструментами. В бюрократиях чиновникам не принадлежат кабинеты, в которых они работают, рабочие столы, за которыми они сидят, или используемое ими офисное оборудование. Вебер считал, что чем организация ближе приближается к идеальному типу бюрократии, тем она будет более эффективной в достижении поставленных целей. Он полагал, что бюрократия имеет «техническое превосходство» над другими формами организации. Вебер часто сравнивал бюрократии со сложными машинами; бюрократия максимизирует умение, точность и скорость при выполнении поставленных задач. По прошествии более восьмидесяти лет с его смерти работы Вебера о бюрократии остаются отправным пунктом для большинства анализов организаций. То, насколько надежды и опасения Вебера относительно бюрократии были верны, активно обсуждалось целыми поколениями социологов, занимавшихся организациями. Теперь давайте рассмотрим несколько отзывов на труды Вебера, в которых авторы останавливаются на определенных моментах его теории. Блау: формальные и неформальные отношения внутри бюрократий В анализе бюрократии Вебера отводилось важное место формальным отношениям внутри организации, т. е. тем отношениям между людьми, которые регламентированы в правилах организации (см. рис. 12.1). Вебер практически не говорил о неформальных связях и отношениях внутри небольших группировок, которые могут существовать внутри любых организаций. Однако неформальные пути ведения дел в бюрократиях часто обеспечивают гибкость, которой по-другому достичь нельзя. В классической работе Питера Блау рассматриваются неформальные отношения в правительственном учреждении, которое занималось расследованием возможных нарушений закона о подоходном налоге (Blau 1963). Работники, которые сталкивались с проблемами, в способах решения которых они не были уверены, должны были, по уставу, обсудить их со своим непосредственным начальником; правилами было установлено, что им не следует консультироваться с коллегами, находящимися на том же уровне, что и они сами. Большинство чиновников, однако, опасались обращаться к своим начальникам, ибо опасались выглядеть недостаточно компетентными, что может снизить их шансы на повышение. По этой причине они чаще всего консультировались друг с другом, нарушая официальные правила. Это не только помогало получить конкретный совет, но уменьшало ощущение тревоги, связанное с работой в одиночку. На первичном уровне социальной группы — между работниками одного уровня — развилось чувство сплоченности и верности. Блау делает вывод, что проблемы, с которыми сталкивались эти работники, вероятно, в результате решались с большей эффективностью. Группа смогла разработать неформальный порядок действия, который способствовал большей инициативности и ответственности, чем в случае следования формальному уставу этой организации. Неформальные сообщества обычно развиваются на всех уровнях организаций. В случае верхушки, личные контакты и связи могут быть важнее, чем формальные ситуации, в которых, казалось бы, должны приниматься решения. Например, собрания членов правления и акционеров, по идее, должны определять политику коммерческих корпораций. На практике же часто лишь несколько членов правления на самом деле руководят корпорацией, принимая решения в неформальной обстановке и рассчитывая на их одобрение со стороны остальных членов правления. Неформальные группы подобного рода могут также распространяться на несколько различных корпораций. Лидеры разных предприятий и компаний часто консультируются друг с другом неформальным образом и могут состоять в одних и тех же клубах и ассоциациях, посещаемых в свободное от работы время. Определить, насколько в целом неформальные процедуры помогают или мешают эффективности организаций, нелегко. Системы, которые напоминают идеальный, по Веберу, тип, обычно предоставляют возможности развития массы неофициальных способов действия. Частично это происходит потому, что нехватка гибкости может быть устранена с помощью внесения неофициальных поправок в формальные правила. Тем, кто работает на скучных работах, неформальный порядок действия может помочь в создании более приятной рабочей обстановки. Неформальные связи между чиновниками на более высоких постах могут помочь организации в целом. С другой стороны, эти чиновники могут быть заинтересованы в продвижении или защите собственных интересов, а не тех, что способствовали бы развитию всей организации. Рис. 12.1. Формальные отношения внутри организаций
Источник: Gregson S. and Livesey F. Organizations and Management Behaviour. Made Simple Books, 1993.
(Публикуется с разрешения Elsevier.)
Рис. 12.1. Формальные отношения внутри организаций
Источник: Gregson S. and Livesey F. Organizations and Management Behaviour. Made Simple Books, 1993.
(Публикуется с разрешения Elsevier.)
Мёртон: нарушения бюрократии Роберт Мёртон, американский ученый-функционалист, изучил идеальный тип бюрократии Вебера и пришел к выводу, что ряд неотъемлемых элементов бюрократии может привести к пагубным последствиям для нормального функционирования бюрократии как таковой (Merton 1957). Он назвал их дисфункциями бюрократии. Во-первых, Мёртон заметил, что бюрократов научили строго полагаться на установленные правила и процедуры. Не поощряется гибкость, нельзя полагаться на собственное мнение при принятии решений, искать творческое решение вопроса; бюрократия состоит в ведении дел согласно некому набору заданных критериев. Мёртон опасался, что эта жесткость может привести к бюрократической ритуальности, ситуации, в которой правил придерживаются любой ценой, даже в тех случаях, когда другое решение могло бы в целом быть лучше для той или иной организации. Второе опасение Мертона состояло в том, что строгое соблюдение бюрократических правил может в итоге стать важнее, чем сами подразумеваемые цели организации. Упирая столь сильно на правильность процедуры, можно утратить «общую картину» дела. Бюрократ, отвечающий за рассмотрение страховых требований, к примеру, может отказать держателю страхового полиса в компенсации законных убытков на основании отсутствия того или иного документа или неправильного заполнения такового. Иными словами, правильность формы рассмотрения иска может взять верх над нуждами потерпевшего убытки клиента. Мёртон предвидел возможность напряженных отношений между народом и бюрократией в подобных случаях. Это опасение не было беспочвенным. Большинство из нас регулярно сталкивается с крупными бюрократиями — от Государственной службы здравоохранения и различных советов до налоговой инспекции. Нередко мы попадаем в ситуации, в которых работников государственных служб и бюрократов, по всей видимости, не волнуют наши нужды. Одна из наиболее слабых сторон бюрократии — трудности, с которыми она сталкивается при рассмотрении дел, требующих особого подхода и внимания. Бернс и Стокер: механистические и органические системы Могут ли бюрократические системы успешно применяться для всех типов работ? Некоторыеученые предполагают, что бюрократия логична при выполнении рутинных заданий, но может создавать проблемы там, где рабочие требования непредсказуемо меняются. В своем исследовании на тему нововведений и изменений в компаниях, занимающихся электроникой, Том Бернс и Дж. М. Стокер пришли к выводу, что бюрократии не очень эффективны в тех отраслях индустрии, где прежде всего важны гибкость и знание самых последних новинок (Burns and Stalker 1966). Бернс и Стокер выделили два типа организаций: механистический и органический. Механистические организации — это бюрократические системы, в которых существует иерархическая система управления с сообщением по свободным вертикальным каналам. Работники отвечают за некое отдельное задание; как только это задание выполнено, обязанность переходит к следующему работнику. Работа внутри такой системы носит анонимный характер, при котором «люди сверху» редко общаются с «людьми внизу». В отличие от этого органические организации характеризуются более свободной структурой, в которой общие цели организации преобладают над четко сформулированными обязанностями. Идет процесс общения, «директивы» более расплывчаты, и направляются не только сверху вниз, но и по многим другим траекториям. Каждый, кто связан с организацией, рассматривается как лицо, обладающее нужным набором знаний и способное внести вклад в решение проблем; решения не являются эксклюзивной прерогативой верхушки. Согласно Бернсу и Стокеру, органические организации гораздо лучше приспособлены к выполнению меняющихся требований рынка инноваций, таких как телекоммуникации, компьютерное программное обеспечение или биотехнологии. Более гибкая внутренняя структура дает возможность быстрее и адекватнее реагировать на изменения рынка, а также принимать решения более творчески и с меньшей затратой времени. Механистические организации лучше приспособлены к более традиционным, стабильным формам производства, которые в меньшей степени подвержены перепадам рынка. Хотя работа Бернса и Стокера была опубликована более тридцати лет назад, она очень важна для современных дискуссий об изменениях в организациях (см. раздел «Будущее не за бюрократией?» этой главы). Эти авторы предсказали многие из проблем, которые занимают центральное место в современных дебатах на тему глобализации, гибкой специализации и дебюрократизации.
Теория организаций Мишеля Фуко: контроль над временем и пространством
Большинство современных организаций работает в специально созданных физических условиях. Здание, в котором находится некая организация, обладает набором определенных качеств, которые важны для той или иной ее деятельности, но оно также повторяет важные характеристики архитектуры зданий, построенных для других организаций. Архитектура больницы, например, в некоторых аспектах отличается от архитектуры коммерческой фирмы или школы. Отдельные корпуса, кабинеты врачей, операционные и офисы определяют общую планировку здания больницы, тогда как школа состоит из классных комнат, лабораторий и спортивного зала. Однако существует некие общие черты: и в том и в другом здании, скорее всего, будут иметься холлы и коридоры с дверями для выхода на улицу, а также стандартный декор и мебель на всей площади. Не считая разной одежды людей, движущихся по коридорам, здания, в которых, как правило, находятся современные организации, весьма похожи друг на друга. Мишель Фуко показал, что архитектура той или иной организации непосредственно связана с ее социальным обликом и системой власти (Foucault 1970, 1979). Его важные работы о современных тюрьмах (см. врезку «Тюрьмы как современные учреждения» в этом разделе главы) во многом касались физической планировки тюремных зданий. Эти работы продемонстрировали, что с помощью изучения физических характеристик организаций мы можем по-новому понять те проблемы, которые анализировал Вебер.────────────────────────────┐ ■ Тотальные институты Одно из наиболее влиятельных исследований об организациях было проведено американским социологом Ирвингом Гоффманом в конце 1950-х гг. и опубликовано в книге под названием «Психиатрические клиники» (Goffman 1968). Гоффман работал в интеракционистской традиции, изучая социальные феномены с позиции их участников с учетом тех значений, которые они приписывали окружающим предметам. В этой конкретной работе Гоффман хотел понять, как работают тотальные институты благодаря опыту тех индивидов, которые через них проходят. Тотальными институтами называются такие учреждения, как психиатрические больницы, тюрьмы, учебные лагеря воинов-новобранцев и монастыри, которые учреждают среди своих обитателей принудительно регулируемый способ существования в полной изоляции от окружающего мира. Гоффман особенно хотел понять те глубинные изменения, которые происходят в самоощущении человека, поставленного в подобные условия. Тотальные институты можно рассматривать как примеры тщательно разработанных бюрократий, руководствующихся сложным и жестким порядком, обязательным для их членов. Индивиды в тотальных институтах попадают в окружение строго организованного, полностью спланированного мира и находятся под тщательным надзором. Гоффман обнаружил, что у различных типов подобных институтов есть общие черты. Во всех случаях, новички лишаются своего прежнего «самоощущения» и своей личностной индивидуальности и «перестраиваются» согласно правилам учреждения. Личные вещи отбираются, и отличительные черты нейтрализуются: одежда заменяется на установленную униформу, делается стандартизованная стрижка, дается новое имя или идентификационный номер, а связи с внешним миром, включая взаимоотношения с друзьями и семьей, прекращаются. Обитателю подобного заведения всячески напоминают, что он или она уже не тот человек, что раньше, а некая новая личность — член данного учреждения. Существуют четкие границы, которые отделяют обитателей тотальных институтов от персонала. Ежедневный распорядок планируется, и за его выполнением следят работники, которые имеют право наказать или поощрить обитателей согласно степени проявленного послушания. Этому процессу обеспечения повиновения отчасти способствует то, что Гоффман назвал умерщвлением личности. Новички в тотальных институтах систематически подвергаются унижениям и оскорблениям перед старшими в иерархии и равными им до тех пор, пока их прежняя самооценка не будет сломлена. Умерщвление личности может осуществляться различными способами, включая медицинские осмотры и обыск полостей тела, раздачу лакейских заданий, взятие отпечатков пальцев, постоянное отсутствие возможности уединения и требования просить разрешение перед выполнением любой задачи. Гоффман выделил пять реакций со стороны обитателей заведений на их опыт жизни в тотальных институтах. Они были самыми разными: от полного ухода в себя или открытого сопротивления до приспособления и «игры соответствующей роли». Однако он заключил, что в целом большинство обитателей сопротивляются давлению оставить свое старое «я» с помощью показного равнодушия, — защищая себя психологически с помощью выполнения минимальных требований, желая хоть как-то продержаться и не попасть в беду. Вместо открытого сопротивления системе многие обитатели нашли прагматичные пути приспособления к ней.
Сопротивление тотальным институтам: критика Гоффмана
Как большинство принципиально новых работ, исследование о тотальных институтах Гоффмана вызвало и одобрение, и критику. Некоторые социологи утверждают, что Гоффман преувеличил ситуацию с «приспособлением» и что на самом деле внутри подобных институтов оказывается гораздо больше сопротивления, чем он утверждает. Стэнли Коэн и Лори Тейлор в своей работе об исправительной колонии в Дареме (1972) нашли больше свидетельств сопротивления руководству, нежели Гоффман (Cohen and Taylor 1972). Если Гоффман наиболее прямой формой сопротивления руководству считал упрямую непокорность, то Коэн и Тейлор засвидетельствовали формы сопротивления, которые шли дальше, чем просто охрана чувства собственного «я». Они утверждают, что многие формы сопротивления в тюрьмах основаны на коллективных возражениях против системы и нацелены на изменение того, как учреждение работает. В связи с этим голодовки, кампании по написанию писем, попытки побега и тюремные восстания могут считаться примерами активных реакций на опыт жизни в заключении. Менее публичная форма сопротивления, подмеченная Коэном и Тейлор, — это тенденция заключенных отвергать ярлыки, данные им тюремным руководством. Они отказывались воспринимать себя в качестве «преступников» или ухудшать мнение о самих себе в результате занимаемого ими места в системе криминального правосудия. ────────────────────────────┘Офисы, которые абстрактно рассматривал Вебер, также являются архитектурными сооружениями — иногда здания крупных фирм в самом деле физически сооружены как иерархия: чем выше положение того или иного человека в определенной иерархии власти, тем ближе к верхушке находится его кабинет; фраза «самый высокий этаж» иногда используется (в англ. — Прим. перев.) для обозначения тех лиц, в чьих руках находится наивысшая власть в организации. Во многих других аспектах, география организации будет влиять на ее функционирование, особенно в тех случаях, когда системы во многом полагаются на неформальные отношения. Физически близкое расположение облегчает формирование первичных групп, тогда как дистанция может поляризовать группы, в результате чего в различных отделах появляется разделение на «мы» и «они». Организации не могут функционировать эффективно, если работа служащих носит случайный характер. Как отмечал Вебер, предполагается, что в коммерческих фирмах люди будут работать некое стандартное количество часов. Дела должны быть постоянно скоординированы с точки зрения времени и пространства, чему способствует и физическая обстановка, и точное составление детальных расписаний. Расписания упорядочивают действия во времени и пространстве — по словам Фуко, они «эффективно распределяют физические лица» по организации. Расписания — обязательное условие организационной дисциплины, ибо они соединяют вместе действия большого количества людей. Например, если бы в университете строго не соблюдалось расписание лекций, это вскоре привело бы к полному хаосу. Расписание делает возможным интенсивное использование времени и пространства: каждое может быть заполнено большим количеством людей и множеством дел. Надзор в организациях Расположение комнат, коридоров и открытых пространств в занимаемых организациями зданиях может в целом подсказать, как работает ее система руководства. В некоторых организациях группы людей работают совместно в открытых пространствах. Из-за скучного, повторяющегося характера некоторого вида промышленных работ, как, например, при конвейерном производстве, для обеспечения поддержания определенного темпа труда, необходимо постоянное наблюдение. Это также зачастую относится к рутинной работе, выполняемой машинистками, сидящими в машинописном бюро, где за их работой могут следить начальники. Фуко всячески подчеркивал, что обозреваемость или ее отсутствие в архитектуре современных служебных зданий влияет на руководство организаций и отражает методы его работы. Обозреваемость определяет то, сколь легко подчиненные могут подвергаться тому, что Фуко называет надзором за делами внутри организации. В современных организациях все сотрудники, даже находящиеся на относительно высоком положении с точки зрения власти, могут быть объектом надзора, но чем ниже по служебной лестнице стоит человек, тем больше и пристальнее рассматривается его или ее поведение. Надзор может иметь две формы. Одна — это прямой надзор начальников над работой подчиненных. Рассмотрим в качестве примера классную комнату в школе. Ученики сидят за столами или партами, как правило, расставленными в ряд, все они видны учителю. Дети стремятся показать, что они «само внимание» или поглощены работой. Конечно же, то насколько это осуществляется на практике, зависит от способностей учителя и склонности детей вести себя в соответствии с ожиданиями. Второй тип надзора более тонок, но столь же важен. Он состоит в ведении папок, записей и досье, касающихся жизни людей. Вебер понимал большое значение письменных записей (сегодня часто компьютеризованных) в современных организациях, но не исследовал полностью то, как с их помощью можно регулировать поведение. Личные дела работников обычно содержат полную трудовую историю человека, с занесением личных деталей и часто с личностными характеристиками. Такие записи используются для отслеживания поведения работника, а также для доступа к рекомендациям на повышение в должности. Во многих деловых фирмах индивиды на каждом уровне организации готовят ежегодные отчеты о работе служащих, находящихся на уровне, непосредственно предшествующем их собственному. Аттестации учеников школ и студентов колледжей также используются с целью надзора за продвижением индивидов по служебной лестнице в организации. Распространение информационных технологий на рабочем месте вызвало ряд новых немаловажных беспокойств по поводу надзора. Использование работниками электронной почты и Интернета может отслеживаться работодателями с помощью компьютерных программ, которые просматривают личные электронные сообщения и отмечают, какие сайты и в течение сколь долгого времени тот или иной работник посещает в Интернете. Работодатели подчеркивают, что это не более чем вопрос продуктивности работников. Поскольку электронная почта и Интернет стали практически стандартными во всех областях деятельности работников, существует опасение, что чрезмерно большое количество рабочего времени может проводиться за личной перепиской, сетевым шопингом, компьютерными играми или посещением порнографических сайтов. Работники, с другой стороны, оспаривают, что надзор менеджмента за использованием Интернета подчиненными является вмешательством в их частную жизнь и нарушением их прав. Частная информация, которая не касается работодателя, например ВИЧ-инфицированность того или иного работника или его (ее) намерение принять предложение о работе в другой компании, может стать известна благодаря таким методам надзора.
────────────────────────────┐ ■ Тюрьмы как современные учреждения Мишель Фуко уделял много внимания таким организациям, как тюрьмы, где индивиды отделены от окружающего мира физически на протяжении длительных периодов времени. Он использовал термин карцерные организации по отношению к учреждениям, где люди находятся в заточении, т. е. спрятаны от окружающей социальной среды. Согласно Фуко, тюрьмы и тюремное заключение — одни из основных признаков «дисциплинарного общества». Он использовал это выражение для описания современных обществ, дисциплина в которых осуществляется с помощью наблюдения, контролирования и наказания народонаселения. Фуко полагал, что многие навыки, получившие развитие в тюрьмах, также применяются по отношению к другим областям жизни, таким, как школы, места работы и даже жилые районы.
Развитие современных тюрем
До начала XIX в. тюремное заключение в качестве наказания преступности использовалось редко. Местные тюрьмы имелись в большинстве городов любого размера, но, как правило, они были очень маленькими и не могли одновременно содержать более трех-четырех заключенных. Их использовали для «остужения» пьяных в течение одной ночи или иногда как места, где обвиняемые ожидали процесса. В более крупных европейских городах тюрьмы были большего размера; большинство находящихся в них людей являлись осужденными преступниками, ожидавшими казни. Эти учреждения очень отличались от тех тюрем, которые стали строить в массовом количестве в начале XIX в. Дисциплина в тюрьмах была нестрогой или отсутствовала вовсе, а правила посещения для родственников были намного менее жесткими, нежели сегодня. Заключенные не были изолированы друг от друга; тюремная атмосфера была на удивление свободной и непринужденной по сравнению с современными стандартами. Основными мерами наказания за преступления до XIX в. были помещение людей в колодки, порка, выжигание клейма и повешение. Как правило, они исполнялись публично, и их посещало множество людей. Публичные наказания были способом правителей символически продемонстрировать свою законную власть над населением. Они не были результатом систематического применения закона. Современные тюрьмы происходят не от своих аналогов прошлых времен, но от работных домов. Работные дома в большинстве европейских стран восходят к XVII в., и были введены в период падения феодализма; многие крестьяне не могли получить работу на земельном участке и становились бродягами. В работных домах им давали еду в обмен на тяжелый физический труд. Однако работные дома существовали не только для бедных. Они стали местом, куда другие группы — больные, старые или психически нездоровые люди — помещались, в случае если никто больше не был готов взять на себя заботу о них. В течение XVIII в. тюрьмы, приюты и больницы постепенно стали отличаться друг от друга. Реформаторы начали возражать против традиционных форм наказания, считая лишение свободы более эффективным способом борьбы с криминальной деятельностью. Поскольку тюрьмы должны были прививать преступникам здоровую привычку к дисциплине и послушанию, идея публичного наказания людей постепенно отпала.Бюрократизация тюрем
В индустриальную эпоху наказание стало гораздо более систематичным. Рост городов и появление промышленного рабочего класса бросили новые вызовы общественному порядку. Перемещения населения из деревенских местностей в городские означали, что те, кто приехал в большой город недавно, еще не были полностью интегрированы в городскую жизнь, но уже находились вне сферы управления деревенских общественных структур. Эти постоянные флуктуации населения и быстро меняющиеся социальные условия привели к некому беспорядку и нестабильности. Современная тюрьма была учреждением, которое появилось, чтобы справиться с теми индивидами, кто нарушал новый общественный порядок. Как многие учреждения современного общества, тюрьмы становились все более и более бюрократизированными; они были связаны со сложной административной системой государственных учреждений, в которую также входили системы гражданского и уголовного права. В течение XIX в. наблюдался рост строительства тюремных зданий. Согласно Фуко, дизайн современной тюрьмы восходит к Паноптикону — организации, спланированной философом и социологом Джереми Бентамом в XIX в. Название «Паноптикон» Бентам дал идеальной тюрьме, проект которой разработал. Ему так и не удалось продать свой проект британскому правительству полностью, но некоторые черты этого проекта были взяты на вооружение при создании тюрем в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании и Европе. Паноптикон воплощал в себе ряд отличительных структурных черт, которые позволяли тюремному руководству контролировать время, пространство и движения заключенных. Хотя общие помещения для физических упражнений и принятия пищи по-прежнему присутствовали, заключенные были изолированы в индивидуальных камерах с одним окном, которое было видно из центральной сторожевой башни. Камеры были расположены по кругу таким образом, чтобы охранники в сторожевой башне могли наблюдать за всеми камерами с одного места. Однако заключенные в камерах не могли знать, все ли время за ними ведется наблюдение, поскольку жалюзи на окнах башни делали охранников невидимыми. Паноптикон был создан с целью максимизировать контроль над поведением заключенных с помощью действительного или мнимого наблюдения. Узники были вынуждены контролировать свое поведение, поскольку за ними могли постоянно следить. ────────────────────────────┘Границы надзора Вебер и Фуко утверждали, что наиболее эффективный способ управления организацией состоит в максимизации надзора — наличии ясных и регулярных разделителей власти. Этот взгляд ошибочен, по крайней мере применительно к коммерческим фирмам, которые, в отличие от тотальных институтов, не полностью контролируют жизнь людей в закрытом пространстве. Тюрьмы и другие подобные учреждения, по сути дела, не являются хорошей моделью для организаций в целом. Прямой надзор может отлично работать там, где заранее понятно, что соответствующие люди, скорее всего, будут враждебно настроены по отношению к тем, кто обладает над ними некой властью, и где первые не желают находиться. Но в организациях, где менеджеры хотят, чтобы остальные сотрудничали с ними для достижения общих целей, ситуация является другой. Слишком большая степень прямого надзора отдаляет работников, которые чувствуют, что их лишают возможностей быть вовлеченными в работу (Grint 1991; Sable 1982). Это основная причина, по которой организации, основанные на принципах, сформулированных Вебером и Фуко, такие как крупные фабрики, связанные с конвейерным производством и жесткими иерархиями власти, в итоге сталкиваются с большими трудностями. Работники были не склонны посвящать себя работе в таких условиях; постоянный надзор был на самом деле необходим, чтобы они работали более или менее усердно, но это способствовало возникновению чувств негодования и антагонизма. Люди также склонны противиться высокой степени надзора второго типа, упомянутого Фуко, а именно сбору письменной информации о них. На самом деле, это было одной из основных причин, по которой распались коммунистические общества советского типа. В этих обществах за людьми регулярно шпионили тайная полиция или те, кому она платила деньги, — даже их собственные родственники и соседи. Государство также хранило подробную информацию о гражданах с целью подавления любой оппозиции своей власти. Результатом стала форма общества, которая была политически авторитарной и, ближе к концу своего существования, экономически неэффективной. Все общество, на самом деле, практически напоминало гигантскую тюрьму, со всеми недовольствами, конфликтами и способами оппозиции, которые возникают в тюрьмах, — систему, из которой в итоге население вырвалось на свободу.
Бюрократия и демократия
Фуко был прав относительно центральной роли надзора в современных обществах — проблемы, которая стала даже более актуальной сегодня из-за растущего влияния информационных и коммуникационных технологий. Мы живем, пользуясь выражением некоторых людей, в обществе надзора (Lyon 1994) — обществе, где информация о нашей жизни собирается всеми типами организаций, а не только работодателями. Как уже упоминалось ранее, правительственные организации хранят огромное количество информации, касающейся любого из нас, от свидетельств о рождении, школ и мест работы до данных о доходах в связи со сбором налогов, а также информации, используемой для выдачи водительских прав или назначения номеров государственного страхования. В связи с развитием компьютеров и других видов оборудования для электронной обработки данных надзор угрожает стать непременным атрибутом всех аспектов нашей жизни. Представьте, что вы узнали о стране с населением 26 млн чел., правительство которой использует 2 220 баз данных, содержащих в среднем 20 дел на каждого гражданина. Имена 10 % населения находятся в компьютерной системе центрального отделения полиции. Можно подумать, что это происходит в стране, страдающей от диктатуры. На самом же деле речь идет о Канаде (Lyon 1994).Представление о полиции, как о «людях, работающих с информацией», рассматривается в подразделе «Полиция в обществе рисков» (глава 8, раздел «Стратегия снижения преступности в обществе рисков»).
Уменьшение демократии в связи с прогрессом современных форм организации и контроля над информацией — вопрос, весьма волновавший Вебера. Его особенно беспокоила перспектива власти, находящейся в руках безликих бюрократов. Как же может выжить демократия перед лицом все увеличивающейся власти над нами бюрократических организаций? Ведь бюрократии, аргументировал Вебер, непременно специализированы и иерархичны. Те, кто находится в самом низу организации, неизбежно начинают заниматься лишь выполнением банальных заданий и не имеют власти в том, что они делают; власть переходит к верхушке. Вебера беспокоило то, что в результате бюрократия может оказаться отчужденной от остальных служащих. Лишенные возможности проявить инициативу или подойти к делу творчески, бюрократы могут просто ограничить свое участие до выполнения предназначенной им роли, защищая стабильность своего положения от каких-либо вмешательств извне. Вебер также предвидел политический конфликт между профессиональными бюрократами и политиками, избранными народом. Хотя бюрократы на самом деле являются государственными служащими, их стабильное положение и компетентность делают возможной и их собственную немалую политическую поддержку. Те самые политики, которые должны по долгу службы проверять бюрократическую власть в современных демократиях, одновременно зависят от бюрократов в вопросах информации и опыта. С точки зрения Вебера, было необходимо, чтобы бюрократия подвергалась строгому политическому контролю, что гарантировало бы ее открытость и понятность. Опасения Вебера не являются беспочвенными. В бывших коммунистических странах огромные бюрократии существовали для управления централизованной экономикой и системой социального обеспечения. Эти бюрократии развились в укоренившиеся самостоятельные блоки власти, которые вплоть до самого конца коммунистической эры политическим силам удавалось контролировать лишь с огромным трудом. Подобные феномены, однако, не ограничиваются одними лишь бывшими коммунистическими государствами. Даже на Западе существуют свидетельства случаев конфликта бюрократических и политических интересов на высоком уровне.
────────────────────────────┐ ■ Железный закон олигархии Ученик Вебера, Роберт Михельс, ввел выражение, которое с тех пор стало знаменитым для обозначения недобровольной передачи власти от низов верхушке: в крупных организациях и даже более, в обществе, в котором господствуют организации, существует железный закон олигархии. Олигархия означает власть небольшой группы людей. Согласно Михельсу, распространение власти по направлению вверх — по сути, неизбежная часть все более бюрократизирующегося мира, отсюда и термин «железный закон». Чтобы понять, почему Михельс считает тенденцию к олигархии неизбежной, должен быть ясен основной парадокс, рассматриваемый им в своих работах. Михельс утверждает, что организации необходимы для демократии, но что они одновременно являются и залогом прекращения в конце концов ее существования. По Михельсу, организации важны для демократии, ибо они являются единственным пригодным способом, с помощью которого большие группы людей могут участвовать в политическом процессе и заставлять других считаться с их мнением. Но после своего основания организации, с практической точки зрения, не могут управляться большим числом людей. Вот где и набирает обороты процесс «отдачи власти верхушке»: модели «представительной демократии» уступают место лидерам, работающим полный рабочий день, и бюрократиям, которые в свою очередь отдают власть элите, т. е. олигархии. Взяв бразды правления в свои руки, олигархическому лидерству выгоднее вкладывать деньги в поддержание своей власти, нежели действовать согласно целям и ценностям своих демократических сторонников. Михельс полагал, что та же самая динамика неизбежна и внутри индивидуальных организаций, и внутри демократических обществ в целом.
Подробнее о затронутых здесь вопросах см. в подразделе «Демократия» (глава 14, раздел «Типы политического правления»). ────────────────────────────┘
Гендер и организации
Еще около двадцати лет назад исследования, посвященные организациям, не уделяли особого внимания гендерному вопросу. Теория бюрократии Вебера и многие влиятельные ответы на труды последнего, появившиеся в последующие годы, были написаны лицами мужского пола и предполагали модель организаций, в центре которой находились мужчины. Развитие феминистских исследований в 1970-е гг., однако, привело к изучению гендерных отношений во всех основных институтах общества, включая организации и бюрократию. Социологи-феминисты не только заострили внимание на дисбалансе гендерных ролей внутри организаций, но исследовали пути, по которым сами современные организации с точки зрения гендера развились определенным образом. Феминисты утверждали, что появление современной организации и бюрократической карьеры зависело от определенной гендерной конфигурации. Они указывают на два основных пути, в которых гендер заложен в саму структуру современных организаций. Во-первых, для бюрократий характерна профессиональная гендерная сегрегация. По мере того как больше женщин приходило на рынок труда, они, как правило, оказывались сегрегированы в рамках категорий низкооплачиваемых профессий, связанных с рутинной работой. Эти категории находились в подчинении должностей, занимаемых мужчинами, и не давали женщинам возможностей продвинуться по служебной лестнице. Раньше женщин использовали в качестве источника дешевой, надежной рабочей силы, но не предоставляли им тех же возможностей построения карьеры, что и мужчинам. Во-вторых, сама идея бюрократической карьеры была на деле мужской карьерой, в которой женщинам отводилась важная вспомогательная роль. На рабочем месте женщины выполняли рутинные задания — были клерками, секретарями или офис-менеджерами, — что давало мужчинам шанс продвигать свою карьеру. Мужчины могли концентрироваться на получении повышения или добиваться крупных контрактов, поскольку штат женщин-помощниц занимался основной частью «хлопотливой работы». В домашней сфере женщины также поддерживали бюрократическую карьеру тем, что заботились о доме, детях и повседневном благосостоянии мужчин. Женщины «обслуживали» нужды мужчины-бюрократа, позволяя ему работать дольше положенного, путешествовать и концентрироваться только на работе, не заботясь о личных или домашних проблемах. В результате этих двух тенденций, как утверждали ранние феминисты, современные организации стали сферами мужского господства, где женщины не имели власти, где им отказывали в возможностях продолжить карьерный рост и где они были жертвами сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку (см. ниже врезку «Сексуальные домогательства»). Хотя большинство ранних феминистских исследований концентрировались на ряде общих проблем — неравной оплате труда, дискриминации и захвате власти мужчинами, — не существовало единого мнения о том, какой подход лучше всего выбрать для создания женского равенства. Две основные феминистские работы на тему женщин и организаций были примером раскола между либеральной и радикальной феминистскими перспективами (см. подраздел «Феминистские подходы» в разделе «Перспективы гендерного неравенства» главы 5).────────────────────────────┐ ■ Сексуальные домогательства Широкое распространение сексуальных домогательств на рабочем месте является примером гендерной природы организаций. Сексуальными домогательствами называются непрошенные или повторяющиеся сексуальные заигрывания, замечания или поведение, которое является оскорбительным для адресата и вызывает дискомфорт или нарушает работоспособность. Дисбаланс власти только способствует подобным домогательствам; хотя женщины тоже могут заниматься (и делают это) сексуальными домогательствами в отношении подчиненных, подобного рода агрессия более распространена со стороны мужчин (Reskin and Padavic 1994). В организациях, или просто на рабочем месте в целом, мужчины могут использовать свой профессиональный авторитет или власть для принуждения к выполнению сексуальных требований. Это может принимать вопиющие формы, как, например, в случае предложения работнику-женщине вступить в сексуальный контакт под угрозой увольнения. Большинство домогательств, однако, довольно тонки с точки зрения формы. К примеру, они могут состоять из намеков на то, что оказание сексуальных услуг может принести выгоду в других областях, а в случае если подобные услуги не будут оказаны, последует некая форма наказания, например отказ в повышении. Очевидно, что провести границу между домогательствами и тем, что можно счесть легитимным обращением мужчины с женщиной, нелегко. Однако на основе жалоб самих пострадавших подсчитали, что семь из десяти женщин в Соединенном Королевстве подвергаются сексуальным домогательствам на протяжении своей профессиональной карьеры. Сексуальные домогательства могут быть отдельным случаем или постоянной манерой поведения (Kelly L. 1988). В ином случае женщинам часто трудно поддерживать привычный для них уровень работы, они могут часто брать больничные листы или бросать это место работы вовсе. Сексуальные домогательства сегодня запрещены законом в ряде западных стран, но считается, что о многих случаях подобной агрессии умалчивается. Несмотря на то что на сексуальные домогательства как на проблему стали обращать больше внимания, многие женщины, пострадавшие от этого и травмированные подобным опытом, могут не характеризовать свой случай как пример сексуального домогательства. Многие женщины предпочли не обращаться с жалобами, опасаясь, что им не поверят, что их обвинения не будут приняты всерьез или что они станут объектом репрессий (Giuffre and Williams 1994). ────────────────────────────┘
Работа Розабет Мосс Кэнтер «Мужчины и женщины в корпорации» (Kanter 1977) была одним из самых ранних исследований на тему женщин в условиях бюрократий. Кэнтер исследовала положение женщин в корпорациях и проанализировала способы, с помощью которых их не допускали в руководящие структуры. Она обратила внимание на «мужскую солидарность» — способ, с помощью которого мужчины удерживали власть внутри закрытого круга, давая доступ только тем, кто тоже был «своим». Женщины и этнические меньшинства эффективно лишались возможностей продвижения по службе и исключались из тех социальных сообществ и личных взаимоотношений, которые были важны для повышений в должности. Хотя Кэнтер критиковала подобные гендерные неравенства внутри современных корпораций, она не была полностью пессимистично настроена по поводу будущего. В ее глазах, проблема была вопросом власти, а не гендера. Женщины были в невыгодном положении не потому, что они были женщинами как таковыми, но потому, что у них не было достаточно власти внутри организаций. Согласно Кэнтер, по мере того как большее число женщин будет занимать руководящие должности, дисбаланс исчезнет. Анализ Кэнтер можно охарактеризовать как либеральный подход к феминизму, поскольку ее в основном волновало равенство возможностей и обеспечение того, чтобы женщинам было позволено занимать должности, сравнимые с мужскими. Представленный в работе Кэти Фергусон «Дело феминисток против бюрократии» (Ferguson 1984) радикальный феминистский подход очень отличается от позиции Кэнтер. Фергусон не считала, что с помощью продвижения женщин на более влиятельные должности можно будет решить проблему гендерного дисбаланса в организациях. С точки зрения Фергусон, современные организации были основательно испорчены мужскими ценностями и моделями господства. Она утверждала, что женщинам всегда придется играть вспомогательные роли в подобных структурах. Единственным решением для женщин было бы создание своих собственных организаций, основанных на принципах, совершенно отличающихся от мужских. Фергусон утверждала, что женщины способны к более демократичной, кооперативной и рассчитанной на соучастие организации, нежели мужчины, склонные к авторитарной тактике, негибким способам действия и нечувствительному стилю управления.
Женщины в менеджменте
По мере того как все больше женщин в последние десятилетия стали строить профессиональную карьеру, спор на тему гендера и организации получил новое развитие. Многие ученые теперь считают возможным дать свою оценку влиянию женщин-лидеров и менеджеров на организации, в которых они работают. Была ли Кэнтер права, когда предсказывала, что гендерный дисбаланс уменьшится по мере того как больше женщин будут занимать руководящие должности? Один из наиболее спорных вопросов сегодня — действительно ли женщины-менеджеры «меняют ситуацию» в своих организациях, вводя «женский» стиль управления в сферу, где длительное время господствовали мужская культура, ценности и поведение. Как мы увидим далее в этой главе, от организаций всех типов требуется стать более гибкими, эффективными и конкурентоспособными. Этот вызов касается всех уровней организаций, от производственного процесса и отношений внутри цеха до использования технологии и способов управления. В последние годы многие лидерские качества, обычно ассоциирующиеся с женщинами, назывались важными признаками того, что организации пытаются стать более гибкими в своей манере работы. Вместо того чтобы полагаться на жесткий стиль управления по принципу «верх—низ», поощряется принятие организациями политики, обеспечивающей заинтересованность работников, коллективный энтузиазм по отношению к целям организации, всеобщую ответственность, а также внимание к людям как отправную точку для всего. Коммуникация, консенсус и коллективная работа приводятся теоретиками менеджмента как ключевые моменты, которые будут определять успех организаций в новую глобальную эпоху. Эти так называемые «мягкие» навыки управления традиционно ассоциируются с женщинами. Некоторые авторы утверждают, что этот сдвиг в сторону более «женского» стиля управления уже ощутим. Женщины достигают небывалого, по их словам, уровня влияния в высших эшелонах власти и делают это по собственным «правилам», а не перенимая типично мужские способы менеджмента (Rosener 1997). По мере того как успех женского лидерства становится все более ощутимым в мире организаций, некоторые предсказывают, что появится новая парадигма управления, в которой мужчины также переймут многие из методов, традиционно предпочитаемых женщинами, таких как передача полномочий, общее использование информации и ресурсов, а также коллективная постановка целей. Другие не придерживаются мнения, что женщины успешно применяют особую, «женскую» манеру управления. В работе «Управляя по-мужски» Джуди Вайчман не согласна с этим мнением по целому ряду причин. Во-первых, она утверждает, что число женщин, которые действительно добиваются высшего положения, очень ограничено. Да, говорит она, женщины, в самом деле, довольно успешно продвигаются по рангам менеджмента среднего звена, но, несмотря на все большее число этих женщин, их в основном до сих пор не допускают до высших уровней власти. Более 90 % начальников в Соединенном Королевстве — мужчины. Мужчины продолжают получать более высокую заработную плату за аналогичную работу и задействованы в более широком спектре занятий, нежели женщины, которые в основной своей массе занимают должности в таких областях, как маркетинг и работа с персоналом (Wajcman 1998). Когда женщины все же достигают высших должностей в менеджменте, они, как правило, «управляют по-мужски». Вайчман утверждает, что хотя и были сделаны большие шаги в сторону равного уровня занятости, законов о сексуальных домогательствах и общего осознания гендерных проблем, организационная культура и стиль управления остаются на удивление мужскими. В своем исследовании о 324 старших менеджерах многонациональных корпораций она обнаружила, что на методы управления в большей степени влияет общая организационная структура, а не пол или индивидуальный стиль отдельных менеджеров. Чтобы получить доступ к власти и поддерживать свое влияние, женщины обязаны перенять превалирующий стиль управления, который подчеркивает важность агрессивного лидерства, жесткой тактики и принятия решений по принципу «верх—низ». Вайчман настаивает, что организации являются полностью гендерными — и явным образом, и скрытым. В повседневной организационной структуре, включая то, как люди разговаривают друг с другом, превалируют быстрые взаимодействия сопернического характера. Несмотря на сокращение числа случаев явных сексуальных домогательств, которые более не допустимы в организациях, менее явные проявления сексуально окрашенного отношения на рабочем месте по-прежнему распространены и, как правило, лишь вредят женщинам. Социальные группировки и неформальные отношения являются важнейшими элементами в деле повышения в должности и продвижения, но они по-прежнему ведутся в манере «группы „своих ребят“». Многие женщины находят эту среду неприятной и отчуждающей, как объяснила Вайчман одна из респонденток:Нужно быть одним из своих ребят... Я не против похода в паб с ребятами... Шутки меня не оскорбляют... А наверх продвигаешься вот как... начинаешь видеть трещины, или что что-то не так, и используешь это... Мне лично не нравится эта игра. Она не стоит свеч (Wajcman 1998, 128).Существует также основание предполагать, что женщинам трудно пробиться через традицию наставничества. Модель наставничества традиционно была следующей: старший мужчина «берет к себе» молодого протеже, в котором он узнает некие черты, напоминающие его самого в молодости. Ментор будет вести кулуарную работу по продвижению интересов молодого человека и по облегчению последующих шагов в его карьере. Эту динамику труднее воспроизвести при пожилом начальнике-мужчине и молодом работнике-женщине, а на руководящих постах женщин недостаточно, для того чтобы быть наставницами для более молодых. Среди респондентов Вайчман женщины чаще мужчин могли назвать отсутствие наставления в карьере как одно из серьезных препятствий своемупродвижению. Вайчман скептически настроена по отношению к утверждениям, что наступил новый век гибких, децентрализованных организаций. Результаты ее исследований свидетельствуют о том, что традиционные формы авторитарного управления по-прежнему сильны. С ее точки зрения, отдельные внешние атрибуты организаций могли измениться, но гендерная природа организаций, а также основная власть мужчин внутри них не оспаривались.
Будущее не за бюрократией?
В течение довольно долгого периода в развитии западных обществ модель Вебера, а также во многом близкая ей модель Фуко, были справедливыми. Бюрократия по всем признакам господствовала в правительстве, больничной администрации, университетах и бизнесе. Несмотря на то что неформальные социальные группировки, как продемонстрировал Питер Блау, всегда развиваются в бюрократической обстановке и являются на самом деле эффективными, казалось, что в будущем нас может ожидать только то, чего ожидал Вебер: постоянно увеличивающаяся бюрократизация. Бюрократии по-прежнему существуют на Западе в больших количествах, но идея Вебера о четкой иерархии власти, с концентрацией сил и знаний у верхушки как единственный способ руководства крупной организацией начинает казаться архаичной. Многочисленные организации перестраиваются, желая стать не более, а менее иерархичными. Более трех десятилетий назад Бернс и Стокер пришли к выводу, что традиционные бюрократические структуры могут подавлять новшества и творческий подход в суперсовременных индустриях (Burns and Stalker 1966); сегодня, в эпоху электронной экономики, мало кто поспорит с этим утверждением. Отходя в сторону от жесткой вертикали управления, многие организации обращаются к «горизонтальным» моделям совместной работы, задав себе цель стать более гибкими и быстрее реагировать на флуктуации рынка. В этом разделе мы проанализируем некоторые основные силы, стоящие за этими изменениями, включая глобализацию и рост информационных технологий, и рассмотрим несколько путей, по которым современные организации переосмысляют себя в свете меняющихся обстоятельств.Организационные изменения: японская модель
Многие из изменений, которые теперь можно засвидетельствовать в организациях по всему миру, впервые появились в японских компаниях несколько десятилетий назад. Хотя японская экономика в последние годы находилась в кризисе, в 1980-е гг. она переживала необыкновенный расцвет. Этот экономический успех часто приписывался определенным чертам, присущим крупным японским корпорациям, которые в значительной степени отличались от большинства западных деловых фирм. Как мы с вами увидим, многие уникальные характеристики японских корпораций были переняты и модифицированы в других странах в последние несколько лет. Для японских компаний не характерны признаки, ассоциирующиеся с бюрократией по Веберу. Они отличаются в нескольких аспектах: • Принятие решений по схеме «низ—верх». Большие японские корпорации не строят пирамиду власти, где каждый уровень несет ответственность только перед вышестоящим, как это было описано у Вебера. Напротив, с работниками низших уровней организации консультируются по различным вопросам менеджмента, и даже руководители высших рангов устраивают с ними регулярные встречи. • Меньше специализации. В японских организациях сотрудники обладают намного меньшей степенью специализации, нежели их коллеги на Западе. Молодые работники, пришедшие в ту или иную фирму на должность менеджера-стажера, проведут первый год, обучаясь тому, как работают различные отделы этой фирмы в целом. Затем они сменят ряд должностей, как в местных отделениях компании, так и в ее центральном офисе, чтобы набраться опыта в разнообразных аспектах деятельности компании. К тому моменту, когда работники достигнут пика своей карьеры, спустя примерно тридцать лет после того, как они начинали в качестве стажеров, они освоят все важные стороны дела. • Гарантия занятости. В крупных японских корпорациях принята пожизненная занятость; нанятому корпорацией сотруднику гарантирована работа пожизненно. Заработная плата и ответственность скорее зависят от старшинства, от того, сколько лет тот или иной служащий проработал в фирме, нежели от конкурентной борьбы за продвижение по службе. • Производство, ориентированное на коллектив. На всех уровнях корпорации, люди входят в небольшие кооперативные «команды» или рабочие группы. Эти группы, а не отдельные члены корпорации, оцениваются с точки зрения их производительности. В отличие от западных компаний, так называемые «схемы организации» японских компаний, т. е. карты системы власти, показывают только группы, а не индивидуальные должности. • Объединение работы и личной жизни. В веберовской картине бюрократии существует четкое разделение между работой человека внутри организации и его деятельностью за ее пределами. Это на самом деле так для большинства западных корпораций, где отношения между фирмой и служащим носят экономический характер. Японские корпорации, напротив, заботятся о множестве нужд своих работников, ожидая в обмен высокую степень преданности фирме. Работники получают от компании материальные блага дополнительно к зарплате. Например, компания по производству электроники «Хитачи», деятельность которой изучил Рональд Дор, обеспечивала жильем всех своих холостых работников и почти половину женатых работников-мужчин. Денежные займы предоставлялись для обучения детей и покрытия расходов, связанных со свадьбами и похоронами (Dore 1973). Анализ работы японских заводов, находящихся территориально в Великобритании и США, показывает, что принятие решений по принципу «низ—верх» действительно работает и за пределами Японии. Судя по данным, работники позитивно реагируют на большую степень вовлеченности, которые дают эти заводы (Write, Trevor 1983). В связи с этим кажется вполне логичным заключить, что японская модель несет в себе ряд ценных уроков для концепции бюрократии по Веберу. Организации, которые во многом напоминают веберовский идеальный тип, по всей видимости, вовсе не столь эффективны, как может показаться, поскольку они не дают работникам более низких уровней шанса развить чувства вовлеченности и автономности по отношению к своим производственным задачам. Основываясь на примере японских корпораций, Оучи утверждал, что существуют четкие пределы эффективности бюрократических иерархий, на которые уделял столь много внимания Вебер (Ouchi 1979, 1981). Чересчур бюрократизированные организации ведут к «внутренним нарушениям» функционирования по причине своего жесткого, негибкого и беспристрастного характера. Формы власти, которые Оучи называет кланами — группы, имеющие тесные личные отношения между собой, — более эффективны, нежели бюрократические типы организации. Рабочие группы в японских фирмах являются одним из примеров, но другие системы кланового типа также часто неформально развиваются в западных организациях.Трансформация менеджмента
Большинство компонентов вышеописанной «японской модели» сводятся к вопросам управления. Хотя игнорировать отдельные правила производственного процесса невозможно, японский подход в основном сфокусирован на отношениях между работниками и менеджментом, и все сделано так, чтобы служащие любого уровня чувствовали личную привязанность к компании. Акцент на работу в составе группы, приемах, помогающих прийти к консенсусу, и широкое участие работников разительно отличались от традиционных западных форм управления, являвшихся более иерархичными и авторитарными. В 1980-е гг. многие западные организации, желая поднять продуктивность и конкурентоспособность, начали вводить новые приемы управления. Две популярные ветви теории менеджмента — менеджмент персонала и менеджмент корпоративной культуры — указали на то, что японская модель не осталась незамеченной на Западе. Менеджмент персонала (МП) — стиль управления, при котором рабочая сила компании считается наиболее важной для экономической конкурентоспособности: если работник не полностью посвящает себя фирме и ее продукции, то эта фирма никогда не станет лидером в своей области. Чтобы добиться энтузиазма и заинтересованности, вся организационная культура должна быть перестроена таким образом, чтобы работники чувствовали, что они вносят свой вклад в компанию, где они работают, и в процесс работы. Согласно МП, проблемы персонала не должны касаться только лишь специальных «кадровиков», но должны быть приоритетом для всех членов менеджмента компании. Вторая тенденция в менеджменте — создание особой корпоративной культуры — тесно связана с менеджментом персонала. Чтобы поддержать чувства преданности компании и гордости за ее деятельность, менеджмент работает вместе со служащими для создания культурных ритуалов, событий и традиций, имеющих отношение только к этой конкретной организации. Эти культурные мероприятия создаются с целью объединить всех членов фирмы вместе — от самых старших менеджеров до работника-новичка, — чтобы у них появился общий стимул и укрепилась групповая солидарность. Пикники, организованные компанией, «неформальные пятницы» (дни, по которым работники могут носить неделовую одежду) и спонсированные компанией проекты общественной помощи являются примерами методов создания корпоративной культуры. В последние годы ряд западных компаний был основан на вышеописанных принципах менеджмента. Вместо организации по традиционной бюрократической модели такие компании, как автокомпания «Сатурн» в Соединенных Штатах, были построены по этим новым принципам менеджмента. К примеру, в компании «Сатурн» работники всех уровней имеют возможность временно поработать в другой должности в иной области деятельности компании, для того чтобы лучше понимать работу фирмы в целом. Работники цеха работают с командой, занимающейся маркетингом, делясь мнениями о том, каким образом должны создаваться автомобили. Продавцы чередуются друг с другом, работая в отделе сервиса, чтобы лучше знать о типичных проблемах технического обслуживания, которые могут беспокоить будущих покупателей. Представители и из торгового отдела, и из цеха участвуют в командах по дизайну продукции, чтобы обсуждать недостатки более ранних моделей, которые могли быть не замечены менеджментом. Корпоративная культура, ориентированная на дружелюбную и разбирающуюся службу работы с покупателями, объединяет работников и повышает ощущение гордости за компанию.Технология и современные организации
Современные организации связаны с перераспределением пространства и времени. Сегодня информационные технологии и электронные коммуникации делают возможными преодоление пространства и контроль над временем способами, каких не знали даже в недалеком прошлом. То, что сложную информацию, хранящуюся в компьютерах, можно мгновенно передавать по миру, меняет многие аспекты нашей жизни. Процессы глобализации, которые и происходят от этих технологий, и одновременно являются их движущей силой, меняют также саму форму множества организаций. Это особенно касается коммерческих корпораций, которые должны соревноваться друг с другом на мировом рынке. Более, чем когда бы то ни было, быстрое усвоение технологий является непременным условием успеха. Это можно четко увидеть на примере «е-коммерции», которая до конца 1990-х гг. была практически неизвестна. Мало кто незнаком с ней сегодня — ожидается, что оборот е-коммерции к 2002 г. превысит 1 трлн долл. США. Можно с легкостью забыть, что Интернет — Всемирная паутина и электронная почта — это тоже относительно юные технологические новшества. За короткий период времени эти технологические изобретения стали очень важны для многих аспектов нашей повседневной жизни. Сейчас организации сталкиваются с новыми задачами и возможностями, для которых старый порядок действий покажется устаревшим или неуместным. Целый спектр базовых заданий, таких как общение с деловыми партнерами, заказ вспомогательных материалов или маркетинговой продукции, меняется благодаря потенциалу новых технологий. Гроссбухи, бумажные счета, печатные рекламные материалы и командировки уступают место выписыванию и оплате счетов в режиме онлайн, детально разработанным веб-страницам с информацией о продукции и проведению телеконференций в реальном времени, независимо от континента и часовых поясов. Но организациям нужно же где-то находиться, не так ли? По крайней мере, именно так полагал Фуко. В определенном смысле его точка зрения по-прежнему верна. Деловой район любого большого города с его внушительным рядом зданий, устремившихся к небу, является достаточным тому свидетельством. Все эти здания, в которых сидят начальники и работники крупных корпораций, банков или финансовых организаций, обычно находятся на одном небольшом участке. Однако в то же время большие организации сегодня находятся «нигде». В них столько же отдельных людей и групп, разбросанных по всему миру, сколько существует групп сотрудников, работающих в одном и том же физическом пространстве зданий тех или иных учреждений. Это происходит отчасти из-за легкости, с которой люди сегодня могут общаться друг с другом по всему миру напрямую. Это также следствие все увеличивающейся важности информации по сравнению с физическими предметами в формировании нашего социального существования. Физические места и предметы не могут быть в одном и то же месте, но физические места и информация в виде ряда электронных сигналов, могут. По этой причине сами организации не в такой степени обязаны «быть» где-то, как раньше. Где, к примеру, находится фондовая биржа? Расположена ли она в Лондоне, где трейдеры суетятся и бегают по этажу, обмениваясь листками бумагами? Сегодня — нет. Фондовая биржа, как это было ранее, не является физическим местом, где покупаются различные бумаги и акции. Можно сказать, что она и повсюду, и нигде. Фондовая биржа состоит из множества дилеров, большинство которых работают за мониторами компьютеров в различных офисах и в различной обстановке, поддерживая через весь мир постоянный контакт со своими коллегами в Нью-Йорке, Париже, Токио и Франкфурте. Э-коммерция и сетевое финансирование дают нам еще один пример того, как организации могут находиться одновременно повсюду и нигде. Хотя большинство сетевых компаний имеют физическую базу, откуда ими управляют или где складируется их товар, растущее число интернет-предприятий, таких как банковские услуги онлайн и интернет-брокеры, работающих по модели «бизнес для бизнеса», ведут свои дела исключительно в киберпространстве. Хотя они официально где-то и зарегистрированы в целях оплаты налогов и регулирования их деятельности, практически все их общение с покупателями и поставщиками происходит в режиме онлайн. Для клиентов, пользующихся услугами их фирмы, не имеет значения, где физически находится компания, так как она доступна из любой точки мира, стоит лишь подключиться к Интернету. Государства по-прежнему пытаются контролировать потоки информации, ресурсов и денег, проходящие через их границы. Однако современные коммуникационные технологии делают это если и не невыполнимой, то все более и более трудной задачей. Знания и финансы можно со скоростью света передавать по миру в виде электронных сигналов.Увеличивающаяся власть многонациональных компаний рассматривается в «Транснациональные корпорации» (глава 3, раздел «Аспекты глобализации», подраздел «Факторы способствующие росту глобализации»).
Организации как сети
Обычно определить границы организаций было достаточно просто. Организации, как правило, располагались в определенных физических пространствах, таких как административные здания, анфилады комнат или, в случае больницы или университета, целые кампусы. Цель или задачи, которые планировала выполнить организация, были также четкими. Важнейшей чертой бюрократий, к примеру, было придерживаться определенного набора обязанностей и способов их выполнения. Вебер понимал бюрократию как самостоятельную единицу, которая пересекалась с ограниченным числом внешних элементов и лишь в определенных пунктах. Мы уже видели, как физические границы организаций стираются с помощью способности новой информационной технологии преодолевать страны и часовые пояса. Но этот же процесс также влияет на работу, которую выполняют организации, и на то, как она координируется. Многие организации больше не работают в качестве самостоятельных единиц, как они поступали раньше. Растет число тех, кто считает, что их бизнес идет более эффективно, когда они входят в определенную сеть, которая тесно связывает их с другими организациями и компаниями. Уже нет четкого разделения между организацией и внешними группами. Глобализация, информационная технология и тенденции в структуре занятости делают организационные границы более открытыми и подвижными, чем они были раньше. В работе «Подъем общества-сети» Мануэль Кастеллс утверждает, что «предприятие-сеть» — наиболее подходящая организационная форма для глобальной информационной экономики (Castells 1996). Под этим он имеет в виду, что организациям, будь то крупные корпорации или небольшие предприятия, практически невозможно выжить, если они не становятся частью некой сети. Происходит процесс объединения в сети из-за роста информационных технологий: организации всего мира могут найти друг друга, охотно вступают в контакт и координируют совместные дела с помощью того или иного электронного устройства. Кастеллс приводит несколько примеров образования организационных сетей и подчеркивает, что они появились в отличных друг от друга культурных и институционных контекстах. Однако, согласно Кастеллсу, все они «представляют различные измерения единого фундаментального процесса» — разрушения традиционной, рациональной бюрократии. Хотя существует множество примеров организаций-сетей, рассмотрим два характерных примера. Первый связан с популярным магазином одежды «Бенеттон», который имеет 5 000 пунктов розничной торговли в городах по всему миру. На первый взгляд, трудно предположить, что «Бенеттон» чем-то отличается от других модных марок, товары которых продаются на мировом рынке. Однако на деле «Бенеттон» является примером особого типа организации-сети, который стал возможен благодаря прогрессу информационных технологий. Торговые точки «Бенеттон» по всему миру — это лицензированные франшизы, управляемые людьми, которые не были напрямую наняты «Бенеттон», но являются частью более крупного комплекса, занимающегося производством и продажей продукции этой марки. Вся работа основана на принципе сети: центральная фирма «Бенеттон» в Италии по субдоговору делает заказ на продукцию различным производителям согласно спросу своих франшиз по всему миру. Компьютеры соединяют различные части этой сети так, что, к примеру, магазин в Москве может осуществлять обратную связь и посылать определенную информацию о требуемых партиях товара в центральный офис в Италии. Когда другие международные продавцы модной одежды предлагают идентичный набор товаров во всех своих магазинах по миру, структура «Бенеттон» позволяет делать индивидуальные заказы для отдельных франшиз. Не вступая в традиционный контракт с поставщиками, «Бенеттон» может подстраиваться под рынок и полагаться на свою свободную сеть партнеров-сотрудников для оказания требуемых услуг (Clegg 1990). Вторым примером организаций-сетей являются мощные стратегические альянсы, образуемые наиболее успешными компаниями. Все чаще крупная корпорация — это не большой бизнес, а «паутина предприятий» — некая центральная организация, которая связывает вместе маленькие фирмы. К примеру, IBM раньше была вполне автономной корпорацией, избегавшей партнерства с другими. Однако в 1980-е и в начале 1990-х гг. IBM объединилась с десятками других компаний, базирующихся в США, и с более чем восемьюдесятью иностранными фирмами с целью совместного стратегического планирования, а также желая совместно справляться с проблемами производства. Недавние выдающиеся слияния между медиа- и телекоммуникационными компаниями показали, что даже крупные и прибыльные корпорации чувствуют потребность находиться в авангарде быстро меняющегося рынка. Намерениями AOL, популярного провайдера интернет-услуг, и «Тайм Уорнер», теле- и печатного медиагиганта, в проекте их слияния были образование крупнейшей в мире корпорации и соединение Интернета и традиционной медиапродукции. Во времена, когда технологические нововведения необходимы для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, даже лидирующим фирмам трудно оставаться на вершине без привлечения навыков и ресурсов других. «Децентрализация» является еще одним процессом, который также содействует в функционировании именно сетям. Когда изменения становятся более глубокими и происходят быстрее, высокоцентрализованные бюрократии в веберовском стиле становятся слишком громоздкими и чересчур закоснелыми в своих методах, чтобы справляться с обстановкой. Стэнли Дэвис утверждает, что фирмы, как и другие организации, все чаще образуют сети, проходя через процесс децентрализации, при котором власть и ответственность передается в организации сверху вниз, а не остается лишь на самых высоких уровнях (Davis 1988).Спор на тему дебюрократизации
Один из основных споров в социологии организаций — дебаты о том, являемся ли мы свидетелями постепенного упадка бюрократий веберовского стиля, т. е. процесса дебюрократизации, или же бюрократии остаются типичной организационной формой в обществе. Среди социологов нет согласия относительно того, как понимать изменения в организационных структурах и насколько эти перемены в действительности представляют собой реальные сдвиги. Ниже мы рассмотрим позиции трех участников этой полемики: Генри Минцберга, Стюарта Клегга и Джорджа Ритцера. Подъем «адхократии» Генри Минцберг утверждает, что единственно верной бюрократической модели не существует (Mintzberg 1979). Вместо этого есть множество организационных структур, соответствующих различным потребностям, — от сложных бюрократий, занимающихся проблемами международной торговли, до профессиональных бюрократий, состоящих из обученных специалистов, таких как работники социальной сферы и учителя. Он приводит четыре типа «традиционных» бюрократий, которые хорошо приспособлены к выполнению определенных заданий в условиях стабильного рынка; все эти организационные формы являются формами веберовской модели бюрократии. Минцберг также определяет некую пятую организационную форму — «адхократию» — и предлагает ее в качестве модели, которая постепенно и по мере изменения обстоятельств становится наиболее распространенной. В отличие от других форм бюрократии, адхократия не выполняет стандартизованных заданий по установленным процедурам. По сути, и ее функции, и композиция постоянно меняются! С точки зрения Минцберга, адхократия полагается на коллективную работу небольших групп профессионалов различного происхождения, которые объединяются для работы над отдельными проектами или для решения определенных проблем. В таких областях, как реклама или консалтинг, адхократия играет и более значительную роль: отдельные люди приглашаются поделиться своим опытом по поводу определенных проектов, но они не обязательно являются штатными работниками данной организации. Адхократия по определению является подвижной и гибкой. Будучи таковой, она приспособлена к нововведениям и творческому решению задач, но менее пригодна для выполнения специализированных функций на регулярной основе. Минцберг признает, что адхократия не может заменить стабильную эффективность традиционных форм бюрократии. Она скорее представляет динамичную альтернативу в период, когда рынки быстро меняются и постоянно требуются новые подходы к делу.См. также дискуссию в разделе «Тенденции в системе профессиональной занятости» (глава 13).
Постмодернистская организация Если наиболее характерной моделью организаций современности была бюрократия Вебера, то некоторые социологи утверждают, что изменения, происходящие внутри бюрократий, приводят к «постмодернистской организации» (о термине «постмодернистский» см. в подразделе «Теория постмодернизма» в разделе «Более поздние теории» главы 21). Стюарт Клегг — ученый, который считает, что предсказание Вебера о постоянно увеличивающейся рационализации и централизации не сбылось. Чтобы объяснить, почему это так, он указывает на ряд тенденций в современных организациях. Клегг обеспокоен воздействием культурных контекстов на организационные формы. Он предполагает, что ценности и образы жизни, заложенные в определенные культуры, влияют на то, как работают организации, и могут предотвращать господство крупных бюрократических структур над ними. В случае французских пекарен, например, стандартизованные методы массового производства игнорируются в пользу малых предприятий, которые производят свежий хлеб для близлежащей округи. Процесс этот не очень эффективен — работники подолгу работают за небольшую плату, а клиенты должны покупать хлеб ежедневно из-за недолговечности продукции. Тем не менее свежая выпечка является важной частью французской культуры и повседневной жизни, и попытки доставлять на рынок хлеб массового производства оказались совершенно безуспешными. В данном случае культурные предпочтения подавили стремление к рационализации и эффективности, и маленькие пекарни одержали верх (Clegg 1990). Еще одной чертой постмодернистских организаций, согласно Клеггу, является дедифференциация. Этим термином он называет тенденцию отхода от узкоспециализированных заданий в сторону развития более широких, более разнообразных задач. Если в современных организациях работники отвечали за определенные функции, такие как завершение того или иного этапа на сборочном конвейере, или ввод данных из неких документов в общую базу, работники постмодернистских организаций вовлечены в гораздо большее количество этапов производства. Приведенная ранее в пример автокорпорация «Сатурн», где работники цеха участвуют в дизайнерских группах, иллюстрирует идею дедифференциации. В постмодернистской организации компетентность во многих аспектах работы важнее, чем развитие узкой специализации. Возможно, поэтому не удивительно, что Клегг и другие, кто верит в появление постмодернистской организации, считают японцев пионерами этой организационной формы. «Макдональдизация» общества? Не все согласны, что наше общество и его организации отходят в сторону от веберовской модели жесткой, упорядоченной бюрократии. Некоторые критики отмечают, что СМИ и комментаторы ухватились за ряд выдающихся случаев, подобных автокорпорации «Сатурн» или фирме «Бенетон», провозглашающих зарождение новой тенденции, которой на деле не существует. Они утверждают, будто идея о том, что мы с вами являемся свидетелями процесса дебюрократизации, — преувеличение. Джордж Ритцер, внося свой вклад в полемику о дебюрократизации, нашел яркую метафору для выражения своего взгляда на изменения, происходящие в индустриальных обществах. Он утверждает, что несмотря на то, что некоторые тенденции к дебюрократизации действительно появились, то, чему мы на самом деле являемся свидетелями, есть «макдональдизация» общества! Согласно Ритцеру, «макдональдизация» — это «процесс, в результате которого рестораны, работающие по принципу быстрого питания, постепенно захватывают все больше и больше секторов, как в американском обществе, так и в других странах мира». Ритцер использует четыре основных принципа ресторанов «Макдональдс» — результативность, вычислимость, единообразие и контроль с помощью автоматизации, — чтобы показать, что наше общество становится со временем все более рационализованным (Ritzer 1996). Если вы когда-либо посещали рестораны «Макдональдс» в двух разных странах, то вы непременно заметили, что между ними будет очень мало отличий. Оформление интерьера может немного различаться, и язык, на котором будут говорить, скорее всего, окажется другим, но общий план, меню, процедура заказа, форма обслуживающего персонала, столы, упаковка и «сервис с улыбкой» будут практически идентичными. «Посещение Макдональдса» спланировано так, чтобы быть одинаковым, находитесь ли вы в Боготе или же в Пекине. Независимо от географического расположения конкретной торговой точки, посетители «Макдональдса» знают, что можно рассчитывать на быстрый сервис с минимальной степенью суеты и на стандартную продукцию, которая обнадеживающе постоянна. Система «Макдональдса» специально устроена таким образом, чтобы максимальная результативность сочеталась с минимальными ответственностью и участием в процессе со стороны человека. Не считая некоторых ключевых заданий, таких как прием заказа и нажатие кнопок «старт» и «стоп» на кухонном оборудовании, функции ресторана в высокой степени автоматизированы и в основном работают самостоятельно. Ритцер утверждает, что общество в целом движется по направлению к подобной высокостандартизованной и управляемой модели выполнения задач. Многие аспекты нашей повседневной жизни, к примеру, включают в себя контакт с автоматизированными системами и компьютерами вместо людей. Электронная и голосовая почты заменяют письма и звонки, е-коммерция угрожает обогнать по популярности походы по магазинам, банкоматов сегодня больше, чем банковских кассиров, а полуфабрикаты дают более быстрый способ поесть, чем приготовление пищи. Если вы недавно пытались позвонить в крупную организацию, например в авиакомпанию или компанию автомобильного страхования, вы знаете, что поговорить с реальным человеком практически невозможно! Автоматизированный кнопочнотональный информационный сервис создан для того, чтобы отвечать на ваши запросы, и только в некоторых случаях вас могут соединить с живым служащим этой организации. Самые различные компьютеризованные системы играют все большую роль в нашей повседневной жизни. Ритцер, как и Вебер до него, опасается плачевных последствий рационализации на душевное состояние человека и творчество. Он утверждает, что «макдональдизация» делает общественную жизнь более однообразной, более суровой и менее индивидуальной.
Заключение
Уводят ли нас сети, принятие решений по принципу «снизу вверх» и информационные технологии полностью прочь от пессимистичного взгляда Вебера на будущее бюрократии? Некоторые считают именно так, но мы должны относиться к подобной точке зрения осторожно. Бюрократические системы внутренне более подвижны, чем предполагал Вебер, и им также постоянно бросают вызов другие, не столь иерархичные формы организации. Однако, по всей видимости, они не исчезнут полностью подобно динозаврам. В ближайшем будущем, скорее всего, будет продолжаться символическое перетягивание каната между тенденциями к большому размеру, безличности и иерархии в организациях, с одной стороны, и противоположными тенденциями — с другой.Краткое содержание
1. Организации играют важную роль в нашей сегодняшней жизни. Организация — это большая ассоциация людей, созданная для достижения определенных целей. Примерами организаций являются коммерческие корпорации, правительственные учреждения, школы, университеты, больницы и тюрьмы. 2. Все современные организации являются в некоторой степени бюрократическими по своей природе. Бюрократия подразумевает строгую иерархию власти; письменные правила, управляющие поведением чиновников (которые работают полный рабочий день за заработную плату); разделение между задачами чиновников внутри организации и их жизнью за ее пределами. Макс Вебер утверждал, что современная бюрократия — это высокоэффективное средство организации большого числа людей, обеспечивающее принятие решений по неким общим критериям. 3. Неформальные объединения развиваются на всех уровнях внутри организаций и между ними. Изучение этих неформальных связей столь же важно, как изучение более формальных характеристик, на которых заострял свое внимание Вебер. 4. Некоторые элементы, заложенные в бюрократии, мешают гладкости ее работы. Бюрократическая ритуальность — это ситуация, при которой официальные процедуры соблюдаются ради них самих, даже в случаях, когда иное решение было бы более уместным. Другой потенциальной трудностью является то, что бюрократические правила иногда затмевают основные цели организации. Бюрократия лучше всего преуспевает там, где требуется рутинное выполнение заданий, а не там, где рабочая обстановка непредсказуема. 5. Работа Мишеля Фуко касается проблемы сильного влияния физической обстановки организации на ее социальные характеристики. Архитектура зданий современных организаций тесно связана с надзором как способом обеспечения повиновения тем лицам, в чьих руках находится власть. Надзор — это наблюдение за деятельностью людей, а также ведение досье и записей о сотрудниках. Карцерные организации — это такие учреждения, как тюрьмы и психиатрические больницы, в которых люди в течение продолжительного времени физически отделены от окружающего мира. 6. Железный закон олигархии гласит, что в крупных организациях, как и в обществе в целом, власть неизбежно централизуется, препятствуя осуществлению демократии. Некоторые обнаружили напряжение в отношениях между бюрократией и демократией. С одной стороны, длительные процессы централизации принятия решений ассоциируются с развитием современных обществ. С другой стороны, одной из характерных черт прошедших двух десятилетий является растущее давление на демократию. Эти тенденции борются друг с другом, но ни одна из них не доминирует. 7. Современные организации развились в учреждения гендерного характера. Женщин традиционно определяли в особые категории профессий, которые поддерживали мужчин в продвижении карьеры последних. В последние годы больше женщин начало занимать должности профессионалов и менеджеров, но некоторые полагают, что для успеха на высших уровнях женщины обязаны перенимать традиционный мужской стиль управления. 8. Крупные организации в последнее время начали процесс реструктуризации, чтобы стать менее бюрократическими и более гибкими. Многие западные фирмы переняли некоторые аспекты японских систем управления: больше консультативной работы менеджмента с подчиненными более низких уровней; оплата и ответственность на основе старшинства; и оценка работы групп, а не отдельных людей. 9. Новые информационные технологии меняют методы работы организаций. Многие задачи теперь можно решить электронным способом, что позволяет организациям преодолевать время и пространство. Физические границы организаций стираются благодаря возможностям новой технологии. Многие организации сегодня работают как свободные сети, а не как автономные независимые единицы. 10. Дебюрократизация — это процесс постепенного упадка бюрократий веберовского стиля как главной организационной формы.Вопросы для самостоятельного анализа
1. В чем преимущества бюрократического стиля рассмотрения дел? 2. Почему люди в организациях столь часто отходят от формальных процедур? 3. Что общего между школами, больницами и тюрьмами? 4. Насквозь ли крупные организации «испорчены» мужскими ценностями? 5. Как организациям-сетям удается одновременно быть и повсюду, и нигде? 6. Почему столь сложны взаимоотношения между бюрократией и демократией?Дополнительная литература
Castells Manuel. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 1996. Clegg Stuart. Modern Organizations: Organization Studies in the Postmodern World. London: Sage, 1990. Lyon David. The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society. Cambridge: Polity, 1994.Интернет-линки
Центр социологических проблем организаций (Национальный центр научных исследований, Париж) http://www.cso.edu Электронный журнал по проблемам теории организаций http://www.mngt.waikato.ac.nz/research/ejrot Сайт Фуко http://www.qut.edu.au/edu/cpol/foucault/links.htmlГЛАВА 13 ТРУД И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Как и многие другие аспекты нашего социального мира, труд и экономическая жизнь переживают период колоссальных трансформаций. Кажется, будто бы на каждом углу нас поджидают заявления о «конце карьеры», новости о корпоративных слияниях или сокращениях и противоречивые сведения о влиянии информационных технологий на рабочие места. Однако помимо всех этих весьма публичных аспектов современных тенденций в работе, социологов интересует то, как изменения в сфере труда влияют на частную жизнь индивидов и семей. Одним из способов оценить размах перемен в сегодняшней экономической жизни является анализ радикально отличающихся друг от друга трудовых траекторий, которые появлялись в отрезок жизни всего лишь одного поколения. Именно это сделал социолог Ричард Сеннетт в своем недавнем исследовании по воздействию современной работы на характер личности. Сеннетт сравнивает и противопоставляет жизни и карьеры одной пары «отец — сын» с целью подчеркнуть трансформацию в сфере труда (Sennett 1998). Двадцать пять лет назад в исследовании, касающемся представителей рабочего класса из Бостона, Сеннетт составил краткий очерк об Энрико — итальянском иммигранте, который всю жизнь проработал уборщиком в одном административном здании в центре города. Хотя Энрико не нравились тяжелые условия и мизерная оплата, эта работа давала ему чувство самоуважения и была «честным» способом обеспечивать своих жену и детей. Он мыл туалеты и полы ежедневно в течение пятнадцати лет, прежде чем смог позволить себе приобрести дом в пригороде. Не будучи привлекательной, его работа была надежной, его место защищалось профсоюзом, и Энрико и его жена могли уверенно планировать свое будущее, а также будущее своих детей. Энрико знал заранее, когда именно он пойдет на пенсию и сколько денег будет в его распоряжении. Как заметил Сеннет, работа Энрико «имела одну-единственную и долговременную цель — обслужить его семью». Хотя Энрико гордился своим честным тяжелым трудом, он не желал, чтобы будущее его детей было таким же. Энрико было важно создать такие условия для своих детей, чтобы они смогли продвинуться вверх. Как обнаружил Сеннет пятнадцать лет спустя, случайно повстречавшись с Рико — сыном Энрико, — дети последнего действительно стали более мобильными. Рико сначала закончил учебу на степень инженера, затем пошел в школу бизнеса в Нью-Йорке. За четырнадцать лет после окончания учебы Рико сделал весьма успешную карьеру и поднялся до уровня высших 5 % по шкале заработной платы. Рико и его жена Жанетт меняли место жительства с целью карьерного роста не менее четырех раз за время брака. Идя на риск и будучи открытыми для перемен, Рико и Жанетт приспособились к неспокойному времени и в результате стали преуспевающими. Однако, несмотря на их успех, эту историю нельзя назвать полностью счастливой. Рико и его жена беспокоятся, что они вот-вот «утратят контроль над своими жизнями». Будучи консультантом, Рико ощущает недостаток контроля над временем и работой: контракты неопределенны и постоянно меняются, у него нет четко зафиксированной роли, и его судьба во многом зависит от успехов и неудач работы в сети клиентов. Аналогично этому Жанетт чувствует, что влияет на свою работу лишь в незначительной степени. Она менеджер группы бухгалтеров, которые отделены друг от друга географически: некоторые работают дома, некоторые — в офисе, а кто-то — за тысячу миль от остальных в другом отделении компании. Будучи менеджером этой «гибкой» группы, Жанетт не может полагаться на взаимодействие «лицом к лицу» и личное знание работы того или иного человека. Вместо этого она управляет издалека, используя электронную почту и телефон. Перемещаясь по стране, Рико и Жанетт утратили имевшие значение дружеские связи с людьми; новые соседи и общины ничего не знают об их прошлом, о том, откуда они родом или каковы они как люди. Как пишет Сеннетт, «мимолетный характер дружбы и окружающей местности являются фоном основной причины внутреннего беспокойства Рико — его семьи». Рико и Жанетт находят, что дома характер их работ вмешивается в их возможность выполнять свои родительские цели. Работают они подолгу и поэтому беспокоятся, что не уделяют достаточно внимания своим детям. Но, однако, в большей степени, чем попытка совместить время и расписание, их беспокоит, что они подают дезориентирующий пример. Пытаясь научить своих детей ценить добросовестную работу, приверженность своему делу и долгосрочные цели, Рико и Жанетт боятся, что их собственные жизни учат другому: эта пара является примером краткосрочного, гибкого подхода к работе, который становится все более предпочтительным в современном обществе. Их трудовые истории характеризуются постоянным движением, временной ответственностью и краткосрочными вложениями в то, чем они занимаются. Супруги осознают, что в нашем современном безудержном обществе «качества хорошей работы не есть качества, присущие хорошему характеру». В этой главе мы проанализируем природу труда в современном обществе и посмотрим на основные изменения, касающиеся сегодняшней экономической жизни. Одновременно мы рассмотрим более детально некоторые из тех проблем, а также возможностей, с которыми встречаются Рико, Жанетт и многие другие люди, которые пытаются приноровиться к новым, «гибким» условиям на рабочем месте.Что такое работа?
Для большинства из нас работа занимает большую часть жизни, нежели какой-либо другой тип деятельности. Зачастую мы ассоциируем понятие труда с рутиной — набором заданий, которые мы желаем свести к минимуму, а, если возможно, то и избежать вовсе. Однако труд — это далеко не только рутина, ведь иначе люди не чувствовали бы себя столь потерянными и сбитыми с толку, становясь безработными. Что бы вы почувствовали при мысли о том, что никогда неполучите работу? В современном обществе работа важна для поддержания самоуважения. Даже там, где условия труда являются не очень приятными, а задания скучными, работа является структурирующим элементом психологического состояния человека и цикла его ежедневных занятий. При этом важными являются несколько признаков работы. • Деньги. Оклад или заработная плата — основной источник, на который люди полагаются для удовлетворения своих нужд. Без определенного дохода беспокойства по поводу того, как справляться с повседневной жизнью, растут. • Уровень активности. Работа часто предоставляет основу для приобретения и использования навыков и способностей. Даже там, где работа носит рутинный характер, она дает некую структурированную атмосферу, в которой могут использоваться возможности человека. Без таковой шансов применить подобные навыки и способности может быть меньше. • Разнообразие. Работа дает доступ к среде, которая отличается от домашней обстановки. В рабочей среде, даже тогда, когда задание является относительно неинтересным, людям может быть приятно заниматься чем-то отличным от домашних дел. • Временная структура. День людей, имеющих постоянную работу, обычно организован вокруг ритма этой работы. Будучи иногда подавляющим обстоятельством, это задает определенное направление ежедневным занятиям. Те, у кого нет работы, часто считают большой проблемой скуку, со временем у них развивается ощущение апатии. • Социальные контакты. Атмосфера работы часто дает нам дружеские связи и возможность участвовать в общих делах с другими людьми. В отрыве от места работы круг возможных друзей и знакомых того или иного человека, скорее всего, уменьшится. • Личная индивидуальность. Работу обычно ценят за то чувство стабильной социальной индивидуальности, которое она дает. В особенности у мужчин самооценка зачастую связана с тем экономическим вкладом, который они вносят для поддержания домашнего хозяйства. На фоне столь значительного списка не сложно понять, почему отсутствие работы может подрывать чувство уверенности человека в его социальной ценности.Работа оплачиваемая и неоплачиваемая
Мы часто думаем, что работа эквивалентна оплачиваемой должности, но на самом деле это чересчур упрощенная точка зрения. Неоплачиваемый труд (например, работа по дому или починка собственного автомобиля) занимает большое место в жизни многих людей. Многие типы работы не соответствуют классическим категориям оплачиваемого труда. Например, большая часть работы, выполняемой в неформальной экономике, не фиксируется напрямую статистикой официальной занятости. Термин «неформальная экономика» относится к сделкам, производимым вне сферы обычной занятости, которые иногда подразумевают оплату наличными в обмен за предоставленные услуги, но также нередко и прямой обмен товарами или услугами. Человеку, пришедшему починить телевизор, можно заплатить наличными, без выдачи чека или записи деталей выполненной работы. Люди обмениваются «дешевыми», т. е. ворованными тем или иным способом, товарами с друзьями или коллегами в обмен на другие услуги. Неформальная экономика включает в себя не только «тайные» сделки с обменом наличными, но многие другие формы самоснабжения, в которых люди участвуют внутри и за пределами своего жилища. Занятия по принципу «сделай сам», домашняя техника и хозяйственные инструменты, например, обеспечивают теми товарами и услугами, в отсутствие которых последние пришлось бы покупать (Gershuny and Miles 1983). Работа по дому, которая традиционно выполнялась женщинами, как правило не оплачивается. Тем не менее эта работа — зачастую очень тяжелая и утомительная. Волонтерство для благотворительных или других организаций также играет важную общественную роль. По всем вышеперечисленным причинам важно иметь оплачиваемую должность, но «работа» как категория распространяется более широко. Мы можем определить работу, оплачиваемую или нет, как выполнение заданий, связанных с приложением умственных или физических усилий, целью которого является производство товаров или услуг, необходимых человеку. Профессиональная деятельность, или должность, — это работа, которая выполняется за определенный оклад или вознаграждение. Во всех культурах работа является основой экономики. Экономическая система состоит из институтов, которые обеспечивают производство и распределение товаров и услуг.Тенденции в системе профессиональной занятости
Работа всегда заложена в более широкую экономическую систему. В современных обществах эта система зависит от индустриального производства. Современная индустрия, как подчеркивалось в других разделах данной книги, фундаментально отличается от досовременных систем производства, которые, прежде всего, были основаны на сельском хозяйстве. Большинство людей работало в поле или заботилось о скоте. Напротив, в современных обществах лишь малая часть населения занята в агрономии, а фермерство как таковое подверглось индустриализации — работа в основном выполняется не вручную, а с помощью машин. Современная индустрия постоянно меняется сама по себе — технологические изменения являются одним из основных ее признаков. Технология — это применение научных разработок для совершенствования оборудования с целью достижения большей производственной эффективности. Характер индустриального производства также меняется по отношению к более широким общественным и экономическим факторам. Если мы рассмотрим систему профессиональной занятости индустриальных стран в течение XX в., мы сможем увидеть этот феномен очень четко: изменения в глобальной экономике и технологический прогресс привели к глубоким трансформациям выполняемых нами типов работ. В начале XX в. на рынке труда преобладали места для рабочих на производстве, но постепенно баланс сместился в сторону должностей «белых воротничков» в сфере услуг (см. рис. 13.1 и 13.2). Рис. 13.1. Население трудоспособного возраста, по признакам пола и класса. Соединенное Королевство. 1999 г.
Источник: Labour Force Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. P. 26. Crown copyright.
Рис. 13.1. Население трудоспособного возраста, по признакам пола и класса. Соединенное Королевство. 1999 г.
Источник: Labour Force Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. P. 26. Crown copyright.
В 1900 г. более трех четвертей имеющего работу населения были заняты физическим трудом. Около 28 % из них были квалифицированными работниками, 35 % — полуквалифицированными, а 10 % не имели квалификации. Профессий для «белых воротничков» было сравнительно немного. К середине столетия работники физического труда составляли менее двух третей населения, занятого на оплачиваемой работе, а труд служащих, соответственно, получил распространение. В 1971 и в 1981 гг. были проведены переписи населения Соединенного Королевства. За этот период пропорция людей, занятых на работах для «синих воротничков», снизилась от 62 до 56 % у мужчин и от 43 до 36 % у женщин. Профессиональные и менеджерские должности, занимаемые мужчинами, увеличились до примерно 1 млн. К 1981 г. рутинной работой служащих занимались на 170 000 меньше мужчин, но ею же были заняты на 250 000 больше женщин. Уменьшение работ, связанных с физическим трудом, вплотную совпало со снижением количества людей, занятых производством продукции. В 1981 г. производством занимались на 700 000 меньше мужчин и на 420 000 меньше женщин, чем за десять лет до этого. Эти тенденции актуальны сегодня, но они в некоторой степени выровнялись. Обследование трудовых ресурсов (Labour Force Survey), проведенное правительством в 1998 г., показало, что лишь 25 % мужчин и 10 % женщин работают в промышленности. Это разительно отличается от резкого подъема численности тех, кто работает в сфере финансовых или деловых услуг: в 1981 г. всего лишь 10 % мужчин работали в этом секторе, но к 1998 г. эта цифра выросла до 16 %. Среди женщин наблюдался подъем от 12 % в 1981 г. до 19 % в 1998 г.
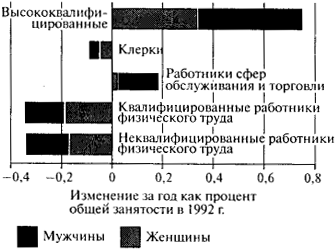 Рис. 13.2. Изменения в трудовой занятости мужчин и женщин по роду занятий. 1992–1998 гг.
Источник: European Commission. Employment in Europe, 1999. P. 12.
Рис. 13.2. Изменения в трудовой занятости мужчин и женщин по роду занятий. 1992–1998 гг.
Источник: European Commission. Employment in Europe, 1999. P. 12.
Много спорят по поводу причин подобных изменений. Этих причин, по-видимому, несколько. Одна из них — постоянное введение рационализирующей производство техники, пиком которого стало распространение в индустрии в последние годы информационных технологий. Другая — подъем производственной индустрии за пределами Запада, в особенности на Дальнем Востоке. Более старые виды промышленности западных стран прошли через серьезные сокращения из-за своей неконкурентоспособности по сравнению с более эффективными производителями с Дальнего Востока, чей труд стоит дешевле.
Более подробно о контрастах экономического роста в развивающемся мире см. в разделе «Новые промышленные страны (НПС)» (глава 2, раздел «Типы обществ», подраздел «Глобальное развитие»).
Экономика знания
Принимая во внимание эти цифры, некоторые наблюдатели предположили, что сейчас происходит переход к новому типу общества, важнейшей основой которого уже не является индустриализм. По мнению этих наблюдателей, мы вступаем в фазу развития, совершенно отличную от индустриальной эры. Этому новому общественному порядку давали множество названий, например постиндустриальное общество, век информации, а также «новая» экономика. Однако термин, получивший наиболее широкое распространение, — экономика знания.О технологической инфраструктуре экономики знания см. подраздел «Почему происходит глобализация» (глава 3, раздел «Аспекты глобализации»), а также врезку, озаглавленную «Возникновение „сетевых работников“» (глава 10, раздел «Деление на социальные классы», подраздел «Средний класс»).
Точное определение экономики знания сформулировать сложно, но, в общих чертах, это такая экономика, в которой идеи, информация и различные формы знания подкрепляют собой новшества и экономический рост. В экономике знания большая часть трудовых резервов занята не физическим производством и дистрибуцией материальных товаров, а их дизайном, разработкой, технологией, маркетингом, продажей и обслуживанием. Подобных служащих можно назвать работниками экономики знания. В экономике знания господствуют постоянный поток информации и точек зрения, а также мощный потенциал науки и техники. Вот что отмечал Чарльз Лидбитер (Charles Leadbeater):
Большинство из нас зарабатывает деньги «из воздуха»: мы не производим ничего, что можно взвесить, потрогать или с легкостью измерить. Наш продукт не разгружают в портах, не хранят на складах и не посылают в железнодорожных вагонах. Большинство из нас зарабатывает на жизнь с помощью оказания услуг, высказывания суждений, выдачи информации и анализа, будь то в телефонном центре, кабинете юриста, правительственном департаменте или научной лаборатории. Все мы занимаемся «воздушным бизнесом» (Leadbeater 1999, vii).Случай Энрико и его сына Рико, который мы описали в начале данной главы, четко иллюстрирует этот сдвиг в сторону экономики знания. Работа Энрико была типичной для многих работ индустриальной эры, так как она была связана с физическим трудом, дающим ощутимые результаты (чистое и опрятное административное здание). В отличие от этого, Рико — работник экономики знания; его работа консультанта фокусируется на использовании и применении информации. Он не производит напрямую ничего, что можно было бы увидеть или измерить традиционным способом. Насколько же распространена экономика знания в начале XXI в.? В недавнем исследовании, выполненном Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), была сделана попытка оценить, насколько экономика знания распространена в развитых странах, с помощью измерения процентного соотношения отраслей промышленности, базирующихся на знаниях, относительно экономики страны в целом (см. рис. 13.3). Отрасли индустрии, основанные на знаниях, понимаются широко и включают в себя технологию, образование и обучение, проектно-конструкторскую работу, а также финансовый и инвестиционный секторы. В целом среди стран, входящих в ОЭСР, отрасли индустрии, базирующиеся на знаниях, в середине 1990-х отвечали более чем за половину всего экономического продукта. У Западной Германии был высокий показатель — 58,6 %, и более 50 % были показателями у США, Япония, Великобритании и Франции. Инвестиции в экономику знания — в форме государственного образования, затрат на разработку компьютерных программ, а также на проектно-конструкторскую работу — сегодня составляют важную часть бюджета многих стран. К примеру, Швеция в 1995 г. вложила в экономику знания 10,6 % от своего валового внутреннего продукта. Почти столько же вложила Франция благодаря своим большим затратам на государственное образование.
 Рис. 13.3. Роль экономики знания по инвестициям и продукции, по странам и экономическим регионам. 1995–1996 гг.
Источники: OECD. From The Economist. 16 Oct. 1999. P. 145.
Рис. 13.3. Роль экономики знания по инвестициям и продукции, по странам и экономическим регионам. 1995–1996 гг.
Источники: OECD. From The Economist. 16 Oct. 1999. P. 145.
Признано, что экономика знания является сложным феноменом для исследования — с точки зрения и количества, и качества! Ценность физических предметов измерить проще, чем некие «невесомые» идеи. Однако нельзя отрицать, что приобретение и применение знаний становится все более важным в экономиках западных обществ, что мы с вами увидим в данной главе.
Разделение труда и экономическая зависимость
Одним из наиболее характерных признаков экономической системы современных обществ является наличие весьма сложного разделения труда: труд со временем разделился на громадное количество различных профессий, в которых люди специализируются. В традиционных обществах труд, не связанный с сельским хозяйством, подразумевал владение каким-нибудь ремеслом. Ремесленные навыки получали в течение продолжительного периода пребывания в подмастерьях, и такой работник обычно выполнял все аспекты производственного процесса от начала и до конца. Например, слесарь, делающий плуг, сковал бы железо, придал ему форму и собрал само орудие. С подъемом современного промышленного производства большинство традиционных ремесел исчезли полностью, их заменили навыки, из которых состоят процессы крупномасштабного производства. Электрик, работающий сегодня в промышленности, к примеру, может проверять и чинить только часть определенного типа машин; другие люди будут заниматься остальными частями и другими машинами. Современное общество также стало свидетелем перемены местоположения работы. До индустриализации большинство работы выполнялось дома и завершалось коллективно всеми членами семейства. Прогресс в области промышленной технологии, например, машинное оборудование, работающее на электричестве и угле, способствовал разделению работы и дома. Фабрики, находившиеся во владении предпринимателей, стали точкой отсчета в промышленном развитии: в них находилась большая часть машинного и прочего оборудования, и массовое производство начало затмевать мелкое ремесленничество, базировавшееся дома. Людей, искавших работу на фабрике, обучали выполнять некое специализированное задание и платили за эту работу жалование. Управляющие смотрели за тем, как работа выполняется, они же занимались введением новых методов работы, увеличивавших продуктивность и дисциплину рабочих. Контраст между разделением труда в традиционном и современном обществах, действительно, огромен. Даже в самых больших традиционных обществах обычно существовало не более чем двадцать или тридцать основных ремесел, включая такие специализированные общественные роли, как купец, солдат и священник. В современной индустриальной системе существуют буквально тысячи различных профессий. В переписи населения Соединенного Королевства перечисляется около 20 000 различных должностей в британской экономике. В традиционных общинах большинство населения работало на фермах и было экономически независимым. Они сами производили для себя еду, одежду и другие предметы, необходимые в обиходе. В противоположность этому, основной чертой современных обществ является необычайное распространение экономической взаимозависимости. Для получения продуктов и услуг, которые поддерживают нашу жизнь, все мы зависим от огромного числа других работников, находящихся сегодня по всему миру. За редким исключением, основная масса людей в современных обществах не производит той еды, которую она ест, домов, в которых живет, или товаров, которые потребляет. Социологи прошлого много писали о потенциальных последствиях разделения труда — и для отдельных работников, и для общества в целом. С точки зрения Маркса, движение в сторону индустриализации и оплачиваемого труда непременно приводит к отчуждению среди рабочих. Будучи нанятыми на фабрике, рабочие полностью теряют контроль над своим трудом. Им придется выполнять рутинные, монотонные задания, которые лишат их работу существенных творческих достоинств. Он утверждал, что рабочие в капиталистической системе, в конце концов, усваивают инструментальный настрой по отношению к работе и видят ее лишь как способ заработать себе на жизнь. Дюркгейм смотрел на разделение труда более оптимистически, хотя он тоже признавал его возможные негативные последствия. Согласно Дюркгейму, специализация ролей усилила бы общественную солидарность внутри общин. Вместо того чтобы жить в качестве отдельных, автономных элементов, люди были бы связаны благодаря своей взаимозависимости. Солидарность усиливалась бы с помощью различных по своим направлениям взаимоотношений производства и потребления. Дюркгейм считал такое распределение очень эффективным, хотя он также осознавал, что общественная солидарность могла бы нарушиться, если бы перемена произошла слишком быстро. Он называл ощущение отсутствия каких-либо норм, появляющееся в результате этого, аномией (см. подраздел «Эмиль Дюркгейм» в разделе «Развитие социологического мышления» первой главы).────────────────────────────┐ ■ «Работа и технология» Социологов всегда интересовала связь между технологией и работой. Как повлиял на наш опыт работы тот тип технологии, который для нее применяется? По мере прогресса индустриализации, технология стала играть важнейшую роль на рабочем месте, будь то автоматизация фабрик или компьютеризация работы в офисе. Сегодняшняя революция в области информационной технологии вновь привлекла внимание к данному вопросу. Технология может привести к большей эффективности и продуктивности, но как она влияет на то, как воспринимается сама работа теми, кто ее выполняет? Для социологов одним из основных вопросов является то, как переход к более сложным системам влияет на характер работы и на учреждения, в которых она выполняется.
Автоматизация
Концепция автоматизации, или программируемого машинного оборудования, была введена в середине 1800-х гг., когда американец Кристофер Спенсер изобрел автомат — программируемый токарный станок, который делал винты, гайки и шестерни. Влияние автоматизации возросло с появлением роботов — автоматических приспособлений, выполнявших функции, за которые обычно отвечали работники-люди. В некотором количестве роботов впервые ввели в индустрию в 1946 г., когда было изобретено приспособление для автоматического регулирования машинного оборудования в инженерной промышленности. Более сложные роботы, однако, восходят лишь к 1970-м гг., когда их стали оснащать микропроцессорами. Сегодня роботы могут выполнять множество таких заданий, как сварка, окраска распылением, подъем и перенос деталей. Некоторые роботы могут отличать запасные части на ощупь, тогда как другие определяют некоторое количество объектов визуально. Распространение автоматизации вызвало горячий спор среди социологов и экспертов по производственным отношениям по поводу воздействия новой технологии на рабочих, их навыки и уровень их заинтересованности в работе. В своей влиятельной работе «Отчуждение и свобода» Роберт Блаунер исследовал опыт рабочих из четырех разных отраслей промышленности с различными уровнями технологии (Blauner 1964). Используя идеи Дюркгейма и Маркса, Блаунер ввел концепцию отчуждения и измерил, насколько работники в каждой из отраслей индустрии испытывали отчуждение в форме беспомощности, бессмысленности, изоляции и самоотстранения. Он пришел к выводу, что рабочие на сборочных конвейерах чувствовали больше отчуждения, чем все остальные, но что уровни отчуждения были несколько ниже на тех работах, где использовалась автоматизация. Иными словами, Блаунер утверждал, что введение автоматизации на фабриках являлось причиной изменения в обратную сторону доселе стойкой тенденции к повышенному отчуждению рабочих. Автоматизация помогла объединить трудовые ресурсы и дала рабочим ощущение контроля над своим трудом, которого не хватало другим формам технологии. Совсем иное мнение было представлено Гарри Брейверманом в его знаменитой работе «Труд и монополистический капитал» (Braverman 1974). С точки зрения Брейвермана, автоматизация стала частью общего процесса сокращения квалифицированных промышленных трудовых ресурсов. Навязывая тейлористские методы организации (см. далее подраздел «Подходы Тейлора и Форда» в этом разделе настоящей главы) и разбивая трудовой процесс на специализированные задания, менеджеры могли контролировать рабочую силу. И в промышленности, и в современных офисах введение технологии способствовало этой общей «деградации» работы с помощью ограничения потребности в творческом участии человека. Вместо этого, все что требовалось — было некое недумающее, нерефлексирующее «тело», способное бесконечно выполнять одно и то же неквалифицированное задание.Информационные технологии
Противоположные взгляды Блаунера и Брейвермана на воздействие автоматизации сегодня отражаются в спорах о влиянии информационных технологий (ИТ) на рабочем месте. Безусловно нет сомнения, что Интернет, электронная почта, проведение телеконференций и е-коммерция меняют то, как ведут дело различные компании. Но они также оказывают воздействие на то, как служащие день за днем работают. Те, кто подходит к этому вопросу оптимистически, как Блаунер, утверждают, что информационная технология произведет революцию в мире труда, создавая новые, более гибкие методы работы. Эти возможности позволят нам отойти от рутины и отчуждающих аспектов промышленной работы и войти в более свободный век информации, дающий работникам больше контроля и больше возможностей делать вклад в трудовой процесс. Защитников-энтузиастов технологического прогресса иногда называют технологическими детерминистами, поскольку они верят в способность технологии определять характер и форму работы как таковой. Другие же не уверены, что информационная технология вызовет исключительно позитивную трансформацию работы. Шошана Зубофф в своем исследовании на тему использования ИТ фирмами пришла к выводу, что менеджмент может сознательно начать использовать ИТ ради совершенно иных целей (Zuboff 1988). Если ИТ используются как творческая, децентрализующая сила, они могут помочь сломать строгие иерархии, вовлечь большее число работников в процесс принятия решений и привести к более непосредственному участию в повседневных делах компании. С другой стороны, с такой же легкостью их можно использовать как способ усиления иерархии и наблюдения. Усвоение ИТ на рабочем месте может сократить взаимодействия лицом к лицу, блокировать каналы ответственности и преобразовать офис в систему самостоятельных и изолированных модулей. При таком подходе влияние информационных технологий воспринимается в зависимости от того, с какими целями оно используется, а также того, как пользующиеся этими технологиями понимают их роль. Распространение информационных технологий, безусловно, даст большее число интересных возможностей для некоторых сегментов трудовой силы. Например, в области СМИ, рекламы и дизайна, ИТ улучшают творчество в профессиональной сфере и позволяют делать персональные стили работы более гибкими. Именно у квалифицированных, ценных работников на ответственных должностях наиболее близок к осуществлению образ «сетевых работников» и «дистанционного доступа». Однако на другом конце данного спектра находятся тысячи низкооплачиваемых неквалифицированных индивидов, работающих в центрах обработки заказов и компаниях, занимающихся вводом данных. Эти должности, которые во многом являются продуктом телекоммуникационного бума последних лет, характеризуются уровнем изоляции и отчуждения, который может конкурировать с тем, что испытывали «деквалифицированные» рабочие Брейвермана. Служащие центров обработки заказов, которые осуществляют бронирование путешествий и финансовые сделки, работают согласно строго стандартизованному порядку, в котором мало или вообще нет места свободным действиям или творческому вкладу со стороны работника. За служащими пристально следят, а их взаимодействия с покупателями записываются на пленку «для гарантии качества». «Информационная революция», по-видимому, произвела на свет множество рутинных, неквалифицированных должностей, сравнимых с теми, что были в промышленной экономике. ────────────────────────────┘Подходы Тейлора и Форда
Более двух веков назад Адам Смит — один из основателей современной экономики — признавал преимущества, которые дает разделение труда для повышения продуктивности. Его самую известную работу «Благосостояние наций» (Smith 1776) открывает описание разделения труда на фабрике булавок. Человек, работающий в одиночку, возможно, мог бы делать 20 булавок в день. Однако, если разбить задания этого рабочего на некоторое число простых операций, десять работников, выполняющих специализированные виды работ, сотрудничая друг с другом, вместе могли бы производить 48 000 булавок в день. Иными словами, производительность одного работника увеличивается от 20 до 4 800 булавок, т. е. каждый специалист производил бы в 240 раз больше, чем при самостоятельной работе. Более века спустя эти идеи нашли наиболее четкое выражение в работах Фредерика Уинслоу Тейлора, американского консультанта по менеджменту. Подход Тейлора к тому, что он называл научным менеджментом, состоял в подробном изучении индустриальных процессов с целью разбить их на простые операции, которые можно было бы четко рассчитать по времени и организовать. Согласно Тейлору, каждое задание можно пристально и объективно рассмотреть, чтобы определить «единственный лучший способ» его выполнения. Тейлоризм, как стали называть научный менеджмент, был не просто академическим исследованием — он широко повлиял на организацию промышленного производства и технологию. Многие фабрики применяли методы Тейлора, желая максимально увеличить объем промышленного производства и поднять уровень продуктивности рабочих. Работники находились под пристальным наблюдением менеджмента, что гарантировало быстрое и аккуратное выполнение работы в соответствии с точными указаниями начальства. Чтобы способствовать эффективности труда, была введена система поощрительной оплаты, согласно которой рабочие зарабатывали согласно своим уровням продуктивности. Тейлора интересовало повышение промышленной эффективности, но его мало волновали ее результаты. Массовое производство требует массовых рынков сбыта, и промышленник Генри Форд был одним из первых, кто увидел эту связь. Фордизм — продолжение тейлоровских принципов научного менеджмента — термин, используемый для обозначения системы массового производства, привязанного к развитию массовых рынков сбыта. Форд спроектировал свой первый автозавод в г. Хайленд Парк, штат Мичиган, в 1908 г. для производства только одного товара — автомобиля «Форд» модели Т, — тем самым позволяя ввести специализированные инструменты и оборудование, рассчитанные на скорость, точность и простоту в использовании. Если тейлоризм фокусировался на наиболее эффективном способе выполнения определенных заданий, фордизм развил эту теорию дальше, сводя отдельные задания в систему непрерывно текущего производства. Одним из наиболее значительных нововведений Форда стало создание движущегося сборочного конвейера. Каждый рабочий на конвейере Форда имел определенное задание, например, подгонку ручек левосторонней двери по мере того, как корпуса автомобилей продвигались по конвейеру. К 1929 г., когда закончили производство модели Т, было выпущено более 15 000 машин.Ограничения подходов Тейлора и Форда
В какой-то момент казалось, что фордизм представляет собой будущее промышленного производства как такового. Но этого не случилось. Эта система применима только к таким отраслям промышленности, как производство автомобилей, которые выпускают стандартную продукцию для больших рынков. Установка механизированных поточных линий стоит очень дорого, и как только система внедрена, она оказывается негибкой: к примеру, чтобы изменить продукт, потребуются значительные повторные капиталовложения. Фордистское производство легко копировать при наличии достаточного количества средств для открытия подобного завода. Но фирмам в странах, где рабочая сила является дорогостоящей, трудно конкурировать с теми, где оплата ниже. Это стало одним из факторов, которые изначально привели к подъему японского машиностроения (хотя сегодня уровень японской заработной платы более не является низким), а впоследствии и южнокорейского. Однако трудности фордизма и тейлоризма касаются не только потребности в дорогостоящем оборудовании. Фордизм и тейлоризм являются, используя термин, применяемый по отношению к ним некоторыми промышленными социологами, системами с низким уровнем доверия. Виды работ определяются менеджментом и устанавливаются в соответствии с действующим оборудованием. За теми, кто выполняет рабочие задания, идет пристальное наблюдение, и они имеют мало возможностей действовать независимо. Этот постоянный надзор, однако, обычно приводит к результату, противоположному желаемому: заинтересованность и боевой дух рабочих часто ослабевает, потому что они не могут повлиять на свою работу и на то, как она выполняется. В тех местах, где существует множество должностей низкого доверия, высок уровень недовольства и абсентеизма рабочих и нередки производственные конфликты. Напротив, система с высоким уровнем доверия — это такая система, при которой рабочим позволяется контролировать темп и даже содержание их работы, не выходя за рамки общих директив. Такие системы обычно сконцентрированы на более высоких уровнях промышленных организаций. Как мы увидим, системы с высоким уровнем доверия стали в последние несколько десятилетий более распространены во многих местах работы, преобразуя сами наши понятия об организации и выполнении работы.Преобразование труда
С начала 1970-х гг. и далее фирмы в Западной Европе, США и Японии начали экспериментировать с альтернативами системам с низким уровнем доверия. Фордистские методы стали считаться ограниченными, поскольку они лучше всего подходили для производства большого количества стандартных товаров. Однако в глобальных методах стимулирования потребительского интереса происходили важные изменения: рынки товаров массового производства, которые сделали фордизм столь успешным, вытеснялись самобытными «нишевыми рынками» для принципиально новых, высококачественных товаров. Методы фордизма были чересчур негибкими, чтобы отвечать этим быстро меняющимся требованиям рынка, и со временем многие компании постарались изменить свои неподатливые способы производства, желая сделать процесс работы более гибким.Японские новшества в области менеджмента рассматриваются в подразделе «Организационные изменения: японская модель» (глава 12, раздел «Будущее не за бюрократией?»).
Постфордизм
За последние три десятилетия в целом ряде областей были введены гибкие методы работы, включая разработку изделия, способы производства, стиль управления, рабочую атмосферу, вовлеченность работников и маркетинг. Групповое производство, команды по решению задач, «многозадачность» и «нишевый маркетинг» — только некоторые из тех стратегий, которые были переняты компаниями в попытке реструктуризации в меняющихся условиях. Некоторые комментаторы предположили, что все вместе эти изменения представляют радикальное отступление от принципов фордизма; они утверждают, что сейчас мы работаем в период, которому наиболее подходит определение постфордизм. Постфордизм, термин, ставший общепринятым после работы Майкла Пиоре и Чарльза Сабела «Второй раздел индустрии», называет новую эру капиталистического экономического производства, в которой с целью отвечать рынку, требующему разнообразных товаров, сделанных на заказ, максимально развиты гибкость и нововведение (Piore and Sabel 1984). Однако идея постфордизма является несколько проблематичной. Термин используется по отношению к ряду частично совпадающих изменений, которые происходят не только в области труда и экономической жизни, но в обществе в целом. Некоторые авторы утверждают, что тенденцию к постфордизму можно увидеть в таких различных сферах, как политика партий, программы социального обеспечения, а также выбор образа жизни и потребительские предпочтения. Хотя обозреватели современности часто указывают на одни и те же изменения, нет всеобщего согласия относительно точного значения термина «постфордизм» или даже того, является ли он наилучшим способом понимания того феномена, свидетелями которого мы являемся. Несмотря на неопределенность, связанную с термином «постфордизм», в последние несколько десятилетий появился ряд особых тенденций в сфере труда, которые представляют собой явный отход от прежних фордистских методов. Они включают в себя идею о «гибком производстве», децентрализации работы по неиерархическим группам командного типа, отход от специализированных навыков и обучения в сторону общих навыков и постоянного обучения, и также введение более гибких методов работы. Сейчас мы рассмотрим примеры первых трех из перечисленных тенденций; о появлении гибких методов работы далее в этой же главе.Гибкое производство
Тейлоризм и фордизм успешно действовали на предприятиях, производивших стандартную продукцию для рынков массового потребления, но такие предприятия были не в состоянии выпускать небольшие партии товара, а уж тем более товары, сделанные специально для отдельного клиента. Компьютерный дизайн вкупе с другими типами технологии, основанной на применении компьютера, радикальным образом изменили ситуацию. Идея гибкого производства, или, по-другому, гибкой специализации, состоит в создании небольших групп высококвалифицированных рабочих, которые используют инновационные методы производства и новые формы технологии для создания меньшего количества товаров более индивидуального характера, нежели те, которые были сделаны с помощью массового производства. Изменения в дизайнах, опциях и характеристиках можно вносить чаще, чем во времена более медленных перемен, характерных для фордистских методов производства. Поскольку сегменты потребительского рынка требуют определенных типов товаров, гибкая специализация дает компаниям возможность разнообразить их ассортимент, чтобы соответствовать этим нуждам. Например, растущее число женщин и молодежи, покупающих машины в западных странах, побудило многих автопроизводителей ввести машины с «пакетом опций», рассчитанных именно на такой рынок. Некоторые модели автомобилей могут похвастаться дополнительными средствами обеспечения безопасности и более компактным дизайном кабины водителя для покупателей-женщин; другие ввели недорогие экономичные с точки зрения расхода топлива модели для молодых, впервые приобретающих автомобиль покупателей, надеясь положить начало пожизненной приверженности клиента их марке. Результаты гибкого производства можно также наблюдать во многих других компаниях, которые ввели «экологически приемлемые» линии товара — от моющих средств до шампуней и косметики — дополнительно к своему стандартному ассортименту.Групповое производство
Групповое производство иногда использовалось совместно с автоматизацией как способ реорганизации работы. Идея этого метода состояла в том, чтобы увеличить мотивацию рабочих, объединяя последних в группы, совместно работающие над производственным процессом, вместо того чтобы заставлять каждого рабочего проводить весь день, выполняя одно повторяющееся задание, как, например, закручивание винтов в ручку двери автомобиля. Примером группового производства являются кружки качества (КК), группы, состоящие из пяти-двадцати человек, которые регулярно встречаются для изучения и решения производственных проблем. Рабочих, которые входят в КК, обучают дополнительно, что позволяет им применять технические знания в обсуждении проблем производства. КК возникли в Соединенных Штатах, были переняты рядом японских компаний, а затем снова распространились на Западе в 1980-е гг. Они представляют собой отход от исходных положений тейлоризма, поскольку в них признается, что рабочие обладают компетенцией, которая дает им возможность вносить свой вклад в определение и методику выполняемых ими заданий. Коллективная работа При отсутствии автоматизации группы, работающие совместно, также становятся популярны, будучи способом повышения результативности и экономической эффективности при разработке изделий и решении задач. Вместо того чтобы находиться на постоянной должности с определенным набором обязанностей, сегодня от многих служащих ожидается более гибкий способ работы, при котором они объединяются для краткосрочных проектов с коллегами и консультантами извне, а затем переходят к следующему совместному заданию. Этот подход часто используется в рекламной и маркетинговой индустриях: часто команды объединяются для построения кампании и запуска определенного продукта, вскоре после этого их распускают, и их члены переходят к новым проектам. Многие служащие, имеющие квалификацию в области информационной технологии, склонны работать очень гибко, временно присоединяясь к небольшой рабочей группе или «стручку» с целью добавить свой технический опыт. Интенсивный период работы в междисциплинарной команде затем резко заканчивается, и внимание концентрируется на следующем срочном проекте. Как определил это один агент по найму кадров, работающий на одну из фирм Соединенного Королевства, занимающихся консалтингом в области СМИ, «одним из врагов творческой мысли является привычка. Работа в „стручке“ — это своего рода постановка пьесы. На этот шестинедельный период у вас появляется новая семья» (цит. по: Phillips 1999). Объединяя вместе служащих с различным опытом работы, маленькие команды могут максимально повысить квалификацию и вклад каждого участника и добиться более творческого решения задач.«Разносторонность умений»
Одно из убеждений постфордистских комментаторов состоит в том, что новые формы работы позволяют служащим увеличивать широту своих навыков из-за участия во множестве заданий, в отличие от выполнения определенного задания снова и снова. Групповое производство и коллективную работу считают способствующими формированию «многоквалифицированной» рабочей силы, которая способна выполнять более широкий спектр обязанностей. В свою очередь это ведет к более высокой продуктивности и более качественным товарам и услугам; служащие, которые могут вносить вклад в свою работу различными способами, будут более успешны в решении задач и нахождении творческих подходов. Движение в сторону к «разносторонности умений» имеет последствия для процесса найма кадров. Если когда-то решения о найме в основном принимались на основании образования и квалификации, сегодня многие работодатели ищут людей, которые способны адаптироваться и быстро обучиться новым навыкам. В связи с этим экспертное знание различных компьютерных программ может не так цениться, как доказанная способность быстро усваивать идеи. Специализация зачастую является достоинством, но, если служащим трудно творчески применять узкие навыки в новых обстоятельствах, она может не считаться преимуществом в условиях гибкого, легко внедряющего инновации предприятии. В исследовании Фонда Джозефа Раунтри под названием «Будущее работы» рассматривались типы навыков, которые сегодня интересуют работодателей (Meadows 1996). Авторы исследования пришли к выводу, что и в квалифицированных, и неквалифицированных секторах трудовой занятости все больше ценятся «персональные навыки». Способность сотрудничать, а также работать отдельно, брать на себя инициативу и перенимать творческие подходы при соответствующей надобности назывались среди лучших навыков, которые может иметь человек. В условиях такого рынка, где индивидуальным требованиям заказчика уделяется повышенное внимание, необходимо, чтобы служащие в различной обстановке — от сектора сервиса до финансового консалтинга — могли использовать «персональные навыки» на рабочем месте. Это «понижение ценности» технических навыков, согласно авторам исследования, может быть особенно тяжелым для рабочих, которые долго трудились на рутинной, монотонной работе, где не было места «персональным навыкам». Обучение на работе «Разносторонность умений» тесно связана с идеей обучения и переобучения служащих. Вместо того чтобы нанимать узких специалистов, многие компании предпочтут нанять способных неспециалистов, которые могут развивать новые навыки по ходу работы. По мере того, как меняются технология и требования рынка, компании по мере необходимости переобучают своих собственных служащих, вместо того чтобы привлекать дорогостоящих консультантов или заменять существующий состав новыми работниками. Вложения в основной состав служащих, которые могут стать ценными работниками, посвятившими всю свою карьеру этой организации, считаются стратегическим способом идти в ногу с быстро меняющимся временем. Некоторые компании организуют обучение в процессе работы с помощью команд, которые работают над одной и той же задачей. Этот метод дает возможность обучаться новым навыкам и быть кому-то наставником, параллельно выполняя работу: специалист в области информационной технологии может в течение нескольких недель работать в паре с менеджером компании с целью обоюдного обмена навыками. Эта форма обучения рентабельна, поскольку она не уменьшает количество часов работы в значительной степени, а также дает возможность служащим расширить их квалификационную базу. Обучение в процессе работы может быть для работников важным способом развить их навыки и улучшить перспективы карьеры. Однако важно отметить, что возможности обучения не открыты для всех работников в равной степени. В групповых исследованиях ESRC[8], посвященных молодым людям, рожденным между 1958 и 1970 гг., обнаружили, что служащие, уже обладающие рядом квалификаций, с гораздо более высокой вероятностью могли получить обучение в процессе работы, нежели их коллеги, не имеющие квалификаций. Такие исследования предполагают, что идет постоянное вложение средств в тех, кто уже являются наиболее квалифицированными, тогда как те, кто не имеют навыков, страдают от меньшего числа предоставляемых им возможностей. Обучение также влияет на уровень заработной платы: среди группы рожденных в 1970 г. обучение в процессе работы повышало доход служащего в среднем на 12 %.Критика постфордизма
Признавая трансформации, происходящие в сфере труда, некоторые комментаторы отрицают «постфордизм» как название. Одно из распространенных критических замечаний заключалось в том, что постфордистские аналитики преувеличивают степень отступления общества от фордистских методов. Мы свидетели не массовой трансформации, как уверяют нас сторонники постфордизма, но интеграции некоторых новых подходов к традиционным фордистским методам. Это утверждение было принято теми, кто считает, что на самом деле мы переживаем период «неофордизма» — т. е. модификации традиционных фордистских методов (Wood 1989). Утверждалось, что идея гладкого линейного перехода от фордистских методов к постфордистским искажает истинную природу труда с обеих сторон. Анна Поллерт полагает, что фордистские методы никогда не были столь уж закрепившимися, как нас уверяли некоторые. Согласно Поллерт, мнение, что век массового производства прошел, уступив место тотальной гибкости, также является преувеличением. Она отмечает, что методы массового производства по-прежнему в силе во многих отраслях промышленности, особенно тех, что направлены на потребительские рынки. Поллерт считает, что экономическое производство всегда характеризовалось разнообразием используемых методов, а не стандартным, единообразным подходом (Pollert 1988).Женщины и работа
В ходе истории мужчины и женщины участвовали в производстве и репродуцировании окружающего их общественного мира и на повседневной основе, и в масштабах длительных периодов времени. Однако сама природа этого партнерства и распределения обязанностей внутри него со временем принимала различные формы. Вплоть до недавнего времени оплачиваемая работа в западных странах была в основном мужской сферой. За последние несколько десятилетий эта ситуация радикально изменилась: все больше и больше женщин вступали в ряды тех, кто работает. Сегодня от 35 до 60 % женщин в возрасте от 16 до 60 лет в большинстве европейских стран имеют оплачиваемое место работы вне дома. В последующих разделах этой главы мы рассмотрим истоки и последствия этого феномена — одной из наиболее значительных трансформаций, происходящих в современном обществе в настоящее время. Мы также рассмотрим, как некоторые текущие изменения в области работы, такие как новые информационные технологии и гибкие модели организации работы, влияют на опыт женщин на рынке труда.Женщины и рабочее место: экскурс в историю
Для большинства населения в доиндустриальных обществах (и многих людей в развивающемся мире) производственная деятельность и домашние дела не были разделены. Производство имело место либо в самом доме, либо рядом с ним, и все члены семьи участвовали в работе в поле или занимались ремеслами. Женщины часто имели значительное влияние внутри семейства в результате своего важного вклада в экономические процессы, даже если они были исключены из таких мужских сфер, как политика и война. Жены ремесленников и фермеров нередко вели бухгалтерию, а вдовы часто имели собственное дело и управляли им. Многое из этого изменилось при отделении рабочего места от дома, вызванном развитием современной промышленности. Перевод производства на механизированные фабрики, пожалуй, явился важнейшим из факторов. Работа выполнялась в темпе, задаваемом мощностью станка, людьми, нанятыми специально для данного задания, так что постепенно работодатели начали заключать договоры с отдельными рабочими, а не с семьями. Со временем и по мере прогресса индустриализации установилось все более четкое разделение между домом и местом работы. Идея отдельных сфер — публичной и частной — укоренилась в человеческом сознании. Мужчины благодаря работе вне дома проводили больше времени в общественных местах и стали более вовлеченными в местные дела, политику и рынок. Женщины стали ассоциироваться с «домашними» ценностями и отвечали за такие сферы, как забота о детях, ведение дома и приготовление пищи для своей семьи. Идея о том, что «место женщины — ее дом», имела различные последствия для женщин в зависимости от их положения в обществе. Женщины с достатком пользовались услугами горничных, нянек и домашней прислуги. Бремя было наиболее тяжким для более бедных женщин, которые были вынуждены и выполнять работу по дому, и работать в промышленности, чтобы пополнять доход своих мужей. Уровень трудовой занятости женщин вне дома для всех классов был довольно низким даже позднее начала XX в. Еще в 1910 г. в Великобритании более трети работающих по найму женщин были горничными или домашними служанками. Женские трудовые ресурсы в основном состояли из молодых незамужних женщин, чья заработная плата, в случае их работы на фабрике или в конторе, часто посылалась работодателями непосредственно их родителям. После выхода замуж эти женщины, как правило, оставляли рынок труда и концентрировали свое внимание на семейных обязанностях.Рост женской экономической активности
С тех пор женское участие в платных трудовых ресурсах относительно стабильно росло. Одним из важных факторов был недостаток трудящихся, образовавшийся во время Первой мировой войны. В годы войны женщины выполняли множество видов работ, прежде считавшихся исключительно мужскими. Вернувшись с войны, мужчины снова заняли основную часть этих рабочих мест, но ранее установленная модель уже была нарушена. В годы после Второй мировой войны гендерное разделение труда сильно изменилось. Если в 1945 г. женщины составляли лишь 29 % трудовых ресурсов, то сейчас эта цифра достигла 45 %. В 1997 г. более 75 % женщин в возрасте от двадцати пяти до сорока четырех лет в Великобритании являлись экономически активными, что означает, что они были заняты на оплачиваемой работе или же находились в поиске работы; в 1971 г. лишь половина женщин была экономически активной. Наиболее значительный рост произошел среди замужних женщин. 60 % замужних или сожительствующих с партнером женщин, имеющих детей в возрасте от трех лет, сегодня заняты на оплачиваемой работе. Цифры занятости среди матерей-одиночек значительно ниже — лишь 36 % одиноких матерей с детьми дошкольного возраста являются экономически активными (HMSO 1999). Мужчины по-прежнему имеют более высокую степень экономической активности. Однако по мере того, как пропорция женщин в оплачиваемых трудовых ресурсах растет, пропорция экономически активных мужчин падает. В 1981 г. 98 % мужчин в возрасте от сорока пяти до пятидесяти четырех лет были экономически активными, но к 1997 г. эта цифра снизилась до 91 %. С годами вероятно дальнейшее уменьшение этого гендерного расхождения. Существует ряд причин, по которым расхождение в экономической активности между мужчинами и женщинами в последние десятилетия уменьшалось. Во-первых, произошли изменения в размахе и характере тех заданий, которые традиционно ассоциировались с женщинами и «сферой домашнего». По мере падения рождаемости и увеличения детородного возраста многие женщины начинают работать по найму в ранней молодости и возвращаются к работе после рождения детей. Семьи меньшего размера означали, что то время, которое раньше женщины проводили дома, заботясь о маленьких детях, уменьшилось. Механизация домашних дел также помогла сократить время, требуемое для поддержания дома. Автоматические посудомоечные машины, пылесосы и стиральные машины сделали объем домашней работы менее трудоемким. Существуют также свидетельства тому, что домашнее разделение труда между мужчинами и женщинами со временем неумолимо сокращается, хотя женщины, безусловно, выполняют больше домашних дел, чем мужчины (см. ниже). Существуют также финансовые причины, по которым растущее число женщин вступили на рынок труда. Традиционную ядерную модель семьи, состоящей из кормильца-мужчины, женщины-домохозяйки и находящихся у них на иждивении детей, сегодня имеют лишь четверть семей в Великобритании. Экономический пресс на семьи, включая рост мужской безработицы, привел к тому, что большее количество женщин стали искать оплачиваемую работу. Многие семьи считают, что для поддержания желаемого образа жизни необходимы два источника дохода. Другие изменения в домашней структуре, включая возросшее число одиноких и бездетных людей, а также рост домов, главой которых является мать-одиночка, означали, что женщины вне традиционных семей также вступали на рынок труда — по собственному выбору или по необходимости. В дополнение к этому недавние попытки реформы политики социального обеспечения, как в Великобритании, так и в США, были направлены на поддержку женщин, включая матерей-одиночек и замужних женщин с маленькими детьми, в их желании поступить на оплачиваемую работу. В заключение, важно отметить, что многие женщины сделали выбор в пользу рынка труда, желая получить личное удовлетворение, а также в ответ на стремление к равенству, выдвинутому женским движением 1960-х и 1970-х гг. Получив легальное равенство с мужчинами, многие женщины воспользовались возможностью реализовать эти права на примере собственной жизни. Как мы уже отмечали, работа — очень важная часть современного общества, и трудовая занятость практически всегда является необходимым условием независимой жизни. В последние несколько десятилетий женщины сильно продвинулись в сторону экономического равенства с мужчинами; повысившаяся экономическая активность была важной частью этого процесса (Crompton 1997).Гендер и неравенство на рабочем месте
Несмотря на формальное равенство с мужчинами, женщины по-прежнему сталкиваются с неравенством на рынке труда. В этом разделе мы рассмотрим три основных вида неравенства женщин на работе: профессиональную сегрегацию, концентрацию в сфере частичной занятости и разницу в оплате труда. Профессиональная сегрегация Традиционно работники-женщины имели плохо оплачиваемые, рутинные профессии. Многие из этих должностей по своей сути являются в высшей степени гендерными, т. е. обычно воспринимаются как «женская работа». На секретарской работе и в сфере ухода (медицинские сестры, социальные работники и работники по уходу за детьми) в подавляющем большинстве случаев заняты женщины, и эти специальности в целом считают «женскими». Профессиональная гендерная сегрегация — это ситуация, при которой мужчины и женщины сосредоточены на различных должностях, согласно превалирующему пониманию того, что является подходящей «мужской» или «женской» работой. Было обнаружено, что профессиональная сегрегация обладаем как вертикальными, так и горизонтальными компонентами. Вертикальная сегрегация — это тенденция к концентрации женщин на работах, которые не имеют значительного веса и не дают возможности сильно продвинуться, в то время как мужчины занимают более влиятельные и значительные позиции. Горизонтальная сегрегация — это тенденция мужчин и женщин заниматься различными категориями работ. Например, на домашних и рутинных канцелярских должностях в основном работают женщины, тогда как мужчины сосредоточены на полуквалифицированных и квалифицированных работах, связанных с физическим трудом. Горизонтальная сегрегация может быть весьма заметной. Более 50 % женской профессиональной занятости (по сравнению с 17 % мужской) в Соединенном Королевстве в 1991 г. сводилось к четырем профессиональным категориям: канцелярской, секретарской, сфере персональных услуг и «прочим примитивным» работам (Crompton 1997). В 1998 г. 26 % женщин были заняты на рутинных работах «белых воротничков» по сравнению в 8 % мужчин, тогда как 17 % мужчин были заняты квалифицированным физическим трудом по сравнению с лишь 2 % женщин (HMSO 1999). Изменения в организации трудовой занятости, а также установление стереотипов половых ролей способствовали профессиональной сегрегации. Хорошим примером являются перемены в престижности и рабочих задачах «клерков». В 1850 г. в Соединенном Королевстве 99 % клерков были мужчинами. Работа клерка часто означала ответственную должность, связанную со знанием начал бухгалтерии и иногда — с выполнением обязанностей управляющего. Даже клерк самого низкого ранга имел определенный статус в обществе. В XX в. произошла общая механизация офисной работы (начавшаяся с введением машинописи в конце IX в.); параллельно произошло значительное понижение навыков и статуса «клерка» — вместе с другой, связанной с ней, должностью «секретаря» — до разряда низкооплачиваемой профессии с низким статусом. По мере того как оплата и ассоциирующийся с этими профессиями престиж падали, ими стали заниматься женщины. В 1998 г. около 90 % канцелярских работников и 98 % от общего числа секретарей в Соединенном Королевстве были женщинами. Однако пропорция людей, работающих в должности секретаря, за последние два десятилетия изменилась. Компьютеры заменили печатные машинки, и сейчас многие менеджеры занимаются написанием писем и выполнением других заданий непосредственно на компьютере. Концентрация в сфере частичной занятости Хотя в наши дни число женщин, работающих на полную ставку вне дома, растет, большое число женщин сконцентрировано в сфере частичной занятости. В последние десятилетия возможности частичного трудоустройства необыкновенно возросли, отчасти в результате реформ рынка труда, ориентированных на поддержание гибкой политики трудоустройства, и отчасти из-за развития сектора услуг (Crompton 1997). Частичная трудовая занятость рассматривается как гораздо более гибкая система, дающая работникам больше возможностей, нежели работа на полную ставку. По этой причине такие должности часто предпочитаются женщинами, которые пытаются сохранить баланс между работой и семейными обязанностями. Во многих случаях это может проходить успешно, и женщины, которые иначе отказались бы от трудовой занятости, становятся экономически активными. Однако частичная занятость имеет определенные недостатки, такие как низкая оплата, отсутствие гарантии занятости и ограниченные возможности продвижения по службе. Рис. 13.4. Полная и частичная трудовая занятость среди мужчин и женщин. Соединенное Королевство. 1984–1998 гг.
Источники: Labour Force Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 29. 1999. P. 76. Crown copyright.
Рис. 13.4. Полная и частичная трудовая занятость среди мужчин и женщин. Соединенное Королевство. 1984–1998 гг.
Источники: Labour Force Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 29. 1999. P. 76. Crown copyright.
Работа не на полную ставку привлекает многих женщин, и с 1950 по 1980-е гг. основную часть женской экономической активности можно было приписать частичной занятости. К 1994 г. в Великобритании женщины занимали 78 % всех должностей, связанных с частичной занятостью (Crompton 1997; см. также рис. 13.4). В этом отношении Великобритания в некотором роде выделяется: среди индустриальных стран Соединенное Королевство имеет один из самых высоких уровней женской частичной трудовой занятости. Почему настолько больше женщин, чем мужчин, работают на неполную ставку? Социологи долго обсуждали феномен женской частичной трудовой занятости и пытались объяснить силу этой тенденции в Великобритании относительно других стран. Опросы показали, что должности с частичной занятостью плохо оплачиваются, не гарантированы и часто более гибки для работодателя, чем для служащего! Тем не менее, когда их спрашивали, большинство женщин, работающих на неполную ставку, говорили, что довольны частичной трудовой занятостью. Основной причиной работы на неполную ставку у опрошенных было то, что они предпочитают не работать полный день. Некоторые ученые утверждали, что существуют различные «типы» женщин — те, кто искренне вовлечен в работу вне дома и те, кто в нее не вовлечен, которые не возражают против традиционного полового разделения труда (Hakim 1996). Согласно этому подходу многие женщины с радостью выбирают частичную занятость, чтобы выполнять традиционные домашние обязательства. Однако явно присутствует знаменательное ощущение, что у женщин практически нет выбора. Мужчины в целом не берут на себя основной ответственности за воспитание детей. Женщины, на которых падает эта обязанность (как и другие домашние обязательства, об этом см. ниже), но которые хотят или нуждаются в оплачиваемой должности, неизбежно находят, что частичная занятость является более осуществимой альтернативой. (Мы рассмотрим спор на тему женской «ориентации на работу» во врезке следующего подраздела)
Разница в оплате
Средняя оплата труда работающих женщин в Великобритании намного ниже, чем у мужчин, хотя разница несколько уменьшилась за последние тридцать лет. В 1970 г. женщины, работающие на полную ставку, получали 63 пенса на каждый 1 фунт, получаемый мужчиной, работающим на полную ставку; к 1999 г. эта цифра поднялась до 84 пенсов. Среди женщин, занятых частично, эта разница уменьшилась от 51 до 58 пенсов за тот же отрезок времени. Эта общая тенденция к уничтожению разницы в оплате справедливо считается значительным шагом по направлению к равенству с мужчинами. На эти тенденции влияют несколько процессов. Одним знаменательным фактором является то, что большее число женщин занимают более высокооплачиваемые профессиональные должности, чем это было раньше. Молодые высококвалифицированные специалисты-женщины сегодня имеют столько же шансов получить прибыльную должность, сколько их коллеги-мужчины. Однако этот прогресс на верхушке организационной структуры компенсируется огромным ростом числа женщин, работающих неполный рабочий день на низкооплачиваемых должностях в быстро развивающемся секторе услуг. Профессиональная гендерная сегрегация является одним из основных факторов стойкости разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами. Женщин слишком много в более низкооплачиваемых трудовых секторах: более 45 % женщин получает менее 100 фунтов стерлингов в неделю по сравнению с лишь 20 % мужчин. Несмотря на некоторые улучшения, женщин по-прежнему не много на верхушке распределения доходов. 10 % мужчин получают более 500 фунтов стерлингов в неделю по сравнению с лишь 2 % женщин (Rake 2000). Введение общенационального минимального оклада в 1999 г. способствовало уменьшению разницы в оплате труда мужчин и женщин, поскольку многие женщины занимаются такими профессиями, как парикмахер или официантка, долгое время оплачиваемыми по более низкому тарифу, нежели установленный минимальный оклад. Подсчитали, что около 2 млн чел. получили надбавку примерно в 30 % благодаря новому минимальному окладу. Преимущества нового минимального оклада, однако, не отрицают того факта, что многие женщины по-прежнему заняты на должностях, оплачиваемых по минимальному тарифу или чуть выше него — заработок, на который трудно прожить одному человеку, не говоря уже о ситуации, когда имеются находящиеся на иждивении дети. Одним из проявлений такого положения является тот факт, что весьма значительная часть женщин в Соединенном Королевстве живет в бедности. Это особенно относится к тем женщинам, которые являются главой семьи. В течение прошедших двух десятилетий процент женщин среди бедных стабильно увеличивался. Бедность является наибольшей проблемой для женщин с детьми младенческого возраста, нуждающимися в постоянной заботе. Тут действует порочный круг: женщине, которая способна получить относительно высокооплачиваемую работу, может не хватать финансовых средств из-за того, что ей приходится оплачивать уход за ее ребенком, но если она начнет работать на неполную ставку, ее заработок упадет; любые перспективы карьеры, которые она могла бы иметь, могут исчезнуть, и она также теряет другие экономические преимущества, как например, право на пенсию, которые у нее были бы, работай она полный день. Если принять во внимание всю продолжительность жизни женщины, то разница в оплате приведет к поразительным различиям в общих заработках. В недавнем исследовании под названием «Доход женщин на протяжении жизни» (Rake 2000) отмечалось, что, к примеру, женщину средней квалификации на протяжении жизни ожидает «женский штраф» в размере 240 000 фунтов стерлингов. «Женский штраф» — это то, насколько меньше заработает за всю жизнь женщина по сравнению с мужчиной той же квалификации, даже в случае, если она не имеет детей. Сумма, которую заработает женщина за свою жизнь, отличается в зависимости от ее квалификации. Например, бездетная неквалифицированная женщина может заработать около 518 000 фунтов стерлингов за свою жизнь, а если женщина является выпускником вуза, она может рассчитывать на вдвое больший заработок — ее «женский штраф» будет относительно низким, и она не пострадает от «материнской разницы» — различия между заработками бездетной женщины и женщины с детьми. В противоположность этому, низкоквалифицированная мать двоих детей, вероятно, потеряет примерно 218 000 фунтов стерлингов из-за «материнской разницы» дополнительно к «женскому штрафу» (по сравнению с тем, сколько заработал бы мужчина с теми же квалификациями), в отличие от 140 000 фунтов стерлингов у среднеквалифицированной женщины и 19 000 — у высококвалифицированной женщины. Более вероятно, что женщины из двух последних категорий вернутся к работе быстрее и будут пользоваться услугами дневных учреждений по уходу за детьми, пока последние будут маленькими (Rake 2000).────────────────────────────┐ ■ Спор на тему частичной занятости Один из наиболее постоянных споров в социологических исследованиях работы идет о высокой концентрации женщин на низкооплачиваемых должностях и связанных с частичной трудовой занятостью. Предлагались различные объяснения относительно невыгодного положения женщин на рынке труда. Многие социологи подчеркивали давление таких общественных сил, как профессиональная сегрегация, ограниченное количество детских учреждений и постоянная гендерная дискриминация, объясняя, почему женщины идут на неполную трудовую занятость, — и, по-видимому, удовлетворены ей. Однако другие предлагают подход, во многом отличающийся от этого, утверждая, что положение женщин на рынке труда — следствие сознательного выбора, сделанного ими. Лидирующий сторонник последнего взгляда — Кэтрин Хаким (Hakim 1995, 1996, 1998). Согласно Хаким, сегодня существуют два основных типа работающих женщин: те, кто «вовлечен» в работу и занимается ей полный рабочий день, и те, кто «не вовлечен» в работу, считая приоритетными домашние обязанности, и работающие вне дома только неполный день. Хаким отрицает тот аргумент, что затрудненный доступ к организациям по уходу за ребенком является препятствием для женщин, желающих работать полный день, и не считает, что неполностью занятых женщин эксплуатируют. Она утверждает, что эти и другие «мифы» продвигаются учеными-феминистками, которые преследуют некие политические цели. Согласно Хаким, многие женщины просто иначе ориентированы по отношению к работе, чем мужчины. В результате они сознательно выбирают дом в качестве основного приоритета и довольны той гибкостью, которую дает неполная трудовая занятость. Работы Хаким вызвали неистовую реакцию у многих социологов, которые не согласны, что тенденции на рынке труда вызваны одним лишь выбором женщин (Girt et al. 1996; Crompton and Harris 1998). Противники взглядов Хаким считают, что не верно не принимать во внимание множество ограничений, с которыми женщинам приходится сталкиваться при принятии решения. Розмари Кромптон и Фиона Харрис выдвинули возражения против трактовки, что женщины имеют отличные от мужчин «ориентации в работе», предложенной Хаким. Согласно Кромптон и Харрис, женщины могут быть вовлечены и в работу, и в дела семьи с различной степенью заинтересованности на разных этапах их жизни. Как показали обследования работников, занятых в промышленности в 1960-е и 1970-е гг., они могут иметь разнообразные и отличающиеся подходы к работе, ценя ее как за то удовлетворение, которое она приносит, так и за доходы, которые она дает. То же относится, как утверждают они, и к современным женщинам, которые пытаются сбалансировать равно важные требования работы и семьи в различных культурных и профессиональных контекстах (Crompton and Harris 1998). Базируясь на межнациональных примерах бесед с работающими женщинами из России, Великобритании, Норвегии, Франции и Чешской Республики, Кромптон и Харрис пришли к выводу, что женские биографии показывают сложность и разнообразие их отношений к семье и работе. Например, женщина, которая с энтузиазмом строила свою карьеру в молодости, может поменять свои приоритеты в сторону рождения детей, но затем с тем же интересом вернуться к работе. Скорее, чем «вовлеченность» или «невовлеченность» в работу, это указывает на то, что женщины «строят» свои личные судьбы согласно тем возможностям и ограничениям, с которыми они сталкиваются на разных этапах жизни. Многие из оппонентов Хаким согласны, что женщины действительно делают выбор не в пользу трудоустройства, и что этот выбор влияет на более общее положение женщин на рынке труда. Но они отрицают ту идею, что женщины принимают решения «сознательно», будто бы находясь в вакууме. С большей вероятностью решения, касающиеся трудоустройства, формируются практическими задачами, отношениями к семье и культурными нормами. ────────────────────────────┘
Наступает ли конец профессиональному гендерному неравенству?
Количество возможностей для женщин, находящихся на высшей ступени, увеличивается... Несмотря на подразумеваемые профессиональную гендерную сегрегацию и разницу в оплате труда, существуют признаки того, что экстремальные гендерные неравенства становятся менее явными и что отношения, поддерживающие их, продолжают меняться. Среди молодых выпускников, которые сегодня вступают на рынок труда, профессиональная гендерная сегрегация менее очевидна. При групповом исследовании молодых людей 1970 г. рождения, проведенном ESRC, обнаружили, что молодым женщинам приносят пользу программы равных возможностей при приеме на работу, введенные в 1980-х (ESRC 1997). Женщины, принадлежащие к среднему классу, сегодня с одинаковой вероятностью могут быть приняты в престижный университет и найти хорошо оплачиваемую работу после его окончания, как и их одноклассники-мужчины. Наличие у женщины детей, находящихся у нее на иждивении, очень влияет на ее участие в системе оплачиваемого труда. Во всех социоэкономических группах женщины с большей вероятностью будут заняты полный рабочий день, если у них дома нет детей. Однако сегодня матери с гораздо большей вероятностью могут вернуться к полному рабочему дню на работе, к той же должности и к тому же работодателю, чем два десятилетия назад. Теперь женщины оставляют свою карьеру ради рождения ребенка на более короткие сроки, нежели ранее. Это особенно относится к более высокооплачиваемым профессиям — фактор, который способствует финансовой крепости «богатых работой» семей с двойным заработком. Похоже, что сегодня происходят глубокие преобразования: социологи соглашаются, что имел место значительный рост числа высокообразованных квалифицированных женщин. В исследованиях предполагается, что больше женщин приходит на профессиональные и менеджерские должности, чем в предыдущие десятилетия. К примеру, между 1991 и 1998 гг. пропорция женщин-менеджеров и администраторов поднялась от 30 до 33 % (HMSO 1999). Однако нам следует помнить, что тем, кто начинает свою карьеру, требуется немало времени, чтобы достичь высшей степени образованности, и полные результаты этого могут быть засвидетельствованы лишь годы спустя. Исследования показали, что получение доступа к высшим рангам власти было намного более сложным процессом для женщин, чем получение профессиональных должностей среднего уровня (см. выводы Джуди Вайчман в подразделе «Женщины в менеджменте» раздела «Гендер и организации» предыдущей главы). Менее 5 % директорских должностей в британских компаниях заняты женщинами; четыре из пяти фирм не имеют ни одной женщины-директора. К сожалению, похожая ситуация имеет место во многих отраслях экономики. Но положение женщин на нижней ступени по-прежнему не улучшается... Однако прогресс в области женских профессиональных возможностей ощутим не для всех в равной степени. Тенденции в «информационной экономике», похоже, увеличивают раскол между теми, кто находится на высшей ступени, и теми, кто внизу. Динамичный набор новых престижных профессий резко отличается от огромного числа низкоквалифицированных должностей, которые необходимы для поддержания функционирования «информационной экономики». Мы уже отмечали, что самый большой рост в женской оплачиваемой трудовой занятости имеет место в виде частичной занятости в низкооплачиваемом секторе услуг: женщины представляют собой важный трудовой ресурс в меняющейся экономике. Однако тот факт, что очень многие должности оплачиваются чуть выше или в размере минимального оклада, делает бедность весьма реальной проблемой для многих женщин, в особенности для матерей-одиночек. Трудовая занятость растет быстрыми темпами среди матерей маленьких детей — группы, которую остро волнует проблема ухода за ребенком. Потребность в услугах по уходу за детьми должна считаться одной из наиболее важных проблем, влияющих на способность женщины заняться поисками оплачиваемого места работы. Чтобы иметь возможность работать полный день, женщина должна организовать уход за ребенком — формальным или неформальным образом (помощь друзей, родственников или соседей). В докладе Департамента образования и трудовой занятости под названием «Решая проблему ухода за ребенком» (DfEE 1998) указывалось, что четыре из каждых пяти неработающих женщин работали бы, если бы могли организовать приемлемый уход за ребенком. Одна из семи матерей приводила необходимость ухода за ребенком как основную причину того, что она не работает. Хотя число частных организаций, предлагающих услуги по уходу за ребенком, растет, они чаще всего являются непомерно дорогостоящими. Низкоквалифицированные женщины зачастую обнаруживают, что работа вне дома едва покрывает расходы на услуги по уходу за ребенком.Домашнее разделение труда
Работа по дому Работа по дому в своей современной форме появилась с отделением дома от места работы (Oakley 1974). В индустриальном обществе дом стал скорее местом потребления, а не производства товаров. Домашняя работа стала «невидимой» по мере того, как «настоящая работа» все больше и больше определялась как та, что приносит прямой доход. Работа по дому традиционно считалась уделом женщин, тогда как область «настоящей работы» вне дома отводилась мужчинам. При этой традиционной модели домашнее разделение труда — то, каким образом обязанности по дому распределены между членами семьи, — была достаточной простой. Женщины брали на себя если не все, то большую часть домашних дел, тогда как мужчины «обеспечивали» семью, зарабатывая определенный оклад. Период развития отдельного «дома» был свидетелем ряда изменений. До того, как изобретения и удобства, данные нам индустриализацией, повлияли на сферу домашнего хозяйства, работа по дому была тяжелой и изнуряющей. Еженедельная стирка, к примеру, была тяжелым делом, требующим немало сил и времени. Введение домашнего водопровода с горячей и холодной водой уничтожило множество длительных по времени операций: до этого саму воду необходимо было принести в дом и там же нагревать всякий раз, когда требовалась горячая вода. С проведением электричества и газа ушли в прошлое угольные и дровяные печи, а такие домашние дела, как рубка дров, принесение угля и постоянная чистка печи практически исчезли. Тем не менее, среднее количество времени, уделяемое женщинами домашней работе, на удивление не очень снизилось даже с введением таких рационализаторских приборов, как пылесос и стиральная машина. Время, которое британские женщины, не имеющие оплачиваемого места работы, тратят на работу по дому, оставалось весьма стабильным в течение прошедшей половины века. Бытовая техника уничтожила некоторые из наиболее тяжелых задач, но образовались новые. Увеличилось количество времени, затрачиваемое на уход за детьми, заполнение дома покупками и приготовление еды. Неоплачиваемый домашний труд очень важен для экономики. Подсчитано, что работа по дому приносит от 25 до 40 % богатств, создаваемых в индустриальных странах. Домашняя работа поддерживает остальные составляющие экономики с помощью бесплатных услуг, от которых зависят многие представители населения, работающего за плату. Однако в работу по дому как таковую заложено ряд проблем. Исследование работы по дому как формы работы, произведенное Энн Оукли, показало, что посвящение полного рабочего дня домашним делам может привести к изоляции, отчуждению и не нести с собой внутреннего удовлетворения. Оукли свидетельствует, что домохозяйки находили домашние дела в высокой степени монотонными и с трудом избегали психологического давления требования отвечать определенным, установленным ими же самими стандартам работы (Oakley 1974). Различные формы оплачиваемой и неоплачиваемой работы тесно связаны между собой, что показывает нам вклад работы по дому в экономику в целом. Один из основных вопросов, интересующих социологов, состоит в том, насколько растущее участие женщин на рынке труда повлияло на домашнее разделение труда. Если количество домашней работы не уменьшилось, но теперь меньше женщин полностью посвящают себя работе домохозяйки, следует вывод, что домашние дела в семьях сегодня организуются иначе. Изменения в домашнем разделении труда Одним из результатов того, что сегодня больше женщин заняты оплачиваемой работой, является пересмотр определенных традиционных семейных моделей. Модель «мужчина-кормилец» стала скорее исключением, нежели правилом, а растущая экономическая независимость женщин стала означать, что они при желании имеют больше возможностей перестать играть отведенную им гендерную роль домохозяйки. С точки зрения и работы по дому, и решения финансовых вопросов традиционные домашние роли женщин претерпевают значительные изменения. По всей видимости, во многих домах идет процесс, направленный в сторону равноправных взаимоотношений, хотя женщины продолжают брать на себя основную ответственность за большую часть работы по дому. Исключением из этого, по-видимому, являются мелкий домашний ремонт, зачастую выполняемый мужчинами. Исследования показали, что замужние женщины, работающие вне дома, выполняют меньше работы по дому, чем остальные, хотя они практически всегда ответственны за ведение хозяйства. Модель выполнения домашних дел у них, конечно же, несколько иная. Эти женщины делают больше работы по дому в начале вечера и дольше занимаются ей по выходным, нежели классические домохозяйки. Тот факт, что работающие женщины по-прежнему несут основную ответственность за домашние дела, навел американского социолога Арли Хокшилд на разговор о «второй смене» (Hochschild 1989). Хокшилд использует этот термин для описания тех дополнительных часов домашнего труда, с которыми приходится сталкиваться многим работающим женщинам после официального рабочего дня для того, чтобы в доме все было в порядке. С точки зрения Хокшилд, для женщин это приравнивается «остановленной революции»; хотя они все больше продвигают свои права на рынке труда, им приходится нести тяжкое бремя домашней работы. Однако существуют свидетельства, что даже эта модель меняется. Мужчины вносят больший вклад в работу по дому, чем это было, в прошлом, хотя ученые, которые занимались этим феноменом, утверждают, что этот процесс есть «замедленная адаптация» (Gershuny et al. 1994). Под этим понимается то, что пересмотр распределения домашних дел между мужчинами и женщинами происходит медленнее, чем приход женщин на рынок труда. Исследования показали, что разделение труда внутри семей варьируется относительно таких факторов, как классовая принадлежность и количество времени, которое женщина проводит на оплачиваемой работе. Пары из более высоких социальных слоев обычно имеют более равноправное разделение труда, как и те семьи, где женщина работает полный рабочий день. В целом мужчины принимают на себя больше ответственности за работу по дому, но этот груз по-прежнему распределяется неравномерно. Опрос, проведенный Уорд и Хезерингтоном в Манчестере, показал, что домашнее разделение труда было более равноправным среди молодых пар, нежели среди представителей более старшего поколения. Авторы пришли к выводу, что со временем гендерные стереотипы ослабевают (Warde and Heathenngton 1993). Молодые люди, которые были воспитаны в семьях, где родители пытались распределить между собой домашние дела, с большей вероятностью могли применять ту же практику в своей собственной жизни. Воглер и Пал изучили другой аспект домашнего разделения труда, а именно систему домашнего финансового «менеджмента» (Vogler and Раhl). В своем исследовании они преследовали цель понять, является ли доступ женщины к деньгам и контроль над решениями, касающимися семейных трат, более равноправным в связи с ростом женской трудовой занятости. С помощью интервью, взятых у семейных пар из шести различных местностей в Великобритании, они обнаружили, что распределение финансовых ресурсов в целом происходит более справедливым образом, нежели раньше, но что оно по-прежнему связано с вопросами классовой принадлежности. Среди семейных пар с более высоким достатком «объединенные» ресурсы, как правило, распределялись совместно, и было больше равенства в доступе к деньгам и в решении вопросов, касающихся трат. Чем больше финансовая доля, приносимая женщиной в семью, тем у нее больше контроля над принятием финансовых решений. В семьях с более низким достатком женщины зачастую отвечают за повседневное ведение финансов семьи, но не обязательно за стратегические решения, касающиеся бюджета и трат. В этих случаях Воглер и Пал заметили у женщин тенденцию защищать доступ их мужей к деньгам, одновременно лишая себя такого же права. Иными словами, образовалась картина разделения между повседневным контролем женщины над финансами и ее доступом к деньгам.Работа и семья
До сих пор мы рассматривали некоторые из основных трансформаций, происходящих в сфере работы, — уклон в сторону экономики знания, введение гибких «постфордистских» методов производства, а также вступление женщин на рынок труда. Каким образом эти изменения в работе ощутимы внутри семьи? Трансформации на рабочем месте не происходят в вакууме — они приводят к важным последствиям для тех домашних хозяйств и семей, к которым принадлежат работники. В этом разделе мы рассмотрим некоторые проблемы и возможные стратегии урегулирования между потребностями работы и семьи в нашем стремительно меняющемся мире.Проблема совмещения работы и семьи
Изменение традиционной модели семьи, основанной на принципе «мужчина-кормилец», сопровождался ростом равенства женщин, как в доме, так и в профессиональной сфере. Однако он также привел к сложным последствиям среди семей и внутри них: социальная поляризация и бедность увеличиваются по мере того, как разница между «богатыми работой» и «бедными работой» семьями увеличивается. Расширяется граница между домами с двойным заработком и семьями, где не зарабатывает никто либо получает оклад лишь один человек (см. рис. 13.5). Рис. 13.5. Количество зарабатывающих, по парам с находящимися на их иждивении детьми. Великобритания. 1979–1996 гг.
Источник: General Household Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. P. 68. Crown copyright.
Рис. 13.5. Количество зарабатывающих, по парам с находящимися на их иждивении детьми. Великобритания. 1979–1996 гг.
Источник: General Household Survey. Office for National Statistics. From Social Trends. 30. 2000. P. 68. Crown copyright.
Эти изменения в структурах семейного хозяйства совпали с огромными преобразованиями в экономике и на рабочем месте. Компании пытаются стать более эффективными и модернизированными, количество рабочих мест урезается или «сокращается в размерах», и многие работники волнуются за стабильность своего положения. Высокие ожидания, связанные с тем, как выполняются задания (либо определяемые самостоятельно, либо идущие сверху), означают, что работники трудятся более усиленно и большее количество часов. Работа требует от людей больше времени; особенно в случае пар, где работают оба супруга, или матерей-одиночек, больше отданного работе времени означает меньшее количество времени, которое можно посвятить семейной жизни и общению с детьми. Распределение времени стало основной проблемой для многих семей, у которых просто «слишком много работы». Удлинение рабочей недели В ходе исследования, проведенного Фондом Джозефа Раунтри, обнаружилось, что 60 % работников кажется, что за последние пять лет им приходилось работать усиленнее и в более быстром темпе, нежели ранее. Британские мужчины, работающие на полную ставку, работают в среднем большее количество часов, чем практически в любой другой стране Европы: 45,7 ч в неделю по сравнению с общим по ЕС показателем 41,3 ч (HMSO2000, 74). Официальная статистика, взятая из «Обследования трудовых ресурсов», показывает, что примерно 20 % британской рабочей силы трудится более 48 ч в неделю на своем основном рабочем месте. 30 % мужчин утверждали, что работают больше, чем 48 ч в неделю, среди женщин — 7 % (HMSO 1999). Исследования, посвященные моделям работы среди менеджеров и консультантов, показывают, что все чаще встречаются ситуации, когда люди регулярно работают 50, 60, 70 и более часов в неделю. Становится ли «удлиненный рабочий день» нормой? Некоторые считают, что это так и что эта тенденция является, безусловно, нехорошей. Критики утверждают, что «рабочие перегрузки» приводят к явному дисбалансу между профессиональной и личной жизнью. Работающие родители, которые приходят домой озабоченными и уставшими, в меньшей степени способны уделять достаточно внимания и времени детям и супругам, что ухудшает и брак, и детское развитие. У них также меньше времени на развлечения или участие в делах своего района, таких как местная политика или школьное руководство. Согласно критикам, часы, отданные работе, регулярно «покушаются» на ценное время отдыха, которое необходимо людям, чтобы оставаться здоровыми. Трудовая занятость родителей и детское развитие По мере того как все больше и больше матерей приходят на рынок труда, возникает вопрос о долгосрочных последствиях этой тенденции, ее влиянии на благополучие детей. «Обсчитывают» ли матери собственных детей? По этому поводу существуют различные точки зрения; многие из них весьма спорны и утверждают, что те дети, оба родителя которых ходят на работу, находятся в худшем положении, чем те, у кого один из родителей был дома в ранние годы их жизни. В исследовании, проведенном Институтом образования, использовались данные Национального опроса по детскому развитию, в ходе которого опросили 11 000 чел. 1958 года рождения, а также их детей. Исследование было посвящено влиянию возвращения матери к работе на ребенка, которому еще нет одного года. Результаты показали связь между женской трудовой занятостью и последующими академическими успехами ребенка: дети, чьи матери вернулись на работу в течение года после их рождения, имели несколько худшие навыки чтения, чем остальные дети в возрасте от восьми до десяти лет. Однако исследование также показало, что, в целом, дети, матери которых вернулись к работе (в особенности к полной трудовой занятости), были более приспособленными, менее беспокойными и более социально зрелыми в дальнейшей жизни (Joshi and Verropoulou 1999). На подобные исследования указывают те участники политических кампаний, которые утверждают, что женщины должны обладать законным правом вернуться к работе через год после рождения ребенка, но не ранее, что часто практикуется. В недавнем социологическом исследовании, проведенном в Баркинге и Дагенхеме в Восточном Лондоне, также обнаружились нити, связывающие получение детьми образования и модели родительской трудовой занятости (O’Brien and Jones 1999). В 1994 г. Маргарет О’Брайен и Дебора Джонс опросили 620 школьников в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет с целью изучить взаимосвязь между их семейной жизнью и учебой. Дополнительно к заполнению анкет, детей попросили в течение одной недели вести дневник своего ежедневного распорядка дня, включавшего в себя информацию о том, сколько времени они проводили с каждым из родителей. О’Брайен и Джонс затем собрали дополнительные данные о школьных результатах этих детей по прошествии двух лет. Баркинг и Дагенхем в 1950-е гг. были местом важного социологического исследования, проведенного Питером Виллмоттом; в то время в этой местности в основном жили белые семьи из рабочего класса с сильными родственными узами и низким образованием. Виллмотт описал их как «колонию единого класса» с однородной культурой и ценностями, направленными на физический труд (Willmott 1963). Более чем два десятилетия спустя местность по большому счету не изменилась, хотя гораздо больше женщин стали работать. В исследовании О’Брайен и Джонс 40 % семей имели два источника дохода — оба родителя, работающих полный рабочий день, 34 % имели два источника дохода — отца, работающего на полную ставку, и мать, работающую неполный рабочий день, и 23 % семей были семьями с одним источником дохода — отцом, работающим полный рабочий день, и матерью-домохозяйкой.
Таблица 13.1 Отчет детей о времени, проведенном с родителями, по статусу трудовой занятости родителя (часы и минуты)
 Не было замечено существенной разницы между профессиями отцов в трех родительских группах по статусу трудовой занятости (НРД — неполный рабочий день; ПРД — полный рабочий день).
Источник: O'Brien М. and Jones D. Children, parental employment and educational attainment: an English case study. Cambridge Journal of Economics. 23. 1999.
Не было замечено существенной разницы между профессиями отцов в трех родительских группах по статусу трудовой занятости (НРД — неполный рабочий день; ПРД — полный рабочий день).
Источник: O'Brien М. and Jones D. Children, parental employment and educational attainment: an English case study. Cambridge Journal of Economics. 23. 1999.
Основываясь на данных опроса, О’Брайен и Джонс могли сравнить количество времени, проводимое детьми с их родителями, в различных типах семей. Они обнаружили, что, в целом, доступность матери для детей была самой высокой в случае, когда мать работала неполный рабочий день (см. табл. 13.1). Удивительно, но в тех домах, где отец работал на полную ставку, а мать была дома, дети проводили с родителями наименьшее количество времени. Со слов детей, неработающие матери не обязательно проводили с ними больше времени, даже будучи дома. Это особенно касалось выходных; О’Брайен и Джонс предполагают, что неработающие матери могли не считать необходимым проводить дополнительное время с детьми по выходным или же могли не иметь средств для оплаты развлечений по сравнению с другими матерями. Что касается качества отношений родителей с детьми, то дети, матери которых работали неполный рабочий день, выражали немного больше удовлетворения, чем те, чьи матери работали на полную ставку, хотя разница не была столь уж значительной. Например, 81 % детей, матери которых работают неполный рабочий день, считали, что у последних находилось время поговорить с ними на важные темы; среди тех детей, чьи матери работали на полную ставку, этот показатель составлял 73 %. Рассматривая общие успехи в учебе тех детей, которые участвовали в исследовании, О’Брайен и Джонс отметили влияние на результаты обучения нескольких факторов: материальное благосостояние, амбиции, связанные с образованием, материнскую похвалу и модели трудовой занятости родителей. В заключение эти авторы утверждают, что дети лучше учатся в школе в том случае, когда родители работают, но итоги несколько ниже среди тех, у кого оба родителя работают полный рабочий день. В целом, однако, приход женщин из Баркинга и Дагенхема на рынок труда оказал положительное влияние на переход детей к дальнейшим жизненным этапам (O’Brien and Jones 1999). Нагрузка работающих матерей Женщины продолжают нести на себе основную ответственность по уходу за детьми, хотя эта ситуация, по-видимому, в некоторой степени меняется, по мере того, как отцы стали играть более активную роль в воспитании. Это означает, что работающие матери маленьких детей ежедневно сталкиваются с проблемой установления баланса кажущихся бесконечными требований дома и работы. Для многих работающих матерей повседневная жизнь превращается в одно пятно: подъем и сборы детей по утрам, доставка их в то или иное детское учреждение, полный рабочий день, далее им нужно зайти за детьми в конце дня, провести с ними какое-то время по вечерам, заняться домашними делами и попытаться урвать сколько-то времени для своих собственных нужд. Для матерей-одиночек эти проблемы стоят еще более остро, так как они имеют меньше поддержки и у них меньше «резервов», особенно в те дни, когда дети болеют и нуждаются в уходе. Многие работающие матери считают, что им приходится идти на уступки, чтобы различные аспекты их жизни не противоречили друг другу. Одна респондентка при исследовании Джуди Вайчман, посвященном женщинам-менеджерам, дала следующий комментарий:
На мой взгляд, в жизни существует три стихии: семья, социальная жизнь и работа. В семье, где карьеру строят двое, одного из элементов приходится лишаться, и для меня им стала социальная жизнь. Если я не на работе, я мать «от и до», а когда дети уложены в постель, я падаю от усталости!Даже те работающие матери, которые могут себе позволить нанять помощницу по дому, считают, что на них ложится больше ответственности за организацию и наблюдение за выполнением этих услуг, чем на их партнеров-мужчин. «Если вы спросите няню, кто ее начальник, она вам скажет, что это я, — сказала другая женщина-менеджер. — И я знаю от нее больше различных деталей, она чаще говорит со мной, нежели с моим мужем» (цит. по: Wajcman 1998, 152). В некоторых недавних исследованиях утверждалось, что напряжение, возникающее от попытки сбалансировать работу и дом, приводит большое число работающих матерей к тому, что они вообще оставляют работу на полную ставку или устраиваются на работу с неполной занятостью. Социологи из Бристольского университета провели исследование среди 560 британских матерей, которые вернулись к полной занятости после рождения первого ребенка. Они обнаружили, что более чем одна треть из этих матерей оставили работу на полную ставку в течение последующих двух лет. Многие называли в качестве причины негибкость работодателей, которые не желали давать каких-либо поблажек в связи с тем, что у вернувшихся на работу матерей появились новые, дополнительные обязательства, относящиеся к малышу (Wilson J. 2000). Хотя подобные результаты важны для демонстрации тех больших проблем, с которыми сталкиваются работающие матери в современном мире, мы также должны быть осторожны с их интерпретацией. Воспитание детей по самой своей природе является сложным и трудоемким занятием; не удивительно, что путь, нацеленный на одновременное внимание и к воспитанию, и к профессиональным обязанностям, полон трудностей. Однако существует опасность счесть задачу совмещения семьи и работы «женской проблемой». Думая о том, как же наилучшим образом уравновесить дом и работу, мы также должны обращать внимание на соответствующую роль отцов, работодателей и правительства в поддержке процесса воспитания ребенка. Сейчас мы посмотрим на примеры «просемейной» политики, которую развивают в некоторых рабочих местах с целью облегчить нагрузку, вызванную совмещением работы и семьи.
«Просемейная» политика на работе
Если мы, в самом деле, вступили в эпоху, когда темп работы стал более быстрым, компании — более гибкими, стиль менеджмента — «более мягким», то меняются ли условия трудоустройства таким образом, чтобы проблему совмещения работы и семьи служащим было проще решать? Судя по признакам, благодаря информационной технологии, ряд «просемейных» методов работы перенимается работодателями, чтобы помочь работающим семьям справляться с рабочими и не относящимися к работе задачами. Не существует единого мнения относительно четких критериев политики, которая могла бы считаться «просемейной». Однако в своем исследовании различных типов «просемейной» политики, существующих на сегодняшний день в Европе, Лайза Харкер отметила четыре основных условия, которые должны выполняться (Harker 1996): 1. Политика должна быть направлена на то, чтобы служащие могли выполнять требования и дома, и работы. 2. Политика должна поддерживать гендерное равенство и распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами. 3. Политика не должна быть дискриминационной и должна осуществляться в приемлемых рабочих условиях, а также быть открыта нуждам работников. 4. Просемейная политика не будет успешной при отсутствии баланса — «незримого контакта» — между потребностями работника и нуждами работодателя. Те, кто поддерживает «просемейную» политику, утверждают, что последняя выгодна для всех. Во-первых, гибкая политика идет на пользу работодателям. Они дают работникам больше контроля над их собственными судьбами, позволяя им принимать решения, касающиеся того, каким образом им лучше работать. Это приводит к тому, что работники находят более приемлемый баланс между своими рабочими и не относящимися к работе обязательствами. При гибкой политике признается, что работники на разных этапах жизни имеют различные потребности. Например, молодой работник может интенсивно работать, строя свою карьеру, в течение десяти лет, затем, когда у него появляются дети, решает уменьшить количество часов работы на период длительностью в пять лет, затем возвращается к бывшему уровню активности в середине жизни, а позже начинает отрабатывать часть трудовых часов дома, чтобы иметь возможность заботиться о престарелом родителе. Вторая сильная сторона «просемейной» политики состоит в том, что она идет на пользу компании. Разрабатывая вместе с работниками более удобные модели труда, работодатели обнаруживают, что их подчиненные трепетнее и заинтересованнее относятся к компании. Их работа также, как правило, более эффективна и результативна, поскольку они проводят меньше времени в попытках скоординировать различные аспекты их жизни. Более организованные, менее озабоченные в плане индивидуального характера служащие, согласно мнению сторонников гибкой политики, будут работать лучше. Типы «просемейной» политики на работе далеко не универсальны, но некоторые подходы становятся все более популярными по мере распространения информационных технологий. Гибкий график Гибкий график — это одна из возможностей, которая распространилась среди служащих наиболее широко. Как предполагает сам термин, гибкий график позволяет служащим самостоятельно выбирать часы работы, не выходя за определенные установленные рамки. Это, к примеру, может означать, что работающая мать начинает свой трудовой день в семь часов утра, чтобы быть дома к тому времени дня, когда дети заканчивают школьные занятия. Другие служащие могут предпочесть начинать свою работу рано, заканчивать ее поздно, но оставляют за собой три часа в середине дня, чтобы иметь возможность заботиться о больном родственнике. Другой вариант гибкого графика, предпочитаемый многими служащими, состоит в сжатии трудовой недели до четырех дней вместо пяти. Работа в течение большего количества часов с понедельника по четверг позволяет людям получить трехдневные выходные. Хотя гибкий график популярен у многих работников, особенно у пар с двумя зарабатывающими партнерами, которые могут использовать гибкий график, чтобы координировать свое рабочее расписание с нуждами детей, он применим не ко всем типам работы. Критики также утверждают, что гибкий график не может создать никакого дополнительного времени, которое можно было бы провести с семьей: он просто по-новому распределяет трудовую нагрузку. И наконец, некоторые менеджеры являются противниками гибкого графика, утверждая, что работникам необходимо в рабочие часы находиться в офисе, чтобы они могли обслуживать клиентов и сотрудничать с коллегами. Один менеджер в исследовании на тему «просемейной» политики объяснил потенциальные недостатки гибкого графика следующим образом:«Моя основная цель — разработать такую систему, в которой учитывались бы потребности Тины, но чтобы она также была приемлема для остальных людей в офисе... Если они станут свидетелями того, как она ежедневно рано уходит домой, это катастрофически плохо отразится на их моральном состоянии. Более приемлемой является ситуация, при которой она один день в неделю отсутствует» (цит. по: Lewis and Taylor 1996, 121).Совместная работа Совместная работа — подход, который меняет организацию труда. Совместная работа позволяет двоим людям распределять должностные обязанности и заработок одной и той же позиции. Для женатой или сожительствующей пары, оба партнера в которой обладают похожими квалификациями или навыками, этот вариант может быть привлекателен, поскольку он позволяет в любое время одному из родителей заниматься уходом за ребенком. Совместную работу можно также организовать между двумя служащими, работающими не полный рабочий день, которым необходима определенная гибкость, чтобы выполнять ряд обязанностей, не относящихся к работе. Например, две работающие матери могут совместно занимать определенную административную должность, согласовывая часы работы между собой. Существуют практические проблемы, связанные с поддержанием нормального хода совместной работы, поскольку обоим индивидам необходимо быть в курсе и выполненных дел, и тех, которые еще предстоит сделать. Однако, если установлена эффективная коммуникация и система ведения записей, совместная работа предлагает прекрасную степень гибкости и служащим, и компании. Работа на дому Работа на дому (иногда также называемая как «электронные поездки на работу»), позволяет служащим выполнять некоторые или все их рабочие обязанности в домашних условиях с помощью компьютера и модема. В тех работах, где нет необходимости регулярного общения с клиентами или коллегами, такими как компьютерный графический дизайн или защита прав рекламной продукции, служащие считают, что работа на дому позволяет им и справляться с нерабочими обязанностями, и работать более продуктивно. Феномен «сетевых работников», по-видимому, будет в последующие годы только расти. Хотя работа на дому стала в последние годы более распространенной, это не означает, что все работодатели считают ее предпочтительной. Наблюдать за работой служащего, когда он не присутствует в офисе, намного сложнее; по этой причине часто вводятся новые виды контроля для работающих в домашних условиях, чтобы последние не злоупотребляли своей «свободой». Например, подчиненных могут обязать регулярно появляться на работе или же сдавать отчеты о продвижении проекта чаще, чем остальных служащих. Хотя многие смотрят на потенциал «домашних офисов» с большим энтузиазмом, некоторые ученые предупреждают, что может возникнуть значительная поляризация между профессиональными домашними работниками, которые занимаются дома выполнением сложных, творческих проектов, и в целом неквалифицированными домашними работниками, которые выполняют в домашних условиях такие рутинные виды работ, как перепечатывание документов или ввод данных. Если такой раскол произойдет, среди более низких рангов домашних работников вероятна большая концентрация женщин (Phizacklea and Wolkowilz 1995). Декретный отпуск «Дружелюбное отношение» компании к семье можно измерить в отношении политики декретных отпусков. На волне общего сдвига в сторону политики, более учитывающей нужды служащих, многие компании в Соединенном Королевстве используют вышеописанные подходы, желая облегчить нагрузку молодых родителей. Однако, по закону, работающие отцы и матери в Соединенном Королевстве могут рассчитывать только на тринадцать недель неоплачиваемого отпуска. Хотя некоторые работодатели могут пойти навстречу, и дать более длительный декретный отпуск для одного из родителей, по закону этого от них не требуется. Во многих других европейских странах политика декретных отпусков применялась с целью поддержать в особенности отцов в желании оставить работу на какое-то время для помощи в воспитании ребенка. Например, в Норвегии служащие могут брать 42 недели полностью оплачиваемого декретного отпуска или 52 недели, оплачиваемые наполовину. Отцы обязаны использовать хотя бы четыре недели этого отпуска. Родителям выделяется от десяти до пятнадцати больничных дней ежегодно для ухода за заболевшим ребенком; родителям-одиночкам дается несколько больше времени — от двадцати до тридцати дней (UNDP 1999). Положение в Швеции поддерживается рядом английских активистов и разработчиков политического курса как модель, к которой Соединенному Королевству следует стремиться. Швеция была лидером западного мира по вопросам законодательства, разработанного с учетом продвижения равенства полов (Scriven 1984). Хорошо оплачиваемые и равные условия отпуска надежно защищены законом, давая возможность и отцам, и матерям оставаться на рынке труда, но иметь необходимое количество времени и пространства на выполнение своих родительских обязанностей. Число шведских женщин, имеющих оплачиваемую работу, высоко — от 80 до 90 % женщин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти четырех лет заняты той или иной формой такой работы. Женщинам положены пятнадцать недель оплачиваемого декретного отпуска; в течение этого срока государственные пособия составляют от 80 до 90 % от их обычного заработка. Родителям полагается десять дней оплачиваемого отпуска во время рождения ребенка, а также 450 дополнительных отпускных дней, оплачиваемых на 80 %. Пока ребенок не достигнет восьмилетнего возраста, оба родителя имеют право на 25 %-е уменьшение количества часов работы. Дополнительно существует множество дневных детских учреждений, обеспечивающих уход за детьми вплоть до двенадцатилетнего возраста во время праздников или после школы (UNDP 1999). Оценка Стоит ли нам искренне приветствовать переход к «просемейной» политике работы? С одной стороны, невиданные ранее попытки помощи служащим в координировании работы и семейной жизни можно считать динамичным и положительным ответом на те изменения, которые происходят в экономике и в характере работы. Однако существует ряд моментов, по которым «просемейная» политика работы в тех видах, в которых она сейчас применяется, не годится для решения истинной проблемы, волнующей современную семью. Во-первых, гибкая трудовая политика отсутствует во многих типах рабочих мест и часто касается только определенных служащих, которым отдается предпочтение. Во многих случаях решение о том, позволить ли тому или иному подчиненному работать на более гибкой основе, принимается по усмотрению руководства. Большинство решений по-прежнему нацелены на нужды служащих-женщин с маленькими детьми, а не на более широкий круг участников, включающий мужчин и тех, кому необходимо ухаживать за престарелыми родственниками или инвалидами. Степень применения подобной политики по отношению к мужчинам остается неутешительно низкой. Например, всего лишь 5 % служащих-мужчин в ЕС, включая те страны, где политика в отношении семьи является относительно благоприятной, в 1995 г. работали неполный трудовой день или брали отпуск, полагающийся в связи с отцовством. Как заметил член комиссии ЕС по трудовой занятости и общественным вопросам, «даже там, где политика направлена на уничтожение гендерного дисбаланса в сфере ухода... по-прежнему господствует мнение, что это — обязанность женская» (UNDP 1999, 82). Во-вторых, степень использования гибкой политики очень сильно варьируется. Это может быть связано с боязнью женщин, что принятие ими гибкой политики будет истолковано как их слабая «привязанность» к этому месту работы. Такой страх не кажется неуместным. При опросе членов Института директоров обнаружили, что 45 % из них рассматривали женщин детородного возраста как нежелательных подчиненных по сравнению с другими группами по причине потенциальных конфликтов между интересами работы и дома. Директор, отвечающий за политику института, считает, что «когда работодатели нанимают людей, они знают об их семейных обязательствах, но рассчитывают, что те достаточно взрослые, чтобы самим справляться с нагрузками. Мы этого делать не обязаны» (цит. по: Lynch 2000). В-третьих, некоторые комментаторы утверждают, что с помощью одной лишь «просемейной» политики нельзя обеспечить экономическую независимость женщин и полностью интегрировать их в рынок труда. Подобная политика также не сможет облегчить проблемы совмещения работы и семьи — в лучшем случае она способна по-новому «перестроить» некоторые ее аспекты. Есть мнение, что ответ лежит в сокращении трудовой недели для всех в качестве вызова, брошенного культуре длительного пребывания на работе (Creighton 1999). Более короткая рабочая неделя привела бы к созданию нового «договора» между работой и семьей, который бы заменил уже изрядно подорванную систему «мужчина-кормилец». С ее помощью, благодаря более равномерному распределению работы среди взрослых, были бы возможны более удачный баланс между работой и домом, большая степень гендерного равенства и менее сильная социальная поляризация. Другие ученые утверждают, что это значительное изменение потребует культурного сдвига и смены мировоззрений, а не просто набора различных видов политики, среди которых люди могли бы выбирать. Разновидности «просемейной» политики стали популярными отчасти потому, что компании считают, что это — привлекательные преимущества, которые следует предлагать ценным сотрудникам. Однако пока идеалы, стоящие за этими видами политики, не станут частью общей программы и целью компании, есть опасность, что подобные возможности останутся достаточно редким явлением.
Безработица
Уровень безработицы в значительной степени менялся в течение XX в. В западных странах безработица достигла апогея в 1930-е гг., когда около 20 % трудоспособных лиц в Великобритании не имели работы. Идеи экономиста Джона Мэйнарда Кейнса серьезно повлияли на общественную политику послевоенного периода в Европе и США. Кейнс считал, что безработица происходит от отсутствия достаточной покупательной способности, из-за чего производство не стимулируется и требуется меньший штат рабочих; правительства могут вмешиваться, чтобы повысить уровень спроса в экономике, что ведет к созданию новых рабочих мест. Государственная политика по управлению экономической жизнью, как стали считать многие, означала, что высокий уровень безработицы должен был остаться в прошлом. Стремление к полной занятости стало частью государственной политики практически во всех западных обществах. Вплоть до 1970-х гг. этот курс был успешным, и экономический рост был более или менее постоянным. В течение 1970-х и 1980-х гг. уровень безработицы с трудом поддавался контролю во многих странах, и кейнсианизм как способ попытки регулировать экономическую активность был практически оставлен. В течение четверти века после Второй мировой войны уровень безработицы в Великобритании равнялся менее чем 2 %. Он сильно поднялся — до 12 % — в начале 1980-х, затем упал, повысившись снова в конце десятилетия. В середине и ближе к концу 1990-х безработица в Великобритании снова стала падать; в конце этого периода она составляла чуть более 6 %.Анализируя безработицу
Однако интерпретация официальной статистики безработицы — задача не простая (см. рис. 13.6). Безработицу непросто определить. Слово означает «бытие вне работы». Но «работа» в данном контексте означает «работу оплачиваемую», и «работу на должности». Люди, которые должным образом зарегистрированы как безработные, могут заниматься множеством видов производительного труда, например, покраской своего дома или работой в саду. Многие люди занимаются оплачиваемой работой не на полную ставку или имеют временную работу; пенсионеры также не включаются в число безработных. Множество данных официальной статистики подсчитываются согласно определению безработицы, используемой Международной организацией труда (МОТ). Мера безработицы МОТ — индивиды без рабочего места, которые могут начать работу в течение двух недель и которые пытались искать работу в течение предыдущего месяца. Многие экономисты считают, что это стандартное определение безработицы следует дополнить двумя другими параметрами. «Отчаявшиеся работники» — это те, кто хотел бы работать, но кто отчаялся найти место и, в связи с этим, прекратил поиски. «Работники на неполную ставку поневоле» — это те, кто не могут найти место с полной трудовой занятостью, хотя желали бы этого. Общая статистика безработицы также осложняется тем фактом, что она охватывает два различных «типа» безработицы. Фрикционная безработица, иногда называемая «временной безработицей», — это естественный, краткосрочный приход и уход индивидов с рынка труда по причине смены места работы, поиска должности после окончания учебного заведения или временных проблем со здоровьем. В отличие от этого, структурная безработица — это отсутствие работы, причиной которого являются большие экономические изменения, а не обстоятельства, касающиеся отдельных людей. К примеру, спад в тяжелой промышленности в Великобритании способствовал повышению уровня структурной безработицы.Тенденции безработицы в Великобритании
Различия в распределении определенной государством безработицы внутри Великобритании хорошо документированы. Безработица выше среди мужчин, чем среди женщин; в 1998 г. уровень безработицы среди мужчин равнялся 6,8 %, среди женщин — 5,3 %. Безработные мужчины с почти в два раза большей вероятностью, чем женщины, где-то работали ранее. В отличие от мужчин, женщины, регистрирующиеся как безработные, с десятикратной вероятностью раньше сидели дома, заботясь о детях или хозяйстве (HMSO 1999). Рис. 13.6. Систематика состояний занятых, безработных и неработающих
Источник: Sinclair Peter. Unemployment: Economic Theory and Evidence. Blackwell, 1987. P. 2.
Рис. 13.6. Систематика состояний занятых, безработных и неработающих
Источник: Sinclair Peter. Unemployment: Economic Theory and Evidence. Blackwell, 1987. P. 2.
У этнических меньшинств, по сравнению с белым населением, в среднем более высокий уровень безработицы. У этой категории населения также намного более высокий уровень длительной безработицы, чем у остального населения. Однако эти общие тенденции ничего не говорят о разнообразии уровней безработицы среди этнических меньшинств (см. табл. 13.2). Безработица среди белого населения в 1997–1998 гг. находилась на уровне примерно 6 %. У индийцев этот уровень составлял 8 % — один из факторов, которые говорят о том, что индийское население в Великобритании практически достигло социально-экономического равенства с белым населением. В то же время уровень безработицы среди чернокожих выходцев из Карибского региона составлял 19 %, среди пакистанцев и бангладешцев — 21 %. Самый высокий уровень безработицы среди групп этнических меньшинств наблюдался у выходцев с Карибских островов в возрасте от шестнадцати до двадцати четырех лет (39 %) и у пакистанцев и бангладешцев в возрасте от двадцати пяти лет и до пенсионного (26 %) (HMSO 1999). Безработица особенно касается молодежи. Среди тех, кто находится в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет, уровень безработицы практически вдвое выше, чем среди всех остальных безработных. Около 13 % молодых мужчин и 9 % молодых женщин в 1998 г. были безработными. В некоторой степени эта цифра искусственно завышена, поскольку она включает в себя студентов, занятых неполный рабочий день, или подрабатывающих на временной работе во время учебы или оканчивающих курс обучения.
Таблица 13.2 Уровни безработицы, по этнической группе и возрасту. Великобритания. 1997–1998 гг.
 Безработица согласно определению МОТ как процент от всех экономически активных людей; мужчины до возраста 64 года, женщины — до 59 лет.
Источник: Social Trends. 29. 1999. Р. 82. Crown copyright.
Безработица согласно определению МОТ как процент от всех экономически активных людей; мужчины до возраста 64 года, женщины — до 59 лет.
Источник: Social Trends. 29. 1999. Р. 82. Crown copyright.
Немалая часть молодых людей и среди тех, кто не имеет работы долгое время, в особенности среди представителей групп национальных меньшинств; а более половины мужской подростковой безработицы касается тех, кто не работает в течение шести месяцев и более. Новые инициативы правительства касаются молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет, которые на протяжении более чем шести месяцев требовали пособия по безработице на основании того, что они находятся в поисках работы. Долгое время находящимся без работы теперь предлагается профессиональное обучение, помощь в поиске рабочего места, а также возможности субсидированной работы. Социальный класс и уровень безработицы связаны между собой. Согласно групповому исследованию молодых людей 1970 года рождения, проведенному ESRC, уровень безработицы среди тех людей, чьи отцы принадлежали к классам I и II, был ниже. У тех, чьи отцы принадлежали к классу V, или те, кто был воспитан матерью-одиночкой, наблюдался самый высокий уровень безработицы, включая значительную часть людей, которые вообще никогда не работали (ESRC 1997). Уровень безработицы также связан с уровнем образования. Обзор трудовых ресурсов показал, что чем выше уровень образования, тем ниже уровень безработицы. Весной 1998 г. уровень безработицы среди необразованных был в четыре раза выше, чем у тех, чей общеобразовательный уровень был выше (HMSO 1999).
Безработица как жизненный опыт
Безработица как таковая может очень отрицательно влиять на тех, кто привык иметь гарантированную работу. Очевидно, что наиболее быстрым ее следствием является потеря заработка. Последствия этого варьируют от страны к стране, в связи с разницей между уровнем пособий по безработице. В тех странах, где доступ к здравоохранению и другим социальным пособиям гарантирован, безработные лица могут испытывать острые финансовые затруднения, но продолжать быть защищенными государством. В некоторых западных странах, например, в США, пособия по безработице выплачиваются в течение более короткого срока и здравоохранение не универсально, что, соответственно, увеличивает экономические проблемы тех, кто не работает. В исследованиях по эмоциональному воздействию безработицы отмечалось, что безработные люди зачастую проходят через ряд определенных стадий по мере того, как они приспосабливаются к своему новому статусу. Хотя каждый опыт индивидуален, новые безработные часто испытывают чувство шока, за которым следует оптимистичный настрой относительно новых возможностей. Когда подобный оптимизм не оправдывается, что случается нередко, индивиды могут постепенно впасть в периоды депрессии и глубокого пессимизма относительно самих себя и своих перспектив трудовой занятости. Если период безработицы продолжается, процесс привыкания в итоге завершается тем, что индивиды примиряются с условиями своей ситуации (Ashton 1986). Сила общин и социальных связей может нарушаться из-за высокого уровня безработицы. В классическом социологическом исследовании 1930-х гг. Мария Яхода и ее коллеги провели анализ ситуации в Мариентале, маленьком городе в Австрии, который после закрытия местной фабрики поразила массовая безработица (Yahoda et al. 1972). Исследователи отметили, как длительный опыт безработицы в итоге нарушил многие общественные структуры и системы этой общины. Люди менее активно участвовали в гражданских делах, проводили меньше времени в общении друг с другом и даже реже посещали городскую библиотеку. Важно отметить, что безработица как жизненный опыт отличается в зависимости от социального класса. Для тех, кто находится на нижней ступени лестницы доходов, последствия безработицы могут в основном ощущаться в финансовом плане. Высказывалось предположение, что представители среднего класса считают, что безработица, прежде всего, нарушает их общественный статус, а не финансовое положение. Лектор сорока пяти лет, уволенный по сокращению штатов, мог накопить достаточно средств, чтобы жить, не испытывая финансовых затруднений на начальных этапах безработицы, но он может с трудом пытаться понять, как повлияет безработица на будущее его карьеры и его профессиональной ценности.Боязнь потерять работу
На рынке труда происходят глубинные изменения, являющиеся частью отхода от экономики промышленной в сторону экономики, ориентированной на сферу услуг. Широкое распространение информационной технологии также вызывает трансформации организационных структур, типов используемого стиля управления и методов, в рамках которых задания раздаются и выполняются. Хотя новые способы работы предоставляют интересные возможности для множества людей, они также могут породить глубокую амбивалентность со стороны тех, кто считает, что закрутился в водовороте безудержного мира, — таких, как Рико и Жанетт, о которых мы рассказывали в начале этой главы. Быстрые изменения могут производить дестабилизирующий эффект; работники многих видов профессий сегодня испытывают боязнь потерять работу — чувство опасения как за стабильность будущего своей рабочей должности, так и свою роль на рабочем месте. В последние десятилетия феномен боязни потерять работу стал одной из основных тем для дебатов среди тех, кто занимается социологией труда. Многие комментаторы и СМИ предполагают, что в течение примерно тридцати лет ощущение боязни потерять работу стабильно росло и что сегодня эта боязнь в индустриальных странах достигла небывало высокого уровня. Они утверждают, что молодые люди уже не могут полагаться на гарантированную карьеру у одного работодателя, поскольку экономика, быстро идущая по направлению к глобализации, ведет ко все большему количеству слияний корпораций, а также уменьшению их размеров. Стремление к эффективности и прибыли означает, что те, кто у кого не хватает квалификации, или она «не та», получают нестабильные, маргинальные рабочие места, которые подвержены изменениям на глобальных рынках. Далее они уверяют, что, несмотря на преимущества, приносимые гибкостью на рабочем месте, мы сейчас живем в культуре «наймов и увольнений», к которой идея «работы на всю жизнь» более не применима.Рост боязни потерять работу
В 1999 г. Фонд Джозефа Раунтри опубликовал результаты «Опроса на тему боязни потерять работу и интенсификации работы» (ОБПРИР), которые были получены из подробных интервью с 340 работающими британцами — от продавцов до старших менеджеров. Исследование было разработано с целью оценить степень боязни потерять работу и понимания ее воздействия как на рабочие места, так и на общины и семьи. Авторы исследования обнаружили, что с 1966 г. боязнь потерять работу в Великобритании росла, наиболее интенсивный период роста наблюдался среди рабочих — «синих воротничков» в конце 1970-х и в 1980-е гг. Однако, несмотря на общее восстановление экономики, начавшееся в середине 1980-х, боязнь потерять работу продолжала расти. В заключительной части исследования утверждается, что наивысшая степень боязни потерять работу со времен Второй мировой войны наблюдается сегодня (Burchell et al. 1999). В ходе опроса также исследовали те типы работников, которые с течением времени в большей или меньшей степени ощущали боязнь потерять работу. Авторы обнаружили, что в середине 1990-х самый большой рост боязни потерять работу наблюдался среди работников нефизического труда. В период с 1986–го по 1999-й гг. специалисты из группы, наиболее уверенной в будущем своей работы, стали наименее уверенной группой (см. табл. 13.3), тогда как боязнь потерять работу у тех, кто занимался физическим трудом, в некоторой степени снизилась. Одним из основных источников этой боязни, по-видимому, являлось отсутствие доверия менеджменту. Когда служащих спросили о том, заботится ли руководство об интересах подчиненных, то 44 % респондентов ответили, что «в малой степени» или «вовсе нет» (Burchell et al. 1999).Таблица 13.3 Процентное соотношение изменения боязни потерять работу. 1986 г. по сравнению с 1997 г.
 Источники: Social Change and Economic Life Initiative. 1986; Skills Survey. 1997. From Burchell B. J. et al. Job Insecurity and Work Intensification. YPS, 1999.
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree Foundation.)
Источники: Social Change and Economic Life Initiative. 1986; Skills Survey. 1997. From Burchell B. J. et al. Job Insecurity and Work Intensification. YPS, 1999.
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree Foundation.)
Большинство ученых согласно, что боязнь потерять работу — феномен не новый. Существует несогласие относительно того, насколько заметным стало это явление в последние годы, и, что более важно, какие сегменты работающего населения испытывают это чувство наиболее остро. Некоторые критики утверждают, что такие исследования, как ОБПРИР, отражают не более чем негарантированный ответ на предполагаемую боязнь потерять работу среди различных представителей среднего класса. «Опасающаяся середина»: преувеличивают ли боязнь потерять работу? В конце 1970-х и в 1980-е гг. Великобритания находилась в состоянии экономической рецессии, которая была особенно пагубной для традиционных отраслей промышленности. Примерно 1 млн рабочих мест был потерян в течение этого времени в таких секторах, как сталелитейная промышленность, кораблестроение и добыча угля. Начиная с 1980-х и далее в 1990-х гг. специалисты и работники менеджмента также стали испытывать боязнь потерять работу. Корпоративные поглощения и временные увольнения повлияли на банковский и финансовый секторы; наступление века информации стоило многим чиновникам их рабочих мест по мере того, как системы модернизировались с помощью компьютерных технологий. Если работники промышленности в той или иной степени привыкли к жизни под угрозой увольнения, то «белые воротнички» были менее подготовлены к изменениям, коснувшимся их профессий. Это чувство тревоги среди специалистов заставило некоторых заговорить об «опасающейся середине». Термин использовался по отношению к «белым воротничкам», чья вера в стабильность их рабочих мест означала, что они заключили важные финансовые соглашения, например, взяли ипотечные кредиты, дают детям частное образование или увлекаются дорогостоящими хобби. Поскольку возможность сокращения штатов никогда не приходила им в голову, внезапное расширение спектра безработицы повлекло за собой среди этой категории трудящихся сильнейшее чувство тревоги и неуверенности. Боязнь потерять работу как тема постепенно вызвала шумиху в СМИ и профессиональных кругах, хотя некоторые полагают, что это была преувеличенная реакция по сравнению с более хронической боязнью, которую испытывают представители рабочего класса. Однако другие источники информации о безработице противоречат тому, что было обнаружено при исследовании ОБПРИР, и предполагают, что боязнь потерять работу — это «миф», который захватил класс специалистов. Критики согласны, что этот «миф» не подтверждается крупномасштабными опросами общественного мнения. Численность людей, которые в самом деле обеспокоены сокращением штатов, — менее 10 %, — оставалась на одном уровне с 1970-х гг., и безработица по-прежнему является уделом лишь одной из пяти британских семей в течение жизни. Более того, среднее пребывание в должности составляет сегодня чуть менее пяти лет — статистика, которая практически не изменилась по сравнению с данными двадцатилетней давности (Jowell et аl. 1996). Результаты Опроса британскогообщественного мнения — общенациональной представительной выборки среди взрослых в возрасте от восемнадцати лет и старше — показали, что реорганизация штатов на работе происходит по двум различным направлениям. В некоторых профессиях степень реорганизации штатов высока, однако значительная часть трудовых ресурсов продолжает работать в стабильных должностях: в 1995 г. 33 % респондентов пребывали в своей настоящей должности в течение более десяти лет, а 13 % проработали в одной должности двадцать и более лет. В опросе также оценивалась уверенность респондентов в будущем с помощью вопросов о том, будет ли их предприятие нанимать новых сотрудников и избавляться от старых в наступающем году. Хотя в начале 1990-х гг. «пессимистов» было больше, чем «оптимистов», к 1995 г. их оказалось практически одинаковое количество: 23 % утверждали, что их компания будет расширяться, а 22 % полагали, что она будет сокращаться. Аналитики Опроса британского общественного мнения пришли к заключению, что популярные утверждения о том, что все боятся потерять свою работу, были преувеличением. Хотя некоторые сегменты трудовых ресурсов подвергались высокой степени реорганизации штатов, другие части оставались относительно стабильными. Более того, хотя специалисты и работники менеджмента сегодня сталкиваются с проблемой сокращения штатов в большей степени, нежели раньше, они по-прежнему имеют меньше шансов столкнуться с безработицей, чем другие квалифицированные лица (Lilley et al. 1996).
Пагубное влияние боязни потерять работу
При опросе на тему боязни потерять работу и интенсификации работы обнаружили, что для многих боязнь потерять работу — нечто намного большее, чем страх перед увольнением. Она также включает в себя чувства беспокойства и тревоги по поводу трансформации самой работы и последствий этой трансформации для здоровья и личной жизни служащих. Исследование выявило, что работников просят брать на себя все больше и больше ответственности на рабочем месте по мере того, как организационные структуры становятся все менее бюрократическими, и принятие решений распределяется по всему рабочему месту. Однако, по мере увеличения требований на работе, многие служащие чувствуют, что их шансы на повышение уменьшаются (см. рис. 13.7). Эта комбинация приводит к тому, что работники чувствуют, что они «теряют контроль» над важными аспектами своей должности, такими как темп работы и уверенность в прогрессе их карьеры в целом (Burchell et al. 1999).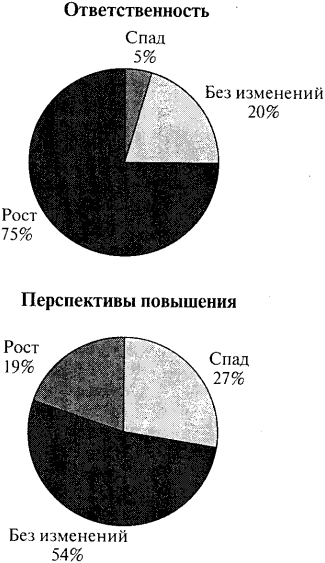 Рис. 13.7. Служащие, ощущающие изменения степени ответственности и перспектив повышения в должности
Источники: Job Insecurity and Work Intensification Survey; Burchell B. J. et al. Job Insecurity and Work Intensification. YPS, 1999.
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree Foundation.)
Рис. 13.7. Служащие, ощущающие изменения степени ответственности и перспектив повышения в должности
Источники: Job Insecurity and Work Intensification Survey; Burchell B. J. et al. Job Insecurity and Work Intensification. YPS, 1999.
(Публикуется с разрешения Joseph Rowntree Foundation.)
Вторую пагубную черту боязни потерять работу можно наблюдать на примере личной жизни работников. При исследовании обнаружилась сильная корреляция между боязнью потерять работу и общим плохим здоровьем. Эта связь подкрепляется данными Опроса британской комиссии по вопросам семьи, которые демонстрируют, что психическое и физическое здоровье людей может ухудшаться из-за продолжительных периодов боязни потерять работу. Не привыкая к нестабильным условиям, работники продолжают нервничать и пребывать в состоянии постоянного стресса. Это давление со стороны ситуации с работой, кажется, отражается на домашней обстановке: те работники, которые показали высокую степень боязни потерять работу, также испытывали напряжение у себя дома (Burchell et al. 1999). «Коррозия характера» Мы начали эту главу с описания влияния современных методов работы на личную и семейную жизнь. События жизни Рико и его жены Жанетт, описанные Ричардом Сеннеттом в его книге «Коррозия характера», иллюстрируют некоторые из последствий гибкого подхода к работе, сказывающихся на частной жизни и характере служащих (Sennett 1998). Сеннетт веско утверждает, что растущий упор на гибкость в поведении и стиле работы может дать успешные результаты, но также неизбежно приводит к внутреннему дискомфорту и наносит вред. Это происходит потому, что ожидаемое от сегодняшних трудящихся — быть гибким, адаптирующимся, мобильным и готовым пойти на риск — прямо противоречит многим основным признакам сильного характера: преданности, преследованию долгосрочных целей, связыванию себя обязательствами, доверию и воле. Сеннетт предполагает, что эти типы проблем неизбежны в новую эпоху гибкости: хотя последняя одобряется, ибо дает работникам больше свободы при формировании своей индивидуальной жизненной траектории, Сеннетт считает, что она также приносит с собой новые строгие ограничения. Вместо того чтобы связывать себя обязательствами строительства карьеры всей жизни, сегодня от трудящихся ожидается гибкая работа в командах, с приходами в одну команду и уходами из нее и переходами от одного задания к другому. Верность становится помехой, а не достоинством. Когда жизнь оказывается серией неопределенных работ, а не одной четкой карьерой, долгосрочные цели нарушаются, социальные связи не развиваются, и доверие уменьшается. Люди больше не могут понять, какой риск в итоге окупит себя, а старые «правила» повышения, отставки и вознаграждения кажутся более не применимыми. С точки зрения Сеннетта, центральная проблема взрослых в современную эпоху — как, имея долгосрочные цели, жить в обществе, которое ценит краткосрочные цели. По его мнению, признаки «нового капитализма» портят те черты характера личности, которые объединяют людей друг с другом.
Конец «работы на всю жизнь»?
В свете воздействия глобальной экономики и спроса на «гибкие» трудовые ресурсы, некоторые социологи и экономисты утверждали, что все больше и больше людей в будущем будут становиться работниками с портфолио. У них будет «портфолио навыков» — набор определенных навыков работы и аттестатов, — которым они будут пользоваться при смене нескольких мест и типов работы в течение своей трудовой жизни. Только у сравнительно небольшого числа трудящихся будут продолжительные «карьеры» в современном понимании. В самом деле, утверждают приверженцы этих взглядов, идея «работы на всю жизнь» ушла в прошлое. Некоторые видят переход к работнику с портфолио в положительном свете: трудящимся не придется отрабатывать годами на одном и том же месте, они смогут планировать свою работу творчески (Handy 1999). Другие полагают, что «гибкость» на деле означает, что организации могут произвольно нанимать и увольнять, нанося урон любой степени уверенности, которая могла быть у работников. Работодатели будут связывать себя обязательствами по отношению к своим работникам лишь на короткий срок и смогут сводить к минимуму дополнительные льготы или права на пенсию. В недавнем исследовании, проведенном в Силиконовой долине, шт. Калифорния, утверждается, что экономический успех этого региона уже основан на квалификациях из портфолио местных трудовых ресурсов. Уровень неуспеха фирм из Силиконовой долины очень высок: примерно 300 новых компаний образовываются там ежегодно, но также эквивалентное этому число фирм разоряется. Местная рабочая сила, среди которых очень большая часть специалистов и технических работников, научилась приноравливаться к этому. Результат, как говорят авторы, состоит в том, что работники — обладатели тех или иных талантов и навыков быстро мигрируют от одной фирмы к другой, одновременно становясь более адаптируемыми. Технические специалисты становятся консультантами, консультанты — менеджерами, служащие становятся вкладчиками капитала, — и так далее по кругу (Bahrami and Evans 1995). Среди молодежи, особенно среди консультантов и специалистов в области информационной технологии, действительно наблюдается растущая тенденция в сторону работы с портфолио. По некоторым подсчетам ожидается, что молодые выпускники в Соединенном Королевстве могут сменить 11 различных мест работы, используя три разных квалификационных базы на протяжении своей трудовой жизни! Однако подобная ситуация остается скорее исключением, нежели правилом. Согласно недавним статистическим данным по трудовой занятости, работники, занятые полный рабочий день в Великобритании и США, рынки труда которых являются наиболее нерегулируемыми среди индустриальных стран, проводят на каждом рабочем месте столько же времени, сколько десять лет назад (The Economist, 21 May 1995). Причины этого, по-видимому, лежат в том, что менеджеры понимают, что высокая степень текучести рабочей силы является дорогостоящей и понижает боевой дух работников; и в том, что они предпочитают переобучать своих собственных подчиненных, нежели нанимать новых, даже если ценой этого будет оплата труда по тарифу, превышающему рыночный. В своей книге «Построенные на совесть» Джеймс Коллинз и Джерри Поррас проанализировали восемнадцать американских компаний, которые с 1926 г. непрерывно демонстрировали более высокие результаты, чем средние на фондовой бирже (Collins and Porras 1994). Они обнаружили, что эти компании, вовсе не занимаясь наймом и увольнением в произвольном порядке, вели весьма протекционистскую политику по отношению к своим штатам. Лишь две из этих компаний за период исследования наняли исполнительного директора извне, по сравнению с тринадцатью менее успешными корпорациями, также включенными в исследование. Эти результаты не отвергают идеи тех, кто говорит о появлении работника с портфолио. Уменьшение размеров организаций — реальность, которая бросает на рынок труда много тысяч работников, считавших, что они имеют пожизненное место работы. Чтобы найти работу снова, им, возможно, придется развить и разнообразить свои навыки. Многие, в особенности люди постарше, могут уже никогда не найти место работы, сравнимое с предыдущим, а возможно, и вовсе не найти оплачиваемую работу.Уменьшается ли важность работы?
Длительная безработица, боязнь потерять работу, уменьшение компаний, карьеры благодаря наличию портфолио, работа неполный трудовой день, гибкие модели трудовой занятости, совместная работа в одной должности... Кажется, что более чем когда бы то ни было работа людей организована нестандартно или вообще не оплачивается! Возможно, пришло время переосмыслить природу работы и в особенности того господствующего места, которая она часто занимает в жизни людей. Поскольку мы настолько сильно ассоциируем «работу» с «оплачиваемой трудовой занятостью», иногда трудно увидеть, какие другие возможности могут существовать помимо этой. Французский социолог и социальный критик Андре Горз — аналитик, который утверждал, что в будущем работа будет занимать все меньшее и меньшее место в человеческой жизни. Горз основывает свои взгляды на критической оценке трудов Маркса. Маркс считал, что рабочий класс, к которому якобы будет принадлежать все большее и большее число людей, приведет к революции, которая вызовет появление более гуманного типа общества, где работа будет одним из центральных удовольствий жизни. Хотя Горз и придерживается левых взглядов, он не согласен с этим. Вместо того чтобы стать, как предположил Маркс, крупнейшей группировкой в обществе и привести к успешной революции, рабочий класс на деле уменьшается. «Синие воротнички» сегодня стали среди трудовых ресурсов меньшинством, численность которого продолжает падать. С точки зрения Горза, более не имеет смысла считать, что рабочие захватят предприятия, частью которых они являются, а уж тем более завоюют власть над государством. Не существует реальной надежды на преобразование природы оплачиваемой работы, поскольку она организована согласно техническим соображениям, неизбежным для достижения эффективности какой-либо экономики. По словам Горза, «смысл сейчас состоит в освобождении человека от работы» (Gorz 1982, 67). Это особенно необходимо там, где-работа организована по принципам тейлоризма или в чем-то ином является удручающей и скучной. Рост безработицы, а также распространение частичной занятости, как утверждает Горз, уже создали так называемый «не-класс не-не-рабочих» параллельно с теми, чья трудовая занятость стабильна. На самом деле к этому «не-классу» принадлежит большинство людей, поскольку доля населения, занятого на стабильно оплачиваемых работах, в любой отдельно взятый момент относительно невелика, — если мы исключим молодежь, пенсионеров, больных и домохозяек, а также людей, которые заняты неполный трудовой день или являются безработными. Распространение информационных технологий, как считает Горз, будет и далее уменьшать количество предлагаемых рабочих мест. Результатом, вероятно, будет переход к отрицанию «продуктивистского» мировоззрения, свойственного западному обществу, в котором делается ставка на богатство, экономический рост и материальные предметы. Разнообразный образ жизни вне сферы постоянной, оплачиваемой работы будет вести в ближайшие годы большинство населения. Согласно Горзу, мы движемся по направлению к «двойному обществу». В одном секторе производство и политическая администрация будут организованы так, чтобы максимально увеличить их эффективность. Другой сектор будет сферой, в которой индивиды будут заниматься разнообразными не относящимися к работе делами, приносящими удовольствие и чувство личного удовлетворения. Вероятно, все большее число людей будут заниматься планированием жизни, согласно которому они будут распределять различные виды работы на разных жизненных этапах. Насколько обоснованна эта точка зрения? Тот факт, что в индустриальных странах происходят важные изменения в характере и организации работы, не подлежит никакому сомнению. Кажется вероятным, что все большее число людей в будущем разочаруются в «продуктивизме» — упоре на постоянный экономический рост и накоплении материальных благ. Безусловно важно, как полагает Горз, не воспринимать трудовую занятость только лишь в негативном свете, но видеть, что она дает возможность людям учитывать их интересы и развивать таланты. Однако, по крайней мере, до сих пор прогресс в этом направлении был невелик; по-видимому, мы далеки от воображаемой Горзом ситуации. По мере того, как женщины требуют дать им больше возможностей работы, наблюдалось не уменьшение, а рост числа людей, активно заинтересованных в получении оплачиваемого рабочего места. Оплачиваемая работа остается для многих ключевым способом для получения материальных ресурсов, требуемых для поддержания благополучия в разных областях жизни.Краткое содержание
1. Работа есть выполнение заданий, связанных с затратой умственных и физических усилий, целью которых является производство товаров или услуг, удовлетворяющих человеческие потребности. Многие важные типы работы, например, работа по дому или на общественных началах, не оплачиваются. Профессиональная деятельность — это работа, которая выполняется в обмен за регулярную заработную плату. Во всех культурах работа является основой экономической системы. 2. В системе профессиональной занятости в течение XX в. происходили значительные изменения. Особенно важным является относительный подъем профессий, не связанных с физическим трудом, за счет уменьшения тех, которые с ним связаны. Многие люди сегодня считают, что мы являемся свидетелями перехода от индустриальной экономики к экономике знания, в которой идеи, информация и различные формы знания поддерживают экономический рост. 3. Отличительной характеристикой экономической системы современных обществ является развитие весьма сложной и разнообразной системы разделения труда. Разделение труда — это разделение работы на различные виды деятельности, требующие профессиональной специализации. Одним из результатов этого является экономическая взаимозависимость: все мы зависим друг от друга для поддержания нашего существования. 4. Промышленное производство стало более эффективным после введения тейлоризма, или научного менеджмента — теории, согласно которой все промышленные процессы могут быть разделены на простые задания, которые можно рассчитать по времени и организовать. Фордизм расширил принципы научного менеджмента для массового спроса, связанного с рынками товаров массового производства. Фордизм и тейлоризм можно считать системами с низким доверием, которые увеличивают отчуждение работников. Система с высоким доверием позволяет работникам контролировать темп и содержание их работы. 5. В последние годы во многих индустриальных странах фордистские методы заменялись более гибкими способами работы. Термин «постфордизм» употребляется некоторыми для описания настоящего периода экономического производства, в котором для удовлетворения нужд рынка, требующего разнообразных товаров, выполняемых на заказ, максимально увеличиваются гибкость и инновации. Гибкая специализация, коллективная работа и «разносторонность умений» являются тремя популярными постфордистскими тактиками. 6. На характер женской трудовой деятельности очень повлияло отделение работы от дома. Сфера оплачиваемой работы традиционно ассоциировалась с мужчинами, хотя гораздо большее число женщин сегодня заняты оплачиваемым трудом, нежели несколько десятилетий назад. Однако женщины продолжают сталкиваться с неравенством на рынке труда. Профессиональная гендерная сегрегация — обстоятельство, при котором мужчины и женщины сконцентрированы на различных видах работы; многие «женские» рабочие места принадлежат низкооплачиваемым категориям профессий. Женщин также большинство среди лиц, работающих неполный рабочий день, хотя существуют различные объяснения того, почему ситуация сложилась именно таким образом. Гендерная разница в заработной плате определяет тот факт, что, в среднем, женщины за свою жизнь зарабатывают меньше, чем мужчины, обладающие той же квалификацией. 7. Домашнее разделение труда — это то, каким образом распределяются обязанности между членами одной семьи. Несмотря на большое количество женщин на оплачиваемых рабочих местах, женщины по-прежнему выполняют основную часть неоплачиваемой работы, которая в основном состоит из воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. Однако эта модель может меняться; мужчины больше участвуют в работе по дому, чем раньше, особенно среди молодых пар. 8. Преобразования в сфере работы и изменения в семейных структурах накладываются друг на друга, принося с собой новые проблемы поддержания баланса между работой и семьей. Служащие работают большее количество часов, чем раньше, и имеют меньше времени на общение с семьей или на отдых. Нагрузка особенно велика для работающих матерей. Некоторые компании проводят «просемейную» политику организации работы, куда входят гибкий рабочий график, совместное пребывание на одной должности, работу на дому и декретный отпуск, чтобы помочь работающим семьям сохранить баланс между профессиональной и частной жизнями. 9. Безработица — это проблема, которая регулярно беспокоит индустриальные страны. Поскольку работа — структурирующий элемент частной жизни, опыт безработицы часто является психологически дезориентирующим. 10. Последствия боязни потерять работу могут быть такими же пагубными, как и сам опыт безработицы. Боязнь потерять работу — это мрачные опасения служащего относительно будущей стабильности своей должности и своей роли на рабочем месте. Боязнь потерять работу широко распространилась среди представителей среднего класса, хотя существует мнение, что тревога, связанная с боязнью потерять работу, весьма преувеличена. 11. Некоторые говорят о «конце карьеры» и появлению работника с портфолио, т. е. работника, у которого есть «портфолио» различных навыков и который с готовностью сможет переходить от одной работы к другой. Такие работники в самом деле существуют, но для многих работников «гибкость» скорее будет ассоциироваться с плохо оплачиваемыми работами, не имеющими значительных перспектив карьерного роста. 12. В данный момент происходят значительные изменения в характере и организации работы, которые, по всей видимости, станут еще более важными в будущем. Тем не менее, оплачиваемая работа для многих остается ключевым способом получения ресурсов, необходимых для поддержания благополучия в разных областях жизни.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Почему жизнь Рико так сильно отличается от жизни Энрико? 2. Смогли бы современные общества функционировать без разделения труда? 3. Почему некоторые виды деятельности считаются работой, а некоторые — нет? 4. Если тейлоризм и фордизм были столь эффективны, почему же в последнее время наблюдается их спад? 5. Что такое «проблема совмещения работы и семьи» и что можно сделать, чтобы решить ее? 6. Если бы вы были работником с портфолио, было бы в вашем портфолио достаточно квалификаций, чтобы вы могли продолжать работу?Дополнительная литература
Grint Keith. The Sociology of Work: An Introduction. Cambridge: Polity, 1991. Smelser Neil J. and Swedberg Richard (eds.). The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press, 1994.Интернет-линки
Исследовательский институт социальной политики http://www.ippr.org.uk/research/index.htmi Институт экономики http://iea.org.uk/ Международная организация труда http://www.ilo.orgГЛАВА 14 ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА
Восточный Тимор расположен в восточной части острова Тимор, который находится между Индонезией и Австралией. Это небольшая территория, по размеру лишь слегка превышающая половину Уэльса. У Восточного Тимора есть общая граница с Западным Тимором, который является частью Индонезии. В свое время это была португальская колония. Когда португальцы покинули эту территорию в 1975 г., туда вторглись индонезийцы и захватили эту землю. Во время оккупации погибло множество людей: возможно, не менее 200 000, т. е. одна треть исконного населения. Движения протеста в Восточном Тиморе стремились добиться независимости и демократии в стране, но долгие годы они были безуспешны. Многие активисты были заключены в тюрьмы, других подвергали пыткам или казнили. Тем не менее, движение за самоопределение в Восточном Тиморе скорее крепло, чем утихало, и Восточный Тимор привлек к себе внимание международной общественности. Президент Индонезии Сухарто, важнейшая фигура в деле подавления Восточного Тимора, был свергнут в ходе студенческих демонстраций в мае 1999 г. На референдуме в августе того же года подавляющее большинство восточных тиморцев проголосовало за независимость от Индонезии. Индонезийская армия ответила жестокими расправами, заставив сотни тысяч жителей покинуть страну под дулом пистолета. Тем не менее, восточные тиморцы добились своей независимости в октябре 1999 г. Войска ООН были посланы туда, чтобы защитить людей и обеспечить переход к самоуправлению и демократии. Сколь успешным будет этот переход, пока остается неясным. Но силы, питающие стремление к независимости — национализм и желание иметь демократическое правительство, — безусловно, являются очень влиятельными в сегодняшнем мире. Они выступают практически везде. Во многих уголках света продемократическим движениям удалось успешно свергнуть авторитарные режимы. В бывшем СССР и Восточной Европе подобными движениями был свергнут коммунизм. Демократические формы правления были также за последние несколько лет установлены в большей части Латинской Америки и в некоторых странах Африки и Азии. Демократические правительства существуют значительно более продолжительное время в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии.Правительство, политика и власть
Как и очень многие аспекты современных обществ, сфера правления и политики подвергается капитальным изменениям. Правление — это регулярное проведение законов, установок, решений и государственных дел официальными лицами, входящими в политический аппарат. Политика касается средств, с помощью которых власть применяется в целях влияния на размах и содержание правительственной деятельности. Сфера политического может выходить далеко за пределы самих государственных институтов. Изучение власти необыкновенно важно для социологии. Власть — это способность отдельных индивидов или групп людей заставить других считаться с их интересами или проблемами даже при оказании окружающими сопротивления. Иногда это подразумевает прямое применение силы, как, например, яростное сопротивление индонезийских властей демократическому движению в Восточном Тиморе. Власть является неотъемлемой частью практически всех общественных взаимоотношений, включая отношения между работодателем и работником. В этой главе рассматривается более узкий аспект власти, а именно власть государственная. В этой форме она практически всегда сопровождается идеологиями, которые используются для оправдания действий власть имущих. Например, применение индонезийским правительством силы против продемократического движения в Восточном Тиморе было защитой территориальной целостности Индонезии от регионального движения за независимость. Законная власть — это легитимное применение власти правительством. Легитимность означает, что те, кто находится под законной властью некоего правительства, соглашаются с ним. Таким образом, просто власть отличается от законной власти. Когда про-демократические демонстрации в Восточном Тиморе набрали силу и правительство ответило на это заключением в тюрьмы и убийством активистов, это было применением власти, но также и указанием на то, что правительство потеряло власть законную.Концепция государства
Государство существует там, где есть политический аппарат управления (такие институты, как парламент или конгресс, а также чиновники государственных служб), управляющий данной территорией, законная власть которого подкреплена законодательством и способностью применять военную силу для осуществления своей политики. Все современные общества являются национальными государствами, т. е. такими государствами, в которых подавляющее большинство населения являются гражданами, считающими себя частью единой нации. Национальные государства возникали в различные времена в разных точках планеты (например, США в 1776 г. и Чешская Республика в 1993 г.). Их основные характеристики разительно отличаются от неиндустриальных или традиционных цивилизаций, которые описаны во второй главе («Культура и общество»): • Суверенитет. Территории традиционных государств всегда были плохо определены; уровень контроля, находившийся в руках центрального правительства, был довольно слаб. Понятие суверенитет, означающее, что правительство обладает законной властью на территории с четкой границей, внутри которой оно является высшим органом власти, не имело большого значения. По контрасту, все национальные государства являются государствами суверенными. • Гражданство. В традиционных государствах большинство населения, которым правил король или император, проявляло мало знаний или интереса по отношению к тем, кто правил им. Не было у него и никаких политических прав или влияния. Как правило, только высшие классы или наиболее благосостоятельные группы людей чувствовали себя в какой-то мере причастными к политическому сообществу. В противоположность этому, в современных обществах большинство людей, живущих в пределах границ той или иной политической системы, являются гражданами, которые имеют общие права и обязанности и которые считают себя частью нации. Хотя существует ряд политических беженцев или людей «без государства», практически каждый в сегодняшнем мире является членом определенного национально-политического строя. • Национализм. Национальные государства ассоциируются с подъемом национализма, который можно определить как систему верований и символов, выражающую ощущение причастности к единому политическому сообществу. Так, индивиды испытывают чувство гордости и сопричастности от того, что являются британцами, американцами, канадцами или русскими. Это те чувства, которые побудили восточных тиморцев добиваться своей независимости. Вероятно, люди всегда чувствовали идентификацию с социальными группами в той или иной форме — будь то семья, деревня или религиозная община. Национализм, однако, появился только лишь с развитием современного государства. Это основная форма выражения чувства идентификации с определенным суверенным сообществом. Мы исследуем феномен национализма более подробно в заключительной части данной главы. Обсудив некоторые из наиболее важных характеристик современных государств, рассмотрим теперь основные типы политических систем, которые в них существуют.Типы политического правления
На протяжении человеческой истории общества имели различные политические системы. Даже сегодня, в начале XXI в., страны мира продолжают организовываться согласно различным моделям и конфигурациям. Хотя сейчас большинство обществ называют себя демократическими, т. е. такими, которые управляются народом, другие формы политического правления продолжают существовать. В этом разделе мы рассмотрим три основных типа политических систем: монархию, либеральную демократию и авторитаризм.Монархия
Монархия — это политическая система, возглавляемая одним человеком, власть которого передается внутри одной семьи от поколения к поколению. В древности и в средние века монархии были популярны во многих областях мира, от Азии и Европы до частей Африки, и королевские семьи правили своими «подданными» на основании традиции и божественного права. Полномочие монархий легитимизируется скорее силой обычая, нежели закона. Хотя некоторые современные государства, такие как Великобритания и Бельгия, до сих пор имеют монархов, последние стали немногим более чем условными главами государств. Монархи могут продолжать выполнять некоторые символические обязанности и быть главной национальной особенностью, но они редко влияют на ход политических событий. В небольшом количестве стран, таких как Саудовская Аравия, Иордания и Марокко, монархи по-прежнему обладают определенной степенью контроля над правительством. Наиболее распространены, однако, конституционные монархи, такие, например, как королева Великобритании, король Швеции, или даже император Японии, чья власть в действительности строго ограничена конституцией, которая наделяет полномочиями представителей, избранных народом. Подавляющее большинство современных государств являются республиканскими, т. е. не имеющими короля или королевы. Практически все они, включая конституционные монархии, провозглашают себя приверженцами демократии.Демократия
Слово «демократия» происходит от греческого термина demokratia, составными частями которого являются demos («народ») и kratos («правление»). Демократия в широком смысле слова, следовательно, есть политическая система, при которой правит народ, а не монархи или аристократия. Звучит вполне просто, но это не так (см. врезку «Исследуя демократию: что же составляет „правление народа“?» в этой главе). Демократическое правление принимало совершенно различные формы в разные периоды времени и в различных обществах, в зависимости от того, как эта концепция интерпретировалась. Например, слово «народ» понимали по-разному: как владельцев собственности, как белых мужчин, как образованных мужчин, просто мужчин и как взрослых мужчин и женщин. В некоторых обществах официально принятая версия демократии ограничена сферой политики, тогда как в иных она распространяется и на другие аспекты общественной жизни. Форма, которую принимает демократия в определенном контексте, во многом зависит от того, как понимаются ее ценности и цели и каким из них отдается предпочтение. Демократия в целом считается политической системой, наиболее пригодной для установления политического равенства, защиты свобод, общественных интересов, для выполнения нужд граждан, содействия моральному саморазвитию и обеспечения эффективного принятия решений, принимающих во внимание всеобщие интересы (Held 1996). Значение, которое придается каждой из вышеперечисленных целей, может повлиять на то, считается ли демократия в первую очередь формой народной власти (самоуправление и саморегулирование) или же она понимается как основа для поддержки принятия решений другими (например, группой избранных представителей). Совместное демократическое правление При так называемом совместном демократическом правлении (или прямой демократии) решения принимаются совместно теми, кого это непосредственно касается. Это оригинальный тип демократии, который практиковался в древней Греции. Те, кто являлись гражданами, а именно скромное меньшинство, регулярно собирались, чтобы обсуждать насущные проблемы жизни и принимать по ним решения. Совместное демократическое правление имеет весьма ограниченное значение в современных обществах, где политическими правами облечена основная масса населения, и было бы просто невозможно всем активно участвовать в принятии всех решений, которые их касаются. Однако некоторые аспекты прямой демократии играют определенную роль в современных обществах. Небольшие общины в Новой Англии, на северо-востоке США, продолжают традиционную практику ежегодных «городских собраний». В эти специально отведенные дни все жители города собираются вместе, чтобы обсудить насущные нужды и проголосовать по тем вопросам местного значения, которые не подпадают под юрисдикцию правительства штата или федерального правительства. Другой пример прямой демократии — это проведение референдумов, где люди высказывают свои мнения по определенному вопросу. Прямой опрос большого количества людей становится возможным благодаря упрощению проблемы до одного-двух вопросов, на которые необходимо получить ответ. Референдумы регулярно используются на национальном уровне в ряде стран Европы, чтобы принять важные политические решения, такие как, например, вступление в Европейский валютный союз (ЕВС). Референдумы также использовались, чтобы решить спорные вопросы об отделении этнических националистически настроенных регионов, таких как Квебек, в основном франкоговорящей провинции Канады.────────────────────────────┐ ■ Исследуя демократию: что же составляет «правление народа»? Идея в основе демократии достаточно ясна — народ должен отвечать за правление над собой в условиях политического равенства, а не находиться под властью верхушки лидеров, которые ему не подотчетны. Но если присмотреться поближе, становится не совсем ясно, что же означает находиться под «правлением народа». Как отметил Дэвид Хелд, вопросы могут быть поставлены к каждой части этой фразы (Held 1996).
«Народ»
• Кто есть народ? • Какой тип участия ему дозволяется? • Какие условия считаются благотворными для участия?«Правление»
• Сколь широки или узки должны быть границы правления? Должны ли они быть ограничены, например, сферой правления, или же возможна демократия в других областях, например индустриальная демократия? • Может ли правление охватить повседневные административные решения, которые должны приниматься правительствами, или же оно должно относиться только к важным политическим решениям?«Правление кого-то»
• Все ли должны подчиняться правлению народа? В чем заключается обязательство и возможно ли несогласие? • Должна ли часть народа действовать вне закона, если эта часть считает существующие законы несправедливыми? • При каких обстоятельствах, если таковые вообще возможны, демократические правительства должны применять силу против тех, кто не согласен с их политикой? Как отмечает Хелд, дебаты о «правлении народа» распространяются за пределы этих основных вопросов. Существуют различные точки зрения на условия, необходимые для успешного существования демократии. Может ли демократия поддерживаться во времена войны или гражданского кризиса? Необходимо ли демократическому обществу быть в основной массе образованным или обладать определенным материальным достатком? Не существует единого взгляда на эти фундаментальные аспекты демократии, а тем более на многие новые вопросы, возникающие в ходе стремительного процесса глобализации и социальных изменений. Сегодня демократия остается важным, но спорным предметом, сродни тому, как это и было в течение столетий. ────────────────────────────┘Представительная демократия Практика показывает, что совместное демократическое правление в большом масштабе является недостаточно гибкой, кроме особых случаев, таких как специальный референдум. Сегодня более распространена представительная демократия, т. е. политические системы, в рамках которых решения, касающиеся какой-то общины, принимаются не всеми ее членами, а людьми, специально избранными для этой цели. В области национального управления, представительная демократия принимает форму выборов в конгрессы, парламенты или аналогичные национальные органы. Представительная демократия также существует на других уровнях там, где принимаются коллективные решения, например, в провинциях или штатах внутри общенациональной общины, в больших городах, округах, небольших городках и других регионах. Многие крупные организации предпочитают вести свои дела, используя представительную демократию, выбирая небольшой исполнительный комитет, который будет принимать важнейшие решения. Страны, в которых избиратели могут выбирать между двумя и более партиями и где большинство взрослого населения обладает избирательным правом, обычно называются либеральными демократиями. Великобритания и все остальные страны Западной Европы, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия — все эти страны попадают в эту категорию. Некоторые страны Третьего мира, такие как Индия, тоже имеют либерально-демократическую систему. Совсем недавно к этому списку прибавились страны центральной и восточной Европы и бывший СССР, которые шли к демократии со времен падения коммунистического правления более десяти лет назад. Либеральная демократия еще не вполне установилась в некоторых из этих стран, таких как бывшие республики Центральной Азии, Югославия и даже Россия. В других странах, таких как Польша, Чешская Республика, Венгрия и страны Балтии, демократия, по-видимому, хорошо закрепилась.
Авторитаризм
Если демократия поощряет активное участие граждан в политических делах, то в авторитарных государствах народное участие отрицается или сильно сокращается. В таких обществах нужды и интересы государства являются приоритетными, по сравнению с нуждами обычных граждан, и не создано легального механизма оппозиции правительству или отстранения того или иного лидера от власти. Авторитарные правительства существуют сегодня во многих странах, некоторые из них называют себя демократическими. Ирак, под властью Саддама Хуссейна, является примером авторитарного государства, где несогласие подавляется и, несомненно, большая часть национальных ресурсов перенаправляется на благо элиты. Мощные монархии Саудовской Аравии и Кувейта, а также руководство Мьянмы (Бирмы), строго ограничивают гражданские свободы граждан и лишают их значительного участия в государственных делах. Азиатская страна Сингапур часто приводится как пример так называемого «мягкого авторитаризма». Причина этому — правление Партии народного действия, которая жестко держит власть в своих руках, но при этом обеспечивает высокий уровень жизни своих граждан, участвуя практически во всех аспектах жизни общества. Сингапур известен своей безопасностью, гражданским порядком и общественной вовлеченностью всех граждан. Хотя недавний экономический спад, безусловно, повлиял на жизнь страны, экономика Сингапура бурно развивается, на улицах чисто, люди работают и бедности практически не существует. Даже небольшие нарушения, такие как разбрасывание мусора или курение в общественных местах, облагаются большими штрафами; полиция обладает огромной властью при задержании граждан по подозрению в тех или иных нарушениях. Несмотря на такой явный контроль, народ очень доволен своим правительством и социальные неравенства минимальны по сравнению со многими другими странами. Хотя Сингапуру, возможно, и не хватает демократических свобод, версия авторитаризма в этой стране значительно отличается от тех, что присущи более диктаторским режимам.Глобальное распространение либеральной демократии
В середине 1970-х гг. более двух третей всех обществ в мире могли считаться авторитарными. С того времени ситуация сильно изменилась — сегодня менее одной трети обществ авторитарны по своей сути. Демократия больше не сконцентрирована в основном лишь в западных странах; сейчас она поддерживается, во всяком случае в принципе, как наиболее желанная форма правления во многих регионах мира. Как отметил Дэвид Хелд, «демократия стала фундаментальным стандартом политической легитимности нашей эпохи» (Held 1996). В этом разделе мы рассмотрим глобальное распространение либеральной демократии и предложим несколько возможных объяснений ее популярности. Затем мы перейдем к обсуждению основных проблем, с которыми демократия сталкивается в современном мире.Падение коммунизма
В течение долгого времени политические системы мира делились на либеральную демократию и коммунизм — такой, который существовал в бывшем Советском Союзе и восточной Европе (и который до сих пор существует в Китае и некоторых других странах). Большую часть XX в. значительная часть мирового населения жила при политических системах, коммунистических или социалистических по своей ориентации. Те сто лет, что прошли после смерти Маркса в 1883 г., казалось, подтверждали его прогноз о распространении социализма и о революциях рабочих по всему миру.Дополнительно о Втором мире деморализованных экономик советского блока см. раздел «Первый, Второй и Третий миры» (глава 2, раздел «Типы обществ», подраздел «Глобальное развитие»).
Коммунистические государства считали себя демократическими, хотя системы в этих странах разительно отличались от того, что понимали под демократией люди на Западе. Коммунизм был по сути системой правления одной партии. Избирателям предоставлялся выбор не между различными партиями, а между различными кандидатами от одной и той же партии — Коммунистической; часто выдвигался всего лишь один кандидат. Реального выбора как такового не существовало. Коммунистическая партия была, бесспорно, доминирующей властью в обществах советского типа: она контролировала не только политическую систему, но и экономику. Практически все на Западе, от опытных ученых до обычных граждан, полагали, что коммунистические системы укоренились глубоко и стали перманентной частью мировой политики. Немногие, если таковые были вообще, предсказывали тот драматический ход событий, который начал разворачиваться в 1989-м, когда рушился один коммунистический режим за другим в целой серии «бархатных революций». То, что казалось твердой и широко принятой системой власти по всей Восточной Европе, было свергнуто практически в одночасье. Коммунисты теряли власть со все увеличивающейся скоростью в странах, где они господствовали более полувека: Венгрии, Польше, Болгарии, Восточной Германии, Чехословакии и Румынии. В итоге Коммунистическая партия и в самом Советском Союзе потеряла контроль над властью. Когда 15 республик, входивших в состав СССР, заявили о своей независимости в 1991 г., Михаил Горбачев, последний советский лидер, стал «президентом без государства». После падения Советского Союза процесс демократизации продолжал распространяться. Даже в некоторых наиболее авторитарных государствах мира можно найти признаки демократизации. В Иране, самом агрессивном мусульманском государстве мира, народное недовольство могущественными муллами (религиозными лидерами) ведет к пробным шагам по направлению к реформе на некоторых уровнях правления. Президента Ирана Мухаммеда Хатами сравнивали с Михаилом Горбачевым как лидера, который понимает, что если народное стремление к демократии не будет принято во внимание, это станет причиной развала самой системы. В Китае, где живет примерно пятая часть всего населения земного шара, коммунистическое правительство сталкивается с большим давлением в сторону демократизации. Тысячи людей остаются в заключении за мирное выражение своего желания демократии. Но все равно существуют группы, активно борющиеся за переход к демократической системе, им противостоит коммунистическое правительство. В последние годы в других авторитарных государствах, таких как Мьянма, Индонезия и Малайзия также наблюдался рост демократических движений. Некоторым из этих призывов к большим свободам был дан жестокий отпор. Тем не менее, «глобализация демократии» продолжается быстрыми темпами по всему миру. Эта общая тенденция к демократии не незыблема. Демократические политические общества, как известно, оказывались хрупкими и уязвимыми в различные моменты истории. Мы не должны считать, что демократизация — процесс необратимый. Однако тот факт, что демократизация связана с более мощными силами глобализации, дает основание смотреть на будущее демократии с оптимизмом.
Объясняя популярность либеральной демократии
Почему же демократия стала столь популярной? Одним из наиболее часто приводимых объяснений является следующее: другие типы политической власти были опробованы и обманули ожидания, а демократия доказала, что она является «лучшей» политической системой (см. врезку на этой странице). Кажется, демократия действительно является лучшей формой политической организации, но одно лишь это не может адекватно объяснить недавние волны демократизации. Причины же этого лежат в социальных и экономических изменениях, обсуждаемых в данной книге. Во-первых, демократия обычно ассоциируется с рыночной экономикой, которая показала себя системой более эффективной, нежели коммунизм, в производстве материальных ценностей. В качестве системы экономического управления и планирования коммунизм оказался неконкурентоспособным и неэффективным. Во-вторых, чем больше общественная деятельность глобализуется и на повседневную жизнь человека влияют события, происходящие где-то далеко, тем больше люди начинают требовать информации о том, как ими управляют — и следовательно, требовать большей демократии. Глобализация продвигает распространение идей и взглядов сквозь национальные границы и ведет к большей активности граждан во многих регионах мира.────────────────────────────┐ ■ Триумф демократии: конец истории? Френсис Фукуяма — писатель, имя которого стало синонимом выражения «конец истории». Концепция конца истории базируется у Фукуямы на всемирном триумфе капитализма и либеральной демократии. В связи с революциями 1989 г. в Восточной Европе, распадом Советского Союза и движением к многопартийной демократии в других регионах, Фукуяма утверждает, что идеологические битвы прошлых времен окончены. Конец истории — это конец альтернатив. Никто уже не защищает монархизм, и фашизм также является феноменом прошлого. То же и с коммунизмом, который долго являлся основным соперником западной демократии. Капитализм победил в своей долгой битве с социализмом, вопреки предсказанию Маркса, и теперь у демократии нет соперников. Мы достигли, утверждает Фукуяма, «конечной точки идеологической эволюции человечества и универсализации западной демократии как итоговой формы правления в человеческом обществе» (Fukuyama 1989). Работа Фукуямы вызвала ряд критических откликов, но в каком-то смысле она выделила основной феномен нашего времени. В настоящее время не существует значительного электората или массового движения, способного представить формы экономической и политической организации помимо рыночной и либеральной демократии. Хотя сейчас ситуация и кажется таковой, история вряд ли остановилась в том смысле, что мы исчерпали все доступные нам альтернативы. Кто знает, какие новые формы экономического, политического и культурного порядка могут появиться в будущем? Так же, как мудрецы средневековья не подозревали об индустриальном обществе, которое появилось вместе с упадком феодализма, так и мы не можем в данный момент предвидеть, как изменится мир за ближайший век. ────────────────────────────┘
В-третьих, существует влияние средств массовой информации, в особенности телевидения и сети Интернет. На цепную реакцию по распространению демократии, вероятно, очень повлияло то, что события в мире сегодня можно увидеть. С приходом новых телевизионных технологий, в особенности спутниковой и кабельной связи, правительства не могут установить контроль над тем, что видят их граждане. Как и в Китае, коммунистические партии Советского Союза и стран Восточной Европы раньше жестко контролировали телеканалы, каждый из которых принадлежал государству и управлялся им. Но распространение спутникового вещания открыло многим доступ к телепередачам с Запада, тем самым знакомя людей с иным взглядом на их жизнь и давая возможность определить степень правды правительственной пропаганды. Растущая популярность Интернета усиливает эту тенденцию, облегчая прямое общение между индивидами и группами людей по всему миру. Интернет и сложные телекоммуникационные системы позволяют мгновенно передавать фото- и письменные материалы. Сегодня мы живем в «открытом информационном мире» — таком, в котором авторитарным правительствам значительно труднее контролировать поток информации (хотя многие до сих пор пытаются это сделать — см. нижнюю врезку). Эта «информатизированная» среда дает правительствам все меньше возможностей полагаться на старые формы власти; она подрывает легитимность тех правительств, правление которых основано на традиционном символизме или зависит от неоспоримого авторитета. В подобных условиях авторитарное правление идет вразрез с другими жизненными установками, такими как гибкость и динамизм, необходимыми для участия в глобальной экономике высоких технологий.
────────────────────────────┐ ■ Интернет и демократизация Интернет — это мощный двигатель демократизации. Он переступает национальные и культурные границы, облегчает распространение идей по всему миру и позволяет единомышленникам найти друг друга в царстве виртуального пространства. Все больше и больше людей в разных странах мира регулярно выходят в сеть и считают ее важной составляющей своего образа жизни. Однако динамичное распространение сети Интернет воспринимается правительствами, в особенности авторитарными, как угроза; они осознают, что сетевая активность способна свергнуть государственную власть. Хотя Интернет находится в более или менее свободном доступе в большинстве стран, некоторые государства начали предпринимать шаги к ограничению его использования гражданами. В Китае, к примеру, число пользователей сети увеличилось в четыре раза — с 2,1 до 8,9 млн чел. — только лишь за 1999 г. Подсчитано, что количество китайских пользователей будет ежегодно увеличиваться вдвое. В ответ на этот быстрый рост китайское правительство объявило ряд строгих правил, запрещающих опубликование «государственных тайн» в сети, заблокировало прямые и косвенные линии между местными китайскими и зарубежными веб-страницами и ввело систему веб-цензуры, чтобы отслеживать содержание новостей и другой информации, доступной для обмена в сети Интернет. В глазах китайских коммунистических лидеров, Интернет представляет собой опасную угрозу национальной безопасности, так как позволяет оппозиционным политическим группам координировать свои действия. В 1999 г., к примеру, тысячи сторонников Фалун Гонг (духовного движения, члены которого верят в то, что дыхательные упражнения продлевают жизнь) организовались с помощью сети Интернет и собрались в Пекине на молчаливый протест. Секретная информация о вооруженных силах и технологических возможностях Китая была якобы опубликована на китайских веб-страницах. Такие события дают подтверждение китайскому правительству, что Интернет — мощное средство связи, которое необходимо контролировать. Правительства других стран пришли к аналогичным выводам. Правительство Мьянмы объявило запрет на распространение по сети Интернет или по электронной почте информации, «наносящей ущерб правительству». Малайзийские власти потребовали, чтобы все интернет-кафе вели списки людей, использовавших их компьютеры. В России местные Интернет-провайдеры обязаны присоединиться к системе электронного мониторинга, которая ведется службой государственной безопасности. ────────────────────────────┘
Парадокс демократии
Поскольку либеральная демократия становится столь широко распространенной, мы можем ожидать, что она работает весьма эффективно. Тем не менее, проблемы с демократией есть практически везде. «Парадокс демократии» озадачивает: с одной стороны, демократия распространяется по земному шару, но с другой стороны, в развитых демократических обществах с давними демократическими институтами высок уровень разочарования в демократических процессах. Проблемы с демократией есть даже в странах и регионах ее происхождения — в Великобритании, Европе и США; например, как показывают опросы, все большее количество людей либо недовольны существующей политической системой, либо выражают равнодушие по отношению к ней. Почему же многие недовольны именно той политической системой, которая, как кажется, сметает все на своем пути по миру? Ответы на эти вопросы, что любопытно, связаны с теми факторами, которые и помогли демократии распространиться, а именно с влиянием новых коммуникационных технологий и с глобализацией общественной жизни. Как заметил американский социолог Дэниел Белл, национальное правительство стало «слишком маленьким, чтобы ответить на важные вопросы», такие как влияние всемирной экономической конкуренции или разрушение мировой окружающей среды; при этом оно же стало «слишком важным, чтобы разбираться в мелких вопросах», в проблемах, которые касаются отдельных городов и регионов. У правительства, например, недостаточно власти над деятельностью больших бизнес-корпораций, главных действующих лиц мировой экономики. Отдельная корпорация США может принять решение закрыть свои производственные заводы в Великобритании и построить вместо этого новую фабрику в Мексике, чтобы уменьшить затраты и более активно конкурировать с другими корпорациями. В результате тысячи рабочих Великобритании остаются без работы. Они, скорее всего, захотят, чтобы правительство что-то предприняло по этому поводу, но национальные правительства не в состоянии контролировать процессы, связанные с мировой экономикой. Граждане многих демократий не склонны доверять избранным ими представителям и приходят к выводу, что национальная политика лишь ухудшает им жизнь. Растет циничное отношение к политикам, которые делают заявления о своей способности предвидеть или контролировать глобальные проблемы, возникающие за пределами уровня национального государства. Многие граждане осознают, что политики, по большому счету, не в силах повлиять на глобальные изменения, и в связи с этим относятся к заявлениям об успехах с большим подозрением. Опросы общественного мнения во многих западных странах выявляют, что восприятие гражданами того или иного политика, — серьезная проблема! Все растущее число граждан считает их корыстными и не заботящимися о проблемах, волнующих их электорат. Некоторые основания для такого заключения получены из результатов двух недавних групповых исследований. По данным опросов, отношение к политикам среди молодых и среднего возраста британцев характеризуется цинизмом более, чем каким-либо другим фактором. Среди группы лиц 1970 года рождения 44 % считали, что политики занимаются политической деятельностью ради собственной выгоды. В группе тех, кто родился в 1958 г., 30 % согласились, что по большому счету неважно, какая политическая партия находится у власти, поскольку обычным гражданам от этого мало прямой выгоды. Опросы выявили, что политический цинизм более явствен среди тех, кто не имеет образования (ESRC 1997). Одновременно с уменьшением влияния правительств на глобальные проблемы политические власти также отдалились от жизни большинства граждан. Многие граждане возмущаются тем, что решения, которые касаются их жизней, принимаются далекими «серыми кардиналами» — членами партий, группировок, лоббистами и бюрократами. Одновременно они могут прийти к мнению, что правительство не способно разобраться в важных местных проблемах, таких как преступность и бездомность. В результате этого вера в правительство значительно понизилась, что, в свою очередь, влияет на желание людей участвовать в политическом процессе. Последствия «эпохи открытой информации» чувствуются не только в тоталитарных государствах, но также и в демократических. Мы живем в мире, где граждане и правительство имеют доступ практически к одной и той же информации. Даже демократические правительства долгое время полагались на некоторые «недемократичные» методы работы — от коррупции и устройства на работу по протекции до закулисных интриг и группировок — которые теперь разоблачаются намного быстрее и чаще благодаря продвижениям в области информационных технологий. Некоторые процессы, ранее остававшиеся скрытыми от глаз, теперь стали доступны и вызывают негодование и разочарование среди демократического электората. Все чаще «старые способы» ведения дел разрушаются и существующие политические структуры не могут более восприниматься как данность. Некоторые обозреватели сегодня жалуются на то, что жители демократических стран стали апатичны и теряют интерес к политическому процессу. Действительно, рейтинги голосований за последние десятилетия упали и количество членов в основных политических партиях тоже уменьшилось. Однако было бы ошибкой предполагать, что люди не заинтересованы и потеряли веру в демократию как таковую. Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство жителей демократических стран называют демократию своей предпочтительной формой правления. Более того, есть признаки, что интерес к политике на самом деле находится на подъеме, просто он направлен не на традиционную партийную политику. Членство в общественных группах и ассоциациях растет, и активисты направляют свои силы на создание новых общественных движений, сосредоточенных на решении отдельных проблем, таких как окружающая среда, права животных, торговая политика и нераспространение ядерного оружия (см. раздел «Политические и социальные изменения» этой главы). Какова же в таком случае судьба демократии во времена, когда демократическое правление кажется неспособным справиться с ходом событий? Некоторые обозреватели считают, что с этим трудно что-либо сделать, что правительство не может и надеяться контролировать стремительные изменения, происходящие вокруг нас, и что наиболее разумно будет сократить роль правительства и допустить к руководству рыночные силы. Такой подход, однако, сомнителен. В нашем безудержном мире нам нужно больше, а не меньше власти правительства. Однако эффективное правление в нынешнюю эпоху требует углубления демократии как на уровне государства, так и выше, и ниже его. Вскоре мы увидим, как некоторые из вышеперечисленных сил дают себя почувствовать в политике Великобритании. Либеральная демократия по определению предполагает наличие нескольких политических партий. Прежде всего мы рассмотрим различные типы политических систем, которые могут быть сгруппированы под общим ярлыком либеральной демократии.Политические партии и голосование в странах Запада
Партийные системы
Политической партией можно назвать организацию, которая ориентирована на достижение законного контроля над правительством с помощью избирательного процесса. Существует множество типов партийной системы. Будет ли процветать двухпартийная система или же та, в которой партий больше двух, во многом зависит от природы избирательных процедур в данной стране. Две партии обычно доминируют в политической системе там, где выборы основаны на принципе победитель получает всё. Кандидат, который набирает наибольшее количество голосов в том или ином географическом избирательном округе, выигрывает местные выборы и представляет весь избирательный округ в парламенте. Там, где выборы построены по другому принципу, например, по принципу пропорционального представительства (при котором места в представительных органах распределяются пропорционально количеству полученных голосов), двухпартийные системы встречаются реже. В западноевропейских странах встречаются различные типы партийной организации, и не все из них присутствуют в политике Великобритании. Некоторые партии основаны на религиозной принадлежности, как, например, Социально-христианская партия (Parti Social Chrétien) и Католическая народная партия (Katholieke Volkspartij) в Бельгии; некоторые партии являются этническими, представляющими особые национальные или языковые группы, такие как Шотландская национальная партия (Scottish National Party) в Великобритании или Шведская народная партия (Svenska Volkpartiet) в Финляндии; другие партии являются сельскими, представляющими интересы аграриев, например, Центральная партия (Centerpartiet) в Швеции или Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei) в Швейцарии; также существуют экологические партии, заботящиеся о вопросах окружающей среды, например, Партия зеленых в Германии. Во многих европейских странах есть также ультраправые националистические партии, которые враждебно относятся к иммигрантам и иностранцам (см. ниже). Социалистические и лейбористские партии формировали правительства в тот или иной момент в большинстве западноевропейских стран со времен Второй мировой войны. До недавнего времени во всех этих странах существовали официально признанные коммунистические партии, некоторые из них были большими (например, в Италии, Франции и Испании). Учитывая перемены в Восточной Европе, многие из них сегодня изменили свои названия. Существует множество консервативных партий (такие, как Республиканская партия (Parti Républicain) во Франции или Консервативная и Юнионистская партии (Conservative and Unionist Party) в Великобритании), а также «центристских», занимающих «середину» между левыми и правыми (например, Либерально-демократическая партия (Liberal Democrats) в Великобритании). (Термин «левые» используется по отношению к радикальным или прогрессивным политическим группам; «правые» — к более консервативным группам.) В некоторых странах лидер партии большинства или же одной из партий, состоящих в коалиции, автоматически становится премьер-министром — главной политической фигурой страны. В других случаях (как, например, в США) президент выбирается отдельно от партийных выборов в основные представительные органы. Едва ли хоть одна из избирательных систем в западных странах является в точности такой же, как другие, и большинство из них сложнее, чем система, принятая в Великобритании. Примером может послужить Германия. В этой стране члены бундестага (парламента) выбираются по системе, которая сочетает в себе принцип «победитель получает всё» и принцип пропорционального представительства. Половина членов бундестага выбирается в избирательных округах, где выигрывает кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Остальные 50 % членов парламента выбираются согласно пропорции голосов, которые они набирают в определенных региональных областях. Именно эта система дала возможность Партии зеленых выиграть места в парламенте. Ограничение в 5 % было установлено, чтобы предотвратить ненужное размножение мелких партий — это та минимальная часть от общего количества голосов, которую должна набрать партия, чтобы получить представительство в парламенте. Системы с двумя доминирующими партиями, как в Великобритании и США, обычно ведут к тому, что большинство голосов отдается парламентариям, придерживающимся умеренных взглядов, некой «середины», и исключают более радикальные взгляды. Партии в этих странах обычно культивируют имидж умеренности и иногда становятся столь похожими друг на друга, что декларируемые ими отличия едва заметны. Казалось бы, множество интересов могло бы быть представлено каждой из партий, но довольно часто они сливаются в единую пресную программу со слабо выраженными установками. Многопартийные системы позволяют более прямо выражать различные интересы и точки зрения и обеспечивают возможности для представления радикальной альтернативы, но с другой стороны, отдельно взятая партия имеет мало шансов получить большинство голосов. Это приводит к коалициям, которые могут страдать от неспособности принимать решения из-за крупных внутренних конфликтов, или же к быстрой смене выборов и новых правительств, ни одно из которых не в состоянии оставаться у власти в течение длительного срока и от этого очень ограничено в своих действиях. «Ультраправые» партии в Европе Растущее неприятие иммиграции отразилось на политических победах правых партий в ряде европейских стран. Наиболее драматичной была ситуация в Австрии, где Партия свободы, до недавнего времени возглавляемая Йоргом Хайдером, получила 27 % голосов на национальных выборах в октябре 1999 г. и вступила в коалиционное правительство с консервативной Народной партией. Хайдер, в прошлом открыто превозносивший нацистскую «политику занятости» и ветеранов гитлеровского СС, строил свою компанию на жесткой платформе «чрезмерной иммиграции», которая была, несомненно, антииммигрантской и антиевропейской. Хотя Австрия долгое время была одной из наиболее стабильных и процветающих стран Европы, идея Хайдера нашла отклик у многих избирателей. За последние десять лет Австрия приняла тысячи иммигрантов из Восточной Европы и Балкан; на данный момент иммигранты составляют около 10 % от общего населения. После объявления нового коалиционного правительства в феврале 2000 г. Вена была наводнена протестами; государства, также входящие в ЕС, объявили о своем намерении изолировать Австрию дипломатически, а Израиль отозвал своего посла из Вены. Следуя непосредственно за австрийскими выборами, ультраправая Народная партия в Швейцарии получила 23 % голосов, что сделало ее самой мощной политической силой в стране. В Швейцарии, которая не является ни членом ЕС, ни членом ООН, каждый пятый житель — иммигрант. Народная партия успешно мобилизовала антииммигрантские настроения среди населения и улучшила свое положение за счет призыва к ужесточению законов о политическом убежище во время войны в Косове в первой половине 1999 г. В других европейских странах ультраправые партии имеют некоторую поддержку, но остаются на периферии. В Италии Ломбардская Лига имеет мощную поддержку избирателей на севере страны. Национальный Фронт Жана-Мари Ле Пена во Франции набрал целых 15 % голосов на выборах, базируясь на антииммигрантской платформе. Даже в скандинавских странах, долгое время бывших бастионом либерализма в отношении расовых вопросов, появились ультраправые группировки с ощутимой поддержкой. Многие иммиграционные организации и организации по борьбе за права человека в Европе и по всему миру выразили беспокойство по поводу того, что на их взгляд является нарождающейся волной расизма, связанной с поддержкой строительства так называемой «Европы-крепости» (см. подраздел «Беженцы, соискатели политического убежища и экономические мигранты» в разделе «Иммиграция и межэтнические отношения на континенте» главы 9). И тем не менее, наблюдаются не только тенденции уменьшения терпимости, что показывает спад в ряде стран поддержки ультраправых партий в период с 1994–1995 по 1999 гг. Антирасистские организации получили заметное развитие во всех вышеупомянутых странах, и большинство правительств резко усилило меры по уменьшению дискриминации.Партии и голосование в Великобритании
До XIX в. партии в Великобритании считались лишь временным методом, необходимым для мобилизации поддержки в отдельных случаях или кризисах. По мере того как партии развивались в более стабильные организации, они начали ассоциироваться с идеей о том, что поддержка руководства может приносить определенные блага. Членство в партии и преданность ей постепенно стали связаны с различными формами покровительства, при котором преданные получали вознаграждение в виде определенных должностей в новой администрации. Большую часть XX в. две основные партии (лейбористы и консерваторы) доминировали на политической арене страны и политика соперничества развилась с помощью сбора поддержки двух конкурирующих правительственных команд, каждая из которых состоит из членов одной партии. Британская избирательная политика за последние двадцать с лишним лет сильно изменилась. И лейбористы, и консерваторы находятся под все большим давлением от уменьшения числа членов, сокращения ресурсов и потери поддержки избирателей. Партии лейбористов удалось удачно перестроиться и вернуться к власти в 1997 г., в то время как у партии консерваторов продолжает наблюдаться рекордно низкий уровень членов, а контингент сторонников стареет. Чтобы понять опыт основных партий за последние двадцать лет, важно учитывать несколько факторов. Первый фактор является структурным: доля экономически активного населения, занятого на традиционных должностях «синих воротничков», значительно понизилась. Не подлежит сомнению, что это постепенно уменьшило число традиционных источников поддержки у лейбористов, таких как рабочие кварталы и профсоюзы. Второй фактор — раскол, произошедший в партии лейбористов в начале 1980-х, который привел к основанию Социал-демократической партии (СДП). Хотя СДП более не существует, Либерально-демократическая партия, образовавшаяся позднее путем слияния либеральной и социал-демократической партий, получила значительную поддержку и увела часть голосов от двух основных партий. Третьим фактором стало влияние г-жи Тэтчер, премьер-министра от консерваторов с 1979-го по 1990 гг. Энергичная программа реформ, начатая г-жой Тэтчер и ее правительством, являла собой существенный шаг в сторону от философии тори, принятой ранее. При тэтчеризме основной упор делался на сокращении роли государства в экономической жизни и на доверии рыночным силам как основе индивидуальных свобод и экономического роста. В-четвертых, появление «новых лейбористов» в середине 1990-х (см. ниже) обозначило существенно новый подход к британской политике.Тэтчеризм и после него
В течение первого срока своего правления, в политике г-жи Тэтчер делался основной упор на «монетаризм». Контроль над валютным запасом считался ключом к уменьшению инфляции и содействию здравому управлению экономикой. Цели, поставленные для валютного контроля, однако, оказались недостижимыми, и впоследствии от монетаризма практически отошли. После выборов 1983 г. движущая сила тэтчеризма в экономике была поддержана приватизацией государственных компаний. Продажа акций компаний «British Telecom», «British Gas», «British Steel», «British Airways» и «British Petroleum» вызвала широкий отклик. Называется ряд преимуществ такого рода приватизации. Считалось, что она вновь принесет здоровую экономическую конкуренцию вместо неуклюжих и неэффективных государственных бюрократий, уменьшит общественные расходы и поставит точку над политическим вмешательством в административные решения. Приватизационная политика, начатая г-жой Тэтчер, имела долгосрочное влияние. Первоначально партия лейбористов сильно оспаривала ее. Позднее, однако, лейбористы оставили свою враждебную позицию и признали, что большая часть этой приватизации была неизбежной. «Леди не свернет с пути!» — провозгласила г-жа Тэтчер в одном из своих наиболее известных публичных заявлений. Возможно, наиболее сильным элементом постоянства при тэтчеризме были личность и моральный облик самой г-жи Тэтчер. Ее категоричный подход не завоевал симпатии у большей части электората, но вызвал уважение к ее качествам как национального лидера. Отказ г-жи Тэтчер отступать перед лицом аргентинской оккупации Фолклендских островов показался многим конкретным выражением этих качеств, и ее доминирующая роль в правительстве также подкреплялась характерными для нее увольнениями тех членов кабинета, которые не разделяли ее взглядов. Однако после ее сокрушительной победы на выборах в 1987 г. популярность г-жи Тэтчер у электората начала резко падать. Основными факторами стали непопулярность подушного налога (Community Charge — налог, основанный не на доходах или имуществе, а просто «на душу населения») и движение экономики в сторону рецессии. Уровень недовольства правлением г-жи Тэтчер внутри партии консерваторов достиг такой высоты, что старшие коллеги убедили ее снять свою кандидатуру во время соревнования за партийное лидерство в 1990 г. Ее сменил Джон Мейджор (Kingdom 1999). При Мейджоре консерваторы продолжили приватизацию государственных предприятий даже там, где это было отнюдь не популярно у электората. К примеру, компания «British Rail» была поделена на части и продана в частном тендере, хотя опросы показали, что большинство населения не поддерживало эту программу.«Новые лейбористы»
Отчасти в ответ на влияние тэтчеризма, отчасти в качестве реакции на более глобальные события, включая усиление мировой экономической конкуренции, партия лейбористов начала менять свою идеологию. Этот процесс был начат при Ниле Кинноке, который ушел в отставку со своего поста лидера лейбористов после проигрыша партии на выборах в 1992 г., и был продолжен при Джоне Смите, вплоть до его преждевременной смерти. Тони Блэр стал лидером партии в 1994 г. и незамедлительно принялся за продолжение серьезных реформ. Окрестив свою преобразованную партию «Новые лейбористы», Блэр вел успешную внутрипартийную кампанию по отмене 4-й Статьи — статьи партийного устава, которая обязывала партию проводить политику широкого общественного владения промышленными предприятиями. Тем самым лейбористы официально признали первостепенную важность рыночной экономики, которую г-жа Тэтчер была так твердо намерена расширять. Поступив таким образом, партия внесла изменения, сходные с теми, которые произошли в большинстве социалистических партий в Западной Европе. Решающим влиянием в данном случае стало крушение коммунистических режимов в Советском Союзе и Восточной Европе. Взгляды партии лейбористов всегда в значительной степени отличались от коммунистических — уровень государственного владения индустриальными предприятиями в коммунистических обществах был намного более высоким, чем тот, какой когда-либо представляла себе партия лейбористов. Однако большинство людей согласилось, что развал коммунизма был сигналом к тому, что необходимо также радикально пересмотреть и менее экстремальные представления о социализме. Идея о том, что современная экономика может напрямую «управляться» с помощью государственного контроля — главное положение и в коммунизме, и в социализме «старых лейбористов», — теперь кажется устаревшей. Выборы 1997 года Выборы 1997 г., которые привели к власти «новых лейбористов», представляли собой одну из крупнейших избирательных перемен в Великобритании в XX в. — скачок в 10,3 % от консерваторов к лейбористам — и положили конец восемнадцати годам правления партии консерваторов. Партия лейбористов получила 419 мест в парламенте (в отличие от 165 у консерваторов), что дало им на 179 мест больше, чем всем остальным партиям вместе взятым, — рекордно большое преимущество за всю историю парламента. Доля голосов, отданных в пользу тори (31,4 %), была самой низкой с 1832 г. Это ознаменовало резкое снижение довольно стабильного уровня поддержки, получаемой консерваторами даже в начале того десятилетия. К примеру, в 1992 г. тори получили 42,8 % голосов. Другим важным итогом выборов 1997 г. стали солидные данные у либеральных демократов, которые получили 46 мест, что является наиболее высоким результатом для либеральной партии в послевоенную эпоху. Как можно объяснить эти драматичные изменения на выборах? На итоги, по всей видимости, повлиял ряд факторов. Многие обозреватели предположили, что низкое число избирателей, явившихся на выборы, — 71,3 % зарегистрированных избирателей — указывает на то, что электорат голосовал не столько за «новых лейбористов», сколько это было «протестное голосование» ради каких-то перемен. По подсчетам, примерно 2 млн избирателей партии консерваторов остались дома в день выборов — факт, который, как представляется, безусловно повысил сильные результаты лейбористов. Освещение кампании средствами массовой информации могло также повлиять на конечный результат. Пока лейбористы успешно продвигали имидж Тони Блэра как молодого, энергичного и настроенного на реформы, тори уничтожались обвинениями в коррумпированных сделках, а сами они, казалось, расходились друг с другом по важнейшим вопросам, таким как роль Великобритании в Европе. Анализ ежедневного освещения в прессе событий, касающихся Джона Мейджора и Тони Блэра, показал, что большее внимание было уделено кандидатам как личностям, нежели их профессиональным качествам. Это сработало против Джона Мейджора. Хотя Мейджора часто характеризовали как честного и смелого человека, его резко обвиняли в том, что в качестве лидера он некомпетентен и неэффективен. Блэра же и оппоненты, и приверженцы называли пылким и упорным (Seymour-Ure 1998). Газеты, которые прежде поддерживали проблемы консерваторов и их политиков в годы выборов, в 1997 г. больше поддерживали лейбористов. Эти сдвиги в электорате «новых лейбористов» отражаются на составе членов парламента. Члены парламента от лейбористов достаточно молоды: десять из них были моложе тридцати и более половины — не старше пятидесяти лет во время их избрания. Новый состав также включает большее количество «белых воротничков», чем раньше, больший процент людей с высшим образованием и преподавателей. В заключение, рекордное число членов парламента от лейбористов — 101 человек — женщины, по сравнению с 37-ю в 1992 г. Это, отчасти, результат целенаправленной политики партии лейбористов по увеличению числа женщин в парламенте. В течение некоторого времени, пока эту установку не отменили в суде, окончательные списки, состоящие только из женщин, использовались для получения половины мест, которые можно было выиграть лейбористам.Политика третьего пути
После прихода к власти «новые лейбористы» взялись за амбициозный курс политической реформы и модернизации. Оставаясь по-прежнему верным таким ценностям, как социальная справедливость и солидарность, правительство всячески пыталось заняться проблемами нового миропорядка. Оно признало, что старая политика не соответствовала задачам нового времени. Как и более двенадцати других правительств Европы, «новые лейбористы» хотели двинуться за пределы традиционных политических категорий «левого» и «правого» и проводить новый тип центристско-левой политики. Поскольку этот подход старается избежать обычных политических разделителей, его часто называют политикой третьего пути. У политики третьего пути существуют шесть основных признаков: 1. Переустройство правительства. Действующее правительство обязано отвечать требованиям быстро развивающегося мира, однако правительство не должно ассоциироваться лишь с бюрократиями, организованными по принципу «верх — низ», и национальной политикой. Динамичные формы управления и администрации, например те, которые порой можно найти в бизнес-секторе, могут работать вместе с правительством для защиты и оживления общественной сферы. 2. Развитие гражданского общества. Одни лишь правительство и рынок не в состоянии решить множество проблем в современных обществах. Гражданское общество — сфера вне государства и рынка — должно быть укреплено и объединено с правительством и бизнесом. Группы добровольцев, семьи и ассоциации граждан могут играть важную роль при рассмотрении общественных проблем от преступности до образования. 3. Переустройство экономики. Третий путь предполагает новую смешанную экономику, которая характеризуется балансом между государственным регулированием и отменой государственного регулирования. Этот путь отрицает неолиберальный взгляд, что отмена регулирования — единственный путь обеспечения свободы и роста. 4. Реформа государства всеобщего благосостояния. Хотя очень важно защищать нуждающихся с помощью эффективных услуг в области социального обеспечения, государство всеобщего благосостояния должно подвергнуться реформе, чтобы стать более эффективным. Политика третьего пути стремится к «обществу заботы», признавая при этом, что старые формы социального обеспечения часто оказывались неэффективными для уменьшения неравенства и скорее контролировали, нежели давали права бедным. 5. Экологическая модернизация. Политика третьего пути отрицает точку зрения, согласно которой защита окружающей среды и экономический рост не совместимы. Существует множество способов, с помощью которых приверженность защите окружающей среды может создавать рабочие места и стимулировать экономическое развитие. 6. Реформа всемирной системы. В эпоху глобализации политика третьего пути обращается к новым формам мирового управления. Транснациональные ассоциации могут привести к демократии более высокого уровня, нежели национальное государство, и способны сделать возможной большую степень власти над изменчивой международной экономикой. Политика третьего пути появилась на фоне двойного политического кризиса. Как уже было замечено ранее, революции 1989 г. показали, что социализм был неэффективным подходом к экономической организации, однако и неудержимый энтузиазм по отношению к свободному рынку, излюбленный неолиберальными консерваторами, был также несовершенен. Программа модернизации политики третьего пути, принятая в Великобритании и других местах, была попыткой творчески откликнуться на силы глобализации. Она стремилась обуздать силу этих трансформаций с целью оживления существующих наработок правительства и демократии. Эта идея нахождения третьего пути в политике была, однако, широко раскритикована. Многие консерваторы видят эту новую политику как, в общем-то, лишенную содержания, скорее как политическую позу, нежели как программу, имеющую реальный смысл. С другой стороны, некоторые из более традиционных левых полагают, что третий путь уделяет вовсе не достаточно внимания решению проблем неравенства и незащищенности. Они считают, что «старые лейбористы» по-прежнему лучше своей новой версии.────────────────────────────┐ ■ Политическое участие женщин Голосование имеет особое значение для женщин на фоне их борьбы за получение всеобщего избирательного права: один человек — один голос для каждого, будь то мужчина или женщина, борьбы, которая длилась долгое время практически повсеместно. Сейчас во многих странах наблюдается примерно равное соотношение голосующих мужчин и женщин. Перемены в социальном разделении между мужчинами и женщинами принесли изменения в политическом участии женщин. С началом уменьшения различий во власти и статусе между мужчинами и женщинами уровень голосования среди женщин повысился. До того как женщины получили право голоса, мнения по поводу возможного воздействия на политику участия женщин в выборах сильно расходились. Те, кто был за право женщин голосовать считали, что приход последних в политику радикально изменит политическую деятельность, наполняя новым смыслом понятия альтруизма и нравственности. Те же, кто был против распространения права голоса, утверждали, что вмешательство женщин в политику опошлит политическую жизнь и одновременно подорвет стабильность семьи. Ни одного из этих экстремальныхпоследствий не произошло. Получение женщинами права голоса не изменило характер политики в значительной степени. Модели голосования у женщин, как и у мужчин, формируются партийными предпочтениями, возможными установками и разнообразием имеющихся кандидатов. Однако в Великобритании и США во время недавних выборов женщины-избиратели считались ключевым электоратом, который необходимо завоевать, чтобы победить повсеместно. И Билл Клинтон, и Тони Блэр успешно очаровывали женщин-избирателей на выборах в 1990-х гг., называя среди своих приоритетов те проблемы, которые особенно беспокоят женщин. Политические эксперты говорят о «мамах-активистках» и «вустерской женщине»[9], когда описывают этот важный круг избирателей, состоящий из работающих женщин, принадлежащих среднему классу, чья политическая поддержка сегодня способна обеспечить или же разрушить те или иные политические притязания. Кажется очевидным, что многие вопросы и проблемы, которые особенно беспокоят женщин, и которые прежде игнорировались или считались «вне политики», теперь являются важной частью политических дебатов. Такими проблемами являются забота о детях, равноправие на рабочем месте, возможность абортов, научные исследования в лечении рака груди, контроль над владением оружием, перемены в законодательствах о браке и разводе и права лесбиянок. ────────────────────────────┘
Политические и социальные изменения
Политическая жизнь ведется далеко не только в традиционных рамках политических партий, голосований и представительства в законодательных и правительственных структурах. Зачастую группы людей считают, что их стремления и идеалы не могут быть достигнуты внутри этих рамок или же им оказывается активное сопротивление. Несмотря на вышеописанное распространение демократии, живучесть авторитарных режимов во многих странах, таких как Китай, Куба и бывшая Югославия, напоминает нам о том, что осуществление перемен внутри существующих политических структур не всегда возможно. Иногда политические и социальные изменения могут быть осуществлены только с использованием нетрадиционных форм политических действий. Наиболее драматичным и имеющим серьезные последствия примером нетрадиционного политического действия является революция — свержение существующей политической власти путем массового движения с использованием насилия. Революции — это напряженные, волнующие и поразительные события; не удивительно, что они привлекают к себе много внимания. И все же, несмотря на их высокий драматизм, революции происходят относительно редко. Наиболее распространенным типом нетрадиционной политической деятельности являются общественные движения — коллективные попытки привлечь внимание к некоему общему интересу или достичь определенной общей цели с помощью действий вне сферы известных организаций. В современных обществах было множество различных общественных движений помимо тех, что ведут к революции, некоторые из них существовали долго, другие были преходящими. Они являются столь же несомненной приметой современной жизни, сколь и формальные, бюрократические организации, против которых они нередко выступают. Многие современные общественные движения являются международными и во многом полагаются на использование информационных технологий, включая местных участников движения в решение глобальных проблем.Глобализация и общественные движения
Общественные движения различаются по своим формам и размерам. Некоторые из них совсем маленькие и насчитывают не более дюжины членов, другие могут состоять из тысяч или даже миллионов участников. Некоторые общественные движения занимаются своей деятельностью в рамках законов того общества, в котором они существуют, другие действуют как нелегальные или подпольные группы. Для движений протеста характерно, однако, действовать на грани того, что считается правительствами допустимым с точки зрения закона в определенном месте или в определенное время. Общественные движения часто возникают с целью изменить существующее положение в той или иной общественно значимой сфере, такой, например, как расширение гражданских прав для той или иной части населения. В ответ на общественные движения иногда возникают контрдвижения в защиту статус-кво. Например, кампания за право женщин на аборт была встречена шумными протестами выступающих против абортов (так называемых активистов «за жизнь»), которые считают, что аборты должны быть запрещены. Законы или установки часто изменяются именно в результате действий, предпринятых общественными движениями. Такие изменения в законодательстве могут иметь мощное воздействие. Например, группы рабочих не могли по закону призвать своих коллег к забастовке, и последние с большей или меньшей строгостью наказывались в различных странах. В конце концов, однако, эти законы были изменены, и забастовка стала допустимой тактикой, используемой при производственном конфликте. Общественные движения являются одной из наиболее сильных форм коллективного действия. Хорошо организованные, постоянно проводимые кампании могут давать впечатляющие результаты. Например, американское движение за гражданские права успешно продвинуло важные законодательные акты, запрещающие расовую сегрегацию в школах и общественных местах. Феминистское движение добилось важных результатов для женщин в вопросах экономического и политического равенства. В последние годы активисты движения за охрану окружающей среды смогли заставить правительства и корпорации пойти на ряд важных уступок, как, например, в вопросе генетически модифицированных (ГМ) продуктов питания (см. главу 19 «Рост народонаселения и экологический кризис»). Новые общественные движения Последние три десятилетия отмечены настоящим бумом общественных движений в странах по всему миру. Эти разнообразные движения — от движений за гражданские права и феминистских движений 1960–1970-х гг., антиядерных и экологических движений 1980-х гг. до кампании по защите прав сексуальных меньшинств 1990-х гг. — комментаторы часто называют новыми общественными движениями (НОД). Современные общественные движения отличаются от своих предшественников из прошлых десятилетий. Многие обозреватели считают, что НОД — уникальный продукт современного общества конца столетия, и они в значительной степени отличаются по своим методам, мотивам и ориентирам от форм коллективного действия, существовавших ранее. Подъем новых общественных движений в последние годы отражает меняющиеся опасности, с которыми сталкиваются человеческие общества. Условия для общественных движений созрели — традиционные политические организации все чаще не могут справиться с поставленными им задачами. Они не в состоянии творчески ответить на опасности, угрожающие природе, на потенциальные опасности ядерной энергии и генетически модифицированных организмов, на мощное влияние информационных технологий. Эти новые проблемы таковы, что существующие демократические политические институты не могут и надеяться на их устранение. В результате эти вновь появляющиеся сложные задачи зачастую игнорируются или избегаются до тех пор, пока не становится слишком поздно и наступает настоящий кризис. Общим воздействием этих новых проблем и угроз является ощущение, что люди «теряют контроль» над своими жизнями на фоне быстрых перемен. Индивиды чувствуют себя менее защищенными и более изолированными — сочетание, которое ведет к ощущению беспомощности. Корпорации, правительства и средства массовой информации, напротив, кажется, доминируют во все возрастающем числе аспектов жизни людей, усиливая ощущение безудержности мира. Растет ощущение того, что, будучи пущенной на самотек, глобализация принесет еще больше опасностей для жизни граждан.См. раздел «Глобализация и новые опасности» в главе 3.
Мы можем рассматривать НОД с точки зрения «парадокса демократии», упомянутого ранее. Хотя вера в традиционную политику, судя по всему, ослабевает, рост НОД является свидетельством того, что граждане в современных обществах конца века не апатичны и не равнодушны к политике, как иногда утверждается. Скорее, существует мнение, что участвовать напрямую полезнее, чем полагаться на политиков и политические системы. Чаще чем когда бы то ни было люди поддерживают общественные движения как способ подчеркнуть сложные моральные проблемы и поместить их в центр общественной жизни. В этом отношении НОД помогают восстанавливать демократию во многих странах. Общественные движения составляют основу сильной гражданской культуры или гражданского общества — сферы между государством и рынком, занимаемой семьей, общественными ассоциациями и другими неэкономическими институтами.
Технология и общественные движения
В последние годы две из наиболее влиятельных сил в современных обществах конца столетия — информационные технологии и общественные движения — объединились, что дало потрясающие результаты. В наш век информации общественные движения по всему миру способны объединиться в огромные региональные и международные сети, включающие в себя неправительственные организации, религиозные и гуманитарные объединения, ассоциации по защите прав человека, защитников прав потребителей, активистов охраны окружающей среды и других, кто проводит кампании в защиту общественных интересов. Сейчас такие электронные сети обладают ранее небывалой способностью немедленно реагировать на события, которые происходят, получать доступ и делиться информационными ресурсами и оказывать давление на корпорации, правительства и международные организации в качестве части стратегии своих кампаний. К примеру, колоссальные акции протеста против Всемирной торговой организации (ВТО), состоявшиеся в Сиэтле, были по большей части организованы через сети, базирующиеся в Интернете. Интернет занимал важнейшее место в этих переменах, хотя мобильные телефоны, факсы и спутниковое вещание также ускорили их эволюцию. Одним нажатием кнопки события местного значения распространяются по всему миру. Широкие массы активистов от Японии до Боливии могут встретиться в сети и поделиться информационными ресурсами, обменяться опытом или скоординировать совместные действия. Последний аспект использования Интернета — возможность координировать международные политические кампании — больше всего беспокоит правительства и вдохновляет участников общественных движений. За последние десять лет число «международных общественных движений» стабильно росло по мере распространения Интернета. От глобальных протестов выступающих за отмену долга стран Третьего мира до международной кампании по запрету фугасных бомб (которая достигла своей кульминации в виде Нобелевской премии мира), Интернет доказал свою способность объединять участников кампаний сквозь национальные и культурные границы. Некоторые обозреватели рассуждают о том, что в век информации происходит «миграция» власти от национальных государств к новым неправительственным объединениям и коалициям. Политические советники в таких «умных» организациях, как корпорация RAND в США, говорят о сетевых войнах — крупных интернациональных конфликтах, в которых на кон соревнования поставлены информация и общественное мнение, а не ресурсы или территория. Участники сетевых войн используют средства массовой информации и ресурсы, доступные в режиме онлайн, чтобы формировать то, что некоторые группы населения знают об общественной жизни. Эти сетевые движения часто нацелены на распространение информации о корпорациях, государственных установках или воздействии международных соглашений на те аудитории, которые в другом случае могли бы и не знать о таковых. Для многих правительств — даже демократических — сетевые войны являются пугающей и трудноуловимой угрозой. Вот о чем предупреждает доклад Армии США: «Новое поколение революционеров, радикалов и активистов начинает создавать идеологии века информации, в которых личности и приверженности могут перейти от национального государства на уровень международного гражданского общества» (цит. по: Guardian. 19 Jan. 2000). Беспочвенны ли эти страхи? Есть основания полагать, что общественные движения в последние годы действительно радикально изменились. Мануэль Кастеллс в своей книге «Сила личности» рассматривает три примера общественных движений, которые, будучи совсем не похожи по своим проблемам и задачам, привлекли внимание международной общественности к поставленным ими вопросам с помощью эффективного использования информационных технологий (Castells 1997). Мексиканские повстанцы-сапатисты[10], американское движение «милиция»[11] и японский культ Аум Синрике — все они использовали средства массовой информации, чтобы донести свою идею протеста последствиям глобализации и выразить свой гнев, вызванный, потерей контроля над собственными судьбами. Согласно Кастеллсу, каждое из этих движений полагается на информационные технологии в качестве организационной инфраструктуры. Например, без Интернета повстанцы-сапатисты так и оставались бы изолированным партизанским движением в Южной Мексике. Вместо этого в течение нескольких часов после их вооруженного восстания в январе 1994 г. в Интернете появились национальные и международные группы, цель которых была — поддержать дело повстанцев и обвинить мексиканское правительство в грубом подавлении этого восстания. Сапатисты использовали телекоммуникации, интервью для СМИ и видеоматериалы, чтобы обнародовать свой протест против торговой политики, таким как Североамериканское соглашение о свободе торговли (NAFTA), которые еще больше лишают бедных индейцев из областей Оаксака и Чиапас благ глобализации. В связи с тем что их дело было вынесено на первые полосы онлайн сетей участников общественных кампаний, сапатисты смогли заставить мексиканское правительство пойти на переговоры и привлекли международное вникание к пагубному влиянию свободной торговли на уровень жизни коренного населения.Националистические движения
Теории национализма и нации
Некоторые из наиболее важных социальных движений в современном мире являются националистическими. Мыслители-социологи XIX и начала XX вв. практически не проявляли интереса или тревоги по отношению к национализму. Маркс и Дюркгейм видели национализм прежде всего как разрушительную тенденцию и полагали, что усиление экономической интеграции, полученное благодаря современной индустрии, станет причиной его скорого заката. Лишь Макс Вебер уделил много внимания анализу национализма и был готов объявить себя националистом. Но даже Вебер не смог оценить, сколь важным станут национализм и идея нации в XX в. В начале XXI в. национализм не просто жив, но, по крайней мере в некоторых местах мира, процветает. Хотя мир стал более взаимозависимым, особенно за последние тридцать-сорок лет, эта взаимозависимость не привела к концу национализма. В некотором отношении она, возможно, даже способствовала его усилению.Возрождение национализма в бывшей Югославии описано в подразделе «Этнические конфликты» (глава 9, раздел «Этническая интеграция и этнические конфликты»).
Современные мыслители пришли к разным умозаключениям относительно того, почему так происходит. Существуют также разногласия по поводу этапа истории, при котором национализм, нация и национальное государство появились как таковые. Некоторые считают, что у них гораздо более ранние истоки. Национализм и современное общество Пожалуй, главным теоретиком национализма является Эрнест Геллнер (1925–1995). Геллнер утверждает, что и национализм, и нация, и национальное государство являются продуктами современной цивилизации, истоки которой лежат в индустриальной революции конца XVIII в. Национализм и чувства или ощущения, с ним связанные, не имеют глубоких корней в человеческой природе. Это продукты нового крупномасштабного общества, которое создается индустриализмом. Согласно Геллнеру, национализм как таковой, а также понятие нации не знакомы традиционным обществам (Gellner 1983). Существуют несколько черт современных обществ, которые привели к появлению этих феноменов. Во-первых, современное индустриальное общество ассоциируется с быстрым экономическим развитием и сложным разделением труда. Геллнер отмечает, что современный индустриализм создает потребность в гораздо более эффективной системе государства и правительства, чем та, что существовала ранее. Во-вторых, в современном государстве индивиды обязаны постоянно общаться с чужестранцами, поскольку в основе общества лежит теперь не деревня или город местного значения, а нечто намного более крупное. Массовое образование, основанное на «государственном языке», которое дается в школах, — основное средство, с помощью которого крупномасштабное общество может быть организовано и сохранять свое единство. Теория Геллнера была раскритикована по нескольким аспектам. Критики говорят, что это функционалистская теория, которая утверждает, что образование работает на социальное единство. Как и при более общем подходе функционалистов, этот взгляд склонен недооценивать роль образования в генерировании конфликтов и разногласий. Теория Геллнера, в общем-то, не объясняет тех страстей, которые национализм может пробуждать и часто вызывает. Сила национализма, возможно, связана не просто с образованием, но с его способностью формировать идентичность — нечто, без чего индивидуумы не могут существовать. Потребность в идентичности, конечно же, родилась не с появлением современного индустриального общества. В связи с этим критики утверждают, что Геллнер не прав, столь сильно отделяя национализм и нацию от досовременных времен. В чем-то национализм весьма современен, но он также использует чувства и формы символизма, которые уходят гораздо глубже в прошлое. Согласно одному из наиболее известных исследователей национализма, Энтони Смиту, нации обычно имеют прямые линии преемственности от более ранних этнических общин, или как он их называет, этни или этнос. Этнос — это группа, которая объединена идеей общего происхождения, общими культурными особенностями и связью с определенной родиной. Многие нации, как отмечает Смит, действительно возникли в доиндустриальную эпоху, и в предыдущие исторические периоды существовали этнические общины, которые напоминают нации. Евреи, к примеру, представляют собой отчетливый этнос в течение более чем 2 000 лет. В определенные периоды евреи объединялись в общины, которые обладали рядом характеристик наций. Но только после Второй мировой войны все эти элементы были объединены в форму национального государства Израиль. Как и большинство других национальных государств, Израиль не был образован из единственного этноса. Палестинское меньшинство в Израиле ведет свое происхождение от весьма отличающегося этнического источника и утверждает, что создание израильского государства сместило палестинцев с их древней родины — отсюда и их постоянный конфликт с евреями в Израиле, а также разногласия между Израилем и большинством сопредельных арабских стран. Различные страны развивались относительно этноса по-разному. В некоторых, включая большинство стран Западной Европы, распространялся какой-то один этнос, вытесняя ранее живших на этой территории соперников. Так, в XVII в. во Франции говорили на нескольких других языках (помимо французского. — Прим. перев.), с которыми связаны другие этнические истории. По мере того как французский становился основным языком, большинство его соперников впоследствии исчезли. Однако их остатки закрепились в некоторых областях. Одним из таких мест является страна басков, расположенная по обе стороны франко-испанской границы. Баскский язык довольно сильно отличается и от французского, и от испанского, и баски утверждают, что у них отдельная культурная история. И хотя уровень насилия и близко не приближался к тому, который наблюдался в других местах, таких как Восточный Тимор или Чечня на юге России, группы сепаратистов в стране басков спорадически устраивали серии взрывов, стремясь приблизиться к своей цели — независимости.
Нации без государств
Живучесть строго очерченных этносов внутри сложившихся наций приводит к феномену нации без государства. В подобной ситуации налицо многие из основных характеристик нации, но тем, кто составляет такую нацию, недостает независимой политической организации. Сепаратистскими движениями, такими как в Чечне или Басконии, а также во многих других местах мира, таких как Кашмир в северной Индии, движет желание организовать автономное государство с самоуправлением. Можно признать несколько различных типов наций без государств, в зависимости от взаимоотношений этноса с более крупным национальным государством, внутри которого он существует (Guibernau 1999). 1. В некоторых случаях национальное государство может принимать культурные отличия своего меньшинства или меньшинств и позволять им определенную степень активного развития. Так, в Великобритании Шотландия и Уэльс признаются как имеющие свою историю и культурные особенности, отличные от остального Соединенного Королевства, и они до некоторой степени имеют свои отдельные институты. К примеру, большинство шотландцев являются пресвитерианцами, и Шотландия уже давно имеет отдельную от Англии и Уэльса систему образования. Шотландия и Уэльс достигли еще большей автономности внутри Соединенного Королевства в целом с организацией Шотландского Парламента и Национальной Ассамблеи Уэльса в 1999 г. Подобно им, Баскония и Каталония (область вокруг Барселоны в северной Испании) признаются «автономными общинами» внутри Испании. У них есть свой собственный парламент, который обладает определенным количеством прав и полномочий. Однако и в Великобритании, и в Испании основная власть по-прежнему остается в руках национальных правительств и парламентов, расположенных, соответственно, в Лондоне и Мадриде. 2. Некоторые нации без государств обладают большей степенью автономности. В Квебеке (франкоговорящей провинции Канады) и Фландрии (нидерландскоговорящей области на севере Нидерландов), региональные политические органы обладают правом принимать важные решения, не будучи при этом полностью независимыми. Как и в случаях, упомянутых в предыдущем пункте, там также есть националистические движения, призывающие к полной независимости. 3. С другой стороны, существуют некоторые нации, которые практически совершенно не признаются государством, в состав которого они входят. В таких случаях более крупное национальное государство использует силу для того, чтобы отказать национальному меньшинству в признании. До недавнего развертывания процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке палестинцы были явным примером такой группы. Другим примером являются тибетцы в Китае и курды, чья родина приходится на части Турции, Сирии, Ирана и Ирака. Тибетцы и курды ведут свою культурную историю из глубины веков. История Тибета тесно связана с определенными формами буддизма, которые получили там свое развитие. Тибетский лидер в изгнании — Далай Лама — за пределами Тибета руководит движениями, которые стремятся достичь отдельного тибетского государства ненасильственным путем. В отличие от тибетцев, среди курдов существует несколько движений за независимость, в основном базирующихся за границей, которые провозглашают насилие способом достижения своих целей. У курдов в Брюсселе существует «парламент в изгнании», но у него нет поддержки всех сепаратистских движений. В случае тибетцев и курдов шансы достичь даже ограниченной автономии невелики, если правительства соответствующих национальных государств не решат в какой-то момент изменить свою нынешнюю политику. Но в других случаях возможен сценарий, когда национальные меньшинства могут предпочесть внутреннюю автономию, нежели полную независимость от тех государств, в которых они проживают. В Басконии, Каталонии и Шотландии, к примеру, лишь маленькая часть населения сейчас поддерживает идею полной независимости. В Квебеке недавний провинциальный референдум по вопросу независимости от Канады был отменен, когда не было набрано нужного количества голосов избирателей. Национальные меньшинства и Европейское сообщество В случае национальных меньшинств в Европе важную роль играет Европейское сообщество. Европейское сообщество было организовано в результате заключения договоров о взаимной поддержке между основными странами Западной Европы. Однако ключевым моментом философии ЕС является передача власти областям и регионам. Одной из явных целей ЕС является создание «Европы регионов». Этот момент очень поддерживается большинством баскских, шотландских, каталонских и других национальных меньшинств. Члены этих меньшинств часто озабочены утерей части их культурного наследия в прошлом и стремятся к его восстановлению. Они рассматривают ЕС как способ сохранения их особой идентичности. Их право обращаться напрямую в организации ЕС, такие как Европейский парламент и Европейский суд, может дать им достаточно автономности, чтобы быть уверенными в том, что они — хозяева собственных судеб. Таким образом, представляется как минимум вероятным, что существование ЕС будет означать то, что национальные меньшинства откажутся от своего идеала — полной независимости — в пользу кооперативных отношений с более крупными нациями, частью которых они являются, и с ЕС.Нации и национализм в развивающихся странах
В большинстве стран развивающегося мира курс, которым идут национализм, нация и национальное государство, отличается по сравнению с индустриальными обществами. Большинство менее развитых стран когда-то были колонизированы европейцами и достигли независимости в определенный момент второй половины XX в. Во многих из этих стран границы между колониальными администрациями были произвольно установлены в Европе и не принимали во внимание существующие экономические, культурные или этнические различия среди населения. Колониальные власти побеждали и подчиняли себе королевства и племенные группировки, существовавшие на африканском субконтиненте, в Индии и других частях Азии, и устанавливали свои собственные колониальные администрации или протектораты. Следствием этого стало то, что каждая колония была «совокупностью народов и бывших государств или их частей, собранных вместе внутри одних и тех же границ» (Akintoye 1976, 3). Большинство колонизированных территорий содержали целую мозаику этносов и других групп. Когда бывшие колонии получали свою независимость, им было зачастую трудно создать ощущение государственности и национальной принадлежности. Хотя национализм играл важную роль в обеспечении независимости колонизированных территорий, он в основном ограничивался небольшими группами активистов. Националистические идеи не влияли на большинство населения. Даже сегодня многие постколониальные государства находятся под постоянной угрозой внутренних соперничеств и конкурирующих притязаний на политическую власть. Практически полностью колонизированным континентом была Африка. Националистические движения за независимость Африки после Второй мировой войны хотели освободить колонизированные земли от европейского господства. Когда эта цель была достигнута, новые лидеры повсеместно испытывали колоссальные затруднения в своих попытках создать национальное единство. Многие из лидеров 1950-х и 1960-х гг. получили образование в Европе или США, и разница между ними и их гражданами, большинство которых были безграмотными, неимущими и не знакомыми с правами и обязанностями, провозглашаемыми демократией, была огромной. При колониализме некоторые этнические группы процветали больше, чем другие; у этих групп были разные интересы и цели, и вполне естественно, что они воспринимали друг друга как врагов. Гражданские войны разразились в ряде постколониальных государств Африки, таких как Судан, Заир и Нигерия; в других странах как Африки, так и Азии, наблюдались этническое соперничество и антагонизм. Например, в Судане около 40 % населения говорили на арабском языке и утверждали, что они этнически арабского происхождения. В других регионах страны, в особенности на юге, на арабском практически не говорили. Когда к власти пришли националисты, они начали программу по национальной интеграции, основанную на арабском языке в качестве государственного. Эта попытка была лишь частично успешной, напряжение и стресс, которые она принесла, заметны до сих пор. Тяжелые проблемы, с которыми сталкивается большая часть африканского континента, являются прямым результатом подобных затруднений. Еще одним таким примером является Нигерия. В стране проживает около 120 млн чел.: по большому счету, каждый четвертый африканец является жителем Нигерии. Нигерия — бывшая британская колония, получившая свою независимость 1 октября 1960 г. Государственным языком страны остается английский. Однако использование английского в основном ограничено небольшим количеством более образованных групп населения. Большая часть населения говорит на трех основных языках, носящих названия соответствующих народностей — йоруба, ибо и хауса. Имеется также более 300 диалектов, которые существуют как внутри основных языков, так и за их пределами. Многие из этих диалектов, по сути дела, являются самостоятельными языками — так, некоторых диалектов йоруба говорящие на другом диалекте языка йоруба не понимают. Вскоре после получения независимости в 1960 г. в стране началась вооруженная борьба между различными этническими группами. К власти пришло военное правительство, и с тех пор периоды гражданского правления чередовались с этапами правления военных. В 1967 г. разразилась гражданская война, в ходе которой одна из областей, Биафра, стремилась стать независимой от всей остальной страны. Сепаратистское движение было подавлено с помощью военной силы с большими человеческими потерями. Последующие правительства пытались насаждать более высокое чувство национальной самобытности под лозунгом «родины Нигерии», но создание ощущения национального единства и общей цели по-прежнему является сложной задачей. Страна обладает большими запасами нефти, но, как и прежде, по большей части погрязает в бедности и до сих пор находится в тисках авторитарной власти. Подведем итоги: большинство государств в развивающемся мире появилось в результате процессов формирования нации, отличающихся от тех, которые происходили уже в индустриальном мире. Государства были образованы извне, в границах территорий, где до этого зачастую не было культурного или этнического единства. Такие проблемы, как показывает практика, повсеместно трудно преодолеть. Современные нации возникли наиболее эффективно либо в тех регионах, которые никогда не были полностью колонизированы, либо там, где уже имело место сильное культурное единство — например в Японии, Корее или Таиланде.Заключение: национальное государство, национальная принадлежность и глобализация
В некоторых областях Африки нации и национальные государства до конца еще не сформированы. Однако в других регионах мира некоторые авторы уже пишут о «конце национального государства» перед лицом глобализации. Согласно японскому писателю Кениши Омаэ, в результате глобализации мы все больше живем в «мире без границ», в котором национальная принадлежность ослабевает (Ohmae 1995; см. также подраздел «„Гиперглобалисты“» в разделе «Споры о глобализации» главы 3). Насколько обоснована эта точка зрения? Процессы глобализации, безусловно, влияют на все государства. И подъем «наций без государств», возможно, связан с глобализацией. На развитие глобализации люди часто реагируют попытками возродить местные особенности, желая достичь защищенности в быстро меняющемся мире. В результате распространения мирового рынка у наций снизилась былая собственная экономическая мощь. Однако было бы неверным утверждать, что мы с вами свидетели кончины национального государства. В каком-то смысле верно обратное. Сегодня каждая страна в мире является и желает быть национальным государством — такое государство стало универсальной политической формой. До недавнего времени у него еще были конкуренты. Колонизированные земли и империи существовали параллельно с национальными государствами в течение большей части XX в. Можно утверждать, что последняя империя исчезла лишь с крахом советского коммунизма. Советский Союз был действительно в центре империи, охватывающей свои страны-сателлиты из Восточной Европы. Теперь все они стали независимыми нациями, так же как и многие территории, которые находились в пределах бывшего Советского Союза. Сейчас в мире действительно существует гораздо больше суверенных наций, чем двадцать лет тому назад.Краткое содержание
1. Термин «правительство» относится к политическому аппарату, в котором чиновники утверждают политику и принимают решения. Политика — это средство применения власти в целях повлиять на размах и смысл правительственной деятельности. 2. Власть есть способность достигать своих целей даже несмотря на сопротивление остальных, что часто подразумевает применение силы. Считается, что правительство обладает законной властью, когда применение им власти легитимно. Такая легитимность исходит из согласия тех, кем управляют. Наиболее распространенной формой законного правления является демократия, но возможны также другие законные формы. 3. Государство существует там, где есть политический аппарат, управляющий данной территорией, и чья законная власть опирается на законодательство и возможность применять силу для реализации своей политики. Современные государства являются национальными государствами, для которых характерны идея гражданства, признание того, что люди обладают общими правами и обязанностями и осознают свою роль в государстве, а также национализм — ощущение принадлежности к более широкому объединяющему политическому сообществу. 4. Монархия — это политическая система, при которой власть передается внутри одной семьи от поколения к поколению. При конституционной монархии власть королевской семьи строго ограничена конституцией, которая вручает законную власть в руки демократически избранных представителей. 5. Демократия — это политическая система, при которой правит народ. При совместном демократическом правлении (или прямой демократии) решения принимаются теми, кого это касается. Либеральная демократия — это представительная демократия, при которой все граждане имеют право голоса и могут выбирать как минимум между двумя партиями. 6. В авторитарных государствах участие народа в управлении запрещено или строго ограничено. Нужды и интересы государства являются приоритетными по отношению к нуждам обычных граждан, и не существует законных механизмов, позволяющих занять оппозиционную правительству позицию или лишить лидера власти. 7. Число стран с демократическими правительствами резко увеличилось в последние годы во многом благодаря воздействию глобализации, средств массовой информации и капитализму со свободной конкуренцией. Но и у демократии существуют проблемы: люди повсеместно начали терять веру в способность политиков и правительств решать проблемы и управлять экономикой, а политическое участие в избирательной системе уменьшается. 8. Политическая партия — это организация, ориентированная на достижение легитимного контроля над правительством с помощью процесса выборов. В большинстве стран Запада крупнейшими партиями являются те, которые ассоциируются с широкими политическими интересами, в целом ориентированными на социализм, либерализм или консерватизм. Ультраправые партии в последнее время пользовались поддержкой в ряде европейских стран во многом из-за полемики по вопросу иммиграции. 9. Британская политика последних лет ощущала на себе влияние тэтчеризма, т. е. ряда доктрин, ассоциирующихся с правлением г-жи Тэтчер. Тэтчеризм предполагает веру в желательное уменьшение роли государства и господство свободного рыночного предпринимательства. 10. Партия лейбористов сильно изменилась за последние 25 лет. В особенности при лидерстве Тони Блэра «новые лейбористы» отошли от таких старых социалистических понятий, как национализация и плановое экономическое предпринимательство. После прихода к власти в 1997 г. «новые лейбористы» встали на путь политической реформы и модернизации, который выходит за пределы традиционных «левых» или «правых» убеждений. Эту новую разновидность центристско-левой политики зачастую называют политикой третьего пути. 11. Революция — это переворот существующего политического порядка с помощью массового движения с применением силы. Общественные движения, напротив, предполагают коллективную попытку удовлетворить общие интересы, используя совместные действия вне сферы уже существующих институтов. Термин «новые общественные движения» применяется по отношению к ряду общественных движений, которые возникали в западных странах с 1960-х гг. в ответ на сменяющие друг друга опасности, угрожающие человеческим обществам. В отличие от ранних общественных движений, НОД являются кампаниями, направленными на решение какой-то одной проблемы, ориентированными на нематериальные цели и получающими поддержку в различных классовых прослойках. Информационные технологии стали мощным организационным орудием для многих новых социальных движений. 12. Национализмом называется набор символов и убеждений, которые дают ощущение принадлежности к единой политической общине. Он появился вместе с развитием современного государства. Хотя основатели социологии считали, что национализм в промышленных обществах исчезнет, в начале XXI в. он, судя по всему, процветает. «Нациями без государств» называют национальные группы, не имеющие политического суверенитета на той территории, которую они считают своей.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Почему социология должна заниматься изучением политики? 2. Почему либеральная демократия так часто сосуществует с капитализмом? 3. Если западные нации столь привержены демократии, почему же во многих странах так мало людей участвуют в выборах? 4. Что «нового» в «новом лейборизме»? 5. Как социальные движения используют существующие социальные и политические институты? 6. Теряют ли свое значение национальные государства по мере развития глобализации?Дополнительная литература
Dahl Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 1998. Dunleavy Patrick and O’Leary Brendan. Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy. Basingstoke: Macmillan Education, 1987. Ciulla Elaine and Nye Joseph S., Jr. Democracy.com? Governance in a Networked World. Hollis, N. H.: Hollis, 1999. Kickert Walter J. M. and Stillman Richard J. II (eds.). The Modern State and its Study: New Administrative Sciences in a Changing Europe and United States. Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2000. Lukes Steven. Power: A Radical View. London: Macmillan, 1974. Melucci Alberto. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. London: Hutchinson Radius, 1989. Navari Cornelia. Internationalism and the State in the Twentieth Century. N. Y.: Routledge, 2000.Интернет-линки
Международный институт проблем демократии и содействия выборам http://www.idea.int/ Сборник Интернет-материалов по современной истории: национализм http://www.fordham.edu/hasall/mod/modsbookl7.htmi Ассоциация политических исследований www.psa.ac.ukГЛАВА 15 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЯ
Мы живем в эпоху всеобщей взаимосвязи, когда люди по всему земному шару стали участниками единого информационного миропорядка. Это во многом результат международного масштаба современных коммуникаций. Благодаря глобализации и мощи Интернета, люди от Каракаса до Каира имеют доступ к одним и тем же популярной музыке, новостям, кинофильмам и телевизионным программам. Круглосуточные новостные каналы сообщают нам о происшествиях сразу же, как только они случились, и передают репортажи о развитии событий на весь мир. Фильмы, сделанные в Голливуде или Гонконге, доступны всемирной аудитории, а такие знаменитости, как «Спайс Герлз» и Тайгер Вудз прекрасно известны на всех континентах. В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями процесса конвергенции в области производства, распространения и потребления информации. Если когда-то такие средства связи, как печать, телевидение и кино были достаточно самостоятельными, то сейчас они в значительной степени связаны между собой. Границы между формами коммуникации теперь не столь явственны, как это было раньше: телевидение, радио, газеты и телефон подвергаются значительным изменениям под влиянием технологического прогресса и быстрого распространения Интернета. Хотя газеты и прочие средства массовой информации (СМИ) по-прежнему остаются важными элементами нашей жизни, их организация и способы доставки меняются. Газеты можно прочитать в режиме онлайн, использование мобильных телефонов растет с астрономической скоростью, а цифровое телевидение и службы спутникового вещания предлагают своим зрителям доселе невиданный выбор программ. Однако центром революции в сфере коммуникаций является именно Интернет. С распространением таких технологий, как распознавание голоса, широкополосная связь, вебкастинг и кабельные соединения, Интернет грозит стереть различия между традиционными формами средств массовой информации и стать единственным средством доставки информации, развлечений, рекламы и торговли для массовой аудитории. В этой главе мы рассмотрим трансформации, которым подвергаются СМИ и коммуникации в процессе глобализации. СМИ включают в себя широкий спектр форм, таких как телевидение, газеты, фильмы, журналы, радио, реклама, видеоигры и компакт-диски. Эти средства информации называются массовыми, поскольку они охватывают массовую аудиторию — аудиторию,состоящую из очень большого количества людей. Их также иногда называют массовыми коммуникациями. СМИ часто ассоциируются исключительно с развлечениями и как таковые рассматриваются как нечто второстепенное в жизни большинства людей. Подобный взгляд, однако, однобок: массовые коммуникации также связаны со многими другими аспектами нашей социальной деятельности. Такие средства массовой информации, как газеты и телевидение, оказывают широкое влияние на нашу жизнь и на общественное мнение. Это происходит не только потому, что они определенным образом влияют на наши воззрения, но и потому, что они являются средством доступа к знанию, от которого зависят многие аспекты нашей общественной жизни. Мы начинаем анализ СМИ с рассмотрения двух самых старых их форм — газет и телевидения. Будут рассмотрены влияние телевидения и роль общественного вещания. Затем мы проанализируем некоторые лидирующие в данной области теории и роль СМИ в защите сферы публичного. В последней части главы мы исследуем появление электронных СМИ и телекоммуникаций, включая Интернет, а также обсудим глобализацию СМИ, происходящую на протяжении последних десятилетий.Газеты и телевидение
Газеты
Современные газеты берут начало от памфлетов и информационных листков, печатавшихся и распространявшихся в XVIII в. Газеты стали «ежедневными», с тысячами, а порой и миллионами читателей, лишь начиная с конца XIX в. Газета — фундаментально важное явление в истории современных СМИ, поскольку она включала в себя много различных типов информации в компактном и легко воспроизводимом формате. В одном выпуске газеты содержалась информация о последних событиях, о развлечениях и товарах для потребителей. Дешевая ежедневная пресса впервые появилась в Соединенных Штатах. Ежедневная газета стоимостью в один цент изначально была основана в Нью-Йорке, а затем ее аналоги увидели свет в других крупных городах восточного побережья. В начале XX в. городские или региональные газеты уже выходили в большинстве американских штатов (по контрасту с небольшими европейскими странами, общенациональные газеты не получали развития). Изобретение дешевого способа газетной печати дало толчок к массовому распространению газет уже в конце XIX в. Два наиболее ярких примера престижных газет начала XX в. — «Нью-Йорк Таймс» (New York Times) и лондонская «Таймс» (The Times). Большинство влиятельных газет других стран брали их за образец. Газеты, пользовавшиеся высоким спросом на читательском рынке, становились важной политической силой и остаются таковой до наших дней. Более полувека газеты были основным средством быстрой и эффективной передачи информации для массовой аудитории. С расцветом радио, кино и — что гораздо более важно — телевидения их влияние уменьшилось. Данные относительно чтения газет в целом говорят о том, что количество людей, читающих какую-либо национальную ежедневную газету в Великобритании, уменьшилось с начала 1980-х гг. Среди мужчин количество читателей упало с 76 % в 1981 г. до 60 % в 1998–1999 гг.; уровень чтения среди женщин немного меньше, однако произошел аналогичный спад — с 68 до 51 % (HMSO 2000). Электронные коммуникации с большой вероятностью могут еще больнее ударить по распространению газет. Новостная информация сейчас доступна в режиме онлайн практически мгновенно, она постоянно обновляется в течение дня. Многие газеты также доступны для чтения онлайн без дополнительной платы.Телевизионное вещание
Наряду с подъемом Интернета растущее влияние телевидения является, пожалуй, наиболее важным событием в сфере средств массовой информации за последние сорок с лишним лет. Если современные тенденции просмотра будут продолжаться, к восемнадцати годам среднестатистический ребенок, рожденный в наши дни, потратит на просмотр телепередач больше времени, чем на какое-либо другое занятие, не считая сна. Телевизор сейчас есть практически в каждом доме. В Великобритании телевизор в среднем включен пять-шесть часов в день. Практически та же картина наблюдается в других западноевропейских странах и в США. В Великобритании все от четырех лет и старше смотрят телевизор в среднем двадцать пять часов в неделю! Пожилые люди смотрят вдвое больше, чем дети от четырех до пятнадцати лет, и женщины смотрят телевидение немного больше, чем мужчины (см. рис. 15.1). Количество телевизионных каналов, доступных британской аудитории, продолжает увеличиваться благодаря прогрессу в области спутниковых и кабельных технологий. В 1998 г. около 13 % британских домов заказали спутниковое телевидение, а 9 % подписались на кабельное телевидение (HMSO 2000). Цифровое телевидение в Великобритании стало коммерчески доступным в 1998 г. Общественное (некоммерческое) вещание В большинстве стран государство непосредственно участвует в управлении телевещанием. В Великобритании Британская радиовещательная корпорация (Би-би-си, ВВС), которая первой начала выпуск телевизионных программ, является государственной организацией. На ее финансирование идут лицензионные взносы, которые выплачивает каждая семья, имеющая телевизор. В течение ряда лет Би-би-си была единственной организацией, которой было разрешено радио- и телевещание на территории Великобритании, но сегодня наряду с двумя телевизионными каналами Би-би-си (Би-би-си 1 и Би-би-си 2) существует три наземных коммерческих телеканала (Ай-ти-ви (ITV), Канал 4 и Канал 5). Частота и продолжительность рекламы контролируются законом, на нее должно отводиться не более шести минут в час. Эти же правила распространяются и на спутниковые каналы, которые стали широко доступны потенциальным заказчикам в 1980-е гг. Рис. 15.1. Просмотр телевидения по половым и возрастным признакам (человеко-часы в неделю). Великобритания. 1998
Источники: BARB; AGB Ltd.; RSMB Ltd. From Social Trends. 30. 2000. P. 211. Crown copyright.
Рис. 15.1. Просмотр телевидения по половым и возрастным признакам (человеко-часы в неделю). Великобритания. 1998
Источники: BARB; AGB Ltd.; RSMB Ltd. From Social Trends. 30. 2000. P. 211. Crown copyright.
В Соединенных Штатах все три ведущие телевизионные компании являются коммерческими: «Американская Вещательная Компания» — «Эй-би-си» (АВС), «Вещательная Система Коламбии» — «Си-би-эс» (CBS) и «Национальная Вещательная Компания» — «Эн-би-си» (NBC). Компании по закону могут иметь не более пяти лицензированных телестанций, которые в случае этих трех организаций находятся в крупнейших городах страны. Вместе «большая тройка» охватывает благодаря своим телестанциям более четверти всех семей. Около 200 ретранслирующих станций также связаны с каждой из этих компаний, составляя 90 % от более чем семисот ТВ-станций страны. Доход этих компаний зависит от продажи рекламного времени. Национальная ассоциация работников теле- и радиовещания (The National Association of Broadcasters) — частная организация — устанавливает пропорции рекламы на один час просмотра: 9,5 мин. в час в лучшее эфирное время («прайм-тайм») и 16 мин. в час в остальное время. С целью установления расценок на рекламу телекомпании регулярно собирают статистику (рейтинги) того, сколько человек смотрят ту или иную передачу. Помимо этого, рейтинг, разумеется, очень влияет на принятие решения, какие программы будут продолжать показывать. Власть больших компаний снизилась с появлением спутникового и кабельного телевидения. За определенную абонентскую плату зритель многих европейских стран, в том числе и в Великобритании, а также в крупных американских городах может выбирать из множества программ и каналов. В подобных обстоятельствах, в особенности из-за дополнительного влияния видео, люди все больше и больше склонны к самостоятельному «программированию телепередач». Они создают персональные расписания просмотра вместо того, чтобы полагаться на заранее заготовленную компаниями программу передач. Спутник и кабель изменяют характер телевидения практически повсеместно. Как только они начнут вторгаться во владения классических наземных телеканалов, властям станет еще труднее контролировать содержание телепередач, что они обычно делали в прошлом. По-видимому, доступность западных информационных средств внесла свой вклад в формирование обстоятельств, приведших к революциям 1989 г. в восточной Европе (см. главу 14 «Правительство и политика»). Будущее Би-би-си Положение Би-би-си, как и иных общественных вещательных компаний в большинстве других стран, напряженно и является предметом многочисленных дискуссий. Будущее Би-би-си под вопросом из-за процветания новых форм информационных технологий. Постоянно появляются новые каналы, а с развитием цифровых технологий станут доступны буквально сотни кабельных и цифровых каналов. «Пэй-пер-вью» (передачи, доступные за отдельную плату), телевидение по подписке и «интерактивное ТВ» — все они угрожают уменьшить просмотр Би-би-си. Доля телевизионной аудитории, принадлежащая Би-би-си, в 1995 г. составляла всего лишь чуть более 40 %. Ее программы смотрят лишь 33 % населения, у которого есть кабельное или спутниковое телевидение, и многие начинают задаваться вопросом, почему они должны платить лицензионный сбор. Высказывалось предложение, что Би-би-си должна быть приватизирована. Иными словами, она должна получать свой доход от рекламы, как и другие каналы, и лицензионный сбор тогда бы мог исчезнуть. До сих пор идее оптовой приватизации сопротивлялись. Многие люди считают, что Би-би-си важно оставаться общественной собственностью. Однако были предприняты попытки частично коммерциализовать интернациональную деятельность Би-би-си с целью увеличить бюджет внутренних коммунальных услуг. Би-би-си является одним из наиболее известных и уважаемых в мире «брендов»; в последние годы пытались извлечь из этого выгоду, вступая в совместные предприятия для создания новых телевизионных каналов для мирового рынка (Herman & McChesney 1997). Как отмечают некоторые комментаторы, сокращение государственного регулирования в сфере ее действия и финансовые затруднения превратили Би-би-си в коммерческую систему, которая частично сохраняет изначально присущие ей признаки общественной службы. Будущее Би-би-си туманно. С одной стороны, система лицензионных взносов не сможет более существовать, если аудитория Би-би-си уменьшится еще больше, ибо это вызовет общественный протест против повышения платы. В ближайшие годы доходов от лицензионного сбора станет недостаточно для покрытия растущих затрат на производство и приобретение прав на высококачественные программы (Currie and Silver 1999). Возрастет роль доходов от рекламы в финансировании программ. С другой стороны, не стоит недооценивать общественное значение Би-би-си. Поскольку телевизионный сектор выходит из-под контроля государства, роль Би-би-си становится все более важной, особенно это касается поддержания высокого качества передач и обслуживания тех слоев населения, которые исключены из социума (поскольку сейчас люди старше семидесяти пяти лет получают лицензию бесплатно). Вот как это прокомментировал директор Би-би-си по политике и планированию:
Мы действительно боимся, что «больше» будет означать «хуже», что наши конкуренты раздробят аудиторию и инвестиции на множество рынков сбыта, что в свою очередь приведет к бульварщине и к разделению нации на тех, кто приветствует новые услуги и на тех, кто либо не может их себе позволить либо не желает этого. Вызов общественной политике состоит в том, чтобы суметь дать и то, и другое: проводить кампанию по расширению, сохраняя при этом качество (Currie and Siner 1999).Глобальное телевидение За последние двадцать лет произошли важные изменения в области технологий и в политике, что привело к большей глобализации при составлении программ ТВ. Во многих местах мира, таких как Восточная Европа, бывший СССР, а также ряд регионов Азии и Африки, где телевещательные системы и владение телевизорами традиционно были ограниченными, появилось значительно больше возможностей телевещания. Увеличение числа телеканалов и рост популярности телевидения привели к росту спроса на большее количество программ. Часто этот повышенный спрос не может быть удовлетворен одной лишь местной производственной мощностью и требуются импортные телевизионные программы. Поскольку правительства либерализовали регулирование телевещания, иностранные информационные компании вступили на прежде не доступные им рынки (см. следующую врезку «Телевидение и глобализация: ситуация в Индии»). Это, а также прогресс в области спутниковых и кабельных технологий намного облегчили пересечение телевещанием границ национальных государств.
────────────────────────────┐ ■ Телевидение и глобализация: ситуация в Индии Воздействие глобализации средств массовой информации четко видно на примере Индии, где в течение последнего десятилетия наблюдался необыкновенно бурный рост в сфере ТВ-вещания. В 1991 г. в Индии существовал один ТВ-канал, контролируемый государством, но уже к 1998 г. появилось около семидесяти каналов, включая самую крупную телекомпанию в Азии — Zee TV. В последние годы перспектива СМИ в Индии — стране, чья огромная прослойка среднего класса (250 млн чел.), говорящего по-английски, делает ее одним из наиболее быстро растущих рынков СМИ в мире, — очень изменилась (Thussu 1999). Многие международные вещательные компании теперь считают Индию бойким рынком, так как огромное число жителей и разнообразие культур и языков означает, что существует большая потребность в различных типах программ и каналов. Будучи постколониальным государством с высоким уровнем безграмотности и слабым чувством национальной идентификации, Индия определялась государственным ТВ-каналом «Доордаршан» (Doordarshan). Индийское правительство полагалось на «Доордаршан» как на средство построения национального единства, продвигая определенные цели «развития» среди населения и обучая индийских граждан. Хотя печатные СМИ в Индии были исторически свободными, «Доордаршан» строго контролировался и подвергался цензуре. Один из важных поворотных моментов в истории индийского вещания пришелся на период правления Индиры Ганди (1967–1978 и 1980–1984 гг.), которая верила, что телевидение — важнейшее средство продвижения среди населения идей консолидации страны. Она следила за расширением числа телевещателей и познакомила страну с цветным телевидением. В 1991 г. правительство Индии сняло ограничения с сектора СМИ, открывая дверь для трансляции передач внутри ранее закрытой системы иностранным медиакорпорациям. Спутниковое вещание — например, таких каналов, как Star TV из Гонконга или американского CNN — стало необыкновенно популярно среди городской образованной элиты, способствуя быстрому росту количества кабельных узлов и спутниковых тарелок. Хотя в начале 1990-х гг. такой просмотр телевидения ограничивался небольшой зажиточной группой населения, эта малочисленная группа привлекала рекламодателей, которые считали ТВ-вещание в Индии прекрасным способом рекламировать свои товары. К 1998 г. все основные мировые кабельные каналы, включая ВВС, CNN, Discovery, STAR, MTV и CNBC, вели вещание в Индии наряду с местными индийскими компаниями. Хотя эти вещательные компании передавали в основном иностранный по своему содержанию материал, они часто «одомашнивали» свои передачи с помощью добавления субтитров на хинди или передавая программы, затрагивающие темы, особо интересные именно для Индии. Zee TV был самым крупным и самым успешным индийским телеканалом, появившимся наряду с каналом «Доордаршан». Запущенный в 1992 г., этот первый частный индийский телеканал, транслирующий передачи на хинди, затмил «Доордаршан», снизив рейтинг последнего от 37 до 28 % к 1996 г. (Herman and McChesney 1997). Популярность Zee TV, по-видимому, связана с рядом факторов, включая новаторские программы, не знакомые ранее индийским зрителям, а также активное использование «хинглиша» (смеси хинди и английского, популярной у городской молодежи). Программы Zee TV показали успешность переработки выпускаемой в мире продукции на местный лад. Ток-шоу и игровые шоу как жанры ТВ были не знакомы индийским зрителям, но Zee TV успешно адаптировал западные шоу-форматы специально для индийской публики (Thussu 1999). По мере того как глобальные влияния на индийское телевещание чувствовались все сильнее и сильнее, «Доордаршан» был вынужден расширить собственный ассортимент в ответ конкурентам. Постепенный отход «Доордаршана» от миссии общественного вещания в сторону политики, ориентированной на получение прибыли и рынок, был замечен во многих странах мира. Помимо образовательных, «Доордаршан» начал предлагать развлекательные передачи в своей программе с целью повысить рейтинг канала. Этот шаг к приватизации СМИ в Индии — самой большой демократической стране мира — критиковался многими обозревателями, которые утверждали, что индийское ТВ «корпоратизируется» и захватывается западными медиагигантами. Далее в подобном аргументе утверждается, что когда журналистика, подача новостей и контент ТВ подчинены запросам рынка, качество содержания падает и программы диктуются потребностями и воззрениями рекламодателей (Thussu 1999). Другие утверждают, что глобализация СМИ в Индии сыграла важную роль в прекращении государственного контроля над телевещанием и в расширении сферы публичного. К примеру, Zee TV уделяет гораздо больше внимания взглядам оппозиционных политиков, нежели «Доордаршан», заставляя этот канал снимать ограничения на освещение им политических событий (Herman and McChesney 1997). В этом отношении появление новых коммерческих каналов расширило и оживило общественную сферу Индии. ────────────────────────────┘
Воздействие телевидения
Масса исследований проводилась с целью определить эффект от телевизионных программ. Большинство из них касалось детей, и это вполне понятно, учитывая количество часов, отводимых ими для просмотра, и возможные социальные последствия этого. Двумя наиболее исследуемыми темами являются влияние телевидения на уровень преступности и насилия, а также характер ТВ-новостей.ТВ и насилие
Уровень насилия в телевизионных программах хорошо документирован. Гербнер и его коллеги проводили самые подробные исследования, в которых начиная с 1967 г. ежегодно анализировались примеры программ всех основных американских телекомпаний, транслировавшихся в лучшее эфирное время в будни и в дневное время в выходные. Число и частота актов насилия и эпизодов с присутствием насилия были занесены в таблицу по целому ряду типов программ. В этом исследовании насилием считается угроза или применение физической силы, направленной против себя или других, влекущей за собой телесные повреждения или смерть. Телевизионная драма как жанр оказалась по своему содержанию полной насилия: в среднем 80 % такого рода программ включали насилие, демонстрируя 7,5 эпизодов насилия в час. Детские программы показали еще более высокий уровень насилия, хотя убийство в этих программах изображалось реже. Мультфильмы лидировали по количеству насильственных действий и эпизодов среди всех типов телевизионных программ (Gerbner et al. 1979, 1980; Gunter 1985). Каким образом изображение насилия влияет на публику, если влияет вообще? Ф. С. Андерсон собрал результаты 67 исследований, проводившихся в течение двадцати лет с 1956 по 1976 гг., посвященных изучению влияния ТВ-насилия на тенденции к агрессии у детей. Около трех четвертей всех исследований находили некоторую ассоциативную связь между ними. В 20 % случаев четких результатов найдено не было, тогда как в 3 % изысканий исследователи пришли к выводу, что просмотр телевизионного насилия на самом деле понижает агрессию (Anderson F. S. 1977; Liebert et al. 1982). Рассмотренные Андерсоном исследования, однако, очень отличаются по использованным в них методикам, по силе якобы найденной ассоциации и по определению самого «агрессивного поведения». В криминальных драмах, показывающих насилие (и во многих детских мультфильмах), лежат темы справедливости и возмездия. Намного более высокий процент негодяев привлекается к ответственности в криминальных драмах, нежели это происходит в реальных полицейских расследованиях, а в мультфильмах злонамеренные или угрожающие персонажи обычно получают «по заслугам». Высокий уровень изображения насилия не обязательно приводит к непосредственным подражательным моделям среди зрителей, на которых, вероятно, больше влияет моральная подоплека, лежащая в основе увиденного. В исследованиях по воздействию телевидения на публику и дети, и взрослые, как правило, рассматривались как существа пассивные и непритязательные в своих реакциях на увиденное. Роберт Ходж и Дэвид Трипп подчеркивают, что детская реакция на ТВ включает в себя интерпретацию или чтение увиденного, а не просто запоминание содержания передач (Hodge and Tripp 1986). Они полагают, что в основной массе исследований сложность детских умственных процессов не принималась во внимание. Просмотр ТВ, даже самых обычных программ, сам по себе не является интеллектуальной активностью низшего уровня; дети «читают» программы, соотнося последние с другими значимыми для них системами в их повседневной жизни. К примеру, даже самые маленькие дети признают, что насилие в СМИ является «ненастоящим». Согласно Ходжу и Триппу, на поведение влияет не телевизионное насилие само по себе, а скорее, общая система взглядов, внутри которой оно показано и «прочитано».Социологи изучают ТВ-новости
Социологические исследования телевидения уделяли немало внимания программам новостей. Значительная часть населения не читает газет; тем самым, ТВ-новости являются ключевым источником информации о том, что происходит в мире. Некоторые наиболее известные — и спорные — исследования в области теленовостей были проведены Глазго медиа груп из университета г. Глазго. Эта группа опубликовала серию критических работ на тему подачи новостей, таких как «Плохие новости» (Bad News), «Снова плохие новости» (More Bad News), «Очень плохие новости» (Really Bad News) и «Новости войны и мира» (War and Peace News). Они придерживались примерно одинаковых стратегий исследования от книги к книге, хотя фокус их исследования менялся. «Плохие новости» (Glasgow Media Group 1976) — их первая и самая влиятельная книга — была основана на анализе передач теленовостей по всем трем телеканалам Соединенного Королевства (Канала 4 в то время еще не существовало) в период с января по июнь 1975 г. Целью книги было дать систематический и беспристрастный анализ содержания новостей и способов их подачи. В «Плохих новостях» в основном рассматривался показ диспутов по проблемам промышленного производства. В более поздних книгах внимание в основном уделялось освещению политики и войне на Фолклендских островах. В заключении, к которому пришли авторы в «Плохих новостях», отмечалось, что новости, касающиеся взаимоотношений в промышленности, обычно подавались выборочно и предвзято. Такие термины, как «проблемы», «радикальный» или «бессмысленная забастовка», подразумевали антипрофсоюзные взгляды. Последствия забастовок, ведущих к нарушениям, касающимся зрителей, имели гораздо больше шансов быть освещенными в эфире, нежели причины, приведшие к ним. Используемый отснятый материал часто показывал действия протестующих так, чтобы они казались иррациональными или агрессивными. Например, сюжет, посвященный тому, как бастующие не дают людям войти на фабрику, ставил бы в центр внимания любые возникшие при этом конфронтации, даже в случае если последние были бы очень редким явлением. В «Плохих новостях» также подчеркивалось, что создатели теленовостей выступают в роли «охранников» в отношении того, что попадает в программу, — иными словами, того, о чем вообще узнает публика. Забастовки, во время которых шла активная конфронтация между работниками и руководством, могут передаваться широко. Более же важные и длительные обсуждения проблем индустрии иного характера могут быть практически совершенно проигнорированы. Взгляды журналистов, работающих в сфере новостей, как предположила Глазго медиа труп, отражают мнения наиболее влиятельных групп населения, которые неизбежно считают забастовщиков опасными и безответственными. Критические отклики Работы Глазго медиа груп широко обсуждались в кругах СМИ и в академической среде. Некоторые продюсеры новостей обвинили исследователей в том, что последние просто хотели выразить свои взгляды, которые, как показалось первым, были на стороне бастующих. Они указывали на тот факт, что в «Плохих новостях» имелась глава, посвященная «Профсоюзам и СМИ», между тем как главы о «Менеджменте и СМИ» не было. Критики из СМИ утверждали, что это было необходимо обсудить, поскольку руководство предприятий зачастую обвиняет журналистов, работающих в сфере новостей, в том, что они настроены против них, а не против бастующих. Критика со стороны ученых отмечала аналогичные моменты. Мартин Харрисон получил доступ к записям передач теленовостей программы «Независимые теленовости» за тот же период, что и в оригинальном исследовании (Harrison 1985). На данном основании он заявил, что рассматриваемые в работе пять месяцев являлись нетипичными. Слишком много дней в этот период было потеряно из-за забастовки. Было бы невозможно передать все новости сразу, и поэтому тенденция фокусировать внимание на наиболее ярких эпизодах вполне понятна. С точки зрения Харрисона, члены Глазго медиа груп ошибочно утверждали, что в теленовостях уделялось слишком много внимания последствиям забастовок. Как-никак гораздо большее количество людей обычно сталкивается с последствиями забастовок, нежели участвует в них. Иногда жизнь миллионов людей нарушается из-за действий небольшой группы. В заключение, согласно анализу Харрисона, многие утверждения Глазго медиа груп были просто ложными. Например, в отличие от того, что утверждали члены Глазго медиа труп, в новостях, как правило, назывались профсоюзы, вовлеченные в диспут, и сообщалось о том, являлись ли забастовки официальными или же неофициальными. В ответ на подобную критику, члены группы заметили, что исследование Харрисона было отчасти спонсировано вещательной компанией Ай-ти-эн (ITN), что, возможно, ставило под сомнение его беспристрастность как ученого. Расшифровки, внимательно изученные Харрисоном, были неполными, но включали в себя отрывки, которые в действительности Ай-ти-эн не транслировала вовсе. С тех пор члены Глазго медиа груп выполнили ряд дальнейших исследований. В статье под названием «Увидеть — значит поверить» Грег Файло, один из членов группы, представил отчет о воспоминаниях различных людей о ряде событий из прошлого. В частности, он спрашивал о том, что помнят эти люди о забастовке шахтеров 1984–1985 гг. — крупной и длительной конфронтации между профсоюзом горняков во главе с Артуром Скаргиллом и консервативным правительством г-жи Тэтчер (Philo 1991). Файло показал различным группам лиц фотографии, касающиеся забастовки, и попросил их написать об увиденном новостные истории-репортажи так, как если бы те являлись журналистами. Файло также расспросил их о том, что они помнят о забастовке, интересуясь, например, тем, была ли забастовка в целом мирной или нет. Он обнаружил, что написанные истории очень напоминали оригинальные телепередачи, которые появлялись во время забастовки. Многие фразы совпадали буквально. Больше половины людей полагали, что пикетирование, имевшее место во время забастовки, носило весьма жестокий характер (на самом деле акты насилия были очень редким явлением). Файло заключил, что «может быть необычайно трудно критически оценивать господствующее мнение СМИ в случае, когда доступ к альтернативным ресурсам информации ограничен. В таких обстоятельствах мы не должны недооценивать власть СМИ» (Philo 1991, 177). В своей работе «Понимая ситуацию» Глазго медиа груп собрала материалы последних исследований в области теленовостей. Редактор издания, Джон Элдридж, отмечает, что дискуссия, вызванная первой работой группы, по-прежнему продолжается (Eldridge 1993). Всегда сложно сказать, что же будет считаться объективным подходом при передаче новостей. Выступая против тех, кто говорит, что идея объективности не имеет смысла (см. подраздел «Бодрийяр: мир гиперреальности» в этом же разделе настоящей главы), Элдридж заявляет о том, что важно продолжать критически оценивать продукцию СМИ. Достоверность при передаче новостей может и должна изучаться. Ведь мы с вами рассчитываем на подлинность передачи результатов футбольных матчей. Такой простой пример, как утверждает Элдридж, напоминает нам о том, что вопросы о достоверности всегда возникают в связи с репортажем новостей. Однако вопрос о том, что новости — это всегда не просто «описание» того, что «произошло на самом деле» в определенный день или неделю, остается. «Новости» — это сложная конструкция, которая регулярно влияет на то, «о чем» они. Например, когда какой-нибудь политик появляется в той или иной программе новостей и дает свой комментарий по спорному вопросу — скажем, по поводу состояния экономики и что с ней необходимо делать, — этот комментарий сам по себе становится «новостью» в последующих программах.Телевидение и понятие жанра
Телевидение сегодня работает в режиме непрерывного потока. Программы могут прерываться рекламой, но промежутков между передачами не бывает. Если на какой-то момент экран становится пустым, телекомпания считает себя обязанной принести извинения. И продюсеры, и зрители считают, что ТВ бесконечно — и в самом деле, многие каналы никогда не прерывают своего вещания. ТВ — это поток, но телепрограмма — это гремучая смесь. Программа на один вечер, к примеру, обычно состоит из целого набора весьма различных передач, идущих одна за другой. Для того, чтобы разобраться в казалось бы хаотичной природе программирования ТВ, пригодится понятие жанра (Abercrombie 1996). Понятие жанра соотносится с тем, как создатели той или иной программы и зрители понимают то, «что именно» они смотрят — как эти группы категоризируют передачи — например, как новости, мыльные оперы, игровые шоу, мюзиклы или триллеры. У каждого жанра свои правила и традиции, отличающие и отделяющие его от других. Эти правила частично касаются содержания. Например, место действия мыльных опер — то или иное жилище, тогда как вестерны повествуют об Америке XIX в. Они также касаются персонажей и контекстов. В мыльных операх главными будут сами персонажи, например семьи у себя дома, тогда как в триллерах они скорее всего будут подчинены сюжету. Жанры также определяют различные ожидания. Неизвестность и тайна — неотъемлемые части детективного сериала, но обычно они не характерны для мыльных опер. ТВ-продюсеры в общем и целом знают, чего ожидает зритель, и действуют внутри этих рамок. Это позволяет им достичь рутины в своей работе. Могут создаваться производственные бригады актеров, режиссеров и писателей, специализирующихся в том или ином жанре. Реквизит, съемочные площадки и костюмы могут использоваться вновь и вновь. Можно добиться преданности публики, по мере того как люди постепенно привыкают к регулярному просмотру программ определенного жанра. Сериал (мыльная опера) Жанр, созданный радио и телевидением, получил название «мыльная опера», и сейчас такой сериал является наиболее популярным жанром среди телепередач. Еженедельно практически все самые популярные программы на ТВ Великобритании являются сериалами — «Ист-эндеры», «Коронейшн-стрит» и многие другие. Сериалы можно разделить на различные типы или субжанры, во всяком случае те, что представлены на ТВ Великобритании. Сериалы, которые снимаются в Соединенном Королевстве, такие как «Коронейшн-стрит», обычно сурового и приземленного характера, зачастую повествуют о жизни малоимущих людей. Затем существуют сериалы, импортируемые из США, какими являлись «Даллас» или «Династия» в 1980-е, где повествуется о людях, ведущих более роскошный образ жизни. К третьей категории относятся сериалы из Австралии — например, «Соседи». Обычно это малобюджетная продукция, действующими лицами в которой являются представители среднего класса, с характерным для них образом жизни. Мыльные оперы, как и ТВ в целом, идут непрерывно. Отдельные истории могут заканчиваться, различные персонажи появляться и исчезать, но сериал в целом не будет закончен до тех пор, пока его полностью не снимут с эфира. Напряжение от эпизода к эпизоду создается с помощью так называемых «клиффхенгеров» — моментов, когда серия внезапно обрывается до некого важного события, которое вот-вот должно было бы произойти, — и зрителю приходится ждать следующей серии, чтобы узнать, что же из всего этого вышло. Основополагающим моментом жанра мыльной оперы является регулярный просмотр зрителями. Из одного эпизода практически ничего не ясно. Мыльные оперы подразумевают историю, которая известна постоянному зрителю, — он или она постепенно узнает персонажей, их характеры и события их жизни. Ниточки, которые связаны между собой для создания подобной истории, прежде всего несут личный и эмоциональный характер — сериалы в основном не соотнесены с крупными социальными или экономическими структурами, которые возникают только лишь как внешний фон. Социологами выдвигались различные мнения о причине необыкновенной популярности сериалов — популярности во всем мире, не только в Великобритании и США, но и в Африке, Азии и Латинской Америке. Некоторые считают, что они дают шанс уйти от реальности, особенно там, где женщины (которые составляют большинство аудитории сериалов) находят свою жизнь скучной или угнетающей. Эта точка зрения, однако, не слишком убедительна, учитывая что многие сериалы повествуют о людях, в чьей жизни проблем не меньше. Более вероятной является идея о том, что сериалы обращены к универсальным чертам личной и эмоциональной жизни людей. Они исследуют дилеммы, с которыми может столкнуться каждый, и возможно даже помогают некоторым людям более творчески размышлять о собственной жизни. Что же мы должны думать о более широком использовании СМИ? Это одна из основных проблем для тех, кто разрабатывал теоретические интерпретации роли СМИ в формировании социального развития и общественной организации. К этим теориям мы с вами сейчас и обратимся.Теории СМИ
Ранние теории
Коммуникация — передача информации от одного индивида или группы к другим, будь то в речи или с помощью современных нам СМИ, является важной в любом обществе. Двумя серьезными ранними теоретиками коммуникации были канадские авторы Харолд Иннис и Маршалл Маклуан. Иннис утверждал, что на организацию общества очень сильно влияет характер его СМИ. Он ссылается на каменную иероглифику — письмо на камне, существовавшее в некоторых древних цивилизациях. Резьба по камню сохраняется длительное время, но не может быть с легкостью транспортирована. Это плохой способ поддержания связи с удаленными местностями. Соответственно, общества, полагающиеся на данную форму коммуникации, не могут стать очень большими (Innis 1950; 1951). Маклуан развил некоторые идеи Инниса, и в частности, применил их к СМИ в современных, промышленно развитых обществах. Согласно Маклуану, «средство определяет содержание». Это означает, что характер СМИ того или иного общества влияет на его структуру намного сильнее, нежели то содержание, или сообщения, которые этот вид СМИ передает. Телевидение как СМИ, к примеру, очень отличается от напечатанной книги. Оно является электронным, визуальным и состоит из сменяющих друг друга изображений. Обычная жизнь воспринимается в обществе, где важную роль играет телевидение, по-другому нежели в том, где есть лишь печатные СМИ. Так, теленовости мгновенно передают глобальную информацию миллионам людей. Электронные СМИ, согласно Маклуану, создают глобальную деревню — люди по всему миру одновременно видят, как разворачиваются важнейшие события, ставшие предметом новостей, и следовательно, участвуют в них совместно (McLuhan 1964). К примеру, миллионы людей из разных стран наблюдали за интригой, в которую были вовлечены американский президент Билл Клинтон и бывшая стажерка Белого Дома Моника Левински. После целого года разоблачений, обвинений и постоянного освещения в СМИ скандал все же утих, когда попытка сместить Клинтона провалилась. Зрители всего мира совместно поучаствовали в одном из наиболее драматичных и значительных эпизодов недавнего прошлого, освещаемых в СМИ.Юрген Хабермас: сфера публичного
Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас (Jurgen Habermas) связан с Франкфуртской школой общественной мысли. Франкфуртская школа состояла из группы авторов, вдохновленных Марксом, но тем не менее полагавших, что взгляды последнего необходимо радикально пересмотреть, чтобы они соответствовали современности. Среди всего прочего, они считали что Маркс уделял недостаточно внимания вопросу влияния культуры на современное капиталистическое общество. Франкфуртская школа провела подробное исследование того, что ее представители называли «индустрией культуры», имея в виду такие развлекательные индустрии, как кино, ТВ, популярная музыка, газеты и журналы. Они утверждали, что распространение индустрии культуры с ее непритязательной и стандартизованной продукцией подрывает способность индивида к критическому и независимому мышлению. Искусство исчезает, затонув в море коммерциализации, которая дает нам «величайшие хиты Моцарта». Хабермас взял некоторые из этих тем, но развил их иначе. Он анализирует развитие СМИ от начала XVIII в. до сегодняшнего дня, отслеживая появление — и последующий упадок — «сферы публичного» (Habermas 1989). Сфера публичного — это арена общественных дебатов, на которой могут обсуждаться проблемы и формироваться мнения по вопросам, касающимся всех и каждого. Согласно Хабермасу, сфера публичного начала свое развитие в салонах и кофейнях Лондона, Парижа и других европейских городов. Люди встречались, желая обсудить злободневные вопросы, а предметы для подобных дискуссий часто возникали из листовок с новостями и газет, которые только-только начинали появляться. Политические дебаты стали делом особенной важности. Хотя вовлечена в последние была лишь небольшая часть населения, Хабермас утверждает, что эти салоны имели огромное значение на ранней стадии развития демократии, ибо они впервые ввели идею решения политических проблем путем общественного обсуждения. Сфера публичного — во всяком случае в принципе — подразумевает людей, собирающихся на свободную дискуссию в качестве равноправных участников публичных дебатов. Однако возможности, заложенные в ранней стадии развития сферы публичного, по заключению Хабермаса, не были полностью реализованы. Демократические дебаты в современных обществах подавляются в связи с развитием индустрии культуры. Распространение СМИ и сферы массовых развлечений является причиной того, что сфера публичного по большому счету становится фикцией. Политику «разыгрывают» в парламенте и СМИ словно пьесу, а коммерческие интересы одерживают верх над общественными. «Общественное мнение» формируется не с помощью открытой, рациональной дискуссии, но через манипулирование и контроль, как, например, в случае рекламы.Бодрийяр: мир гиперреальности
Одним из наиболее влиятельных теоретиков СМИ является французский автор-постмодернист Жан Бодрийяр, на чьи работы оказали большое влияние идеи Инниса и Маклуана. Бодрийяр считает влияние современных СМИ отличающимся от других технологий и намного более глубоким. С приходом СМИ, в особенности таких электронных СМИ, как телевидение, преобразовался сам характер нашей жизни. ТВ не только «представляет» нам мир, но и все больше определяет, чем же именно является тот мир, в котором мы живем. Рассмотрим процесс над О. Дж. Симпсоном (О. J. Simpson) — знаменитое судебное дело, которое разворачивалось в Лос-Анджелесе в 1994–1995 гг. Первоначально Симпсон прославился как звезда американского футбола, но позже стал известен во всем мире благодаря своему появлению в ряде популярных кинофильмов, например в эпопее «Голый пистолет» (Naked Gun). Он обвинялся в убийстве своей жены Николь, но после очень длительного процесса был оправдан. Процесс транслировался по телевидению, и за ним следили во многих странах, включая Великобританию. Шесть телеканалов США ежедневно освещали этот процесс. Между тем процесс происходил не только в зале суда. Он был телевизионным событием, объединяющим миллионы зрителей и комментаторов из различных СМИ. Этот процесс является примером того, что Бодрийяр называет гиперреальностью. Телевидение не позволяет нам видеть «реальность» (события в зале суда). Теперь «реальность» — ряд образов на телеэкранах всего мира, которые и определили этот процесс как событие мирового значения. Непосредственно до начала военных действий в (Персидском. — Прим. перев.) Заливе в 1991 г., Бодрийяр написал статью для газет под названием «Война в Заливе невозможна». Когда война была объявлена и произошел кровавый конфликт, могло показаться очевидным, что Бодрийяр был не прав. Это отнюдь не так. После того, как война закончилась, Бодрийяр написал вторую статью — «Войны в Заливе не было». Что он имел в виду? А именно то, что эта война была не такой, как другие известные в истории войны. Это была война эпохи СМИ, некое телевизионное представление, в котором, наряду с остальными зрителями по всему миру, Джордж Буш и Саддам Хуссейн смотрели репортажи Си-эн-эн (CNN) о том, что же на самом деле «происходит». Бодрийяр утверждает, что в эпоху повсеместности массмедиа на самом деле создается некая новая реальность — гиперреальность, состоящая из смеси человеческих поступков и медиаобразов. Мир гиперреальности состоит из симулякров — образов, которые наполняются смыслом только благодаря другим образам и от этого не имеют основы во «внешней реальности». Например, знаменитая серия реклам сигарет «Силк Кат» (Silk Cut) имела отношение вовсе не к сигаретам, а лишь к предыдущим рекламным роликам в длинной череде им подобных. Ни один политический лидер сегодня не сможет победить на выборах, не появляясь постоянно на телевидении: «человек», которого знает большинство зрителей, — это ТВ-имидж данного лидера.Джон Томпсон: СМИ и современное общество
Частично базируясь наработах Хабермаса, Джон Томпсон анализировал связь СМИ с развитием индустриальных обществ (Thompson 1990, 1995). Согласно Томпсону, СМИ, от ранних форм печати до электронных коммуникаций, играли центральную роль в развитии современных институтов. Томпсон считает, что главные основатели социологии, включая Маркса, Вебера и Дюркгейма, уделяли недостаточно внимания роли СМИ в формировании современного общества на ранней стадии развития. Одобряя некоторые идеи Хабермаса, Томпсон критикует последнего, так же как Франкфуртскую школу и Бодрийяра. Отношение Франкфуртской школы к индустрии культуры было чересчур критическим. Современные СМИ, по мнению Томпсона, не отказывают нам в возможности мыслить критически; по сути, они обеспечивают нас многими формами информации, доступа к которым у нас ранее не было. Как и Франкфуртская школа, Хабермас относится к нам как к пассивным получателям медиапосланий. Словами самого Томпсона:Медиа-послания обычно обсуждаются индивидами по ходу их получения и после него... (Они) преобразуются через постоянный процесс рассказа и пересказа, интерпретации и переинтерпретации, комментария, смеха и критики... Получая послания и регулярно вводя их в нашу жизнь... мы постоянно формируем и переформируем наши навыки и запасы знаний, проверяем наши чувства и вкусы и расширяем горизонты нашего опыта (Thompson 1995, 42–43).
Таблица 15.1 Типы взаимодействия
 Источник: Thompson J. В. The Media and Modernity. Polity, 1996.
Источник: Thompson J. В. The Media and Modernity. Polity, 1996.
Теория СМИ Томпсона основана на отличии трех типов взаимодействия (см. табл. 15.1). Взаимодействие лицом к лицу, как, например, между людьми, разговаривающими друг с другом на вечеринке, полное используемых индивидами подсказок, которые позволяют им понимать, что говорят другие (см. главу 4 «Социальное взаимодействие и повседневная жизнь»). Опосредованное взаимодействие предполагает использование медиатехнологий — бумаги, электрической связи, электронных импульсов. Для опосредованного взаимодействия характерно то, что оно растянуто во времени и пространстве, — оно выходит далеко за пределы взаимодействия лицом к лицу. Опосредованное взаимодействие происходит между индивидами напрямую — например, два человека разговаривают друг с другом по телефону — но возможность такого же разнообразия подсказок при этом отсутствует. Третий тип взаимодействия — это опосредованное квазивзаимодействие. Это касается того типа общественных связей, которые создаются СМИ. Такое взаимодействие растянуто во времени и пространстве, но оно не связывает индивидов напрямую: отсюда и термин «квазивзаимодействие». Два предыдущих типа являются «диалогическими»: индивиды общаются напрямую. Опосредованное квазивзаимодействие является «монологическим»: например, телепередача — это односторонняя форма коммуникации. Люди, которые смотрят какую-то передачу, могут обсуждать ее, и возможно, даже отпускать некие замечания в сторону телевизора — но последний, разумеется, им не отвечает. Точка зрения Томпсона состоит не в том, что третий тип доминирует над первыми двумя, что, по сути дела, является позицией Бодрийяра. Скорее, все три этих типа перемешаны между собой в нашей сегодняшней жизни. СМИ, предполагает Томпсон, изменяют баланс между публичным и частным в нашей жизни. В противоположность тому, что говорит Хабермас, гораздо больше вещей становится сегодня всеобщим достоянием, нежели раньше, и это зачастую приводит к дебатам и полемике. Идеология и СМИ Изучение СМИ тесно связано с влиянием идеологии на общество. Идеология касается влияния идей на человеческие воззрения и действия. Эта концепция широко использовалась при изучении как СМИ, так и других областей социологии, но она также уже давно вызывает немало споров. Термин впервые был употреблен французским писателем Дестютом де Траси в конце 1700-х. Он употреблял его в значении «наука об идеях». В руках иных авторов, однако, термин стал использоваться более критически. Маркс, к примеру, считал идеологию «ложным сознанием». Влиятельные группы способны контролировать господствующие идеи, циркулирующие в обществе, дабы оправдать свое собственное положение. Таким образом, согласно Марксу, религия зачастую идеологична — например, она учит бедных быть довольными своей долей. Социальный аналитик должен находить искажения в идеологии, чтобы позволить бесправным снова обрести верную оценку своего существования и предпринять некие действия по улучшению своих жизненных условий. Томпсон называет точку зрения де Траси нейтральной концепцией идеологии, а позицию Маркса — критической концепцией идеологии. Нейтральные концепции «характеризуют феномены как идеологию или идеологические, не подразумевая, что эти феномены непременно обманчивы, иллюзорны или связаны с интересами какой-то одной группы людей». Критические понятия об идеологии «передают негативное, критическое или пейоративное понимание» и несут с собой «скрытую критику или обвинение» (Thompson 1990, 53–54). Томпсон считает, что критический взгляд предпочтителен, поскольку он объединяет идеологию с властью. Идеология связана с проявлением символической власти — как идеи используются с целью скрыть, оправдать или легитимировать интересы доминирующих групп населения. В своих исследованиях члены Глазго медиа груп на самом деле анализировали идеологические аспекты передачи теленовостей. Новости были склонны поддерживать правительство и менеджмент в ущерб бастующим. В целом, как полагает Томпсон, СМИ, включая не только новости, но и все виды и жанры передач, значительно раздвигают рамки идеологии в современных обществах. Они достигают массовой аудитории и, используя его термин, основаны на «квазивзаимодействии», так как публика не может отвечать напрямую. Хотя до сих пор мы концентрировались на газетах и телевидении, мы не должны думать о СМИ только в этих категориях. Один из наиболее фундаментальных аспектов СМИ касается именно самой инфраструктуры, через которую идет передача и обмен информацией. Некоторые важные технологические достижения второй половины XX в. полностью преобразили облик телекоммуникаций — передачи информации, звуков или образов на расстоянии с помощью некоего технологического устройства. Новые коммуникационные технологии стоят, к примеру, за значительными изменениями мировых денежных систем и фондовых бирж. Деньги — это уже не золото или наличные в вашем кармане. Деньги становятся все более и более электронными и хранятся в компьютерах мировых банков. Ценность тех наличных, которые действительно оказываются в вашем кармане, определяется деятельностью маклеров на соединенных при помощи электронных средств валютных рынках. Такие рынки были созданы всего лишь за последние десять-пятнадцать лет: они совместный продукт компьютеров и технологии спутниковой связи. Говорилось, что «технологии быстро превращают фондовую биржу в единый всемирный рынок, открытый круглосуточно» (Gibbons 1990, 111). Четыре тенденции в технологии способствовали этому развитию: постоянное улучшение компьютерных возможностей при одновременно падающих ценах; перевод данных на цифровые носители, делающий возможной интеграцию компьютера и телекоммуникационных технологий; развитие спутниковых коммуникаций и волоконной оптики, которая позволяет передавать множество различных сообщений по одному небольшому кабелю. Поразительно бурному росту коммуникаций в последние годы не видно конца. В своей книге «Цифровые технологии» основатель медиа-лаборатории Массачусетского технологического института Николас Негропонте анализирует огромную важность цифровых данных в современных коммуникационных технологиях (Negroponte 1995). Любая информация, включая картинки, звуки и кино, может быть переведена в «биты». Один бит — это либо 1, либо 0. Например, цифровым представлением ряда 1, 2, 3, 4, 5 будет 1, 10, 11, 100, 101 и т. д. Перевод на цифровые носители, а также скорость, лежат в основе развития мультимедиа: то, что было раньше разными СМИ, требующими различных технологий (таких как визуальные и звуковые) теперь может быть объединено в единое средство (CD-ROM/компьютер и т. п.). Скорость компьютеров увеличивается вдвое каждые восемнадцать месяцев, и технология сейчас достигла того уровня, когда видеокассета может быть переведена в изображение на мониторе персонального компьютера и обратно. Оцифровывание также позволяет развиваться интерактивным СМИ, что дает возможность индивидам активно участвовать или структурировать увиденное или услышанное. Одним из следствий технологического прогресса, а также отличным примером глобализации является астрономический рост числа международных телефонных звонков. Если в 1982 г. объем минут разговора составлял более 12 млрд мин. разговора, то к 1996 г. это число выросло до более 67 млрд мин. разговора. Около 50 % этого поразительного объема международных звонков исходили из всего лишь пяти стран: США, Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии! Международная телефонная активность распределена по миру неравномерно: если в среднем в мире на душу населения приходится 7,8 мин. международного разговора, то в развитых странах (членах Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)) в среднем 36,6 мин. В Африке южнее Сахары средняя цифра составляет 1 мин. разговора на человека (Held et al. 1999). Стратификация международных телефонных звонков отражает большую разницу между проникновением новых технологий в более развитые и в менее развитые общества. В 1995 г. в развитых странах на 1 000 чел. приходилось в среднем 546 телефонных линий, тогда как в экономиках с низким доходом среднее число едва превосходит 25 телефонных линий на 1 000 чел. Однако существуют также признаки того, что эта разница может когда-нибудь выровняться с помощью возможностей самих же новых технологий. Некоторые менее развитые страны активно инвестировали средства в продвинутые телекоммуникационные инфраструктуры, добившись полностью оцифрованных телефонных сетей раньше, чем развитые страны. Хотя технологические достижения могут привести к усилению стратификации и неравенства, они также дают надежду и на уменьшение этих неравенств, делая коммуникацию доступной для людей в удаленных или бедных регионах. Как мы увидим, использование Интернета станет основной причиной роста международной телефонной активности в будущем. Доступ к Интернету и количество его пользователей по всему миру за последние десять лет очень сильно выросли, так как достижения в области технологий делают сетевую активность более доступной и дешевой.
Мобильные телефоны: волна будущего?
1990-е годы стали временем роста растущей популярности мобильных телефонов — важного нового феномена в сфере телекоммуникаций. Подсчитано, что в 1990 г. в мире существовало 11 млн мобильных телефонов. Спустя десятилетие их использовали уже более 400 млн людей! Если сравнить это со 180-ю млн людей, использующих персональные компьютеры, становится понятно, почему все чаще в мобильных телефонах видят будущее телекоммуникаций. Мобильные телефоны сами по себе — не новинка, но технологии, которые сделали их глобальным феноменом, появились сравнительно недавно. Так называемое «первое поколение» мобильных телефонов, использовавшее аналоговые технологии, впервые показало, что коммуникации и мобильность могут быть совмещены. Цифровые технологии породили «второе поколение» телефонов, которые оказались быстрее, меньше по размеру, были менее неуклюжими и более удобными. По мере того как цены на такие телефоны продолжали падать, а возможности приема на большие расстояния расширялись, популярность мобильных телефонов необыкновенно возросла: новые «мобильные» подключения сегодня намного опережают подключения к стационарным телефонным линиям. В некоторых странах, где стационарных телефонных линий не хватает и телефонная инфраструктура недоразвита, мобильные телефоны предлагают надежную и очень нужную услугу. Технология редко стоит на месте, но в случае мобильных телефонов она движется вперед семимильными шагами. Долгожданное «третье поколение» технологии мобильных телефонов возвестит приход эры «беспроводного Интернета». С помощью протокола беспроводного соединения (вал-доступа), текстовая информация с веб-страниц сможет быть отобрана и представлена в виде слов на экране телефона. Пользователи смогут иметь доступ к Интернету через свои мобильные телефоны, чтобы выполнять различные задачи, как то: проверять свои банковские счета, заказывать билеты, узнавать основные новости и курсы акций. Компьютеры и связь через модем для выхода в сеть больше не потребуются, хотя они с большой вероятностью останутся более популярными для продолжительного пребывания в сети. Что же касается быстрых операций, мобильные телефоны с сервисом «i-mode»[12] дадут более быстрый и более удобный способ войти в Интернет. «Портативность мобильных телефонов делает их чудесными инструментами личного освобождения», — утверждает один журналист (The Economist. 9 Oct. 1999). Несомненно, мобильные телефоны — необыкновенное преимущество в эпоху постоянного движения, регулярных поездок на работу, частых путешествий и загруженных расписаний. Задания могут выполняться более эффективно; родители могут связываться с подростками; время, проведенное в пути или вдали от дома, теперь можно использовать для выполнения как личных, так и профессиональных задач. Многие люди ценят гибкость, которую им дает мобильный телефон. Иные утверждают, что мобильные телефоны являются также симптомом ряда аспектов, внушающих сегодня беспокойство. В эпоху скорости, когда рабочие дни становятся длиннее и требования к людям возрастают, мобильные телефоны, кажется, только убыстряют и без того безумный темп жизни, посягая на личное время человека. Они подразумевают, что человек постоянно доступен, размывая границы между личной и профессиональной жизнью. На ценное «промежуточное» время, которое раньше использовалось для того, чтобы собраться с мыслями, все чаще покушаются звонки мобильных телефонов и отчаянные попытки в последнюю минуту привести в порядок упущенные детали. В некоторых общественных местах, таких как поезда и рестораны, мобильные телефоны начали считать помехой и предпринимаются меры по ограничению их использования.Интернет
К началу 1990-х гг. многие эксперты в области компьютеров и технологий признавали, что царство персонального компьютера (ПК) закончилось. Им становилось все яснее, что будущее стояло не за отдельным компьютером, а за глобальной системой взаимосвязанных компьютеров — Интернетом. Хотя многие пользователи компьютеров тогда этого не осознавали, ПК вскоре суждено было стать не более чем местом доступа к событиям, происходящим в любом ином месте, — а именно в сети, протянувшейся по всей планете, не принадлежащей ни одному частному лицу и ни одной компании.Потенциал Интернета для роста международного активизма исследован в подразделе «Технология и общественные движения» (раздел «Политика и социальные изменения» главы 14).
Происхождение Интернета
Интернет появился спонтанно. Это продукт мира, не разделенного на части, мира после падения Берлинской стены. Однако его первоисточники приходятся именно на период холодной войны, длившейся вплоть до 1989 г. Сеть берет свое начало в Пентагоне — главном органе управления американских вооруженных сил. Она была создана в 1969 г. и сначала называлась сетью ARPA по названию Агентства передовых исследований (Advanced Research Projects Agency) Пентагона. Цель сети была ограниченной. ARPA стремилось дать возможность ученым, работающим по контракту с министерством обороны, объединять свои ресурсы и делиться тем дорогостоящим оборудованием, которое они использовали. Позже создатели сети придумали способ заодно посылать сообщения — таким образом родилась электронная почта — «e-mail». До начала 1980-х гг. Интернет Пентагона состоял из 500 компьютеров, каждый из которых находился в военных лабораториях и на факультетах информатики в университетах. Затем другие сотрудники университетов стали знакомиться с сетью и использовать систему для своих собственных целей. К 1987 г. Интернет расширился до 28 000 главных компьютеров, находящихся в различных университетах и исследовательских лабораториях. В течение ряда лет использование Интернета ограничивалось университетами. Однако с распространением домашних компьютеров сеть начала распространяться по миру, а затем наступил период его необыкновенно стремительного роста. Между 1988-м и 1998-м гг. количество семей в Великобритании, имеющих в доме персональный компьютер, скакнуло от 18 до 34 %. Среди семей с детьми это число составляло 49 % (HMSO 2000). Распространение коммерческих провайдеров интернет-услуг (ISPs), которые предлагают доступ в сеть с помощью телефонной связи через модем, увеличило все растущее количество домов, имеющих выход в Интернет. Онлайн-услуги, электронные доски объявлений, чаты и библиотеки компьютерных программ помещаются в сеть самыми разнообразными людьми, которые находятся далеко не только в Северной Америке, но и во всем мире. Корпорации также ухватились за новшество. В 1994 г. компании обогнали университеты, став основными пользователями сети. Наиболее известной частью Интернета является Всемирная паутина (World Wide Web — www). На самом деле есть опасность, что она займет место своего хозяина подобно кукушке, подкинутой в гнездо. Эта сеть-паутина, по сути, является всемирной библиотекой мультимедиа. Она была придумана инженером-программистом в швейцарской физической лаборатории в 1992 г.; программа же, которая популяризовала ее в мире, была написана студентом Иллинойсского университета. Пользователи передвигаются по сети с помощью интернет-«браузера» — программы, которая позволяет индивидам искать информацию, находить определенные сайты или веб-страницы и запоминать их для обращения к ним в будущем. Через сеть можно «скачивать» множество различных документов и программ, от официальных правительственных бумаг до антивирусных программ и компьютерных игр. По мере того как веб-страницы становились все более изощренными, они стали привлекательными со всех точек зрения. Многие из них украшены сложной графикой и фотографиями или содержат видео- и аудиофайлы. Сеть также служит основным интерфейсом для электронной торговли (е-торговли) — деловых операций, которые совершаются в режиме онлайн. Сколько человек на самом деле подключены к Интернету — неизвестно, но в начале XXI в. более 100 млн чел. в мире имели доступ к сети. Было подсчитано, что с 1985 г. Интернет ежегодно увеличивался на 200 %! Такой стремительный рост, скорее всего, будет продолжаться в ближайшем будущем благодаря дальнейшими достижениям в области компьютерных и телекоммуникационных технологий. Доступ к Интернету очень неравномерен. В 1998 г. 88 % от числа пользователей Интернета жили в развитых странах. В Северной Америке насчитывалось более 50 % от общего числа пользователей, хотя в ней проживает лишь 5 % мирового населения. США — страна с наиболее высоким числом владельцев компьютеров и людей, имеющих доступ к Интернету. Свыше 100 млн американцев используют Интернет, а Германия и Великобритания могут похвастаться более чем 10 млн пользователей. В Японии, куда бум Интернета пришел несколько позже, более 14 % населения (18,3 млн чел.) использовали Интернет в 1999 г. Ожидается, что это число в ближайшие годы будет стремительно расти.Влияние Интернета
В мире поражающих воображение технологических изменений никто не знает, что нас ожидает в будущем. Многие считают, что Интернет является примером нового всемирного порядка, появившегося в конце XX в. Пользователи Интернета живут в «виртуальном пространстве». Под виртуальным, или киберпространством, понимается пространство взаимодействия, образованное глобальной сетью компьютеров, из которых состоит Интернет. В киберпространстве, как вполне бы мог сказать Бодрийяр, мы уже не «люди», но сообщения на мониторах компьютеров друг друга. Не считая электронной почты, пользователи которой подписываются неким именем, никто в Интернете не может быть уверен в том, кем же на самом деле является другой: мужчина это или женщина, или в какой точке мира этот человек находится. Есть знаменитая карикатура, посвященная Интернету, в которой перед монитором сидит собака. Подпись под рисунком гласит: «Самое же лучшее в Интернете то, что никто не знает, что ты собака».────────────────────────────┐ ■ Новая эпоха социальной изоляции? Хотя рано еще говорить с какой-то определенностью обо всех последствиях бума Интернета в современном обществе, некоторые социологические исследования уже пытаются оценить его воздействие. В крупномасштабном исследовании более 4 000 взрослых американцев, опубликованном в феврале 2000 г., исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что регулярные пользователи Интернета проводят меньше времени со своей семьей или занимаясь общественными делами, нежели те, кто пользуется услугами Сети нерегулярно или вообще не пользуется. Исследователи обнаружили, что 55 % респондентов имели доступ к Интернету дома или на работе; 20 % опрошенных были отнесены к группе «регулярных пользователей», проводящих по меньшей мере пять часов в неделю в Интернете. Исследователями были отмечены две важных тенденции. Первая: Интернет, как оказалось, вызвал отход в сторону от прочих СМИ. Среди регулярных пользователей Интернета 60 % утверждают, что теперь они проводят меньше времени за просмотром телевизора, а одна треть из них заявляет, что они сократили время, отводимое для прочтения газет. Вторая: Интернет размывает границу между домом и работой. Четверть регулярных пользователей утверждает, что они проводят больше времени, работая дома, хотя их рабочее время осталось тем же или даже увеличилось. Согласно автору исследования, жизнь стала «непрерывным потоком», организованным вокруг Интернета. Теперь служащие больше используют Интернет в рабочее время, и в результате появилась тенденция брать различные проекты на дом, вместо того, чтобы завершать их к концу рабочего дня. ────────────────────────────┘
Распространение Интернета по миру вызвало у социологов множество вопросов. Интернет меняет очертания повседневной жизни — размывает границы между понятиями глобального и местного, предоставляет новые каналы для коммуникации и взаимодействия и позволяет выполнять все большее количество повседневных дел в режиме онлайн. Но одновременно с подаренными новыми увлекательными возможностями изучения общественного мира Интернет также грозит ухудшением человеческих взаимоотношений и подрывом роли различных сообществ. Хотя «век информации» по-прежнему находится на раннем этапе развития, многие социологи уже обсуждают неоднозначные последствия Интернета для современного общества. Мнения о влиянии Интернета на социальное взаимодействие делятся на две широкие категории. В первую входят те обозреватели, которые считают, что сетевой мир поощряет новые формы электронных взаимоотношений, которые либо улучшают, либо дополняют существующие взаимодействия «лицом к лицу». Индивиды, путешествуя по миру или же работая за границей, могут использовать Интернет для регулярного общения с друзьями и родственниками на родине. Расстояние и разлука переносятся легче. Интернет также дает возможность появиться новым типам взаимоотношений: «анонимные» пользователи Интернета могут встречаться в чатах и обсуждать интересующие их темы. Такие виртуальные контакты иногда развиваются в настоящую электронную дружбу или даже приводят к встрече лицом к лицу. Многие пользователи Интернета стали частью оживленных сетевых общин, которые качественно отличаются от тех, в которых они проживают физически. Ученые, считающие Интернет позитивным дополнением к сфере человеческого взаимодействия, утверждают, что он расширяет и обогащает социальные связи людей. Однако не все разделяют столь восторженную точку зрения. По мере того как люди проводят все больше времени, общаясь в Сети и выполняя там свои повседневные задачи, они, возможно, проводят меньше времени, взаимодействуя друг с другом в мире физическом. Некоторые социологи опасаются, что распространение интернет-технологии приведет к повышению социальной изолированности и разрозненности. Они утверждают, что одним из последствий растущего домашнего доступа в Интернет является то, что люди проводят меньше времени в «качественном и интересном общении» с родственниками и друзьями. Интернет вторгается в домашнюю жизнь по мере того, как границы между работой и домом размываются: многие служащие продолжают работать дома во внерабочее время, проверяя электронную почту или заканчивая задания, которые они не успели завершить в течение дня. Контакт между людьми уменьшается, личные взаимоотношения страдают, традиционные формы развлечения, такие как посещение театра или чтение, остаются в стороне, и ткань, из которой соткана общественная жизнь, ветшает.
О некоторые нюансах, которые теряются при общении на расстоянии, см. раздел «Лицо, тело и речь при общении» в главе 3.
Как же мы должны оценивать эти противоположные друг другу точки зрения? Элементы истины, безусловно, присутствуют у обеих дискутирующих сторон. Интернет, несомненно, расширяет наши горизонты и предоставляет доселе невиданные возможности наладить контакт с другими людьми. Однако тот бешеный темп, в котором он развивается, также бросает вызов и угрожает традиционным формам человеческого взаимодействия. Переделает ли Интернет общество в корне, превратив его в бездушное, разбитое на куски царство людей, которые редко выходят из своего дома и утратили способность к общению? Вряд ли. Около пятидесяти лет назад весьма схожие страхи высказывались, когда в сферу СМИ внезапно ворвалось телевидение. В книге «Одинокая толпа» (Riesman 1961) — серьезном социологическом анализе американского общества 1950-х гг. — Дэвид Рисман и его коллеги выразили беспокойство в связи с проблемой воздействия ТВ на семью и общественную жизнь. Хотя некоторые их опасения были вполне справедливыми, телевидение и СМИ также во многом обогатили общественный мир. Так же как в прошлом телевидение, Интернет вызывает и надежды, и опасения. Потеряем ли мы свое лицо в виртуальном пространстве? Будет ли нами управлять вычислительная техника, а не наоборот? Уйдут ли люди в антисоциальный мир сети? К счастью, ответом на каждый из этих вопросов, скорее всего, будет «нет». Как мы видели ранее при рассмотрении «потребности в близости», люди не прибегают к видеоконференциям, если они в состоянии встретиться друг с другом традиционным способом. Бизнесменам доступно гораздо больше форм электронной связи, чем когда бы то ни было. Но одновременно возросло и число деловых конференций, проводимых «лицом к лицу».
Глобализация и СМИ
В этой книге уже говорилось о том, что Интернет — один из основных двигателей и одно из проявлений современного процесса глобализации. Однако глобализация также меняет международный охват других форм СМИ. В этом разделе мы рассмотрим некоторые изменения, касающиеся СМИ в условиях глобализации. Хотя СМИ всегда имели международное значение, например, при сборе новостных материалов или распространении фильмов за границей, вплоть до 1970 г. большинство медиа-компаний оперировало внутри определенных внутренних рынков в согласии с постановлениями национальных правительств. Индустрия СМИ также была поделена на различные секторы — кино, печатные СМИ, радио и телевидение, которые функционировали по большей части независимо друг от друга. За последние три десятилетия, однако, в индустрии СМИ произошли коренные изменения. Национальные рынки уступили место подвижному международному рынку, а новые технологии привели к слиянию ранее самостоятельных форм СМИ. К началу XXI в. на международном рынке СМИ господствовала группа, состоящая из примерно двадцати многонациональных корпораций, чью роль в производстве, распространении и маркетинге новостей и развлечений можно было почувствовать практически в любой стране мира. В своей работе на тему глобализации Дэвид Хелд и его коллеги указывают на пять важных сдвигов, которые повлияли на создание глобального медиапорядка (Held et al. 1999): 1. Увеличивающаяся концентрация собственности. Сейчас международные СМИ управляются небольшим числом влиятельных корпораций. Маленькие, независимые медиакомпании были постепенно включены в высокоцентрализованные медиаконгломераты. 2. Переход от общественной собственности к частной. Практически во всех странах медиа- и телекоммуникационные компании традиционно полностью или частично принадлежали государству. За последние несколько десятилетий либерализация сферы бизнеса и послабления в постановлениях привели к приватизации (и коммерциализации) медиакомпаний во многих странах. 3. Межнациональные корпоративные структуры. Сегодня медиакомпании оперируют не только лишь строго внутри национальных границ. Правила владения СМИ также стали менее строгими, допуская инвестиции и покупку за границей. 4. Многообразие различной медиапродукции. Индустрия СМИ стала более разнообразной и менее сегментированной, чем в былые времена. Огромные медиаконгломераты, такие как «Америка Онлайн-Тайм Уорнер» (AOL-Time Warner), о которых рассказывается ниже, производят и распространяют набор различных медиапродуктов, включающих в себя музыку, новости, печатные СМИ и телевизионные программы. 5. Растущее число корпоративных медиаобъединений. В различных сегментах индустрии СМИ наблюдается тенденция к слиянию компаний. По мере того как различные формы СМИ становятся все более взаимосвязанными, телекоммуникационные фирмы, производители электронного оборудования и программного обеспечения для компьютеров все чаще участвуют в корпоративных объединениях. Глобализация СМИ выдвинула на передний план «горизонтальные» формы коммуникаций. Если традиционные формы СМИ обеспечивали связь внутри границ национальных государств «вертикально», глобализация ведет к горизонтальному объединению коммуникаций. Сейчас мы имеем не только связи между людьми на традиционном уровне, но и широкое распространение массовой информации благодаря новой сбалансированной системе управления, политике в области прав собственности и транснациональным маркетинговым стратегиям. Сегодня коммуникации и СМИ в большей степени способны распространиться за пределы отдельных стран (Screbrenny-Mohammadi et al. 1997). Однако развитие нового информационного порядка, как и других аспектов глобального общества, идет неравномерно и отражает различия между высоко развитыми обществами и менее развитыми странами. В этом разделе, прежде чем обсудить представленные некоторыми социологами утверждения, что новому глобальному медиапорядку наиболее подходит определение «медиаимпериализм», мы рассмотрим различные стороны глобализации в сфере СМИ.Музыка
Как отмечали Дэвид Хелд и его коллеги в исследовании глобализации в сферах СМИ и коммуникаций, «музыкальная форма более эффективно поддается глобализации, нежели какая-либо другая» (Held et al. 1999, 351). Это верно потому, что музыка может достичь массовой аудитории и понравиться ей, преодолев ограничения письменного языка и разговорной речи. Международная музыкальная индустрия, находящая в руках небольшого числа многонациональных корпораций, была построена на ее способности находить, производить, выводить на рынок и распространять музыкальные способности тысяч артистов для аудиторий слушателей по всему миру. Рост технологий — от персональных стереосистем и музыкального телевидения (такого как МТБ) до сидиромов — обеспечил более новые, усовершенствованные пути глобального распространения музыки. За последние десятилетия в ходе международного маркетинга и распространения музыки сформировался своего рода «институциональный комплекс» компаний, занимающихся этими вопросами. Всемирная индустрия звукозаписи является одной из наиболее концентрированных. Пять крупнейших фирм — Universal (поглотившая Polygram в 1998 г.), Time Warner, Sony, EMI и Bertelsmann — контролируют примерно 80–90 % от общего числа музыкальных продаж по всему миру (Hensen and McChesney 1997). Вплоть до января 2000 г., когда компания EMI объявила о своем слиянии с Time Warner, она была единственной из первой пятерки компаний, которая не являлась частью еще большего медиаконгломерата. В середине 1990-х наблюдался значительный рост мировой музыкальной индустрии, а именно рост объема продаж на 38 % в период с 1992 по 1995 гг. Продажи в развивающихся странах были особенно значительными, тем самым сподвигнув многих из сильнейших компаний на заключение контрактов с местными исполнителями в предвкушении дальнейшего роста рынка. Рост мировой музыкальной индустрии в первую очередь связан с успехом популярной музыки — в основном из США и Великобритании, а также распространению молодежных движений и субкультур, которые с ними идентифицировались (Held et al. 1999). Таким образом, глобализация музыки была одной из основных движущих сил в деле распространения американских и британских стилей и музыкальных жанров на международные аудитории. США и Соединенное Королевство являются мировыми лидерами экспорта популярной музыки, тогда как у других стран уровень местного музыкального производства значительно ниже. Хотя некоторые критики утверждают, что господство этих стран в музыкальной индустрии мешает успеху местных музыкальных стилей и традиций, важно помнить, что глобализация является улицей с двусторонним движением. Растущая популярность так называемой «мировой музыки» — например, феноменальный успех латиноамериканского музыкального стиля в США — является свидетельством того, что глобализация ведет к распространению культуры во всех направлениях.────────────────────────────┐ ■ Изменит ли Интернет музыкальную индустрию? Интернет уже сейчас меняет многие аспекты нашей повседневной жизни: идет ли речь о том, как мы отдыхаем, или о том, как ведем бизнес. «Традиционным» медиа-компаниям, таким как музыкальная индустрия, Интернет дает колоссальные возможности, но он же представляет для них и серьезную угрозу. Хотя музыкальная индустрия все более и более сконцентрирована в руках небольшого количества международных объединений, некоторые наблюдатели полагают, что это наиболее нестабильное звено в «индустрии культуры». Это верно, поскольку Интернет позволяет скачивать в цифровом формате вместо того, чтобы покупать CD или кассеты в местных музыкальных магазинах. Международная музыкальная индустрия сегодня состоит из сложной системы фабрик, сетей распространения, музыкальных магазинов и обслуживающего персонала. Если исчезнет потребность во всех этих элементах из-за того, что с помощью Интернета музыка сможет продаваться и скачиваться напрямую, что же останется от музыкальной индустрии? И что предотвратит приход на рынок базирующихся в Интернете конкурирующих компаний от сколачивания капитала за счет растущего спроса на «нишевые» музыкальные жанры и работы местных исполнителей? Для индустрии, которая выросла до астрономических размеров благодаря всемирному спросу на популярную музыку, прогноз неутешителен: в период с 1988 по 1998 гг. доля рынка, принадлежащая двум основным музыкальным жанрам — рок- и попмузыке — упала от 62 до 45 % (The Economist. 29 Jan. 2000). Новые направления, такие как хип-хоп, трип-хоп, лаундж и эсид джаз, подрывают рынок музыкального «мэйнстрима». Музыкальная индустрия уже сейчас борется с последствиями перехода на цифровые носители. Международная федерация фонографической индустрии (International Federation of the Phonographic Industry) подсчитала, что в любое время суток более 100 млн музыкальных композиций, которые можно скачать, нелегальным образом помещаются в Интернет (The Economist. 29 Jan. 2000). Сетевое пиратство уже сегодня является одной из самых больших проблем для мировой музыкальной индустрии. Хотя делаются попытки жесткого контролирования процесса копирования легально приобретенной музыки, темп технологических изменений затмевает способность индустрии ограничивать пиратство. Дело, которое привлекло к себе немало внимания в 2000 г., касалось сайта Napster — программы, которая позволяет людям продавать файлы в Интернете, включая нелегальные копии музыкальных композиций. Индустрия звукозаписи несколько раз подавала в суд на маленькую компанию, которой принадлежал Napster. Но джинн уже был выпущен из бутылки. ────────────────────────────┘
Кино
Глобализацию кино можно расценивать по-разному. Один путь — это анализ того, где и на какие финансовые средства фильмы производятся. По этим критериям в киноиндустрии, вне всякого сомнения, происходит процесс глобализации. Согласно исследованиям Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), многие страны способны производить фильмы. В 1980-е гг. около 25-ти стран выпускали 50 и более кинокартин в год, а небольшая группа стран — США, Япония, Южная Корея, Гонконг и Индия — опережает всех остальных, производя более 150-ти фильмов в год (Held et al. 1999). Другой способ оценить глобализацию кино — проанализировать, в какой степени произведенные внутри той или иной страны картины экспортируются в другие страны. В 1920-е гг., когда художественные фильмы только-только появились, Голливуд производил четыре пятых всех фильмов, которые шли на экранах мира; сегодня киноиндустрия США продолжает оказывать сильнейшее влияние во всем мире. (После США крупнейшими экспортерами кинопродукции являются Индия, Франция и Италия.) Правительства многих стран обеспечивают субсидирование с целью помочь своим собственным киноиндустриям, но ни одна страна не может сравниться с США в роли экспортера художественных фильмов. К примеру, в Великобритании американские кинокартины составляют 40 % всех фильмов, ежегодно демонстрируемых в кинотеатрах. Большинство других стран, в которых существует индустрия экспорта кино, такие как Италия, Япония и Германия, также импортируют большое количество американских фильмов. В Южной Африке их доля нередко составляет более 50 %, и похожее соотношение наблюдается также во многих частях Азии, Африки и Среднего Востока. В целом в Европейском сообществе пропорция кассовых сборов, приходящаяся на американские фильмы, выросла от 60 % в 1984 г. до почти 72 % в 1991 г.; к 1996 г. доля билетов, проданных на американские картины, вновь упала примерно до 63 % (Held et al. 1999). США также является крупнейшим экспортером кинофильмов в те страны, которые раньше были основными покупателями советской кинопродукции. К 1993 г. более 50 % доходов голливудские киностудии получали от распространения своей кинопродукции за границей. Подсчитано, что к 2001 г. это число может достигнуть от 60 до 70 %. Такая тенденция ведет к некоторым характерным последствиям. Многие голливудские киностудии занимаются строительством больших многозальных кинотеатров за рубежом с целью увеличить свою иностранную аудиторию. Во-вторых, распространение видеомагнитофонов на множество новых рынков увеличило спрос на фильмы в формате видео, что принесло 8,8 млрд долл. в 1991 г. — более половины общего дохода киностудий (Herman and McChesney 1997).«Суперкомпании» средств массовой информации
В январе 2000 г. две из наиболее влиятельных в мире компаний СМИ объединились, что было самым крупным корпоративным слиянием, когда-либо имевшим место в истории. Заключив сделку стоимостью 337 млрд долл., самая крупная компания СМИ мира — Time Warner — и самый крупный в мире провайдер интернет-услуг — America Online (AOL) — объявили о своем намерении создать «первую и самую развитую в мире для Эпохи Интернета СМИ- и коммуникационную компанию». Слияние соединяет огромное количество СМИ-«контента», принадлежащего Time Warner, включая газеты и журналы, киностудии и ТВ-станции, с мощными возможностями интернет-дистрибуции AOL, чья база подписчиков на момент слияния превосходила 25 млн чел. в пятнадцати странах. Это слияние вызвало колоссальный интерес на финансовых рынках, поскольку оно дало миру четвертую крупнейшую по размеру компанию. Много внимания, даже больше, чем размер компании, сделка привлекла как первый крупный союз между «старыми» и «новыми» СМИ. Истоки Time Warner восходят к 1923 г., когда Хенри Люс основал журнал «Time» — еженедельник, в котором суммировалось и интерпретировалось то множество информации, которое публиковалось в ежедневных газетах. Вскоре после ошеломительного успеха «Time» в 1930 г. был создан журнал, посвященный бизнесу, под названием «Fortune», а в 1936 г. — фото-журнал «Life». На протяжении XX в. компания «Time Inc.» выросла до медиакорпорации, включающей в себя ТВ и радиостанции, музыкальную индустрию, обширную кино- и мультипликационную империю Warner Brothers и первый в мире двадцатичетырехчасовой новостной канал Си-эн-эн (CNN). Во время слияния ежегодный оборот Time Warner составлял 26 млрд долл., ее журналы ежемесячно читали 120 млн людей и компании принадлежал архив, состоящий из 5 700 кинофильмов, а также некоторых из наиболее популярных телевизионных программ. Если история Time Warner весьма точно отражает общее развитие коммуникаций в XX в., то подъем America Online типичен для «новых» СМИ эпохи информации. AOL, основанная в 1982 г., вначале предлагала доступ в Интернет через модем с почасовой оплатой. К 1994 г. у нее был миллион подписчиков; в 1996 г., после введения неограниченного пользования Интернетом за фиксированную ежемесячную плату, количество подписчиков выросло до 4,5 млн. Пока число пользователей продолжало расти — в 1997 г. услугами AOL пользовались уже 8 млн чел. — компания занялась серией слияний, покупок и заключением союзов, которые закрепили ее статус самого основного провайдера интернет-услуг. AOL купила CompuServe и Netscape, совместное предприятие с немецкой компаний Bertelsmann в 1995 г. привело к созданию AOL Europe, а союз с Sun Microsystems позволил AOL войти в мир электронной коммерции. Последствия слияния AOL и Time Warner в течение некоторого времени не будут ясны, но публика уже разделилась на тех, кто считает, что эта сделкаоткроет новые интересные технологические возможности, и на тех, кто обеспокоен проблемой господства крупных корпораций над всеми СМИ. Энтузиасты рассматривают эту сделку как важный шаг на пути создания «суперкомпаний» в области СМИ — таких, которые могли бы доставлять с помощью Интернета прямо на дом все новостные программы, ТВ-передачи, все фильмы и музыку, которые бы только люди ни пожелали получить именно тогда, когда им это нужно. По мере прогресса технологии интернет-связь через модем будет заменена круглосуточными скоростными кабельными соединителями и компактными пультами управления. Стив Кейс сказал, объявляя о сделке: «Это исторический момент — новый вид СМИ „стал взрослым“. Мы всегда говорили, что целью America Online было сделать Интернет такой же или даже более важной частью жизни людей, как телефон и телевидение» (Guardian, 16 Jan. 2000). Не все согласны, однако, что нужно стремиться к идее «суперкомпаний СМИ». Там, где энтузиасты видят некую мечту-идеал, критики предчувствуют кошмар. По мере того как корпорации СМИ становятся более концентрированными, централизованными и способными охватить собой весь мир, есть причины опасаться, что важная роль СМИ как открытого для свободных дебатов форума будет сокращена. Единая компания, которая контролирует и содержание ТВ-программ, музыку, фильмы, источники новостей — и средства их распространения, обладает слишком большой властью. Она может рекламировать свой собственный материал (тех певцов и звезд, которых она сделала знаменитыми), она в состоянии быть собственным цензором (не передавая новости, которые могли бы негативно сказаться на ее собственности или на тех, кто поддерживает ее бизнес), и она же способна «выборочно рекомендовать» продукцию внутри своей собственной империи за счет тех, кто в нее не входит. Представление об Интернете, находящемся в руках нескольких медиаконгломератов, резко отличается от идеи свободного и ничем не ограниченного электронного пространства, предложенного пионерами Интернета всего лишь несколько лет назад. На раннем этапе Интернет воспринимался многими как царство индивидуальности, пользователи которого могли свободно перемещаться по сети с целью найти ту или иную информацию или поделиться ею, обзаводясь связями и общаясь вне мира корпоративной власти. Однако надвигающееся присутствие корпоративных медиагигантов и рекламодателей ставит все это под угрозу. Критики обеспокоены, что расцвет корпоративной власти в Интернете заглушит все, кроме «корпоративных агиток», и может привести к тому, что Интернет станет ограниченной территорией, доступной только для подписчиков. Эти противоположные точки зрения нелегко оценить, но доля правды присутствует в обоих взглядах. Слияния СМИ и технологический прогресс непременно расширят возможности организации и доставки сообщений и развлекательной продукции. Точно так же, как на медиапионеров кино и музыки повлиял подъем ТВ-компаний и музыкальной индустрии, эпоха Интернета приведет к новым значительным переменам в области СМИ: в будущем выбор того, когда и что именно будет доступно публике, станет гораздо более широким. Но беспокойство относительно господства корпораций над СМИ также не является необоснованным. Уже существуют свидетельства того, что медиаконгломераты избегают передавать нелестные новости, касающиеся компаний-партнеров. Аргументы в пользу сохранения Интернета бесплатным и доступным для всех основаны на важных убеждениях о ценности такого неограниченного общественного пространства, где можно обмениваться идеями и обсуждать их. Важно помнить, что в социальном мире существует ряд неизбежностей. Попытки полного контроля над источниками информации и каналами ее распространения редко бывают успешными по причине либо антитрестовского законодательства, нацеленного на предотвращение монополии, либо благодаря упорным и творческим ответам на это пользователей СМИ, которые находят альтернативные пути к информации. Пользователи СМИ — это не «культурные незнайки», которыми можно легко манипулировать в корпоративных интересах; по мере того как границы и объем форм и содержания СМИ расширяются, индивиды становятся более, а не менее подкованными, интерпретируя и оценивая те послания и материал, с которыми они сталкиваются.────────────────────────────┐ ■ Телевидение в развивающихся странах Из доклада, заказанного для британских благотворительных организаций международной помощи, развития и окружающей среды, обнаружил, что качество и количество освещения событий на ТВ значительно упало за последние десять лет: общее число часов, отведенных на передачи о развивающихся странах как таковых, снизилось на 50 %. Некоторые каналы перешли на передачи, посвященные животным и путешествиям, другие просто сократили часы вещания — ITV уменьшило объем своих передач более чем на 70 %. В этом докладе под названием «Теряя перспективу» (Losing Perspective) было обнаружено, что большинство передач, посвященных таким серьезных проблемам, как права человека, бедность и окружающая среда, выходили в эфир поздно вечером или рано утром, когда аудитория обычно малочисленна. Поскольку более 60 % передач о развивающихся странах фокусируются на мире диких животных и путешествиях, критики утверждают, что западный человек не сможет понять, как живут те 80 % населения земного шара, которые не обитают в «первом мире» (Stone 2000). ────────────────────────────┘
Медиаимпериализм
Основная позиция индустриальных стран, и в первую очередь США, при производстве и распространении СМИ заставила многих обозревателей заговорить о медиаимпериализме. Согласно этой точке зрения, была создана некая культурная империя. Менее развитые страны считаются особенно ранимыми в этом вопросе, ибо у них нет ресурсов, чтобы поддерживать свою собственную культурную независимость. Центральные офисы всех двадцати самых крупных в мире медиаконгломератов находятся в индустриальных странах, и большинство из них — в Соединенных Штатах. Такие медиаимперии, как AOL-Time Warner, Disney/АВС и Viacom, базируются в США. Другие крупные медиакорпорации, не считая империи Murdoch, речь о которой пойдет ниже, включают японскую Sony Corporation (которая владеет CBS Records и Columbia Pictures), немецкую группу Bertelsmann (которой принадлежат RCA Records и целый набор базирующихся в США издательств), а также Mondadore — телевизионную корпорацию, принадлежащую бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. С помощью электронных СМИ культурная продукция Запада действительно широко распространилась по миру. Пико Айер говорит о «видео-вечеринках в Катманду», о посещении дискотек на Бали (Iyer 1989). Американские видео-СМИ распространены в исламской республике Иран, так же как и аудиокассеты с записями западной популярной музыки, которые привозят и продают на черном рынке (Sreberny-Mohammadi 1992). В 1999 г. были объявлены планы строительства «Диснейленда» в Гонконге — парк в основном будет повторять американские аттракционы, а не отражать местную культуру. Как отметил глава программы строительства развлекательных Дисней-парков, это еще только начало: «Страна с населением 1,3 млрд чел., в которой существует только один „Диснейленд“, уступает США, где всего лишь на 280 миллионов человек приходится пять подобных развлекательных парков» (цит. по: Gittings 1999).Всемирная популярность голливудских фильмов рассматривается в подразделе «Масскультура» (глава 3, раздел «Влияние глобализации на нашу жизнь»).
Проблема, однако, касается не только более популярных форм развлечения. Контроль западных агентств над новостями мира, как предполагают, означает превалирование «воззрений первого мира» в передаваемой информации. Таким образом утверждалось, что внимание развивающимся странам в новостных передачах уделяется только во время катаклизмов, кризиса или военных конфликтов и что архивы ежедневных новостей другого плана, которые ведутся для стран индустриального мира, не поддерживаются для стран развивающегося мира.
────────────────────────────┐ ■ Телевидение в Китае: «в центре культурной бури» Спустя более десяти лет после драматичных событий 1989 г. — падения Берлинской стены и конца холодной войны между Востоком и Западом — телевидение играет центральную роль в борьбе, которая ведется за демократизацию Китайской Народной Республики. Противоречивая природа глобализации четко видна на примере Китая — страны, в которой идут бурные культурные и экономические преобразования под неусыпным оком Китайской коммунистической партии. В рамках программы модернизации, начатой более двадцати лет назад, китайское правительство занялось расширением системы национального телевидения и поощряло покупку гражданами телевизоров. Правительство считало телевизионное вещание средством объединения страны и поддержки авторитета партии. Однако телевидение — весьма изменчивое СМИ. В эпоху спутниковых каналов не только не получается жестко контролировать телевещание, но китайская аудитория продемонстрировала свое желание интерпретировать увиденное по ТВ совершенно иначе, чем это было угодно правительству (Lull 1997). Джеймс Лалл, опросив более 100 китайских семей, обнаружил, что китайские зрители, подобно зрителям других стран, живших при коммунистическом режиме, были «мастерами интерпретации, читавшими между строк, чтобы получить сведения менее очевидные». В своих интервью Лалл отмечал, что респонденты описывали не только то, что они смотрели, но и то, как они это смотрели. «Поскольку зрители знают, что правительство в своих репортажах зачастую изменяет или преувеличивает информацию, они научились додумывать то, что могло произойти на самом деле. Что передается, что опускается, чему отдается предпочтение, как об этом рассказывается — все эти моменты замечаются и пристально интерпретируются» (Lull 1997, 266–267). Лалл пришел к заключению, что многое из увиденного китайскими зрителями по ТВ — в основном в импортных фильмах и в рекламе, — противоречит образу жизни и возможностям в их собственном обществе. Смотря телепрограммы, содержание которых подчеркивает особое значение отдельной личности и общества потребителей, многие китайские зрители чувствовали, что их собственные возможности в жизни были ограничены. Телевидение донесло до китайской аудитории, что другие социальные системы, оказывается, функционируют более мягко и дают больше свободы, чем их собственная. Лалл приходит к выводу, что телевидение подчеркнуло фундаментальное противоречие между «монолитом» вещания правящей Коммунистической партии и «альтернативными реалиями», которые можно увидеть по ТВ. Он считает, что телевидение находится «в центре культурной бури» — полемики о будущем Китая. Телевидение стало средством агитации, которое подтверждает и усиливает народное недовольство отсутствием личной свободы, нестабильной экономикой и закоснелой бюрократией. ────────────────────────────┘
Герберт Шиллер заявил, что контроль фирм США над мировыми коммуникациями должен рассматриваться относительно ряда различных факторов. Он утверждает, что американские ТВ- и радиокомпании все в большей степени попадают под влияние федерального правительства, и в особенности — департамента обороны США. Он отмечает, что RCA, которая владеет теле- и радиокомпаниями NBC, также является основным юридическим лицом в субдоговоре об обороне с Пентагоном, главным органом вооруженных сил США. Американский телевизионный экспорт, а также реклама распространяют коммерциализацию культуры, что разрушает местные способы культурного выражения. Даже там, где правительства запрещают коммерческое вещание на своей территории, сигналы радио и телевидения из близлежащих стран зачастую могут приниматься напрямую. Шиллер утверждает, что несмотря на то, что американцы были первыми, кого коснулся «корпоративный кокон... то, что происходит сейчас, есть создание и глобальное распространение новой тотальной корпоративной информационно-культурной среды» (Schiller 1989, 168, 128). Поскольку американские корпорации и культура доминируют во всем мире, они «подавили немалую его часть» настолько, что «американское культурное господство...определяет рамки национального дискурса» (Schiller 1991, 22).
────────────────────────────┐ ■ Медиапредприниматели: Руперт Мердок Руперт Мердок — это предприниматель родом из Австралии, являющийся главой одной из крупнейших мировых медиаимперий. Собственность News Corporation включает в себя девять различных СМИ, действующих на шести континентах. В 1996 г. корпорация получила более 10 млрд долл. от объема продаж. Мердок основал News Corporation в Австралии, прежде чем перейти на британский и американский рынки в 1960-е. Его первые покупки — News of the World и Sun в Великобритании в 1969-м и New York Post в середине 1970-х — проложили путь к значительному расширению компании с помощью более поздних приобретений. Сейчас в собственность News Corporation входят более 130 газет в Сан-Антонио, Бостоне, Чикаго и других городах. Мердок превратил многие из этих газет в издания сенсационной журналистики, построенные на трех китах — сексе, преступности и спорте. К примеру, Sun стала очень популярной, с тиражом более 4 млн экземпляров в день. В 1980-е Мердок взялся за телевидение, основав Sky TV, спутниковую и кабельную сеть, которая после изначальной полосы неудач оказалась в итоге коммерчески успешной. Ему также принадлежит более 64 % компании Star TV, которая базируется в Гонконге. Заявленная стратегия этой компании — «контролировать воздушное пространство» по спутниковым передачам от Японии до Турции, включая огромные рынки Индии и Китая. Компания имеет пять каналов, одним из которых является канал «Международные новости Би-би-си» (ВВС world news). В 1985 г. Мердок купил половину акций Twentieth Century-Fox — кинокомпании, которой принадлежат права на более чем 2 000 фильмов. Его телевещательная компания Fox появилась в 1987 г. и стала четвертой основной телекомпанией в США после ABC, CBS и NBC. Сейчас Мердоку принадлежат 22 американские телестанции, которые отвечают за 40 % домов в США, имеющих ТВ. Он контролирует 25 журналов, включая популярный TV Guide, а в 1987 г. купил американское издательство Harper and Row, теперь переименованное в HarperCollins. В последние годы Мердок активно инвестировал средства в прибыльную индустрию цифрового спутникового телевидения, особенно в освещение прямых трансляций спортивных мероприятий, таких как баскетбол и американский футбол. Согласно Мердоку, освещение новостей спорта является «тараном» News Corporation для вторжения на новые рынки СМИ (Herman and McChesney 1997). Поскольку спортивные мероприятия лучше всего смотреть в прямом включении, они приспособляемы к формату «пэй-пер-вью» (pay-per-view) (передачи, оплачиваемые зрителями по отдельному тарифу. — Прим. перев.), который является прибыльным для Мердока и рекламодателей. Конкуренция между News Corporation и другими медиаимпериями за права вещания на основные даты спортивных событий является жесткой, поскольку всемирный спрос на спорт затмевает другие типы мероприятий. Правительства могут навредить Мердоку, поскольку, по крайней мере внутри своих собственных границ, они в состоянии ввести законопроект, ограничивающий комбинированную собственность на СМИ, т. е. такую ситуацию, когда одна и та же фирма владеет несколькими газетами и ТВ-станциями. Европейское сообщество также выразило беспокойство относительно господствующего положения очень крупных медиакорпораций. Однако, учитывая глобальность ее распространения, власть Мердока ограничить непросто. Он имеет достаточный вес, чтобы влиять на правительства, но и бизнес телекоммуникаций по самой своей природе одновременно находится и всюду, и нигде. В своей речи, произнесенной в октябре 1994 г., Мердок осудил тех, кто считает его медиаимперию угрозой демократии и свободе полемики. «Поскольку капиталисты всегда пытаются выстрелить друг другу в спину, — утверждает Мердок, — свободные рынки не ведут к монополии. По сути дела, монополии могут существовать только тогда, когда их поддерживают государства». «В нашей News Corporation, — продолжил Мердок, — работают люди просвещенные». Он обнаружил, что в Индии, где можно было поймать сигнал телевизионных трансляций Star TV, тысячи частных операторов вложили деньги в спутниковые тарелки и нелегально продавали передачи Star TV. Мердок утверждал, что ему ничего не остается, как только им поаплодировать! В заключение он сказал, что News Corporation будет рада «долгому партнерству с этими замечательными предпринимателями» (Murdoch 1994). В течение некоторого времени Мердок был главой крупнейшей медиаорганизации из когда-либо существовавших. Однако в 1995 г., при слиянии компании Disney с АВС, его превзошли. Глава Disney Майкл Айзнер дал четко понять, что он собирается бороться с Мердоком на быстро развивающихся рынках Азии. Ответом Мердока на это слияние была фраза: «Теперь они вдвое больше меня». Затем он добавил: «Более крупная мишень». Недавнее слияние AOL и Time Warner стало еще одной мишенью для Мердока, но кажется, что его влияние от этого вызова не уменьшится. Директора компаний Disney, Time Warner и Viacom отмечали, что Мердок — медиаруководитель, которого они больше всего уважают и больше всех боятся, и чьи действия они изучают самым пристальным образом (Herman and McChesney 1997). ────────────────────────────┘
Глобальные СМИ и демократия
В своей работе о глобальных СМИ Эдвард Херман и Роберт Макчесни рассматривают воздействие международных СМИ на деятельность демократических государств (Herman and McChesney 1997). С одной стороны, распространение глобальных источников информации может успешно заставить авторитарные правительства ослабить власть над контролируемыми государством источниками вещания. Поскольку становится все труднее удерживать медиапродукцию внутри страны, многие «закрытые» общества начинают осознавать, что СМИ может стать мощной силой в деле поддержки демократии (см. врезку «Телевидение в Китае: „в центре культурной бури“»). Мы с вами увидели, что даже в таких многопартийных политических системах, какая существует в Индии, коммерциализация телевидения сделала взгляды политиков-оппозиционеров более известными (см. врезку «Телевидение и глобализация: ситуация в Индии» в разделе «Газеты и телевидение» этой главы). Глобальные СМИ сделали возможным широкое распространение таких точек зрения, как индивидуализм, уважение к правам человека и поддержка прав меньшинств. Однако Херман и Макчесни также подчеркивают те опасности и угрозу, которые представляют собой глобальные СМИ для нормального функционирования демократии. По мере того как глобальные СМИ становятся все более концентрированными и коммерциализованными, они посягают на деятельность важной «сферы публичного» так, как это описано у Хабермаса (см. раздел «Теории СМИ» этой главы). Они утверждают, что коммерциализованные СМИ во многом обязаны рекламе с ее мощной способностью приносить доход и вынуждены отдавать предпочтение тому, что гарантировало бы высокие рейтинги и продажи. В результате сфера развлечений непременно преобладает над полемикой и дебатами. Эта форма самоцензуры в СМИ ослабляет участие граждан в общественных делах и ухудшает людское понимание общественных проблем. Согласно Херберту и Макчесни, глобальные СМИ являются немногим более чем «новыми миссионерами глобального капитализма»: некоммерческое медиапространство планомерно захватывается теми, кто хочет найти ему «наилучшее экономическое применение» (Herman 1998). С их точки зрения, «культура развлечений», проталкиваемая медиаинститутами, постоянно уменьшает сферу публичного и подрывает деятельность демократии.Сопротивление и альтернативы глобальным СМИ
Хотя сила и размах глобальных СМИ не подлежат сомнению, во всех странах существуют силы, которые могут замедлить медиаатаку и формировать характер соответствующей продукции таким образом, чтобы она отражала местные традиции, культуру и приоритеты. Религия, обычаи и народные воззрения — все это является хорошим тормозом глобализации СМИ, в то же время местные постановления и внутренние институты СМИ могут также сыграть роль в ограничении воздействия глобальных медиаисточников. Али Мохаммади исследовал реакцию исламских стран на силы глобализации СМИ (Mohammadi 1998). Подъем международных электронных империй, которые действуют повсеместно, воспринимается как угроза культурной индивидуальности и национальным интересам многих исламских стран. Согласно Мохаммади, сопротивление вторжению чужих форм СМИ варьировалось от сдержанной критики до полного запрета на западные спутники. Реакция на глобализацию СМИ и действия, предпринятые отдельными странами, во многом отражают их общий ответ наследию западного колониализма и вторжению современности. Анализируя реакцию исламских стран на глобализацию СМИ, Мохаммади делит эти страны на три широкие категории: модернистские, смешанные и традиционные. Вплоть до середины 1980-х большинство телевизионных передач в исламском мире производилось и распространялось внутри национальных границ или через Арабсат (Arabsat) — пан-арабскую спутниковую вещательную компанию, состоящую из двадцати двух государств. Либерализация вещания и сила глобального спутникового ТВ преобразовали структуру телевидения в исламском мире. События войны в Персидском заливе 1991 г. поместили Ближний Восток в центр внимания глобальной индустрии СМИ, а также в значительной степени повлияли на телевизионное вещание и потребление внутри самого региона. Спутники быстро распространялись — Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, Дубай, Тунис и Иордания к 1993 г. обзавелись спутниковыми каналами. К концу десятилетия большинство исламских стран установило свои собственные спутниковые каналы, а также имело доступ к программам СМИ со всего мира. Однако в некоторых исламских государствах темы и материалы, которые освещались по западному телевидению, создавали напряженную обстановку. Программы, связанные с гендерными отношениями и правами человека, вызывали особенно много полемики; например, в Саудовской Аравии больше нет трансляции ВВС Arabic из-за беспокойства, вызванного ее освещением проблем прав человека. Три исламских государства — Иран, Саудовская Аравия и Малайзия — запретили доступ к западному спутниковому телевидению. Иран был и является наиболее стойким противником западных СМИ, заклеймив их как источник «культурного засорения» и проталкивания западных потребительских ценностей. Такая сильная реакция, однако, является мнением меньшинства. Мохаммади приходит к выводу, что несмотря на то, что исламские страны ответили на глобализацию СМИ попытками сопротивления или предоставления альтернативы, большинство из них сочли необходимым внести определенные изменения в свою культуру с целью поддержания их собственной культурной индивидуальности. «Традиционалистский подход», выбранный Ираном и Саудовской Аравией, с его точки зрения, уступает реакциям, основанным на адаптации и модернизации (Mohammadi 1998).Проблема регулирования СМИ
Подъем и влияние медиапредпринимателей и крупных медиакомпаний беспокоят многих. Это вызвано тем, что подобные корпорации занимаются не только продажей товаров, но и влияют на мнение людей. Владельцы подобных корпораций, как например Мердок, не делают секрета из своих политических взглядов, что является неизбежной причиной для тревоги у политических партий и других групп, которые придерживаются иных политических воззрений. Мнение Мердока о том, что только правительства создают монополии, отчасти справедливо. Мердок не является поставщиком монополии и чтобы добиться того положения, которое он сейчас занимает, он не раз шел на риск и терпел убытки. Ему приходится конкурировать не только с другими медиагигантами, такими, например, главой которых является Айзнер, но и с целым рядом других противников. Однако идея о том, что рыночная конкуренция не дает крупным фирмам господствовать над индустриями, является по меньшей мере сомнительной. Все страны, признавая это, принимают меры предосторожности, с помощью которых они пытаются контролировать владение СМИ. Но сколь серьезными должны быть эти меры? И могут ли национальные правительства вообще питать какую-либо надежду на контроль над медиапредприятиями, принимая во внимание их глобальный характер? Проблема регулирования СМИ является более сложной, нежели она может казаться на первый взгляд. Кажется очевидным, что в общественных интересах следует иметь разнообразные медиаорганизации, так как это с большой вероятностью обеспечит ситуацию, при которой к мнению различных групп и к различным перспективам будут прислушиваться. Однако наложение ограничений на то, кто чем имеет право владеть и какие формы медиатехнологий они могут использовать, может повлиять на экономическое преуспевание сектора СМИ. Страна с множеством ограничений может начать отставать — индустрии СМИ являются одним из наиболее быстро растущих секторов в современной экономике. Критики концентрации СМИ говорят, что крупные медиакомпании обладают слишком большой властью. Предприятия, с другой стороны, утверждают, что если они подвергнутся регулированию, они будут не в состоянии принимать эффективные коммерческие решения и проиграют своим мировым конкурентам. Более того, их интересует, кто же будет заниматься регулированием. Кто же будет регулировать регулировщиков? Общей ниточкой политики регулирования СМИ, возможно, является признание того, что одновременное господство на рынке двух-трех крупных медиакомпаний угрожает и экономической конкуренции, и демократии — поэтому владельцы СМИ не избираются. Здесь может быть применено существующее антимонопольное законодательство, хотя оно довольно сильно отличается от страны к стране в Европе и других индустриальных странах. Конкуренция означает или должна означать плюрализм, а последний предположительно годится для демократии. Но достаточно ли одного плюрализма? Многие называют США, когда спорят о том, что наличие множества медиаканалов не гарантирует качества или достоверности содержания. Некоторые считают, что поддержание сильного сектора общественного вещания является наиболее важным моментом для предотвращения господства крупных медиакомпаний. Однако системы общественного вещания, каковой в Великобритании является Би-би-си, создают свои собственные проблемы. В большинстве стран они превращаются в монополии, а во многих становятся орудием правительственной пропаганды. Здесь особенно остро встает вопрос о том, кто должен регулировать регулировщиков. Проблемой, которая усложняет вопрос о регулировании СМИ, является весьма стремительный темп технологических изменений. СМИ постоянно трансформируются в связи с техническими новшествами, и формы технологии, которые когда-то были отдельными друг от друга, сегодня объединяются. Какой тип регулирования применим, например, при просмотре телепередач через Интернет? Среди стран — членов ЕС центральным вопросом на повестке дня является проблема конвергенции СМИ и телекоммуникаций. Хотя некоторые видят потребность в координированном законодательстве, которое приведет к согласию телекоммуникации, вещание и информационные технологии в Европе, осуществить это нелегко. Роль ЕС в вопросе регулирования СМИ остается слабой, и поправки в текущий законопроект «Телевидение без границ» будут внесены лишь в 2002 г.Заключение
По отдельности люди не в состоянии контролировать технологические изменения, и один лишь темп, в котором они происходят, угрожает сделать нашу жизнь слишком перегруженной. Часто приводимое понятие «сверхскоростного информационного шоссе» предполагает наличие точной дорожной карты, тогда как влияние новых технологий часто воспринимается нами как хаотичное и приносящее лишь вред. Однако появление мира, соединенного проводками, пока никоим образом не привело к необычайно негативным ситуациям, предсказываемым некоторыми скептиками. В результате появления Интернета мы не стали жить, как в телепередаче «Старший брат»[13]: скорее наоборот, Интернет послужил децентрализации и индивидуализму. Несмотря на необыкновенную шумиху, вызванную потенциальным крахом глобальной компьютерной инфраструктуры в начале нового тысячелетия — по причине так называемой «проблемы 2000 года», — этот момент истории прошел относительно спокойно. И наконец, книги и другие СМИ «доэлектронного периода» вряд ли исчезнут. Несмотря на объемистость, книга удобнее в использовании, нежели ее компьютеризованный вариант. Даже Билл Гейтс счел необходимым написать книгу о предвкушаемом им новом мире высоких технологий.Краткое содержание
1. СМИ стали играть очень важную роль в современном обществе. СМИ — это средства связи, а именно газеты, журналы, телевидение, радио, кино, видео, компакт-диски и пр., и их воздействие на нашу жизнь глубоко. СМИ не только поставляют развлечения, но и обеспечивают и придают форму той информации, согласно которой мы действуем в нашей повседневной жизни. 2. Газеты относятся к одним из наиболее важных СМИ раннего периода. Они продолжают иметь вес, но их дополнили другие, более новые СМИ, в особенности телевидение и Интернет. 3. Наряду с Интернетом, телевидение является самым важным изобретением в области СМИ за прошедшие сорок лет. В большинстве стран государство непосредственно вовлечено в управление телевизионным вещанием. Спутниковая и кабельная технологии в значительной степени меняют характер телевидения; по мере того как становятся доступными множество каналов, некоммерческое телевидение теряет часть своей аудитории, а правительства не могут в той же степени контролировать содержание телепередач. 4. Было предложено несколько различных теорий СМИ. Иннис и Маклуан утверждали, что СМИ влияют на общество в большей степени от того, как они подают материал, а не что они передают. По словам Маклуана, «средство определяет содержание»: ТВ, например, влияет на поведение и воззрения людей, потому что оно так сильно отличается от других СМИ, таких как газеты или книги. 5. Другими важными теоретиками являются Хабермас, Бодрийяр и Томпсон. Хабермас отмечает роль СМИ в создании «сферы публичного» — сферы общественного мнения и публичных дебатов. На Бодрийяра в значительной степени повлиял Маклуан. Он считает, что новые СМИ, в особенности телевидение, на самом деле меняют ту «реальность», в которой мы находимся. Томпсон утверждает, что СМИ создали новую форму социального взаимодействия — «опосредованное квазивзаимодействие», — более ограниченное, узкое и одностороннее, нежели повседневное социальное взаимодействие. 6. За последние несколько лет прогресс в области технологии новых средств связи преобразовал телекоммуникации — передачу текста, звуков или образов на расстояние с помощью технологических устройств. Переход на цифровые носители, волоконная оптика и спутниковые системы — вместе все это облегчает задачи мультимедиа — комбинацию нескольких форм СМИ в одном, — и интерактивных медиа, которые позволяют индивидам активно участвовать в том, что они увидели или услышали. В данный момент важнейшее место среди нововведений в области телекоммуникаций занимают мобильные телефоны. 7. Интернет позволяет оказаться на небывалом ранее уровне взаимосвязанности и интерактивности. Число пользователей Интернета во всем мире продолжает стремительно расти, а круг задач, которые могут выполняться в сети, продолжает расширяться. Интернет дает нам новые интересные возможности, но некоторые обеспокоены тем, что он может ухудшить человеческие взаимоотношения и подорвать роль общины, способствуя социальной изоляции и анонимности. 8. За последние тридцать лет в индустрии СМИ произошла глобализация. Можно отметить несколько тенденций: собственность СМИ все чаще сконцентрирована в крупных медиаконгломератах; частное владение СМИ затмевает общественное; деятельность медиакомпаний простирается за пределы национальных границ и стала более разнообразной; объединения медиакомпаний стали более частым явлением. В глобальной индустрии СМИ — музыке, телевидении, кино, новостях — господствует небольшое число многонациональных корпораций. 9. Сегодняшнее ощущение проживания в едином мире — во многом результат международного размаха СМИ и коммуникаций. Появился мировой информационный порядок — международная система производства, распространения и потребления информационной продукции. Учитывая то, что главное положение в мировом информационном порядке занимают индустриальные страны, многие считают, что развивающиеся страны подвергаются новой форме медиаимпериализма. Многие критики обеспокоены тем, что концентрация медиавласти в руках нескольких влиятельных лиц подрывает дело демократии.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Должны ли правительства пытаться защищать национальные культуры с помощью ограничения распространения спутникового и кабельного ТВ? 2. Если бы единственным источником информации у вас были сериалы, каким образом ваше представление о своей стране было бы искаженным или неполным? 3. Уменьшают СМИ или же увеличивают возможности для публичных дебатов? 4. Кем бы вы могли быть в Интернете? 5. Привела ли концентрация собственности в области музыкальной индустрии к уменьшению выбора для потребителя? 6. Улучшит ли глобализация коммуникаций наше понимание культурных различий или же уничтожит последние?Дополнительная литература
Barker Chris. Television, Globalization and Cultural Identities. Buckingham: Open University Press, 1999. Cook Timothy E. Governing with the News: The News Media as a Political Institution. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. Lacey Nick. Narrative and Genre. Houndmills: Macmillan Press, 2000. Slevin James. The Internet and Society. Cambridge: Polity, 2000. Thussu Daya Kishan. Electronic Empires. London: Arnold, 1998.Интернет-линки
Фонд исследований информационной политики (Соединенное Королевство) http://www.fipr.org Модернистский журнальный проект www.modjourn.brown.edu Обзор новостей http://www.newswatch.org Организация экономического сотрудничества и развития и Информационная компания www.oecd.org/dsti/sti/it Калифорнийский университет. Лос-Анджелес. Исследования культуры Запада http://www.qseis.uda.edu/courses/ed253a/253WEBB.htmГЛАВА 16 ОБРАЗОВАНИЕ
Многие из читателей этой книги, вероятно, учатся в университетах или в скором времени станут студентами. Вполне возможно, что, изучая социологию, вы какое-то время проводите в аудитории, а в остальное время работаете самостоятельно. По всей вероятности, вы сидите в аудитории бок о бок со своими сокурсниками, с которыми встречаетесь раз в неделю или чаще, а с основными понятиями социологии вас знакомит преподаватель или научный руководитель, который читает лекции, проводит обсуждения, а также дает консультации и в определенные часы встречается с прикрепленными к нему студентами. По существу, значительная часть процесса образования протекает в указанных формах, сочетающих личный контакт студента с преподавателем, коллективную работу совместно с другими студентами и самостоятельное изучение предмета. Но что же произойдет, если та часть образования, которая связана с личными контактами, будет устранена и можно будет пройти полный курс обучения, ни разу лично не встретившись ни с сокурсниками, ни с преподавателем? Такую возможность до самого последнего времени представить себе было очень трудно. Хотя заочная форма обучения уже давно позволила людям получать образование вне формальной обстановки образовательных учреждений, заочные курсы не являются ни широко распространенными, ни интерактивными по своему характеру. Открытый университет, основанный в Великобритании в 1971 г., был первопроходцем в использовании телевидения при дистанционной форме получения высшего образования. Программы Открытого университета передаются Би-би-си рано утром и поздно вечером. Студенты сочетают занятия в этой форме с изучением научной литературы, перепиской с преподавателями и личными встречами с наставником, а также работой на летних курсах, которые они посещают вместе с другими студентами. Таким образом они могут слушать лекции самых высококвалифицированных специалистов, находясь дома, а часто даже на рабочем месте. Открытый университет превратился в крупнейший университет Соединенного Королевства, и он все больше использует сейчас возможности Интернета, но все-таки в нем сохраняется и такая форма, как встречи преподавателей со своими студентами. Другой пример образовательных учреждений нового поколения, использующих возможности Интернета для революционного преобразования традиционного облика обучения, — это университет Финикса в Соединенных Штатах. Университет Финикса был основан в 1989 г. и является сейчас крупнейшим имеющим аккредитацию университетом в США. Однако в отличие от большинства крупных американских университетов он не может похвастаться ни поросшими травой территориями кампуса, ни огромной библиотекой, ни футбольной командой или студенческим центром. Обучающиеся в университете 68 тыс. студентов общаются преимущественно посредством Интернета — «онлайновый кампус» университета Финикса — или в одном из более пятидесяти «учебных центров», расположенных в крупных городах по всей Северной Америке. Университет Финикса предлагает для получения степени свыше двенадцати образовательных программ, которые можно изучать исключительно в режиме онлайн, что делает реальное местожительство студента не имеющим значения. Онлайновые «групповые почтовые ящики» заменяют подлинные аудитории: вместо того чтобы лично излагать свои идеи или обсуждать их, студенты отсылают свои работы в «электронную аудиторию», чтобы их прочитали другие студенты и преподаватель. Для завершения исследования и чтения необходимой литературы в распоряжении студентов имеется электронная библиотека. В начале каждой недели преподаватель рассылает по Интернету список материалов для изучения, рассчитанный на неделю, и темы для обсуждения. Студенты выполняют работу в соответствии со своим собственным расписанием — они имеют доступ в «электронную аудиторию» в любое время дня и ночи, а преподаватели оценивают выполненные задания и возвращают их студентам со своими замечаниями. Дело не только в том, что в университете Финикса используется иной, новый способ обучения. Университет Финикса принимает только тех студентов, кто старше двадцати трех лет и кто имеет постоянную работу. Как структура, так и содержание курсов, предлагаемых данным университетом, ориентированы на взрослых людей, уже получивших образование, но желающих приобрести новые знания и профессиональные навыки путем непрерывного образования таким образом, чтобы это не мешало их напряженной личной и профессиональной жизни. По этой причине курсы читаются в виде интенсивных блоков, рассчитанных на пять-восемь недель, и ведутся указанные курсы непрерывно в течение всего года, а не в соответствии с режимом работы обычных учебных заведений. Университет Финикса отличается от традиционных университетов еще в одном, более важном отношении — это учебное заведение приносит прибыль и владеет им корпорация под названием «Аполло Коммуникации». Спустя десять лет после основания университет Финикса получал ежеквартально в среднем 12,8 млн долл. прибыли. Как мы вскоре увидим, все большее число образовательных учреждений в Соединенных Штатах, Великобритании и других странах управляются не государством, но частными лицами. Приглашенные со стороны организации, специализирующиеся в области управления или в создании и распространении технологий, все более вовлекаются в систему образования в качестве консультантов или администраторов. Нельзя отрицать гибкость и удобство обучения, использующего Интернет, однако такой подход не избежал критики. По мнению многих, ничто не может заменить непосредственный контакт, лицом к лицу, в подлинно интерактивной обстановке. Станут ли будущие поколения учащихся лишь сетью безымянных студентов, известных только по их псевдонимам, которыми они пользуются в Интернете? Подорвет ли практическое обучение, ориентированное на приобретение навыков, значимость абстрактного мышления и учения «ради учения»? В настоящей главе мы рассмотрим некоторые пути, по которым идет перестройка образования в связи с изменениями в технологии и новыми требованиями, предъявляемыми глобальной экономикой знания. Мы исследуем возникновение и развитие системы образования в Великобритании и обсудим политические споры, которые возникли в связи с проблемами образования, и ту роль, которую играют в школе новые информационные технологии. После обзора некоторых основных теоретических подходов к образованию мы обратимся к вопросу о неравенстве в сфере образования, учитывая, что такое неравенство связано с гендером, этнической принадлежностью и классом. Завершат данную главу некоторые соображения по поводу природы мыслительной деятельности и по поводу того, как важно продолжать учиться всю жизнь.Меняющаяся роль образования
Хотя большинство граждан индустриальных стран принимает современное образование как нечто само собой разумеющееся, такое образование, предполагающее обучение учеников в специально построенных школьных зданиях, прошло долгий путь развития. На протяжении столетий официальное образование было доступно лишь немногим, обладавшим необходимыми для этого временем и деньгами. До того как в 1454 г. был изобретен печатный станок, книги старательно переписывались от руки, их поэтому было мало и стоили они дорого. Чтение не было занятием ни необходимым, ни даже полезным в повседневной жизни многих людей. Для подавляющего большинства населения взрослеть означало учиться путемподражания тем же социальным обычаям и практическим трудовым навыкам, какие были присущи старшим в семье. Дети с раннего возраста начинали помогать взрослым в работе по дому, на ферме и в ремесле, приобретая к пятнадцати годам много познаний о земле и сноровку в ремесле. Местные обычаи передавались от поколения к поколению, а устная традиция сказительства обеспечила сохранность легенд и эпических произведений в живой динамической форме. В эпоху, которая предшествовала современной, все коренным образом изменилось. В настоящее время в индустриальных странах грамотность является высокой — это означает, что почти все граждане этих стран умеют читать и писать на определенном базовом уровне. Почти все члены общества осознают свою принадлежность к этому обществу и имеют хотя бы некоторое представление о его географическом положении в мире и о его прошлой истории. В любом возрасте после младенчества на нашу жизнь оказывает влияние информация, которую мы черпаем из книг, газет, журналов и телевизионных передач. Мы все проходим через процесс официального школьного обучения. Неотъемлемой принадлежностью нашего образа жизни стали печатное слово и электронная коммуникация в сочетании с официальным обучением, которое дают школы и колледжи.Образование и индустриализация
Процесс индустриализации и расширения городов оказал значительное влияние на развитие системы образования. Почти вплоть до первых десятилетий XIX в. большинство населения вообще не получало школьного образования. Но в связи с быстрым распространением индустриальной экономики возникла большая потребность в специализированном школьном обучении, которое могло бы поставлять образованную, умелую рабочую силу. По мере того как виды трудовой деятельности становились все более дифференцированными, а место работы все больше удалялось от дома, стало невозможно передавать рабочие навыки непосредственно от родителей к детям. По мере того как системы образования становились всеобщими, все больше и больше людей охватывалось обучением абстрактным наукам (изучением таких предметов, как математика, естественные науки, история, литература и т. п.), а не практической передачей конкретных умений и навыков. В современном обществе люди должны обладать основными навыками, такими как чтение, письмо, счет и общими познаниями в окружающем их физическом, социальном и экономическом мире, но очень важно также, чтобы они знали, как учиться, и могли бы овладеть новыми, часто очень специальными, формами информации. Развитое общество нуждается также и в «чистых» исследованиях и озарениях, не приносящих непосредственной практической выгоды, но раздвигающих пределы человеческих познаний. В наше время образование и квалификация стали важным условием для получения работы и карьерного роста. Школы и университеты не только расширяют умственные горизонты людей и их перспективы, но они должны, как ожидается, готовить новые поколения граждан к участию в экономической жизни. Найти правильное соотношение между общим образованием и специальными трудовыми навыками — задача не из легких. Специализированные формы технического, профессионального и производственного обучения часто дополняют «свободное» образование школьников и облегчают переход от школы к работе. Системы интернов и программы приобретения рабочего опыта, например, позволяют молодым людям получить конкретные знания, применимые в их будущей карьере. В то время как многие учителя в школах и университетах стараются в первую очередь дать ученикам всестороннее образование, политики и работодатели озабочены тем, чтобы обеспечить соответствие программ по образованию и обучению направлению экономического развития страны и потребностям рынка труда. Вместе с тем во времена быстрых экономических и технических изменений не всегда наблюдается полное соответствие между приоритетами образовательной системы и доступностью рабочих мест в той или иной профессии. Так, быстрое расширение в стране системы здравоохранения резко увеличило бы потребность в квалифицированных специалистах-медиках, в лаборантах и способных администраторах и аналитиках компьютерных систем, знакомых с проблемами общественного здравоохранения. Охватившие всю промышленность изменения в технологии фабричного производства, возможно, потребуют рабочей силы, обладающей таким набором навыков, которого, вполне вероятно, будет недоставать на рынке труда.Образование в Великобритании: возникновение и развитие
Хотя в большинстве западных стран современная система образования сложилась в начале XIX в., Великобритания гораздо дольше, чем большинство других стран, сопротивлялась установлению интегрированной национальной системы. Если к середине 1800-х гг. Голландия, Швейцария и немецкие государства добились более или менее всеобщего охвата населения начальным школьным обучением, то Англия и Уэльс далеко отстали в этом отношении. В Шотландии образование достигло несколько более высокого уровня развития. Между 1870 г. (когда в Великобритании впервые было введено обязательное образование) и Второй мировой войной сменявшие друг друга правительства увеличивали расходы на образование. Минимальный возраст, позволявший оставить школу, был поднят с десяти до четырнадцати лет, строилось все больше и больше школ, но в действительности образование не считалось важной областью для вмешательства государства (Chapman 1986). Большинством школ управляли частные лица, или церковные власти под наблюдением местных государственных органов. Вторая мировая война изменила подобное отношение. Новобранцев при приеме в вооруженные силы подвергли тестированию способностей и грамотности, и результаты шокировали власти, продемонстрировав весьма низкий уровень образования новобранцев. Обеспокоенное перспективами послевоенного восстановления, правительство было вынуждено пересмотреть существующую систему образования. До 1944 г. огромное большинство британских школьников посещало единственную бесплатную школу — общеобразовательную государственную (elementary) школу — до достижения возраста четырнадцати лет. Наряду с общеобразовательными школами существовали средние школы, но в них за обучение детей родители должны были платить. Такая система четко разделяла детей в соответствии с границами социальных классов — дети из более бедных семей почти все ограничивались общеобразовательным обучением. Менее 2 % населения поступало в университеты. Закон об образовании 1944 г. ввел несколько важных изменений, включая бесплатное среднее образование для всех, увеличение возраста ухода из школы до пятнадцати лет и провозглашение равенства возможностей получения образования. Ответственность за образование была возложена на местные выборные органы. После введения этого закона большинство местных властей в области образования приняло отбор на основе академической успеваемости как основной принцип для предоставления среднего образования, специально приспособленный к нуждам детей. Отбор учеников по успеваемости в возрасте одиннадцати лет, в возрасте, когда дети переходят из начальной школы в среднюю, должен был, как предполагалось, отделить детей способных от остальных детей, независимо от их социального происхождения. Для большей части детей результаты экзамена «элевен-плас»[14] определяли, пойдут ли они в классические средние школы (которые давали углубленное общее образование с изучением нескольких классических языков) или в средние современные школы (которые давали смешанное общее и профессиональное образование)[15]. Кроме того, небольшая часть детей шла в технические школы или в школы специальные. Все подростки, которые признавались способными и хотели продолжать учебу, могли оставаться в школе до достижения семнадцати лет. К 1960 гг., частично в результате социологических исследований, стало очевидно, что система «элевен-плас» не оправдала ожиданий. В 1959 г. Доклад Кроутера засвидетельствовал, что только 12 % школьников остаются в школе до возраста семнадцати лет, причем уход из школы до достижения этого возраста, как было показано, более тесно связан с классовой принадлежностью учеников, чем с их академической успеваемостью. Правительство лейбористов, которое вернулось к власти в 1964 г., провозгласило создание единой средней школы (comprehensive school) и отказалось от деления школ на классические и средние современные, а также отменило отбор детей на основе экзамена в одиннадцать лет. В школах должны были вместе обучаться дети из семей, принадлежащих к разным классам. Возникла, однако, неясность относительно того, чему именно должна учить общеобразовательная единая средняя школа: должна ли она быть классической школой «для всех» или совершенно новым типом средней школы. Проблема так и не получила решения, и различные школы и различные регионы создали свои собственные подходы. Некоторые местные органы образования вообще воспротивились каким-либо изменениям, и в небольшом числе регионов классические школы существуют до сих пор.────────────────────────────┐ ■ Так называемые «публичные» школы Публичные школы в Великобритании представляют собой странное явление во многих отношениях. Начнем с того, что они отнюдь не являются общедоступными, но, напротив, частными, платными учебными заведениями. По степени независимости, которой они обладают от остальной части образовательной системы, и по той ключевой роли, которую они играют в обществе в целом, они не имеют аналогов в системах других стран. Во всех западных обществах существуют частные школы, в большинстве случаев связанные с определенными религиозными организациями, но ни в одной другой стране частные школы не являются ни столь эксклюзивными, ни столь влиятельными, как в Соединенном Королевстве. Формально публичные школы подлежат государственному контролю, но в действительности их касаются лишь очень немногие существенные пункты законодательства по вопросам образования. Их не затронул закон 1944 г., создавший систему государственных средних школ, и в подавляющем их большинстве до последнего времени сохранялось раздельное обучение. В Англии существует свыше 2 300 платных школ, и в них учится около 6 % населения. В их число входит множество различных учебных заведений, включая такие престижные школы, как Итон, Рагби или Чартерхаус, и кончая так называемыми «младшими» менее значительными публичными школами, названия которых неизвестны большинству людей. Некоторые деятели образования относят название «публичная школа» только к крупным платным школам. Это такие школы, которые были членами Ассоциации директоров (Headmasters' Conference), первоначально основанной в 1871 г. Вначале Ассоциация объединяла только полсотни школ. Сейчас число таких школ увеличилось до 233. Школы, подобные тем, что были названы выше — Итон, Рагби и др., — являются членами Ассоциации директоров. Люди, получившие образование в школах, входящих в Ассоциацию директоров, занимают ключевые посты в британском обществе. Исследование Айвана Рейда и его коллег, опубликованное в 1991 г., показало, например, что 84 % судей, 70 % директоров банков и 49 % высших государственных чиновников учились в школах-членах Ассоциации директоров (Reid et al. 1991). В соответствии с Законом о реформе образования 1988 г., все государственные школы должны следовать общенациональному стандартному учебному плану, который включает проведение экзаменов учащихся в семь, одиннадцать, четырнадцать и шестнадцать лет. Представители платных школ принимали участие в создании общенациональных учебных планов, однако следовать им эти школы не обязаны. Платные школы могут учить тому, чему они хотят, и они не обязаны подвергать экзаменам своих учеников. Большинство платных школ сделало выбор в пользу общенациональных учебных планов, но некоторые школы их просто проигнорировали. ────────────────────────────┘
С начала 1970-х гг. на государственное образование сильное влияние оказал резкий переход от ситуации, при которой ощущался недостаток рабочей силы и от школ требовалось, чтобы они готовили специалистов, в которых нуждалась экономика, к ситуации, при которой рабочая сила была в избытке, к периоду, когда безработица росла, а правительственные доходы сокращались. Распространение образования, которое было характерно для всего послевоенного периода, неожиданно сменилось сокращением и попытками урезать государственные расходы. С середины 1970-х и до начала 1990-х гг. расходы государства на образование упали с 6,3 % всех расходов на государственные нужды до цифры, едва превышающей 5 %. В 1998 г. расходы на образование составляли 4,8 % внутреннего валового продукта. Закон об образовании 1988 г. ввел ряд существенных изменений — некоторые из них столкнулись с сильным сопротивлением. Правительство, в полном соответствии со своей политикой в других сферах, попыталось внести в образование элемент рыночной конкуренции. Директорам школ была дана большая финансовая свобода, и школам было предоставлено право «выходить» из-под контроля местных органов образования и становиться «независимыми государственными школами». Были установлены общенациональные учебные планы, точно определяющие общие основы обучения для государственного сектора (Johnson 1991). Некоторая часть представителей учительской профессии упорно сопротивлялась введению общенациональных учебных планов, выступая против стандартизированных тестов и считая учебные планы излишне ограничивающими. Летом 1993 г. учителя устроили забастовку против тестирования. В 1992 г. был создан новый финансирующий орган, который должен был постепенно взять на себя распределение мест в школах, вышедших из-под контроля местных властей. В «Белой книге», конкретизирующей задачи этого органа, правительство выражало надежду, что «со временем все школы будут содержаться на средства, полученные в виде грантов», — иными словами, выйдут из-под опеки государства. Однако к 1995 г. это произошло только в 1 000 школ из общего числа 23 000 государственных школ.
Образование и политика
Образование в течение долгого времени было полем политических сражений и продолжает оставаться таковым и в начале нового XXI столетия. Длительные споры сконцентрировались на проблемах единого школьного образования — на образовательных стандартах и на неравенстве в обществе в более широком смысле. Первоначально идея единого среднего образования встретила поддержку с обоих концов политического спектра. Однако поскольку именно лейбористское правительство претворило в жизнь единую систему школьного образования, как уже было сказано, поддержка единого образования обычно ассоциируется гораздо чаще с политическим левым флангом, чем с правым. Творцы системы единого среднего образования считали, что новые школы создадут больше равенства возможностей, чем это было возможно при системе образования, основанной на отборе. Они не уделяли много внимания учебным программам как таковым, поскольку их больше беспокоило равенство доступа к образованию. Когда премьер-министром стала г-жа Тэтчер, критика единого школьного обучения со стороны консерваторов стала звучать более громко. Консерваторы считали, что нельзя допустить исчезновения классических школ, как это могло произойти при введении единой системы школьного обучения. Они были решительно настроены на создание большего многообразия школ на уровне среднего образования и, соответственно, на то, чтобы родителям был предоставлен более широкий выбор типа образования для их детей. В конце 1980-х гг. г-жа Тэтчер заговорила о начале «революции» в управлении школами. Такая революция должна была демонтировать огромные единые школы и уменьшить власть местных органов образования, отвечавших за управление этими школами. Закон об образовании 1988 г. в добавление к тому, что вводились общенациональные учебные программы, устанавливал также новую систему управления школами, получившую название «местное управление школами». Передача власти в управлении школами местным органам должна была стать противовесом неизбежной централизации, связанной с введением общенациональных учебных программ. Предполагалось, кроме того, создание новой группы Городских технологических колледжей (ГТК) и школ, существующих на гранты. Школы, финансируемые с помощью грантов, имели право выйти из-под контроля местных властей и получать финансирование непосредственно от государства. Им также предоставлялось право набирать до 50 % своих учащихся исходя из их способностей. Критики такой политики в области образования утверждали, что она еще больше увеличит существующее неравенство между школами и уничтожит эгалитарный принцип, присущий единой общеобразовательной школе. Система единого государственного среднего образования и ее критики Критики единой системы образования считают, что она потерпела неудачу в двух отношениях. Во-первых, по мнению таких критиков, она не только не способствовала большему равенству возможностей, но скорее привела к обратному результату. Прогресс в учебе способных детей из более бедных семей, которые могли бы преуспевать во времена системы «элевен-плас», в единых общеобразовательных средних школах сдерживается. Во-вторых, не менее важно, по мнению критиков, что единые общеобразовательные школы предоставляют только весьма низкий стандарт образования, потому что блестящие успехи не получают вознаграждения, а специализация не поощряется. До введения системы единого среднего школьного образования 20 % учащихся сдавали экзамен элевен-плас и шли учиться в классическую среднюю школу. Целью реформы было создание школ, где вместе учились бы и способные, и менее способные дети. В каждой государственной общеобразовательной школе должно было быть 20 % школьников, обладающих самым высоким уровнем способностей. Все, однако, обернулось не так, как планировалось. Если судить по результатам экзаменов, только в 27 % единых средних школ учится 20 % или более учащихся, обладающих высоким уровнем способностей. Частью той же картины является то, что учащиеся этой категории способностей оказались сконцентрированными в определенных школах больше, чем это предполагалось: так, 18 % единых средних школ сконцентрировали у себя больше 20 % самых способных детей. Эти школы по существу, если не по названию, превратились в классические средние школы. Менее успешные школы в этой системе в большей или меньшей степени стали эквивалентами прежних средних современных школ. В 38 % школ доля школьников высшей категории способностей составляет 10 % или еще меньше, а в 16 % школ их доля не достигает и 5 %. Процессы отбора, которые породили указанную ситуацию, проявляют себя в нескольких отношениях. Начнем с того, что экзамены элевен-плас никогда не исчезали полностью. В 95 сохраняющихся классических средних школах эти экзамены по-прежнему проводятся, и эти школы привлекают к себе более способных учеников в своем регионе за счет других школ; классические средние школы все еще распространены в Северной Ирландии. В системе единого среднего образования школы предположительно должны принимать установленные квоты школьников каждой категории способностей, но в дальнейшем процессы отбора осуществляются неофициально, что отнюдь не делает их менее действенными. Школы обязаны оказывать предпочтение в приеме детям, проживающим в пределах их района. Родители могут, следовательно, «купить» поступление своих детей в желаемую школу, обеспечив им соответствующий адрес проживания. Критики утверждают, что в современной Великобритании существует двухъярусная система образования, где есть «победители» и «проигравшие». Родители, принадлежащие к среднему классу, научились добиваться того, чтобы их дети попадали в выбранные ими школы. И эти дети из более благополучных семей, как правило, больше выигрывают от отбора в школе, тогда как положение детей из семей неблагополучных еще больше ухудшается. Значительный процент школ, вышедших из-под контроля местных органов образования, решая вопрос о приеме учеников, учитывает личностные и медицинские характеристики детей. Одним из этих факторов может быть, например, такой: считается или нет тот или иной ребенок «трудным». Согласно одному из недавних исследований, свыше 50 % таких школ применяют подобные критерии отбора (Hugill 1996). Предложения, выдвинутые консерваторами в 1996 г., позволяют всем государственным школам отбирать до 15 % своих учеников, исходя либо из их способностей, либо из специализации на таких предметах, как естественные науки или музыка. При наличии особого разрешения правительства школы могут отбирать еще более высокий процент своих учеников. Предполагалось, что уход школ из-под контроля местных властей, создав многообразие внутри школьной системы, увеличит возможности выбора для родителей. Однако непредвиденные последствия зачастую сокращают такие шансы: все большее число детей получает отказ в приеме при обращении в выбранную ими школу. Политика в области образования при новых лейбористах Для правительства новых лейбористов образование было главным приоритетом — и действительно, когда Тони Блэр стал премьер-министром, он провозгласил, что «образование, образование и еще раз образование» будет стоять на первом месте в его политической программе. Блэр признал, что стандарты британского школьного образования, если сравнить их с другими странами, невысоки, и что первоочередной задачей является дальнейшее реформирование образования. В «Белой книге» 1997 г. «Высокое качество образования в школах» партия новых лейбористов заявила о необходимости защиты и модернизации единых средних школ. «Белая книга» призывала к ограничению вмешательства в дела школ, которые работают успешно и творчески и добиваются хороших результатов, но признавала необходимость вмешательства со стороны правительства в том случае, если обучение в школах хронически не соответствует установленным стандартам. При правительстве новых лейбористов, к удивлению некоторых, включая союзы учителей, многие элементы реформы образования, проводившейся консерваторами, остались нетронутыми. Например, школы, существующие на гранты, продолжают функционировать, и им дано право отбирать учеников исходя из их способностей. Классические школы также были оставлены в неприкосновенности, и это решение вызвало много вопросов у ученых и педагогов, которые считают, что классические средние школы существенно ухудшают качество обучения в местных единых средних школах, отнимая у них самых способных учащихся (Benn and Chitty 1996). Наконец, новые лейбористы оказались согласны с лидерами консерваторов в том, что следует отказаться от совместного обучения в одних школах детей с разными способностями, чтобы дети с разными способностями могли прогрессировать с наибольшей доступной для них скоростью. Правительство новых лейбористов выступило с рядом новых и противоречивых инициатив, целью которых было улучшение обучения в британских государственных школах. При этом правительство отвергло многие традиционнее доводы профсоюзов учителей и критиков левой ориентации относительно того, что низкий уровень обучения является результатом недостаточного финансирования и высокой концентрации в некоторых школах учащихся из неблагополучных семей. Крис Вудворд, главный инспектор школ, возражая против подобных доводов, утверждал, что существует огромная разница в результатах работы между школами с очень сходным составом учащихся. Он заметил:В ряде школ с одинаково высоким уровнем неблагополучия по ряду показателей доля учеников, достигших уровня 4 или выше (в стандартизованных общенациональных тестах грамотности), колебалась от примерно 65 % до 13 %. Некоторые школы, несмотря на трудности, работали успешно, тогда как другие в сходных условиях не смогли добиться успеха (цит. по: The Economist. 10 Apr. 1999).Вместо того чтобы сосредоточить внимание на увеличении финансирования и улучшении оснащения школ, правительство новых лейбористов подчеркивало важность хороших методов обучения и сильного руководства со стороны директоров государственных школ как ключевых моментов реформы образования. Некоторые из основных инициатив правительства следующие: 1. Программа «Начать заново» направлена на то, чтобы улучшить деятельность хронически плохо работающих школ, закрыв их, а потом открыв вновь с новым штатом учителей и под руководством «первоклассного директора». Учителя, желающие остаться в данной школе, должны снова подать заявление на вакансии, объявленные на общенациональный конкурс. Основной мишенью этой программы являются школы, которым в течение трех лет подряд не удается добиться того, чтобы по меньшей мере 15 % их учеников сдавали государственные экзамены на получение аттестата об общем образовании с пятью положительными оценками в категории С или выше[16]. 2. Стратегия против уклонения от посещения школы ставит целью сокращение к 2002 г. случаев прогулов на одну треть. В 1998 г. примерно 50 000 учеников ежедневно отсутствовали в школе без каких-либо оправдательных документов. В качестве составной части этой стратегии сотни «школьных воспитателей», имеющих опыт социальной работы, были направлены в школы. Школьные воспитатели работают главным образом с детьми, которым грозит отстранение от занятий или исключение из школы, и стараются помочь им в решении личных и семейных трудностей. Это дает возможность учителям сосредоточиться на работе в классе и уменьшает необходимость их участия в консультировании и решении социальных проблем учеников. 3. Положение об оплате труда учителей, зависящей от качества преподавания, дает директорам право санкционированно повышать зарплату выдающимся учителям. Данная система была создана для того, чтобы достойно вознаграждать энергичных, творческих учителей, добивающихся высоких результатов, и привлечь способных молодых людей к профессии учителя. Многие учителя подвергли ожесточенной критике принцип оплаты, зависящей от качества преподавания, утверждая, что это вызовет раскол среди учителей и нанесет ущерб профессии. Попытки связать оплату учительского труда с такими показателями качества, как результаты экзаменов, вызвали резкие возражения как несправедливые по отношению к учителям, работающим с учениками из неблагополучных семей. 4. Правительство новых лейбористов поддержало, в определенных масштабах, частное управление школами (см. ниже). Группы управления школами из частного сектора могут обратиться к правительству с прошением о передаче им в управление плохо работающих школ и наладить в них обучение, введя методы, применяемые в школах, добившихся успеха. Об общих результатах инициатив правительства новых лейбористов можно будет судить только через некоторое время, и многое в его политике остается противоречивым. Сейчас же целесообразно, прежде чем перейти к рассмотрению систем высшего образования, кратко остановиться на том, как обстоят дела с школьным образованием в других странах.
Сравнение с другими странами
Как выглядят британские школы, если их сравнить со школами за рубежом? Провести прямое сравнение с другими странами оказывается трудным делом, поскольку между разными странами существуют значительные различия как в сроках обучения в школе, так и в организации системы образования. Среди государств Европейского Союза британские школы выделяются тем, что учеников обучают меньшему числу иностранных языков, чем в среднем по ЕС. В Англии и Ирландии ученика обучают в среднем одному иностранному языку, тогда как в школах Люксембурга, Нидерландов и Финляндии ученика обучают более чем двум языкам. Тот факт, что иностранные языки занимают в школьных программах в Великобритании столь скромное место, объясняется тем, что английский язык стал во всем мире де-факто языком бизнеса, торговли и науки. Вместе с тем знание иностранных языков становится все более важным, особенно в пределах объединенной Европы. В 1995 г. «Белая книга» Европейского Союза, посвященная проблемам образования, провозгласила главной целью, чтобы все граждане Европейского Союза могли общаться на трех европейских языках, подразумевая, таким образом, что все молодые люди должны выучить по крайней мере два языка. В Соединенном Королевстве учащиеся проводят в школе в среднем 11,7 лет — лишь ненамного меньше, чем учащиеся в Соединенных Штатах и Канаде, которые тратят на обучение в школе примерно 12 лет. В других развитых странах школьное обучение длится меньше, так, в России и других частях бывшего Советского Союза школьники учатся девять лет[17]. В Соединенном Королевстве все большее число молодых людей предпочитает продолжать свое образование после обязательного срока школьного обучения (см. ниже), однако по сравнению с остальной частью Европы Великобритания имеет один из самых низких показателей пребывания в школе учеников в возрасте шестнадцати, семнадцати и восемнадцати лет (см. рис. 16.1). Частично это может объясняться различием возраста окончания школы в европейских странах — Соединенное Королевство является одной из немногих стран, где молодые люди в шестнадцать лет официально имеют право наниматься на работу. Картина, однако, является, по-видимому, более сложной. Исследование, проведенное в 1998 г. Организацией экономического сотрудничества и развития в двадцати девяти наиболее развитых странах, показало, что только в четырех странах — Испании, Венгрии, Мексике и Соединенном Королевстве — 20 % или более молодых людей оставляют школу в течение года после окончания обязательного срока обучения. По данным ОЭСР, учащиеся Соединенного Королевства и Португалии больше других «рискуют» не найти места ни на работе, ни в обучении ремеслу после завершения школьного образования. Согласно исследованию, 40 % молодых британцев в возрасте от 19 до 24 лет не достигли минимального уровня квалификации. Рис. 16.1. Доля участия восемнадцатилетних в полном среднем образовании по странам Европы (в процентах). 1996 г.
Источники: OECD. From Social Trends. 30. 2000. P. 55. Crown copyright.
Рис. 16.1. Доля участия восемнадцатилетних в полном среднем образовании по странам Европы (в процентах). 1996 г.
Источники: OECD. From Social Trends. 30. 2000. P. 55. Crown copyright.
Высшее образование
Существуют значительные различия между странами в организации высшего образования (образования после окончания школы обычно в университетах или колледжах). В некоторых странах все университеты и колледжи являются общественными учреждениями и получают финансирование непосредственно из правительственных фондов. Во Франции, например, высшее образование имеет общенациональную структуру, причем централизованный контроль здесь почти столь же значителен, как и в начальной и средней школе. Все структуры должны утверждаться специальным общенациональным регулирующим органом, подчиненным министру высшего образования. Существуют два типа ученых степеней, присваеваемых выпускникам вузов, — одна из них присуждается конкретным университетом, а другая — государством. Национальные степени обычно считаются более престижными и ценятся выше, чем степени, присуждаемые отдельными университетами, поскольку предполагается, что они дают полную гарантию соответствия общим стандартам. Определенный ряд должностей в правительстве открыт только для тех, кто обладает общенациональными учеными степенями, предприниматели также отдают им предпочтение. Практически все учителя в школах, колледжах и университетах Франции сами являются государственными служащими. Уровень оплаты труда и широкий круг должностных обязанностей учителей устанавливаются центральными органами. Соединенные Штаты существенно отличаются от других развитых стран тем, что значительная часть колледжей и университетов находится здесь в частном секторе. Частные учебные заведения составляют 54 % всех учреждений высшего образования Соединенных Штатов. Среди них некоторые самые престижные университеты, такие как Гарвард, Принстон и Йель. Различие между государственным и частным высшим образованием в Америке, однако, не столь четко выражено, как в других странах. Студенты частных университетов имеют право претендовать на государственные гранты и субсидии, а сами частные университеты получают государственное финансирование для научно-исследовательской работы. Государственные университеты часто получают значительные пожертвования и могут принимать денежные средства от частных фирм. Им также нередко поступают гранты на исследовательскую работу от частных промышленных корпораций.Система высшего образования в Великобритании
Британская система высшего образования гораздо более децентрализована, чем французская, но носит более унитарный характер, чем система высшего образования в США. Университеты и колледжи финансируются государством и жалование учителей на всех уровнях образовательной системы определяется в соответствии с общенациональной шкалой заработной платы. Существует, тем не менее, значительное многообразие в организации учебных заведений и в их программах.────────────────────────────┐ ■ Грамотность в глобальном масштабе В 1996 г. Соединенное Королевство приняло участие в первом Международном обследовании грамотности взрослых, которое проводилось Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию. Хотя часто неграмотность считается проблемой, относящейся к менее развитым странам, обследование показало, что функциональная безграмотность — отсутствие умения считать и писать, необходимого для решения задач, возникающих в повседневной жизни, — является проблемой и во многих западных обществах. ОЭСР оценивала грамотность опрашиваемых с помощью некоторого континуума, самым низким уровнем которого был уровень 1, а самым высоким — уровень 5. Проверялась способность испытуемых читать и понимать письменный текст, определить место и использовать информацию на графике или в расписании и осуществить элементарные математические подсчеты. Уровень 3 был принят за минимальный уровень грамотности, необходимый для того, чтобы справляться с современной жизнью и работой. Результаты продемонстрировали, что по меньшей мере четвертая часть взрослых в странах, принимавших участие в обследовании, не достигла уровня грамотности 3. В Швеции процент таких людей самый низкий — 27,8 %, тогда как в Соединенном Королевстве их свыше 50 %. Как было отмечено в докладе ОЭСР, высокий уровень функциональной неграмотности в западных обществах вызывает беспокойство в свете движения мировой экономики в направлении экономики знания, в которой люди со слабыми навыками грамотности рискуют остаться не у дел, учитывая растущую важность информации (UNDP 1998). Отсутствие элементарной грамотности — гораздо более серьезная проблема в развивающихся странах, где около 30 % населения не умеют читать или писать. Только в Индии свыше 250 млн жителей неграмотны. В некоторых странах лишь незначительное меньшинство населения имеет хоть какие-то навыки чтения и письма. В определенной мере это может быть объяснено отсутствием в некоторых странах всеобщего образования. Однако даже если бы начальное образование получило более широкое распространение по мере роста населения, безграмотность за долгие годы уменьшится лишь ненамного, потому что значительную часть неграмотных составляют взрослые люди. В действительности же в абсолютных цифрах число тех, кто не умеет читать или писать, растет. Неграмотность имеет отчетливую гендерную окраску, особенно в беднейших странах мира, где неграмотность среди женщин почти в два раза выше, чем неграмотность среди мужчин. Из 150 млн детей в возрасте от шести до одиннадцати лет, не посещавших школу, 90 млн составляли девочки. Высокий уровень неграмотности среди женщин тесно связан с бедностью, детской смертностью, высоким уровнем рождаемости и низким уровнем экономического развития. Из-за сочетания культурных традиций и экономической необходимости многие девушки не посещают школу: в сельских районах семья обычно более строго придерживается традиций и менее склонна поддерживать образование женщин. Кроме того, в больших семьях дать образование всем детям стоит очень дорого, и чтобы дать образование мальчикам, девочек зачастую оставляют необразованными. ────────────────────────────┘
В период, непосредственно предшествовавший Второй мировой войне, в Великобритании насчитывался двадцать один университет. По современным меркам большинство этих университетов были очень небольшими. В 1937 г. общее число студентов, обучавшихся в британских университетах, лишь ненамного превышало штат преподавателей, работавших на полную ставку в университетах в 1981 г. (Carswell 1985). Между 1945 и 1970 гг. масштабы системы высшего образования в Великобритании увеличились в четыре раза. Расширились более старые университеты и возникли новые (такие как Суссекс, Кент, Стерлинг и Йорк), получившие название «краснокирпичных»[18]. С появлением политехнических институтов сложилась бинарная система. Этот второй сегмент высшего образования стал относительно большим, включив в себя около четырехсот колледжей, предлагающих широкий выбор учебных курсов. Политехнические институты больше ориентированы на специальную профессиональную подготовку, чем в университетах. Национальный научно-аттестационный совет был создан для того, чтобы в качестве регламентирующего органа обеспечить единый стандарт для дипломов, присуждаемых разными высшими учебными заведениями.
Таблица 16.1 Студенты, получающие студенческие ссуды в Соединенном Королевстве (в процентах от всех студентов)
 Источник: Department for Education and Employment. From Social Trends. 30. 2000. P. 63. Crown copyright.
Источник: Department for Education and Employment. From Social Trends. 30. 2000. P. 63. Crown copyright.
В наши дни высшие учебные заведения Великобритании характеризуются тем, что иногда называлось «стандартной монетарной системой». Это значит, что ученая степень, полученная в университетах Лестера или Лидса, по крайней мере теоретически, равноценна степени по той же специальности, присвоенной Кембриджем, Оксфордом или Лондонским университетом. Вместе с тем известно, что Оксфордский и Кембриджский университеты осуществляют в высшей степени выборочный прием студентов, свыше половины которых приходят из платных школ. Ученая степень Оксфорда или Кембриджа дает выпускнику больше шансов успешной карьеры, чем документ об окончании большинства других университетов. Число студентов, получающих высшее образование, существенно выросло в Великобритании по сравнению с XIX в., когда очных студентов было всего 25 000 чел. К 1962–1963 гг. их число увеличилось почти в десять раз и составило 216 000, а к 1972–1973 гг. оно снова удвоилось и достигло 453 000 чел. Число студентов высших учебных заведений продолжает неуклонно расти. В 1997–1998 гг. в высших учебных заведениях на дневном обучении насчитывалось уже 1,2 млн учащихся. Количественный рост был резким для обоих полов, но особенно для женщин. Между 1970 и 1997 гг. число мужчин, поступивших в вузы, выросло на 83 %, тогда как среди женщин число поступивших в высшие учебные заведения показало поразительный рост на 400 % (HMSO 2000). Принадлежность к определенному социальному классу влияет на то, получит ли человек высшее образование. Так, доля студентов высших учебных заведений из семей неквалифицированных рабочих выросла между 1991 и 1998 гг. с 6 до 13 %. Хотя эти цифры свидетельствуют о значительном росте, это, тем не менее, составляет меньше одной пятой роста количества молодых людей из семей квалифицированных рабочих (HMSO 2000). Кризис финансирования в высшем образовании Расширение университетов происходило в условиях не меняющегося или даже сокращающегося финансирования со стороны государства. Результатом явился кризис финансирования в высшем образовании. В докладе, опубликованном в 1997 г., Национальный комитет по изучению проблем высшего образования пришел к заключению, что расширение и совершенствование высшего образования при существующих объемах финансирования невозможны. Начиная с 1998/99 учебного года студенты, поступившие в высшие учебные заведения в Соединенном Королевстве, должны будут, по всей вероятности, платить до 1 000 фунтов стерлингов в счет оплаты стоимости обучения. В октябре 1999 г. были отменены субсидии, предоставляемые для оплаты расходов на жизнь. Студенческие стипендии постепенно заменялись студенческими ссудами (см. табл. 16.1). В 1990/91 учебном году только трое из десяти студентов в Соединенном Королевстве получали ссуды, чтобы оплатить расходы на получение высшего образования. К 1997/98 учебному году за ссудами обращались уже больше шести из каждых десяти студентов. Для того чтобы оплатить получение высшего образования, многие студенты устраиваются на работу с неполным рабочим днем. Судя по некоторым признакам, изменения в финансировании студентов могут оказать негативное влияние на социальный и этнический состав тех, кто поступает в университеты и принимается ими. Лейбористское правительство часто ссылалось на необходимость расширить доступ в университеты для групп населения, которые традиционно были слабо представлены на поприще высшего образования — этнические меньшинства, взрослые, желающие получить высшее образование, выходцы из рабочего класса, — однако увеличение стоимости высшего образования может стать препятствием для этих групп в получении высшего образования. Опубликованный в 1999 г. Службой приема в университеты и колледжи доклад показал, что период между 1997 и 1998 гг. характеризовался особенно большим сокращением и без того небольшого числа претендентов на ученые степени и национальные дипломы магистров и докторов наук из среды социального класса неквалифицированных рабочих (см. рис. 16.2). Число молодых людей из семей специалистов, стремившихся получить высшее образование, также сократилось, хотя не столь резко.
 Рис. 16.2. Изменение в количестве претендентов на ученую степень или диплом высших национальных курсов с учетом социального класса семьи. 1997–1998 гг.
Источник: UCAS. From The Economist. 30 Oct.1999. P. 38.
Рис. 16.2. Изменение в количестве претендентов на ученую степень или диплом высших национальных курсов с учетом социального класса семьи. 1997–1998 гг.
Источник: UCAS. From The Economist. 30 Oct.1999. P. 38.
Е-университеты
Одним из следствий глобализации и технологического прогресса является появление глобального рынка высшего образования. Хотя высшее образование всегда носило международный характер — благодаря студентам, приезжающим из других стран, совместным международным исследовательским проектам и международным конференциям, — принципиально новые возможности возникают сейчас для сотрудничества между студентами, а также научными и образовательными учреждениями, разбросанными по всей Земле. При помощи обучения с использованием Интернета и появления «е-университетов» образование и приобретение профессии становятся более доступными для людей во всем мире. Удостоверения, сертификаты, степени теперь можно получить за пределами физического мира аудиторий и традиционных образовательных учреждений. Целый ряд конкурирующих институтов и компаний — некоторые на коммерческой основе — быстро появляются на глобальном образовательном рынке. Более, чем когда-либо раньше, знания и обучение «могут ухватить все желающие». Мы уже описали выше Открытый университет, а также говорили о том, как в университете Финикса расширили возможности обучения на базе Интернета, причем с огромным успехом. Используя заявления, полученные с помощью Интернета, университет развил понятие дистанционного обучения до новых уровней интерактивности. Дистанционное обучение — отнюдь не новое явление; в действительности, оно широко распространено и очень популярно. Но в его традиционной форме, при которой студенты выполняют назначенные задания самостоятельно и отправляют их преподавателям для оценки, дистанционное обучение требует высокой степени целеустремленности и самомотивации, для того чтобы оно было эффективным. Когда студенты сталкиваются с трудностями или чего-то не понимают, им не к кому обратиться за немедленной помощью. Значительная часть учащихся испытывает разочарование и бросает учебу. Дистанционное обучение с помощью Интернета позволяет избежать некоторых основных трудностей. Студенты учатся в небольших группах от десяти до пятнадцати человек и непрерывно обмениваются между собой идеями. Преподаватели, ведущие тот или иной курс, могут предложить помощь индивидуально и ответить на вопросы посредством электронной почты, и это помогает снять у студента чувство одиночества. Курсы, изучаемые с помощью Интернета, стремятся воспроизвести все элементы традиционного процесса обучения в онлайновом окружении. Даже обычные университеты предпринимают шаги, чтобы стать также и «е-университетами», — консорциумы учебных заведений объединяют свои учебные ресурсы, исследовательские возможности, кадры преподавателей и онлайн-студентов. Университеты по всему миру признают выгодность такого партнерства с другими институтами, вклад которых дополняет их собственный. Из-за быстрого развития науки и технологических новаций даже самые элитные институты не могут быть на вершине прогресса во всех дисциплинах. Благодаря сотрудничеству с помощью компьютера они могут собрать вместе свои знания и опыт и сделать их доступными для студентов и исследователей всего консорциума. Студенты в Лондоне могут, например, получить доступ через Интернет к библиотекам в Сан-Франциско, а научные работники из разных регионов с помощью электронной почты могут обсуждать вопросы и сотрудничать в научных проектах. В Соединенном Королевстве были предприняты также попытки создать совершенно новые обучающие программы с использованием Интернета для мировой сети студентов. В феврале 2000 г. Дэвид Бланкетт, министр по делам образования и занятости Соединенного Королевства, заявил о планах создания университета, использующего Интернет, что позволит собрать воедино все лучшее, что есть в британском образовании, и сделает его доступным для студентов во всех странах мира.Образование и новые коммуникационные технологии
Распространение информационных технологий уже оказывает влияние на школьное обучение в нескольких отношениях. Экономика знания требует компьютерно грамотной рабочей силы, и становится все более очевидно, что образование может и должно играть решающую роль в выполнении этой задачи. Хотя в последнее время резко возросло число семей, владеющих компьютерами, многие дети все еще не имеют доступа к компьютеру дома. По этой причине школы являются основным местом, где молодые люди могут узнать о возможностях компьютеров и онлайновых технологий и научиться пользоваться ими свободно. На протяжении последнего десятилетия использование технических приспособлений в школе претерпело коренные изменения благодаря ряду общенациональных инициатив, направленных на модернизацию и компьютеризацию британских школ. Резко выросло среднее число компьютеров, приходящееся на школу, около 96 % детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет имеют доступ к компьютерам в школе. К 1998 г. британские средние школы имели в среднем 101 компьютер на каждую школу, в то время как в начальных школах среднее число составляло 16 компьютеров (HMSO 2000). К 1998/99 учебному году 93 % британских средних и 62 % начальных школ имели доступ в Интернет. Общенациональная сеть обучения, разработанная в 1998 г., имеет целью связать к 2002 г. все школы, колледжи, университеты и библиотеки Великобритании. Согласно меморандуму о политике правительства 1997 г. «Объединение обучающегося общества», Сеть позволит образовательным учреждениям по всей стране собрать воедино все их материалы и пользоваться ими сообща. Учителя получат возможность обсуждать совершенствование учебных программ со своими коллегами из других школ и взять на вооружение достигнутые ими успехи. Учащиеся имеют доступ в Сеть даже с домашних компьютеров, — чтобы получить дополнительные материалы, помогающие повышению грамотности и совершенствованию навыков счета. Школы в отдаленных районах смогут устанавливать связь с учебными заведениями в других частях страны и принимать участие в проводимых там учебных мероприятиях. Изучающие иностранные языки получат возможность общаться с носителями изучаемых языков и получать от них помощь и практические навыки.Техника в аудитории. Использование технических новшеств
Возникновение образования в его современном понимании было связано с некоторыми другими важными изменениями, происходившими в XIX в. Одним из таких изменений было развитие печатного дела и рождение «книжной культуры». Массовое распространение книг, газет и других печатных средств массовой информации было столь же отличительной чертой развития индустриального общества, как машины и фабрики. Образование давало навыки грамотности и счета, открывая доступ в мир печатных средств массовой информации. Ничто не является более характерным для школы, чем учебник или учебное пособие. По мнению многих, всему этому суждено измениться, по мере того как в образовании все больше используются компьютеры и мультимедийные технологии. Будут ли Интернет, сидиром и видеопленка все больше заменять учебник? И будут ли школы по-прежнему существовать в той форме, в какой они существуют сейчас, если ученики при обучении включают свои компьютеры, вместо того чтобы слушать учителя? Говорят, что новые технологии не просто дополнят существующие учебные программы, но подорвут их основы и трансформируют их, потому что молодые люди сейчас растут уже в информационном обществе, с развитыми средствами коммуникации и гораздо лучше знакомы с их технологиями, чем большинство взрослых, включая их учителей. Некоторые наблюдатели говорят о «революции в классной комнате» — появлении «виртуальной реальности на парте» и о классных комнатах без стен. Вряд ли можно сомневаться в том, что компьютеры расширили возможности в сфере образования. Они дают детям шанс работать самостоятельно, изучать темы с помощью материалов, доступных через Интернет, и воспользоваться образовательными программами, позволяющими им продвигаться вперед с приемлемой именно для них скоростью. Однако эта мечта (или ночной кошмар) о классных комнатах, в которых дети учатся исключительно с помощью индивидуальных компьютеров, еще не реализовалась в нашей жизни. По правде говоря, «классные комнаты без стен» представляются довольно отдаленным будущим. Начнем с того, что сейчас еще просто недостаточно компьютеров и в школах, и дома! Даже в хорошо оснащенных школах по необходимости создается ротационный график, позволяющий учащимся в порядке очереди работать в компьютерных лабораториях. В школах, где компьютеров мало, учащиеся иногда проводят за компьютером всего несколько минут в неделю, а иногда приходят на занятия по информационным технологиям небольшими группами. У большинства учащихся дома все еще компьютеров нет. Далее, значительная часть учителей рассматривает компьютер скорее как дополнение к традиционным урокам, чем как замену урока. Их ученики могут пользоваться компьютером для выполнения заданий, не выходя за пределы стандартной учебной программы, а именно для создания научно-исследовательского проекта или анализа текущих событий. Но очень немногие деятели образования видят в информационной технологии средство, способное заменить живого учителя, обучающего ученика и взаимодействующего с ним. Задача, стоящая перед учителями, заключается в том, чтобы научиться интегрировать новые информационные технологии в учебный процесс так, чтобы это приносило пользу и было обоснованно с точки зрения образовательной.Образование и разрыв в использовании информационных технологий
Будут ли новые технологии иметь для образования радикальные последствия, как утверждают некоторые, до сих пор остается открытым вопросом. Критики указывают, что даже если воздействие новых технологий действительно окажется значительным, это может привести к усилению неравенства в области образования. «Информационная бедность» может добавиться к материальной обездоленности, которая в настоящее время оказывает такое влияние на школьное обучение, и усугубить ее. Уже сами темпы изменений в технологии, а также потребность работодателей в работниках, обладающих компьютерной грамотностью, означают, что люди, владеющие технологиями, «перепрыгнут через головы» тех, кто не имеет опыта работы с компьютерами. Некоторые уже опасаются возникновения в западных обществах «компьютерного низшего класса». Хотя развитые страны имеют самый высокий уровень использования компьютеров и Интернета в мире, внутри этих обществ наблюдается вопиющее неравенство в использовании компьютеров. Многие школы и колледжи страдают от недофинансирования и многолетнего невнимания; даже если эти учебные заведения будут облагодетельствованы при распределении между школами подержанных компьютеров, им потребуется технически опытный персонал, способный научить детей навыкам в области информационных технологий (ИТ). А поскольку спрос на специалистов в области компьютеров очень велик, многие школы стараются изо всех сил привлечь и удержать учителей по ИТ, которые могут заработать гораздо больше в частном секторе. И тем не менее разрыв в использовании информационных технологий внутри западных обществ не идет ни в какое сравнение с пропастью, разделяющей классные комнаты западных стран и развивающегося мира (см. главу 15 «Средства массовой информации и коммуникация»). По мере того как мировая экономика все больше и больше опирается на знания, существует вполне реальная опасность того, что вследствие разрыва между «информационно богатыми» и «информационно бедными» странами бедные страны будут еще больше отставать и откатываться на обочину. Согласно Докладу ООН о развитии человечества, опубликованному в 1999 г., доступ к Интернету стал еще одной демаркационной линией, разделяющей богатых и бедных. Южная Азия, где сосредоточено 23 % всего населения Земли, имеет меньше 1 % всех пользователей Интернета в мире. В Африке на один миллион жителей приходится лишь семь интернет-серверов. Значительная часть их расположена в ЮАР, наиболее развитой и процветающей стране африканского континента. Энтузиасты информационных технологий утверждают, что компьютеры совершенно не обязательно должны приводить к большему неравенству как в национальном, так и глобальном масштабе, что самое их преимущество как раз и заключается в их способности объединять людей и открывать новые перспективы. Говорят, что школы в Азии и Африке, не имеющие ни учебников, ни квалифицированных учителей, могут получить пользу от Интернета. Программы дистанционного обучения и сотрудничества с коллегами в далеких странах могут оказаться ключом к преодолению бедности и неблагоприятных обстоятельств. Они утверждают, что если в руки умным творческим людям дать технологии, их возможности будут безграничны. Хотя от технологий может захватывать дух и они могут открывать жизненно важные двери, необходимо признать, что не существует легкого решения проблем с помощью приобщения к технологии. В борющихся с массовой неграмотностью слаборазвитых регионах, где отсутствуют телефонная связь и электричество, необходимо сначала создать усовершенствованную образовательную инфраструктуру и только после этого они смогут по-настоящему воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляют программы дистанционного обучения. В существующих же условиях Интернет не может заменить прямой контакт между учителем и учениками.Приватизация образования
Как мы уже видели, в современной Великобритании образование является одним из самых дискутируемых политических вопросов. Сменявшие друг друга правительства проводили широкомасштабные реформы, пытаясь улучшить результаты образования и успешнее подготовить молодых людей к вступлению во взрослую жизнь. Соединенное Королевство не единственная страна, придающая первостепенную важность совершенствованию своей государственной образовательной системы; в Соединенных Штатах и других индустриальных странах образование также представляет собой одну из проблем, вызывающих величайшую озабоченность, как у политиков, так и у простых граждан. Причина состоит прежде всего в том, что от образовательной системы ждут многого. Школы играют ключевую роль в социализации детей, предоставляя равные возможности, формируя квалифицированную рабочую силу и создавая информированных и активных граждан. Однако даже в самых богатых странах мира, где на финансирование образования тратится много средств, указанные цели достигаются отнюдь не всегда. Общенациональные экзамены свидетельствуют о поразительно низком уровне функциональной грамотности (см. врезку «Грамотность в глобальном масштабе» в разделе «Высшее образование» этой главы) — навыков чтения и письма, необходимых для решении задач в повседневной жизни, — и есть опасения, что общие учебные стандарты с течением времени снизились. В пределах большинства государственных систем образования некоторые школы добиваются высоких результатов, тогда как другие школы постоянно терпят неудачу. Во многих регионах и родители, и ученики в равной мере выражают неудовлетворенность качеством образования, полученного в государственных школах, а учителям и другим лицам, ответственным за образование, зачастую приходится иметь дело с большими классами, ограниченными ресурсами и трудными условиями работы. Хотя некоторые родители в состоянии дать своим детям образование в частных учебных заведениях, подавляющее большинство семей полагается на государственные школы и надеется, что система образования, финансируемая из тех денег, которые они платят в виде налогов, обеспечит их детям качественное образование. Одна из главных проблем, стоящих перед реформаторами образования, заключается в том, как повторить успешные результаты лучших школ в школах, еле справляющихся со своими задачами. Для решения этой сложной проблемы в Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах в течение последних десяти лет наблюдалась растущая готовность к эксперименту с новыми формами руководства школами, которое сочетало бы общественное (государственное) финансирование школ с методами частного управления. В тех случаях, когда хронически плохо работающие школы не в состоянии улучшить свои результаты, местные органы образования предлагали частным контрагентам подавать заявки с предложением взять на себя управление и каждодневное руководство системами государственных школ. По мере роста числа частных компаний и «организаций, управляющих образовательными учреждениями», вовлеченных в руководство деятельностью образовательных учреждений, как полагают некоторые наблюдатели, мы становимся свидетелями движения в направлении приватизации образования.Соединенные Штаты: предприниматели в сфере образования
Хотя Соединенные Штаты тратят на образование больший процент своего внутреннего валового продукта, чем другие страны, международные стандартизированные тесты показывают, что американские школы в общественном секторе отстают от школ многих других стран. Примерно 40 % американских школьников в возрасте десяти лет не могут пройти основной тест на чтение; высок уровень функциональной неграмотности среди взрослых. Обследования показали, что многие американские учащиеся плохо знают свою собственную историю и мало осведомлены о текущих событиях. В опубликованном в 1983 г. широко известном докладе «Нация рискует» Национальная комиссия по совершенствованию образования привела страну в состояние шока, заявив: «Если бы недружественная иностранная держава попыталась навязать Америке ту убогую постановку образования, какая существует здесь в настоящее время, мы вполне могли бы рассматривать это как объявление войны». Широко распространенная в обществе обеспокоенность «кризисом в образовании» открыла возможность партнерства государства и частного капитала, с тем чтобы с помощью ноу-хау частного сектора улучшить работу несостоятельных общественных школ. В 1994 г. президент Клинтон подписал закон «Задачи 2000: дать Америке образование», который разрешал штатам использовать федеральное финансирование для проведения экспериментов с приватизацией школ. Местные школьные округа могли принять решение передать по договору конкретные образовательные функции или управление школой в целом частным компаниям, не лишаясь при этом федерального финансирования. В последнее десятилетие ряд школьных округов в США, в том числе такие крупные городские системы, как Хартфорд, Балтимор и Миннеаполис, пригласили руководить своими школьными системами частные образовательные компании. Сторонники приватизации школ утверждают, что государственные и федеральные органы образования обнаружили свою неспособность улучшить положение в школах Америки. По их словам, существующая система образования является расточительной и бюрократической; она тратит непропорционально большую часть финансовых средств на административные расходы, «не связанные с обучением». Из-за своей тяжеловесной природы и наличия многочисленного начальства школьные системы практически не в состоянии быть гибкими и восприимчивыми к новшествам. Влиятельность учительских профсоюзов затрудняет увольнение некомпетентных учителей. Решить все указанные проблемы, по мнению сторонников приватизации школ, может помочь сильная доза идеологии частного сектора: конкуренция, экспериментирование, инициатива. Компании, работающие для прибыли, способны управлять школьной системой более эффективно и добиваться лучших результатов, применяя логику частного сектора. Хорошие учителя будут привлекаться к преподаванию и оставаться в школах благодаря системе оплаты, основанной на качестве исполнения, а от плохих учителей станет легче освобождаться. Конкуренция внутри школ и между школами приведет к более интенсивному использованию новых методов; приватизированные школы будут обладать большей свободой вводить в систему обучения результаты успешных экспериментов. Одним из ведущих игроков на американском рынке, выступающих за приватизацию образования, является Проект Эдисона — образовательная компания, управляющая целой сетью из 80 общественных школ в шестнадцати разных штатах. Компания была основана Кристофером Уиттлом, предпринимателем в области средств коммуникации, который стал знаменитым благодаря созданию дискуссионного Канала I — ежедневной двенадцатиминутной телевизионной программы о «текущих событиях» (включая две минуты корпоративной рекламы), передаваемой бесплатно для учеников школ — участников Проекта по всей стране. В 1991 г. Уиттл вместе с Бенно Шмидтом, бывшим президентом Йельского университета, задумали создать сеть из тысячи прибыльных школ. Они очень скоро обнаружили, что развитый рынок частных школ в США препятствует осуществлению подобной идеи, а возможности управления плохо работающими школами в общественном секторе еще только начали вырисовываться. Мнение о том, действительно ли благодаря Проекту Эдисона улучшаются результаты учебной работы в охваченных Проектом школах, является неоднозначным, да и сама компания была подвергнута суровой критике с ряда сторон, в том числе за плохое управление финансами. Критики сразу же обратили внимание на то, что прекрасное будущее, которое готовят создатели Проекта Эдисона для школ, представляет собой не что иное, как использование упрятанных в «новую упаковку» всем известных наиболее успешных приемов, заимствованных из общественного образования, таких, например, как коллективные занятия и обучение, в центре которого находится ученик (Molnar 1996). Компания требует, чтобы все учащиеся в школах — участниках Проекта Эдисона имели дома компьютер, и помогает тем семьям, которые не могут себе этого позволить, но не вполне понятно, как этот энтузиазм в отношении технологии сколько-нибудь осмысленно соотносится с учебным планом. Противники приватизации школ утверждают, что компании, подобные Проекту Эдисона, меньше озабочены реформированием образования и устранением неравенства в этой области, чем продвижением реформы образования как средства создания прибыльного рынка для богатых инвесторов. И действительно, многие инвесторы в Соединенных Штатах считают, что «рынок» прибыльного образования стоит на пороге огромного бума. Уже существует множество компаний, получающих прибыль за счет предоставления образовательных услуг, — обучающих программ, проверочных курсов и образовательных интернетовских программ. Университет Финикса продемонстрировал большой объем и перспективность рынка профессионального обучения и сертификации. «Индустрия» образования рассматривается корпорациями и консалтинговыми агентствами как созревшая для инвестиций. Хотя на образовательные и обучающие услуги приходится около 10 % всей американской экономики, стоимость их акций на домашнем рынке оценивается всего в 0,2 %. Гигантские корпорации, такие как «Майкрософт», «Сан Майкросистемс», «Интел» и др., уже начали оказывать поддержку образовательным стартовым компаниям, имея в виду перспективу захвата части растущего рынка. Одним из самых могущественных и широко известных новых американских «предпринимателей в сфере образования» является Майкл Милкен, бывший биржевой маклер с Уолл-стрит, отбывший тюремный срок за торговлю «старыми облигациями». Милкен стал влиятельной личностью на рынке частного образования в качестве главы компаний «Вселенная знания», которые охватывают огромное пространство, начиная от сети частных дошкольных учреждений до программ коллективного повышения квалификации для специалистов, находящихся в середине карьеры. После встречи с Милкеном в 1998 г. президент колледжа для учителей при Колумбийском университете в Нью-Йорке Артур Левайн сказал репортерам: «Смысл слов Милкена был таков: „Вы, парни, попали в затруднительное положение, и мы собираемся съесть ваш ленч“». По мнению Левайна, компания Милкена и аналогичные предприятия являются «наиболее агрессивными и творческими структурами в высшем образовании наших дней. Некоторые из них уже показали, что могут получать прибыль. И это означает, что значительная часть этой индустрии будет расхватана в частные руки» (цит. по: Wyatt 1999).Великобритания: спасение «отстающих школ»
Приватизация школ в Соединенном Королевстве не зашла так далеко, как в Соединенных Штатах. Тем не менее правительство новых лейбористов поддержало идею передачи управления плохо работающими школами из ведения местных органов образования в руки частных компаний. Министр образования Дэвид Бланкетт заявил, что «отстающие школы», не способные добиться того, чтобы установленный правительством процент учащихся успешно сдавал экзамен на получение аттестата зрелости, подлежат закрытию. Чтобы вновь открыть эти школы и улучшить результаты их работы путем применения успешных методов, апробированных другими школами, будут призваны новые «первоклассные директора» или лица, приглашенные со стороны и работающие по контракту. Правительство уже предприняло ряд шагов в направлении приватизации элементов государственного образования в нескольких регионах, включая Ливерпуль, Лестер и Хакни, а также Ислингтон в Лондоне. Вмешательство может быть очень ограниченным — заключение договора на конкретные услуги, такие, например, как элементы управления школой, — или более значительным. В случае Ислингтона все услуги, бывшие в ведении местных органов образования, были переданы по договору в частный сектор. В 1999 г. министр по стандартам школьного образования предупредил, что «более серьезное вмешательство» грядет, вероятно, еще в пятнадцати местных округах. В марте 2000 г. правительство объявило о новых задачах, поставленных перед средними школами. К 2003 г. во всех средних школах должно быть как минимум 15 % учеников, получивших пять хороших оценок при сдаче экзаменов на аттестат зрелости, а к 2006 г. доля таких учеников должна увеличиться до 25 %. Школы, которые не смогут выполнить такие задачи, будут считаться кандидатами на закрытие.Оценка
Как и во многих других сферах современной жизни общества, рынки и информационные технологии были главными факторами, оказавшими влияние на изменения в образовании. Вторжение коммерциализации и рыночных отношений в сферу образования отражает также давление глобализации, направленное на сокращение издержек. Школы перестраиваются совершенно так же, как коммерческие корпорации. Некоторые наблюдатели полагают, что частное управление в школах — это наилучший путь к тому, чтобы достижения широко известных преуспевающих школ стали доступны и другим школам. По мнению этих людей, если дать рыночным силам возможность идти своим ходом, отстающие школы постепенно закроются и будут открыты вновь перестроенные в соответствии с более успешными планами. Родители и дети будут «голосовать ногами», предпочитая поступать в успешные школы, а плохо работающие школы будут вынуждены либо совершенствовать обучение, либо закрываться — совершенно так же, как это происходит в частном секторе. Вместе с тем, критики указывают, что такая картина является крайне упрощенной, в ней не нашли отражения основные трудности, с которыми сталкиваются отстающие школы. Во многих школах, показывающих плохие результаты (если исходить из стандартных требований), ученики при поступлении в школу имеют ограниченные навыки и слабую подготовку по главным предметам. Во многих местностях, где расположены отстающие школы, высок уровень бедности и депривации. Учебное время в классе часто сокращается из-за необходимости решать личные или семейные проблемы учеников, а учителя оказываются вынужденными не только учить, но еще и выступать в роли советчиков. Нередко им приходится иметь дело с учениками, склонными к насилию и агрессии. Противники схем приватизации утверждают, что подлинная реформа образования должна быть связана с программами, направленными на уменьшение бедности, с антирасистскими мерами, с модернизацией школьного оборудования и расширением в общине округа предоставляемых социальных услуг. По мнению критиков, в действительности нет доказательств того, что стремящиеся к прибыли компании обеспечивают лучшие результаты в образовании или делают для учеников более легким переход от школы к работе. Мотив «стремления к прибыли», утверждают они, является чужеродным для систем государственного образования. Тот факт, что правительство так далеко зашло по этому пути, свидетельствует о триумфе рыночного мышления в наш продвинутый современный век. Многие из тех, кто будет вовлечен в область образования, скорее всего окажутся воротилами бизнеса, связь которых со школьным делом была до того весьма поверхностной или вообще отсутствовала. Здесь будут представлены кабельные компании, организации по программному обеспечению, телекоммуникационные группы, производители фильмов и поставщики оборудования. Влияние, которое они принесут с собой в школы и университеты, свяжет учебные заведения с тем, что получило название «образ-влечение» (образование + развлечение) — нечто вроде параллельной индустрии образования, связанной с индустрией программного обеспечения в целом, с музеями, научными парками и культурными заповедниками.Теории школьного обучения и неравенство
Бернстейн: языковые коды
Существует несколько теорий о природе современного образования и о том, как оно отражается на социальном неравенстве. При одном из подходов на первый план выдвигаются языковые навыки. В 1970 г. Бэзил Бернстейн высказал предположение, что у детей из различных семей на протяжении ранних лет жизни складываются различные коды, или формы, речи, которые оказывают влияние на их последующий школьный опыт (Bernstein 1975). Его интересуют не различия в словарном составе или искусстве владения речью, как оно обычно понимается, главный интерес для него представляют систематические различия в использовании языка, в первую очередь различающие детей из более бедных и более богатых семей. По утверждению Бернстейна, речь детей из рабочих семей репрезентирует ограниченный код — такой способ употребления языка, когда остаются невыраженными многие допущения, которые, как предполагают говорящие, известны другим. Ограниченный код — это тип речи, привязанный к своей собственной культурной среде. Многие представители рабочего класса живут в устойчивой культуре семьи и соседства, в которой ценности и нормы принимаются как нечто само собой разумеющееся и не выражаются посредством языка. В таких семьях социализация детей осуществляется родителями непосредственно через поощрения и наказания для корректирования их поведения. Язык в форме ограниченного кода более подходит для разговора об обыденных событиях, чем для обсуждения более абстрактных понятий, процессов или отношений. Ограниченный код речи характерен, таким образом, для детей, которые растут в семьях, относящихся к более низким классам, и для групп их сверстников, с которыми они проводят свое время. Речь ориентирована на нормы этой группы, причем никто не смог бы более или менее просто объяснить, почему они следуют именно таким моделям поведения, а не другим. Языковое развитие детей из среднего класса, напротив, по мнению Бернстейна, связано с усвоением усложненного кода — такого стиля речи, при котором значения слов могут индивидуализироваться, чтобы соответствовать особенностям конкретных ситуаций. Способы, с помощью которых дети из семей среднего класса учатся употреблять язык, менее тесно привязаны к конкретным контекстам, и ребенок может с большей легкостью делать обобщения и выражать абстрактные мысли. Поэтому матери в семьях, относящихся к среднему классу, следя за поведением своих детей, часто объясняют им причины и правила, которые обусловливают ту или иную их реакцию на поведение ребенка. Так, например, мать из рабочей семьи, вероятно, отругает ребенка, который хочет съесть слишком много сладостей, сказав просто: «Никаких больше конфет!», — тогда как мать из среднего класса скорее всего объяснит ребенку, что есть слишком много сладостей вредно для здоровья вообще и для состояния зубов в частности. Дети, усвоившие усложненные коды, как полагает Бернстейн, более способны справляться с трудностями формального школьного образования, чем дети, усвоившие ограниченный код. Из этого не следует, что дети из рабочего класса владеют «низшим» типом речи или что их языковые коды являются «ущербными». Дело в том, что их способ использования речи вступает в конфликт с академической учебной культурой школы. Учащиеся, которые овладели усложненными кодами, гораздо легче приспосабливаются к школьной обстановке. Хотя обоснованность теории Бернстейна до сих пор вызывает споры, есть некоторые свидетельства, которые ее подкрепляют. Джоан Таф изучала язык детей из рабочего класса и детей из среднего класса и обнаружила регулярные расхождения. Она поддерживает тезис Бернстейна о том, что дети из рабочего класса обычно реже получают ответы на свои вопросы и им реже объясняют, как именно рассуждают другие люди (Tough 1976). К аналогичному выводу пришли в более позднем исследовании Барбара Тизард и Мартин Хьюз (Tizard and Hughes 1984). Идеи Бернстейна помогают понять, почему дети из определенных социоэкономических слоев обычно в школе являются «отстающими». Назовем те характеристики, которые связывают с ограниченными речевыми кодами и которые все препятствуют успешной учебе ребенка в школе: • По всей вероятности, ребенок далеко не всегда получает ответы на свои вопросы, задаваемые дома, и поэтому он менее информирован об окружающем мире и менее любознателен, чем те дети, которые овладели усложненными кодами. • Ребенок столкнется с трудностями при восприятии абстрактного и неэмоционального языка, используемого в обучении, а также ссылок на общие правила школьной дисциплины. • Многое из того, что говорит учитель, скорее всего окажется для ребенка непонятным, поскольку учитель использует язык непривычным для ребенка образом. Ребенок может попытаться справиться с ситуацией, переводя язык учителя в нечто ему привычное, но тогда возникает опасность, что ребенку не удастся усвоить те самые правила, которым хочет научить его учитель. • Вполне возможно, что ребенок легко справится с теми заданиями, которые предполагают заучивание наизусть или «зубрежку», но ему будет очень сложно усвоить различие понятий, предполагающее процессы обобщения и абстрагирования.Иллич: скрытая программа
Автором одной из самых противоречивых теорий образования является Айван Иллич. Он известен как критик современного экономического развития — Иллич характеризует его как процесс, в ходе которого люди, раньше бывшие самодостаточными, утрачивают свои традиционные навыки и оказываются вынужденными полагаться на докторов в отношении своего здоровья, на учителей в отношении образования, на телевидение в отношении своих развлечений и на работодателей в отношении средств к существованию. Иллич утверждает, что само понятие обязательного образования, в настоящее время принятое во всем мире, следует поставить под сомнение (Illich 1973). Он подчеркивает связь между развитием образования и требованиями дисциплины и иерархии, которые предъявляет экономика. По его мнению, школы возникли для выполнения четырех основных задач: опекать детей, распределять их по тем профессиональным амплуа, которые они будут выполнять впоследствии, обучать господствующим ценностям и передавать социально полезные умения и знания. В связи с первой задачей школа превратилась в опекающее заведение, потому что посещение ее обязательно, и детей «удерживают от улицы» с раннего детства до начала их трудовой деятельности. В школе дети научаются многому, что не имеет ничего общего с формальным содержанием уроков. Школы обычно прививают то, что Иллич назвал пассивным потреблением, — некритическое приятие существующего социального порядка, в силу самой дисциплины и регламентирования, которые навязываются ученикам. Этим урокам не учат сознательно: они имплицитно заключены в школьном распорядке и организации. Эта скрытая программа учит детей, что их роль в жизни — «знать свое место и тихо сидеть на нем» (Illich 1973). Иллич пропагандирует общество без школ. Он подчеркивает, что принудительная школа представляет собой сравнительно недавнее изобретение; нет никаких оснований считать, что она должна быть принята как нечто неизбежное. Раз школы не способствуют равенству или развитию творческих способностей личности, почему бы не покончить со школами в их современной форме? Под этим Иллич не имеет в виду, что следует уничтожить все формы организации образовательных учреждений. Каждому, кто хочет учиться, должен быть обеспечен доступ к имеющимся ресурсам — в любое время их жизни — не только в детстве или в подростковом возрасте. При такой системе появится возможность, чтобы знания широко распространились и оказались доступны многим, а не ограниченному кругу специалистов. Учащихся не следует подгонять под стандартные учебные программы, они должны иметь право на личный выбор того, что они будут изучать. Что все это можно реализовать на практике, не вполне ясно. Однако вместо школ Иллич предлагает создать несколько типов образовательных систем. Материальные ресурсы для формального обучения будут сосредоточены в библиотеках, прокатных агентствах, лабораториях и банках хранения информации, доступных любому учащемуся. Должны быть развернуты «сети коммуникаций», предоставляющие сведения о профессиональной квалификации, которой обладают различные специалисты, и о том, хотят ли они обучать других или собираются заняться взаимной обучающей деятельностью. Учащимся должны быть предоставлены ваучеры, позволяющие использовать образовательные услуги, как и когда они захотят. Являются ли подобные предложения полностью утопическими? Многие ответили бы на этот вопрос утвердительно. Однако, если (что представляется вполне возможным) объем оплачиваемого труда в будущем значительно сократится и структура оплачиваемой трудовой деятельности изменится, предложения Иллича начинают казаться более реалистичными. Если оплачиваемый наемный труд перестанет занимать в жизни общества центральное место, люди могли бы вместо этого выбрать себе что-либо другое из широкого круга возможных видов деятельности. На этом фоне некоторые идеи Иллича выглядят вполне осмысленными. Образование не будет просто формой раннего профессионально-технического обучения, получаемого в специальных учебных заведениях, но станет доступно любому, кто бы ни захотел воспользоваться его благами. Взгляды Иллича, которые он высказал в 1970-х гг., снова стали модными в 1990-х в связи с возникновением новых коммуникационных технологий. Как мы уже видели, некоторые считают, что компьютеры и Интернет могут произвести революцию в образовании и сократить неравенство.Бурдьё: образование и воспроизводство культуры
Вероятно, наиболее ясным путем к тому, чтобы связать между собой некоторые из проблем, возникших в связи с указанными теоретическими перспективами, является путь через понятие воспроизводства культуры (Bourdieu 1986, 1988; Bourdieu and Passeron 1977). Воспроизводство культуры относится к способам, посредством которых школы в союзе с другими социальными институтами способствуют увековечиванию социального и экономического неравенства на протяжении многих поколений. Это понятие привлекает наше внимание к тем средствам, с помощью которых, через скрытые программы, школы влияют на усвоение ценностей, установок и навыков. Школы углубляют различия в культурных ценностях и взглядах, приобретенных в раннем возрасте; и когда дети покидают школу, жизненные возможности одних детей оказываются ограниченными, а перспективы других расширяются. Формы использования языка, установленные Бернстейном, вне всякого сомнения связаны с такими широкими культурными различиями, которые лежат в основе варьирования интересов и вкусов в обществе. У детей из семей, принадлежащих к низшим классам и часто к группам меньшинств, формируется манера говорить и действовать, которая вступает в конфликт с манерой, господствующей в школе. Школы навязывают ученикам правила дисциплины, а авторитет учителей ориентирован на академическое обучение. Дети из рабочего класса испытывают гораздо более значительный конфликт культур при поступлении в школу, чем дети из более благополучных семей. Дети из рабочих семей оказываются, по существу, в чужой культурной среде. У них не только реже возникает мотивация добиваться высоких показателей в учебе, но привычные для них формы речи и поведения не стыкуются, как утверждает Бернстейн, с формой речи и поведения, присущей учителям, даже если обе стороны изо всех сил стараются вступить в контакт. Дети проводят в школе многие часы. Как подчеркивает Иллич, они научаются там значительно большему, чем то, что составляет формально содержание уроков. Дети с ранних лет получают представление о том, каков будет мир, где им придется трудиться, усваивают, что от них ждут пунктуальности и прилежности при выполнении заданий, которые задают им лица, обладающие властью (Webb and Westergaard 1991).Уиллис: анализ воспроизводства культуры
Широко известное обсуждение проблемы воспроизводства культуры содержится в отчете о полевом исследовании, проведенном в одной из школ Бирмингема Полом Уиллисом. Хотя исследование было осуществлено более двух десятилетий назад, оно остается классическим образцом социологического исследования (Willis 1977). Вопрос, который задался целью изучить Уиллис, касался того, как происходит воспроизводство культуры, или, как сформулировал его сам Уиллис, «как дети из рабочих семей получают работу, предназначенную для представителей рабочего класса». Обычно считается, что в процессе школьного обучения дети из семей, относящихся к низшим классам или к этническим меньшинствам, просто начинают сознавать, что они «недостаточно умны» и не могут рассчитывать, что в будущей трудовой жизни они получат высокооплачиваемую работу или займут высокое положение в обществе. Иными словами, опыт неудач в учебе учит их признавать ограниченность своих умственныхспособностей; признав же свою «неполноценность», они соглашаются на такие виды занятий, которые дают мало перспектив профессионального роста. Как указывает Уиллис, подобное объяснение никак не соответствует реальной жизни людей и их жизненному опыту. «Уличная мудрость» тех, кто рос в бедных кварталах, возможно, мало или вовсе не способствует успеху в учебе, но она предполагает наличие такого же тонкого, проницательного и сложного интеллекта, как и любой из навыков мышления, которым учат в школе. Вряд ли кто-либо из детей, окончив школу, думает: «Я так глуп, что справедливо и правильно, если я буду целыми днями грузить на заводе ящики». Если дети из менее благополучных семей соглашаются выполнять черную работу, не ощущая себя на протяжении жизни неудачниками, значит, здесь должны действовать какие-то другие факторы. Уиллис сосредоточил свое внимание в школе на конкретной группе мальчиков и провел с ними много времени. Члены этой компании, называвшие себя «парнями», были белыми; в школе училось также много детей из семей выходцев из Вест-Индии и Азии. Уиллис обнаружил, что парни обладали острым и четким пониманием системы власти в школе, но использовали свое понимание, чтобы бороться с этой системой, а не для сотрудничества с ней. Они относились к школе как к чужой среде, но такой, какую они могут использовать в своих целях. Они получали явное удовольствие от постоянных конфликтов — которым они, как правило, не позволяли выходить за рамки мелких стычек — со своими учителями. Они быстро замечали слабые места в попытках учителей проявить власть и одновременно то, в чем они сами были уязвимы как индивиды. Так, например, предполагалось, что в классе дети должны сидеть тихо на своем месте, не шуметь и выполнять задания. Но парни все время находились в движении, за исключением тех моментов, когда холодный взгляд учителя на короткое время примораживал кого-то из них к месту; они постоянно тайком перешептывались между собой, а иногда громко высказывали свое мнение, что было на грани прямого неподчинения, но что в случае необходимости можно было объяснить. Парни понимали, что работа будет очень похожа на школу, но активно стремились к ней. Они не надеялись получить прямое удовлетворение непосредственно от условий работы, но с нетерпением ожидали зарплату. Они делали ту или иную работу — налаживая шины, настилая полы, чиня водопровод, малярничая и производя отделочные работы, — отнюдь не испытывая чувства неполноценности — их отношение к работе было отношением отстраненного превосходства, таким же, какое было у них к школе, и они радовались статусу взрослого человека, который они приобрели, начав работать, но не были заинтересованы в том, чтобы «делать карьеру». Как указывает Уиллис, обстановка физического труда часто предполагает культурные явления, во многом сходные с теми, какие были созданы парнями в их культуре, которую они противопоставили школе — добродушное подшучивание, находчивость и ловкое умение, когда нужно, уклоняться от выполнения требований со стороны лиц, облеченных властью. Только став старше, они, возможно, придут к пониманию того, что попали в западню изматывающего неблагодарного труда. Когда же они обзаведутся семьями, они, возможно, обернутся назад, посмотрят на образование ретроспективно и поймут — уже без всякой надежды на будущее, — что это был в их жизни единственный шанс на спасение. И тем не менее, если они попытаются передать это мнение своим собственным детям, то скорее всего добьются не больше успеха, чем в свое время их собственные родители. Учение не для работы: «парни мачо» 1990-х годов Спустя более, чем два десятилетия после того, как Уиллис обследовал «парней» в Бирмингеме, другой социолог — Мартин Мак ан Гейл провел исследование жизни молодых людей из рабочих семей в школе Парнелла (Западный Мидлендс). Мак ан Гейла в первую очередь интересовало развитие в школе у учеников-мальчиков определенных форм мужских качеств как части их перехода к взрослому состоянию (см. врезку «Мартин Мак ан Гейл: образование и формирование мужественности и сексуальности» в главе 5). Он также стремился понять, как молодые люди из рабочего класса в начале 1990-х гг. рассматривали свой собственный переход к взрослой жизни и перспективы на будущее. В отличие от «парней» Уиллиса мальчики в школе Парнелла росли в атмосфере, омраченной высокой безработицей, крушением производственной основы региона и сокращением государственной помощи молодым людям (Mac an Ghaill 1994). Мак ан Гейл обнаружил, что переход к взрослому состоянию у молодых людей в школе Парнелла носит гораздо более непрямой прерывный характер, чем это было двадцать пять лет назад у «парней» Уиллиса. Это уже больше не была отчетливая ясная траектория, протянувшаяся от школы до оплачиваемой работы. Многие из мальчиков этой школы представляли себе будущее после школы как годы, характеризующиеся зависимостью (в частности, от семьи), «бесполезными» государственными схемами обучения и нестабильным рынком труда, неблагоприятным для молодых рабочих, занятых физическим трудом. Что касается значения образования для их будущего, то у многих учащихся не было по этому поводу ясного мнения. Эта неуверенность проявлялась в очень разной реакции на обучение — в то время как некоторые из групп мальчиков старались двигаться вверх, выбрав для себя путь успешных учеников или «новых предпринимателей», другие были настроены откровенно враждебно к учебе вообще. Из четырех групп сверстников, выделенных Мак ан Гейлом в школе Парнелла, «парни мачо» были наиболее традиционной группой рабочего класса в этой школе. Парни мачо сплотились в группу уже к тому времени, когда они стали тинейджерами; члены этой группы были по всем предметам в самых нижних двух «категориях». Их отношение к образованию было откровенно враждебным — все они придерживались мнения, что школа — это часть авторитарной системы, предъявляющей бессмысленные требования учиться захваченным ею в плен ученикам. В отличие от «парней» Уиллиса, которые нашли способы манипулирования школьным окружением в своих Интересах, парни мачо выражали возмущение тем, какую роль они в нем играли. Школьная администрация считала парней мачо самой «опасной» группой одноклассников в школе Парнелла, настроенной против школы. Учителям рекомендовалось при общении с ними использовать более авторитарные методы, чем с другими учащимися. Символы мужественности рабочего класса, выставляемые напоказ парнями мачо, такие как определенные виды одежды, прически, серьги в ушах, были запрещены школьной администрацией. Учителям предписывалось следить за учащимися, постоянно контролируя их в коридорах, читая им наставления типа «смотри на меня, когда я с тобой говорю», и поучая «идти по коридору, как положено ученику». Средняя школа была для парней мачо годами «ученичества», когда они учились быть крутыми. В школе они учились не читать, писать и считать, но драться, спать с женщинами и играть в футбол. Ключевыми ценностями социального мира парней мачо было: «Не подводить товарищей» и «Держаться вместе». Школа превратилась в спорную территорию, почти как улицы. Парни мачо относились к учителям совершенно так же, как к служителям закона (с открытым презрением), и считали, что именно учителя являются в школе основным источником конфликтов. Они отказывались признавать власть учителей в стенах школы и были уверены, что их все время «подставляют», с тем чтобы подвергнуть наказанию, наложить взыскание или унизить. Так же как «парни» Уиллиса, парни мачо ассоциировали учебу и академические успехи с чем-то недостойным мужчины и бабским. Учащихся, которые выделялись успехами в учебе, они называли «слабоумными отличниками». Школьная работа отвергалась с порога как неподходящая для мужчин. Как прокомментировал это один из парней мачо — Леон: «Работа, которую нас заставляют здесь делать, — это девчоночья работа. Это не настоящая работа, а так, для детишек. Они (учителя) пытаются заставить нас записывать всякие вещи о том, что мы чувствуем. Это не их собачье дело» (Mac an Ghaill 1994, 59). Исследования Мак ан Гейла продемонстрировали, что «парни мачо» больше чем другие группы сверстников-подростков претерпели своеобразный «кризис мужественности». Это произошло потому, что они активно развивали «устаревшую» мужественность рабочего класса, связываемую с оплачиваемым физическим трудом, в то время, когда физический труд уже не имел никакого будущего. По мнению Мак ан Гайла, парни мачо продолжали строить иллюзии относительно общества «полной занятости», в котором жили их отцы и другие мужчины в семье. Несмотря на то что некоторые элементы их поведения возникли как выражение гипермужественности и потому носили защитный характер, они имели прочное основание в мировоззрении рабочего класса, унаследованном ими от старших поколений. Теперь мы перейдем к обсуждению проблемы неравенства в образовании, включая гендер, этническую принадлежность и класс, а затем — к анализу некоторых появившихся в самое последнее время теорий.Гендер и образование
В официальных учебных программах в школах, если не считать участия в спортивных играх, больше не проводится сколько-нибудь регулярного различия между мальчиками и девочками. Однако существуют некоторые другие «точки проникновения» в образование разделения по признаку пола. Сюда относятся учительские ожидания, школьные ритуалы и другие аспекты скрытых учебных программ. Хотя правила становятся постепенно более либеральными, инструкции, предписывающие девочкам носить в школе платья или юбки, образуют один из наиболее очевидных способов, посредством которых происходит разграничение полов. Это имеет более глубокие последствия, чем просто регламентация внешнего вида девочек. В той одежде, которую предписывается надевать девочке, она не может сидеть непринужденно, лишена возможности участвовать в подвижных играх, где не исключена свалка игроков, а зачастую не может бежать со всей скоростью, на какую способна. Школьные учебники также способствуют увековечиванию гендерных имиджей. Хотя и здесь наблюдаются перемены, в сборниках рассказов для начальной школы мальчики нередко изображаются как проявляющие инициативу и самостоятельность, а девочки, если они вообще появляются в книжках, изображаются более пассивными наблюдателями за тем, что делают их братья. Истории, написанные специально для девочек, часто содержат элемент приключения, но это обычно принимает форму интриг или таинственных происшествий в домашней или школьной обстановке. Приключенческие истории для мальчиков охватывают более широкие пространства, их герои путешествуют в дальние страны и отличаются отвагой и самостоятельностью в других отношениях (Statham 1996). В средней школе в большинстве учебников по естественным наукам и математике девочки являются «невидимками», что укрепляет мнение о том, что данные предметы — «мужские».Гендер и успехи в школе
В течение многих лет, вплоть до середины срока обучения в средней школе, девочки в целом успевают лучше, чем мальчики, с точки зрения школьных оценок. Однако потом они начинают отставать: мальчики добиваются лучших результатов на уровне экзаменов О и А[19] и дальше в университете. До конца 1980-х гг. девушкам реже, чем юношам, удавалось получить три оценки уровня А, необходимые для поступления в университет, и их поступало в высшие учебные заведения меньше, чем юношей. Обеспокоенные таким неравенством, ученые, близкие феминизму, провели ряд важных исследований для выяснения того, как гендер влияет на процесс обучения. Они установили, что учебные программы часто ориентированы на мужчин и что на занятиях учителя больше внимания уделяют мальчикам, чем девочкам. Однако в последние годы в спорах о положении мальчиков и девочек в школе произошел коренной поворот. Главной темой в обсуждениях и среди деятелей образования, и среди политиков стали «неуспевающие мальчики». С самого начала 1990-х гг. девочки стали неизменно обгонять мальчиков во всех уровнях образовательной системы Великобритании. В 1995 г. школы, обучавшие только девочек, заняли пять самых высоких мест и четырнадцать из двадцати верхних мест в таблице лиги школ. В 1999 г. девочки были равны мальчикам или превосходили их, по оценкам учителей, на всех ключевых этапах обучения. Хотя девочки успевали так же или лучше мальчиков по всем основным предметам, разрыв между полами особенно заметно обнаружился на экзамене по английскому языку для получения аттестата зрелости, при сдаче которого две трети девушек и менее половины юношей получили оценки от A до C. Эта тенденция, по-видимому, усиливается: доля учащихся последнего года обучения, получивших при сдаче экзаменов на аттестат зрелости пять или более оценок от А* до С, растет быстрее среди девушек, чем среди юношей. Аналогичные наблюдения были сделаны в Америке. Юноши здесь в два раза чаще девушек получают специальное образование и в два раза чаще бросают среднюю школу вообще. Данное различие распространяется теперь и на высшее образование. Молодые женщины в Соединенных Штатах обычно чаще, чем юноши поступают в университеты, еще чаще, как правило, заканчивают их и намного чаще продолжают заниматься научной деятельностью для получения степени магистра или доктора (Career opportunities. The Economist. 8 July. 1995). Проблема «отстающих мальчиков» вызвала большую тревогу, потому что была очевидна ее связь с множеством более широких социальных проблем, таких как преступность, безработица, наркотики и неполные семьи. Юноши, которые рано бросают школу или выходят из школы с плохими результатами, как правило, реже находят хорошую работу и создают крепкую семью. Поскольку экономическая ситуация в Великобритании продолжает изменяться, все меньше остается возможностей для малообразованных молодых людей найти неквалифицированную работу. Институт ученичества, который раньше открывал путь к работе на производстве или в ремесленных мастерских, теперь отмирает. Между тем значительная часть — до 70 % — вакансий, которые создаются в быстро растущем секторе услуг, заполняется женщинами. Попытка объяснения гендерных различий Для объяснения тех коренных изменений, которые произошли в положении мужчин и женщин с точки зрения их достижений в последнее десятилетие, было предложено много разных теорий. Одним из факторов, которые следует учесть при объяснении успешной учебы девочек в школе, является влияние на самоуважение девушек и на их жизненные ожидания женского движения. Многие девушки, которые в настоящее время учатся в школе, выросли в окружении работающих женщин — на деле многие из их собственных матерей работают вне дома. Воздействие таких положительных ролевых моделей укрепляет в девушках уверенность в возможности сделать карьеру и подрывает традиционный стереотип женщины как домохозяйки. Еще одним результатом распространения феминизма можно считать то, что учителя и деятели образования стали обращать больше внимания на дискриминацию по признаку пола, существующую в системе образования. В последние годы многие школы приняли меры, чтобы не допускать на занятиях в классе гендерных стереотипов, поощрять девушек к изучению традиционно «мужских» предметов и использовать в обучении материалы, свободные от гендерных предубеждений. Некоторые попытки объяснения разрыва между полами в успехах, достигнутых в школьном обучении, исходят из различия между мальчиками и девочками в стиле самой учебной деятельности. Часто высказывается мнение, что девушки более организованны и целеустремленны, чем мальчики. Считается также, что они раньше взрослеют. Одно из проявлений этого можно видеть в том, что девушки устанавливают связь друг с другом обычно с помощью речи, используя вербальные способности. Напротив, мальчики приобщаются к социуму с помощью более активных действий — через спорт, компьютерные игры, пребывание в свободное время на школьной спортивной площадке, — а на занятиях в классе они обычно ведут себя задиристо. Укреплению этих более широких моделей поведения, как представляется, способствуют действия самих учителей на занятиях — учителя ждут от мальчиков меньшего, чем от девочек, и, обращая внимание на ссоры мальчиков, только поощряют их этим. Существует еще один подход, при котором попытки объяснения указанной проблемы связываются с явлением «парнизма» («laddism») — совокупности установок и взглядов, присущих многим мальчикам и выражающих неприятие образования и учебы в школе. Многие считают, что частота случаев исключения из школы и прогулов среди мальчиков обусловлена их убеждением в том, что учеба — дело «не крутое». Министр школьного образования Стивен Байерс в 1998 г. следующим образом прокомментировал ситуацию: «Мы должны отвергнуть присущую парням, направленную против обучения в школе культуру, которой мы позволили распространиться в последние годы, а не просто пожимать плечами и повторять, что мальчишки всегда будут мальчишками». Мы уже охарактеризовали выше анализ «парнизма», данный Полом Уиллисом в его широко известном исследовании «Учеба для труда». Более двух десятилетий спустя «парнизм» по-прежнему остается мощной силой среди подростков, хотя в совершенно иных обстоятельствах, чем те, которые были описаны Уиллисом. Поскольку превосходство мужчин во многих областях было поставлено под сомнение, изменяется в обществе и понятие о мужественности. Среди безработных больше мужчин, чем женщин, и все больше уходит в прошлое роль мужчины как кормильца семьи. Меняется сам характер труда: мальчики, ориентированные на физический труд, все больше убеждаются, что их представление о будущем не согласуется ни с приоритетами, поддерживаемыми школой, ни с реалиями экономики знания. Если перспективы получить работу ограниченны, квалификация и сама школа кажутся бесполезными и выглядят как пустая трата времени. Действительно ли отставание в учебе связано с гендером? Некоторые ученые ставят под сомнение оправданность того, что так много внимания — и средств — уделяется мальчикам, «отстающим в учебе». По их мнению, мальчики всегда в известной мере учились хуже, чем девочки, и разрыв между полами в степени владения языковыми навыками наблюдается во всем мире. Различия в успеваемости, которые раньше обычно приписывались «здоровой лени», присущей мальчикам, теперь вызывают бурю споров и отчаянные попытки улучшить результаты учебы мальчиков. По мере того как множатся общенациональные программы, проверки учебного процесса, обсуждения в учительской среде и международные обследования грамотности в разных странах, выставляющие указанные различия на всеобщее обозрение, «равные результаты» в образовании становятся высшим приоритетом. Как утверждают критически настроенные ученые, все это внимание к мальчикам служит только для того, чтобы скрыть другие формы неравенства в области образования. Хотя девочки опережают мальчиков во многих сферах, они все еще реже, чем мальчики, выбирают школьные дисциплины, позволяющие сделать карьеру в технологии, науке, инженерном деле. Мальчики вырываются вперед в естественных науках примерно к возрасту одиннадцати лет и продолжают превосходить девушек в успехах во время учебы в университетах: они по-прежнему преобладают в таких науках, как химия и компьютерная наука, которые являются центральными для экономического роста в условиях современной экономики. Хотя все большее число женщин получает высшее образование, их положение на рынке труда все еще остается неблагоприятным по сравнению с положением мужчин, обладающих тем же уровнем квалификации (Epstein et al. 1988). По утверждению некоторых ученых, в наибольшей степени неравенство в системе образования связано не с гендером, но с такими факторами, как классовая и этническая принадлежность. Например, сравнение успехов в учебе учащихся разных социальных классов показывает, что 70 % детей специалистов высшего звена получают пять и более оценок с проходным баллом по сравнению с лишь 14 % детей из рабочего класса. По мнению критиков, было бы ошибкой сосредоточивать все внимание на «отстающих мальчиках», учитывая тот факт, что мужчины по-прежнему занимают в обществе основные позиции, дающие власть. Как они утверждают, отставание в учебе мальчиков из рабочих семей, вполне возможно, меньше обусловлено их полом, чем неблагополучием их социального класса.Гендер и высшее образование
Женские организации в Великобритании и других странах неоднократно подвергали критике дискриминацию по признаку пола в школе и при получении высшего образования. Женщины все еще крайне мало представлены среди преподавателей колледжей и университетов. В 1990 г. в Великобритании было всего 120 профессоров-женщин, что составляло 4 % от общего числа профессоров. Женщины составляли в 1988 г. 31 % всех работающих по контракту научных работников, но только около 7 % штатных сотрудников (Bogdanor 1990). В своей книге «Штурмуя башню» Сюзанна Лай и Вирджиния О’Лири проанализировали статистические данные о положении женщин в сфере высшего образования в разных странах мира, включая Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Германию, Норвегию, Индию и Израиль (Lie and O'Leary 1990). Во всех изученных странах в послевоенный период доля женщин среди студентов непрерывно возрастала. В США, Израиле и Норвегии женщины составили приблизительно половину всех студентов. Однако в том, что касается академических должностей, картина выглядит гораздо менее радужно. Женщины составляли в этих странах только незначительный процент университетских преподавателей, и повсеместно они, как правило, занимали должности более низкого ранга или работали внештатно. Позже в Соединенном Королевстве было проведено независимое исследование оплаты труда преподавателей и условий их работы, которое возглавлял сэр Майкл Бетт и которое было инициировано Управлением экономики рабочей силы (Guardian. 4 and 5 May. 1999). Исследование обнаружило, что имеющим полную нагрузку ученым-мужчинам платили в старых университетах в среднем на 4 259 фунтов стерлингов больше, чем их коллегам-женщинам. Даже в пределах одного ученого ранга женщинам платили меньше, чем мужчинам; так, женщинам-профессорам платили в среднем на 1807 фунтов стерлингов меньше, чем профессорам-мужчинам. Свыше 90 % всех профессоров в этих университетах составляли мужчины.Образование и этническая принадлежность
Социологи провели целый ряд исследований того, как складывались судьбы этнических меньшинств в сфере образования в Великобритании. Правительства спонсировали ряд исследований, в том числе «Образование для всех», Доклад Комитета Суона. В Докладе Суона засвидетельствованы значительные различия в среднем уровне успехов в учебе между группами учащихся различной этнической принадлежности. Дети из семей выходцев из Вест-Индии обычно проявляли себя в школе хуже всего, если судить по формальным учебным оценкам. Вместе с тем, их показатели за последние десять лет улучшились по сравнению с белыми детьми, несмотря на то что экономическое положение их семей в среднем было хуже, чем у белых семей (Swann Committee 1985). Последующие исследования, однако, показали, что эта картина претерпела изменение. Тревор Джоунс в своем исследовании установил, что дети из всех групп этнических меньшинств чаще, чем белые дети, продолжают дневное образование в возрасте от шестнадцати до девятнадцати лет. Только 37 % белых детей продолжали образование в 1988–1990 гг. по сравнению с 43 % детей из семей выходцев из Вест-Индии; 50 % детей из Южной Азии и 77 % китайских детей (Jones 1993). Несмотря на то что картина в целом выглядела благополучно, Джоунс предложил для ее объяснения достаточно негативную причину: многие члены групп этнических меньшинств продолжают учебу, потому что не могут найти работу. В целом в британском высшем образовании члены групп этнических меньшинств представлены достаточно адекватно. В 1998 г. 13 % всех студентов в возрасте до 20 лет, зачисленных в высшие учебные заведения, принадлежали к этническим меньшинствам. Что касается этой возрастной группы населения в целом, то в ней доля этнических меньшинств равняется лишь 9 %. Молодые люди из индийских и китайских семей обычно после школы идут дальше и получают высшее образование, тогда как черные мужчины и женщины — выходцы из Карибского региона, а также женщины из Бангладеш и Пакистана слабо представлены среди учащихся высших учебных заведений (HMSO 2000).Социальное отчуждение и учеба в школе
Как ранее было показано в данной книге, социальное отчуждение представляет собой тему, неизменно вызывавшую на протяжении последнего десятилетия пристальный интерес социологов. В социологии образования часто указывали на связь между исключением учащихся из школы и такими другими явлениями, как прогулы, правонарушения, бедность, недостаточный надзор родителей и отсутствие желания получить образование.Таблица 16.2 Процент учащихся, исключенных из школ, по этническим группам. Англия. Январь 1998 г.
 Число исключенных учеников в процентном отношении к числу учащихся всех возрастов, проходивших обучение полную неделю или часть недели.
Источник: Department for Education and Employment. From Social Trends. 30. 2000. P. 52. Crown copyright.
Число исключенных учеников в процентном отношении к числу учащихся всех возрастов, проходивших обучение полную неделю или часть недели.
Источник: Department for Education and Employment. From Social Trends. 30. 2000. P. 52. Crown copyright.
Процент исключенных из школы в последние годы постоянно возрастал, в 1997/98 учебном году из английских школ были исключены более 12 000 учащихся. 84 % исключенных составляли юноши. Процент исключенных различался также в отношении учащихся разной этнической принадлежности (см. табл. 16.2). Так, в 1998 г. общий процент исключенных был равен 0,18; в то же время среди черных учащихся из Карибского региона доля исключенных была 0,76 %. Напротив, среди китайских и индийских учащихся наблюдалась самая низкая доля исключенных — 0,05 и 0,09 % соответственно. Результаты, полученные для американских школ, отражают сходные соотношения исключенных черных учащихся и учеников другой этнической принадлежности. Как можно объяснить высокий процент исключенных среди черных подростков? По всей вероятности, это вызвано рядом факторов. Возможно, что в отдельных случаях метод исключения применялся под влиянием расовой дискриминации. В Соединенных Штатах, после нескольких инцидентов со стрельбой в школах, в более чем 80 % американских школ была принята политика «нулевой терпимости» к недисциплинированным нарушителям порядка. Общенациональное исследование результатов подобного курса показало, что черные учащиеся исключались из школ в количестве, непропорционально большом по сравнению с их представленностью в коллективах учеников, и в количестве, которое вряд ли объясняется только вспышками неповиновения в школах. В Сан-Франциско, например, на долю черных учащихся приходится 52 % исключенных, тогда как они составляют только 16 % всех школьников. В Финиксе, где черные составляют 4 % населения, среди исключенных учащихся их 21 %. Важно также учитывать, что количество исключений из школы может отражать гораздо более широкие модели исключенности людей из жизни общества и их неблагополучного положения в нем. Как мы уже говорили в настоящей книге, многие молодые люди растут в трудных условиях при отсутствии руководства и поддержки со стороны взрослых. Традиционные представления о мужественности находятся под угрозой, а устойчивые перспективы на будущее отсутствуют. Молодым людям, растущим в такой неспокойной атмосфере, школа может показаться чем-то оторванным от жизни и слишком авторитарным, а совсем не местом, где закладываются основы для благополучного будущего и продвижения вперед.
Коэффициент умственного развития и успехи в образовании
В нашем обсуждении мы до сих пор не касались вопроса о наследственных различиях в способностях и утверждения некоторых относительно того, что неодинаковые успехи в образовании и последующая разница в профессиональном статусе и доходе прямо отражают различие в умственных способностях. А если дело обстоит так, то, по их утверждению, в школьной системе, вполне вероятно, реально существует равенство возможностей, но каждый человек находит свой уровень, соответствующий его врожденному потенциалу.Что такое умственное развитие?
В течение долгих лет психологи спорили между собой о том, существует ли такое единое человеческое качество, которое можно было бы назвать интеллектом, и если оно существует, то зависит ли оно от различий, обусловленных наследственностью. Интеллект трудно определить, потому что он охватывает много различных, зачастую не связанных между собой качеств. Так, мы могли бы предположить, что «самой чистой» формой интеллекта является способность решать абстрактные математические головоломки. Однако люди, которые очень хорошо решают такие головоломки, обнаруживают иногда весьма слабые способности в других областях, например плохо усваивают изложение исторических событий или совсем не понимают искусство. Поскольку понятие интеллекта оказалось столь трудноопределимым, некоторые психологи предложили (и многие деятели образования за неимением лучшего согласились) рассматривать интеллект просто как то, «что измеряется тестами по определению коэффициента умственного развития» (IQ — intelligence quotient — коэффициент умственного развития как измерение интеллекта). Неудовлетворительный характер такого решения совершенно очевиден, поскольку определение интеллекта при этом становится не чем иным, как порочным кругом. Большинство тестов по определению IQ представляют собой смесь логических и вычислительных задач. Тесты построены таким образом, что среднее число баллов составляет сто пунктов; человек, получивший меньшее количество баллов, считается, следовательно, обнаружившим «умственные способности ниже средних»; человек, набравший большее количество баллов, считается обладающим «умственными способностями выше среднего уровня». Несмотря на принципиальную трудность измерения интеллектуальных способностей, тесты по определению IQ широко используются в научно-исследовательской работе, а также в школах и в бизнесе. Коэффициент умственного развития и генетические факторы Баллы, полученные при тестах по определению IQ, на практике в значительной степени совпадают с успехами в учебе (что неудивительно, поскольку тесты по определению IQ первоначально были созданы для предсказания успешности занятий в школе). Они, следовательно, также четко коррелируют с социальными, экономическими и этническими различиями, поскольку они связаны с расхождениями в уровне успехов в образовании. Белые учащиеся в среднем набирают больше баллов, чем черные ученики или члены других неблагополучных меньшинств. В 1969 г. была опубликована статья Артура Дженсена, которая произвела шок, — в ней различия между белыми и черными, установленные при определении IQ, частично объяснялись различиями генетическими (Jensen 1967, 1979). Ближе к нашим дням психолог Ричард Д. Херрнстейн и социолог Чарлз Марри вновь открыли дискуссию об IQ и образовании весьма полемическим образом. В книге «Кривая нормального распределения: интеллект и классовая структура в американской жизни» они утверждают, что собранные свидетельства, связывающие IQ с генетическим наследством, стали в настоящее время неопровержимыми. Значительные различия в умственных способностях между разными расовыми и этническими группами, по их мнению, следует частично объяснять исходя из наследственности (Herrnstein and Murray 1994). Большинство цитируемых ими свидетельств взяты из исследований, проведенных в США. По утверждению Херрнстейна и Марри, данные материалы показывают, что некоторые этнические группы имеют в среднем более высокий IQ, чем другие группы. Так, американцы азиатского происхождения, особенно выходцы из Японии и Китая, обладают, как правило, в среднем более высоким коэффициентом интеллекта, чем белые американцы, хотя это различие не столь велико. Вместе с тем средняя величина IQ выходцев из Азии и белых существенно выше, чем у черных. Обобщая данные, заимствованные из 156 исследований, Херрнстейн и Марри устанавливают, что среднее различие между указанными двумя расовыми группами составляет шестнадцать пунктов. Авторы утверждают, что подобные различия в унаследованных интеллектуальных способностях оказывают существенное влияние на социальное разделение американского общества. Чем умнее индивидуум, тем больше шансов у него подняться по социальной лестнице. Те, кто находится на самой вершине, попали туда частично потому, что они более умны, чем остальная часть населения, из чего следует, что люди, находящиеся внизу, остаются там, как правило, потому, что не столь умны. Критики взглядов Херрнстейна и Марри отрицают, что различия в IQ между расовыми и этническими группами имеют генетическое происхождение. Они считают различия в IQ результатом социальных и культурных различий. По их мнению, тесты по определению IQ включают такие вопросы, например связанные с абстрактным рассуждением, которые скорее присущи жизненному опыту более зажиточных белых учащихся, чем черных или представителей этнических меньшинств. На результаты тестов по определению IQ могут также повлиять некоторые факторы, не имеющие ничего общего со способностями, которые должны якобы измеряться, такие, например, как атмосфера напряженности при проведении тестирования. Так, исследование показало, что если тестирование на IQ проводил белый, результаты афроамериканцев были на шесть баллов ниже, чем в тех случаях, когда тестирование проводил черный (Kamin 1977). Социологи, обследовавшие группы бесправных этнических меньшинств в других странах, таких как «неприкасаемые» в Индии, маори в Новой Зеландии и буракумины в Японии[20], с уверенностью утверждают, что различия в IQ между афроамериканцами и белыми в США обусловлены социальными и культурными расхождениями. Во всех обследованных ими группах дети при тестировании на IQ набирали в среднем на десять-пятнадцать баллов меньше, чем дети, принадлежавшие к этническому большинству. Этот вывод получил дальнейшую поддержку при сравнительном изучении четырнадцати стран (включая Соединенные Штаты), которое показало значительный рост среднего показателя IQ за последние полстолетия для всего населения в целом (Coleman 1987). Тесты по определению IQ постоянно обновляются. Когда одной и той же группе людей даются старые и новые варианты тестов, по старым тестам люди набирают значительно большее количество баллов. Современные дети, когда им при тестировании на IQ были даны задания 1930-х гг., набрали в среднем на пятнадцать баллов больше, чем группы 1930 г. — как раз такая же средняя разница, какая в наши дни разделяет черных и белых. Теперешние дети не имеют врожденного превосходства в интеллектуальных способностях по сравнению с их родителями или дедушками и бабушками; изменение, по-видимому, объясняется увеличением благосостояния и социальных возможностей. В среднем социальный и экономический разрыв между белыми и афроамериканцами по меньшей мере столь же велик, как разрыв между разными поколениями, и этого достаточно, чтобы объяснить расхождения в количестве баллов при тестировании на IQ. В то же время, среднее количество баллов, определенное для групп в целом, ничего не дает для предсказания уровня умственного развития каждого отдельного члена этой группы. Возможно, различия между отдельными людьми, влияющие на количество баллов при тестировании на IQ, частично являются генетическими, однако утверждение о том, что некоторые расы в целом умнее других рас, остается бездоказательным и маловероятным. Сражения по поводу «Кривой нормального распределения» В книге «Сражения по поводу „Кривой нормального распределения“» несколько известных ученых, собравшись вместе, проанализировали взгляды Херрнстейна и Марри. Редактор тома характеризует книгу указанных авторов «Кривая нормального распределения» как «самое подстрекательское сочинение в социальной науке за последние десять или даже более лет». Заявления и утверждения авторов книги «вызвали мгновенные потоки писем редакторам всех крупных журналов и газет, не говоря уже о комментариях в радио-и телевизионных шоу» (Fraser 1995, 3). Один из участников издания «Сражения по поводу „Кривой нормального распределения“», Стивен Джей Гоулд, говорит о том, что Херрнстейн и Марри ошибаются по четырем основным пунктам. Он оспаривает их утверждение о том, что интеллект можно определить с помощью одного числового показателя IQ; что людей можно сколько-нибудь осмысленно ранжировать с помощью одной-единственной шкалы интеллектуальных способностей; что интеллект выводится в значительной степени из генетического наследства; и что интеллект не может изменяться. Гоулд показывает, что каждое из подобных допущений сомнительно. Другой участник издания, Говард Гарднер, утверждает, что научные исследования, которые велись на протяжении столетия, рассеяли представление об «интеллекте» как общей категории. Существует только «совокупность умственных способностей» — практических, музыкальных, математических и т. д. Другие участники издания «Сражения по поводу „Кривой нормального распределения“» указывали, что нет сколько-нибудь устойчивого соотношения между количеством баллов IQ и будущим качеством выполнения работы. Общий вывод участников обсуждения книги Херрнстейна и Марри гласил: «расистская псевдонаука». В заключение Гоулд пишет: «Мы должны бороться с доктриной авторов „Кривой нормального распределения“ потому, что она ошибочна, а также потому, что если она будет реанимирована, это отрежет всякую возможность правильного формирования интеллекта людей. Разумеется, мы не можем все быть строителями космических ракет или заниматься хирургией мозга, но те, кто не имеет таких способностей, вполне вероятно, станут рок-музыкантами или профессиональными спортсменами (и будут иметь тем самым гораздо более высокий социальный престиж и доходы)...» (Gould 1995, 22).Эмоциональный и межличностный интеллект
В своей книге того же названия «Эмоциональный и межличностный интеллект» Дэниел Гоулмен высказал убеждение, что, по-видимому, «эмоциональный интеллект», во всяком случае, не менее важен, чем IQ, в определении того, насколько успешна наша жизнь. Эмоциональный интеллект проявляется в том, как люди используют свои эмоции, — это способность ставить перед собой цели, сдерживать себя, вдохновляться и быть настойчивым. В общем и целом эти качества не являются наследственными, и чем больше детей можно научить им, тем больше шансов будет у них использовать свои интеллектуальные способности (Goleman 1996). По словам Гоулмена: «Самые талантливые из нас могут потерпеть кораблекрушение на мелководье необузданных страстей и бурных импульсов, столкнувшись со скрытой опасностью: люди с высоким IQ могут быть ужасающе плохими лоцманами в своей личной жизни» (Goleman 1996, 34). Здесь кроется одна из причин того, почему измерения обычного интеллекта не слишком точно коррелируют с последующими достижениями человека. Так, в одном исследовании были прослежены судьбы 95 студентов Гарварда, закончивших его в 1940-х гг. К тому времени все они были уже людьми среднего возраста, и обнаружилось, что с точки зрения профессиональной карьеры те из них, у кого в колледже были высокие показатели IQ, добились лишь ненамного больших успехов, чем те студенты, которые тогда набрали меньше баллов. Авторы другого исследования обратились к другому концу шкалы IQ. Они обследовали 450 юношей из района трущоб около Гарварда, причем две трети юношей были из семей, живущих на социальное пособие. У трети юношей из этой группы показатель IQ был ниже 90. И снова IQ имел только слабое отношение к их последующей карьере. Например, 7 % молодых людей с IQ ниже 80 баллов были безработными, но работы не имели также и 7 % с IQ выше 100. Такие способности, проявляющиеся в детстве, как умение сдерживать свои эмоции и ладить с другими детьми, давали возможность более точного предсказания. Как сформулировал это Говард Гарднер:Межличностный интеллект представляет собой способность понимать других людей: какая у них мотивация, как они работают, как работать в сотрудничестве с ними. Люди, преуспевшие в торговле, политики, учителя, лечащие врачи и религиозные лидеры — все с большой долей вероятности являются людьми с высоким уровнем межличностного интеллекта. Межличностный интеллект — это способность построить точную, соответствующую действительности модель своей личности и уметь использовать эту модель, чтобы эффективно действовать в жизни (Gardner 1993, 9).Следует пересмотреть наше представление об интеллекте и включить в него многообразные факторы, способствующие успеху в жизни. Нечто сходное можно сказать и о самом образовании. Образование представляет собой гораздо более широкое явление, чем формальное школьное обучение. Оно также не может больше считаться подготовительным этапом перед тем временем, когда человек начнет работать. По мере того как изменяются технологии, изменяются необходимые умения и навыки, и даже если рассматривать образование с чисто профессиональной точки зрения — как дающее навыки, важные для трудовой деятельности, — по единодушному мнению большинства ученых, в будущем людям нужно будет учиться на протяжении всей жизни.
Заключение: учиться всю жизнь
Новые технологии и возникновение экономики знания трансформируют традиционные представления о труде и образовании. Сами темпы изменения технологий ведут к гораздо более быстрой реорганизации видов трудовой деятельности, чем это было раньше. Как уже говорилось выше в данной главе, а также в главе 13 («Труд и экономическая жизнь»), обучение и получение квалификации происходят теперь не только один раз в жизни, в ранней молодости, но на протяжении всей жизни людей. В середине профессиональной карьеры специалисты принимают решение усовершенствовать свою квалификацию с помощью непрерывных образовательных программ и обучения с помощью Интернета. Многие предприниматели в наши дни разрешают своим работникам участвовать в обучении в рабочие часы, видя в этом способ укрепления лояльности и повышения уровня квалификации работниковкомпании. Поскольку наше общество продолжает трансформироваться, изменяются также традиционные представления и институт, служившие ему опорой. Понятие образования, предполагающее структурированную передачу знания в условиях официального учебного заведения, уступает место более широкому понятию учения, которое происходит в самой разной обстановке. Этот сдвиг от «образования» к «учению» не остался без последствий. Люди, которые учатся, — это социально активные, любознательные личности, которые могут черпать вдохновение из многообразных источников, не только в обстановке учебного заведения. Делая упор на учении, мы признаем тем самым, что навыки и знания можно приобрести путем самых разных типов контактов — с друзьями и соседями, на семинарах и в музеях, в разговорах в местном пабе, через Интернет и другие средства информации и т. д. Перемещение центра внимания на обучение на протяжении всей жизни можно уже заметить и в самих школах, где расширяется круг возможностей для школьников учиться вне стен классной комнаты. Границы между школой и внешним миром рушатся не только с помощью киберпространства, но также и в окружающем физическом мире. Например, «обучение через оказание услуг» стало оплотом многих американских средних школ. Выполняя одно из требований, предъявляемых к выпускникам школ, ученики посвящают определенное время социальной работе, трудясь волонтерами в общине. Обычным явлением в США и Соединенном Королевстве стало партнерство школ с местными бизнесменами, благоприятствующее взаимодействию и отношениям наставничества между взрослыми специалистами и школьниками. С целью поощрения граждан к продолжению образования в Великобритании был создан инновационный «банк обучения». Если человек сделал небольшой начальный взнос на Индивидуальный счет обучения в этом банке, государство добавляет к его счету более крупную сумму. Можно взять со своего Индивидуального счета обучения деньги для оплаты образовательных курсов любого типа, включая переобучение для приобретения новых технических или рабочих навыков. «Университет для промышленности», включающий местные обучающие центры в таких местах, как церкви, супермаркеты и футбольные клубы, стимулирует людей продолжать свое образование в их собственном регионе. Учение на протяжении всей жизни должно сыграть и обязательно сыграет свою роль в движении к обществу знания. Это важно не только для осуществления хорошо обученной целеустремленной рабочей силы, учение следует рассматривать также в отношении к более масштабным человеческим ценностям. Учение — одновременно и средство, и цель развития непрерывного и автономного самообразования, поставленного на службу саморазвитию и самопониманию. В этой идее нет ничего утопического; по существу, она отражает гуманистические идеалы образования, созданные учеными — специалистами в области образования. Примером, который уже реально существует, может служить «университет третьего возраста», который дает людям пенсионного возраста возможность получить такое образование, какое они хотят, обучая тем предметам, какие представляют для них интерес.Краткое содержание
1. Образование в его современной форме, подразумевающей обучение учеников в специально созданных школьных помещениях, начало складываться по мере распространения печатных материалов и более высокого уровня грамотности. Большее число людей и в большем числе мест получило возможность сохранять, воспроизводить и потреблять знания. С наступлением индустриализации труд стал более специализированным, и большее число людей приобрело абстрактные знания в добавление к практическим навыкам чтения, письма и счета. 2. Распространение образования в XX в. тесно связано с явно ощущаемой потребностью в грамотной и дисциплинированной рабочей силе. По мере движения к экономике знания образование будет играть еще более важную роль. В связи с сокращением нужды в неквалифицированном физическом труде, рынок труда потребует работников, знакомых с новыми технологиями, способных приобретать новые навыки и работать творчески. 3. В соответствии с Законом об образовании 1944 г., каждый гражданин Соединенного Королевства имел возможность получить бесплатно среднее образование, а минимальный возраст выпускника средней школы был увеличен до пятнадцати лет. Государственное среднее образование давали классические школы, средние современные школы и небольшое число технических школ. Экзамен элевен-плас стал средством разделения учащихся по типам средних школ в соответствии со способностями учащихся. 4. В 1960-х гг. была введена система единой средней школы. Экзамен элевен-плас был отменен, большинство классических школ и все средние современные школы были упразднены. В последующие годы единая государственная школьная система сама неоднократно подвергалась критике. Критики единой школьной системы признают, что она не смогла добиться тех высоких стандартов в образовании, на которые надеялись ее создатели. 5. Высшее образование получило в Великобритании значительное распространение после Второй мировой войны: были созданы новые высшие учебные заведения («краснокирпичные» университеты) и увеличилось число поступающих в них студентов, особенно среди женщин. Однако высшее образование в Великобритании испытывает кризис финансирования. Чтобы оплатить расходы на высшее образование, многие студенты в настоящее время прибегают к субсидиям. 6. Информационные технологии все больше внедряются в процесс образования — и в аудиториях, и путем создания «е-университетов», и посредством распространения обучения с использованием Интернета. Существует обеспокоенность, что люди, компьютерно неграмотные и не имеющие доступа к новым технологиям, могут страдать от так называемой «информационной бедности». 7. Приватизация образования означает вовлечение частных компаний в управление образовательными учреждениями. В Великобритании и Соединенных Штатах ограниченная приватизация была осуществлена, с тем чтобы улучшить работу школ, хронически показывающих плохие результаты. Сторонники такого подхода считают, что проникновение рыночных отношений в систему образования приведет к повышению качества школьного обучения; критики приватизации образования утверждают, что коммерческие интересы — чужеродное явление в области образования. 8. На понимание образования и школьного обучения оказали влияние различные социологические теории. Согласно теории Бернстейна, дети, обладающие усложненными речевыми кодами, лучше справляются с требованиями формального образования, чем дети, владеющие ограниченными кодами. 9. Официальная школьная учебная программа представляет собой только часть более широкого процесса воспроизводства культуры, на который оказывают влияние многие неформальные аспекты обучения, образования и школьной обстановки. «Скрытая программа» играет важную роль в воспроизводстве культуры. 10. В организации работы школ и в самом школьном обучении наблюдается тенденция сохранения гендерного неравенства. Правила, устанавливающие ношение различной одежды для девочек и мальчиков, поддерживают разделение по признаку пола, как и учебные тексты, содержащие укоренившиеся стереотипы о различии полов. Несмотря на все еще сохраняющиеся тенденции, девочки на протяжении последнего десятилетия постоянно опережали мальчиков на всех уровнях системы образования. Озабоченность, которую вызывают «неуспевающие мальчики», связана с такими более крупными социальными проблемами, как преступность, безработица и отсутствие отцов в неполных семьях, хотя некоторые социологи придерживаются мнения, что столь большое внимание к этой проблеме является необоснованным. 11. Поскольку определение понятия «интеллект» вызывает трудности, по этому вопросу существует большое количество противоречивых мнений. Некоторые ученые утверждают, что средний показатель IQ той или иной группы детерминирован генетически; другие полагают, что он обусловлен социальными факторами. Более весомыми представляются свидетельства тех ученых, которые говорят о социальных и культурных воздействующих факторах. 12. Новые технологии и экономика, основанная на знании, меняют наши представления об образовании и школьном обучении; привычное формальное образование уступает место идее учения в течение всей жизни. Расширяются возможности для людей на протяжении всей их жизни учиться и приобретать профессиональные навыки вне стен привычных аудиторий.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Для чего нужно образование? 2. Может ли образование преодолеть социальное неравенство? 3. Какова должна быть политика, стимулирующая людей получать высшее образование? 4. Делают ли современные технологии «общество без школ» возможным или желательным? 5. Как могла бы скрытая учебная программа проявиться в компьютерном классе? 6. Следует ли школам и колледжам обращать больше внимания на развитие эмоционального интеллекта?Дополнительная литература
Benn Caroline and Chitty Clyde. Thirty Years On: Is Comprehensive Education Alive and Well or Struggling to Survive? London: David Fulton, 1996. Epstein Debbie et al. Failing Boys: Issues in Gender and Achievement. Buckingham: Open University Press, 1998. Halsey A. H. et al. Education: Culture, Economy and Society. Oxford: Oxford University Press, 1997.Интернет-линки
Образовательная инициатива XXI века http://www.21learn.org Министерство образования и ремесел (Соединенное Королевство) www.dfee.gov.uk Энциклопедия философии образования http://www.educacao.pro.br/ ЮНЕСКО-образование http://www.unesco.org/educationГЛАВА 17 РЕЛИГИЯ
На протяжении тысячелетий религия оказывала огромное влияние на жизнь людей. В той или иной форме религия обнаруживается во всех известных человеческих обществах. В самых древних засвидетельствованных обществах, о которых нам известно только благодаря археологическим находкам, мы находим явные следы религиозных символов и ритуалов. В ходе последующей истории религия продолжала быть центральной частью жизни людей, воздействуя на то, как они воспринимают окружающую действительность и реагируют на нее. Однако в отношениях между религиозными воззрениями и современным рационалистическим мышлением существует известная напряженность. По мере развития современного общества рационалистический взгляд захватил многие стороны нашего существования, и по-видимому, его влияние в предсказуемом будущем вряд ли ослабеет. И тем не менее, можно ожидать, что всегда будут выступления против науки и рационалистического мышления, потому что они не дают ответа на такие фундаментальные вопросы, как смысл и цель нашей жизни. А именно эти вопросы всегда были в самом центре религии и именно они поддерживали идею религии, эмоциональный скачок в веру. Временами религия и наука находились в противостоянии друг другу. Споры между сторонниками теории эволюционного происхождения человека и приверженцами теории сотворения человека ярко обрисовывают два совершенно различных подхода к пониманию происхождения человека. Однако в другие периоды религия и наука могут переплетаться самым странным и неожиданным образом. Так обстояло дело во время удивительного события 21 сентября 1995 г., когда божества в некоторых святых индуистских храмах Индии якобы пили молоко, поднесенное им их почитателями. К концу указанного дня, по мере того как известие о чуде передавалось из уст в уста и с помощью радио и телевидения, было подсчитано, что несколько миллионов людей лично попытались предложить богам молоко. Почти во всех индийских больших и малых городах толпы людей собирались на улицах перед храмами. Общественные места приняли вид «импровизированного религиозного празднества». Школы, офисы и другие учреждения в течение дня практически опустели, и все больше и больше людей выходило на улицы. Однако на следующий день, когда фанатичные верующие и просто любопытствующие пришли к храмам, чудо исчезло. Казалось, что боги больше не хотели пить поднесенное молоко. По словам антрополога Дениса Видала, описавшего данный феномен с достаточной подробностью, невозможно сколько-нибудь точно подсчитать количество людей, предложивших 21 сентября молоко богам. Подсчеты, проведенные после события, показывают, что принять участие в эксперименте попытались около 50 % взрослого населения в Дели, 59 % в Калькутте и 49 % в Бомбее. Если учесть, что еще больше людей приняло участие в событии дома, в маленьких городах и за границей, данный феномен, вполне возможно, захватил несколько миллионов человек (Vidal 1998). В течение недель, которые последовали за указанным событием, исследование, проведенное в Бомбее, показало, что мнения поровну разделились между теми, кто принял научное объяснение, и теми, кто верил в подлинность чуда. Результаты опроса опровергли ожидания многих ученых, считавших, что реакция людей на указанный феномен будет зависеть от социального происхождения, образования и культурных пристрастий. Тот факт, что значительная часть образованных индийцев, жителей городов верила в чудо, продемонстрировал, по словам Видала, «как много людей в наши дни в Индии — особенно в городских регионах — сочетают в своей повседневной жизни установки и мнения, свидетельствующие об их религиозных чувствах, и одновременно откровенный прагматизм и рационализм» (Vidal 1998, 168). Почему религия так глубоко пронизывает человеческие общества? Как меняется роль религии в обществах в наши дни? При каких условиях религия объединяет сообщества, а при каких разъединяет их? Почему религия имеет такую ценность для жизни людей, что они готовы пожертвовать собой за ее идеалы? Вот те вопросы, на которые мы попытаемся дать ответ в настоящей главе. Для осуществления этой задачи нам придется сначала выяснить, что в действительности представляет собой религия, и рассмотреть несколько различных форм, которые принимают религиозные верования и обряды. Мы также обсудим основные социологические теории религии и проанализируем различные типы религиозных организаций, которые возможно выделить. И везде нас будет интересовать судьба религии в современном мире, поскольку многим наблюдателям представляется, что по мере развития науки и современной индустрии религия утратила ту ключевую роль в социальной жизни, какую она играла до наступления нашего времени. Изучение религии — чрезвычайно трудное дело, предъявляющее совершенно особые требования к воображению социолога. Анализируя религиозные обычаи, мы должны осмыслить многие различные верования и ритуалы, существующие в различных человеческих культурах. Мы должны прочувствовать идеалы, которые внушают глубокую убежденность верующим, и одновременно отнестись к ним беспристрастно. Мы должны оценить идеи, обращенные к вечности, и в то же время помнить, что религиозные группы преследуют также вполне мирские цели — такие как сбор финансовых средств или привлечение последователей. Мы должны признать многообразие религиозных верований и способов поведения, но одновременно также исследовать сущность религии как общего феномена.Определение религии
Многообразие религиозных верований и организаций настолько велико, что ученые столкнулись с огромными трудностями, пытаясь дать приемлемое для всех определение религии. На Западе большинство людей отождествляют религию с христианством — верой в высшее существо, которое побуждает нас вести себя на земле в соответствии с заповедями морали и обещает нам вечную жизнь. Разумеется, мы не можем определить религию в целом исходя из этих понятий. Подобные верования, как и многие другие аспекты христианства, в большинстве мировых религий отсутствуют.Чем религия не является
Чтобы преодолеть опасность культурно предвзятого понимания религии, самое правильное, вероятно, для начала сказать, чем религия не является, исходя из общих соображений. Так, во-первых, религию не следует отождествлять с монотеизмом (верой в одного Бога). В большинстве религий признается множество божеств. Даже в некоторых разновидностях христианства существует несколько фигур, обладающих божественными качествами: Бог, Иисус, Дева Мария, Святой Дух, ангелы и святые. В некоторых религиях боги вообще отсутствуют. Во-вторых, религию не следует отождествлять с моральными предписаниями, контролирующими поведение верующих, — подобно Заповедям, которые Моисей якобы получил от Бога. Представление о том, что боги интересуются тем, как люди ведут себя на земле, чуждо для многих религий. Например, для древних греков боги были в основном равнодушны к поступкам людей. В-третьих, религия совсем не обязательно связана с объяснением того, как мир стал таким, какой он есть. В христианстве происхождение человеческого рода объясняется в мифе об Адаме и Еве; мифы о происхождении такого рода имеются во многих религиях, но равным образом, во многих религиях таких мифов нет. В-четвертых, религию нельзя отождествлять со сверхъестественными явлениями, как изначально предполагающую веру в мир «за пределами сферы наших чувств». Конфуцианство, например, стремится к тому, чтобы принять естественную гармонию мира, а не к поиску истин, «лежащих за» ним.Чем религия является
Характерные черты, которые, как представляется, действительно присущи всем религиям, следующие. Религия предполагает наличие системы символов, вызывающих чувство благоговения или страха, и связана с ритуалами или церемониями (как, например, церковное богослужение), в которых принимает участие община верующих. Каждый из этих элементов нуждается в некотором уточнении. Независимо от того, предполагают или нет верования в той или иной религии существование богов, практически всегда в ней имеются существа или предметы, внушающие отношение благоговейного страха или чуда. В некоторых религиях, например, люди веруют в «божественную силу» и поклоняются ей, а не персонифицированным богам. В других религиях существуют личности, не являющиеся богами, но глубоко почитаемые, — например, Будда или Конфуций. Обряды, ассоциируемые с религией, очень многообразны. Ритуальные действия могут включать молитвы, монотонное молитвенное песнопение, пение, вкушение определенного вида пищи — или воздержание от этого — пост по определенным дням и т. д. Поскольку ритуальные действия направлены на религиозные символы, они обычно считаются принципиально отличными от обычаев и действий повседневной жизни. Так, зажечь свечу, чтобы почтить или умиротворить бога, имеет совершенно иной смысл, чем сделать то же самое для освещения комнаты. Религиозные ритуалы часто совершаются людьми в одиночестве, но во всех религиях существуют также обряды, совершаемые верующими коллективно. Регулярные церемонии происходят, как правило, в специальных местах — церквях, храмах или святых местах наподобие тех, где в Индии случилось «чудо» и боги пили молоко. Наличие коллективных обрядов рассматривается обычно социологами как один из основных факторов, отличающих религию от магии, хотя граница между ними отнюдь не является отчетливой. Магия представляет собой воздействие на события с помощью снадобий, песнопений или ритуальных действий. Обычно это действо осуществляется отдельным человеком, а не группой верующих. Часто люди решаются прибегнуть к магии в ситуации несчастья или опасности. Так, Бронислав Малиновский в своем классическом исследовании, посвященном жителям островов Тробриан в Тихом океане, описывает множество магических обрядов, которые островитяне совершали перед каждым сопряженным с риском плаванием на каноэ (Malinovski 1982). Когда жители островов просто отправлялись на рыбную ловлю в безопасных и спокойных водах местных лагун, они таких обрядов не совершали. Хотя в современных обществах магические ритуалы по большей части исчезли, в ситуациях опасности суеверия, подобные магии, все еще достаточно широко распространены. Многие люди, занятые в профессиях, сопряженных с риском, или там, где случайные факторы могут существенным образом повлиять на результаты деятельности — например шахтеры, рыбаки, ведущие промысел рыбы в глубоких водах, игроки в спортивные игры — прибегают к небольшим суеверным ритуалам или берут с собой в минуты стресса определенные предметы. Примером может служить теннисист, который постоянно во время крупных соревнований носит определенное кольцо. Предсказание будущего по расположению звезд, основанное на астрологических верованиях, которые были унаследованы от магических представлений предшествовавшей эпохи, все еще имеет приверженцев, хотя большинство людей не воспринимает такие предсказания слишком серьезно.Разновидности религии
В традиционных обществах религия обычно играет в социальной жизни центральную роль. Религиозные символы и ритуалы часто соединяются с материальной и эстетической культурой общества — музыка, живопись или резьба, танец, сказывание сказок и литература. В небольших культурах нет профессиональных священнослужителей, но всегда имеются определенные люди, специализирующиеся в знании религиозных (и часто магических) обрядов. Хотя существует много разновидностей подобных специалистов, одним из распространенных типов является шаман (слово, возникшее у индейцев Северной Америки). Шаман — это человек, который, как считается, способен с помощью ритуальных средств управлять духами или сверхъестественными силами. Шаманы, однако, иногда представляют собой, по существу, чародеев, а не религиозных вождей, и к ним зачастую обращаются за советом люди, не удовлетворенные тем, что предлагается им в религиозных ритуалах общины.Тотемизм и анимизм
Две формы религии, которые часто встречаются в небольших культурах — это тотемизм и анимизм. Слово «тотем» возникло у индейских племен Северной Америки, но широко употреблялось для обозначения разновидностей животных и растений, которым приписывалась сверхъестественная сила. Обычно каждый род или клан внутри общества имели свой собственный конкретный тотем, с которым связаны различные ритуальные действия. Тем, кто живет в индустриальных странах, тотемические верования, возможно, покажутся чуждыми, тем не менее, в некоторых сравнительно небольших сообществах вполне привычными являются символы, аналогичные тотемным — как, например, когда члены спортивной команды выбирают в качестве своей эмблемы какое-нибудь животное или растение. Талисманы это тоже тотемные символы. Анимизм — это вера в духов или призраков, которые, как считается, населяют тот же мир, что и человеческие существа. Такие духи воспринимаются как доброжелательные или недоброжелательные и как оказывающие влияние на поведение людей во многих отношениях. В некоторых культурах, например, считается, что духи навлекают болезни или безумие и могут также овладевать людьми или вселяться в них, чтобы таким образом контролировать их поведение. Анимистические верования не ограничены небольшими культурами, но встречаются в той или иной степени, вплетаясь во многие религии. В средневековой Европе те, кого считали одержимыми злыми духами, часто подвергались преследованиям как колдуны или ведьмы. Небольшие, на первый взгляд, «простые» общества нередко обладают сложными системами религиозных верований. Тотемизм и анимализм более обычны для этих обществ, чем для более крупных обществ, но иногда небольшим обществам присущи гораздо более сложные религии. И. И. Иванс-Притчард свидетельствует, что племя нуэр из южного Судана обладало весьма многосложной системой теологических понятий, центром которой был «высший бог» или «дух неба» (Evans-Pritchard 1956). Однако религии, сближающиеся с монотеизмом, сравнительно редко встречаются в небольших традиционных культурах. Такие религии в большинстве тяготеют к политеизму, здесь существует вера во многих богов.Иудаизм, христианство и ислам
Тремя наиболее влиятельными монотеистическими религиями в мировой истории являются иудаизм, христианство и ислам. Все они возникли на Ближнем Востоке, и каждая испытала влияние других. Иудаизм Иудаизм является древнейшей из указанных трех религий, датируется приблизительно первым тысячелетием до н. э. Древние евреи были кочевниками, жившими в Древнем Египте и вокруг него. Их пророки, или религиозные вожди, частично заимствовали свои представления из религиозных верований данного региона, но отличались своей приверженностью к единому всемогущему Богу. Большинство же их соседей были политеистами. Древние евреи верили, что Бог требует подчинения суровым моральным законам, и с упорством настаивали на том, что обладают монополией на истину, считая свои верования единственно истинной религией (Zeitlin 1984, 1988). До создания государства Израиль вскоре после окончания Второй мировой войны не существовало государства, в котором иудаизм был бы официальной религией. Еврейские общины продолжают существовать в Европе, Северной Америке и Азии, хотя они часто подвергались преследованиям, кульминацией которых было убийство миллионов евреев нацистами в концентрационных лагерях во время войны. Христианство Многие понятия иудаизма были переняты и включены в христианство. Иисус был ортодоксальным евреем, и христианство возникло первоначально как секта иудаизма; не вполне ясно, хотел ли Иисус основать отдельную религию. Его ученики воспринимали его как Мессию (древнееврейское слово, означающее «помазанник», которому в греческом языке соответствует слово «Христос»), ожидаемого евреями. Павел, гражданин Рима, говоривший по-гречески, был главным инициатором распространения христианства, широко проповедуя христианство в Малой Азии и Греции. Хотя христиане подвергались жестоким гонениям, император Константин в конце концов принял христианство в качестве официальной религии Римской империи. Распространившись, христианство стало доминирующей силой западной культуры на последующие две тысячи лет.Таблица 17.1 Религиозная принадлежность населения земного шара. 1993 г.
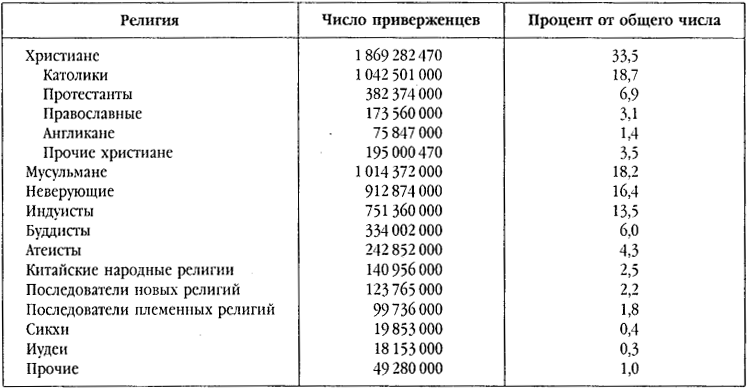 Источник: Statistical Abstract of the United States. 1994. P. 855.
Источник: Statistical Abstract of the United States. 1994. P. 855.
В наши дни христианство имеет большое число приверженцев и больше распространено в мире, чем любая другая религия. Свыше миллиарда человек считают себя христианами, но существует много подразделений христианства, расходящихся между собой по вопросам теологии и церковной организации; основными ответвлениями являются католицизм, протестантизм и православие. Ислам Происхождение ислама, в настоящее время второй самой крупной религии в мире (см. табл. 17.1), во многом совпадает с происхождением христианства. Ислам восходит к учению пророка Мухаммеда в VII в. н. э. Единый бог ислама — Аллах — властвует, как считается, над жизнью всех людей и над всей природой. «Столпы ислама» — это пять основных религиозных обязанностей мусульман (так называют приверженцев ислама). Первая — это повторение исламского символа веры: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его». Вторая обязанность — пятикратное ежедневное совершение установленной молитвы с предшествующим ритуальным омовением. Во время молитвы молящийся должен быть обязательно обращен лицом к священному городу Мекке в Саудовской Аравии, как бы далеко от Мекки он ни находился. Третьим столпом является соблюдение Рамадана, длящегося месяц поста, в течение которого в дневное время нельзя ни принимать пищу, ни пить. Четвертая обязанность мусульман — раздача милостыни (денег бедным), которая определялась согласно закону ислама и часто использовалась государством как источник налогообложения. Наконец, от каждого верующего ожидается, что он хотя бы один раз в жизни совершит паломничество в Мекку. Мусульмане верят, что сначала, до Мухаммеда, Аллах говорил устами более древних пророков — включая Моисея и Иисуса — но учение Мухаммеда более непосредственно выражает его волю. Ислам получил в мире очень большое распространение, у него насчитывается свыше миллиарда последователей, большинство из которых сосредоточено в Северной и Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Пакистане. (Мусульманские верования кратко рассматриваются в подразделе «Исламский фундаментализм» в разделе «Религиозный фундаментализм» этой главы).
Религии Дальнего Востока
Индуизм Существуют важные различия между иудаизмом, христианством и исламом, с одной стороны, и религиями Дальнего Востока, с другой. Древнейшей из всех великих религий, известных в современном мире, является индуизм, основные верования которого датируются примерно шестым тысячелетием до н. э. (из этой религии был заимствован пример, приведенный в начале данной главы). Индуизм — религия политеистическая. Он настолько внутренне неоднороден, что некоторые ученые предложили рассматривать его как совокупность родственных религий, а не как единую религиозную систему; многие местные культы и религиозные обычаи связаны между собой немногими общими верованиями. Большинство индуистов придерживается учения о цикле реинкарнации — учения о том, что все живые существа являются частью вечного процесса рождения, смерти и повторного рождения. Второй ключевой признак — это кастовая система, основанная на вере в то, что люди при рождении попадают в определенное положение в социальной и ритуальной иерархии в соответствии с характером их деятельности во время прежних воплощений. Для каждой касты существует свой особый набор обязанностей и обрядов, и судьба каждого человека в будущей жизни зависит, главным образом, от того, насколько хорошо он выполняет свои обязанности в этой своей жизни. Индуизм признает возможность многочисленных различных религиозных взглядов, не проводя четкого различия между верующими и неверующими. В мире насчитывается свыше 750 млн индуистов, из которых практически все живут на полуострове Индостан. В отличие от христианства и ислама, индуисты не стремятся обратить других в «истинную веру». Буддизм, конфуцианство, даосизм Этические религии Востока включают буддизм, конфуцианство и даосизм. В этих религиях нет богов. Напротив, в них на первый план выдвигаются этические идеалы, которые связывают верующего с естественной гармонией и единством вселенной. Буддизм восходит к учению Сиддхартхи Гаутамы, прозванного Буддой (санскр. «просветленный»), индийского принца небольшого царства в Южном Непале в VI в. до н. э. Согласно учению Будды, человеческие существа могут избежать круга реинкарнации, отрешившись от желаний. Путь к спасению заключается в жизни, полной самодисциплины и медитации и отделенной от забот мирской жизни. Конечной целью буддизма является достижение нирваны, полного духовного совершенства. Будда отвергал индуистские ритуалы и власть каст. Подобно индуизму, буддизм имеет много местных разновидностей, связанных с верой в местных богов, и не требует от своих приверженцев единства взглядов. Буддизм в настоящее время представляет собой влиятельную силу в нескольких государствах Дальнего Востока, в том числе в Таиланде, Мьянме, Шри Ланке, Китае, Японии и Корее. Конфуцианство составляло основу культуры правящих групп в традиционном Китае. Конфуций (латинизированная форма имени Кун-фуцзы — «учитель Кун») жил в VI в. до н. э., в ту же эпоху, что и Будда. Подобно Лао-цзы, основателю даосизма, Конфуций был учителем, а не религиозным пророком в отличие от религиозных вождей на Ближнем Востоке. Последователи Конфуция не считают его богом, но видят в нем «мудрейшего из мудрых людей». Конфуцианство стремится приспособить человеческую жизнь к внутренней гармонии природы, обращая особое внимание на почитание предков. Даосизм придерживается сходных принципов, делая упор на медитации и неприменении насилия как пути к высшей жизни. В результате целенаправленной оппозиции со стороны правительства конфуцианство и даосизм утратили в Китае значительную часть своего влияния, хотя некоторые элементы этих религий сохранились в верованиях и обычаях многих китайцев до наших дней.Теории религии
Социологические теории религии до сих пор находятся под сильным влиянием трех «классиков» — теоретиков социологии: Дюркгейма, Маркса и Вебера. Ни один из трех указанных ученых сам не был приверженцем какой-либо религии, и все они придерживались мнения, что значение религии в современном обществе уменьшится. Каждый из них считал, что религия, в некотором фундаментальном смысле, есть иллюзия. Вполне возможно, что сторонники различных вероучений абсолютно уверены в обоснованности верований, которых они придерживаются, и ритуалов, в которых они участвуют, и тем не менее само многообразие религий и их очевидная связь с разными типами общества, как полагали три упомянутых мыслителя, делают подобные притязания изначально несостоятельными. Человек, родившийся в обществе австралийских охотников и собирателей, совершенно очевидно, будет иметь иные религиозные верования, чем тот, кто родился внутри кастовой системы в Индии или в лоне католической церкви средневековой Европы.Маркс и религия
Несмотря на то, что взгляды Маркса оказали влияние на понимание данной проблемы, он никогда не занимался религией специально. Его взгляды по данному вопросу восходят по большей части к трудам нескольких более ранних теологов и философов начала XIX в. Одним из них был Людвиг Фейербах, автор знаменитой работы «Сущность христианства» (Feuerbach 1957, первоначально опубликована в 1841 г.). Согласно Фейербаху, религия состоит из понятий и ценностей, созданных человеческими существами в ходе развития их культуры, но ошибочно проецируемых на божественные силы или богов. Поскольку человеческие существа не вполне понимают свою собственную историю, они обычно приписывают созданные обществом ценности и нормы действиям богов. Так, история о десяти заповедях, полученных Моисеем от Бога, представляет собой мифическую версию происхождения моральных предписаний, которыми руководствуются в своей жизни верующие иудеи и христиане. По словам Фейербаха, «до тех пор, пока мы не поймем природу религиозных символов, которые мы сами же создали, мы обречены быть пленниками неподвластных нам сил истории». Фейербах использует термин отчуждение для обозначения создания богов и божественных сил, отличных от человеческих существ. Ценности и понятия, созданные людьми, начинают восприниматься как продукт чужих или посторонних существ — религиозных сил и богов. Хотя последствия отчуждения в прошлом были негативными, понимание религии как отчуждения является, по Фейербаху, многообещающим для будущего. Как только человеческие существа осознают, что ценности, проецируемые ими на религию, в действительности являются их собственными, появляется возможность реализовать эти ценности на земле, а не откладывать их на загробную жизнь. Могущество, которым, по убеждению христиан, обладает Бог, может быть присвоено самими человеческими существами. Согласно христианской вере, Бог всемогущ и всемилостив, тогда как человеческие существа являются несовершенными и порочными. Однако Фейербах считал, что потенциал любви и доброты, а также способность контролировать свою собственную жизнь заложены в социальных институтах людей и могут быть претворены в жизнь, как только люди поймут их подлинную природу. Маркс был согласен с мнением о том, что религия представляет собой самоотчуждение человека. Многие считают, что Маркс не признавал религии, но это далеко не так. Религия, — писал он, — это «сердце бессердечного мира», прибежище от жестокости повседневной жизни. По мнению Маркса, религия в ее современной форме исчезнет и должна исчезнуть, однако это произойдет потому, что позитивные ценности, воплощенные в религии, могут стать руководящими идеалами для улучшения судьбы человеческого рода на земле, но отнюдь не потому, что эти идеалы и ценности сами по себе ошибочны. Мы не должны бояться богов, которых сами создали, и следует перестать наделять их ценностями, которые мы можем воплотить в жизнь сами. Широко известно высказывание Маркса, что религия — это «опиум для народа». Религия откладывает счастье и вознаграждение на потом — на загробную жизнь, приучая к покорному принятию существующих условий жизни. Внимание, таким образом, отвлекается от неравенства и несправедливости в этом мире путем обещания надежды на то, что должно прийти в следующем мире. Религии присущ сильный идеологический компонент: религиозные верования и ценности часто служат оправданием неравенства в распределении богатства и власти. Например, учение о том, что «нищие духом обретут весь мир», воспитывает отношение смирения и непротивления угнетению.Дюркгейм и религиозный ритуал
В отличие от Маркса, Эмиль Дюркгейм значительную часть своей научной деятельности посвятил изучению религии, сосредоточив особенное внимание на религии в небольших традиционных обществах. Книга Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», впервые опубликованная в 1912 г., представляет собой, вероятно, одно из самых влиятельных исследований в социологии религии (Durkheim 1976). Дюркгейм не связывает религию преимущественно с социальным неравенством или властью, но соотносит ее с общей природой общественных институтов. Основу его книги составляет исследование тотемизма в том виде, в каком он существует в обществах австралийских аборигенов, и он считает, что тотемизм являет собой религию в ее самой «элементарной», или простой, форме — отсюда и название его книги. Тотем, как уже упоминалось, — это первоначально животное или растение, которому приписывается особое символическое для данной группы людей значение. Это сакральный объект, вызывающий поклонение и сопровождаемый различными ритуальными действиями. Дюркгейм определяет религию исходя из различия между сакральным и мирским. Он утверждает, что сакральные объекты и символы рассматриваются как стоящие особняком от рутинных сторон существования, образующих царство мирского. Обычно запрещается, за исключением специальных ритуальных церемоний, есть тотемное животное или растение, и в качестве сакрального объекта тотем, согласно верованиям, обладает некоторыми священными свойствами, которые полностью отделяют его от других животных, на которых можно охотиться, или растений, которые можно собирать и употреблять в пищу. Почему тотем считается сакральным? Согласно Дюркгейму, потому, что это символ самой группы: он замещает ценности, центральные для этой группы или сообщества. Благоговение, которое люди испытывают по отношению к тотему, в действительности возникает из почтения, которое они чувствуют к основным социальным ценностям. В религии объект поклонения — это, по существу, само общество. Дюркгейм настойчиво подчеркивал, что религия — это не просто верования. Любая религия предполагает регулярную церемонию и ритуальные действия, в которых принимает участие вся группа верующих, собравшись вместе. В таких коллективных церемониях поддерживается и усиливается чувство групповой солидарности. Обряды отвлекают людей от забот мирской социальной жизни и уносят в возвышенные сферы, где люди чувствуют контакт с высшими силами. Эти высшие силы, приписываемые тотемам, божественным влияниям или богам, на самом деле есть не что иное как выражение влияния коллективного начала на индивидуальное. Церемония и ритуал, по мнению Дюркгейма, играют важную роль в объединении членов групп. Вот почему они наблюдаются не только в регулярных ситуациях богослужения, но и в случаях различных жизненных кризисов, когда люди переживают основные социальные изменения, например рождение, брак и смерть. Практически во всех обществах в указанных ситуациях соблюдаются ритуалы и обрядовые процедуры. Дюркгейм доказывает, что коллективные обряды поддерживают групповую солидарность в те моменты, когда люди вынуждены приспосабливаться к основным изменениям, происходящим в их жизни. Похоронные ритуалы демонстрируют, что ценности данной группы не умирают со смертью отдельного конкретного человека, и таким образом предоставляют людям, потерявшим близких, возможность приспособиться к своим изменившимся обстоятельствам. Траур — это не спонтанное выражение горя, или по крайней мере, он является таковым только для тех, кто лично затронут понесенной утратой. Траур — это долг, навязываемый группой. В небольших традиционных культурах, утверждал Дюркгейм, почти все стороны жизни пронизаны религией. Религиозные обряды одновременно и порождают новые понятия и категории, и подтверждают существующие ценности. Религия — это не просто некоторая совокупность воззрений и действий; в традиционных культурах она в действительности обусловливает способ мышления человека. Даже самые фундаментальные категории мышления, включая понимание категорий времени и пространства, первоначально были сформулированы в терминах религии. Например, понятие «время» первоначально возникло из счета перерывов в религиозных ритуалах. Дюркгейм считал, что по мере развития современных обществ влияние религии ослабевает. Научное мышление все больше заменяет религиозное объяснение, а обрядовые и ритуальные действия постепенно ограничиваются и занимают только малую часть жизни отдельного человека. Дюркгейм согласен с Марксом в том, что традиционная религия, т. е. религия, связанная с верой в божественные силы или богов, находится на грани исчезновения. «Старые боги мертвы», — пишет Дюркгейм. Вместе с тем он говорит о том, что существует функция, в которой религия, в измененных формах, вероятно, будет существовать и дальше. Даже в наши дни единство современных обществ зависит от ритуалов, поддерживающих их ценности, и можно, таким образом, ожидать, что на смену старым ритуальным действиям возникнут новые. О том, что они будут собой представлять, Дюркгейм говорит несколько неопределенно, но, по-видимому, он имеет в виду празднования в честьтаких гуманистических и политических ценностей, как свобода, равенство и социальное сотрудничество.Вебер: мировые религии и социальные изменения
Дюркгейм строил свои доказательства на основе очень небольшого круга примеров, хотя и утверждал, что его идеи приложимы к религии вообще. Макс Вебер, напротив, начал с масштабного изучения религий во всем мире. Ни один ученый ни до, ни после Вебера не предпринимал работы подобного размаха. Большую часть внимания он посвятил тому, что он назвал мировыми религиями — религиям, которые имеют большое число последователей и которые оказали решающее влияние на ход мировой истории. Он подробно исследовал индуизм, буддизм, даосизм и древний иудаизм (Weber 1951, 1952, 1958, 1963), а в книге «Протестантская этика и дух капитализма» (Weber 1976, первоначально опубликована в 1904–1905 гг.) и других трудах он подробно рассмотрел, какое влияние оказало на историю Западного мира христианство. Однако задуманное им исследование ислама осталось незавершенным. Работы Вебера, посвященные религии, отличаются от работ Дюркгейма тем, что Вебер сосредоточил свое внимание на проблеме связи между религией и изменениями в обществе, которой Дюркгейм уделял мало внимания. От Маркса Вебера отличало то, что, по его мнению, религия вовсе не обязательно консервативная сила, напротив, вдохновленные религией движения часто приводили к глубоким социальным преобразованиям. Так, протестантство, в частности пуританизм, послужило источником капиталистических взглядов, характерных для современного Запада. Первые предприниматели были в своем большинстве кальвинистами. Их стремление к преуспеванию, которое привело к экономическому развитию западных стран, было первоначально вызвано желанием служить Богу. Материальный успех воспринимался ими как знак Божьей милости. Вебер рассматривал свои исследования, посвященные мировым религиям, как единое целое. Обсуждение проблемы влияния протестантизма на развитие Запада является частью всеобъемлющей попытки понять влияние религии на социальную и экономическую жизнь в различных культурах. Анализируя восточные религии, Вебер пришел к выводу, что они ставили непреодолимые преграды на пути развития промышленного капитализма, подобного тому, которое имело место на Западе. Это объяснялось не тем, что не-западные цивилизации являются отсталыми: просто они приняли ценности, отличающиеся от тех, что стали доминировать в Европе. В традиционном Китае и Индии, указывал Вебер, в определенные периоды наблюдалось значительное развитие торговли, промышленности и урбанизма, но это не привело к радикально иным моделям социальных изменений, как это было при возникновении индустриального капитализма на Западе. Основной силой, препятствовавшей таким изменениям, была религия. Например, индуизм характеризуется Вебером как религия «не от мира сего». Иначе говоря, наивысшие ценности индуизма делают упор на уход от забот материального мира в более высокую сферу духовного существования. Религиозные чувства и мотивации, вызываемые индуизмом, не обращены на то, чтобы контролировать или формировать материальный мир. Напротив, индуизм рассматривает материальный мир как покрывало, скрывающее истинные проблемы, на которые должен быть ориентирован человеческий род. Конфуцианство также стремилось отвлечь внимание от экономического развития, как оно впоследствии стало пониматься на Западе, подчеркивая гармонические отношения с миром, а вовсе не власть над ним. Хотя Китай в течение долгого времени был самой могущественной и самой культурно развитой цивилизацией в мире, господствующие в нем религиозные ценности тормозили сколько-нибудь значительное стремление к экономическому развитию ради него самого. Христианство Вебер рассматривал как религию спасения, исходящую из веры в то, что человеческие существа могут быть «спасены», если они примут догматы религии и будут следовать ее моральным принципам. Важное значение здесь имеют понятия греха и возможности спастись от греховности благодаря Божьей милости. Эти понятия рождают напряженность и эмоциональный динамизм, который, как правило, отсутствует в восточных религиях. Религиям спасения присущ «революционный» аспект. Если религии Востока культивируют у своих приверженцев отношение пассивности к существующему порядку, христианство предполагает постоянную борьбу с грехом и, следовательно, может стимулировать бунт против существующего порядка вещей. Появляются религиозные вожди, подобные Иисусу, которые дают новое толкование существующим доктринам, такое, что они бросают вызов господствующим властным структурам.Оценка
И Маркс, и Дюркгейм, и Вебер — каждый из них выделил некоторые важные общие характеристики религии, и в известном смысле их взгляды взаимодополняют друг друга. Маркс был прав, указывая, что религия часто имеет идеологический подтекст и служит для оправдания интересов господствующих кругов за счет других групп населения: подобных примеров в истории можно найти несчетное множество. Возьмем, скажем, случай влияния христианства на попытки европейских колонистов подчинить своему господству другие культуры. Миссионеры, прилагавшие усилия, чтобы обратить «языческие» народы в христианскую веру, были, несомненно, искренни, тем не менее, результатом их действий было разрушение традиционных культур и навязывание господства белых. Различные направления в христианстве вплоть до XIX в. почти все допускали или даже поддерживали рабство в Соединенных Штатах и в других частях мира. Были созданы теории, утверждавшие, что рабство основывается на законе, установленном Богом, что непокорные рабы виновны в преступлении не только против своих хозяев, но и против Бога. Вместе с тем Вебер совершенно справедливо подчеркивал дестабилизирующий и часто революционный характер влияния религиозных идеалов на предустановленный социальный порядок. Несмотря на то, что церковь сначала поддерживала рабство в Соединенных Штатах, позднее многие церковные лидеры сыграли ключевую роль в борьбе за его отмену. Религиозные верования служили побудительным мотивом для многих движений, пытавшихся свергнуть несправедливые системы власти, и играли, например, важную роль в движении за гражданские права в 1960-х гг. в США. Религия также оказывала воздействие на социальные изменения — зачастую вызывая кровопролитие — путем вооруженных столкновений и войн, которые велись ради религиозных целей. Такое разъединяющее влияние религии, столь заметное в истории, почти не получило отражения в трудах Дюркгейма. Дюркгейм в первую очередь обращал внимание на роль религии в обеспечении сплоченности общества. Тем не менее, нетрудно использовать его идеи для объяснения не только единства общества, но и религиозных делений, конфликтов и изменений. В конце концов, в значительной степени те сильные эмоции, которые иногда возникают у одних религиозных групп против других, рождаются из преданности религиозным ценностям, существующим внутри каждой группы верующих. Особенно ценным в трудах Дюркгейма было его внимание к обрядам и церемониям. Во всех религиях существуют регулярные собрания последователей, на которых совершаются предписанные ритуалы. Как справедливо указывает Дюркгейм, ритуальными действиями отмечаются также основные переходные этапы в жизни людей — рождение, вступление во взрослое состояние (ритуалы, связанные с половой зрелостью, можно найти во многих культурах), вступление в брак и смерть (van Genner 1977). В последней части данной главы мы используем идеи, выдвинутые Марксом, Дюркгеймом и Вебером, при обсуждении ряда вопросов. Сначала мы обратимся к различным типам религиозных организаций и рассмотрим вопрос религии и гендера. Затем мы проанализируем споры, которые идут среди социологов, относительно секуляризации, идеи о том, что религия в индустриальных обществах утрачивает свое значение. После этого мы обратимся к некоторым событиям, которые происходят в религии в наши дни и которые опровергают идею секуляризации — а именно к возникновению новых религиозных движений и к усилению власти религиозного фундаментализма.Типы религиозных организаций
Церкви и секты
Все религии предполагают наличие общин приверженцев этих религий, но существует много разных способов организации таких общин. Один подход к классификации религиозных организаций был предложен Максом Вебером и его коллегой Эрнстом Троельтшем, историком религии (Troeltsch 1981). Вебер и Троельтш провели разграничение церкви и секты. Церковь — это крупная, прочно устоявшаяся религиозная организация, подобная католической или англиканской церкви. Секта — это более мелкая, менее строго организованная группировка фанатичных приверженцев, обычно возникающая как протест против того, во что превратилась та или иная церковь, — так возникли кальвинизм или методизм. Церкви обычно имеют установленную бюрократическую структуру с иерархией религиозных чиновников и репрезентируют, как правило, консервативную сторону церкви, поскольку они интегрированы в существующий институциональный порядок. Большинство последователей церкви являются членами той же церкви, к которой принадлежали их отцы. Секты объединяют сравнительно небольшие группы людей, стремящиеся обычно «найти истинный путь» и следовать по нему; они часто отделяются от окружающего их общества и образуют собственные общины. Члены сект считают устоявшиеся церкви коррумпированными. Большинство сект имеет мало постоянных служителей, или они вообще отсутствуют и все члены секты считаются ее равноправными участниками. Лишь немногие становятся членами секты вслед за родителями, чаще люди вступают в секту по своему выбору в соответствии со своими верованиями.Деноминации и культы
Другие авторы развили первоначально деление церковь — секта, предложенное Вебером и Троельтшем. Один из них — Говард Беккер — добавил к выделенным еще два типа организаций: деноминацию и культ (Becker 1950). Деноминация — это секта, которая «остыла» и превратилась из активной протестной группировки в установленный институт. Секты, просуществовавшие какой-то период времени, неизбежно становятся деноминациями. Так, кальвинизм и методизм на раннем этапе своего формирования были сектами и вызывали среди своих членов сильное воодушевление, но с течением времени они стали более «респектабельными». Деноминации признаются церквями как организации, имеющие более или менее законный статус, и они существуют рядом с церквями, зачастую мирно сотрудничая с ними. Культы напоминают секты, но делают упор на другое. Они отличаются от всех других религиозных организаций наибольшей свободой объединения и наибольшей текучестью, поскольку включают людей, отвергающих все, что они считают ценностями окружающего их общества. Они сосредоточены на индивидуальных переживаниях и сводят друг с другом людей, одинаково настроенных. Люди не присоединяются к культу формально, но следуют той или иной конкретной теории или предписанной манере поведения. Членам культа обычно позволяется сохранять религиозные связи с другими религиями. Так же, как секты, культы очень часто образуются вокруг харизматического лидера, способного вести за собой окружающих. Примерами культов на Западе в наши дни могут служить группы людей, верящих в спиритизм, астрологию и трансцендентальную медитацию.Оценки
Четыре указанных понятия — церковь, секта, деноминация и культ — полезны при анализе различных сторон организации религии, но применять их следует с большой осторожностью, поскольку они отражают специфические христианские традиции. Как показывает пример ислама, там, где распространены не христианство, а иные религии, далеко не всегда существует особая церковь, четко отделяющаяся от других институтов; и в других существующих религиях нет развитой иерархии чиновников. Индуизм, например, настолько внутренне неоднородная религия, что внутри него трудно найти признаки бюрократической организации. Кроме того, вряд ли имеет смысл называть различные направления индуизма «деноминациями». Понятия секты и культа, вероятно, применимы более широко, но и здесь необходима известная осторожность. Группировки, подобные сектам, часто существовали внутри главных мировых религий. Они обнаруживают большинство признаков, характерных для западных сект — фанатическую приверженность, исключительность, отход от ортодоксальных взглядов. Однако некоторые из этих группировок, например в индуизме, более похожи на традиционные этнические общины, чем на христианские секты (Wilson В. 1982). У многих подобных групп не наблюдается страстности «истинных верующих», обычно присущей христианским сектам, потому что в «этических религиях» Востока существует больше терпимости к различным взглядам. Группа может «идти своим путем», не обязательно встречая сопротивление со стороны других, более прочно укоренившихся организаций. Термин «культ» имеет широкое употребление, им можно, например, охарактеризовать определенные виды милленаристских движений, однако они зачастую больше похожи на секты, чем на разновидности культов, которые имел в виду Беккер, формулируя это понятие. Понятия церкви, секты и деноминации, возможно, до известной степени обусловлены христианской культурой, но они помогают понять ту напряженность, которая обычно возникает во всех религиях между новыми течениями и установившимися организациями. Религиозные организации, просуществовавшие уже определенное время, обычно становятся бюрократическими и окостеневшими. Однако религиозные символы обладают огромной эмоциональной властью над верующими, и они сопротивляются тому, чтобы их свели до уровня рутинности. Поэтому постоянно возникают новые секты и культы. И здесь можно найти применение тому различию, которое провел Дюркгейм между сакральным и мирским. Чем больше церковные обряды становятся стандартизированными, чем больше превращаются в бездумное воспроизведение предписанных действий, тем более утрачивается элемент сакральности и религиозные ритуалы и верования начинают походить на мирские явления обыденного мира. С другой стороны, ритуальные церемонии могут способствовать оживлению ощущения особых качеств религиозного переживания и привести к вдохновляющим переживаниям, отличающимся от ортодоксальных. Группировки могут откалываться от основной части общины, привлекать протестные или сепаратистские движения или каким-либо другим образом противопоставлять себя моделям установленных ритуалов и верований.Гендер и религия
Церкви и деноминации, как показало предшествующее обсуждение, представляют собой религиозные организации, которые характеризуются определенными системами власти. В этих иерархиях, как и в других сферах общественной жизни, женщины, как правило, от власти отстранены. Особенно ясно это видно в христианстве, но такое положение наблюдается также и во всех других главных религиях.Религиозные образы
Христианская религия, несомненно, является мужской религией — как с точки зрения символизма, так и с точки зрения своей иерархической структуры. Хотя Мария, мать Иисуса, иногда почитается как если бы она обладала божественными качествами, Бог — это Отец, мужской образ, и Иисус принял человеческий облик мужчины. Женщина предстает как созданная из ребра мужчины. В библейских текстах встречается много женских персонажей, и некоторые из них изображаются как поступающие милосердно или мужественно, однако главные роли отведены мужчинам. Нет ни одной женщины, которая была бы равна по значению, например, Моисею, а в Новом Завете все апостолы — мужчины. Такие факты не остались незамеченными участниками женского движения. В 1895 г. Элизабет Кейди Стэнтон опубликовала серию комментариев к Священному Писанию под названием «Женщина в Библии» (Stanton 1985). По ее мнению, божество создало мужчин и женщин как существа равноценные, и в Библии этот факт должен был бы получить полное отражение. Мужской характер Библии отражает не истинное отношение Бога, но, как она считает, тот факт, что Библия была написана мужчинами. В 1870 г. англиканская церковь учредила комитет для осуществления работы, которая неоднократно проделывалась в прошлом, а именно для пересмотра и модернизации библейских текстов. Как указала Элизабет Стэнтон, среди членов комитета не было ни одной женщины. По ее утверждению, нет никаких оснований предполагать, что Бог — мужчина, поскольку в Священном Писании ясно сказано, что все человеческие существа созданы по образу и подобию Бога. Во многих религиях мира достаточно часто встречаются женские божества. Эти религии иногда воспринимаются как «женственные», мягкие и нежные; в других случаях богини предстают внушающими ужас разрушительницами. Богини-воительницы, например, встречаются достаточно часто, хотя в реальной жизни общества женщины в очень редких случаях бывают военными предводителями. До сих пор не было проведено ни одного крупномасштабного исследования представленности женщин в религиозной символике и их реального участия в различных религиях. Однако почти ни в одной религии женщины не являются доминирующими фигурами ни с точки зрения символики, ни как религиозные авторитеты (Bynum et al. 1986). Возьмем в качестве примера буддизм. В учении некоторых разновидностей буддизма женские персонажи играют важную роль. Так, особенно в одном ответвлении этой религии, в буддизме Махаяны[21] женщины представлены в особо благоприятном свете. Но как отметил по данному вопросу в своей книге один известный автор, в целом буддизм, как и христианство, является «в высшей степени мужским установлением, в котором господствует патриархальная структура власти» и женское начало «по большей части ассоциируется с мирским, не имеющим силы, земным и несовершенным» (Paul 1985, XIX). В буддистских текстах встречаются прямо противоположные изображения женщин, что, несомненно, отражает неоднозначное отношение мужчин к женщинам в реальном мире. С одной стороны, женские существа выступают как мудрые, матерински настроенные и нежные, но с другой — как загадочное, оскверняющее и разрушительное, угрожающее зло.Женщины в религиозных организациях
В буддизме женщинам традиционно отводилась роль монахинь, что было главным способом непосредственного выражения религиозных убеждений женщин также и у христиан. Монашеская жизнь возникла из деятельности очень древних групп христиан, которые жили в крайней бедности, посвящая все свое время молитвам. Эти люди (многие из которых были отшельниками) и группы людей зачастую были очень мало связаны с официальной церковью, но ко времени раннего Средневековья церкви удалось установить контроль над большинством основанных ими орденов. Монастыри превратились в постоянные здания, а их обитатели были подчинены системе власти католической церкви. Некоторые из наиболее влиятельных мужских монашеских орденов — такие как цистерцианский и августинский — были основаны в XII–XIII вв., в эпоху крестовых походов, военных экспедиций для освобождения Святой Земли от мусульман. Большинство женских орденов появилось лишь двумя столетиями позже. До XIX в., однако, они оставались относительно небольшими по количеству членов. Многие женщины в это время становились монахинями частично потому, что это открывало перед ними возможность избрать профессию учительницы и сестры милосердия, поскольку эти профессии контролировались религиозными орденами. Когда эти профессии были отделены от церкви, количество женщин в этих орденах сократилось. Хотя ритуалы и обряды различных монашеских орденов неодинаковы, все монахини считаются «христовыми невестами». Вплоть до изменений, имевших место в некоторых монашеских орденах в 1950-х и 1960-х гг., иногда проводились изысканные «свадебные» церемонии, в ходе которых послушница постригала себе волосы, нарекалась религиозным именем и надевала обручальное кольцо. Послушнице дозволялось покинуть монастырь или она могла быть изгнана. Однако но прошествии нескольких лет послушничества ею давался обет вечного пострига в монахини. В наши дни женские монашеские ордена обнаруживают значительное многообразие верований и образа жизни. В некоторых монастырях монахини одеваются в полностью традиционные одежды и придерживаются установленных обычаев. Другие общины, напротив, не только располагаются в современных зданиях, но отказались от многих старых правил, и монахини в них носят обычную мирскую одежду. Запреты на разговоры с другими монахинями в определенное время дня были несколько ослаблены, наряду с правилами, предписывавшими определенное положение тела, как, например, ходьбу со сложенными руками или руками, спрятанными под одеянием. Эти изменения стали возможны благодаря эдиктам церковных властей в 1960-х гг. Члены монашеских орденов обычно почти не имеют власти в церковной иерархии, которой они подчинены. Существование женских монашеских орденов никогда не давало женщинам никакой прямой силы в более крупных религиозных организациях, которые в католической и англиканской церквях почти исключительно управлялись мужчинами. Женщины и католицизм Хотя христианская религия родилась из движения, которое по своей сути было революционным, некоторые из главных христианских церквей по тому, как они относятся к женщинам, принадлежат к самым консервативным организациям в современном мире. Женщины-священнослужители уже давно были признаны в ряде сект и деноминаций, но в католической церкви по-прежнему официально поддерживалось неравенство по признаку пола. Церковное учение постоянно напоминает женщинам об их традиционной роли в качестве жен и матерей, а политика, направленная на запрещение абортов и противозачаточных средств, накладывает еще больше ограничений на свободу женщин. По мере роста феминистского движения женские организации начали оказывать давление на католические власти, с тем чтобы либерализовать их отношения к роли женщин внутри этой церкви. Одной из реформ, за которую выступают некоторые деятели, является рукоположение женщин. Сторонники посвящения женщин в церковный сан утверждают, что женщины могут представлять Иисуса Христа столь же успешно, как и мужчины, потому что они также созданы по образу и подобию Бога. Однако католические власти постоянно отклоняли призывы к рукоположению женщин в священнослужители. В 1977 г. в Риме Священная конгрегация в защиту католического вероучения официально заявила, что женщины не могут входить в состав католического духовенства. В качестве обоснования было сказано, что среди апостолов Иисуса не было ни одной женщины (Noel 1980). В письме, опубликованном в мае 1994 г., папа Иоанн Павел II подтвердил запрет римской католической церкви на рукоположение женщин в церковный сан. В письме говорилось: «По этой причине, чтобы устранить всякие сомнения в отношении дела огромной важности... я заявляю, Церковь не обладает властью наделять женщин саном священнослужителя, и этого решения должны, безусловно, придерживаться все верные последователи Церкви». Британская монахиня Лавиния Берн в своей книге «Женщины на Алтаре» (Byrne 1994) выступила в защиту женщин-священнослужителей. В 1964 г. в возрасте семнадцати лет Берн присоединилась к Институту Блаженной Девы Марии и получила известность в Соединенном Королевстве как специалист в области теологии, писательница и ведущая радиопередач. Благодаря выступлениям по четвертому каналу Би-би-си, она стала широко известной фигурой для сторонников римско-католической церкви во всей Англии и Уэльсе. Однако открытая поддержка, которую она выражала идее посвящения женщин в духовный сан, привела к ее конфликту с католическим руководством. В 1998 г. Священная конгрегация в защиту католического вероучения призвала ее публично отказаться от поддержки рукоположения женщин в духовный сан и объявить о своей солидарности с католическим учением, запрещающим аборты и противозачаточные средства. В январе 2000 г. Берн покинула свой монашеский орден, заявив, что судьба женщин-католичек при современном консервативном руководстве — это судьба «невидимого подвида человеческого рода». По ее словам, удел большинства женщин-католичек — быть глубоко верующими, молиться, ходить по воскресеньям в церковь — и не играть никакой роли. Это проявляется в том, что представлять Иисуса Христа имеют право только мужчины (цит. по: Meek 2000). Берн выразила обеспокоенность тем, что на пороге нового столетия у церкви отсутствует динамическая модель жизни для женщин-католичек. После своего ухода из лона церкви в беседе с журналистами она сказала:(Женщины) обращаются к церкви в поисках живого образа того, что представляет собой образованная женщина-специалист. В 2000 г. зачастую они сталкиваются с тем, что над их чаяниями смеются, а их достижения принижаются. Мы крайне нуждаемся в позитивном учении о семейной жизни, работе, развлечениях, месте мужчин и женщин в общественной и политической жизни. И это задача церкви (цит. по: Newsweek. 24 Jan. 2000. Р. 64).Женщина в англиканской церкви Англиканской церковью также в основном управляют мужчины, хотя она либерализована в большей степени, чем католическая церковь. До 1992 г. женщинам разрешалось быть дьяконессами (низшая степень священства), но не священниками. Официально они были частью мирян и им не дозволялось осуществлять некоторые основные религиозные обряды, как, например, произносить благословение или совершать официальную церемонию бракосочетания. С другой стороны, под руководством священника дьяконесса могла осуществлять некоторые таинства и в числе прочих обязанностей совершать обряд крещения. В 1986 г. был опубликован доклад постоянного комитета Генерального синода, верховного органа англиканской церкви, о необходимости выяснить, какие законы понадобятся, если женщинам будет разрешено становиться священниками. Группа состояла из десяти мужчин и двух женщин. Их задача заключалась в том, чтобы рассмотреть, какие «гарантии» необходимы, чтобы преодолеть противодействие тех «внутри англиканской церкви, кто неспособен по той или иной причине согласиться с рукоположением женщин в сан священника» (цит. по: Aldridge 1987, 377). О чувствах и надеждах самих женщин не было упомянуто. Епископу англиканской церкви Лондона Грэхему Леонарду во время радиопрограммы в августе 1987 г. был задан вопрос, не думает ли он, что христианскому понятию Бога может быть нанесен ущерб, если женщина будет регулярно подниматься на алтарь. Он ответил: «Думаю, что будет причинен вред. При виде женщины моим инстинктивным желанием будет заключить ее в объятия...» По его утверждению, именно возможность сексуального притяжения между женщиной-священнослужителем и членами конгрегации является причиной, почему женщинам не следует разрешать быть полноправными членами священства. В религии, как и везде, «именно мужчина проявляет инициативу, тогда как женщина подчиняется» (Jenkins 1987). В 1992 г. англиканская церковь проголосовала за то, чтобы сан священника был открыт для женщин. Многие группы протестовали против такого решения, в том числе организация Женщины против рукоположения женщин, созданная г-жой Маргарет Браун. По ее мнению, так же как по мнению некоторых групп мужчин-англиканцев, полное рукоположение женщин в сан священника является богохульным отклонением от истины, открытой нам Библией. В результате принятия англиканской церковью указанного решения некоторые общины отпали от церкви. О своем намерении оставить англиканскую церковь и присоединиться к католической церкви среди прочих объявил и Грэхем Леонард.
Религия, секуляризация и социальные изменения
Как мы видели, одной из идей, общих для теоретиков социологической науки, была уверенность в том, что традиционная религия в современном мире будет становиться все более и более маргинальным явлением. И Маркс, и Дюркгейм, и Вебер — все они были убеждены, что по мере того, как общества будут модернизироваться и больше полагаться на науку и технологию, чтобы контролировать и объяснять социальный мир, неизбежно произойдет процесс секуляризации. Секуляризация обозначает процесс, посредством которого религия утрачивает свое влияние на различные сферы социальной жизни. Споры по поводу тезиса секуляризации — одна из самых сложных областей в социологии религии. Их суть в самых общих словах: существует расхождение во взглядах между сторонниками тезиса о секуляризации, которые согласны с отцами-основателями социологии и считают, что религия утрачивает власть и значение в современном мире, — и противниками секуляризации, которые утверждают, что религия остается значительной силой, хотя часто приобретает новые и непривычные формы.Критерии секуляризации
Секуляризация представляет собой сложное социологическое понятие отчасти потому, что существует много разногласий относительно параметров этого процесса. Более того, многие социологи используют определения религии, никак не сопоставимые друг с другом — так, если одни утверждают, что религию лучше всего можно понять, основываясь на традиционной церкви, то по мнению других необходимо придерживаться более широкого понимания религии, которое охватывало бы и индивидуальную религиозность, и глубокую приверженность к определенным ценностям. Эти различия в понимании религии, несомненно, оказывают влияние на доводы за и против секуляризации. Секуляризацию можно оценивать, исходя из ряда аспектов или параметров. Некоторые из них по свой природе объективны, как, например, численность членов религиозных организаций. Статистические данные и официальные отчеты могут засвидетельствовать, сколько людей принадлежит к церкви или другой религиозной организации и активно посещает богослужения и другие церемонии. Как мы увидим исходя из этого показателя, все индустриальные страны, за исключением Соединенных Штатов, претерпели значительную секуляризацию. Та модель религиозного упадка, которую мы наблюдаем в Великобритании, обнаруживается в большинстве стран Западной Европы, в том числе в таких католических странах, как Франция или Италия. Регулярно посещают церковь и принимают участие в главных ритуалах (таких, как празднование Пасхи) больше итальянцев, чем французов, однако в обоих случаях сходной является общая модель — уменьшение соблюдения религиозных обрядов. Второй критерий секуляризации касается того, насколько церкви и другие религиозные организации сохраняют свое социальное влияние, богатство и престиж. В прежние времена религиозные организации могли оказывать значительное влияние на правительства и социальные органы и имели в обществе высокий авторитет. Насколько такое положение сохраняется в наши дни? Ответ на этот вопрос ясен. Даже если мы ограничимся настоящим столетием, мы видим, что религиозные организации утратили многое из того социального и политического влияния, которым они обладали раньше, и эта тенденция носит общемировой характер, хотя существуют и некоторые исключения. Церковные лидеры уже не могут сейчас ожидать, что автоматически смогут оказать воздействие на тех, кто обладает властью. В то время как некоторые традиционные церкви по-прежнему обладают большими богатствами, по каким бы стандартам его ни измерять, а новые религиозные движения могут быстро приобретать богатства, материальное положение многих давно существующих религиозных организаций нестабильно. Церкви и храмы вынуждены распродавать свое имущество или находятся в состоянии разрухи. Третий критерий секуляризации связан с верованиями и ценностями. Мы называем этот параметр религиозностью. Посещаемость церкви и степень общественного влияния церквей, совершено очевидно, не являются с неизбежностью прямым выражением верований и идеалов, которых придерживаются люди. Многие верующие люди не посещают регулярно богослужения и не принимают участия в публичных церемониях, наоборот, регулярность посещения церкви и участия в церемониях не всегда свидетельствует о прочности религиозных убеждений — люди могут ходить в церковь по привычке или потому, что это ожидается от них в их общине. Как и в отношении других критериев секуляризации, для того чтобы уяснить, насколько сократилась религиозность в наши дни, необходимо глубоко понять прошлое. Сторонники тезиса о секуляризации утверждают, что в прошлом религия была гораздо более важной для повседневной жизни людей, чем она является сегодня. Церковь была в центре всех местных событий и оказывала сильное влияние на жизнь семьи и отдельного человека. Вместе с тем критики тезиса о секуляризации оспаривают это утверждение, заявляя, что тот факт, что раньше люди посещали церковь более регулярно, еще отнюдь не доказывает, что они были более религиозны. Во многих традиционных обществах, включая средневековую Европу, приверженность к религиозной вере была в повседневной жизни менее сильной и менее важной, чем можно было бы предположить. Исследования английской истории показывают, например, что среди простых людей распространено было обычно не слишком ревностное отношение к религиозным верованиям. В большинстве культур, особенно в более крупных традиционных обществах, по-видимому, всегда встречались религиозные скептики (Ginzburg 1980). И тем не менее, нет никаких сомнений в том, что влияние религиозных идей сейчас в целом меньше, чем это было в традиционном мире — особенно если мы включим в понятие «религия» всю совокупность сверхъестественных явлений, в которые верили люди. Большинство из нас просто больше не воспринимает окружающий мир как пронизанный божественными или духовными сущностями. Некоторые из главных горячих точек в современном мире — подобные зонам конфликтов на Ближнем Востоке и на Балканах — возникли преимущественно или по крайней мере частично из-за религиозных расхождений. Однако большинство конфликтов и войн имеет сейчас главным образом мирскую, нерелигиозную природу и связано с различием политических убеждений или экономических интересов. Имея в виду три указанных критерия секуляризации, рассмотрим теперь некоторые недавние тенденции в религии в Великобритании и Соединенных Штатах и попытаемся определить, поддерживают ли они или опровергают идею секуляризации.Религия в Соединенном Королевстве
Преобладающая часть взрослого населения Beликобритании считает себя принадлежащими к той или иной религиозной организации. Только около 5 % британцев заявляют, что не относятся ни к одной религии. Почти 70 % всего населения признают себя приверженцами англиканской церкви, даже несмотря на то, что большинство из них в действительности посещали церковь, если вообще посещали, лишь несколько раз в своей жизни. Кроме англиканской церкви, пресвитерианской церкви Шотландии и католической церкви, в число религиозных групп, существующих в Великобритании, входят иудеи, мормоны, мусульмане, сикхи и индуисты. Среди более мелких сект — Плимутская братия, Растэфэриане[22] и Миссия Божественного Света. Поскольку вопросы, касающиеся религии, не задавались во время переписи с 1851 г., трудно составить точное мнение о величине религиозных деноминаций Великобритании. Такое положение должно измениться — во время переписи 2001 г. жителей Великобритании попросят, в дополнение к другим сведениям о себе, сообщить о своей религиозной принадлежности. Это позволит представить гораздо более детальную картину соотношения религии в Великобритании, поскольку современные подсчеты основаны на информации, полученной от отдельных деноминаций. Материалы переписи должны также дать более точную оценку мусульманского населения Великобритании, которое оценивается цифрами между 1 и 3 млн чел. Согласно Исследованию социальных установок в Великобритании 1998 г., многие жители Великобритании заявляют о своей вере в то или иное божество (см. табл. 17.2). 21 % респондентов выразили согласие с утверждением: «Я знаю, что Бог действительно существует, у меня в этом нет сомнений». Только один из каждых десяти сказал, что не верит в Бога совсем. Половина опрошенных ответили, что они «возможно» или «определенно» верят в загробную жизнь (HMSO 2000). Имеются показания меняющихся моделей традиционных и нетрадиционных верований. Хотя многие люди еще заявляют, что верят в Бога или в некоторое высшее существо, гораздо меньшее их число реально посещает церковь. Согласно переписи 1851 г., около 40 % взрослого населения Англии и Уэльса посещали церковь каждое воскресенье; к 1900 г. их число сократилось до 35 %, к 1950 г. — до 20 %, а в наши дни их общее число приближается к 10 %. В 1980-е гг. основные конфессии в Великобритании лишились в среднем 5 % своей паствы, причем наибольший урон (8 %) понесла римско-католическая церковь (HMSO 1992). В 1997 г. у англиканской церкви наблюдалось падение среднего числа верующих, посещавших воскресные службы, до цифры ниже 1 млн чел., впервые за все время существования церкви. Указанный процесс протекал, однако, несколько неравномерно. Существует, например, различие между тринитарными и нетринитарными церквями. Тринитарные церкви, к числу которых среди прочих относятся англикане, католики, методисты и пресвитериане, признают единство Бога в трех лицах. Членство в тринитарных церквях сократилось с 8,8 млн в 1970 г. до 6,5 млн в 1994 г. Напротив, в тот же период наблюдался рост членов нетринитарных церквей, таких как мормоны и Свидетели Иеговы (см. табл. 17.3). Росла также посещаемость церквей и религиозных служб среди этнических меньшинств. Последователей в Beликобритании привлек также ряд новых религиозных движений (см. раздел «Новые религиозные движения» этой главы).Таблица 17.2 Вера в Бога (в процентах). Великобритания. 1998 г.
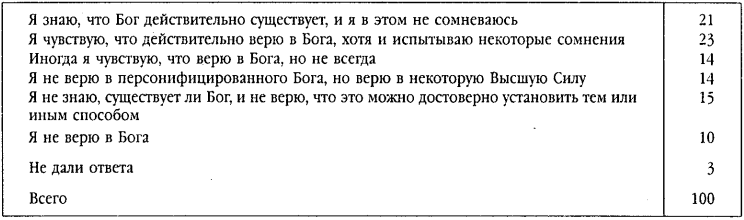 Респондентам задавали вопрос, какое из утверждений ближе всего соответствует их отношению к Богу.
Источник: British Social Attitudes Survey, National Centre for Social Research. From Social Trends. 30. 2000. P. 219. Crown copyright.
Респондентам задавали вопрос, какое из утверждений ближе всего соответствует их отношению к Богу.
Источник: British Social Attitudes Survey, National Centre for Social Research. From Social Trends. 30. 2000. P. 219. Crown copyright.
Существует отчетливо определимая модель в отношении к религии в Соединенном Королевстве, обусловленная возрастом, полом, классом и географическим местом проживания. Обычно пожилые люди религиознее тех, кто относится к более молодым возрастным группам. Среди молодых людей посещаемость церквей достигает пика в возрасте пятнадцати лет, после чего средний уровень посещаемости церкви сокращается, пока люди не достигают тридцати и сорока лет, когда их религиозные чувства снова усиливаются; после этого посещаемость церкви увеличивается по мере увеличения возраста. Женщины, как правило, чаще вовлекаются в лоно церковных организаций, чем мужчины. В англиканских церквях это преобладание женщин лишь незначительно, но в приходах церкви Христианской науки, например, число женщин в четыре раза превышает число мужчин. В целом посещаемость церкви и открытое выражение религиозных чувств чаще встречаются среди более состоятельных людей, чем среди бедных групп населения. Англиканская церковь получила название «консервативная партия за молитвой», и в этом до сих пор есть доля истины. Среди католиков обычно больше представителей рабочего класса. Классовая ориентация проявляется в моделях голосования на выборах: англикане обычно голосуют за консерваторов, а католики за лейбористов, как и многие методисты; методизм первоначально был тесно связан с возникновением лейбористской партии. Число членов религиозных организаций широко варьируется также в зависимости от того, где именно люди живут: так, церковь посещают 35 % взрослого населения Мерсисайда и 32 % населения Ланкашира по сравнению с только 9 % в Хамберсайде и 11 % в Ноттингемшире. Одной из причин этого является иммиграция — в Ливерпуле проживает много ирландских католиков, Северный Лондон является местом средоточия иудеев, а Брэдфорд — мусульман и сикхов. Если исходить из тех последствий, которые религиозные различия имеют для повседневной жизни людей, то сильнее, чем где-либо еще в Великобритании, они выражены в Северной Ирландии. В происходящих там столкновениях протестантов и католиков участвует только незначительное меньшинство приверженцев той и другой веры, но эти конфликты часто носят жестокий и кровавый характер. Роль религии в конфликте в Северной Ирландии нелегко отделить от переплетения других факторов, вызывающих антагонизм; среди католиков распространена вера в «объединенную Ирландию», которая возникнет, когда Эйре и Северная Ирландия станут единым государством, протестанты же идею «объединенной Ирландии» отвергают. Как бы то ни было, политические соображения и националистические идеи играют в этом конфликте важную роль наряду с религиозными верованиями.
Таблица 17.3 Принадлежность к церквям в Соединенном Королевстве (в миллионах)
 Источник: Christian Research. From Social Trends, 1996. Crown copyright.
Источник: Christian Research. From Social Trends, 1996. Crown copyright.
Религия в Соединенных Штатах
Положение религиозных организаций в Соединенных Штатах является необычным в нескольких отношениях. Свобода выражения религиозных чувств была закреплена в статье Американской конституции задолго до того, как терпимость к различным религиозным вероучениям и отправлению религиозных обрядов получила распространение в каком-либо другом западном обществе. Первые переселенцы были беженцами, спасавшимися от религиозного преследования со стороны политических властей, и они настояли на отделении церкви от государства. В США нет «официальной» церкви, подобной англиканской церкви в Великобритании. Кроме того, в Соединенных Штатах существует гораздо большее разнообразие религиозных групп, чем в какой-либо другой индустриальной стране. В большинстве западных обществ преобладающая часть населения формально принадлежит к единой церкви, подобной англиканской церкви в Великобритании или римско-католической церкви в Италии. В Америке около 90 % населения являются христианами, но принадлежат к огромному многообразию церквей и деноминаций. Многие группы имеют не больше нескольких сотен членов, но примерно 90 религиозных организаций объединяют, по ихутверждению, свыше 50 тыс. членов, а 22 организации, по их отчетам, имеют свыше миллиона членов. В последние 25 лет в Соединенных Штатах христианские фундаменталистские группы создали мощное социальное и политическое движение (см. подраздел «Христианский фундаментализм» в разделе «Религиозный фундаментализм» этой главы). Намного крупнее всех других религиозных организаций в Соединенных Штатах католическая церковь, насчитывающая около 50 млн членов. Однако это составляет только около 27 % общего количества членов религиозных организаций. Около 60 % населения — протестанты, но разделяющиеся между многочисленными различными деноминациями. Самой крупной является Южная конгрегация баптистов (13 млн членов), за ней следуют Объединенная методистская церковь и Национальная конвенция баптистов, и далее лютеранская и епископальная церкви. Среди нехристианских групп наиболее многочисленными являются еврейские конгрегации, насчитывающие около 6 млн членов. Примерно 40 % американского населения посещают церковную службу каждую неделю. Почти 70 % принадлежат к церквям, синагогам или другим религиозным организациям, и большинство этих людей утверждает, что играет в своих конгрегациях активную роль. Скотт О'Грэйди, капитан ВВС США, был в 1995 г. сбит над Боснией. Он провел шесть полных опасности дней, стараясь не быть схваченным сербскими войсками, пока его наконец не подобрали и не доставили в безопасное место. «Прямо сейчас, — заявил он представителям мировых средств массовой информации, — первое, что я хочу сделать — это поблагодарить Бога. Если бы не любовь Бога ко мне и не моя любовь к Богу, я бы не смог выдержать все это. Именно он спас меня здесь, я чувствую это сердцем». Если бы подобные слова были сказаны британским или французским летчиком, они вызвали бы легкое изумление. Но произнесенные американцем, эти слова звучали совершенно естественно. Уровень религиозности в Соединенных Штатах гораздо выше наблюдаемого в большинстве европейских обществ. Согласно результатам исследования, 95 % американцев утверждают, что верят в Бога, 80 % верят в чудеса и загробную жизнь, 72 % верят в ангелов и 65 % верят в дьявола (Stark and Bainbridge 1985). По данным Всемирного исследования ценностей, опубликованным в 1994 г., 82 % опрошенных в США считали себя «религиозными людьми» по сравнению с 55 % в Великобритании, 54 % в Западной Германии и 48 % во Франции. Тот же опрос показал, что 44 % американцев, по их словам, посещали церковь по крайней мере раз в неделю, по сравнению с 14 % в Соединенном Королевстве, 10 % во Франции и лишь 4 % в Швеции (см. рис. 17.1 и журнал «The Economist» 8 July 1995. Р. 20). В спорах по поводу секуляризации Соединенные Штаты являют собой важное исключение из утверждения об упадке религии в западных обществах. С одной стороны, США принадлежат к наиболее глубоко «модернизированным» странам и в то же время они характеризуются одним из самых высоких уровней популярности религиозных верований и принадлежности к церкви. Стив Брюс, один из ведущих защитников тезиса о секуляризации, высказал мнение, что распространенность религии в США можно понять в свете культурного перехода (Bruce 1996). В случаях, когда общество подвергается быстрому и глубокому демографическому и экономическому изменению, предположил Брюс, религия может играть решающую роль, помогая людям приспособиться к новым условиям и выжить в условиях нестабильности. По его мнению, индустриализация произошла в Соединенных Штатах сравнительно поздно и осуществилась очень быстро, причем среди населения, состоящего из огромного множества различных этнических групп. Религия в США была важна потому, что способствовала установлению идентичности людей и позволила более плавно осуществить культурный переход к американскому «плавильному котлу». Рис. 17.1. Приверженность к религии в восьми странах (в процентах относительно всего населения). 1990–1993 гг.
Источник: World Values Study Group. Inter-University Consortium for Political and Social Research.
Рис. 17.1. Приверженность к религии в восьми странах (в процентах относительно всего населения). 1990–1993 гг.
Источник: World Values Study Group. Inter-University Consortium for Political and Social Research.
Оценка тезиса о секуляризации
Среди социологов практически никто не сомневается, что, особенно если рассматривать вопрос в долгосрочной перспективе, религия в форме традиционной церкви переживает спад — за примечательным исключением США. Влияние религии уменьшилось по всем трем параметрам секуляризации, во многом так, как это предсказывали социологи XIX в. Следует ли нам сделать вывод, что они и более поздние пропагандисты тезиса о секуляризации правы? Сократилась ли привлекательность религии по мере распространения современных взглядов и современного образа жизни? Такое заключение вряд ли можно было бы считать оправданным по нескольким причинам. Во-первых, современное положение религии в Великобритании и других западных странах является гораздо более сложным, чем это представляется защитникам тезиса о секуляризации. Религиозные и духовные верования остаются мощной и мотивирующей силой в жизни многих людей, даже если они предпочитают не посещать богослужения официально в рамках традиционной церкви. Некоторые ученые высказали предположение о том, что произошел сдвиг в сторону принципа «верить, но не принадлежать» (Daivie 1994) — иначе говоря, люди придерживаются веры в Бога или в какую-то высшую силу, но реализуют и развивают свою веру вне установленных форм религии. Во-вторых, секуляризацию нельзя оценивать исходя из членства только в основном направлении тринитарных церквей. Поступая так, мы не учитываем все возрастающую роль незападных верований и новых религиозных движений как во всем мире, так и в индустриальных обществах. В Великобритании, например, количество действующих членов традиционных церквей сокращается, однако число мусульман, индуистов, сикхов, иудеев, евангелистов, верующих во «второе рождение», и православных христиан обнаруживает динамику роста. В-третьих, в не-западных обществах нет никаких свидетельств секуляризации. В Иране и других регионах Ближнего Востока, Африки и Индии мощный динамичный исламский фундаментализм бросает вызов влиянию Запада. Папа посещает с визитом Южную Америку, и миллионы католиков там с энтузиазмом следуют за ним в его поездке. Восточное православие было с воодушевлением вновь воспринято гражданами в разных частях бывшего Советского Союза после десятилетий подавления церкви коммунистическим руководством. Эта восторженная поддержка религии по всему миру, к сожалению, нашла отражение также и в связанных с религией конфликтах. Религия может служить источником утешения и поддержки, но одновременно она была и продолжает оставаться источником острых социальных столкновений и конфликтов. Можно привести свидетельства как в пользу, так и против идеи секуляризации. Представляется очевидным, что секуляризация как понятие особенно полезна при объяснении тех изменений, которые происходят в наши дни в традиционных церквях — имея в виду как падение могущества власти и влияния, так и процессы внутренней секуляризации, касающиеся, например, роли женщин и геев. Влияние сил модернизации, характерное для общества в целом, ощущается и внутри многих традиционных религиозных организаций. Однако в первую очередь значение религии в постсовременном мире нужно оценивать на фоне быстрых изменений, нестабильности и разобщенности. Даже если традиционные формы религии в какой-то мере сдают свои позиции, религия по-прежнему остается решающей силой в нашем социальном мире. Обращение к религии в ее традиционной или новой форме, по-видимому, будет продолжаться еще достаточно долго. Благодаря религии многие люди получают прозрение в понимании сложных вопросов, связанных с жизнью и ее смыслом, на которые нельзя получить удовлетворительного ответа, исходя из рационалистических позиций. Неудивительно поэтому, что во времена быстрых перемен многие люди ищут — и находят — ответы и успокоение в религии. Вероятно, наиболее ярким примером этого феномена является фундаментализм. Вместе с тем во все возрастающей степени религиозная реакция на изменения принимает новые и непривычные формы: новые религиозные движения, культы, секты, деятельность групп «Нового века». Несмотря на то, что на первый взгляд эти группы, возможно, «не похожи» на формы религии, многие критики гипотезы секуляризации считают, что они представляют собой трансформацию религиозных верований перед лицом глубоких социальных потрясений.Новые религиозные движения
Хотя в последние десятилетия у традиционных церквей наблюдалось сокращение числа членов, другие формы религиозной деятельности переживали подъем. Для обозначения широкого круга религиозных и духовных групп, культов и сект, возникших в Западных странах, в том числе и в Соединенном Королевстве, рядом с основными религиями социологи используют термин новые религиозные движения (НРД). Новые религиозные движения охватывают огромное многообразие групп, от групп духовных и групп самопомощи в движении Нового века до таких своеобразных сект, как Харе Кришна (Международное общество Сознания Кришны). Многие новые религиозные движения возникли на основе традиций основных религий, таких как индуизм, христианство и буддизм, тогда как другие восходят к традициям, практически не известным на Западе до самого последнего времени. Некоторые НРД являются по существу новыми созданиями харизматических лидеров, возглавляющих их деятельность. Такова Церковь унификации, во главе которой стоит преподобный Сан Мён Мун. Членами новых религиозных движений являются преимущественно новообращенные, а не люди, воспитанные в атмосфере какого-либо определенного вероучения. Это люди чаще всего хорошо образованные и принадлежащие к среднему классу. Большинство новых религиозных движений, существующих на территории Великобритании, возникли в Соединенных Штатах или на Востоке, однако немногие, как, например, Общество Эстериуса или Фонд Эмина, уже существовали в Великобритании в более раннюю эпоху. После Второй мировой войны в США наблюдался гораздо более быстрый рост религиозных движений, чем когда-либо прежде в их истории, включая беспрецедентное количество слияний и размежеваний между деноминациями. Большая часть их были однодневками и просуществовали очень недолго, но некоторые приобрели многочисленных сторонников. Были предложены различные теории, пытающиеся объяснить популярность новых религиозных движений. Некоторые исследователи утверждают, что НРД нужно рассматривать как реакцию на процесс либерализации и секуляризации в обществе и даже внутри традиционных церквей. Люди, чувствующие, что традиционные религии стали ритуальными и утратили духовный смысл, возможно, ощущают себя более комфортно и испытывают более сильное чувство причастности в небольших, менее обезличенных новых религиозных движениях. Другие социологи, такие как, например, выдающийся ученый Брайан Уилсон, придерживаются мнения, что новые религиозные движения являются следствием быстрых социальных сдвигов (Wilson 1982). По мере того как подрываются традиционные социальные нормы, люди начинают искать и объяснение, и утешение. Появление групп и сект, делающих упор на личную духовность, наводит на мысль, например, что многие люди испытывают потребность «восстановить связь» со своими собственными ценностями и верованиями перед лицом нестабильности и неопределенности. Еще одним фактором, возможно, является то, что новые религиозные движения импонируют людям, которые чувствуют себя отчужденными от основной части общества. Коллективная, общинная атмосфера, царящая в сектах и культах, по мнению некоторых авторов, дает таким людям поддержку и чувство принадлежности к коллективу единомышленников. Эта идея получила дальнейшее развитие у Роя Уоллиса, который исследовал участие в новых религиозных движениях молодых людей, принадлежащих к среднему классу. Хотя с материальной точки зрения они не находятся на периферии общества, они могут испытывать одиночество в эмоциональном и духовном отношении. Участие в культе, вероятно, помогает им преодолеть это чувство отчужденности.Типы новых религиозных движений
В своей книге «Элементарные формы новой религиозной жизни» Рой Уоллис высказал предположение, что новые религиозные движения можно лучше понять, если подразделить их на три более крупные категории (Wallis 1984). И хотя предложенной им классификации уже двадцать лет, она по-прежнему представляет собой полезный способ различения среди НРД. Предложенное им деление новых религиозных движений на мироутверждающие, мироотвергающие и миротерпимые основывается на отношении каждой конкретной группы НРД к более широкому социальному миру. Мироутверждающие движения Мироутверждающие движения больше похожи на группы «самопомощи» или «терапии», чем на обычные религиозные объединения. Это движения, которые часто не имеют обрядов, церквей и официальной богословской доктрины и сосредоточивают свое внимание на духовном благополучии своих членов. Как подсказывает само название, мироутверждающие движения не отвергают окружающий мир и его ценности. Напротив, они стремятся усилить способность своих последователей действовать и добиваться успеха в этом мире, высвобождая потенциальные возможности человека. Церковь сайентологии может служить примером подобной группы. Основанная Лафайетом Роналдом Хаббардом, Церковь сайентологии возникла первоначально в Калифорнии и, разросшись, приобрела большое количество сторонников во многих странах мира. Сайентологи считают, что все люди — духовные существа, но мы пренебрегаем нашей духовной сущностью. Путем тренировки, которая заставит людей осознать их истинные духовные способности, люди могут вновь обрести забытые ими сверхъестественные силы, очистить свое сознание и полностью реализовать свои потенциальные возможности. Под категорию мироутверждающих движений подпадают многие разветвления так называемого Движения Нового века. Движение Нового века выросло из контркультуры 1960-х и 1970-х гг. и охватывает широкий спектр верований, обрядовых действий и жизненных установок. Языческие учения (кельтов, друидов, индейцев и др.), шаманизм, разновидности азиатского мистицизма, уиккские ритуалы[23] и медитация дзен-буддистов — вот только некоторые из явлений, которые объединяются под названием Движения Нового века. Несмотря на их явный эклектизм, различные формы Движения Нового века объединяются общим взглядом на положение человека и на возможности изменения этого положения. Социолог П. Хилас считает, что Движение Нового века в первую очередь связано с идеей «самодуховности» — с верой в то, что личность священна (Heelas 1996). Группы Движения Нового века поощряют своих последователей вновь обретать свою внутреннюю духовность и отказываться от пагубного образа существования — приобретенного посредством социализации — ради более подобающего им истинного бытия. Одним из главных мероприятий в Движении Нового века в последние три десятилетия является то, что Пол Хилас называет «духовностью с помощью семинаров». Люди, стремящиеся развить свою духовность и исследовать глубины своей натуры, могут делать это в специальных структурированных обстоятельствах, отделенных от их повседневных жизни и деятельности. Вот, например, объявление об одном таком курсе, которое было процитировано в книге Хиласа (Heelas 1996, 60):ВОСЬМИДНЕВНЫЙ СЕМИНАР проводится для того, чтобы помочь Вам преодолеть барьеры Испытать то чувство ЛЮБВИ, СИЛЫ, ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ КОТОРОЕ ДАСТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 1. Осуществить все те личные желания и цели которые являются неотъемлемой частью Вашей жизненной перспективы 2. Быть полезным в служении человеческому сообществу — отдельным людям, семьям, группам, организациям, корпорациям и т. д. — в эпоху социально-экономической нестабильности и быстрых изменений; иными словами, быть полезным, способствуя КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ на этой планетеНа первый, поверхностный, взгляд мистицизм Движения Нового века находится в резком противоречии с современными обществами, в которых он широко популярен. Последователи Движения Нового века ищут альтернативные образы жизни, чтобы справиться с трудностями нашего времени. Однако по мнению Хиласа, деятельность групп Нового века не следует интерпретировать просто как радикальный разрыв с современностью. Ее следует рассматривать как часть более крупной культурной перспективы, которая экземплифицирует аспекты мейнстрима — основного направления развития культуры. В современных обществах люди обладают беспрецедентной степенью автономности и свободы для управления своей собственной жизнью. В этом отношении цели Движения Нового века полностью соответствуют требованиям современного века: людей стимулируют, чтобы они вышли за пределы традиционных ценностей и чаяний и жили активно и сознательно. Мироотвергающие движения Мироотвергающие движения, в противоположность движениям мироутверждающим, относятся к окружающей действительности резко критически. Они часто требуют от своих последователей значительных изменений в образе жизни — от членов движения могут потребовать, например, чтобы они вели аскетическую жизнь, изменили одежду или прическу или следовали определенной диете. Мироотвергающие движения часто носят закрытый характер, в отличие от мироутверждающих движений, которые обычно являются открытыми для всех. В некоторых мироотвергающих движениях обнаруживаются черты тоталитарных организаций (см. врезку «Тотальные институты» в разделе «Теории организации» главы 12). От их последователей ожидается, что они подчинят свою личную индивидуальность индивидуальности группы, будут следовать строгим этическим нормам или правилам и порвут с жизнью окружающего мира. Большинство мироотвергающих движений предъявляет к своим членам гораздо большие требования с точки зрения времени и обязательств, чем более старые, давно существующие религии. Известно, что в некоторых группах используется методика «бомбардировки любовью», чтобы целиком завоевать преданность людей. Потенциального новообращенного окружают неослабным вниманием и постоянными выражениями любви до тех пор, пока он не будет эмоционально вовлечен в данную группу. Против некоторых новых движений по существу выдвигалось обвинение в том, что они «промывают мозги» своим приверженцам — с тем, чтобы приобрести контроль над их умами и отнять у них способность самостоятельно принимать решения. Многие мироотвергающие секты и культы привлекли к себе пристальное внимание государственных органов, средств массовой информации и общественности. Некоторые экстремальные случаи мироотвергающих культов вызвали большую обеспокоенность. Так, японская группа Аум Синрике распространила смертельно ядовитый газ зарин в токийском метро в 1995 г., отравив тысячи утренних пассажиров. В Соединенных Штатах приверженцы культа Ветвь Давида, базирующегося в городе Вако (штат Техас), вступили в смертельное противоборство с федеральными властями США в 1993 г. после того, как им было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и в хранении крупных арсеналов оружия. Миротерпимые движения Третий тип новых религиозных движений наиболее похож на традиционные религии. Миротерпимые движения обычно делают упор на важность внутренней религиозной жизни по сравнению с более мирскими заботами. Члены подобных групп стремятся восстановить духовную чистоту, которая, как они считают, была утрачена традиционными религиями. Если последователи мироотвергающих и мироутверждающих движений нередко меняют свой образ жизни в соответствии со своей новой религиозной деятельностью, многие приверженцы миротерпимых движений продолжают свою повседневную жизнь и карьеру без каких-либо существенных изменений. Одним из примеров движения, проповедующего миротерпимость, может служить пятидесятничество. Пятидесятники верят в то, что голос Святого Духа можно услышать с помощью людей, обладающих даром «говорить на языках» в состоянии экстаза.
Новые религиозные движения и секуляризация
Тезису о секуляризации противоречит также устойчивая популярность новых религиозных движений. Противники данного тезиса указывают на многообразие и динамизм новых религиозных движений и утверждают, что религия и духовность по-прежнему являются центральным аспектом современной жизни. По мере того как традиционные религии утрачивают свою власть, религия не исчезает, она распространяется в новых направлениях. С таким мнением, однако, согласны не все ученые. Сторонники идеи секуляризации, возражая против такого мнения, подчеркивают, что новые религиозные движения — явление периферийное по отношению к обществу в целом, даже при том, что они оказывают глубокое влияние на жизнь своих индивидуальных последователей. Новые религиозные движения раздроблены и относительно слабо организованы; кроме того, в них также наблюдается высокая текучесть состава, так как люди на некоторое время присоединяются к какому-то движению, а потом уходят, привлеченные чем-то новым. По сравнению с серьезными религиозными убеждениями, указывают эти ученые, участие в новом религиозном движении выглядит почти как хобби или смена стиля жизни.Милленаристские движения
Существование милленаризма и движений, характеризующихся верой в наступление золотого века человечества, очень четко демонстрирует, что религия часто побуждает к активной деятельности и социальным изменениям. Милленаристская группа ожидает для своих последователей немедленного коллективного спасения либо в результате каких-то катаклизмов в настоящем, либо путем восстановления Золотого века, будто бы существовавшего в прошлом. (Сам термин милленаристский (от лат. millennium ‘тысячелетие’) в действительности восходит к понятию тысячелетнего правления Иисуса Христа, предсказанному в Библии.) Милленаристские движения тесно связаны с историей христианства и возникли они в двух основных условиях — среди бедных слоев населения на Западе в прошлые эпохи и среди колонизованных народов в других частях земли в более позднее время.Последователи Иоахима
Одно из движений милленариев, известное под названием иоахимизма, возникло в средневековой Европе и достигло расцвета в XIII в. (Cohn 1970а, 1970b). В этот период быстро росло экономическое благополучие Европы и господствующая католическая церковь становилась все богаче. Многие настоятели превратили свои монастыри в роскошные замки, епископы строили дворцы и жили в них с таким же великолепием, как мирские феодальные владыки, а папы содержали пышные дворы. Как протест против таких тенденций в официальной церкви появился иоахимизм. В середине XIII в. несколько францисканских монахов (этот орден проповедовал отказ от материальных наслаждений и богатства) выступили с протестом против полной плотских удовольствий жизни церковных деятелей. Их движение опиралось на пророческие труды умершего почти за пятьдесят лет до этого аббата Иоахима Флорского. Труды Иоахима были истолкованы как предсказание того, что в 1260 г. «Одухотворенные», как они называли себя, станут свидетелями торжественного наступления Третьего и Последнего века Христианства. Это приведет к тысячелетию, когда все человеческие существа, независимо от предшествующих религиозных убеждений, объединятся и будут вести жизнь, полную христианского благочестия и добровольной бедности. Предсказывалось также, что существующая церковь будет распущена, а духовенство будет предано смерти германским императором. Когда 1260 год прошел и никакого катаклизма не случилось, дата наступления миллениума была перенесена на более позднее время — и откладывалась снова и снова. Пыл последователей Иоахима не уменьшался. Осужденные религиозными властями последователи Иоахима — Одухотворенные — стали называть официальную церковь Вавилонской блудницей, а папу — Антихристом и Зверем Апокалипсиса. Они ожидали, что Спаситель выйдет из их собственных рядов, взойдет на папский престол и станет «Ангельским папой», избранным Богом, чтобы обратить весь мир к жизни в добровольной бедности. Среди групп внутри этого движения была группа, руководимая Фра Дольчино и состоявшая более чем из тысячи вооруженных людей; вместе с этой группой Фра Дольчино вел войну против армий папы в Северной Италии, пока в конце концов его войско не потерпело поражение и не было разгромлено. Дольчино был сожжен заживо на костре как еретик, но спустя многие годы возникли другие группы, заявлявшие, что вдохновляются его учением.Пляска духа
Совсем другим примером милленаристского движения является культ Пляски духа, возникший среди равнинных индейцев Северной Америки в конце XIX в. Пророки проповедовали, что произойдет всемирная катастрофа, возвещающая начало тысячелетия, во время которой бури, смерчи, землетрясения и наводнения уничтожат всех белых чужеземцев. Индейцы переживут катастрофу и увидят вновь прерии, заполненные стадами бизонов и другой дичи. После катастрофы все этнические различия исчезнут, и любые белые люди, которые приедут в страну, будут жить в дружбе с индейцами. Ритуалы Пляски духа распространялись от одной общины к другой в указанном регионе, подобно тому как религиозные культы распространялись от одной деревни к другой в Новой Гвинее в более поздние времена. Ритуалы Пляски духа, включавшие пение, монотонное повторение слов и вхождение в состояние, подобное трансу, основывались частично на понятиях, возникших из контактов с христианской религией, а частично на традиционной Пляске солнца — обряде, который индейцы совершали до появления белых[24]. Культ Пляски духа перестал существовать после массового кровопролития у Вундед-Ни, во время которого белыми солдатами было убито 370 индейских мужчин, женщин и детей.Сущность движения милленариев
Почему появляются милленаристские движения? Можно выделить несколько общих элементов, присущих всем или большинству из них. Как представляется, практически все подобные культы предполагают деятельность пророков («вдохновленных» вождей или учителей), которые основываются на существующих религиозных понятиях и заявляют о необходимости влить в них новую жизнь. Они успешно приобретают широкий круг последователей, если им удается выразить словами то, что другие только смутно ощущают, и дать волю эмоциям, которые побуждают людей к действию. Пророчество всегда было тесно связано с религиями спасения, особенно с христианскими, и большинство тех, кто возглавлял милленаристские движения на колонизированных территориях, были знакомы с христианскими обрядами и верованиями. Многие, по правде говоря, были учителями в школах при миссиях и обращали усвоенную ими религию против тех, кто приобщил их к ней. Милленаристские движения часто появляются там, где либо происходят радикальные изменения в культуре, либо наблюдается внезапный рост бедности (Worsley 1970). Они обычно привлекают людей, испытывающих сильное чувство обездоленности, вызванное этими изменениями, и это заставляет людей отказаться от привычного приятия status quo. В средневековой Европе милленаризм был зачастую последним отчаянным прибежищем тех, кто внезапно оказался нищим. Крестьяне, например, во времена голода следовали за пророками, которые проповедовали мечту о мире, «перевернутом вверх дном», в котором бедняки в конечном счете унаследуют землю. Милленаристские движения среди колонизованных народов обычно возникают тогда, когда традиционная культура разрушается под давлением западных колонизаторов, как это произошло в случае культа Пляски духа. Милленаризм иногда трактуется как преимущественно восстание бедных против привилегированных (Lantenari 1963) или угнетенных против тех, кто стоит у власти, и во многих случаях этот мотив действительно является движущей силой. Но в целом понимание милленаризма представляется слишком упрощенным: некоторые милленаристские движения, как, например, движение Одухотворенных — последователей Иоахима, возникли в результате влияний и настроений, первоначально не имевших ничего общего с материальными лишениями.Апокалиптические движения
Милленаристские движения связаны с апокалиптизмом — апокалиптическими настроениями, с верой в пророчества божественных учений о событиях конца света. Апокалиптические движения рассматривают некоторые события в социальном мире как знаки того, что грядет неминуемый конец света. В последние десятилетия в связи с приближением нового тысячелетия наблюдался рост числа и масштабов апокалиптических движений. Такие события, как появление вируса иммунодефицита, падение коммунизма, война в Персидском заливе, угроза глобального потепления и экологической катастрофы, а также развитие мощных информационных технологий, — все это послужило толчком к еще большему распространению апокалиптических предсказаний о том, что приближаются «последние дни» (Robbins and Palmer 1997). Апокалиптизм может принимать как религиозную, так и мирскую форму; некоторые ученые обратили внимание, что на подступах к новому тысячелетию границы между религиозными и нерелигиозными апокалиптическими теориями становятся все более и более размытыми. Некоторые апокалиптические движения в конце XX в. были прямым ответвлением давно существующих религиозных групп, таких как адвентисты Седьмого дня, мормоны и католицизм. Другие, как, например, Ветвь Давида, Аум Синрике, Врата Рая или Орден Солнечного Храма, включали явные элементы религиозной образности и словоупотребления, но одновременно обнаруживали серьезную тревогу по поводу других факторов, таких, например, как распространение технологии. Было замечено, кроме того, что «нерелигиозные движения, такие как борьба за сохранение окружающей среды и феминизм, по-видимому, часто приобретают апокалиптический характер, а другие — такие как движение за выживание, альтернативную военную службу и радикальный феминизм или выступления против разрешения абортов, как представляется, имеют и религиозные, и нерелигиозные аспекты» (Robbins and Palmer 1997, 12).Религиозный фундаментализм
Сила религиозного фундаментализма является еще одним доказательством того, что секуляризация в современном мире не одержала победы. Термин фундаментализм может быть использован во многих разных контекстах для определения строгой приверженности к системе принципов или верований. Религиозный фундаментализм характеризует взгляды тех религиозных групп, которые призывают к буквальному пониманию основных священных книг и текстов и считают, что доктрины, возникающие в результате такого прочтения, должны применяться ко всем областям социальной, экономической и политической жизни. Религиозные фундаменталисты уверены, что возможен только один взгляд на мир, и что их взгляд на мир — правильный: в их отношении к миру нет места ни сомнениям, ни возможности различных толкований. Внутри фундаменталистских движений доступ к точным значениям священных книг ограничен кругом привилегированных «толкователей» — таких как жрецы, священнослужители или другие религиозные лидеры. Это дает религиозным лидерам огромную власть — не только в религиозных делах, но также и в мирских, религиозные фундаменталисты стали мощными политическими фигурами в оппозиционных движениях внутри мейнстрима — основной массы политических партий (в том числе и в США) и как руководители государства (как в Иране). Религиозный фундаментализм — относительно новое явление (сам термин вошел в широкое употребление только в последние два или три десятилетия). Он возник главным образом как реакция на глобализацию. По мере того как силы модернизации все больше подрывают традиционные устои социального мира — такие как понятие семьи как основной ячейки общества, как власть мужчины над женщиной и т. п. — для защиты традиционных верований возникает фундаментализм. В глобализующемся мире, который требует рациональных доводов, фундаментализм настаивает на ответах, опирающихся на веру, и ссылок на истину ритуала: фундаментализм — это традиция, защищаемая традиционным образом. Для фундаментализма больший интерес представляют способы защиты и оправдания верований, а не содержание верований как таковых. Хотя фундаментализм выступает как оппозиция модернизации мира, он тем не менее использует современные методы для утверждения своих взглядов. Так, христианские фундаменталисты в Соединенных Штатах одними из первых стали использовать телевидение как средство для распространения своих вероучений. Исламские фундаменталисты в Чечне, сражающиеся с русскими войсками, создали веб-сайты для популяризации своих идей; бойцы Хиндутва[25] использовали Интернет и электронную почту для пропаганды чувства «индуистской идентичности». В нижеследующем разделе мы рассмотрим две наиболее заметные формы религиозного фундаментализма. В последние тридцать лет выросло влияние исламского и христианского фундаментализма, и это определяет контуры как национальной, так и интернациональной политики.Исламский фундаментализм
Из социологов-теоретиков прошлого только Вебер, возможно, допустил бы, что такая традиционная религиозная система, как ислам, может претерпеть значительное возрождение и стать основой для важных политических событий в конце XX в., а тем не менее именно это произошло в 1980-х гг. в Иране. В последние годы возрождение ислама получило распространение, оказав существенное влияние на другие страны, включая Египет, Сирию, Ливан, Алжир, Афганистан и Нигерию. Чем же объясняется это крупномасштабное возрождение ислама? Чтобы понять данное явление, необходимо внимательно рассмотреть некоторые стороны ислама как традиционной религии, а также те изменения в светском обществе, которые произошли в современных государствах, где влияние ислама является устойчивым. Ислам, подобно христианству, представляет собой религию, которая постоянно стимулирует активные действия: Коран — исламская священная книга — полон указаний верующим «сражаться на пути к Богу». Эта борьба направлена одновременно как против неверных, так и против тех, кто вносит разложение в мусульманское общество. На протяжении столетий сменяли друг друга поколения исламских реформаторов, и ислам стал столь же внутренне разделенным, как христианство. Вскоре после возникновения от основного корпуса ислама отделился шиизм, и он сохранил свое влияние до наших дней. Шиизм был официальной религией в Иране (старое название — Персия) с XVI в., и он послужил источником идей, легших в основу иранской (исламской) революции. Шииты возводят свое происхождение к имаму Али, религиозному и политическому лидеру VII в., который, согласно поверьям, обнаружил такие качества, как личная преданность Богу и добродетельность, не имеющие равных среди правителей мира того времени. Потомки Али стали рассматриваться как подлинные лидеры ислама, поскольку считалось, что они принадлежат к роду пророка Мухаммеда, в отличие от династий, реально находившихся у власти. Шииты верили, что в конце концов будет установлено правление законного наследника Мухаммеда и будет покончено с тиранией и несправедливостью, связанными с существующими режимами. Наследник Мухаммеда будет вождем, непосредственно направляемым Богом и правящим в согласии с Кораном. Крупные общины шиитов проживают на территории других стран Ближнего и Среднего Востока, включая Ирак, Турцию и Саудовскую Аравию, а также в Индии и Пакистане. Однако исламское руководство в этих странах находится в руках представителей большинства — сунитов. Мусульмане-суниты следуют «Проторенному Пути», системе традиций, восходящих к Корану, которые допускают значительное разнообразие мнений, в отличие от более строго определенных взглядов шиитов. Ислам и Запад В эпоху Средневековья более или менее постоянно шла борьба между христианской Европой и мусульманскими государствами, которые контролировали значительную часть территорий, ставших впоследствии Испанией, Грецией, Югославией, Болгарией и Румынией. Большая часть земель, захваченных мусульманами, была отвоевана европейцами обратно, и многие из их владений в Северной Африке по мере возрастания мощи Запада в XVIII и XIX вв. стали в действительности его колониями. Эти поражения и обратные завоевания имели катастрофические последствия для мусульманской религии и цивилизации, которую верующие исламисты считали самой высокой и самой передовой, превосходящей все остальные. В конце XIX в. неспособность мусульманского мира эффективно противостоять распространению западной культуры привела к возникновению реформаторских движений, стремившихся вернуть исламу его первоначальную чистоту и силу. Ключевой идеей было то, что ислам должен ответить на вызов Запада, утверждая тождество своих собственных верований и обычаев. Эта идея развивалась в XX в. разными путями и послужила фоном для исламской революции в Иране в 1978–1979 гг. Началом революции явилась внутренняя оппозиция шаху Ирана, который принял и попытался осуществить некоторые формы модернизации, заимствованные у Запада — например, земельную реформу, наделение женщин правом голоса и введение светского образования. Движение, приведшее к свержению шаха, объединило людей, имевших разные интересы и отнюдь не поголовно разделявших идеи исламского фундаментализма, но господствующей фигурой среди них был аятолла Хомейни, осуществивший радикальный пересмотр идей шиизма. Сразу после революции Хомейни привел к власти правительство, организованное в соответствии с традиционными исламскими законами. Религия, как это установлено в Коране, стала непосредственной основой всей политической и экономической жизни. По исламскому закону — шариату — в том виде, в каком он был восстановлен, мужчины и женщины были четко разделены; женщины обязаны были на публике закрывать тело и голову; гомосексуализм наказывался расстрелом, а нарушивших супружескую верность забивали камнями до смерти. Строгий моральный кодекс сопровождался крайне националистическим мировоззрением, направленным в первую очередь против западных влияний. Целью Исламской Республики в Иране была исламизация государства — организация правительства и общества таким образом, чтобы учение ислама стало господствующим во всех сферах. Этот процесс, однако, отнюдь не достиг завершения и существуют силы, противодействующие ему. В работе (Zubaida 1996) выделено три ряда групп, борющихся друг с другом. Радикалы хотят идти дальше и углублять исламскую революцию. Они также считают, что революцию следует активно экспортировать в другие исламские страны. Консерваторы включают главным образом религиозных функционеров, считающих, что революция осуществлена уже достаточно полно. Она дала им власть в обществе, и они хотели бы эту власть сохранить. Прагматики симпатизируют рыночным реформам и стремятся открыть экономику для иностранных инвестиций и торговли. Они выступают против строгого навязывания исламских законов в отношении женщин, семьи и законодательства. Эти подспудные разногласия в иранском обществе вышли на поверхность и четко обнаружили себя при настроенном на реформы президенте Мухаммеде Хатами, сторонники которого вновь захватили контроль над парламентом после выборов в феврале 2000 г. Смерть аятоллы Хомейни в 1989 г. была ударом для радикальных и консервативных элементов в Иране: его преемник аятолла Али Хаменеи пользуется лояльностью влиятельных иранских мулл (религиозных лидеров), но становится все более непопулярным среди простых иранских граждан, которые отвергают репрессивный режим и нескончаемые социальные неурядицы. Распространение движений за возрождение ислама Хотя идеи, лежавшие в основе Исламской революции в Иране, казалось бы, должны были объединить весь исламский мир против Запада, правительства стран, в которых шииты составляют меньшинство, не стали действовать в духе исламской революции в Иране. Однако исламский фундаментализм получил большую популярность в большинстве этих государств, и он стимулировал появление различных движений за возрождение ислама и в других местах. Хотя в последние десять-пятнадцать лет движения исламских фундаменталистов усилили свое влияние во многих странах Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, им удалось прийти к власти только в двух государствах. В Судане с 1989 г. правил Хассан аль-Тараби и его Фронт Национального Спасения ; а в 1996 г. фундаменталистский режим талибов укрепил свою власть в раздробленном Афганистане. Во многих других государствах группы исламских фундаменталистов приобрели влияние, но прийти к власти им не удалось. В Египте, Турции и Алжире, например, восстания исламских фундаменталистов были подавлены государством или вооруженными силами. Многие были обеспокоены тем, что исламский мир движется к конфронтации с другими частями мира, которые не разделяют его религиозное вероучение. Так, по мнению политолога Сэмюела Хантингтона, борьба между западными и исламскими взглядами может стать частью общемирового «столкновения цивилизаций» после окончания холодной войны и еще большего расширения глобализации. Однонациональные государства больше не являются основными действующими силами в международных отношениях; поэтому соперничество и конфликты будут происходить между более крупными культурами или цивилизациями (Huntington 1993). Мы уже видели примеры таких конфликтов в бывшей Югославии, в Боснии и в Косове, где боснийские мусульмане и албанские косовары сражались против сербов, представляющих православную христианскую культуру. Эти события усилили осознание мусульман как мирового сообщества; как заметили наблюдатели, «Босния стала местом объединения для мусульман всего мусульманского мира... (Она) обострила и создала ощущение поляризации и радикализации в мусульманских обществах и одновременно усилила чувство принадлежности к мусульманам» (Ahmed and Donnan 1994, 7–8). Другие наблюдатели утверждают, чтокризис миновал, что исламский фундаментализм отступает. Люди, придерживающиеся этого мнения, полагают, что у исламских фундаменталистов сейчас мало шансов захватить власть в исламских государствах во всем мире. В тех странах, где фундаментализм победил, как в Иране, ему не удалось создать жизнеспособный и привлекательный образец, который могли бы воспринять другие государства. Даже Иран сейчас, как представляется, экспериментирует с демократизацией, хотя и весьма ограниченно. И тем не менее было бы ошибкой заявлять, что исламский фундаментализм пошел на спад. В начале XXI в. исламская оппозиция все еще наращивает силы в таких государствах, как Малайзия и Индонезия; в нескольких провинциях Нигерии были недавно введены шариатские законы, и война в Чечне привлекла участие исламских боевиков, поддерживающих создание на Кавказе исламского государства. Исламская символика и форма одежды стали важными знаками идентификации для все большего числа мусульман, живущих за пределами исламского мира. Такие события, как война в Персидском заливе и кризис, возникший после публикации книги Салмана Рушди «Сатанинские стихи», вызвали неоднозначную, но напряженную реакцию в исламском мире либо против Запада, либо в согласии с ним. Совершенно очевидно, что движение за возрождение ислама невозможно понять, если подходить к нему только с религиозных позиций — оно представляет собой в определенной степени реакцию против влияния Запада и является движением за национальное и культурное утверждение. Вряд ли движения за возрождение ислама, даже в их самых фундаменталистских формах, следует рассматривать лишь как возобновление традиционных идей. То, что произошло, представляет собой нечто более сложное. Были возрождены традиционные виды деятельности и образ жизни, но они были соединены с проблемами, связанными конкретно с современностью.Христианский фундаментализм
Рост христианских религиозных фундаменталистских организаций в Соединенном Королевстве и Европе, но особенно отчетливо в Соединенных Штатах, представляет собой одно из наиболее примечательных явлений последних тридцати лет. Фундаменталисты считают, что «Библия, несомненно, — это реальный путеводитель для политики, правительства, бизнеса, семейной жизни и для всех других проблем человеческого рода» (Capps 1990). Для фундаменталистов Библия непогрешима — ее содержание выражает божественную истину. Приверженцы христианского фундаментализма верят в божественную сущность Христа и в возможность спасения души человека, если принять Христа в качестве своего личного спасителя. Христианские фундаменталисты считают своим долгом распространять христианскую веру и обращать в христианство тех, кто еще не принял этого вероучения. Христианский фундаментализм является реакцией против либеральной теологии и тех, кто поддерживает «мирской гуманизм» — тех, кто «стоит за эмансипацию разума, желаний и инстинктов в противопоставление вере и покорности Божьей воле» (Repel 1994, 133). Христианский фундаментализм выступает против «морального кризиса», порожденного модернизацией, — упадка традиционной семьи, угрозы индивидуальной морали человека, ослабления связи между человеком и Богом. В США основатель движения Моральное Большинство Джерри Фолуэлл и другие разработали для своих сторонников определенную последовательность действий. Кампании против абортов, в защиту молитвы в школах и семейных ценностей — все это стало главным оплотом движения, известного как «Новое христианское право». Со вступлением в 1980 г. Роналда Рейгана на пост президента Новое христианское право начало вмешиваться в политику более прямыми способами. Оказание влияния на принятие политических решений стало рассматриваться как наиболее надежный путь к тому, чтобы вновь сделать американское общество христианским и защитить людей от угрозы секуляризма (отделения школы от церкви). Фолуэлл выделил «пять основных проблем, которые имеют политическое значение, и которым высокоморальные американцы должны быть готовы противостоять: аборты, гомосексуализм, порнография, вольнодумство и разрушение семьи» (Kepel 1994). Что касается конкретных действий, то первой целью движения Новое христианское право стали государственные школы — лоббирование законодателей относительно содержания школьных учебных планов и попытки отменить запрет на молитвы в школах, а затем движение быстро перешло к поддержке воинствующей организации «Спасение от Операции», которая препятствует работе клиник, делающих аборты. Выдающиеся проповедники Нового христианского права основали несколько университетов, чтобы вырастить новое поколение «контрэлиты», воспитанной в духе фундаменталистских христианских верований и способной занять ключевые позиции в средствах массовой информации, в образовании, политике и в искусстве. Университеты Либерти, Орал Робертс, Боба Джонса и др. присваивают степени по стандартным учебным дисциплинам, но преподаваемым с позиций непогрешимости Библии. В кампусах установлены строгие этические нормы, определяющие частную жизнь студентов, а сексуальные отношения связываются только с браком:Для любого человека, кто провел некоторое время в кампусе университета Либерти, это был поразительный опыт. Дортуары предназначены для молодых людей одного пола: практикуется строгое наблюдение — смесь принуждения и самодисциплины. Французские поцелуи запрещены, и любые сексуальные отношения между не состоящими в браке студентами наказываются исключением из кампуса (женатые пары живут в городе). Но поцелуи в щеку разрешаются, и пары могут держаться за руки, но не обнимать партнера одной рукой за талию. Студенты охотно защищают подобную сексуальную самодисциплину, когда их расспрашивают об этом незнакомые посетители; но они утверждают, что полное подавление неизбежно привело бы к извращениям, в частности, к гомосексуализму, который (по их словам) распространен в конкурирующем фундаменталистском университете, в котором запрещен любой флирт. С другой стороны, выражение сексуального желания противоречило бы духу образовательных целей университета (Kepel 1994: 135).Христианское фундаменталистское движение получает поддержку в Соединенных Штатах повсеместно, но ситуация в различных регионах значительно различается. Так, американский Юг стал известен как «Библейский пояс» — полоса земли, расположенная ниже сельскохозяйственного «скотоводческого пояса», «маисового пояса» и «хлопкового пояса». Многие наиболее известные и наиболее влиятельные проповедники Америки базируются в штатах Юга и Среднего Запада — в Виргинии, Оклахоме и Северной Каролине. Самыми влиятельными фундаменталистскими группами в Соединенных Штатах являются Конвенция баптистов Юга, Собрания Господни и Адвентисты Седьмого дня. «Электронная церковь» По мнению Джайлса Кепела, американские фундаменталисты отличаются поразительным искусством использовать самый современный язык и технологию для распространения своего учения (Kepel 1994). Эта традиция не является новой — и во времена до изобретения радио фундаменталистские и евангелические проповедники странствовали по американской сельской глубинке, председательствуя на огромных ривайвелистских[26] сборищах, которые устраивались в полях и под навесами. С наступлением эпохи радио проповедники получили возможность обращаться к массовой аудитории с еженедельными проповедями. Но именно пришествие телевидения оказалось самым большим подарком судьбы для распространения фундаменталистских взглядов. Электронные средства массовой информации в Соединенных Штатах с 1960-х гг. играли главную роль в изменениях, затрагивающих религию. Преподобный Билли Грэхем первым начал читать проповеди, транслируемые по радио, и эффективное использование этого средства информации позволило баптистскому священнику приобрести огромное количество последователей. В последние двадцать лет мы все чаще являемся свидетелями еще более изощренного и систематического использования средств массовой информации для распространения религиозных учений и для сбора денег для служителей культа. Стали появляться «электронные церкви» — религиозные организации, функционирующие преимущественно с помощью средств массовой информации, а не через объединения прихожан на местах. С помощью спутникового телевидения религиозные программы теперь можно целенаправленно транслировать на весь мир, как в развивающиеся страны, так и в другие индустриальные общества. Пионерами в использовании электронной церкви были главным образом фундаменталисты и другие группы, стремящиеся к обращению неверующих в свою веру. Одной из причин этого является «система звезд», вдохновенных проповедников, привлекающих к себе последователей благодаря магнетизму собственной личности. Некоторые из таких проповедников идеально подходят для электронных СМИ, с помощью которых харизматические качества проповедников могут быть спроецированы на аудиторию из тысяч или даже миллионов людей. Кроме Билли Грэхема еще целый ряд других «электронных проповедников» в США, и в их числе Орал Робертс, Джерри Фолуэлл, Джимми Сваггарт, Пэт Робертсон, Джим Бэккер и его бывшая жена Тэмми Фей, сделали средства информации своим главным орудием, используя для завоевания последователей главным образом радио- и телевещание. Некоторые религиозные радио- и телепроповедники, в том числе Джим и Тэмми Бэккер, а также Джимми Сваггарт, оказались замешанными в сексуальных и финансовых скандалах, серьезно испортивших их репутацию. Из того факта, что положение таких людей пошатнулось, некоторые наблюдатели предположили, что влияние электронной церкви идет на спад. Вполне возможно, что ривайвелистские и фундаменталистские группы утрачивают свое доминирующее положение, но более широкие связи между религиозными организациями и электронными СМИ вряд ли прервутся. Как показывает глава 15 «Средства массовой информации и коммуникации», радио и другие формы электронной коммуникации выступают в современном мире важнейшими факторами влияния, и это неизбежно будет по-прежнему стимулировать создание религиозных программ. Религиозные проповеди с помощью электронных средств получили особенно широкое распространение в Латинской Америке, где показывают североамериканские программы. И в результате протестантские движения, в большинстве относящиеся к пятидесятникам, приобрели огромное влияние в таких странах, как Чили и Бразилия, где преобладает католицизм.
Заключение
В век глобализации, когда люди отчаянно нуждаются во взаимопонимании и диалоге, религиозный фундаментализм может быть деструктивной силой. Фундаментализм чреват возможностью насилия — в случае исламского и христианского фундаментализма примеры насилия, вызванного приверженностью к религии, встречаются достаточно часто. В последние несколько лет имел место ряд кровавых столкновений между исламскими и христианскими группами населения в Ливане, Индонезии и других странах. Тем не менее, в мире, который все более становится космополитическим, больше, чем когда-либо раньше, наблюдается учащение контактов между людьми самых разных традиций и верований. По мере того как люди перестают беспрекословно принимать традиционные идеи, мы все оказываемся вынужденными жить более открыто и рационально — необходимы дискуссия и диалог между людьми с различными убеждениями. Дискуссия и диалог — это основной путь к сдерживанию насилия или его постепенному исчезновению.Краткое содержание
1. Религия существует во всех известных обществах, хотя религиозные верования и обряды варьируются от культуры к культуре. Все религии предполагают тот или иной набор символов, внушающих чувство благоговения и связанных с ритуалами, совершаемыми определенной общиной верующих. 2. Тотемизм и анимизм — это распространенные типы религии в небольших культурах. При тотемизме некоторый вид животного или растения считается обладающим сверхъестественной силой. Анимизм означает веру в духов или призраков, населяющих тот же мир, что и человеческие существа, и иногда завладевающих людьми. 3. Тремя наиболее влиятельными монотеистическими религиями (религиями, в которых существует только один Бог) в мировой истории являются иудаизм, христианство и ислам. Политеизм (вера в нескольких или многих богов) распространен в других религиях. В некоторых религиях, например в конфуцианстве, богов или сверхъестественных существ нет. 4. Взгляды социологов в области религии испытали в значительной степени влияние трех «классических» мыслителей: Маркса, Дюркгейма и Вебера. Все они понимали религию как в своей сущности иллюзию. Они считали, что созданный религией «загробный» мир есть наш собственный мир, преломленный сквозь призму религиозного символизма. Для Маркса религия включает сильный идеологический компонент: религия обеспечивает оправдание существующему в обществе неравенству в обладании богатством и властью. Для Дюркгейма религия важна благодаря выполняемой ей функции сплочения — она обеспечивает, в частности, регулярные встречи людей для подтверждения их приверженности к общим верованиям и ценностям. Для Вебера религия важна в силу той роли, которую она играет в социальных изменениях, в частности, в развитии западного капитализма. 5. Существует четыре основных типа религиозных организаций. Церкви — это крупные и освященные временем религиозные учреждения, обычно характеризующиеся формальной бюрократической структурой и иерархией религиозных чиновников. Секты — это более мелкие и менее формальные группы верующих, обычно создаваемые с целью возрождения традиционной церкви. Если секта существует в течение определенного периода времени и превращается в нечто институционализованное, она становится деноминацией. Культы подобны сектам, но представляют собой еще более слабо связанные группы людей, которые не столько объединяются в некую организацию, сколько следуют определенным сходным ритуалам. 6. Религиозными организациями обычно управляют мужчины. В большинстве религий, особенно в христианстве, образы и символы являются в основном мужскими, однако в некоторых религиях встречаются также и женские божества. Женщины, как правило, были исключены из религиозных иерархий, хотя в англиканской церкви они могут быть рукоположены в сан священника. 7. Секуляризация означает ослабление влияния религии. Определение уровня секуляризации сопряжено с трудностями, потому что при этом необходимо учитывать несколько параметров: количество членов религиозных организаций, их социальный статус, личную религиозность людей. Хотя влияние религии явно уменьшилось, религия отнюдь не находится на грани исчезновения, но продолжает как объединять, так и разделять людей в современном мире. 8. Процент людей, регулярно посещающих церковь, в Соединенном Королевстве и других европейских странах низок. В Соединенных Штатах, напротив, гораздо большая часть населения регулярно ходит в церковь. Число людей в Соединенном Королевстве, Европе и США, которые заявляют, что веруют в Бога, намного превышает количество тех, кто регулярно посещает церковь. 9. Хотя в последние десятилетия у традиционных церквей наблюдается уменьшение количества последователей, наряду с основными направлениями в этих религиях появились многочисленные новые религиозные движения. Новые религиозные движения охватывают широкий круг религиозных и духовных групп, культов и сект. Их можно в грубых чертах разделить на мироутверждающие движения, сходные с группами самопомощи, мироотвергающие движения, которые стремятся уйти от окружающего мира и подвергают его критике, и движения, направленные на приспособление к миру, делающие упор на внутренней религиозной жизни в противовес земным заботам. 10. Милленаристское движение — это движение людей, ожидающих немедленного коллективного спасения — либо в результате некоторого фундаментального изменения в настоящем, либо путем восстановления давно утраченного Золотого века. Апокалиптизм — это вера в божественное откровение о последних событиях истории. 11. В различных религиозных группах в разных частях земли получил распространение фундаментализм. «Фундаменталисты» получили такое название потому, что они верят в возвращение к фундаментальным, базовым принципам своих религиозных доктрин. После Исламской революции 1979 г. в Иране, которая привела к созданию религиозно ориентированного правительства, исламский фундаментализм оказал влияние на многие страны Ближнего Востока. Христианский фундаментализм в Соединенных Штатах является реакцией против господствующих в американском обществе мирских ценностей и ощущаемого морального кризиса. В попытках обратить неверующих в свою веру христианские фундаменталисты были пионерами в создании «электронной церкви» — первыми использовали телевидение, радио и новые технологии для привлечения новых последователей.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Могут ли в современном мире происходить чудеса? 2. Как отличить религию от системы политических или моральных убеждений? 3. Существует ли вероятность того, что религия означает для женщин нечто иное, чем для мужчин? 4. Каким образом религия является силой, способствующей одновременно и социальной стабильности, и социальным потрясениям? 5. Насколько правильно характеризовать состояние религиозности людей в Великобритании и Соединенных Штатах как «веруют, но не принадлежат»? 6. Какие явления в современном мире способствовали возникновению новых религиозных движений?Дополнительная литература
Bailey Edward I. Implicit Religion in Contemporary Societies. Kampen: Kok Pharos, 1997. Barker Eileen and Warburg Margit (eds.). New Religions and New Religiosity. Aarhus: Aarhus University Press, 1998. McLeod Hugh. Religion and the People of Western Europe, 1789–1989. Oxford: Oxford University Press, 1997. Westerlund David (ed.). Questioning the Secular State: The Worldwide Resurgence of Religion in Politics. London: C. Hurst, 1996.Интернет-линки
Научная информация для понимания религии www.academicinfo.net/religindex.html Архив данных о религии в Америке http://www.arda.tm Журнал теории культуры и религии (он-лайн) www.jcrt.orgГЛАВА 18 ГОРОДА И ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
Жилые районы, окружающие центральную часть Гринич-виллидж в Нью-Йорке, могут похвастаться самой высокой стоимостью недвижимости во всех Соединенных Штатах. Узкие кондоминиумы продаются за суммы, значительно превышающие миллион долларов, а жилье еще меньшего размера может обойтись вам в половину этой суммы. Средний годовой доход жителей в этом районе составляет более 65 000 долл. США в год. Это место, известное своей богатой культурной инфраструктурой, включающей букинистические магазины, кафе, художественные галереи и театры. Гринич-виллидж издавна считается «богемным кварталом» Нью-Йорка — родным домом нескольких поколений интеллектуалов, художников и писателей. Жителями этого района в основном являются белые специалисты из наиболее зажиточных представителей среднего класса, а также студенты. Однако есть у Гринич-виллидж и другая сторона. Улицы района наполнены шумом, вызванным деятельностью тех, кто весьма далек от состоятельности, описанной выше. Попрошайки, наркодельцы, уличные торговцы и бездомные также стали обитателями Гринич-виллидж. За последние несколько десятилетий люди из очень бедных регионов пришли к выводу, что американская «обочина», или «панель», может дать ряд возможностей заработать себе на жизнь. Оживленная уличная жизнь, постоянный поток пешеходов и смесь состоятельности и бедности создают хаотичную мозаику, в которую могут влиться нью-йоркцы-маргиналы. Согласно социологу Митчелу Дюнайеру, это район, «который приспосабливается к богатым и бездомным, к докторам наук и к тем, кто нигде не обучался, и все они оказываются одновременно на одном и той же тротуаре» (Duneier 1999). Дюнайер решил изучить уличную жизнь района Гринич-виллидж с помощью анализа жизни бедных, в основном черных мужчин, которые там живут и работают (см. главу 20 «Методы социологических исследований»). За период, длившийся 5 лет, он наблюдал за неформальной экономической жизнью улицы и принимал в ней участие. Дюнайер работал рядом с продавцами книг и журналов, «мусорщиками», которые находили различные вещи на помойке и перепродавали их на улице, и теми, кто просит милостыню возле банкоматов. Он был свидетелем того, как правоохранительные органы Нью-Йорка ловили мужчин на улицах в связи с кампанией «За качество жизни», направленной на уменьшение признаков общественных беспорядков. В своей работе под названием «На обочине» Дюнайер рисует сложную картину жизни, отмеченной использованием наркотиков и наркозависимостью, алкоголизмом, бездомностью, инвалидностью, безграмотностью, тюремными приговорами и пагубным расизмом. Он также описывает мощную общину, существующую в условиях улицы, — неформальные системы помощи самим себе, взаимной поддержки, наставничества и выживания. Тротуары района Гринич-виллидж — это микрокосм резких контрастов и неравенств, характерных для крупнейших городов мира. Глобализация и распространение информационных технологий усиливают процесс урбанизации, привлекая все большее число людей в большие города, концентрируя в них экономическую активность. Большие города более чем когда бы то ни было стали перекрестком удивительного набора культур, языков, истоков и традиций. Новая международная элита пересекает континенты, объединяя эти города в некую систему «глобальных городов». Внутри этих глобальных городов главные офисы многонациональных корпораций возвышаются над бедными районами, расположенными по соседству, супербогатые и обездоленные «пользуются» одними и теми же большими городами, хотя их повседневные реалии не имеют друг с другом ничего общего. Кому принадлежат большие города? С одной стороны, они являются «зоной городского гламура» — умопомрачительным набором шикарных ресторанов и отелей, административных зданий, аэропортов и театров, посещаемых архитекторами и администраторами новой глобальной экономики. Вместе с распространением глобализации эта часть населения «городских пользователей» будет продолжать расти. С другой стороны, существуют тысячи «городских пользователей», находящихся на периферии экономического роста, кому этот город принадлежит в равной степени, но чьи претензии на него часто не приветствуются. В городских центрах мира растет число иммигрантов, бедных и обездоленных. Более, чем когда бы то ни было, крупнейшие города мира являются как домом для огромной концентрации власти и богатства, так и пристанищем для терпящих неслыханные затруднения и лишения. Сопоставление жизни и средств к существованию становится все более заметным в больших городах всего мира. В этой главе мы рассмотрим процессы урбанизации, которые привели к подъему современных больших городов и продолжают формировать их. Сначала мы обсудим значительный рост числа городских жителей, который произошел за прошедшее столетие и рассмотрим некоторые из основных теорий урбанизма, разработанных для понимания этого процесса. Затем мы сравним различные модели урбанизации в мире, сначала исследуя примеры из США и Великобритании, а затем обратившись к урбанизации в развивающихся странах. Поскольку глобализация оказывает огромное влияние на большие города, неудивительно, что мы остановимся на некоторых аспектах этого процесса в заключительных разделах этой главы.Черты современного урбанизма
Все современные индустриальные общества являются в высокой степени урбанизированными. Крупнейшие города мира в индустриальных странах насчитывают до 25 млн жителей, а конурбации — скопления городов, образующих обширные зоны городской застройки, — могут иметь и гораздо большее число жителей. Наиболее экстремальной формой городской жизни сегодня является та, которую некоторые называют мегалополис, или «город городов». Этот термин появился в Древней Греции и обозначал город-государство, который по замыслу должен был стать предметом зависти всех цивилизаций. Но современное употребление этого слова имеет весьма отдаленное отношение к той мечте. В наше время это слово впервые употребили применительно к северо-восточному побережью США — конурбации протяженностью 450 миль от Бостона на севере до окрестностей Вашингтона, округ Колумбия, на юге. В этом районе сегодня проживает около 40 млн жителей при плотности населения 700 чел. на 1 кв. милю. Великобритания первой пережила индустриализацию и также первой превратилась из страны сельской в страну с преимущественно городским населением. В 1800 г. намного менее 20 % населения жило в городах, насчитывающих более чем 10 000 жителей. К 1900 г. эта доля составила 74 %. Столицу — Лондон — в 1800 г. считали своим домом 1,1 млн жителей, к началу XX в. ее население превысило 7 млн. Тогда Лондон был, несомненно, самым большим городом во всем мире, крупным промышленным, коммерческим и финансовым центром в самом сердце все еще расширявшейся Британской империи. Урбанизация большинства других европейских стран, а также Соединенных Штатов Америки произошла несколько позже, но уже начавшись, в некоторых случаях проходила даже быстрее. В 1800 г. Соединенные Штаты были более сельской страной, нежели ведущие европейские страны того же времени. Менее 10 % американского населения жило в населенных пунктах, насчитывавших более 2 500 чел. Сегодня в них живет значительно больше чем три четверти американцев. За период между 1800 и 1900 гг. население Нью-Йорка выросло от 60 тыс. до 4,8 млн чел.! Урбанизация в XX в. — глобальный процесс, в который все больше втягиваются и развивающиеся страны (см. рис. 18.1). До 1900-х гг. практически весь рост городов приходился на Запад: в последующие годы наблюдалось некоторое расширение городов в развивающихся странах, но основной период роста пришелся примерно на последние полвека. Между 1960 и 1992 гг. число городских жителей в мире увеличилось на 1,4 млрд чел. В течение следующих двадцати лет оно увеличится еще на 2 млрд.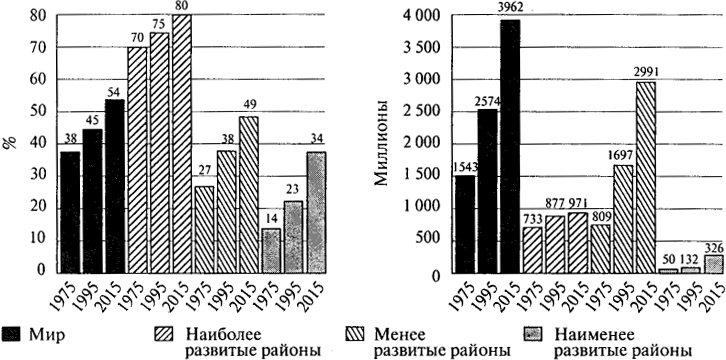 Рис. 18.1. Урбанизация регионов мира по уровню развития. 1975, 1995 гг. и прогнозируемые данные на 2015 г.
Источник: UN. World Urbanization Prospects. 1998; The UNESCO Courier. June 1999.
Рис. 18.1. Урбанизация регионов мира по уровню развития. 1975, 1995 гг. и прогнозируемые данные на 2015 г.
Источник: UN. World Urbanization Prospects. 1998; The UNESCO Courier. June 1999.
Городское население растет гораздо быстрее, чем население мира в целом: 39 % мирового населения в 1975 г. жили в городах различного типа; по подсчетам ООН, эта цифра достигнет 50 % в 2000 г. и 63 % в 2025 г. В Восточной и Южной Азии будет проживать примерно половина населения земного шара, и к этому времени горожан и в Африке, и в Южной Америке будет больше, чем в Европе.
Развитие современных городов
Рост больших городов произошел в результате увеличения населения, а также миграции жителей с ферм, из деревень и маленьких городов. Эта миграция часто была интернациональной — люди, выросшие в крестьянской среде, переезжая в другие страны, сразу попадали в города. Наиболее очевидный пример такого рода — иммиграция большого количества европейцев из бедных сельских общин в Соединенные Штаты, но межнациональное переселение в города было также распространено между странами и в самой Европе. Крестьяне и жители небольших поселков перебирались в города (подобно тому, как это происходит сегодня в массовом порядке в развивающихся странах), так как в сельских районах их возможности были ограничены, города же имели явные преимущества и привлекали улицами, «вымощенными золотом» (плюс работа, благосостояние, широкий спектр товаров и услуг). Более того, крупные города становились центрами финансовой и промышленной власти; порой предприниматели создавали новые городские районы практически на голом месте. Развитие современных городов оказало огромное влияние не только на привычки и стереотипы поведения, но на образ мыслей и мироощущение. Со времени, когда в XVIII в. появились первые крупные городские агломерации, мнения о влиянии больших городов на социальную жизнь разделились. Некоторые считали, что города представляют собой «цивилизованную добродетель», источник динамизма и культурного созидания. По мнению авторов, города максимально увеличивают возможности экономического и культурного развития, обеспечивают средства для комфортной жизни, приносящей удовлетворение. Другие клеймили город как чадящий ад, набитый агрессивными толпами людей, не доверяющих друг другу, пронизанный преступностью, насилием и коррупцией. По мере того как города множились подобно грибам, многие с ужасом отмечали, что неравенство и городская бедность также увеличиваются. Степень городской бедности и разительные отличия между городскими районами были в числе основных факторов, которые привели к ранним социологическим исследованиям городской жизни. Неудивительно, что первые крупные социологические исследования, а также теории, касающиеся современных городских условий, берут свое начало в Чикаго — городе, отмеченном феноменальным темпом развития: из практически ненаселенной местности в 1830-е гг. он вырос к 1900-м гг. до города с населением, намного превышающем 2 млн чел., для которого также характерны весьма значительные неравенства.Теории урбанизма
Чикагская школа
Ряд авторов, связанных с Чикагским университетом в период с 1920 по 1940-е гг., в особенности Роберт Парк, Эрнест Берджесс и Луис Вирт, развивал идеи, которые в течение многих лет были основой теории и исследований в области социологии городов. На двух концепциях, разработанных «Чикагской школой», стоит остановиться отдельно. Одной из них является так называемый экологический подход к анализу города; другой — описание урбанизма как стиля жизни, разработанного Виртом (Park 1952; Wirth 1938). Урбанистическая экология Экология — термин, взятый из одной из естественных наук: изучение адаптации растительных и животных организмов к окружающей их среде. (В этом смысле термин «экология» используется в контекстах, касающихся проблем окружающей среды в целом, см. главу 19 «Рост народонаселения и экологический кризис».) В природе организмы обычно распределяются в определенном пространстве по некой системе таким образом, что достигается определенный баланс, или равновесие, между различными видами. Представители Чикагской школы считали, что расположение крупных городских поселений и распределение различных типов районов внутри них можно понимать в терминах сходных принципов. Города растут не произвольно, а в соответствии с благоприятными свойствами окружающей среды. Например, обширные зоны городской застройки в современных обществах обычно развиваются по берегам рек, на плодородных равнинах либо на пересечении торговых путей или железных дорог. По словам Парка, «будучи основанным, большой город, по-видимому, является отличным сортировочным механизмом, который ... в целом, безошибочно выбирает из всего населения страны тех, кто наиболее подходит для жизни в том или ином регионе или той или иной среде» (Park 1952, 79). Большие города вписались на «естественные пространства» через процессы соревнования, вторжения и закрепления — все эти процессы имеют место и в экологии биологической. Если мы посмотрим на экологию озера в естественной среде, то обнаружим, что соревнование между различными видами рыб, насекомых и других организмов происходит для достижения сравнительно стабильного их распределения. Этот баланс нарушается, если «вторгаются» новые виды, пытаясь сделать озеро своим местом обитания. Некоторые доселе процветавшие организмы из центральной части озера выживаются со своих мест, что обрекает последних на более нестабильное и худшее существование близ берегов. Завоеватели становятся их преемниками на центральной территории. Модели размещения, движения и перемещения в городах, согласно экологической концепции, аналогичны. Различные районы развиваются путем приспособления их обитателей, по мере того как последние ведут борьбу за средства к существованию. Большой город можно представить в виде совокупности районов с определенными, отличными друг от друга социальными характеристиками. На начальной стадии развития современных городов промышленность сосредотачивается в местах, удобных для доставки необходимого сырья, поближе к дорогам, по которым снабжение осуществляется. Жители группируются вокруг этих мест работы, становящихся все более и более разнообразными по мере роста городского населения. Соответственно, условия быта, развивающиеся таким образом, становятся все более привлекательными и появляется большая степень конкуренции за их приобретение. Стоимость земли и налоги на доход с недвижимого имущества растут, затрудняя семьям возможность проживания в центральном районе и оставляя возможность жить в условиях тесноты или ветшающих домов, квартирная плата в которых по-прежнему остается относительно невысокой. В центре начинают господствовать бизнес и развлечения, а его наиболее состоятельные частные обитатели переезжают в формирующиеся новые районы, располагающиеся по периметру. Этот процесс связан с транспортными артериями, поскольку это дает шанс сократить до минимума время, необходимое, чтобы добраться от дома до работы; районы, оказавшиеся вдали от этих дорог, развиваются медленнее. Большие города можно рассматривать как концентрические круги, разделенные на сегменты. В центре находится внутренний город — старые внутренние районы, смесь процветающего большого бизнеса и разрушающихся частных жилых домов. За его пределами — позднее сформировавшиеся районы, где живут рабочие, занятые физическим трудом и имеющие постоянную работу. Еще несколько дальше располагаются пригороды, где обычно проживают группы населения с более высоким доходом. Внутри концентрических кругов происходят процессы вторжения и закрепления. Так, поскольку жилье в центральном и ближайшем к центральному кругах разрушается, в них могут начинать въезжать этнические меньшинства. По мере того как это происходит, все большее число тех, кто жил в этих районах ранее, начинает покидать эти места, ускоряя всеобщее переселение в другие районы города или в его предместья. Хотя в какой-то момент репутация подхода, используемого в урбанистической экологии, была под сомнением, позже к нему вновь вернулись, и этот подход был детально разработан в работах целого ряда авторов, в особенности Эймоса Холи. В отличие от своих предшественников, концентрировавших свое внимание на соревновании за скудные ресурсы, Холи подчеркивал взаимозависимость различных районов города (Hawley 1950, 1968). Дифференциация — специализация групп и профессиональных ролей — основной путь адаптации людей к окружающей их среде. Те группы, от которых зависят многие другие, будут господствующими, что часто выражается в их центральном географическом расположении. Такие деловые группы, как, например, крупные банки или страховые компании, оказывают важнейшие услуги для многих представителей общины, и поэтому обычно располагаются в центральной части поселений. Однако зоны, которые развиваются в городских местностях, как отмечает Холи, возникают не только на фоне пространственных, но и временных отношений. Господствующее положение бизнеса, к примеру, выражается не только в моделях землепользования, но и в ритме дел повседневной жизни — иллюстрацией этому является час пик. Временное распределение повседневных дел человека — его распорядок дня — отражается на иерархии районов города. Экологический подход был важен с точки зрения теоретической перспективы для целого ряда эмпирических исследований, которые он породил. Множество исследований и целых городов, и отдельных районов было вызвано экологическим мышлением, например, интерес к процессам «вторжения» и «преемственности», упомянутым ранее. Однако можно сделать несколько различного рода справедливых критических замечаний. В рамках экологической перспективы не обращается должного внимания на важность продуманного дизайна и планирования городской застройки, развитие городов считается «естественным» процессом. Модели организации пространства, разработанные Парком, Берджессом и их коллегами, были основаны на американском опыте и подходили лишь к некоторым типам городов США, не говоря уже о городах Европы, Японии или развивающихся стран. Урбанизм как стиль жизни Положение Вирта об урбанизме как о стиле жизни не столько связано с внутренней дифференциацией городов, сколько с тем, что представляет собой урбанизм как форма социального существования. Вирт отмечает:Степень, до которой современный мир может называться «городским», не измеряется полностью и точно долей жителей городов относительно населения в целом. Влияние, оказываемое большими городами на социальную жизнь человека, значительнее, чем на то указала бы доля городского населения; город — это не только место обитания и рабочая мастерская современного человека, но центр, где рождается и откуда управляется экономическая, политическая и культурная жизнь, центр, вовлекающий самые удаленные общины мира в свою орбиту и объединяющий в некое общее пространство различные территории, народы и виды деятельности (Wirth 1938, 342).В городах, как отмечает Вирт, множество людей живет в непосредственной близости друг от друга, не будучи лично знакомым практически ни с кем из окружающих — это фундаментальное отличие от маленьких, традиционных деревень. Большинство контактов между горожанами преходящи, носят поверхностный характер и скорее являются средством достижения других целей, а не настоящими взаимоотношениями, приносящими удовлетворение сами по себе. Моменты общения с продавцами в магазинах, кассирами в банках, контролерами в поездах — это мимолетные встречи, имеющие место не ради встреч как таковых, а как средство достижения иных целей. Поскольку те, кто живет на городской территории, как правило, весьма мобильны, связь между этими людьми довольно слаба. Люди ежедневно заняты различными делами и вовлекаются в разные ситуации — «темп жизни» в городе быстрее, чем в сельской местности. Конкуренция доминирует над взаимодействием. Вирт признает, что плотность социальной жизни в городах приводит к формированию районов, имеющих отличительные характеристики, некоторые из которых могут сохранять признаки маленьких общин. К примеру, в районах, где компактно проживают иммигранты, можно увидеть традиционные типы связей между семьями — такие, где большинство людей знакомы друг с другом лично. Однако, чем больше подобные места перенимают более распространенные модели городской жизни, тем реже выживают подобные черты. Идеи Вирта получили заслуженное признание. Безличность многих повседневных контактов в современных городах не подлежит сомнению и в какой-то степени относится и к социальной жизни в современных обществах в целом. Теория Вирта является важной, поскольку в ней признается, что урбанизм — это не просто часть общества, но он отражает характер и влияет на природу социальной системы в более общем смысле. Аспекты городского образа жизни являются характерными для социальной жизни в современных обществах в целом, а не только для деятельности тех, кто по воле судьбы проживает в больших городах. Однако идеи Вирта также имеют заметные ограничения. Как и экологическая концепция, с которой у нее немало общего, теория Вирта построена в основном на наблюдениях, связанных с американскими городами, но сделаны обобщения по отношению к урбанизму во всем мире. Урбанизм не одинаков всегда и всюду. Например, как уже упоминалось, древние города во многих отношениях отличались от тех, которые существуют в современном обществе. У большинства людей жизнь в древних городах не была намного более анонимной или безликой, чем у тех, кто жил в деревенских общинах. Вирт также преувеличивает безликость современных городов. Общины, в которых существуют близкая дружба и родство, распространены в современных городских объединениях более, чем он предполагал. Эверетт Хьюз — коллега Вирта из Чикагского университета — писал о своем коллеге следующее: «Луис часто и много говорил о безликости города, при этом сам он жил среди целого клана родни и друзей, находясь с ними в очень близких отношениях» (цит. по: Kasarda and Janowitz 1974). Такие группы, которые Герберт Ганс называет «городскими селянами», распространены в современных городах (Gans 1962). Его «городские селяне» — это, например, американцы итальянского происхождения, живущие в одном из районов Бостона. Подобные «белые этнические» районы, вероятно, становятся менее заметными в американских городах, чем ранее, но они заменяются внутренним городом — городскими районами, населенными новыми иммигрантами. Более важным моментом является тот факт, что сообщества, в которых наблюдаются близкие родственные и личные связи, по-видимому, часто активно создаются самой городской жизнью; это не просто остатки существовавшего некогда ранее образа жизни, которые в течение некоторого времени сохраняются в условиях города. Клод Фишер предложил интерпретацию того, почему крупномасштабный урбанизм на самом деле обычно способствует развитию различных субкультур, а не сваливает все в единую анонимную массу. Как он отмечает, те, кто живет в городах, могут сотрудничать с другими лицами того же происхождения или со схожими интересами в целях развития местных деловых связей; они также могут вступать в определенные религиозные, этнические, политические и другие субкультурные группы. В маленьком городе или деревне подобное разнообразие субкультур развиться не сможет (Fischer 1984). Те, кто формирует этнические общины внутри городов, могли быть практически или вовсе незнакомы на своей родине. Когда эти люди прибывают, они тянутся к тем местам, где живут люди, близкие им по языку и культуре, и так появляются новые структуры внутри сообщества. Художник может не найти практически никого близкого себе по духу в деревне или маленьком городе, но в большом городе онили она могут стать частью значимой артистической и интеллектуальной субкультуры. Большой город — это «мир незнакомцев», однако он поддерживает и создает новые взаимоотношения. Это не парадоксально. Мы должны уметь разделять городской опыт на публичную сферу общения с незнакомцами и на более личный мир семьи, друзей и коллег по работе. Когда человек переезжает в большой город, ему может быть трудно «познакомиться с людьми». Но любой человек, въезжающий в маленькую сельскую общину с установившимся порядком жизни, может обнаружить, что дружелюбие, проявляемое ее жителями — это лишь вопрос вежливости, могут пройти годы, прежде чем он станет «своим». В городе это не так. Вот какой комментарий дал на эту тему Эдвард Крупат:
Скорлупу города-яйца ... пробить сложнее. Не имея случая и обстоятельств представиться, многие люди, которые ежедневно видят друг друга на автобусной остановке или железнодорожной станции, в столовой или в коридорах на работе, никогда не становятся кем-то большим, чем «знакомыми незнакомцами». Также, некоторые люди остаются совершенно в стороне от общественной жизни, поскольку им не хватает навыков общения или инициативности. Однако существует великое множество свидетельств того, что благодаря разнообразию незнакомцев — каждый из которых является потенциальным другом — и широкому разнообразию стилей жизни и интересов в городе, люди пробиваются внутрь («скорлупы»). И как только они попадают в какую-либо группу или структуру, возможности расширения их связей значительно увеличиваются. В результате данные говорят о том, что позитивные возможности, предоставляемые городом, зачастую перевешивают сдерживающие силы, позволяя людям развивать и поддерживать удовлетворяющие их отношения (Krupat 1985, 36).Идеи Вирта сохраняют свое значение и сегодня, но, в связи с последующей их разработкой, очевидна их чрезмерная обобщенность. Современные города часто подразумевают безличные, анонимные социальные связи, но они также являются источниками разнообразия, а иногда и близких отношений.
Урбанизм и искусственно созданная среда
В более современных теориях подчеркивалось, что урбанизм — это не автономный процесс, его следует анализировать во взаимосвязи с основными моделями политических и экономических изменений. Два ведущих автора в области проблем городов — это Дэвид Харви и Мануэль Кастеллс, на каждого из них серьезное влияние оказал Маркс (Harvey 1973, 1982, 1985; Castells 1977, 1983). Харви: реструктуризация пространства Харви подчеркивает, что урбанизм — это один из аспектов искусственной среды, появившейся из-за распространения промышленного капитализма. В традиционных обществах город и сельская местность имели четкие отличия. В современном мире промышленность стирает грани между городом и деревней. Сельское хозяйство становится механизированным и исходит из соображений цены и прибыли, так же как и промышленное производство, а этот процесс сокращает разницу в образе социальной жизни между городским и сельским населением. Как отмечает Харви, пространство в современном урбанизме постоянно реструктурируется. Этот процесс определяется тем, где территориально крупные фирмы решают разместить свои фабрики, центры проектно-конструкторской работы и т. д.; теми способами контроля, которые устанавливаются правительствами над земельными участками и над промышленным производством, а также деятельностью частных инвесторов, покупающих и продающих недвижимость и землю. Коммерческие компании, к примеру, постоянно взвешивают относительные преимущества новых мест расположения по сравнению с уже имеющимися. По мере того как производство становится дешевле в одном месте по сравнению с другим, офисы и фабрики будут закрываться в одном месте и открываться в каком-то другом. Так, в какой-то момент, если речь идет о значительных прибылях, возможен рост строительства административных зданий в центрах больших городов. Когда здания уже построены и центральный округ «реконструирован», инвесторы ищут потенциал для дальнейшего предполагаемого строительства где-то еще. То, что часто выгодно в данный момент, перестанет быть таковым в другой, когда финансовый климат изменится. На действия частных покупателей недвижимости сильно влияет то, где и насколько компании заинтересованы в земле, а также размеры учетных ставок и налогов, установленных местным и центральным правительством. Например, после Второй мировой войны произошло сильное расширение застройки пригородов в основных городах США. Это отчасти произошло из-за этнической дискриминации и тенденции белого населения переезжать из внутреннего города. Однако, утверждает Харви, это стало возможным только благодаря решениям правительства понизить налоги для покупателей отдельных домов и строительных фирм, и благодаря созданию финансовыми организациями особых условий кредитования. Это стало базой для строительства и покупки новых домов на окраинах городов и одновременно способствовало спросу на такие промышленные товары, как автомобиль. Увеличение в размерах и процветание маленьких и больших городов на юге Англии, начиная с 1960 г., напрямую связано со спадом более старых отраслей промышленности на севере и с последующим переводом инвестиций в новые промышленные производства. Кастеллс: урбанизм и социальные движения Как и Харви, Кастеллс подчеркивает, что пространственная форма того или иного общества тесно связана с общими механизмами его развития. Чтобы понять город, необходимо уяснить процессы появления и трансформации пространственных форм. Планировка и архитектура городов и их районов отражают борьбу и конфликты между различными группами общества. Иными словами, городская среда представляет собой некие символические и пространственные примеры более широких общественных сил. Например, небоскребы, возможно, строят в ожидании того, что они принесут прибыль, но гигантские здания также «символизируют власть денег над городом с помощью технологий и уверенности в себе, это храмы периода роста промышленного капитализма» (Castells 1983, 103). В отличие от социологов Чикагской школы, Кастеллс считает город не просто определенным населенным пунктом — городской территорией, но неотъемлемой частью процессов коллективного потребления, которые, в свою очередь, являются одним из аспектов, составляющих промышленный капитализм. В школах, транспортных средствах и местах для отдыха и развлечений люди совместно «потребляют» продукты современной промышленности. Система налогообложения влияет на то, кто, что и где может купить или арендовать, а также кто и где будет что-то строить. Большие корпорации, банки и страховые компании, которые обеспечивают капитал для строительных проектов, серьезно влияют на все эти процессы. Но правительственные органы могут также непосредственным образом влиять на многие аспекты городской жизни, с помощью строительства дорог и муниципального жилья, планировки зеленой зоны и т.д. Таким образом, физическая форма городов — это продукт и рыночных сил, и правительственной власти. Однако природа искусственной среды — это не просто результат деятельности богатых и влиятельных людей. Кастеллс подчеркивает важность борьбы неимущих групп за изменение их жилищных условий. Проблемы города порождают различные социальные движения, озабоченные улучшением жилищных условий, протестующие против загрязнения воздуха, защищающие парки и зеленые зоны, и борющиеся против строительства, которое искажает облик района. Например, Кастеллс занимался изучением движения гомосексуалистов в Сан-Франциско, которому удалось провести реструктуризацию района в соответствии с их культурными ценностями, что дало возможность процветания множества организаций гомосексуальной ориентации, клубов и баров, а также получить важную роль в местной политике. Города, как подчеркивали и Харви, и Кастеллс являются практически полностью искусственными средами обитания, созданными человеком. Даже самые глухие сельские местности не могут избежать влияния человеческого вмешательства и информационных технологий, поскольку деятельность человека изменила и переупорядочила мир природы. Продукты питания производятся не только для местных жителей, но и для национальных и международных рынков; при механизированном сельском хозяйстве земля строго разделяется на части, используется специализированно и организуется в некие физические модели, имеющие мало общего с характеристиками окружающей природы. Те, кто живет на фермах и в отдаленных сельских местностях, связаны с остальными членами общества экономическими, политическими и культурными нитями, как бы ни отличались модели поведения этих людей от тех, что присущи горожанам. Оценка Взгляды Харви и Кастеллса широко обсуждались, а их работы были важны в создании нового направления социологического анализа города. В отличие от экологического подхода, их работы ставят во главу угла не «естественные» пространственные процессы, но то, как земля и искусственная среда обитания отражают социальную и экономическую системы власти. Это говорит о серьезной смене акцента. Однако идеи Харви и Кастеллса часто излагались весьма абстрактно и не привели к столь большому числу дальнейших исследований, как работы представителей Чикагской школы. В некотором смысле идеи Харви и Кастеллса, и те, что были выдвинуты Чикагской школой, хорошо дополняют друг друга, и их можно совмещать для получения всеобъемлющей картины процессов урбанизации. Контрасты между районами города, описанные в урбанистической экологии, действительно существуют, как существует и общая деперсонализация городской жизни. Но они более непостоянны, чем полагали члены Чикагской школы, и в основном зависят от социальных и экономических влияний, которые анализировали Харви и Кастеллс. Джон Логан и Харви Молоч предложили подход, который напрямую связывает взгляды таких авторов, как Харви и Кастеллс, с некоторыми чертами, присущими экологической точке зрения (Logan and Molotch 1987). Они согласны с Харви и Кастеллсом, что общие черты экономического развития внутри страны и за ее пределами влияют на городскую жизнь весьма непосредственно. Однако, утверждают они, действие этих разнообразных экономических факторов в основном проявляется через деятельность местных организаций, включая предприятия того или иного района, банки и правительственные организации, а также отражается в деятельности отдельных покупателей жилых домов. Согласно Логану и Молочу, места — земля и здания — покупаются и продаются так же, как другие товары в современных обществах, но на рынки, которые формируют структуру городской среды, влияет то, как различные группы людей хотят использовать ту собственность, которую они покупают и продают. В результате этого процесса возникает множество трений и конфликтов, и они являются ключевыми факторами, формирующими районы города. Например, в современных городах, отмечают Логан и Молоч, крупные финансовые и коммерческие компании постоянно пытаются увеличить использование земли в определенных зонах. Чем больше они могут это делать, тем больше существует возможностей для спекуляции земельными участками и для прибыльного строительства новых зданий. Эти компании мало заботят социальные и физические последствия их действий для того или иного района — к примеру, разрушаются ли или нет ради постройки больших административных блоков красивые старые особняки. Процессы развертывания строительства, стимулируемые большими компаниями, занятыми приобретением новой собственности, часто действуют вразрез с интересами местных компаний или жителей, которые могут пытаться активно противостоять им. Люди объединяются в группы по защите своих интересов как жителей данного района, квартала. Такие локальные ассоциации могут проводить кампании за усиление зональных ограничений, препятствовать строительству новых зданий в парковых зонах или настаивать на более приемлемых условиях аренды.Тенденции развития городов Запада
В этом разделе мы рассмотрим некоторые основные модели развития городов Запада в послевоенную эпоху, используя в качестве примера Великобританию и США. Особенное внимание мы уделим подъему пригородных районов и упадку внутренних городов, городскому конфликту, финансовым кризисам и стратегиям возрождения городов.Субурбанизация
Некоторые приверженцы жизни в большом городе с презрением восприняли расширение пригородов с их особняками, рассчитанными на две семьи, и ухоженными садами, окружившими окраины больших английских городов. Другие, как например поэт Джон Бетьеман, воспели скромную эксцентричность пригородной архитектуры, а также порыв совместить возможности работы в большом городе с образом жизни, связанным, с практической точки зрения, с домовладением и наличием собственной машины, а также — в плане ценностей — с традиционной семейной жизнью. Многие пригородные районы Лондона выросли в период между двумя мировыми войнами и сгруппировались близ новых дорог и станций подземных линий метро, которые могли привезти пассажиров в центр. В США процесс субурбанизации достиг своего апогея в 1950-е и 1960-е гг. Прирост населения в центрах больших городов в те десятилетия составил 10 %, тогда как в пригородах — 48 %. В основном в пригороды переселялись белые семьи. Введение в школах совместного обучения детей разных рас может считаться важным фактором в решении многих белых покинуть центральные городские районы. Переезд в пригород привлекал семьи возможностью записать своих детей в школу, посещаемую только белыми. Даже сегодня американские пригородные районы по-прежнему в целом населены белыми. В 1990 г. меньшинства составляли лишь 18 % от общего населения пригородов. Трое из каждых четырех афроамериканцев продолжают жить во внутреннем городе, по сравнению с одним человеком из четырех белых. Большинство черного населения пригородов живут в районах, населенных в основном черными, в маленьких городках, примыкающих к большому городу. Однако преобладание белого населения в пригородах нарушается по мере того, как все больше членов расовых и этнических меньшинств покидают центральные районы больших городов. С 1980 по 1990 гг. черное население пригородов выросло на 34,4 %, латиноамериканское — на 69,3 %, а азиатское — на 125,9 %. По контрасту, белое население пригородов выросло лишь на 9,2 %. Представители групп меньшинств переезжают в пригородные районы по аналогичным причинам, что и те, кто сделал это ранее: лучшие дома, школы и другие условия. Как и люди, начавшие «исход» в пригороды в 1950-е, в основном это специалисты из среднего класса. Согласно председателю Организации жилищного строительства Чикаго (Chicago Housing Authority), «сейчас субурбанизация происходит не по расовым причинам, а по классовым. Никто не хочет жить рядом с бедными людьми из-за всех проблем, которые ассоциируются с ними: плохие школы, небезопасные улицы и преступные группировки» (цит. по: De Witt 1994). В Великобритании миграция населения из больших городов в окружающие их пригороды и спальные города (города-спутники, где проживают в основном люди, работающие в этих больших городах) или поселки в 1970-х и начале 1980-х гг. привела к тому, что за этот период население Большого Лондона сократилось приблизительно на полмиллиона. В то же время многие не столь крупные, а также малые города быстро росли, например, Кембридж, Ипсуич, Норидж, Оксфорд и Лестер. В промышленных городах на Севере (Великобритании) резкое падение фабричного производства также ударило по их центрам (inner city), в то время как население пригородов и небольших городов в направлении на Юго-Восток опять-таки выросло в период экономического бума конца 1990-х гг.Обветшание центральных районов города
«Побег в пригороды» вызвал серьезные последствия для благополучия и жизнеспособности как британских, так и американских городских центров. Сильное обветшание, характерное для всех крупных американских городов в последние несколько десятилетий, является прямым следствием роста пригородов. Выезд групп с высоким материальным достатком из города подразумевает потерю местных налоговых поступлений, получаемых ранее от этих людей. Поскольку многие из тех, кто остается или заменяет выехавших, живут в бедности, возможностей восстановить потерянный доход мало. Если цены в центральной части города растут, более обеспеченные группы и компании обычно переезжают дальше. Эта ситуация ухудшается из-за того, что имеющиеся в центральных районах города здания становятся более ветхими, нежели здания в пригородах, уровень преступности растет, а безработица повышается. В связи с этим необходимо затрачивать больше средств на программы социального обеспечения, школы, поддержку зданий, а также услуги полиции и пожарных. Развивается цикл разрушения, при котором чем дальше расширяется пригородная зона, тем больше проблем наблюдается в центральных городских районах. Для многих территорий американских городов последствия были ужасающими — в особенности в более старых городах, таких как Нью-Йорк, Бостон и Вашингтон, округ Колумбия. В некоторых районах этих городов наблюдается разрушение, по-видимому, более сильное, чем на каких бы то ни было других больших городских территориях индустриального мира. Ветшающие кварталы многоквартирных домов, забитые досками и выгоревшие изнутри здания перемежаются заваленными мусором пустырями. В Великобритании обветшание центральных районов города было менее заметным, чем в Соединенных Штатах. Однако некоторые старые городские территории — например в Ливерпуле — подверглись такому же разрушению, как и многие районы в больших американских городах. Одной из причин этого являются финансовые проблемы, преследующие многие центральные районы различных городов Великобритании. С конца 1970-х гг. и далее на местные власти оказывалось сильнейшее давление по ограничению бюджета и сокращению местных услуг даже на территориях, подвергающихся наибольшему разрушению. Местные власти, превышавшие установленные в стране уровни трат, могли быть наказаны. Это привело к серьезным конфликтам между правительством и многими организациями, отвечающими за проблемные территории города, возникавшим в случае несоблюдения установленного бюджета. Введение г-жой Тэтчер так называемого подушного налога еще больше повлияло на государственное финансирование районов. Хотя подушный налог был в итоге отменен из-за оказанного ему широкого сопротивления, многие городские советы стали получать меньше прибыли, чем раньше, и были вынуждены сократить ряд важнейших, по мнению многих, услуг. В отчете Англиканской церкви за 1985 г., озаглавленном «Вера в большом городе» (Faith in the City), центральные территории городов были описаны в мрачных тонах: «Серые стены, мусор на улицах, забитые досками окна, граффити, разруха и строительные отходы являются печально стандартными чертами тех районов и приходов, которые нас беспокоят... здания в центрах городов старее, чем где-либо. Примерно четверть всех английских домов была построена до 1919 г., однако их доля в центральных районах составляет от 40 до 60 %» (Church of England 1985, 18). Пол Хэррисон, описывая Хэкни — один из самых бедных районов Лондона, — передал атмосферу отчаяния:Полиция сталкивается с практически невыполнимой задачей не дать сорваться крышке с котла, наполненного взрывчатой смесью, образовавшейся в центральных районах города в результате динамичности процессов в британском обществе. Эта смесь, подогреваемая рецессией и безработицей, неизбежно вызывает высокий уровень преступности. В свою очередь это приводит к необходимости гораздо большего, с точки зрения численности, и практически повсеместного присутствия полиции, нежели это требуется на территориях иного типа, к намного более частому неприятному контакту с публикой в роли потенциального подозреваемого, создает гораздо больше возможностей превышения полицейских полномочий и ошибочных действий полиции (Harrison 1983, 369).В результате возникает порочный круг. Наиболее обездоленные не только становятся более частыми жертвами преступности, но и обязаны мириться с большим присутствием полиции. В свою очередь большее число жителей этих районов начинают криминальную деятельность, чем могли бы в ином случае. В таких местах, как Хэкни, предупреждает Хэррисон, появляется «общество баррикадной самозащиты», которое также отмечено «постоянной эрозией гражданских свобод». Большие города и США, и Великобритании сталкиваются со схожими социальными проблемами: наркомания, преступность и правонарушения, безработица, бездомность, расовая и этническая нетерпимость, социальное отчуждение, недостаточное количество общественных служб, слабые школы и напряженные отношения между полицией и гражданами. Иногда эти многочисленные недостатки настолько сильно выражены, что они вырываются наружу в виде открытого конфликта и восстаний в городе.
Конфликт в городе
В эпоху глобализации, движения и быстрых перемен большие города стали концентрированными и усугубленными примерами социальных проблем, которые преследуют общество в целом. Чересчур часто «невидимая» череда недостатков и недовольств в городах вызывает что-то вроде общественных землетрясений. Кипевшие на медленном огне конфликты выходят на поверхность, иногда в виде яростных восстаний, мародерства и массовых разрушений. Подобные события произошли в Лос-Анджелесе весной 1992 г., когда часть города охватили восстания. Генри Сиснерос, бывший в то время Секретарем департамента жилищного строительства и городского развития, вылетел в город для собственного расследования происходящего:Я увидел весь город в дыму. Пахло горящими проводами и пластмассой. Дым был настолько густым, что скрывал огни вертолета, кружившего прямо над головой. Каждые несколько секунд раздавался вой сирен, издаваемых машинами калифорнийского дорожного патруля, сопровождавшими команды пожарных машин — буквально конвой из двадцати патрульных машин для защиты пожарных, — они спешили от одного пожара к другому... Лос-Анджелес в тот вечер четверга был настоящим городским апокалипсисом дымчато-оранжевого цвета, атакой на все пять чувств; глаза людей были расширены от ужаса — казалось, еще один громкий звук — и наступит всеобщая паника (Cisneros 1993).Восстания случались и в британских городах — в Брикстоне, в жилом микрорайоне Бриджуотер Фарм в Тоттнеме, на севере Лондона, где убили полицейского, в Оксфорде, Бристоле и других городах. Что заставляет тлеющие трения и многочисленные лишения выливаться наружу в форме городского конфликта? Одним из факторов, вне всякого сомнения, является бедность; другим — этническое разделение и антагонизм, в особенности между белыми и черными; третьим — преступность, а четвертым — элементарное чувство незащищенности. Незащищенность и неуверенность возникают от первых трех факторов, вне зависимости от того, непосредственно или нет касаются они тех или иных людей. Как и в Соединенном Королевстве, бедность в США в последние два десятилетия распространилась более широко. Доля населения, живущая за официальной чертой бедности, в середине 1990-х достигла наивысшей точки более чем за четверть века. Бедность, в особенности когда она приводит к появлению обездоленных низших слоев общества, отделяет большие сегменты населения от общества в более широком понимании; многие из наиболее бедных групп сконцентрированы в разрушающихся внутренних городах — старых районах города или трущобах. Пространственный элемент социального отчуждения в данном случае четко просматривается.
Лишения центральных районов города — одна из тем, обсуждаемых в разделах «Споры по поводу понятия низшего класса» и «Формы социального отчуждения» в главе 11.
Возрождение городов
Какой подход необходимо выбрать местным, региональным и национальным властям для решения тех сложных проблем, которые терзают внутренние города? Как можно ограничить быструю экспансию удаленных пригородных районов для предотвращения ущерба, наносимого ею зеленым зонам и сельской местности? Успешная политика возрождения городов является особенно сложной задачей, поскольку она требует одновременных действий во множестве направлений. В Соединенном Королевстве ряд национальных проектов, включающих, к примеру, дотации на реставрацию домов их владельцами или налоговые послабления с целью привлечения бизнеса, были введены в попытке восстановить благосостояние старых городских районов. Программа правительства консерваторов за 1998 г. под названием «Действуем ради города» (Action for Cities), к примеру, в большей степени рассматривала частное инвестирование и свободные рыночные силы, а не вмешательство государства в качестве сил, которые могли бы улучшить ситуацию. Однако реакция компаний была намного менее заинтересованной, чем ожидалось. Исследования указывают, что, не считая отдельных выставочных проектов, обеспечение тех или иных форм поощрения и ожидание того, что всю работу выполнят частные предприятия, — неэффективный путь в попытке решить фундаментальные социальные проблемы старых городских районов. Такое множество тяжелых обстоятельств собрано воедино в этих городских районах, что повернуть процесс разрушения вспять в любом случае является тяжелейшей задачей. В исследованиях обветшания центральных городских районов, таких как, например, «Доклад Скармана» о восстаниях 1981 г. в Брикстоне, отмечалось отсутствие координированного подхода к решению вышеназванных проблем (Scarman 1982). Без больших общественных затрат, которые вряд ли можно ожидать от правительства, перспективы радикального улучшения положения дел являются в самом деле слабыми (Macgregor and Pimlott 1991). На пути к возрождению городов: отчет комиссии по проблемам города Возрождение городов состоит не только в восстановлении городских центров, но также и в компенсируемом развитии удаленных от центра районов. Городские и пригородные районы Великобритании продолжают быстро развиваться. Правительство предсказывает, что между 1996 и 2021 гг. появится еще 3,8 млн семейных хозяйств. Движение автомобилей в течение следующих двух десятилетий увеличится на одну треть; уже сейчас среднее количество времени, которое англичане тратят на дорогу до работы и обратно, на 40 % больше, чем двадцать лет назад. Один из четырех городских жителей считает, что его район за последние несколько лет пришел в упадок, тогда как лишь один из десяти полагает, что в том месте, где он живет, стало лучше (Urban Task Force 1999). Столкнувшись с уже существующими проблемами в городских и пригородных районах, а также в связи с вероятностью их дальнейшей экспансии, правительство созвало комиссию по проблемам города, лидером которой был архитектор и градостроитель лорд Роджерс, чтобы она дала рекомендации по улучшению качества жизни в городских и сельских местностях Великобритании. В своем отчете, вышедшем в июне 1999 г., комиссия выдвинула более ста рекомендаций, направленных на «возрождение городов» в Великобритании. «Со времен индустриальной революции мы потеряли власть над нашими городами и поселками, дав им стать много хуже с помощью плохого дизайна, экономического рассредоточения и социальной поляризации», — отмечалось в отчете. Согласно его авторам, начало XXI в. предоставляет три основных возможности для изменений. Технологическая революция произвела на свет новые формы информационных технологий и новые способы обмена информацией; растущая экологическая угроза усиливает необходимость компенсируемого развития; а широкая социальная трансформация проявляется в увеличении средней продолжительности жизни и значении выбора образа жизни человеком в профессиональной и личной составляющих его жизни. В своем отчете комиссия подчеркнула несколько основных моментов как наиболее важных для защиты сельской местности от разрушения, а также для стимулирования здоровых, динамично развивающихся городских районов. Без соблюдения следующих фундаментальных принципов, как утверждают авторы, существует реальная опасность того, что города окажутся раздроблены, сельская местность исчезнет, а загрязнение, пробки на дорогах и социальная обездоленность возрастут. • Вторичное использование земли и зданий. Насколько это возможно, строительство новых домов должно производиться на ранее застроенной земле, а не на зеленых участках. В отчете было отмечено, что в данный момент 1,3 млн жилых и коммерческих зданий в Великобритании пустуют. Правительство намеревается строить 60 % от планируемого общего числа новых зданий на «вторичных» участках (см. «Джентрификация и „вторичное использование городских ресурсов“» в этом подразделе). • Улучшение городской среды. Существующие городские территории необходимо сделать более привлекательными, чтобы людям хотелось в них жить, работать и участвовать в общественной жизни. На территориях городов нужно стимулировать чувство коллективизма и общественной безопасности. Районы должны быть лучше связаны друг с другом, чтобы люди могли ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом. • Достижение совершенства в управлении местными территориями. Возрождение городов будет зависеть от сильных лидеров на местах, а также от широкого демократического участия граждан. Жители должны иметь больше веса в процессах принятия решений. • Как добиться возрождения. Местным властям нужно дать больше власти и возложить на них больше ответственности за определение ресурсов, которые бы привели к длительному возрождению нуждающихся территорий. Чтобы привлечь частных инвесторов через рынок, следует использовать общественные средства. В отчете комиссии по проблемам города подчеркивалось, что возрождение городов не может быть только лишь задачей политической. Оно требует изменения культуры, навыков, воззрений и ценностей со стороны политиков, местных властей и обычных граждан. Образование, дебаты и обмен информацией будут важнейшими составляющими для достижения «возрождения городов» (Urban Task Force 1999). Джентрификация и «вторичное использование городских ресурсов» Вторичное использование городских ресурсов — реставрация или замена старых зданий, а также новые пути использования ранее уже застроенной территории — стало довольно распространенным явлением в больших городах. Иногда это пытались делать как часть правительственных программ планирования, но чаще это был результат джентрификации — перестройки зданий в полуразрушенных районах города для использования их более состоятельными группами населения, а также снабжения этих групп такими социально-культурными заведениями, как магазины и рестораны. Джентрификация центральных городских территорий была произведена во многих городах Великобритании, США и Канады, и по-видимому, будет продолжаться в будущем. Одна из причин этого — экономическая и демографическая. Молодые специалисты предпочитают жениться и заводить детей позднее. Поскольку их карьера зачастую требует долгих часов работы внутри городских административных зданий, жизнь в пригороде становится скорее неудобством, а не преимуществом. Состоятельные бездетные пары могут себе позволить дорогое жилье в отреставрированных центральных районах города и могут даже предпочитать тот образ жизни, который базируется на высококачественных культурных, кулинарных и развлекательных возможностях, предоставляемых центрами городов. Более пожилые пары, чьи дети, возможно, уже покинули отчий дом, могут также по сходным причинам вернуться обратно во внутренний город. Фактор, способствующий джентрификации в США, — падение уровня преступности. Начиная с 1991 г. преступлений, связанных с насилием над личностью, в десяти крупнейших американских городах стало меньше на 34 %. Хотя поддержание правопорядка по принципу «нулевой терпимости», которому отдается предпочтение во многих американских городах, было активно раскритиковано как расистское, произвольное и жесткое, в результате его применения в центральных районах городов стало, безусловно, менее опасно. И наконец, в сфере экономики новая экономика знания является предпочтительной для центральных районов. Многие компании, занимающиеся технологиями, коммуникациями, рекламой и маркетингом, расположены в центральных деловых районах. Растет число компаний, расширяющихся в этом пространстве, которые предпочитают располагаться в городских центрах, а не в пригородах. Забитые автотрассы и длительное время, отводимое на путешествие от дома до работы и обратно, стали частью образа жизни для многих пригородных жителей; существуют свидетельства того, что все большее число работников новой экономики могут пожелать изменить эту модель, предпочтя и жить, и работать в городе. В Лондоне примечательным примером «вторичного использования городских ресурсов» стал район Доков (см. следующую врезку «Район Доков: возрождение городов или городской кошмар?»). В Соединенных Штатах застройщики покупают заброшенные складские помещения в городах от Милуоки до Филадельфии и превращают их в дорогостоящие квартирные комплексы. Создание ярких общественных мест внутри трущобных районов в центре Балтимора и Питтсбурга считается триумфом возрождения городов. Однако скрыть лишения, которые по-прежнему присутствуют всего в нескольких кварталах от этих отреставрированных городских центров, трудно. Выступая в своей книге «Совесть глаз» против таких проектов застройки, как район Доков, Ричард Сеннетт утверждал, что градостроители должны стараться сохранять, или возвращаться, к тому, что он называет «гуманным городом» (Sennett 1993). Большие безликие здания многих городов делают людей замкнутыми, отвращая их друг от друга. Но города могут делать людей и открытыми, способствуя их контактам с различной культурой и различным образом жизни. Нам следует создавать городские улицы, которые бы не просто не пугали нас, но были «полны жизни» и в то же время «не походили на магистрали с их стремительным передвижением автомобилей». Пригородные шопинг-центры с их стандартными дорожками и магазинами так же далеки от «гуманного города», как и автомагистрали. Вместо этого нам следует черпать вдохновение в исторических районах города, подобных, например, старым кварталам итальянских городов, которые человечны и одновременно разнообразны и элегантны с точки зрения планировки и архитектуры.────────────────────────────┐ ■ Район Доков: возрождение городов или городской кошмар? Наиболее красочный пример «вторичного использования городских ресурсов» — район Доков в Лондоне. Этот район занимает территорию размером около восьми с половиной квадратных миль в Восточном Лондоне близ Темзы — это место было лишено экономического функционирования после закрытия доков и упадка промышленного производства. Место было названо «крупнейшей территорией реконструкции в Западной Европе» и «величайшей возможностью со времен Лондонского пожара». Район Доков примыкает к финансовому району Лондона — Сити, но с другой стороны граничит с бедными районами, где проживает рабочий класс. Начиная с 1960-х гг. шли — и продолжают идти — жестокие битвы за будущее этого района. Многие из тех, кто живет в самом районе Доков или рядом с ним, предпочитали перестройку в рамках проектов коммунального развития, что обеспечило бы защиту интересов более бедных жителей. После того, как в 1981 г. была организована Корпорация по застройке района Доков, этот район стал центральной частью стратегии повышения роли частных предприятий в возрождении городов. Ограничения требований при планировании и других правил были сознательно смягчены. Сегодня район Доков явно и разительно отличается от граничащих с ним бедных районов. Появилось множество современных зданий, часто необычных по архитектуре. Складские помещения были превращены в квартирные комплексы класса люкс, рядом были возведены новые микрорайоны. Очень большой административный комплекс, центральное здание которого видно из многих других частей Лондона, был сооружен на Кэнери Уорф. Тем не менее среди всей этой роскоши остаются полуразрушенные здания и пустыри. Рабочие площади административных зданий довольно часто пустуют, так же, как и некоторые новые жилые здания, которые не удалось продать по первоначально установленным ценам. В округе, где расположен район Доков, находятся одни из самых бедных жилищных комплексов страны, но люди, живущие в них, не получили практически ничего от строительства, происходившего вокруг них. Было предложено немало «доступного» жилья, однако мало кто из местных жителей смог или изъявил желание совершить покупку. Что это — одиночный успешный проект возрождения города или же, по большому счету, полный провал? У каждого из этих мнений есть свои сторонники. Район Доков разделен на «имущих» и «неимущих» в степени, имеющей мало аналогов. Хотя там было произведено немало ремонтных работ и развернуто новое строительство, комплексного района при этом создать, вне всякого сомнения, не удалось. ────────────────────────────┘
Урбанизация в развивающихся странах
К 2025 г. городское население Земли может достичь 5,2 млрд чел. Согласно некоторым оценкам, 4 млн из них будут жителями городов, находящихся в развивающихся странах. Как показывает карта «мегагородов» мира (см. рис. 18.2), большинство из тридцати шести городов, в которых к 2015 г. ожидается наличие более 8 млн жителей, находятся в развивающихся странах. Мануэль Кастеллс называет мегагорода одной из основных характеристик урбанизации третьего тысячелетия (Castells 1996). Они определяются не только своим размером, хотя и являются большими агломерациями людей, но также своей ролью в качестве точек, где сходятся огромные массы людей и глобальная экономика. Мегагорода — это концентрированные каналы деятельности, по которым движутся политика, СМИ, коммуникации, финансы и производство. Согласно Кастеллсу, мегагорода — это своего рода магниты для тех стран или регионов, в которых они расположены. Люди тянутся в большие города по различным причинам; внутри мегагородов находятся те, кому удалось пробиться в глобальную систему и те, у кого этого не получилось. Помимо своей роли в качестве узловых пунктов в глобальной экономике, мегагорода стали также «местом, где находятся все те сегменты населения, которые борются за свое существование» (Castells 1996, 404). Почему скорость роста городов в менее развитых регионах мира настолько выше, чем где-либо еще? В этом случае особенно важны два фактора. Во-первых, скорость роста населения в развивающихся странах выше, чем в индустриальных (см. главу 19 «Рост народонаселения и экологический кризис»). Рост городов подкрепляется высоким уровнем фертильности тех людей, которые уже являются горожанами. Рис. 18.2. Тридцать шесть городов, в которых к 2015 г. ожидается более чем 8 млн жителей
Источники: UN. World Urbanization Prospects. 1998; The UNESCO Courier. June 1999.
Рис. 18.2. Тридцать шесть городов, в которых к 2015 г. ожидается более чем 8 млн жителей
Источники: UN. World Urbanization Prospects. 1998; The UNESCO Courier. June 1999.
Во-вторых, происходит массовая миграция из сельской местности в города — как, например, в случае развития мегагорода Гонконг—Гуандун, описываемом ниже. Люди тянутся в города в развивающихся странах либо потому, что их традиционные системы сельского производства разрушились, либо потому, что в городе есть возможность получить работу получше. Бедность в сельской местности заставляет многих людей попытать счастья в городах. Они могут желать переехать в город лишь на относительно короткое время, с намерением вернуться в свои деревни, как только они заработают достаточно денег. Некоторые действительно возвращаются, но большинство вынуждено остаться, потеряв по той или иной причине свое положение в тех общинах, где они жили ранее.
Проблемы урбанизации в развивающихся странах
Экономические последствия По мере того как растет число неквалифицированных рабочих и крестьян из сельскохозяйственных районов, переезжающих в город, формальной экономике зачастую непросто принять наплыв такого количества рабочей силы. В большинстве городов третьего мира неформальная экономика позволяет тем, кто не может найти работу, сводить концы с концами. От подсобной работы на производстве и в строительстве до ограниченной торговой деятельности, нерегулируемый неформальный сектор дает возможность заработка бедным или неквалифицированным работникам. Неформальные экономические возможности как подспорье важны для выживания тысяч семей в городских условиях, но они также имеют ряд проблемных аспектов. Неформальная экономика не облагается налогами и не регулируется. У нее также более низкая производительность, чем у формальной экономики. Страны, экономическая активность которых сконцентрирована в этом секторе, не могут собрать весьма необходимого дохода с помощью налогообложения. Низкий уровень производства также вредит экономике в целом — пропорция ВВП, получаемая от неформальной экономической деятельности, намного ниже, чем процент населения, занятый в этом секторе. В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предполагают, что к 2025 г. будет необходим миллиард новых рабочих мест, чтобы поддерживать ожидаемый прирост городского населения в развивающихся странах. Маловероятно, что все эти рабочие места будут созданы в рамках формальной экономики. Некоторые аналитики развития утверждают, что необходимо уделять внимание официальному оформлению и регулированию большого объема неформальной экономики, где еще долгие годы будет группироваться «лишняя» рабочая сила. Проблемы экологии Быстро расширяющиеся городские территории в развивающихся странах значительно отличаются от городов индустриального мира. Хотя города сталкиваются с проблемами экологии повсеместно, те из них, что расположены в развивающихся странах, находятся под особой угрозой. Загрязнение, нехватка жилья, неадекватные санитарные условия и небезопасные источники водыявляются хроническими городскими проблемами в менее развитых странах. Жилье — одна из наиболее острых проблем на многих городских территориях. Такие города, как Калькутта или Сан-Паулу, перенаселены; уровень внутренней миграции слишком высок, чтобы обеспечивать постоянное жилье. Мигранты набиваются в незаконные жилые зоны, которые растут по окраинам городов словно грибы. В городских районах на Западе вновь прибывающие с большой вероятностью поселятся близ центральной части города, но в развивающихся странах, как правило, наблюдается обратная тенденция, при которой мигранты населяют так называемую «антисанитарную кромку» городских территорий. Лачуги, сделанные из дерюги или картона, сооружаются по окраинам городов везде, где находится хоть клочок земли. Подсчитано, что нехватка жилых домов в Сан-Паулу в 1996 г. составляла 5,4 млн единиц. Некоторые ученые считают, что эта нехватка равняется 20 млн, если дать более строгое определение «жилому дому». С 1980-х хронический дефицит жилья в Сан-Паулу привел к волне неофициальных «въездов» в пустые здания. Группы бездомных семей начинали «массовые заселения» пустующих отелей, административных и правительственных зданий. Многие семьи считали, что лучше пользоваться кухней и туалетом совместно со ста другими людьми, чем жить на улице или в так называемых фавелах — кварталах самодельных лачуг на окраинах города. Городским и районным властям в развивающихся странах нелегко поспевать в ногу со стремительно растущим спросом на жилье. В таких городах, как Сан-Паулу, между домостроительными компаниями и местным правительством существуют разногласия по поводу решения проблемы жилья. Некоторые утверждают, что наиболее приемлемый путь — улучшать условия внутри фавел, т. е. обеспечить электричество, водопровод, замостить улицы и приписать им почтовые адреса. Другие опасаются, что самодельные трущобы являются фундаментально непригодными для жилья и должны быть разрушены, чтобы освободить территории для строительства нормального жилья для бедных семей.────────────────────────────┐ ■ Создание мегагорода Одно из крупнейших городских поселений за всю историю человечества находится сегодня в процессе формирования в Азии на территории 50 000 кв. км, простираясь от Гонконга до материкового Китая, дельты реки Джудзян (Жемчужной реки) Макао (см. рис. 18.3). Хотя этот регион не имеет формального названия или административной структуры, в 1995 г. в нем проживали уже 50 млн чел. Согласно Мануэлю Кастеллсу, он станет одним из наиболее важных промышленных, деловых и культурных центров нынешнего века. Кастеллс отмечает несколько взаимосвязанных факторов, которые помогают объяснить появление столь огромной конурбации. Во-первых, в Китае идет процесс экономических преобразований, а Гонконг является одним из важнейших «узловых пунктов», соединяющих Китай с глобальной экономикой. Во-вторых, роль Гонконга в качестве глобального коммерческого и финансового центра росла по мере того, как его экономическая база смещалась от производства к сфере услуг. И наконец, между 1980-ми и серединой 1990-х гг. промышленники Гонконга начали впечатляющий процесс индустриализации в пределах дельты Жемчужной реки. Более 6 млн чел. работают на 20 000 фабрик и в 10 000 компаний. Результатом этих одновременных процессов стал «небывалый бум роста городов» (Castells 1996).
 Рис. 18.3. Мегагород Гонконг—Гуандун
Источники: Castells М. The Rise of the Network Society. Blackwell. 1996. From Borja J., Castells M. Local and Global. Earthscan. 1997.
────────────────────────────┘
Рис. 18.3. Мегагород Гонконг—Гуандун
Источники: Castells М. The Rise of the Network Society. Blackwell. 1996. From Borja J., Castells M. Local and Global. Earthscan. 1997.
────────────────────────────┘
Перенаселенность и чрезмерное освоение городских центров приводят к серьезным последствиям для экологии множества городских территорий. Наиболее ярким примером является Мехико. Мехико застроен на 94 %, открытое пространство составляет лишь 6 % территории города. Доля «зеленых зон» — парков и открытых зеленых участков земли — намного ниже, чем в наиболее плотно населенных городах США или Европы. Загрязнение воздуха является серьезной проблемой, которую создают, в основном, автомобили, автобусы и грузовики, которые наводняют некачественные городские дороги, остальные источники загрязнения — промышленные предприятия. Было подсчитано, что жизнь в Мехико равносильна выкуриванию 40 сигарет в день. В марте 1992 г. уровень загрязнения достиг небывало высокого уровня. Если уровень озона, слегка меньший, чем 100 ед., считался «удовлетворительным» для здоровья, в тот месяц этот уровень достиг отметки 398. Правительство было вынуждено издать приказ о временном прекращении работы фабрик, школы были закрыты, и каждый день 40 % автомобилей было запрещено ездить по улицам. Социальные последствия Многие городские территории в развивающихся странах перенаселены и лишены множества ресурсов. Бедность широко распространена, а существующие организации социального обеспечения не удовлетворяют потребности населения в здравоохранении, советах по планированию семьи, образовании и профессиональном обучении. Неравномерное возрастное распределение в развивающихся странах приносит еще больше социальных и экономических проблем. По сравнению с индустриальными странами, гораздо большая часть населения в развивающемся мире еще не достигла пятнадцатилетнего возраста. Молодое население нуждается в поддержке и образовании, не будучи в это время экономически продуктивным. Но у многих развивающихся стран нет возможности обеспечить всем общее образование. Многие дети из бедных семей должны работать полный рабочий день, а остальным приходится добывать себе на хлеб, становясь уличными детьми, попрошайками. Когда уличные дети взрослеют, большинство из них становятся безработными, бездомными или и теми, и другими одновременно.
Будущее урбанизации в развивающихся странах
Учитывая масштабы проблем, с которыми приходится сталкиваться городам в развивающихся странах, трудно увидеть перспективы развития и изменений. Жизненные условия во многих из крупнейших городов мира, по-видимому, будут еще больше ухудшаться в будущем. Но ситуация не является полностью безнадежной. Во-первых, хотя уровень рождаемости во многих странах остается высоким, в будущем, по мере роста урбанизации, он, скорее всего, упадет. Это, в свою очередь, приведет к постепенному уменьшению самих темпов урбанизации. В Западной Африке, например, скорость урбанизации к 2020 г. должна упасть до 4,2 % в год, что ниже ежегодного темпа роста, составлявшего в последние три десятилетия 6,3 %.По этой проблеме см. раздел «Рост населения в развивающемся мире» следующей главы.
Во-вторых, глобализация предоставляет городским территориям развивающихся стран важные возможности. По мере экономической интеграции города мира получают возможность выйти на международные рынки, рекламировать себя в качестве мест инвестирования и развития, а также создавать для экономики связующие звенья через границы национальных государств. Глобализация открывает перед растущими городскими центрами возможность быстро стать важной силой в экономическом развитии и внедрении новшеств. Действительно, как мы с вами скоро увидим, многие города в развивающихся странах уже начинают входить в состав мировых «глобальных городов».
Города и глобализация
В прошлом города были самодостаточными единицами, выделявшимися на фоне, по большей части, сельских территорий, среди которых они были расположены. Системы дорог иногда связывали крупнейшие городские поселения между собой, но путешествия были особенным делом, которым занимались купцы, солдаты и другие лица из тех, кому нужно было регулярно перемещаться на большие расстояния. Связь между городами была ограниченной. В начале XXI в. наблюдается совершенно иная картина. Глобализация оказала серьезное влияние на города, сделав их более взаимозависимыми и поощрив развитие связи между городами по горизонтали, через национальные границы. Физических и виртуальных связующих нитей между городами сегодня великое множество, и появляются глобальные системы городов. Некоторые люди предсказывали, что глобализация и новые коммуникационные технологии могут привести к исчезновению городов в их прежнем понимании. Это происходит потому, что многие традиционные функции городов в настоящее время могут выполняться скорее в киберпространстве, нежели на тесных и перегруженных городских территориях. Например, финансовые рынки стали электронными, е-коммерция уменьшает и у производителей, и у потребителей необходимость рассчитывать на центры городов, а «электронные поездки на работу» позволяют все большему числу трудящихся работать дома, а не в административном здании. Однако до сих пор эти предсказания не сбылись. Вместо того чтобы подорвать значение городов; глобализация превращает их в важные пункты внутри глобальной экономики. Городские центры стали необходимыми для координирования потоков информации, ведения коммерческой деятельности и введения новых услуг и технологий. Происходит одновременное рассредоточение и концентрация деятельности и власти внутри ряда городов планеты (Castells 1996).Глобальные города
Роль городов в новом глобальном порядке привлекает пристальное внимание социологов. О глобализации часто думают в связи с дуализмом национального и глобального уровней, но тем не менее именно крупнейшие города мира являются основным местом действия глобализации (Sassen 1998). Функционирование новой глобальной экономики зависит от ряда центральных местностей с развитой информационной инфраструктурой и «гиперконцентрацией» удобств. Именно в таких пунктах задается направление и выполняется «дело» глобализации. По мере того как бизнес, производство, реклама и маркетинг принимают глобальные масштабы, для того чтобы поддерживать и развивать эти глобальные системы, необходима необыкновенно активная организационная деятельность. Саския Сэссен является одним из основных участников спора на тему городов и глобализации. Она использует термин глобальный город по отношению к тем крупным городам, в которых расположены центральные офисы крупных межнациональных корпораций, а также имеется великое множество финансовых, технологических и консалтинговых услуг. В работе «Глобальный город» (Sassen 1991) Сэссен основывает свое исследование на анализе трех подобных городов: Нью-Йорка, Лондона и Токио. Современное развитие мировой экономики, утверждает она, дало крупнейшим городам новую стратегическую роль. Большинство этих городов в течение долгого времени были центрами международной торговли, но сегодня у них появились новые характеристики: 1. Они постепенно стали «командными пунктами» глобальной экономики — центрами управления и разработки политики. 2. Подобные города являются основным местом расположения финансовых компаний и специализированных сервисных фирм, которые стали более существенными для экономического развития, чем промышленные предприятия. 3. Они являются центрами производства и инноваций в этих новых набирающих силу отраслях индустрии. 4. Эти города являются рынками, на которых покупаются, продаются или используются каким-то иным способом «продукты» индустрии финансов и услуг. Нью-Йорк, Лондон и Токио имеют совершенно разные истории, но мы можем проследить сходные изменения, происходящие в них за последние два-три десятилетия. Внутри весьма рассредоточенного мира сегодняшней экономики подобные города обеспечивают центральный контроль над важнейшими операциями. Однако глобальные города — это далеко не только место координации; они также образуют контекст для производства. При этом имеется в виду производство не материальных товаров, а специализированных услуг, нужных деловым организациям для управления офисами и фабриками, разбросанными по миру, а также производство финансовых инноваций и рынков. Сервисная и финансовая «продукция» — вот что производят глобальные города. Деловые центры глобальных городов являются местами концентрации целых групп подобных «производителей», где последние могут работать, непосредственно взаимодействуя друг с другом, часто входя с тем или иным человеком в личный контакт. В глобальном городе местные фирмы соседствуют с национальными и интернациональными организациями, включая множество иностранных компаний. Так, в Нью-Йорке расположены офисы 350 иностранных банков и 2 500 других западных финансовых корпораций; один из каждых четырех банковских служащих города работает в иностранном банке. Глобальные города соревнуются друг с другом, но они также являются взаимозависимой системой, в известной степени отдельной от стран, в которых находятся. Другие авторы продолжили исследование Сэссен, отметив, что по мере прогресса глобализации все больше и больше городов присоединяются к Нью-Йорку, Лондону и Токио, становясь «глобальными». Кастеллс описал создание поярусной иерархии мировых городов; такие места, как Гонконг, Сингапур, Чикаго, Франкфурт, Лос-Анджелес, Милан, Цюрих и Осака, выступают в качестве важных глобальных центров коммерческих и финансовых услуг. Ниже в иерархии расположен новый ряд «региональных центров», которые развиваются как важные узлы в системе глобальной экономики. Такие города, как Мадрид, Сан-Паулу, Москва, Сеул, Джакарта и Буэнос-Айрес, становятся важными центрами деятельности в так называемых «развивающихся рынках».Город и периферия
Глобализация меняет отношения между крупными городами и теми регионами, на территории которых они находятся. Когда-то города были краеугольными камнями региональной экономики. Они были заложены в экономический профиль окружающей территории и отражали его. В некоторой степени это по-прежнему так. Большие и малые периферийные города Северной Италии испытывают влияние находящихся поблизости центральных городов, в которых сконцентрирована итальянская индустрия моды. Сан-Франциско широко известен как центр высоких технологий из-за своего соседства с Силиконовой долиной. Однако в новой глобальной экономике взаимоотношения между городами и удаленными территориями находятся в процессе трансформации. Города не должны непременно находиться в центре региональной экономики. Чаще, являясь связующим звеном разрозненных мест производства, распределения и финансовых операций во всем мире, они все больше отделяются от окружающих их территорий, которые в основном оказываются на периферии этих процессов экономического роста. Ярким примером является Нью-Йорк — город, возвышающийся, подобно гиганту, над одноименным штатом. Взаимоотношения между городом и штатом в лучшем случае являются прохладными, если не откровенно враждебными. Жители штата утверждают, что непропорционально большая сумма, полученная от сбора налогов, направляется на нужды города и что проблемы города Нью-Йорка обычно являются приоритетными у тех, кто занимается политикой всего штата. Москва и отдаленные регионы России являются примером нарушения связи между новым глобальным городом и остальной страной в целом. У большинства россиян, живущих в бедности после падения коммунизма, относительное процветание Москвы — единственного по-настоящему «глобального города» страны — вызывает чувство негодования. За последние десять лет Москва стала основным связующим звеном России и глобальной экономики; подавляющее большинство новых инвестиций, поступающих в Россию, сосредоточены в Москве в ущерб отдаленным территориям. По мере того как горизонтальная связь между глобальными городами становится более важной, относительное значение связующих нитей между городом и регионом, по-видимому, уменьшается.Неравенство и глобальный город
Новая глобальная экономика имеет множество различных проблем. Это как нельзя лучше видно на примере динамики неравенств, наблюдаемых в том или ином глобальном городе. Противопоставление между центральным деловым районом и бедными кварталами во многих глобальных городах следует рассматривать как взаимосвязанные явления, о чем нам напоминает Сэссен и другие. «Секторы роста» в новой экономике — финансовые услуги, маркетинг, высокие технологии — получают гораздо больше прибыли, чем любые из традиционных секторов экономики. По мере того как заработная плата и премиальные весьма состоятельных людей продолжают расти, доходы тех, кого наняли убирать и охранять офисы первых, падают. Сэссен утверждает, что мы являемся свидетелями «ревальвации» работы, находящейся на авансцене новой глобальной экономики, и «девальвации» работы, которая происходит за кулисами (Sassen 1998). Различия в возможностях получения дохода — нормальное явление для рыночной экономики, но размеры этих различий в новой глобальной экономике оказывают негативное воздействие на многие аспекты социального мира, от жилья до рынка труда. Те, кто работает в области финансов и глобальных услуг, получают высокую заработную плату, и территории, где такие люди живут, подвергаются джентрификации. В то же время классические промышленные виды работ пропадают, и сам процесс джентрификации создает широкое предложение низкооплачиваемых должностей — в ресторанах, отелях и бутиках. Доступное жилье в джентрифицированных районах найти нелегко, что ведет к расширению районов, где живут люди с низким достатком. Пока центральные деловые районы получают массовый приток инвестиций в недвижимость, строительство и телекоммуникации, маргинальные территории остаются не у дел. Внутри глобальных городов обретает форму география «центральности и маргинальности», что показал Митч Дюнайер в своем исследовании, посвященном району Нью-Йорка Гринич-виллидж. Рядом с необыкновенным достатком здесь присутствует крайняя бедность. Однако, хотя два этих мира сосуществуют бок о бок, реальный контакт между ними может быть на удивление минимальным. Как заметил Майк Дэвис в своем исследовании Лос-Анджелеса, имело место «сознательное „укрепление“ территории города против бедных» (Davis 1990, 232). Доступные общественные пространства были заменены огороженными стенами территориями, районами, которые охраняются с помощью электронных систем наблюдения, и «корпоративными цитаделями». Процитируем самого Дэвиса:Ради сокращения контакта с неприкасаемыми перестройка города преобразовала когда-то жизненно важные пешеходные улицы в «сточные трубы» дорожного движения и превратила общественные парки во временные пристанища бездомных и обездоленных. Американский город... систематично выворачивается наизнанку или даже прячет наружное внутрь. Особо дорогие пространства новых мегасооружений и торговых суперкомплексов сосредоточиваются в центре, фасад, обращенный к улице, обнажается, общественная деятельность сортируется на строго функциональные подразделения, а передвижение происходит внутри коридоров под надзором частной полиции (Davis 1990, 226).Согласно Дэвису, существование самых бедных и наиболее маргинальных обитателей Лос-Анджелеса сделано максимально «непригодным для жизни». Лавки на автобусных остановках имеют цилиндрическую форму, чтобы люди на них не спали; число общественных туалетов является самым низким по сравнению с остальными большими городами страны, а во многих парках установлены системы разбрызгивания воды, чтобы в них не жили бездомные. Полиция и градостроители пытались удерживать бездомное население в определенных районах города, но с помощью периодических прочесываний и конфискаций самодельных убежищ они эффективно создали население «городских бедуинов».
Управляя городами в глобальную эпоху
Как и глобализация, урбанизация является двусторонним и противоречивым явлением. Она оказывает и созидательное, и разрушительное действие на города. С одной стороны, она приводит к концентрации людей, товаров, услуг и возможностей. Но в то же самое время она делит на фрагменты и ослабляет связь между городами, традициями и существующими системами. Помимо новых возможностей, создаваемых централизацией и экономическим ростом, существуют опасные последствия маргинализации. Не только в развивающихся, но и в индустриальных странах многие городские жители работают на периферии, вне сферы формальной трудовой занятости, правления закона и гражданской культуры (Borja and Castells 1997).Управляя глобальным
Хотя глобализация приводит к множеству проблем, с которыми сталкиваются города по всему миру, она также дает городам и местным правительствам возможность играть активную политическую роль. Города стали важнее, чем когда бы то ни было, по мере того как государства все чаще не справляются с глобальными тенденциями. Такие проблемы, как экологический риск и неустойчивость финансовых рынков, требуют решения на гораздо более высоком уровне, чем государственный; отдельные страны, даже самые могущественные, слишком «малы», чтобы противостоять этим силам. Но в то же время национальные государства и чересчур «велики», чтобы адекватно отвечать на огромное многообразие нужд, которые возникают на космополитичных городских территориях. Там, где национальное государство не в состоянии действовать эффективно, местные и городские власти могут быть более «подвижными формами управления глобальным» (Borja and Castells 1997).См. также в главе 14 материал раздела «Политические и социальные изменения» о подъеме общественных движений.
Хорди Борха и Мануэль Кастеллс утверждают, что существуют три основных сферы, в которых местные власти могут эффективно управлять глобальными силами (Borja and Castells 1997). Во-первых, города могут вносить вклад в экономическую продуктивность и соревнование с помощью управления местной «средой обитания» — условиями и средствами, которые образуют социальную основу экономической продуктивности. Экономическая конкуренция в новой экономике зависит от продуктивной квалифицированной рабочей силы; чтобы быть продуктивной, эта рабочая сила должна иметь надежную систему образования для своих детей, хороший общественный транспорт, удобное и доступное жилье, квалифицированные правоохранительные органы, эффективные аварийные службы и разнообразные культурные ресурсы. Во-вторых, города играют важную роль в обеспечении социокультурной интеграции многонационального населения. Глобальные города объединяют людей из десятков стран, отличающихся по религии и языку, а также находящихся на разных социально-экономических уровнях. Если значительному плюрализму, наблюдаемому в городах-космополитах, не противопоставить силы интеграции, в результате могут возникнуть раздробленность общества и нетерпимость. В особенности там, где эффективность национальных государств в стимулировании социальной сплоченности находится в опасности по религиозным, лингвистическим и прочим причинам, отдельные города могут являться позитивным орудием социальной интеграции. В-третьих, города являются важным местом сосредоточения политического представительства и руководства. Местные власти имеют два неотъемлемых преимущества над национальным государством при решении глобальных проблем: у них больше легитимности по отношению к тем, кого они представляют, и они также обладают большей степенью гибкости и возможностью лавировать, чем национальные структуры. Как мы узнали в главе 14 («Правительство и политика»), многие граждане считают, что национальные политические системы неадекватно представляют их интересы и проблемы. В случаях, когда общенациональные органы власти слишком удалены для того, чтобы представлять определенные культурные или региональные интересы, городские и местные власти являются более доступным форумом для политической активности.
Города как политические, экономические и социальные агенты
В городах пересекаются пути очень большого числа организаций, учреждений и групп. На городских территориях внутренние и международные компании, потенциальные инвесторы, государственные органы, гражданские ассоциации и многие другие организации встречаются и устанавливают между собой связи. Эти связи могут привести к коллективным и объединенным действиям, в которых города выступают в качестве социальных агентов в сферах политики, экономики, культуры и СМИ. Число городов, играющих активную роль в мировой экономике, в последние годы выросло. В Европе начиная с рецессии 1970-х гг. города объединялись вместе, чтобы привлечь инвестиции и создать новые формы трудовой занятости. Движение «Еврогорода», в котором сегодня участвуют пятьдесят крупнейших городов Европы, было образовано в 1989 г. Такие азиатские города, как Сеул, Сингапур и Бангкок, были особенно активными в роли экономических агентов, признавая важность быстроты передачи информации о международных рынках и потребности в гибких производственных и коммерческих структурах. Некоторые города строят средне- и долгосрочные стратегические планы решения сложных задач, стоящих перед ними. По таким планам местные правительства, общественные группы и частные экономические агенты могут вместе работать над обновлением городской инфраструктуры, организовывать мероприятия мирового уровня или переводить базу трудовой занятости от промышленных предприятий к предприятиям экономики знаний. Бирмингем, Амстердам, Лион, Глазго и Барселона являются примерами европейских городов, которые успешно осуществили проекты возрождения с помощью стратегических планов. Особенно интересен пример Барселоны. Введенный в 1988 г. экономический и социальный стратегический план «Барселона-2000» объединил вместе общественные и частные организации в единый проект и план действий по преобразованию города. Муниципальное правительство Барселоны и десять дополнительных органов (включая торговую палату, университет, власти городского порта и профсоюзы) наблюдали за выполнением трех основных целей этого плана: подсоединить Барселону к системе европейских городов с помощью совершенствования коммуникаций и транспортной инфраструктуры; улучшить качество жизни жителей Барселоны; сделать секторы производства и услуг более конкурентоспособными, одновременно продвигая новые перспективные секторы экономики. Один из основных этапов плана «Барселона-2000» пришелся на 1992 г., когда в городе проходили Олимпийские игры. Проведение Олимпиады позволило Барселоне «интернационализоваться»; образ и достоинства города были продемонстрированы на весь мир. В случае Барселоны организация мероприятия мирового уровня была важна с двух сторон: она расширила представление о городе в глазах всего мира, а также вызвала дополнительный энтузиазм по отношению к завершению преобразования города (Borja and Castells 1997). Роль мэров По мере того как города становятся все более важными в глобальной системе, меняется и роль их мэров. Мэры больших городов могут обеспечить тип персонализированного лидерства, который может быть чрезвычайно важным для продвижения городской политики и для поднятия международного авторитета того или иного города. В нескольких знаменитых случаях успешного преобразования облика города роль мэра была решающей. Мэры Лиссабона и Барселоны, к примеру, были движущими силами энергии, стоящей за усилиями поднять их города до уровня главных мировых центров. Аналогично этому мэры более мелких городов могут играть важнейшую роль в том, чтобы их город получил международное значение и в привлечении новых экономических инвестиций. В Великобритании растущая роль городских мэров не осталась незамеченной. После прихода к власти в 1997 г. правительство новых лейбористов объявило о своем решении передать власть над делами, касающимися Лондона, официально выбранному мэру. После отмены г-жой Тэтчер Высшего лондонского совета город не имел местной администрации. В рамках передачи власти региональным органам Соединенного Королевства правительство признало, что с нуждами английской столицы успешнее справится система, возглавляемая мэром. В США городские мэры стали в последние несколько десятилетий влиятельной экономической и политической силой. Мэры американских городов традиционно были вынуждены работать в рамках финансовых и политических параметров, установленных федеральным правительством в Вашингтоне. Не предлагая новых форм политики в своих городах, мэры обычно отстаивали федеральные программы и лоббировали группы, обеспокоенные городскими проблемами. Однако по мере того как городские проблемы обострились при консервативном правлении таких президентов, как Рейган и Буш, городские мэры начали объединяться для привлечения внимания к специфическим нуждам больших городов. Конференция мэров объединяет глав советов крупнейших городов страны для привлечения внимания к таким проблемам, как обеспечение правопорядка и потребность в партнерстве между бизнесом и местным правительством. Некоторые мэры городов, например Ричард Дэйли (Чикаго) или Дэннис Арчер (Детройт), начали амбициозные образовательные реформы по улучшению качества школ и предотвращению дальнейшего «бегства в пригороды». Мэр (бывший — Прим. перев.) Нью-Йорка Рудольф Джулиани вызвал бурю конфликтов, одновременно завоевав уважение многих за введение строгой политики «правопорядка», нацеленной на снижение уровня преступности. Уровень преступности, связанной с насилием над личностью, в течение 1990-х гг. значительно снизился; последовательная политика «качества жизни», направленная на улучшение жизни бездомного населения, преобразовала лицо оживленных нью-йоркских улиц. По мере того как насилие с применением оружия в США стремительно росло, больше двадцати мэров перестали полагаться на попытки федеральных властей провести законы, ограничивающие продажу и покупку оружия, и от имени своего города подали в суд на ряд производителей оружия. В США и других странах мэры начинают пользоваться большим влиянием в качестве представителей своих городов и регионов. Мэры больших городов зачастую могут формировать политический курс для территорий, находящихся за пределами этого города, вступая в соглашения с общинами из непосредственно прилегающих к городу районов. На подобные типы партнерств можно полагаться, например, при привлечении иностранных инвестиций или в случае борьбы за возможность проведения того или иного мероприятия мирового уровня.Заключение: города и глобальное правление
Кооперация между городами не ограничена региональным уровнем. Все больше людей полагают, что города могут и должны играть более важную роль в решении международных политических, экономических и социальных проблем. По мере того как силы глобализации притягивают отдельные части мира ближе друг к другу, возникают неформальные и формальные объединения (сети) городов. Проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие города мира, не являются изолированными; они встроены в более широкий контекст глобальной экономики, интернациональной миграции, новых моделей торговли и возможностей информационных технологий. Мы уже отмечали, что трудности меняющегося вокруг нас мира требуют новых форм международного демократического правления. Сети городов должны занимать видное место среди этих новых механизмов. Одна подобная структура уже существует — Мировая ассамблея городов и местных представительств власти собирается параллельно с конференцией ООН «Среда обитания». Такие органы, как Мировая ассамблея, обещают привести к постепенной интеграции городских организаций в структуры, в настоящее время состоящие из национальных правительств. Повышенная вовлеченность городов в международное сотрудничество может привести к демократизации международных отношений; она также может сделать их более эффективными. По мере того как население городов продолжает расти, все больше и больше политических программ и реформ должны будут быть направлены на городское население. Городские правительства будут необходимыми и важными партнерами в этих процессах.Краткое содержание
1. В традиционных обществах лишь небольшая часть населения жила на городских территориях. В индустриальных странах сегодня в городах проживает от 60 до 90 % населения. Урбанизм также очень быстро развивается в странах третьего мира. 2. Из ранних работ по городской социологии наиболее влиятельными считаются труды Чикагской школы, члены которой рассматривали процессы, происходящие в городе, в рамках экологических моделей, почерпнутых из биологии. Луис Вирт разработал концепцию урбанизма как образа жизни, утверждая, что городская жизнь ведет к безличности и социальной дистанции. Эти взгляды оспаривались, но не были полностью отвергнуты. Критики отмечали, что городская жизнь не всегда является безличной: в районах города можно завязать и поддерживать множество близких, личных отношений. 3. Более современные работы Дэвида Харви и Мануэля Кастеллса связывают урбанистические модели с обществом в более широком смысле, не рассматривая процессы, происходящие в городе, как самодостаточные. Образ жизни, который развивается у горожан, так же как и физическая планировка различных районов, отражает общие черты развития промышленного капитализма. 4. Расширение пригородов и спальных районов способствовало разрушению старых районов города. Более состоятельные группы, как правило, выезжают из центра города, чтобы жить в малоэтажных домах в более однородных в социальном отношении районах. Цикл разрушения уже начат, поэтому, чем больше расширяются пригороды, тем с большим количеством проблем сталкиваются жители внутренних городов. Вторичное использование городского жилого фонда, включая реставрацию старых зданий с целью использования их заново, стало распространенным явлением во многих больших городах. 5. В странах третьего мира происходят массовые процессы развития городов. Города в этих обществах во многих отношениях отличаются от западных, в них часто превалирует самодельное нелегальное жилье, где люди живут в крайней бедности. Неформальная экономика весьма распространена в развивающихся странах. Правительства не могут удовлетворить постоянно растущие требования народа, касающиеся образования, здравоохранения и планирования семьи. 6. Города находятся под сильным влиянием глобализации. Глобальные города — это урбанистические центры, такие как Нью-Йорк, Лондон и Гонконг, в которых расположены центральные офисы множества корпораций и налицо суперизобилие предприятий индустрии финансовых, технологических и консалтинговых услуг. Ряд региональных городов, таких как Сеул, Москва и Сан-Паулу, постепенно становятся важными узловыми пунктами глобальной экономики. 7. По мере того как значение городов в глобальной экономике растет, меняются их отношения с отдаленными регионами. Города отделяются от того региона и страны, в которых они расположены, одновременно увеличивается значение горизонтальных связей с другими глобальными городами. Для глобальных городов характерен высокий уровень неравенства жизни их населения. Большой достаток и унизительная бедность сосуществуют бок о бок, но при этом контакт между ними может быть минимальным. 8. Растет роль городов в качестве политических и экономических агентов. Городские правительства сегодня могут лучше справляться с некоторыми глобальными проблемами, чем общенациональные органы власти. Города могут вносить вклад в экономическую продуктивность и конкурентоспособность, содействовать общественной и культурной интеграции и служить доступным местом проведения различных политических мероприятий. Некоторые города строят стратегические планы повышения общественного мнения о себе с помощью проведения того или иного мероприятия мирового уровня или выполнения программ по городскому возрождению и экономическому развитию. Мэры городов становятся важным политическим орудием, способствующим решению городских вопросов. 9. По мере прогресса глобализации роль городов при решении международных проблем, по-видимому, будет расти. Это так, потому что множество вопросов, которые приходится решать большим городам, связано с такими глобальными проблемами, как экономическая интеграция, миграция, торговля, здравоохранение и информационные технологии. Появляются региональные и национальные сети городов, и они могут более активно вовлекаться в различные формы глобального правления, которое сегодня осуществляется национальными государствами.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Почему район Нью-Йорка Гринич-виллидж является олицетворением и лучших, и худших черт городского пространства? 2. Как повлияли работы Чикагской школы на более поздние концепции городской жизни? 3. Почему различные группы вступают в конфликт из-за городских ресурсов? 4. Почему попытки городского возрождения в Соединенном Королевстве не были более успешными? 5. Стоит ли «мегагородам» третьего мира прекратить урбанизацию из-за тяжелых социальных условий, возникающих при этом процессе? 6. Почему концепция избрания городского мэра вызывает в последнее время такой энтузиазм?Дополнительная литература
Caulfiled John and Peake Linda (eds.). City Lives and City Forms: Critical Research and Canadian Urbanism. Toronto: University of Toronto Press, 1996. Donald James. Imagining the Modern City. London: Athlone, 1999. Ellin Nan. Postmodern Urbanism. Oxford: Blackwell, 1995. Low Setha M. (ed.). Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. New Brunswick: Rutgers University Press, 1999. Mackey William J., Fredericks Janet and Fredericks Marcel A. Urbanism as Delinquency: Compromising the Agenda for Social Change. Lanham: University Press of America, 1993. Marcuse Peter and Kempen Ronald van (eds.). Globalizing Cities: A New Spatial Order? Oxford: Blackwell, 2000.Интернет-линки
Лондонский исследовательский центр www.london-research.gov.uk/Lrcinf.htm Международный центр «Единый мир» — город www.oneworld.org/guides/thecity Лестерский университет. Центр истории городов http://www.le.ac.uk/urbanist/index.html Институт города (Вашингтон, Округ Колумбия) http://www.urban.orgГЛАВА 19 РОСТ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
В периоды, предшествовавшие современным обществам, уровень рождаемости по сегодняшним нормам индустриального мира был очень высок. Тем не менее рост народонаселения вплоть до XVIII в. оставался довольно низким, потому что число рождений в целом приблизительно уравновешивалось числом смертей. Общей тенденцией был рост народонаселения, однако за периодами заметного увеличения населения следовали периоды увеличения уровня смертности. Чума и другие эпидемии могли, например, унести большое количество жизней за один год. В средневековой Европе в годы неурожая свадьбы обычно откладывались, и число зачатий сокращалось, тогда как количество смертей росло. Эти взаимодополняющие тенденции сокращали количество голодных ртов, которые нужно было кормить. Рост населения в мире, предшествовавшем современному, управлялся чем-то вроде саморегулирующегося ритма. В эпоху возникновения промышленного производства многие надеялись, что голод и нехватка необходимого остались в прошлом. Развитие современной индустрии должно было, согласно распространенному мнению, создать новую эру изобилия, когда стандарты жизни станут более высокими. В своей знаменитой книге «Опыт закона о народонаселении» (1798) Томас Мальтус подверг критике эти идеи и положил начало дискуссии, продолжающейся по сей день, о связи между народонаселением и продовольственными ресурсами (Malthus 1976). В то время, когда Мальтус писал свою книгу, население Европы росло быстрыми темпами. Мальтус указал, что тогда как население увеличивается в геометрической прогрессии, запасы пищи зависят от фиксированных ресурсов, которые можно увеличить только приспосабливая для культивации новые земли. Следовательно, рост населения имеет тенденцию опережать имеющиеся средства существования. Неизбежным результатом является голод, который в сочетании с войнами и мировыми эпидемиями действует как естественный ограничитель роста населения. Мальтус предсказывал, что если человеческие существа не начнут применять то, что он называл «моральным ограничением», они всегда будут жить в условиях нищеты и недоедания. Единственное средство против чрезмерного роста народонаселения он видел в строгом ограничении частоты половых сношений. Поскольку развитие населения западных стран пошло по совершенно иному пути, чем тот, к которому призывал Мальтус, какое-то время мальтузианство не привлекало к себе внимания. Коэффициент прироста населения в этих регионах в XIX и XX вв. постепенно падал. По сути, в 1930-х гг. во многих индустриальных странах главное беспокойство вызывала убыль населения. Однако резкий скачок роста народонаселения мира в XX в. показал не-безосновательность некоторых взглядов Мальтуса и вновь вызвал интерес к ним, хотя мало кто сейчас принимает теорию Мальтуса в ее первоначальном виде. Рост населения в менее развитых странах, судя по всему, обгоняет увеличение ресурсов, которые эти страны в состоянии произвести, чтобы прокормить своих граждан. Долгосрочные прогнозы в области народонаселения, осуществленные Организацией Объединенных Наций, говорят о том, что в конце XXI в. население Земли достигнет 10 млрд чел. По большей части увеличение населения произойдет в развивающемся мире. Опасения относительно того, что рост населения будет сопровождаться нехваткой продуктов питания и голодом, отнюдь не беспочвенны. Быстрое увеличение населения ляжет тяжелым бременем как на окружающую природу, так и на материальную инфраструктуру многих частей мира. Прогресс в экономическом развитии и повышение уровня жизни в развивающихся странах могут встретить серьезное препятствие в виде потребностей растущего населения. Однако рост населения — это только один из факторов, влияющих на проблему нехватки продуктов питания во многих частях Земли. Глобальные модели потребления и отношение к окружающей природе оказывают огромное воздействие на доступность ресурсов во всем мире. Как можно было видеть из настоящей книги, общества,существующие сейчас на Земле, гораздо более взаимозависимы, чем когда-либо прежде. Мы все являемся путешественниками на «космическом корабле под названием Земля», и где бы мы ни жили, нас всех затрагивают изменения, воздействующие на мир природы. В данной главе мы рассмотрим взаимосвязь между ростом народонаселения, потреблением и использованием ресурсов окружающей природы. Современные тенденции, если они будут пущены на самотек, несут серьезную угрозу будущему благополучию человеческих обществ повсюду. И то, насколько быстро и творчески мы сможем найти решение этих грозных проблем, имеет для всех нас жизненно важное значение.Рост народонаселения в мире
На протяжении многих лет раздавались десятки предсказаний относительно потенциально катастрофических последствий продолжающегося роста населения. В 1960-х гг. было подсчитано, что если современные темпы роста населения бесконтрольно продолжатся, через 900 лет на Земле будет 60 000 000 000 000 000 (60 квадриллионов) людей. Это означает, что на каждый квадратный метр как суши, так и моря будет приходиться по сто восемнадцать человек. Такая картина представляет собой, разумеется, лишь кошмарный плод воображения, созданный для того, чтобы привлечь внимание к насущной проблеме роста населения. Но тревога, которую она вызывала, была, как мы увидим, вполне реальной. Потребовалось 10 000 лет, чтобы население Земли достигло 1 млрд. Только за одно столетие, с 1800 по 1900 гг., население удвоилось с 1 до 2 млрд. В XX в. мы были свидетелями того, как эта цифра утроилась и достигла примерно 6 млрд. Неудивительно поэтому, что многие люди обеспокоены тем, что произойдет в XXI в. При современных темпах роста население Земли в ближайшие сорок или пятьдесят лет может достичь недопустимого уровня. Как справятся человеческие общества с такими изменениями? И как это отразится на планете?Анализ народонаселения: демография
Изучением народонаселения занимается демография. Термин «демография» был изобретен примерно полтора века назад, в эпоху, когда государства начинали вести официальную статистику о природе и распределении своего населения. Задачей демографии является измерение численности населения и объяснение его роста или уменьшения. Изменения численности населения связаны с тремя факторами: рождаемостью, смертностью и миграцией. Демография обычно рассматривается как часть социологии, потому что факторы, оказывающие влияние на уровень рождаемости и смертности в определенной группе людей или в обществе, так же как и на миграционные процессы населения, являются в основном социальными и культурными. Значительная часть работы в области демографии носит обычно статистический характер. Все индустриальные страны в наши дни собирают и анализируют основные статистические данные о своем населении, проводя переписи (систематические обследования, направленные на получение информации о населении определенной страны). Но даже в этих странах, несмотря на то что там применяются строгие методы сбора сведений, демографическая статистика не является абсолютно точной. В Соединенном Королевстве каждые десять лет проходят крупномасштабные переписи населения, а также регулярно осуществляются выборочные обследования. Тем не менее по разным причинам большое количество людей не регистрируется официальной статистикой, включая нелегальных эмигрантов, бездомных, лиц, временно проживающих в стране, и других людей, которые по той или иной причине уклонились от регистрации. Во многих менее развитых странах, особенно в тех, где в последнее время наблюдаются высокие темпы роста населения, демографическая статистика гораздо менее надежна. Так, например, некоторые демографы подсчитали, что зарегистрированное количество рождений и смертей в Индии может составлять только примерно три четверти от реальных общих цифр (Сох 1976). В некоторых частях Центральной Африки достоверность официальной статистики еще ниже.────────────────────────────┐ ■ Основные демографические понятия Общий уровень рождаемости — число живорожденных в год на тысячу населения. Общий уровень рождаемости — это очень общий статистический показатель, который полезен для обобщенного сравнения различных групп, обществ, регионов. Фертильность — число живорожденных детей на одну среднестатистическую женщину. Уровень фертильности обычно исчисляется как среднее число рождений на тысячу женщин детородного возраста. Биологическая плодовитость — потенциальное число детей, которое женщины биологически способны родить. Нормальная женщина физически может рожать детей каждый год в течение той части своей жизни, когда она способна к зачатию. Хотя могут существовать семьи, в которых женщина рожает двадцать и более детей, на практике уровень фертильности всегда гораздо ниже уровня плодовитости, из-за того что социальные и культурные факторы ограничивают рождаемость. Общий уровень смертности — число смертей на тысячу населения в год. Общий уровень смертности иногда также заменяют термином уровень убыли (mortality rates). Смертность — число смертей среди населения. Уровень младенческой смертности — число детей, умерших до достижения ими возраста одного года на тысячу рождений в год. Ожидаемая продолжительность жизни — число лет, которые, как ожидается, проживет человек в среднем. За последнее столетие ожидаемая продолжительность жизни в большинстве обществ мира выросла. Максимальная продолжительность жизни — максимальное число лет, которое может прожить человек. ────────────────────────────┘
Динамика изменений численности народонаселения
Коэффициент прироста или сокращения численности населения измеряется путем вычитания числа смертей на тысячу населения в определенный период времени из количества рождений на тысячу населения — это обычно также подсчитывается ежегодно. Некоторые европейские страны имеют отрицательный коэффициент прироста — иными словами, их население уменьшается. Фактически все индустриальные страны имеют коэффициент прироста меньше 0,5 %. В Европе и Соединенных Штатах коэффициент прироста населения был высоким в XVIII и XIX вв., но с тех пор он понизился. Многие менее развитые страны в наши дни имеют коэффициент прироста между 2 и 3 %. Эти цифры, на первый взгляд, не очень отличаются от коэффициентов прироста населения в индустриальных странах, но в действительности разница является огромной. Причина заключается в том, что рост населения является степенным. Иллюстрацией здесь может послужить древняя персидская легенда. Некий придворный попросил у правителя награду за свои услуги, — чтобы за каждую новую услугу ему давалось в два раза больше зернышек риса, чем за предыдущую, начиная с одного зернышка на первом квадрате шахматной доски. Считая, что он заключил выгодную сделку, правитель приказал принести рис из хранилища. Когда дело дошло до двадцать первого квадрата, хранилище царя опустело, а для сорокового квадрата потребовалось десять миллиардов зернышек риса (Meadows et al. 1974). Иными словами, начиная с единицы и удваивая ее, потом удваивая этот результат и т. д., можно быстро прийти к огромной цифре: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 и т. д. — за семь операций число увеличивается в 128 раз. Совершенно по тому же принципу растет и население. Мы можем измерить этот результат с помощью времени удвоения — периода времени, который требуется, для того чтобы население увеличилось вдвое. При 1 % роста населения в год удвоение населения произойдет за 70 лет. При росте 2 % в год население удвоится за 35 лет, а при росте 3 % удвоение населения произойдет за 23 года.Рост населения в развивающемся мире
Практически все индустриальные страны в настоящее время имеют низкий уровень рождаемости и смертности по сравнению с тем, что было в прошлом. Тогда почему же столь резко увеличилось население мира? В большинстве развивающихся стран благодаря использованию средств современной медицины и методов гигиены наблюдалось быстрое уменьшение смертности. Однако уровень рождаемости остается высоким. В результате такого сочетания в развивающихся странах сложилась совершенно иная возрастная структура населения, чем в индустриальных странах. Так, например, в столице Мексики Мехико 45 % населения моложе пятнадцати лет. В индустриальных странах к этой возрастной группе относится только около четверти населения. Дисбаланс в распределении населения по возрастным группам в развивающихся странах усугубляет социальные и экономические трудности. На детей в обществе расходуется значительная часть ресурсов здравоохранения и образования, в то время как сами дети не являются экономически продуктивными. Население, включающее непропорционально большое количество молодых людей, будет продолжать расти, даже если внезапно упадет уровень фертильности. Число девушек, достигших детородного возраста, увеличится, значит, родится большое число детей, и даже если величина семьи уменьшится, прирост населения будет сохраняться на уровне выше нулевого. В слаборазвитых обществах фертильность остается высокой, потому что здесь сохраняется традиционное отношение к величине семьи. Большое число детей в семье часто по-прежнему считается желательным, поскольку является источником рабочей силы на семейных фермах. Некоторые религии либо выступают против ограничения рождаемости, либо проповедуют желательность многодетности. Против применения противозачаточных средств выступают исламские лидеры в нескольких странах и католическая церковь, влияние которой особенно заметно в Центральной и Южной Америке. Даже политические власти не всегда стремятся сократить рождаемость. Так, в 1974 г. в Аргентине были запрещены противозачаточные средства, и это было частью программы, ставившей целью удвоение населения страны наиболее быстрыми темпами, что рассматривалось как путь к развитию экономической и военной мощи страны. Однако в конечном итоге в некоторых менее развитых странах падение уровня фертильности все-таки произошло. Примером может служить Китай, население которого в настоящее время составляет свыше 1,25 млрд чел. — почти четвертую часть всего населения Земли. Китайское правительство ввело одну из самых широких программ ограничения роста населения, какие когда-либо принимались в мире, целью которой была стабилизация численности населения страны на уровне, близком к современному. Правительство установило систему стимулов (такие как лучшие жилищные условия, бесплатное медицинское обслуживание и образование) для поощрения семей, имеющих одного ребенка, в то время как семьи, имеющие более одного ребенка, сталкивались с дополнительными трудностями (у супругов, родивших третьего ребенка, делались вычеты из зарплаты). Реакцией на эту правительственную программу явилось то, что в некоторых семьях шли на такую крайнюю меру, как убийство младенцев-девочек, чтобы единственным ребенком в семье был сын. Факты показывают, что жесткая политика Китая, направленная на ограничение рождаемости, оказала существенное влияние на население (Mirsky 1982). Вместе с тем, внутри страны существует сильное сопротивление. Люди не хотят считать семью с одним ребенком полноценной семьей. За пределами Китая данная программа также не получила сколько-нибудь серьезной поддержки, потому что для ее осуществления требуется значительная степень централизованного правительственного контроля, который в большинстве других развивающихся стран либо неприемлем, либо неосуществим.Демографический переход
Демографы часто называют изменения в отношении рождений к смертям в индустриальных странах, начиная с XIX в., демографическим переходом. Это понятие было впервые разработано Уорреном С. Томпсоном, который дал описание трехступенчатого процесса, в котором один тип стабильности населения в конечном итоге заменяется другим, когда общество достигает продвинутого уровня экономического развития (Thompson 1929). Первая стадия относится к условиям, характерным для большинства традиционных обществ, когда и уровень рождаемости, и уровень смертности высоки, а уровень младенческой смертности особенно велик. Население практически не растет, так как высокий показатель рождаемости более или менее уравновешивается уровнем смертности. Стадия вторая, которая началась в Европе и Соединенных Штатах в начале XIX в., — при наличии большого регионального варьирования — наступает тогда, когда уровень смертности падает, а фертильность остается высокой. Для этой фазы, таким образом, типичен заметный рост населения. Впоследствии эту стадию сменяет стадия третья, когда при условии индустриального развития рождаемость падает до уровня, при котором численность населения вновь оказывается достаточно стабильной. Среди демографов нет полного согласия относительно того, как следует интерпретировать эту последовательность изменений или как долго может продолжаться третья стадия. На протяжении последнего столетия или около того фертильность в западных странах не была абсолютно стабильной; сохранялись значительные различия в фертильности между индустриальными странами, а также между разными классами и регионами этих стран. Тем не менее принято считать, что указанная последовательность точно описывает основное преобразование в демографическом характере современных обществ. Теория демографического перехода прямо противостоит идеям Мальтуса. Если для Мальтуса рост благосостояния автоматически приводит к росту населения, то тезис о демографическом переходе подчеркивает, что экономическое развитие, порождаемое индустриализацией, в действительности приводит к новому равновесию и стабильности населения.Прогнозы роста народонаселения в будущем
Утверждают, что демографические изменения, которые грядут в следующем столетии, превзойдут все те изменения, которые имели место в истории человечества. Трудно предсказать с какой-либо степенью точности уровень, до которого увеличится народонаселение мира, но у Организации Объединенных Наций есть несколько сценариев изменения фертильности. Согласно «высокому» сценарию, к 2150 г. численность населения мира составит более 25 млрд чел.! При «средней» фертильности, которую ООН считает наиболее вероятной, если исходить из того, что фертильность стабилизируется на уровне, немного превышающем «два ребенка на одну женщину», численность населения мира к 2150 г. будет равна примерно 10,8 млрд чел. За этим общим приростом населения скрываются две различные тенденции. Первая из них заключается в том, что в большинстве развивающихся стран произойдет процесс демографического перехода, описанный выше. Это приведет при падении уровня смертности к значительному скачку в численности населения. И в Индии, и в Китае население, вполне вероятно, достигнет 1,5 млрд чел. Аналогичным образом, быстрый рост населения будет наблюдаться в некоторых регионах Азии, Африки и Латинской Америки, пока численность населения там наконец не стабилизируется. Другая тенденция связана с развитыми странами, в которых уже осуществился демографический переход. В этих обществах будет наблюдаться очень незначительный рост населения или его вообще не будет. Напротив, произойдет процесс старения населения, в ходе которого число молодых людей в абсолютных цифрах уменьшится, а число пожилых заметно увеличится. Это будет иметь для развитых стран далеко идущие экономические и социальные последствия: по мере того как увеличивается отношение зависимости (см. рис. 6.5–6.7 в главе 6), будет возрастать нагрузка на службы здравоохранения и социальной помощи. И одновременно по мере роста числа пожилых людей, они приобретут больше политического веса и смогут добиваться увеличения расходов на те программы и службы, которые важны именно для них. Каковы же будут последствия таких демографических изменений? Некоторые наблюдатели предвидят зарождение широкомасштабного социального взрыва, особенно в развивающихся странах, где происходит демографический переход. Изменения в экономике и на рынке труда могут вызвать значительную внутреннюю миграцию, когда население сельских районов начнет искать работу. Быстрый рост городов, вполне вероятно, нанесет ущерб окружающей среде и приведет к новым рискам для здоровья населения, к перегруженности инфраструктуры, росту преступности и появлению убогих незаконных поселений. Рис. 19.1. Недоедающие как часть населения в различных регионах мира (в процентах). 1995–1997 гг.
Источник: FAO. From The Economist. 16 Oct. 1999. P. 92.
Рис. 19.1. Недоедающие как часть населения в различных регионах мира (в процентах). 1995–1997 гг.
Источник: FAO. From The Economist. 16 Oct. 1999. P. 92.
Еще одной серьезной проблемой является голод и нехватка продуктов питания. На Земле насчитывается уже 830 млн чел., страдающих от голода и недоедания. В некоторых частях мира недоедает свыше одной трети населения (см. рис. 19.1). Если население растет, то, чтобы избежать распространения нищеты, необходимо соответственно повысить также уровень производства продуктов питания. Однако такая перспектива маловероятна: как мы увидим дальше в этой главе, во многих беднейших регионах мира наблюдается также нехватка воды, сокращение фермерских угодий, вырождение почвы — процессы, которые сокращают, а отнюдь не увеличивают продуктивность сельского хозяйства. Можно почти не сомневаться, что производство продуктов питания не достигнет уровня, необходимого для самообеспечения и экономической независимости. Потребуется ввозить в значительных объемах продукты питания и зерно из тех регионов, где они в избытке. По данным Организации продовольствия и сельского хозяйства (ОПС), к 2020 г. индустриальные страны будут производить 732 кг зерна на душу населения по сравнению лишь с 230 кг на душу населения в развивающемся мире. Технологический прогресс в сельском хозяйстве и промышленности непредсказуем, поэтому никто не может с уверенностью сказать, сколько людей, в конце концов, мир будет в состоянии прокормить. Но даже при современной численности населения общих ресурсов может уже оказаться недостаточно, для того чтобы в слаборазвитых странах создать стандарты жизни, сопоставимые с нормами индустриальных стран.
Влияние человека на мир природы
С того времени, как возникло сельское хозяйство, тысячи лет назад, человеческие существа стали оказывать воздействие на природу. Общества, занимавшиеся охотой и собирательством, жили главным образом за счет природы, они существовали на то, что давала им окружающая среда, и не делали попыток изменить мир вокруг себя. С появлением сельского хозяйства ситуация изменилась. Чтобы вырастить урожай, нужно было расчистить землю, выкорчевать деревья и следить, чтобы земля не зарастала сорняками и кустарником. Даже примитивная обработка земли могла приводить к эрозии почвы. Раз срубаются естественные леса и расчищаются участки, ветер может сдувать верхний слой почвы. Тогда община, обрабатывающая землю, расчищает несколько новых участков земли, и этот процесс все продолжается и продолжается. Некоторые ландшафты, которые сейчас мы воспринимаем как естественные, например скалы и заросли кустарника в юго-западной Греции, в действительности представляют собой результат эрозии почвы, причиной которой явилась обработка земли под сельскохозяйственные посадки пять тысяч лет назад. Тем не менее до появления современной индустрии природа господствовала над человеческой жизнью в гораздо большей степени, чем человек над природой. В наши дни наступление человека на окружающую природу настолько интенсивно, что лишь немногие природные процессы остались незатронутыми человеческой деятельностью. Почти вся земля, пригодная для культивации, занята под производство сельскохозяйственной продукции. То, что раньше было почти неприступной дикой местностью, сейчас зачастую является природным заповедником, который как нечто обыденное посещают изо дня в день тысячи туристов. Современная индустрия, все еще распространяющаяся по всему миру, вызвала резкий рост потребности в источниках энергии и сырьевых материалах. Однако запас таких источников энергии и сырья в мире ограничен, и некоторые важнейшие источники неизбежно истощатся, если глобальное потребление не будет ограничено. Даже климат на Земле, как мы увидим, вероятно испытал воздействие глобального развития индустрии. Одна общая проблема, с которой сталкиваемся все мы, связана с экологией окружающей среды. Экологические вопросы касаются не только того, как нам лучше справиться с трудностями и сдержать ущерб, наносимый окружающей среде, и повторяющиеся промышленные катастрофы, но они касаются также самих способов жизни в индустриальных обществах. Если необходимо отказаться от цели постоянного экономического роста, вероятно, придется создать новые социальные институты. Технологический прогресс непредсказуем, и вполне возможно, что Земля даст людям достаточно ресурсов для процессов индустриализации. Однако в данный момент это представляется маловероятным, и если стремиться к тому, чтобы в развивающихся странах стандарты жизни были сопоставимы с нормами, которые существуют на Западе сейчас, потребуется глобальная реорганизация.Беспокойство по поводу окружающей среды: существуют ли пределы роста?
Многие люди обеспокоены тем, что человеческие существа оказывают на мир природы вредоносное влияние. Обеспокоенность общества состоянием окружающей среды привела к появлению движений и партий «зеленых», таких как «Друзья Земли» и «Гринпис», которые принимают активное участие в решении вопросов, связанных с окружающей средой. Хотя у «зеленых» существуют различные подходы, общим является стремление к активным действиям в защиту окружающей среды на Земле, к сохранению, а не истощению, ее ресурсов и к защите остающихся видов животных. Начало движения «зеленых» и общественной озабоченности проблемами окружающей среды восходит к знаменитому докладу «Пределы роста», опубликованному в начале 1970-х гг. Римским клубом (Meadows et al. 1974). Римский клуб — это группа промышленников, консультантов по бизнесу и государственных служащих, возникшая в столице Италии. Римский клуб инициировал исследование, которое, используя методы компьютерного моделирования, составило прогнозы о последствиях продолжающегося экономического роста, роста народонаселения, загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов. Компьютерная модель показала, что произойдет, если тенденции, которые сформировались между 1900 и 1970 гг., будут продолжать действовать до 2100 г. В компьютерные прогнозы вносились изменения, чтобы получилось множество возможных вариантов последствий в зависимости от различных темпов роста соответствующих факторов. Исследователи установили, что каждый раз, когда они меняли одну переменную, это вело в конечном итоге к кризису окружающей среды. Основной вывод из доклада Римского клуба гласил, что темпы индустриального роста несовместимы с ограниченным характером земных ресурсов и со способностью нашей планеты выдерживать рост населения и справляться с загрязнением. В докладе указывалось, что окружающая среда не вынесет современных масштабов роста «населения, индустриализации, загрязнения, производства продуктов питания и истощения ресурсов» (Meadows et al. 1974: 23). Доклад Римского клуба подвергся критике с разных сторон, и его авторы позднее признали, что некоторые критические замечания были обоснованными. Метод, использованный исследователями, был сосредоточен на физических пределах и исходил из современных темпов роста и обновления технологии. В докладе не учитывалась в достаточной степени способность людей реагировать на опасности, грозящие окружающей среде, путем совершенствования технологии или с помощью политических мер. Более того, как отметили критики, рыночные силы сами могут способствовать ограничению сверхэксплуатации ресурсов. Например, если запасы какого-либо минерала, скажем, магния, оскудеют, цена магния возрастет. Поскольку магний станет более дорогим, его станут использовать меньше, а возможно даже, производители найдут способ, если цена на магний возрастет слишком резко, вообще обойтись без него. В свою защиту исследователи выдвинули аргумент о том, что они не пытались предсказывать будущее, но стремились только показать, что случится, если не будет осуществлено никаких изменений. Каковы бы ни были недостатки доклада, он произвел сильное впечатление на общественное сознание. Он заставил многих людей осознать разрушительные последствия, которые могут иметь индустриальное развитие и технология, а также послужил предупреждением об опасности, которую представляют различные формы загрязнения, если им позволить беспрепятственно развиваться. Главная мысль доклада «Пределы роста» состояла в том, что существуют как социальные, так и природные факторы, устанавливающие пределы того, сколько Земля может выдержать продолжающееся экономическое развитие и рост населения. Данные, представленные в докладе Римского клуба, были использованы многими группами как основание для призыва к резкому сокращению экономического развития с целью защиты окружающей среды. Однако такой взгляд был подвергнут критике как несостоятельный и ненужный. Согласно мнению этих критиков, экономическое развитие может и должно продолжаться, потому что оно способствует увеличению мирового богатства. Если помешать процессам индустриального развития в слаборазвитых странах, эти страны никогда не смогут догнать более богатые страны.Компенсируемое развитие
События последнего времени дают основание не столько для призывов повернуть вспять экономическое развитие, сколько обращают нас к понятию компенсируемого развития. Компенсируемое развитие означает, что рост экономики должен идти так, чтобы, хотя бы в идеале, не истощать материальные ресурсы, но, напротив, пускать их снова в обращение и свести до минимума уровень загрязнения окружающей среды. Термин «компенсируемое развитие» был впервые введен в докладе «Наше общее будущее», подготовленном по поручению Организации Объединенных Наций в 1987 г. Этот доклад известен также как доклад Брундтланд, поскольку организационный комитет, составивший указанный доклад, возглавляла г-жа Г. X. Брундтланд, в то время премьер-министр Норвегии. Компенсируемое развитие ранее определялось как использование возобновляемых ресурсов для обеспечения экономического роста, защита исчезающих видов животных и биоразнообразия, а также как обязательство охранять чистоту воздуха, воды и земли. Комиссия Брундтланд считала, что компенсируемое развитие «соответствует потребностям настоящего дня, не ставя под сомнение возможность для будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». После опубликования доклада «Наше общее будущее» выражение «компенсируемое развитие» стало широко использоваться как защитниками окружающей среды, так и правительствами. Его употребляли на саммите ООН 1992 г. в Рио-де-Жанейро, посвященном проблемам Земли, и впоследствии оно звучало на других экологических встречах на высшем уровне, организованных ООН. Доклад Брундтланд вызвал острую критику, совершенно так же, как доклад Римского клуба примерно четверть века назад. Критики говорили о том, что понятие компенсируемого развития слишком расплывчато и игнорирует конкретные нужды более бедных стран. По мнению критиков, сама идея компенсируемого развития учитывает только нужды более богатых стран и упускает из виду, что высокий уровень потребления процветающих стран удовлетворяется во многом за счет народов других стран. Так, например, требование, чтобы Индонезия сохранила свои тропические леса, можно считать несправедливым, потому что Индонезии больше, чем индустриальным странам, нужны те статьи дохода, которые пришлось бы урезать, чтобы сохранить эти леса.Потребление, бедность и окружающая среда
Значительная часть споров вокруг окружающей среды и экономического развития связана с проблемой моделей потребления. Потребление — это товары, услуги, энергия и ресурсы, которые используются людьми, учреждениями и обществами. Это явление имеет и положительные, и отрицательные аспекты. Так, с одной стороны, растущий уровень потребления в мире означает, что люди живут в лучших условиях, чем в прошлые времена. Потребление связано с экономическим развитием — по мере роста жизненных стандартов люди могут позволить себе больше продуктов питания, одежды, предметов личной собственности, а также больше досуга, отпусков, автомобилей и т. д. Но с другой стороны, потребление оказывает в то же время и негативное влияние. Модели потребления могут подорвать основу ресурсов окружающей среды и усугубить модели неравенства. Тенденции в мировом потреблении, наблюдавшиеся на протяжении XX в., способны вызвать шок. По данным, приведенным в докладе ООН «О развитии человечества» — по Программе развития ООН (UNDP 1998), в 1998 г. расходы на личное и общественное потребление достигли 24 трлн долл. США — в два раза больше уровня 1975 г. и в шесть раз больше, чем в 1950 г. В 1900 г. уровень потребления в мире был ненамного выше 1,5 трлн долл. США. Нормы потребления росли чрезвычайно быстро в последние двадцать пять лет. В индустриальных странах потребление на одного человека увеличивалось ежегодно на 2,3 %, в Восточной Азии рост шел еще более быстрыми темпами — на 6,1 % в год. Напротив, средняя африканская семья потребляет в настоящее время на 20 % меньше, чем она потребляла двадцать пять лет назад. Все чаще высказывается озабоченность по поводу того, что бум потребления обошел стороной самую бедную пятую часть населения мира (UNDP 1998). Неравенство в потреблении между богатыми и бедными является весьма значительным. На долю самых богатых 20 % населения мира приходится 86 % расходов на личное потребление, тогда как на долю самых бедных 20 % населения приходится только 1,3 %. Самые богатые 10 % потребляют 58 % всей энергии, 84 % всей бумаги, 45 % всего мяса и рыбы и владеют 87 % всех средств передвижения. Современные модели потребления не только свидетельствуют об огромном неравенстве, но они также ложатся тяжелым бременем на окружающую среду. Так, потребление свежей питьевой воды с 1960 г. удвоилось, сжигание топлива в последние пятьдесят лет увеличилось почти в пять раз, а потребление древесины возросло за последние двадцать пять лет на 40 %. Запасы рыбы сокращаются, целые виды диких животных исчезают, водные источники иссякают, площадей, занятых лесами, становится меньше (UNDP 1998). Модели потребления не только приводят к истощению существующих природных ресурсов, но и вдобавок способствуют их деградации из-за скопления отбросов и выделения вредных веществ. Наконец, хотя главными потребителями в мире являются богатые люди, ущерб, причиняемый окружающей среде растущим потреблением, наиболее тяжело отражается на бедных. Богатые находятся в лучших условиях и могут наслаждаться многими благами потребления, избегая его отрицательных последствий. На местном уровне это означает, что состоятельные группы населения обычно могут позволить себе переехать из загрязненных районов в другие места, предоставив бедным искать выход из сложившейся ситуации. Химические предприятия, электростанции, главные магистрали, железные дороги и аэропорты располагаются обычно поблизости от районов, где живут люди с низкими доходами. Аналогичные процессы происходят, как можно видеть, и на глобальном уровне: деградация почвы, исчезновение лесов, нехватка воды, выделение в атмосферу свинца и загрязнение воздуха — все это происходит в развивающихся странах. Бедность еще больше усиливает угрозу окружающей среде. Если у людей мало ресурсов, то им не остается ничего другого, как пытаться увеличить ресурсы, находящиеся в их распоряжении. И в результате по мере роста населения все больше и больше увеличивается давление на истощающуюся основу природных ресурсов.Источники опасности
В современном мире существует немало различных глобальных явлений, представляющих угрозу для окружающей среды. Их можно в грубых чертах разделить на два основных вида: это, во-первых, загрязнение и мусор, сбрасываемый в окружающую среду, и, во-вторых, это истощение возобновляемых ресурсов.Загрязнение и отходы
Загрязнение воздуха Загрязнение воздуха, причиной которого является выделение в атмосферу токсических веществ, уносит, по некоторым подсчетам, ежегодно свыше 2,7 млн человеческих жизней. Можно провести различие между типами загрязнения воздуха: «загрязнением внешним», вызываемым главным образом промышленными выбросами и выхлопными газами автомобилей, и «внутренним загрязнением», которое происходит при сжигании топлива дома для отопления и приготовления пищи. Традиционно загрязнение воздуха считалось проблемой, угрожающей индустриальным странам, где больше фабрик, заводов и средств передвижения, оснащенных моторами. Однако в последние годы внимание было привлечено к опасностям «внутреннего загрязнения воздуха» в развивающихся странах. Считается, что более 90 % смертей, связанных с загрязнением воздуха, имеет место в развивающемся мире. Это объясняется тем, что многие виды топлива, используемые в развивающихся странах, такие как дрова и навоз, не являются такими чистыми, как современные виды топлива, подобные керосину и пропану. До середины XX в. основным источником загрязнения воздуха было использование угля, который при горении выделяет в атмосферу двуокись серы и густой черный дым. Уголь широко использовался для обогрева домов и в несколько меньшей степени на производстве. В 1956 г. в попытке уменьшить смог в Великобритании был принят Закон о чистом воздухе, регулирующий выделение дыма из труб. Получили распространение и стали теперь широко использоваться в Великобритании и других индустриальных странах виды топлива, не дающие дыма, а именно: керосин, пропан и природный газ. Начиная с 1960-х гг. главным источником загрязнения воздуха был рост количества автомобилей. Автомобильные выхлопы особенно вредны, потому что они проникают в более низкие слои атмосферы, чем то, что выделяется из труб. Объем вредных веществ, выделяемых при работе разных типов средств передвижения, очень велик. Особенно губительный эффект оказывают на окружающую природу автомобили, на которые приходится примерно 80 % всех поездок в Европе. По этой причине, попытки уменьшить загрязнение воздуха во многих индустриальных странах сосредоточились на применении альтернативных средств передвижения с низким выделением вредных веществ, таких как пассажирские поезда, многоместные автобусы и совместно используемые общие автомобили. Загрязнение воздуха считается причиной целого ряда проблем со здоровьем людей, в том числе респираторных заболеваний, рака и легочных болезней. По некоторым подсчетам, в 1998 г. в Великобритании смерть от 12 000 до 24 000 чел. была вызвана тем, что они дышали загрязненным воздухом (HMSO 2000). Хотя загрязнение воздуха на улицах долгое время ассоциировалось с индустриальными странами, оно быстро распространяется в развивающемся мире. По мере того как в странах происходят быстрые процессы индустриализации, возрастает выделение вредных веществ на производстве, увеличивается также число автомобилей на дорогах. Во многих развивающихся странах по-прежнему используется свинцовое моторное топливо, хотя оно постепенно вышло из употребления во многих развитых странах. Уровень загрязнения воздуха особенно высок во многих регионах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Полагают, что в Мехико ежегодно от загрязнения воздуха погибают не менее 6400 чел. (UNDP 1998). Загрязнение воздуха не только наносит вред здоровью людей и животных, оно также оказывает губительное влияние на другие элементы экосистемы. Одним из пагубных последствий загрязнения воздуха являются кислотные дожди, явление, которое наблюдается в тех случаях, когда окись серы и азота, выделенные в атмосферу в одной стране, пересекают границы и выпадают в виде кислотных дождей в другой стране. Кислотные дожди наносят вред лесам, посевам, животным и приводят к окислению воды в озерах. Особенно пострадали от кислотных дождей Канада, Польша и Скандинавские страны. В Швеции, например, подверглись окислению 20 000 из общего числа 90 000 озер. Подобно многим другим опасностям, угрожающим окружающей природе, защититься от кислотных дождей трудно, потому что они транснациональны и по своему происхождению, и по своим последствиям. Полагают, например, что многие кислотные дожди в Восточной Канаде связаны с промышленным производством в штате Нью-Йорк, за границей Канады с Соединенными Штатами. Другие страны, также страдающие от кислотных дождей, сходным образом обнаружили, что решение этой проблемы лежит вне их компетенции, поскольку ее источник находится за пределами их национальных границ. В некоторых случаях в попытках уменьшить опасность кислотных дождей были заключены двусторонние или региональные соглашения. Однако выбросы вредных веществ в некоторых регионах по-прежнему остаются высокими, и их объем в развивающемся мире быстро возрастает. Загрязнение воды На протяжении всей своей истории люди зависели от воды, которая удовлетворяла множество важных потребностей — утоление жажды, приготовление пищи, мытье и стирка, полив посевов, рыболовство и многие другие занятия. Несмотря на то что вода является одним из самых ценных и необходимых природных ресурсов, ей тоже был нанесен огромный ущерб из-за злоупотреблений со стороны человека. Долгие годы отходы, как человеческие, так и производственные, люди выбрасывали прямо в реки и океаны, нисколько об этом не задумываясь. И только в последние полстолетия или около того были предприняты согласованные усилия во многих странах, с тем чтобы защитить качество воды, сохранить рыбу и живую природу, зависящую от воды, обеспечить людям возможность пользоваться чистой водой. Несмотря на все эти усилия, загрязнение воды остается во многих частях мира серьезной проблемой. Загрязнение воды понимается в широком смысле как заражение водных источников токсическими химическими веществами и минералами, пестицидами и неочищенными сточными водами. Это представляет огромную угрозу для людей в развивающихся странах, где 30 % населения не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Системы водоснабжения и канализации остаются недостаточно развитыми во многих беднейших странах мира, и мусор зачастую выбрасывается прямо в ручьи, реки и озера. Высокий уровень зараженности воды бактериями, вызванный сбросом неочищенных сточных вод, приводит к распространению самых разных заболеваний, связанных с грязной водой, таких как диарея, дизентерия и гепатиты. Ежегодно из-за зараженной воды поносами заболевают не менее 2 млрд чел.; 5 млн чел. каждый год умирают от диареи. В индустриальных странах случаи загрязнения воды часто возникают при чрезмерном использовании удобрений в сельскохозяйственных регионах. На протяжении многих лет нитраты из химических пестицидов просачиваются в грунтовые воды; почти 25 % почвенных вод в Европе обнаруживает уровень заражения, более высокий, чем считается допустимым в Европейском Союзе (UNDP 1998). Наиболее загрязненную воду можно обнаружить вблизи бывших индустриальных районов, где следы ртути, свинца и других металлов задерживаются в отвалах и продолжают медленно выделять загрязняющие вещества в грунтовые воды еще длительное время. Качество воды в большинстве западных индустриальных стран в последние годы улучшилось. Однако в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе загрязнение рек остается вполне реальной угрозой. Четыре пятых проб воды, взятых из 200 рек бывшего Советского Союза, показали, что уровень зараженности по-прежнему угрожающе высок. Твердые отходы Когда в следующий раз вы посетите супермаркет, магазин игрушек или ресторан быстрого обслуживания, обратите внимание на количество оберточного материала, который сопровождает увиденные там вами товары. В наш век почти ничего нельзя купить без упаковки! Упаковка приносит явную пользу — товары выставляются в привлекательном виде и обеспечивается известная безопасность продуктов; однако это имеет и оборотную сторону, чреватую серьезными последствиями. Одним из наиболее очевидных показателей растущего потребления является происходящее повсеместно увеличение объема домашних отходов — того, что идет в мусорные баки. В начале 1990-х гг. в развивающихся странах на человека приходилось 100–330 кг твердых домашних отходов, тогда как в Европейском Союзе эта цифра достигала 414 кг, а для Северной Америки 730 кг (UNDP 1998). Во всех странах мира происходил рост как абсолютного объема отходов, так и объем отходов, приходящихся на одного человека. Индустриальные общества иногда называют «обществами выбрасывания», из-за того что огромное количество вещей здесь выбрасывается на помойку просто так, за ненадобностью. По данным правительственной статистики, семья в Англии и Уэльсе производит в неделю 22 кг отходов. В 1997–1998 гг. из 27 млн т мусора 90 % были отходами от домашнего хозяйства. Примерно 85 % твердых отходов отправлялись на подземные мусорные свалки (HMSO 2000). В большинстве стран индустриального мира службы сбора и вывоза мусора существуют почти повсеместно, но избавиться от огромного количества мусора становится все труднее. Подземные свалки быстро заполняются, и во многих городских регионах уже не осталось места, куда можно было бы выбрасывать бытовые отходы. В Соединенном Королевстве правительство поставило целью к 2005 г. добиться переработки 40 % муниципальных отходов. Однако в 1997–1998 гг. только от 14 % муниципальных отходов была получена некоторая отдача путем переработки и использования в качестве компоста. Примерно 2 млн т бытовых отходов были собраны в результате инициативы местных властей (HMSO 2000). Хотя это количество переработанных бытовых отходов может показаться небольшим по сравнению с их общим объемом, значительная часть выбрасываемых бытовых отходов с трудом поддается переработке или повторному использованию. Многие виды пластика, широко применяемые при упаковке продуктов, просто непригодны ни к какому использованию. Они не подлежат никакой переработке, и их приходитсязакапывать на мусорных свалках, где они остаются на века. В развивающемся мире самой серьезной проблемой с бытовыми отходами является в настоящее время отсутствие служб по их сбору. Было подсчитано, что от 20 до 50 % бытового мусора в развивающемся мире остается невывезенным. Плохая организация уборки отходов приводит к тому, что на улицах скапливаются груды мусора, и это способствует распространению болезней. Вполне вероятно, что через некоторое время перед развивающимся миром проблема уничтожения отходов станет еще более остро, чем она сейчас стоит перед индустриальными странами. По мере того как общества становятся богаче, происходит постепенный переход от органических отходов, таких как остатки пищевых продуктов, к пластмассе и синтетическим материалам, таким как разные виды упаковки, для разложения которых требуется гораздо больше времени.Истощение ресурсов
Человеческие общества зависят от многих ресурсов, которые черпаются из мира природы, — это вода, древесина, рыба, животные и растения. Эти элементы часто обозначают термином возобновляемые ресурсы, потому что в условиях здоровой экосистемы они автоматически с течением времени восстанавливают себя. Однако если потребление восстанавливаемых ресурсов становится несбалансированным или чрезвычайно большим, возникает опасность, что они могут полностью истощиться. Некоторые факты приводят к мысли, что подобный процесс, возможно, уже идет. У многих людей, борющихся за сохранение окружающей природы, ухудшение ситуации с возобновляемыми ресурсами вызывает глубокую озабоченность. Вода Воду как-то трудно представить себе как ресурс, который может истощиться, ведь ее запасы постоянно пополняются во время дождя. Если вы живете в Европе или Северной Америке, вы, возможно, вообще никогда и не думали о запасах воды, разве что иногда, когда в летние месяцы на использование воды вводились некоторые ограничения. Вместе с тем, для людей во многих частях света доступ к постоянному источнику воды является хронической тяжелой проблемой. В некоторых густо населенных регионах высокая потребность в воде не удовлетворяется имеющимися запасами воды. В засушливом климате Северной Африки и Ближнего Востока, например, потребность в воде ощущается очень остро, и нехватка водных источников стала обычным явлением. Данная тенденция почти наверняка будет усиливаться в последующие годы. Это объясняется несколькими причинами. Первая из них состоит в том, что предсказываемый рост народонаселения мира в ближайшие двадцать пять лет будет, вероятно, в значительной мере происходить в тех регионах, которые уже испытывают нехватку воды. Более того, этот рост в значительной мере будет наблюдаться в городских регионах, инфраструктура которых столкнется с немалыми трудностями в обеспечении потребностей возросшего населения в воде и канализации. Глобальное потепление также, возможно, оказывает влияние на истощение запасов воды (см. ниже). По мере повышения температуры потребуется больше воды для питья и орошения. Вместе с тем, вполне вероятно также, что грунтовые воды не будут восполняться с той же быстротой, как раньше, и что, кроме того, увеличатся темпы испарения воды. Наконец, изменения в климатических моделях, которые, возможно, будут сопровождать глобальное потепление, скорее всего окажут воздействие на существующие модели выпадения осадков, совершенно непредсказуемым образом изменив доступ к запасам воды. Деградация почвы и опустынивание По данным, приведенным в докладе ООН «О развитии человечества» (UNDP 1998), третья часть всего населения Земли живет более или менее непосредственно за счет земли — питаясь продуктами питания, которые им удается вырастить и собрать, и дичью, которую им удается поймать. В силу того, что они в большой степени зависят от земли, эти люди особенно болезненно реагируют на изменения, затрагивающие возможность для них прокормиться дарами земли. Во многих регионах Азии и Африки, где наблюдается стремительный рост населения, деградация почвы угрожает привести к обнищанию миллионов людей. Деградация почвы представляет собой процесс, в ходе которого ухудшается качество земли и она лишается ценных природных элементов в результате чрезмерной эксплуатации, засухи или недостаточного применения удобрений. Долгосрочные последствия деградации почвы являются в высшей степени тяжелыми и трудно устранимыми. В тех регионах, где произошла деградация почвы, падает продуктивность сельского хозяйства и все меньше пахотной земли приходится на одного человека. Из-за отсутствия кормов становится трудно или невозможно держать крупный рогатый скот или другую живность. Во многих случаях люди вынуждены мигрировать в поисках более плодородной земли. Опустыниванием называют значительную деградацию земли, в результате чего большие пространства превращаются в подобие пустыни. Такое явление уже наблюдается на территории, равной по величине территориям России и Индонезии, взятым вместе, угрожая более чем 110 странам. Обезлесение Леса являются важным элементом экосистемы: они помогают регулировать запасы воды, выделяют в атмосферу кислород и препятствуют эрозии почвы. Они также дают многим людям средства к существованию, являясь источником топлива, пищи, древесины, масел, красок, трав и лекарственных средств. И тем не менее, несмотря на жизненную важность лесов, более трети всех первоначально существовавших на Земле лесов сейчас уже исчезли. Обезлесением называется уничтожение заросшей лесами земли, обычно как следствие коммерческих лесозаготовок. В 1980-х гг. леса исчезли на 15 млн га, причем в особенно крупных масштабах этот процесс происходил в Латинской Америке и Карибском регионе (утрачено 7,4 млн га леса) и в Африке южнее Сахары (утрачено 4,1 млн га). Хотя процесс исчезновения затронул многие типы лесов, наибольшее внимание привлекла судьба тропических лесов. Тропические леса, занимающие примерно 7 % земной поверхности, являются местом произрастания огромного числа видов растений и обитания многих животных, способствующих биоразнообразию Земли — многообразию разновидностей форм жизни. Они также являются родиной для многих растений и масел, из которых приготовляют лекарства. В настоящее время тропические леса исчезают со скоростью примерно 1 % в год, и они, вполне возможно, исчезнут совсем к концу XXI в., если современные тенденции не будут остановлены. Во многих регионах Южной Америки, где тропические леса занимают особенно большие пространства, их часто выжигают, чтобы освободить больше места под пастбища для скота. В других частях мира, таких как Западная Африка и острова в южной части Тихого океана, уничтожение тропических лесов было подогрето международным спросом на экзотические деревья с твердой древесиной. Таким образом, тенденции к увеличению потребления стимулируют развивающиеся страны экспортировать их природные богатства — процесс, который приводит в результате к разрушению окружающей среды и к утрате биоразнообразия. Обезлесение имеет печальные последствия как для людей, так и для окружающей среды. Если говорить о последствиях этого процесса для людей, то некоторые бедные сообщества, которые раньше имели возможность поддерживать или пополнять средства существования благодаря лесу, такой возможности лишаются. Обезлесение может привести к еще большему обнищанию населения, и так находящегося на грани выживания, потому что ему очень редко достается хоть какая-то выгода от тех огромных доходов, которые дает предоставление лицензий на право заготовки леса и продажи древесины. Что касается ущерба для окружающей среды, то исчезновение лесов влечет за собой эрозию почвы и наводнения: пока леса в горах сохраняются нетронутыми, они осуществляют важную функцию, поглощая и перерабатывая большую часть воды, выпавшей во время дождей. Если же леса исчезают, потоки дождевой воды каскадами падают со склонов, вызывая сначала наводнения, а потом засуху.Риск и окружающая среда
Тема риска уже неоднократно затрагивалась в настоящей книге. Многие вопросы, касающиеся защиты окружающей среды, тесно связаны с риском, поскольку являются результатом распространения науки и технологии. Научные новации принесли нам немало благ, — чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о достижениях в здравоохранении, питании или информационной технологии. Но с другой стороны, вторжение науки и технологии в нашу жизнь является причиной серьезных проблем и сомнений. И действительно, очень трудно найти золотую середину между потенциальными благами и возможными катастрофами. В главе 3 («Меняющийся мир») было введено понятие глобального общества риска. Мы живем в настоящее время в условиях глобальной системы, в которой мы постоянно сталкиваемся с риском для нашей безопасности, в том числе с экологическими рисками, которых не знали предшествующие поколения. Социолог Ульрих Бек, впервые предложивший это понятие, высказал мнение, что многие риски, угрожающие в наши дни людям, являются по своим масштабам глобальными. Эти риски не знают дискриминации на почве национальности, богатства или социального происхождения — они представляют потенциальную угрозу всем человеческим обществам. В данном разделе книги мы рассмотрим два таких случая риска — глобальное потепление и генетически модифицированные организмы.Глобальное потепление
Что такое глобальное потепление? Глобальное потепление рассматривается многими людьми как самая серьезная угроза окружающей среде в наши дни. Если многочисленные научные предсказания верны, глобальное потепление обладает потенциальной способностью необратимо изменить климат на Земле и вызвать целый ряд разрушительных для окружающей среды последствий, которые будут ощущаться во всем мире. Глобальное потепление означает постепенное повышение средней температуры на Земле, вызванное изменениями в химическом составе атмосферы. Считается, что в значительной части причиной глобального потепления являются действия людей, потому что газы, которые накапливаются и изменяют земную атмосферу — это именно те газы, которые в огромных количествах образуются в результате деятельности людей. Процесс глобального потепления тесно связан с явлением парникового эффекта — скопления в земной атмосфере удерживающих тепло парниковых газов. Принцип действия здесь прост. Энергия от солнца проходит через атмосферу и нагревает поверхность Земли. Хотя большая часть солнечной радиации прямо поглощается Землей, часть радиации отражается. Парниковые газы действуют как преграда на пути этой отраженной энергии и задерживают тепло в пределах земной атмосферы подобно тому, как это делают стеклянные поверхности теплицы (см. рис. 19.2). Такой природный парниковый эффект удерживает температуру на земле в относительно приемлемых рамках — примерно 60° по Фаренгейту. Если бы не парниковые газы, удерживающие тепло, Земля была бы гораздо более холодным местом со средней температурой около 0° по Фаренгейту. Однако когда концентрация парниковых газов в атмосфере увеличивается, парниковый эффект усиливается и получаются гораздо более высокие температуры. С начала индустриализации концентрация парниковых газов значительно выросла. Больше всего возросла концентрация двуокиси углерода — почти на 30 % с 1880 г. Концентрация метана удвоилась, концентрация окиси азота выросла почти на 15 %, и, кроме того, в результате индустриального развития человеческого общества возникли парниковые газы, не встречающиеся в природе (см. следующую врезку «Что такое парниковые газы»). Большинство ученых сходится на том, что значительный рост содержания двуокиси углерода в атмосфере может объясняться сжиганием каменного угля и другими видами человеческой деятельности, такими, например, как промышленное производство, крупномасштабное сельское хозяйство, исчезновение лесов, разработка полезных ископаемых, свалки мусора и выхлопные газы транспортных средств. На рис. 19.3 показана тенденция роста температуры на поверхности Земли с конца XIX в., и эти температуры изображены на фоне средних температур в период 1961–1990 гг. в Центральной Англии и во всем мире. В XX в. семь из десяти самых жарких зарегистрированных лет приходятся на 1990-е гг. А из них самым теплым из всех когда-либо зарегистрированных был 1998 г. Рис. 19.2. Парниковый эффект
Источник: Environmental Protection Agency website.
Рис. 19.2. Парниковый эффект
Источник: Environmental Protection Agency website.
Потенциальные последствия глобального потепления Если глобальное потепление действительно происходит, оно может иметь катастрофические последствия. К числу этих возможных губительных последствий относятся: • Подъем уровня моря. Глобальное потепление может вызвать таяние полярных льдов и нагревание и расширение океанов. По мере таяния ледников и других видов глетчеров (льда на суше) будет подниматься уровень моря. Города, расположенные на побережьях или в низинах, будут затопляться и становиться необитаемыми. Если уровень моря поднимется на один метр, Бангладеш лишится 17 % своей земли, Египет — 12 %, а Нидерланды — 6 % (UNDP 1998). • Опустынивание. Глобальное потепление может способствовать тому, что большие пространства плодородной земли превратятся в пустыню. В Африке южнее Сахары, на Ближнем Востоке и в Южной Азии будет происходить дальнейшее расширение зоны пустынь и интенсивная эрозия почвы. • Распространение болезней. Глобальное потепление может расширить географические границы и сезонность появления организмов, подобных москитам, которые разносят такие болезни, как малярия и желтая лихорадка. Если температура повысится на 3–5° по Цельсию, количество случаев заболевания малярией увеличится на 50–80 млн в год. • Низкие урожаи. Если глобальное потепление будет прогрессировать, производство сельскохозяйственных продуктов во многих беднейших регионах мира может сократиться. Больше всего пострадает население Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. • Изменение климатических моделей. Климатические модели, которые были относительно устойчивы в течение тысячелетий, могут претерпеть в результате глобального потепления быстрые разрушительные изменения (см. врезку «„Экстремальная“ погода: цена более теплого мира?» далее в этом разделе). Сорок шесть миллионов человек проживает в настоящее время в регионах, которые могут быть уничтожены морскими бурями, а многие другие регионы могут пострадать от наводнений и ураганов.
────────────────────────────┐ ■ Что такое парниковые газы? Некоторые парниковые газы встречаются в атмосфере в естественном состоянии, другие являются результатом человеческой деятельности. Встречающиеся в природе парниковые газы включают пары воды, двуокись углерода, метан, закись азота и озон. Однако уровень концентрации этих естественно встречающихся газов увеличивается в результате определенных видов деятельности людей. Двуокись углерода выпускается в атмосферу, когда сжигаются твердые отходы, топливо, добываемое из земли (нефть, природный газ и уголь), а также древесина и изделия из древесины. Метан выделяется при добыче и транспортировке угля, природного газа и нефти. Выделение метана происходит также при разложении органических отходов на подземных свалках твердых отходов и при некоторых видах деятельности в процессе разведения домашнего скота. Окись азота выделяется в ходе сельскохозяйственной и промышленной видов деятельности, а также во время сгорания твердых отходов и ископаемого топлива. Парниковые газы, не встречающиеся в природе, включают побочные продукты производства пенопласта, холодильных установок и кондиционеров, называемые хлорофлюорокарбонами (CFC), а также гидрофлюорокарбоны (HFC) и перфлюорокарбоны (PFC), порождаемые производственными процессами. Источник: Environmental Protection Agency (ЕРА). Global Warming Site http://www.epa.gov/globalwarming/climate/index.htm ────────────────────────────┘
 Рис. 19.3. Колебания температуры на поверхности Земли в 1861–1998 гг. в Центральной Англии и в мире (плюсовые или минусовые отклонения от средней температуры для 1961–1990 гг. = 0,0)
Источник: DETR; Hadley Centre for Climate Prediction and Research. From Social Trends. 30. 2000. P. 181. Crown copyright.
Рис. 19.3. Колебания температуры на поверхности Земли в 1861–1998 гг. в Центральной Англии и в мире (плюсовые или минусовые отклонения от средней температуры для 1961–1990 гг. = 0,0)
Источник: DETR; Hadley Centre for Climate Prediction and Research. From Social Trends. 30. 2000. P. 181. Crown copyright.
Некоторые процессы, связываемые с глобальным потеплением, развиваются более стремительными темпами, чем первоначально предсказывали ученые. В декабре 1999 г., например, изучение с помощью спутника показало, что арктические льды тают гораздо быстрее, чем предварительно предполагали ученые, — этот процесс способен привести к трагическим последствиям для климата Земли в последующие годы (см. рис. 19.4). Возможно, что сокращение площади льдов было вызвано естественными причинами, но каковы бы ни были эти причины, лед, по-видимому, тает с огромной скоростью. Измерения, проводимые со спутника, свидетельствуют о том, что за последние двадцать лет площадь вечных арктических льдов сократилась на 7 %. Средняя толщина льда за время между 1958 и 1997 гг. уменьшилась на 40 %.
 Рис. 19.4. Наблюдаемые изменения в площади, занимаемой льдами в морях Арктики. 1900–1998 гг.
Источник: Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Meteorological Office website.
Рис. 19.4. Наблюдаемые изменения в площади, занимаемой льдами в морях Арктики. 1900–1998 гг.
Источник: Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Meteorological Office website.
Реакция на опасность глобального потепления В течение длительного времени тезис о глобальном потеплении оспаривался. Некоторые ученые высказывали сомнения относительно того, что указанные явления действительно происходят, другие утверждали, что изменения в мировом климате могут быть результатом естественных тенденций, а не следствием вмешательства людей. Однако в настоящее время большинство ученых признает, что глобальное потепление действительно происходит и что причиной его является парниковый эффект. В январе 2000 г. группа из одиннадцати экспертов по климату, специалистов в различных научных областях, опубликовала один из самых развернутых докладов, когда-либо посвященных глобальному потеплению. Все эксперты были согласны с тем, что глобальное потепление — реальное явление. По заключению группы, температура на поверхности земли за последнее столетие выросла на 0,7–1,4° по Фаренгейту (от 0,4 до 0,8° по Цельсию). Особенно заметный рост температуры приходится на последние двадцать лет. Выделение двуокиси углерода растет устрашающими темпами во всем мире. В настоящее время индустриальные страны производят гораздо больше парниковых газов, чем развивающийся мир, причем в США выделяется больше двуокиси углерода, чем в любой другой отдельной стране. В Европе Великобритания и Германия являются главными загрязнителями воздуха двуокисью углерода — на их долю приходится почти половина всей двуокиси углерода, выделяемой в Европейском Союзе. В целом на Соединенное Королевство приходится 2 % всей выделяемой двуокиси углерода в мире (HMSO 2000). Загрязнение атмосферы парниковыми газами наблюдается, однако, не только в развитых странах. Все более быстрыми темпами увеличивается выделение парниковых газов в развивающемся мире, особенно в тех странах, где стремительными темпами идет индустриализация.
────────────────────────────┐ ■ «Экстремальная» погода: цена более теплого мира? В марте 2000 г. в Мозамбике, расположенном в южной части Африки, произошло грандиозное наводнение, которое было самым сильным из всех, когда-либо происходивших в этом регионе. Потоки воды размывали дороги и железнодорожные пути, смывали посевы и губили скот. Много людей погибло, когда вышедшие из берегов реки воды затопили их дома. Еще больше людей остались без крыши над головой и без какого-либо источника пропитания. Наводнение было вызвано тем, что река Лимпопо вышла из берегов в результате сильных дождей, которые сопровождали циклон, поразивший страну в конце февраля. Перед этим несчастьем бывшая португальская колония с трудом приходила в себя после продолжавшейся шестнадцать лет гражданской войны, закончившейся только в 1992 г. Осуществив реформы, направленные на введение свободного рынка и демократических институтов, Мозамбик в конце 1990-х гг., все еще оставаясь очень бедной страной, добился экономического роста на уровне 10 % в год. Наводнение подорвало весь оптимизм, который постепенно укреплялся в этой стране. В результате крупномасштабной международной помощи многие люди, попавшие в бедственное положение, были спасены, и были начаты восстановительные работы. Однако потребуются, наверное, многие годы, прежде чем Мозамбик достигнет уровня экономического развития, который был до циклона. Возникло ли это наводнение вследствие «естественных причин»? В эпоху растущего глобального потепления мы не можем быть в этом уверены. В последние двадцать лет число циклонов, ураганов и других серьезных погодных катаклизмов резко возросло. По мнению многих ученых, эти события являются прямым результатом глобального потепления — процесса, приводящего к еще большей нестабильности в мировом климате. Некоторые ученые предсказывают, что в будущем подобные нарушения равновесия умножатся. Говорят о возможности появления «сверхураганов», в десять раз более мощных, чем самые сильные ураганы и в двадцать раз более мощных, чем тот циклон, который вызвал такие разрушения в Мозамбике. Развивающиеся страны обычно страдают от последствий глобального потепления особенно сильно, поскольку у них меньше ресурсов, с помощью которых они могли бы создать необходимые защитные сооружения. Если бы берега Лимпопо были бы надлежащим образом укреплены, наводнения не произошло бы вообще или его можно было бы сдержать. ────────────────────────────┘
На всемирном экологическом саммите, состоявшемся в 1997 г. в Киото (Япония), было достигнуто соглашение о значительном сокращении к 2010 г. выделения в атмосферу парниковых газов. Индустриальные страны согласились произвести сокращение так, чтобы выделение парниковых газов оказалось бы на 20–40 % ниже того уровня, который был бы, если бы современные объемы выделения газов сохранялись без изменения. Но даже если указанные страны добьются поставленной цели — что представляется довольно маловероятным — этого может оказаться недостаточно, да и произойдет это слишком поздно. По мнению многих ученых, чтобы избежать серьезных климатических последствий, необходимо сократить выброс газов на 70 или 80 %. Более того, какие бы меры ни были приняты правительствами для сокращения выброса газов, должно будет пройти определенное время, прежде чем в последствиях глобального потепления можно будет заметить какие-то изменения. Так, например, для удаления из атмосферы двуокиси углерода путем естественных процессов требуется более ста лет. Ученые нарисовали несколько сценариев будущего, исходя из различного уровня выделения в атмосферу двуокиси углерода. Если предположить стабилизацию концентрации двуокиси углерода в атмосфере, скорость изменений климата уменьшится, но сам процесс остановлен не будет. В 1999 г. министры окружающей среды европейских стран договорились добиваться глобальной стратегической цели — того, чтобы концентрация в воздухе двуокиси углерода никогда не превышала бы уровня 550 частиц на миллион (ppm). Если удастся удерживаться ниже потолка в 550 ppm, это повлечет за собой сдерживание роста выделения газов в атмосферу до уровня не более 25 % от современного, а затем и к сокращению его. Предел концентрации газов в 550 ppm спас бы два миллиарда людей от нехватки воды, затопления прибрежных районов и значительного уменьшения урожаев. Как и в отношении многих новых видов риска, никто не может быть в действительности уверен в том, каковы будут последствия глобального потепления. Его причины очень расплывчаты, а точные последствия трудно просчитать. Действительно ли развитие событий по сценарию с «высокими» уровнями выделения газов приведет к широкому распространению природных катастроф? Защитит ли стабилизация уровня выделения двуокиси углерода большинство людей на Земле от негативного влияния изменений климата? Не могло ли случиться так, что современные процессы глобального потепления уже запустили механизм дальнейших климатических нарушений? Мы не можем ответить на эти вопросы сколько-нибудь уверенно. Климат на Земле представляет собой в высшей степени сложное явление, и в различных странах, находящихся в разных точках земного шара, могут вступить во взаимодействие множество разных факторов, что будет иметь разные последствия.
Генетически модифицированные продукты питания
Как мы уже видели, от голода и недоедания страдают в настоящее время свыше 800 млн людей на земном шаре. Поскольку народонаселение мира в предстоящие годы увеличится, существует опасность, что еще больше людей будут испытывать нехватку продуктов питания. В ряде густонаселенных регионов мира население в высокой степени зависит от урожая основных продуктов питания, производимых в регионе, таких, например, как рис, запасы которых истощаются. Многие обеспокоены тем, что современные методы ведения сельского хозяйства не смогут обеспечить урожаи риса, достаточные для того, чтобы прокормить растущее население. Как и в случае многих других опасностей, связанных с окружающей средой, угроза голода распределяется в мире неравномерно. В индустриальных странах существуют обширные излишки зерна — только в одних Соединенных Штатах излишки зерна составляли в 1999 г. 86 млн т. Напротив, в более бедных странах, где ожидается самый большой рост населения, нехватка зерна грозит стать хронической проблемой. Некоторые полагают, что ключ к предотвращению потенциального кризиса продуктов питания лежит в недавних успехах науки и биотехнологии. Воздействуя на генетический состав основных сельскохозяйственных культур, таких как рис, можно теперь повысить уровень фотосинтеза растения и получить более высокий урожай данной культуры. Этот процесс известен как генетическая модификация; растения, которые получаются таким образом, называются генетически модифицированными организмами (ГМО). Генетическая модификация может производиться для разных целей — не только для увеличения урожая сельскохозяйственных культур. Ученые получили генетически модифицированные организмы с более высоким, чем обычно, содержанием витаминов; другие генетически модифицированные культуры являются стойкими по отношению к обычно используемым сельскохозяйственным гербицидам, служащим для борьбы с сорняками, насекомыми, а также грибковыми и вирусными заболеваниями. Продукты питания, изготовленные из генетически модифицированных организмов или содержащие их следы, получили название генетически модифицированных продуктов. Генетически модифицированные культуры отличаются от всего того, что существовало раньше, потому что они подверглись пересадке генов от одних организмов другим. Это уже гораздо более радикальное вмешательство в природу, чем те более старые методы скрещивания, которые использовались многие годы. Генетически модифицированные организмы получаются с помощью приемов сращивания генов, которые могут быть применены для трансплантации генов как у животных, так и у растений. Например, в ходе недавних экспериментов гены человека были введены домашним животным, таким как свиньи, с тем чтобы впоследствии получить органы, пригодные для пересадки людям. Гены человека вводились даже растениям, хотя, конечно, сельскохозяйственные культуры, которые появлялись на рынке до сих пор, не были связаны с подобного рода радикальной биоинженерией. Ученые утверждают, что генетически модифицированная разновидность «суперриса» могла бы способствовать росту урожая риса не менее, чем на 35 %. Другой вид, получивший название «золотого риса», содержащий дополнительное количество витамина А, мог бы сократить нехватку витамина А у более чем 120 млн детей во всем мире. Казалось бы, такие успехи биотехнологии должны были бы быть встречены с энтузиазмом всеми людьми на Земле. Однако в действительности проблема генетической модификации стала одной из самых спорных проблем нашего времени. Многим людям она показала, насколько тонкая граница разделяет блага технологии и научных открытий, с одной стороны, и угрозу уничтожения окружающей среды, с другой. Споры о генетически модифицированных продуктах питания Эпическое повествование о генетически модифицированных продуктах питания следует начать с событий, имевших место всего лишь несколько лет назад, когда некоторые из ведущих мировых химических и сельскохозяйственных фирм решили, что новые знания о воздействии генов могут изменить мировой запас продуктов питания. Эти компании производили пестициды и гербициды, но хотели заявить о себе на рынке, который, как им представлялось, должен стать в будущем главным. Лидером в разработке значительной части новой технологии была американская фирма «Монсанто». Фирма «Монсанто» скупила компании, производившие семена, продала свое отделение, производившее химикаты, и посвятила значительную часть своих усилий производству и поставке на рынок новых сельскохозяйственных культур. Под руководством исполнительного директора Роберта Шапиро «Монсанто» развернула гигантскую рекламную кампанию, пропагандируя достоинства генетически модифицированных культур и перед фермерами, и перед потребителями. Первые отклики были такими, какие уверенно ожидала компания. К началу 1999 г. 55 % соевых бобов и 35 % маиса, произведенных в Соединенных Штатах, составляли генетические видоизменения. В этот момент генетически модифицированные культуры выращивались уже на 35 млн га земли по всему миру — на площади, в полтора раза превышающей территорию Великобритании. Кроме Северной Америки, генетически модифицированные культуры получили широкое распространение в Китае. Во время кампании по продаже генетически модифицированных продуктов питания, производимых «Монсанто», подчеркивался ряд их положительных качеств. Фирма утверждала, что с помощью генетически модифицированных сельскохозяйственных культур можно будет накормить бедных во всем мире, а также сократить использование химических загрязнителей, в частности химикалиев, применяемых в качестве пестицидов и гербицидов. Так, например, утверждалось, что для генетически модифицированного картофеля требуется на 40 % меньше химических инсектицидов, чем потребовалось бы при традиционных методах хозяйствования. По мнению «Монсанто», биотехнология позволит выращивать лучшего качества сельскохозяйственные культуры и при более высоких урожаях, и в то же время поможет сохранить и защитить окружающую среду. Компания даже зашла так далеко, что опубликовала «Закон „Монсанто“». Это выражение восходит к знаменитому образцу — «Закону Мура» в области компьютерных микросхем. В конце 1970-х гг. компьютерный эксперт Гордон Мур, увидев возможности компьютерной индустрии в производстве микросхем, подсчитал, что компьютерная технология будет удваивать свою мощность каждые восемнадцать месяцев. «Монсанто» понадеялась, что такой же эффект будет получен и в области биотехнологии — предполагалось, что и состояние «Монсанто» будет одновременно подобным же образом умножаться. Как мы увидим, компании предстояло испытать сильный шок. Поскольку генетически модифицированные культуры были в основном совершенно новыми, никто не мог наверняка знать, какое воздействие после введения они окажут на окружающую среду. Многочисленные группы экологов и потребителей были обеспокоены теми потенциальными рисками, с которыми могло быть связано использование этой технологии, не прошедшей необходимой проверки. Настроение обеспокоенности в связи с генетически модифицированными продуктами питания получило особенно широкое распространение в Европе. В Великобритании враждебное отношение к коммерческому выращиванию генетически модифицированных сельскохозяйственных культур было подогрето открытиями всемирно известного генетика д-ра Арпада Пуштая, работавшего в государственной лаборатории в Шотландии. В своем исследовании д-р Пуштай подверг опытному испытанию картофель с включенным геном, заменившим некий естественный инсектицид — протеин, известный как лектин, — извлеченный из определенного типа цветов. Результаты показали, что у крыс, которых кормили генетически модифицированным картофелем, произошло значительное ухудшение состояния иммунной системы и уменьшился рост органов. Результаты, полученные д-ром Пуштаем, были подвергнуты критике другими ведущими учеными, и он был уволен со своего поста в лаборатории, финансируемой государством, после того как рассказал в выступлении по телевидению о своих опасениях по поводу генетически модифицированных продуктов питания. К этому времени проблема генетически модифицированных продуктов привлекла к себе огромное внимание и стала появляться на первых полосах средств массовой информации почти каждый день. Для обсуждения проблемы были организованы многочисленные теле- и радиодебаты, чат-шоу и опросы по телефону. Многие представители британского общества выразили свое отрицательное отношение к генетически модифицированным культурам, некоторые даже «предприняли прямые действия», выпалывая генетически модифицированные растения из земли на официальных экспериментальных участках по всей стране. Аналогичная реакция наблюдалась и в ряде других европейских стран. Эти события, в конце концов, переместились обратно в Соединенные Штаты, где раньше дискуссий не возникало. В Соединенном Королевстве семь из восьми главных сетей супермаркетов изменили свою политику в отношении генетически модифицированных продуктов. Пять из них наложили полный запрет на генетически модифицированные ингредиенты в продуктах их собственных брендов, и все настаивали на необходимости давать более точную информацию на этикетках товаров в своих магазинах. Две крупные компании — «Юнилевер» и «Нестле» — объявили о своем отказе от решения, одобряющего генетически модифицированные продукты питания, которое было принято раньше. Некоторые фермеры в США, занимавшиеся крупномасштабным производством генетически модифицированных культур, вернулись снова к выращиванию традиционных культур. Протесты защитников окружающей среды и союзов потребителей оказали существенное влияние на судьбу фирмы «Монсанто». В течение 1999 г. акции «Монсанто» упали в цене более чем на треть. С экрана телевизоров Роберт Шапиро признал, что его компания допустила ряд серьезных ошибок. «По-видимому, мы вызвали раздражение и антагонизм у большего числа людей, чем те, кого мы сумели убедить, — сказал он. — Нашу уверенность в данной технологии и вызванный ею энтузиазм многие, я думаю, истолковали — и это можно понять — как пренебрежительное отношение или, по существу, высокомерие». Это явилось полной противоположностью той самоуверенности победителя, которая звучала в его выступлениях всего лишь несколько месяцев назад. Фирме «Монсанто» пришлось полностью отказаться от своих наиболее сомнительных планов — от идеи использования гена под названием «терминатор». Этот ген должен был обеспечить, чтобы семена, которые «Монсанто» продавала фермерам, становились стерильными после первого урожая. Фермеры вынуждены были бы в этом случае покупать у компании семена каждый год. Критики «Монсанто» утверждали, что компания пыталась завлечь фермеров в ловушку «биорабства». В конце концов «Монсанто», по выражению одного остроумного комментатора, оказалась перед необходимостью стать своим собственным «терминатором». В результате широкой оппозиции по отношению к генетически модифицированным продуктам питания компания понесла такие большие потери на фондовом рынке, что ей пришлось отказаться от независимого существования и, слившись с другой фирмой, образовать корпорацию «Фармация». Внутри этой новой компании «Монсанто» по-прежнему будет сохранять свое независимое существование. Нет сомнений, что корпорация продолжит попытки создавать и продавать продукты, произведенные из новых генетически модифицированных культур. Несмотря на слова Роберта Шапиро, вряд ли компания действительно существенно изменила свое мнение. В новой брошюре, опубликованной в марте 2000 г., говорится, что компания считает выступления против генетически модифицированных продуктов не чем иным, как «ханжеской риторикой». И те, кто возражает против того, чтобы незамедлительно начать производство генетически модифицированных продуктов питания, говорится далее в документе, «эгоистически пытаются навязать обществу свои собственные фетиши и верования Нового века» любой ценой. Оценка риска ГМ продуктов питания Несмотря на утверждения Роберта Шапиро, опасения тех, кто критикует генетически модифицированные продукты питания, являются вполне обоснованными. Никто не может сказать с уверенностью, что генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры безопасны. Генетический код крайне сложен — введение новых генов в растения или живые организмы может вызвать распространение ранее неизвестных болезней или другие губительные последствия. Поскольку указанная технология еще так мало изучена, новые данные и открытия стали появляться с поразительной, пугающей частотой. В мае 2000 г. британское правительство признало, что засаженные фермерами тысячи акров обычного рапса, из семян которого производится масло, оказались в действительности зараженными генетически модифицированным материалом. В исследовании, опубликованном в Германии несколько недель спустя, утверждалось, что ген, который широко использовался для модификации масличного рапса, преодолел барьер между видами и проник во внутренности пчел. В короткий промежуток времени, разделяющий эти два сенсационных открытия, сама фирма «Монсанто» признала, что в ее модифицированных соевых бобах — том самом генетически модифицированном организме, который наиболее широко производился для коммерческих целей, — содержатся неизвестные фрагменты генов, которые раньше не были замечены. Такие факты еще более подкрепляют опасения, высказанные активистами природозащитного движения уже достаточно давно. Хотя генетическая модификация может принести огромную потенциальную пользу, риски, связанные с ней, непредсказуемы и трудно исчислимы. Если генетически модифицированные организмы окажутся в окружающей среде, они могут повлечь за собой целую цепь ошеломляющих последствий, которые трудно будет отслеживать и контролировать. Перед лицом этой дилеммы многие защитники окружающей среды предпочитают придерживаться того, что часто называют принципом предосторожности. Согласно этому принципу, если имеется достаточно сомнений относительно возможных рисков новых отклонений, лучше придерживаться существующей практики, чем ее менять.Взгляд в будущее
И вот мы стоим в начале нового века и не можем предвидеть, будут ли предстоящие сто лет отмечены мирным социальным и экономическим развитием или же глобальные проблемы умножатся — возможно, настолько, что решить их человечество будет уже не в состоянии. В отличие от социологов, живших и работавших двести лет назад, мы ясно видим, что современные индустрия, технология и наука по своим последствиям отнюдь не являются полностью благотворными. Наш мир гораздо более многолюден и богат, чем когда-либо прежде, но вместе с тем он также находится на грани экологической катастрофы. Что же нам делать — смириться и предаться отчаянию? Конечно же, нет. Если социология и учит нас чему-то, так это глубокому осознанию того факта, что социальные институты созданы самим человеком. Мы видим возможность управлять нашей судьбой и изменять нашу жизнь к лучшему, о чем не могли даже мечтать предыдущие поколения. Идея компенсируемого развития, о котором говорилось выше, способствовала появлению ряда важных новых тенденций в области защиты окружающей среды. Среди них следует, в частности, отметить понятия экоэффективности и экологической модернизации. Экоэффективность означает разработку технологий, которые являются эффективными для стимулирования экономического роста, но позволяют достичь этого при минимальном ущербе для окружающей среды. А ведь еще в 1980-х гг., когда появился Доклад Брундтланд, было широко распространено мнение, согласно которому большинство форм индустриального развития и защита окружающей среды признавались несовместимыми. Главная мысль, содержащаяся в тезисе об экологической модернизации, заключается в том, что подобное допущение несостоятельно. Использование экоэффективных технологий позволяет осуществлять экономическое развитие в таких формах, которые сочетают экономический рост с политикой, не причиняющей вреда окружающей среде. Возможности, предоставляемые экологической модернизацией, можно иллюстрировать примером индустрии переработки отходов — индустрии, которая уничтожает тонны отходов, ежедневно порождаемых промышленностью и потребителями. До последнего времени, как мы видели выше, большая часть этих отходов просто подвергалась переработке и захоронению. Однако в наши дни вся эта индустрия перестраивается. Благодаря успехам технологии гораздо дешевле стало производить газетную бумагу из переработанной бумаги, чем из древесной массы, как это обычно делалось раньше. Следовательно, имеются убедительные экономические соображения, так же как соображения, связанные с защитой окружающей среды, по которым выгодно повторно использовать уже использованную бумагу, чем без конца рубить деревья. Не просто отдельные компании, но целые отрасли индустрии активно стремятся работать с «нулевыми отходами» — т. е. добиться полной переработки всех отходов для будущего использования в промышленности. Производители автомобилей «тойота» и «хонда» уже достигли уровня переработки 85 % деталей, употребляемых ими в производстве автомобилей. В таком случае отходы уже больше не являются просто выброшенными на свалку материалами, губительными для природы, теперь это ресурсы для промышленности и, до известной степени, средство стимулирования дальнейшего развития технологии. Знаменательно, что важную помощь в решении проблем переработки отходов и, следовательно, компенсируемому развитию оказали регионы с высокой концентрацией индустрии информационной технологии, такие как Силиконовая долина в Калифорнии[27]. Информационная технология, в отличие от многих более старых форм промышленного производства, не причиняет вреда окружающей среде, является экологически чистой. Чем большую роль она играет в промышленном производстве, тем больше вероятность уменьшения возможного вреда для окружающей среды. Это соображение могло бы иметь значение для развития в будущем более бедных обществ мира. В некоторых областях производства, по крайней мере, благодаря тому, что информационная технология будет играть более значительную роль, появится возможность добиться быстрого экономического развития без загрязнения окружающей среды, к чему приводила более старая промышленная экономика. Даже самые горячие защитники экологической модернизации вынуждены признать, что спасение мировой окружающей среды, вероятно, потребует изменения того неравенства, которое существует в мире сейчас. Как мы уже видели, на индустриальные страны в настоящее время приходится только около одной пятой всего народонаселения мира. Однако они несут ответственность за более чем 75 % выделений в атмосферу, которые загрязняют ее и ускоряют глобальное потепление. Представитель развитого мира в среднем потребляет природные ресурсы со скоростью, в среднем в десять раз превышающей потребление одного человека в менее развитых странах. Сама бедность как таковая, в первую очередь, способствует видам деятельности, которые наносят ущерб окружающей среде в бедных странах. У людей, живущих в трудных экономических условиях, просто нет выбора, и они вынуждены максимально использовать доступные им местные ресурсы. Таким образом, компенсируемое развитие нельзя рассматривать в отрыве от глобального неравенства.Окружающая среда: это социологическая проблема?
Почему проблема окружающей среды должна беспокоить социологов? Разве эта проблема не относится непосредственно к компетенции естественных наук и технологий? Разве воздействие человеческих существ на природу не является воздействием физическим, порожденным современными технологиями промышленного производства? Да, но современная промышленность и технология появились на свет в связи с различными социальными институтами. Истоки нашего воздействия на окружающую среду являются социальными, социальными же являются и многие из его последствий. Спасение окружающей среды на планете Земля требует, следовательно, изменений не только технологических, но и социальных. При том огромном глобальном неравенстве, которое существует сейчас, вряд ли следует ожидать, что бедные страны из развивающегося мира пожертвуют своим собственным экономическим развитием из-за проблем с окружающей средой, возникших главным образом по вине богатых стран. Однако на Земле, по всей видимости, недостаточно ресурсов, чтобы каждый человек на планете имел такие же жизненные стандарты, которые для большинства людей в индустриальных обществах являются само собой разумеющимися. Отсюда следует что, если стремиться к тому, чтобы нищие регионы мира сравнялись с более богатыми регионами, этим последним, вероятно, придется пересмотреть свои упования на постоянный экономический рост. Некоторые авторы, представляющие движение «зеленых», утверждают, что люди в богатых странах должны отказаться от психологии потребительства и вернуться к более простому образу жизни, если мы хотим предотвратить глобальную экологическую катастрофу.Краткое содержание
1. Одной из самых серьезных глобальных проблем, стоящих сейчас перед человечеством, является рост народонаселения. Мальтузианство — это теория, впервые выдвинутая Томасом Мальтусом двести лет назад, согласно которой рост населения имеет тенденцию опережать увеличение ресурсов, необходимых для поддержания населения. Если люди не ограничат частоту половых сношений, чрезмерный рост населения грозит человечеству в будущем нищетой и голодом. 2. Изучение народонаселения называется демографией. Значительная часть работы демографов имеет статистический характер, но демографы также стремятся объяснить, почему модели народонаселения существуют именно в таких формах, а не иных. Важнейшими понятиями при анализе народонаселения является уровень рождаемости, уровень смертности, фертильность и биологическая плодовитость. 3. Изменения в структуре народонаселения обычно анализируются, исходя из процесса демографического перехода. До начала эпохи индустриализации уровень рождаемости и уровень смертности были оба высокими. В начале индустриализации наблюдался рост населения, поскольку уровень смертности сократился, а уровень рождаемости все еще оставался высоким. В конце концов, установилось новое равновесие при низком уровне рождаемости и низком уровне смертности. 4. Предполагается, что население мира вырастет к 2150 г. до более чем 10 млрд чел. По большей части рост населения произойдет в развивающемся мире, где страны будут переживать демографический переход и где будет наблюдаться быстрый рост населения, прежде чем численность населения наконец стабилизируется. В развитых странах население будет расти лишь незначительно. Напротив, будет происходить процесс старения населения, и численность молодых людей в абсолютных цифрах будет уменьшаться. Такие тенденции в народонаселении будут иметь далеко идущие последствия для рынка труда, для систем социального обеспечения, для запасов продуктов питания и воды, для состояния окружающей природы и для условий жизни в городских регионах. 5. Практически все стороны мира природы оказались затронутыми человеческой деятельностью. В настоящее время все общества озабочены проблемами экологии окружающей среды — как лучше всего справиться с трудностями и сдержать ущерб, наносимый окружающей среде воздействием современной индустрии и технологии. Идея «ограничения роста», популярная в 1970-х гг., означала, что индустриальный рост и развитие несовместимы с ограниченным характером земных ресурсов. Теория компенсируемого развития, напротив, утверждает, что рост должен происходить, но так, чтобы ресурсы перерабатывались и снова пускались в обращение, а не доводились до истощения. 6. Растущее во всем мире потребление является отражением экономического роста, но оно также наносит ущерб ресурсам окружающей среды и усугубляет глобальное неравенство. В западных странах в гораздо больших объемах потребляют энергию и сырье, чем в других регионах мира. Однако ущерб, причиняемый окружающей среде растущим потреблением, наиболее отрицательно сказывается на бедных странах. 7. Существует много источников опасности для окружающей среды. Некоторые из них связаны с загрязнением окружающей среды и отходами, выбрасываемыми в атмосферу: загрязнение воздуха, кислотные дожди, загрязнение воды и неперерабатываемые твердые отходы. Другие опасности — это истощение возобновляемых природных ресурсов, таких как вода, земля и леса, сокращение биоразнообразия. 8. Большинство проблем окружающей среды тесно связано с риском, поскольку они являются результатом развития наук и технологий. Глобальное потепление означает постепенное повышение температуры на Земле, вызванное повышением уровня содержания двуокиси углерода и других газов в атмосфере. Потенциальные последствия глобального потепления катастрофичны — это наводнения, распространение болезней, крайние перепады погоды, подъем уровня воды в морях. Глобальное потепление представляет собой потенциальную опасность для всего человечества, но предпринять усилия по его предотвращению трудно, потому что его причины и возможные последствия слишком неопределенны. 9. Генетически модифицированные культуры получаются путем воздействия на генетическую структуру растений. Генетически модифицированные продукты питания вызывают много споров: с одной стороны, они могут принести огромную пользу в решении проблемы голода и недоедания, но с другой стороны, данная технология является новой и может быть сопряжена также с риском для людей и для окружающей природы. Принцип предосторожности означает, что в тех случаях, когда, имеется достаточно оснований предполагать возможные риски, лучше придерживаться существующей практики, чем обгонять события. 10. Экоэффективность характеризует технологии, которые способствуют экономическому росту при минимальном ущербе для окружающей среды. Экологическая модернизация — это, вера в то, что индустриальное развитие и защита окружающей среды не являются несовместимыми.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Почему изучение демографии относится к социологии? 2. Почему рождаемость сохранялась на высоком уровне еще долго после того, как уровень смертности понизился? 3. Следует ли винить в ущербе, наносимом окружающей среде, науку или общество? 4. Может ли отдельный человек что-либо изменить в эпоху глобальных рисков? 5. Справедливо ли навязывать развивающимся странам «ограничения на рост», если иметь в виду, что на Западе к настоящему времени индустриализация уже в основном завершилась? 6. Не оказался ли Мальтус в конечном итоге прав?Дополнительная литература
Bledsoe Caroline, Lerner Susana and Guyer Jane I. Fertility and the Male Life-cycle in the Era of Fertility Decline. Oxford: Oxford University Press, 2000. Brown Paul. Global Warming: Can Civilization Survive? London: Blandford, 1996. Obeid Amani E. El (ed.). Food Security: New Solutions for the Twenty-First Century. Ames: Iowa State University Press, 1999. Hinchliffe Steve and Woodward Kath (eds.). The Natural and the Social: Uncertainty, Risk, Change. N.Y.: Routledge, 2000. McNicoll Geoffrey. Population Weights in the International Order. N.Y.: Population Council, 1999. Miller G. Tyler Jr. Living in the Environment: Principles, Connections and Solutions. London: Books/Cole, 2000. Pearce David and Barbier Edward. Blueprint for a Sustainable Economy. London: Earthscan, 2000.Интернет-линки
Центр по изучению народонаселения при Лондонской школе гигиены и тропической медицины http://www.lshtm.ac.uk/eps/cps Материалы по проблемам окружающей среды Министерства охраны окружающей среды, транспорта и регионов (Соединенное Королевство) www.environment.detr.gov.uk Организации защитников окружающей среды. Директория веб-сайтов www.webdirectory.com Друзья Земли http://www.foe.co.uk Гринпис http://www.greenpeace.org.uk Программа развития (Организация Объединенных Наций) http://www.undp.orgГЛАВА 20 МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В аудитории Центра обучения стюардесс, работающих на авиакомпанию «Дельта», 123 стажера-девушки, готовящиеся стать бортпроводницами, слушали пилота, который объяснял, что улыбка — основное достоинство на этой работе. Арли Хокшилд, профессор социологии в Университете Калифорнии, поехала в Атланту, чтобы посетить эти занятия, и написала о них книгу под названием «Управляемое сердце» (Hochschild 1983). «Девушки, мне нужно, чтобы вы приходили на работу и действительно улыбались, — инструктирует стажеров пилот. — Улыбка — ваше главное достоинство. Давайте-ка использовать ее. Улыбайтесь. По-настоящему улыбайтесь. Изо всех сил». На основании своего исследования бортпроводников Хокшилд смогла добавить еще один параметр в представление о сфере труда, имеющееся у социологов. По мере того как западные экономики все больше базируются на предоставлении услуг, нам нужно понять эмоциональный стиль той работы, которую мы выполняем. Работа бортпроводника похожа на многие из тех, которыми занимаетесь вы или ваши друзья. Подаете ли вы эспрессо или паркуете чью-то машину, многие работы сегодня требуют больше чем просто физического труда. Необходимо, чтобы вы прилагали то, что Хокшилд называет «эмоциональным трудом», — это труд, который требует управления вашими эмоциями для создания публично наблюдаемого (и приемлемого) вида вашего лица и тела. Согласно Хокшилд, компании, на которых вы работаете, притязают не только на ваши физические действия, но и на ваши чувства. Ваша улыбка в рабочее время принадлежит им. Хокшилд провела немало времени на этих обучающих занятиях, поскольку прекрасным способом понять те или иные общественные процессы является участие и наблюдение за ними. Она также проводила интервью, которые давали ей возможность получить больше информации, чем это ей удалось бы при одном лишь наблюдении за занятиями. Исследование Хокшилд пролило свет на определенный аспект жизни, который многие, как им кажется, понимают, но который необходимо было осознать на более глубоком уровне. Она обнаружила, что работники сферы услуг, как и работники физического труда, часто ощущают некую дистанцию между собой и какими-то частями или движениями своего тела в процессе выполняемой работы. К примеру, рука человека, занимающегося физическим трудом, может ощущаться им как часть некоего механизма, лишь случайно являющаяся частью человека, который ею двигает. Точно так же работники сферы услуг часто рассказывали Хокшилд, что улыбка была на их лицах, но не исходила от них самих. Иными словами, эти работники чувствовали некое дистанцирование от своих собственных эмоций. Эта информация интересна, если учесть, что обычно чувства считаются глубокой и личной частью нас самих. Многие другие ученые после выхода в свет «Управляемого сердца» развивали идеи Хокшилд. Хотя Хокшилд проводила свое исследование в одной из наиболее развитых «экономик индустрии услуг» в мире — в Соединенных Штатах — ее выводы применимы по отношению ко многим современным обществам. Число профессий, относящихся к сфере услуг, быстро растет во всех странах мира, что требует все возрастающего числа людей, занимающихся на работе «эмоциональным трудом». В некоторых странах, таких как Гренландия, где не принято улыбаться на публике (см. в «Изменяющиеся культурные ценности и нормы» в разделе «Концепция культуры» главы 2), это оказалось весьма нелегкой задачей. В этих странах от работников сферы услуг иногда требуется участие в специальных «занятиях, обучающих улыбаться», не сильно отличающихся от тех, которые посещали стюардессы авиакомпании «Дельта».Социологические вопросы
Социологическое исследование обязано проникать глубже поверхностного понимания повседневной жизни, таким было исследование Хокшилд. Хорошее исследование должно помогать нам по-новому понять общественную жизнь. Оно должно удивлять нас своими вопросами и своими результатами. Проблемы, которые интересуют социологов, при создании теорий и в практике исследований, часто похожи на вопросы, волнующие остальных людей. Однако результаты подобных исследований часто противоречат нашим обычным здравым представлениям. Каковы обстоятельства жизни меньшинств? Почему в мире, который сегодня намного богаче, чем раньше, существует голод? К каким последствиям приведет увеличение использования информационных технологий? Начинает ли разрушаться семья как институт? Социологи пытаются дать ответы на эти и многие другие вопросы. Результаты их работы ни в коей мере нельзя назвать окончательными. Тем не менее, цель социологической теории и исследований — оторваться от той спекулятивной манеры, которая свойственна обывателю, размышляющему о подобных вещах. Хорошая социологическая работа старается максимально точно ставить вопросы и пытается собрать самые полезные фактические доказательства, прежде чем прийти к выводу. Для достижения этих целей мы должны знать наиболее полезные методы исследования, которые следует применять в ходе конкретных работ, а также как наилучшим образом проанализировать их результаты. Некоторые из вопросов, которые социологи задают в своих исследованиях, в целом являются фактологическими. Например, для многих аспектов преступности и правосудия необходимо прямое и систематическое социологическое расследование. В связи с этим мы могли бы задать следующие вопросы: какие преступления являются наиболее распространенными? Какую часть людей, занимающихся преступной деятельностью, ловит полиция? Сколько человек из них признаются виновными и заключаются в тюрьму? Подобные фактологические вопросы зачастую требуют длительных исследований, прежде чем на них будут получены ответы; к примеру, данные официальной статистики преступности являются сомнительными в том, что касается реального уровня преступности. Исследователи, которые изучали уровни преступности, обнаружили, что только примерно о половине всех серьезных преступлений сообщается в полицию. Фактологическая информация о каком-то одном обществе, конечно же, не всегда расскажет нам о том, является ли тот или иной случай нетипичным или же одним из ряда весьма распространенных фактов. Часто социологи хотят задавать сравнительные вопросы, соотносящие один социальный контекст, наблюдаемый в обществе, с другим, или же противопоставляя примеры, взятые из разных обществ. К примеру, между социальным устройством и законодательством Великобритании и США существует немало отличий. Типичный сравнительный вопрос может быть таким: в чем отличие моделей криминального поведения и деятельности правоохранительных органов этих двух стран? (Некоторые важные отличия между ними действительно существуют.) Занимаясь социологией, мы должны смотреть не только на отношения между уже существующими обществами, но также сравнивать их настоящее и прошлое. В таком случае социологи задают вопросы развития. Чтобы понять характер современного мира, нам следует посмотреть на прежние формы общества и проанализировать основное направление произошедших изменений. Таким образом, мы можем исследовать, к примеру, то, каким образом появились первые тюрьмы, и то, какими они являются сегодня. Когда мы задаем фактические вопросы или занимаемся тем, что у социологов принято называть эмпирическими исследованиями, нас интересует то, как нечто происходит. Однако социология не состоит только лишь из сбора фактов, какими бы важными и интересными они ни были. Мы всегда должны интерпретировать значение фактов, и для этого нам нужно научиться задавать теоретические вопросы. Многие социологи в основном работают с эмпирическими вопросами, но если они не руководствуются в своем исследовании некоторым знанием теории, их работа вряд ли будет результативной. Это относится даже к исследованиям, преследующим строго практические цели (см. табл. 20.1).Таблица 20.1 Порядок задавания вопросов социологом

Эту главу мы начнем с обсуждения вопроса, до какой степени социология может считаться наукой. Множество аспектов социального мира нельзя рассматривать так же, как мир природы, и мы обсудим, почему это действительно так. Затем мы остановимся на некоторых основных элементах, связанных с социологическим исследованием, прежде чем рассмотреть различные методы исследования, используемые социологами в ходе их работы. Мы также проанализируем некоторые реальные исследования, поскольку реальная работа часто отличается от того, как в идеале должно проводиться исследование.
Является ли социология наукой?
Дюркгейм, Маркс и другие основатели социологии считали ее наукой. Но можем ли мы в самом деле подходить к изучению общественной жизни по-научному? Наука — это применение систематических методов эмпирического исследования, анализ данных, теоретическое осмысление и логическая оценка различных точек зрения с целью развития знания по определенной проблеме. Согласно этому определению, социология — это научная деятельность. Она связана с систематическими методами эмпирического исследования, анализом данных и оценкой предлагаемых теорий, опираясь на факты и логическую аргументацию. Однако изучение человеческих существ отличается от наблюдения за событиями физического мира, и социология не должна восприниматься так же непосредственно, как та или иная естественная наука. В отличие от природных объектов, люди — существа думающие, вкладывающие смысл и цель в свои действия. Мы даже не можем точно описать общественную жизнь, пока сначала не уясним для себя концепции человеческого поведения. Например, описать чью-то смерть как самоубийство — значит знать намерения этого человека на тот момент времени. Самоубийство может произойти только в случае, если человек активно помышляет о самоуничтожении. Человек, случайно попавший под машину и погибший, не может считаться совершившим самоубийство. Изучение общества отличается от изучения природы и по другой причине. С помощью своих действий мы постоянно создаем и перестраиваем общества, в которых живем. Общество — это не статичный или неизменный организм; социальные институты постоянно воспроизводятся во времени и пространстве с помощью повторяющихся действий индивидов. Социология занимается изучением человеческих существ, а не инертных объектов. Следовательно, связь между социологией и ее предметом изучения непременно отличается от той, которая существует между физическим миром и учеными, занимающимися естественными науками. Человеческие существа способны понимать и реагировать на социальное знание так, как элементы природы не могут. В этом смысле социология может послужить мощной эмансипирующей силой. Тот факт, что мы не можем изучать людей так же, как объекты природы, является отчасти преимуществом социологии. Исследователи-социологи из того извлекают пользу, что напрямую могут задавать вопросы тем, кого они изучают, т. е. другим людям. В других отношениях социология создает трудности, с которыми не приходится сталкиваться ученым естественных специальностей. Люди, которые знают, что их деятельность часто пристально изучается, не будут вести себя так же, как обычно. Они могут сознательно представлять себя в свете, отличающемся от их реального мировоззрения. Они даже могут «помочь» исследователю, давая такие ответы на вопросы, которые, с их точки зрения, от них ожидают услышать.Процесс исследования
А сейчас давайте посмотрим на этапы, из которых обычно состоит исследовательская работа. Процесс исследования можно разбить на ряд определенных ступеней, ведущих от момента начала исследования к тому времени, когда его результаты будут опубликованы или доступны в письменной форме.Проблема исследования
Любое изучение начинается с некой проблемы, которую нужно исследовать. Иногда это действительно относится к области фактического незнания: мы просто хотим расширить то, что нам известно об определенных институтах, социальных процессах или культурах. Исследователь может начать искать ответы, допустим, на такие вопросы: какой процент населения имеет глубокие религиозные убеждения? Действительно ли люди сегодня недовольны «большим правительством»? Насколько экономическое положение женщин отстает от мужского? Однако лучшие социологические исследования начинаются с проблем, одновременно являющихся головоломками. Головоломка — это не просто отсутствие некой информации, но пробел в нашем понимании. Умение провести нужное социологическое исследование во многом зависит от способности правильно определять головоломки. Вместо того чтобы просто отвечать на вопрос «Что здесь происходит?», исследование, являющееся поиском решения головоломки, старается помочь нам понять, почему происходят те или иные события. Таким образом, мы можем спросить: почему меняются модели религиозных убеждений? Как объяснить происходящие в последнее время изменения пропорций населения, голосующего на выборах? Почему так мало женщин занимают должности высшего ранга? Ни одну из частей работы нельзя считать отделенной от всего процесса. Проблемы исследования появляются как часть некоего процесса; одно исследование может с легкостью привести к другому, поскольку оно поднимает вопросы, которые ученый не рассматривал прежде. Социолог может обнаружить те или иные головоломки, читая работы других исследователей в книгах или профессиональных журналах, или узнав об определенных тенденциях в обществе. Например, за последние несколько лет увеличилось число программ, которые выступают за лечение психически больных членов общины в домашних условиях вместо заключения последних в психиатрические больницы. Социологи могут задать следующие вопросы: что дало толчок подобному изменению отношения к психически больным? Каковы возможные последствия и для самих пациентов, и для остальных членов общины?Рассматривая материалы по данной проблеме
После того как проблема установлена, следующим шагом исследовательского процесса обычно является рассмотрение имеющихся материалов по данному вопросу; есть вероятность, что эта проблема уже была успешно решена в одном из предыдущих исследований. Если это не так, ученый должен будет просмотреть все работы по данному вопросу, чтобы понять, насколько полезными таковые являются. Заметили ли предыдущие ученые ту же самую головоломку? Как они попытались решить ее? Какие аспекты проблемы остались не освещены в их работах? Отталкиваясь от идей других исследователей, ученому легче прояснить ряд проблем, которые могут возникнуть, а также методов, которые можно было бы использовать при исследовании.Уточнение проблемы
Третья ступень связана с выработкой четкой формулировки проблемы исследования. Если ряд важных работ на эту тему уже существует, ученый может вернуться из библиотеки, хорошо представляя себе, как подойти к проблеме. Догадки относительно характера проблемы на этом этапе иногда могут привести к определенной гипотезе — научному предположению о том, в чем заключается проблема. Чтобы исследование было эффективным, гипотеза должна быть сформулирована таким образом, чтобы собранный фактический материал либо подтверждал, либо опровергал ее.Разработка плана исследования
После этого ученый должен решить, каким образом он будет собирать материал для своего исследования. Существует целый ряд исследовательских методов, и то, какой из них выбирается, зависит от общих целей работы, а также от аспектов того поведения, которое будет изучаться. Для некоторых целей может подойти опрос (в случае которого обычно используются анкеты). При иных обстоятельствах могут быть уместны интервью или исследование по данным наблюдения, как то, которое провела Арли Хокшилд.Проведение исследования
В период проведения исследования могут возникнуть непредвиденные практические трудности. Могут оказаться недостижимыми некоторые из тех людей, которым планировали посылать анкеты или у которых ученый хотел бы взять интервью. Коммерческая компания или правительственное учреждение может не давать тому или иному человеку разрешения на выполнение планируемой работы. К примеру, если ученый изучает то, как коммерческие корпорации соблюдают программы равных возможностей при приеме женщин на работу, то компании, не соблюдающие эти программы, могут не пожелать участвовать в исследовании. Результаты исследования в итоге могут оказаться не вполне объективными.Интерпретация результатов
Итак, материал для анализа уже собран, однако проблемы ученого не заканчиваются — они могут только начинаться! Понять смысл, стоящий за собранными данными, а также связать их с проблемой исследования часто бывает нелегко. Хотя можно получить четкие ответы на первоначальные вопросы, многие исследования в итоге оказываются не полностью убедительными.Отчет о результатах исследования
Отчет об исследовании, обычно публикуемый в виде журнальной статьи или книги, — это сообщение о характере исследования и защита сделанных в нем выводов. В случае Хокшилд таким отчетом была книга «Управляемое сердце». Это итоговая стадия только для отдельного исследовательского проекта. Большинство отчетов указывает на вопросы, остающиеся без ответа, и предполагает дальнейшие исследования, которые могут быть выполнены в будущем. Все отдельные исследования являются частью непрерывного исследовательского процесса, происходящего в рамках социологии.Реальность вмешивается!
Вышеназванная очередность этапов — это упрощенная версия того, что действительно происходит при реальном выполнении исследовательского проекта. В реальном социологическом исследовании эти стадии редко следуют друг за другом столь четко и практически всегда приходится несколько отклоняться от намеченной «идеальной» схемы. Разница примерно напоминает ту, которая существует между рецептом в кулинарной книге и реальным процессом приготовления блюда. Опытные шеф-повара вообще часто действуют не по рецептам, при этом готовя лучше, чем те, кто ими пользуется. Следование четким схемам может слишком сковывать; наиболее выдающиеся работы по социологии не уложились бы в эти строгие рамки, хотя некоторые из названных этапов в них присутствуют.Понимание причинно-следственных отношений
Одна из основных проблем, с которыми имеет дело методология исследования, — это анализ причинно-следственных отношений. Причинностная связь между двумя событиями или ситуациями — это некая связь, при которой одно событие порождает другое. Если ручной тормоз отпустить, когда машина направляется вниз, она покатится по наклонной плоскости, увеличивая на ходу скорость. Причиной этого стало именно отпускание тормоза; это легко понять, если обратиться к соответствующим законам физики. Как и естественные науки, социология исходит из предположения, что все события имеют некие причины. Общественная жизнь — это не произвольный набор неких происшествий, происходящих случайно. Одна из основных задач социологического исследования в сочетании с теоретическим мышлением — это определение причин и их следствий.Причинность и корреляция
Причинность не может быть напрямую выведена из корреляции. Корреляция означает наличие систематической связи между двумя рядами событий, или переменными. Переменная — это любая характеристика, различающая отдельных людей или группы лиц. Возраст, разница доходов, уровней преступности и социальных классов являются одними из многочисленных переменных, изучаемых социологами. Может показаться, что в случае, если два каких-то события тесно связаны друг с другом, одно из них должно являться причиной второго; зачастую это не так. Существует множество корреляций, не имеющих причинностных отношений между переменными. Например, за период после Второй мировой войны наблюдается прямая корреляция между падением популярности курения трубок и уменьшением числа людей, регулярно посещающих кинотеатры. Очевидно, что одно изменение не является причиной второго, и нам было бы сложно найти даже отдаленную причинностную связь между ними. Однако существует множество случаев, когда не столь очевидно, подразумевает ли некая замеченная корреляция наличие причинностных отношений. Подобные корреляции являются ловушками для слишком доверчивых и с легкостью приводят к сомнительным или ложным выводам. В своей классической работе 1897 г. «Самоубийство» Эмиль Дюркгейм (см. главу 1 «Что такое социология?») обнаружил корреляцию между уровнем самоубийств и временами года (Durkheim 1952). В изученных Дюркгеймом обществах уровень самоубийств постепенно повышается в период с января по примерно июнь или июль. С этого момента и далее до конца года он понижается. Можно предположить, что это указывает на то, что температура и климатические изменения имеют причинностную связь со склонностью индивидов к самоубийству. Возможно, по мере повышения температуры люди становятся более импульсивными и вспыльчивыми? Однако причинностная связь в этом случае, вероятно, вовсе не имеет прямого отношения к температуре и климату. Это представление является ложной корреляцией — ассоциацией между двумя переменными, которая кажется верной, но которая на деле вызвана неким другим фактором или несколькими факторами. Далее, становится понятно, что большинство людей ведут более активную социальную жизнь весной и летом, нежели зимой. Индивиды, которые одиноки или несчастливы, обычно испытывают обострение этих ощущений по мере того, как уровень активности других людей растет. Поэтому они, скорее всего, будут испытывать большую склонность к самоубийству весной или летом, нежели осенью или зимой, когда темп социальной деятельности замедляется.Причинностные механизмы
Выработка причинностных связей, предполагаемых в корреляции, часто является сложным процессом. Например, существует сильная корреляция между уровнем образования и профессиональным успехом в современных обществах. Чем лучшие оценки тот или иной человек получает в школе, тем более высокооплачиваемую работу он имеет шанс получить. Как объяснить эту корреляцию? Исследования показывают, что дело не в самом процессе школьного обучения; на уровень школьных достижений в гораздо большей степени влияет семья, из которой происходит тот или иной ребенок. Дети из более благополучных семей, родители которых активно интересуются их учебой, и где имеется много книг, с большей вероятностью будут хорошо учиться, чем те, кто происходит из семей, где вышеперечисленные элементы отсутствуют. Причинностные механизмы в данном случае — отношение родителей к детям, а также наличие в доме необходимых для обучения вещей. Причинностные связи в социологии не следует понимать слишком механически. Отношения людей к чему-либо, а также субъективные причины их действий являются причинностными факторами отношения между переменными в социальной жизни.Проверки
Оценивая причину или ряд причин, объясняющих ту или иную корреляцию, нам необходимо отличать независимые переменные от зависимых. Независимая переменная — это та переменная, которая оказывает некое воздействие на другую переменную. Переменная, которая подвергается воздействию, является зависимой. В только что приведенном примере учебные достижения являются независимой переменной, а должностной оклад — зависимой. Различие относится к направлению причинностной связи, которую мы рассматриваем. Тот же самый фактор может являться независимой переменной в одном исследовании и зависимой переменной — в другом. Все зависит от того, какие причинностные процессы подвергаются анализу. Если бы мы рассматривали влияние различий в должностных окладах на образ жизни, должностной оклад стал бы независимой переменной, а не зависимой. Чтобы понять, является ли корреляция между переменными причинностной связью, мы используем контроль переменных, что означает, что мы оставляем какие-то переменные неизменными, чтобы посмотреть воздействие остальных. Это позволяет судить о различных объяснениях подмеченных нами корреляций, отделяя причинностные отношения от не-причинностных. Например, ученые, изучающие детское развитие, утверждали, что существует причинностная связь между лишением матери в раннем детстве и серьезными проблемами личности во взрослом возрасте. Как мы могли бы проверить, действительно ли существует причинностное отношение между недоступностью матери и серьезными личностными проблемами в дальнейшем? Мы сделали бы это с помощью попытки проверить, или «отвести», другие возможные влияния, которые могли бы объяснить данную корреляцию. Одним примером лишения матери является случай, когда ребенок ложится в больницу на продолжительное время, в течение которого он изолирован от своих родителей. Действительно ли важна в данном случае привязанность именно к матери? Возможно, если ребенок получает любовь и внимание от других людей в раннем детстве, он или она смогут впоследствии стать нормальной стабильной личностью? Чтобы исследовать возможные причинностные связи, нам нужно сравнить случаи, при которых дети были лишены регулярной заботы, исходящей от кого бы то ни было, с теми случаями, когда дети лишались матерей, но получали любовь и заботу от кого-то еще. Если бы у первой группы развивались серьезные проблемы личности, а у второй группы нет, мы бы предположили, что в раннем детстве важна регулярная забота, исходящая от кого-то, неважно, является ли этот человек матерью ребенка или нет. (В самом деле, дети, по-видимому, действительно развиваются нормально, пока у них есть стабильные добрые отношения с кем-то, кто их любит и о них заботится, — и это не обязательно должна быть их мать.)Устанавливая причины
Для объяснения любой корреляции может быть приведено немало возможных причин. Как мы можем быть уверены, что не забыли ни одной? Ответ — никак. Мы никогда не смогли бы ни выполнить, ни проинтерпретировать результаты того или иного социологического исследования, если бы нам нужно было проверять каждое возможное воздействие каждого причинностного фактора, который мы сочли бы потенциально важным. Установление причинностных отношений обычно делается с опорой на предыдущие работы в данной области. Если у нас заранее не существует некой рациональной идеи о причинностных механизмах, предполагаемых в той или иной корреляции, нам, вероятно, будет очень трудно найти, какие действительно причинностные отношения существуют в данном случае. Мы не знали бы, что проверять. Хорошим примером того, насколько сложно быть уверенным в причинностных отношениях, стоящих за той или иной корреляцией, является длительное время, ушедшее на изучение курения и рака легких. Исследования стабильно демонстрировали сильную корреляцию между этими явлениями. Курильщики имеют более высокий шанс заболеть раком легких, чем некурящие, а заядлые курильщики — чем те, кто курит немного. Эту корреляцию также можно выразить в обратном порядке. Большая часть тех, кто болеет раком легких, — курильщики или курили длительное время в прошлом. Было так много исследований, подтверждающих данные корреляции, что факт наличия причинностной связи между ними является общепринятым, хотя точные причинностные механизмы пока в целом остаются неизвестными. Сколько бы ни исследовались корреляции в рамках изучения какого-либо вопроса, всегда остается некая доля сомнения по поводу наличия причинностных отношений. Другие интерпретации этой корреляции остаются возможными. Например, утверждалось, что люди, которые предрасположены к раку легких, также предрасположены к курению. Данный взгляд подразумевает, что рак легких не вызывается курением, а скорее, существует некая внутренняя биологическая расположенность к курению и раку.Методы исследования
Теперь давайте перейдем к рассмотрению различных исследовательских методов, которые социологи обычно применяют в работе (см. табл. 20.2).Полевая работа
Полевая работа — это непосредственное изучение людей или групп в течение определенного срока времени, с применением включенного наблюдения или интервью для изучения социального поведения. Полевые исследования проводятся в поиске значений, стоящих за социальными действиями; они проводятся при непосредственном участии самого ученого во взаимодействиях, являющихся социальной реальностью изучаемой им группы. Социолог, проводящий полевое исследование, может работать или жить с той или иной группой людей в течение месяцев или даже лет. Часто исследователь принимает активное участие в их повседневных делах, наблюдая за происходящими событиями и спрашивая о мнениях или возможных объяснениях, стоящих за теми или иными решениями, действиями или поведением. Полевой исследователь не может просто присутствовать в той или иной общине. Он или она обязаны объяснить и оправдать свое присутствие перед членами общины. Для получения каких-либо значимых результатов ученый должен заручиться содействием общины и поддерживать его в течение определенного времени. Процесс зарабатывания доверия может быть долгим и трудным, но по прошествии некоего периода времени полевым исследователям часто удается построить доверительные отношения с членами группы. Иногда ученый практически «становится» членом изучаемой общины; в других случаях он или она могут быть приняты как ученые, но все равно восприниматься как чужаки. В течение долгого времени в исследованиях, основанных на включенном наблюдении, было не принято давать информацию об угрозах или проблемах, которые приходилось преодолевать, но с недавних пор опубликованные воспоминания и дневники исследователей стали более откровенными в этих вопросах. Зачастую приходится преодолевать чувство одиночества — нелегко вписаться в некий социальный контекст или общину, к которым ты на самом деле не принадлежишь. Ученый может постоянно расстраиваться из-за того, что члены группы не рассказывают о себе откровенно; в некоторых контекстах прямые вопросы приветствуются, а в других ответом на них будет мертвая тишина. Некоторые виды полевых работ могут быть даже физически опасными; например, ученый, изучающий банду преступников, может быть воспринят как полицейский осведомитель или же невольно втянут в конфликты с бандами-соперниками. В традиционных полевых исследованиях отчеты представлялись практически без какой-либо информации о наблюдателе. Это было так, поскольку считалось, что исследователь мог представить объективные картины изучаемых предметов. Даже работа Хокшилд, написанная в начале 1980-х, дает нам мало информации об авторе или о характере ее отношений с изучаемыми ею людьми. В последнее время среди этнографов появилась тенденция больше рассказывать о себе и о характере своих отношений с изучаемыми лицами. Например, иногда это может быть сделано из соображений возможных расовых, классовых или гендерных влияний на работу, или того, насколько различия между наблюдающим и наблюдаемым нарушают диалог между ними. Преимущества и ограничения полевых исследований В случае успеха полевая работа дает нам более богатую информацию о социальной жизни, чем большинстводругих исследовательских методов. Получив представление о том, как обстоит дело в той или иной группе «изнутри», мы с большей вероятностью сможем понять, почему ее члены действуют именно так, а не иначе. Мы также можем больше узнать о тех социальных процессах, которые пересекаются с ситуацией, рассматриваемой в исследовании. Полевую работу часто называют типом качественного исследования, поскольку она в большей степени касается субъективного восприятия, а не цифровых данных. Полевая работа также дает ученому возможность более гибких действий по сравнению с другими исследовательскими методами. Ученый может адаптироваться к новым или неожиданным обстоятельствам, а также рассматривать любые появившиеся в ходе работы концепции. Но полевая работа также имеет ряд серьезных ограничений. Таким способом можно изучать лишь весьма небольшие группы или общины. Многое зависит от умения исследователя завоевать доверие изучаемых лиц. Без этой способности работа, скорее всего, даже не сможет быть начата. Возможно и обратное. Ученый может начать идентифицировать себя с группой в такой степени, что он станет чересчур «своим» и утратит взгляд постороннего наблюдателя.Опросы
Интерпретация полевых работ, а также других форм качественного исследования обычно связана с проблемами обобщения. Поскольку работа касается лишь небольшого количества людей, мы не можем быть уверены, что информация, полученная в одном случае, применима к другим контекстам, или даже в том, что другие исследователи пришли бы к тем же результатам при изучении той же группы. Обычно таких сложностей не возникает при исследовании с применением опроса — метода более количественного по своей природе. Опросы направлены на сбор данных, которые, для выяснения моделей и закономерностей чего-либо, что можно проанализировать с помощью статистики. Если инструменты исследования спланированы верно, найденные с помощью опроса корреляции можно обобщить по отношению к более широкой аудитории. Полевые исследования лучше всего подходят для глубокого анализа небольших сегментов социальной жизни; исследования с применением опросов обычно дают менее подробную информацию, но ее, как правило, можно применять более широко. Анкеты При опросах в качестве основного способа сбора информации чаще всего применяются анкеты. Анкетирование может быть проведено лично самим ученым, или же бланки анкет посылаются респондентам по обычной или электронной почте (так называемые «анкеты, заполняемые опрашиваемыми лицами»). Группу опрашиваемых или изучаемых лиц социологи называют совокупностью. При некоторых опросах совокупность может насчитывать до нескольких тысяч людей. При опросах используются два вида анкет. Некоторые содержат набор вопросов закрытого типа, на которые можно дать лишь фиксированный ряд ответов, таких как «Да / Нет / Не знаю» или «Очень вероятно / Вероятно / Маловероятно / Очень маловероятно». Преимущество подобных опросов состоит в том, что ответы на них легко сопоставить и подсчитать, поскольку используемых категорий немного. С другой стороны, поскольку они не дают возможности выразить нюансы той или иной точки зрения и лишены вербальной выразительности, предоставляемая ими информация, возможно, будет если и не обманчивой, то ограниченной по своему охвату. Другой тип анкет является открытым. Респонденты имеют больше возможностей собственными словами выразить свою точку зрения; они не ограничены выбором среди фиксированных вариантов ответа. Открытые анкеты обычно дают более подробную информацию, чем закрытые. Ученый может задавать встречные вопросы на тот или иной ответ, чтобы узнать мнение респондента более подробно. С другой стороны, отсутствие стандартизации означает, что ответы, возможно, будет труднее статистически сопоставлять. Вопросы анкеты обычно организованы таким образом, чтобы команда интервьюеров могла задавать вопросы и записывать ответы в одном и том же заранее предусмотренном порядке. Все пункты должны быть понятны и интервьюеру, и интервьюируемым. При проведении крупных общенациональных опросов, регулярно устраиваемых государственными учреждениями и исследовательскими организациями, интервью проводятся в большей или меньшей степени синхронно по всей стране. Те, кто проводит интервью, и те, кто анализирует их результаты, не могли бы выполнять свою работу эффективно, если бы им приходилось постоянно консультироваться друг с другом относительно каких-либо неясных моментов в вопросах или ответах. При анкетировании также должны учитываться характеристики респондентов. Поймут ли они, что ученый имеет в виду, когда задает определенный вопрос? Достаточно ли у них информации, чтобы дать полезный ответ? Ответят ли они вообще? Условия анкеты могут быть незнакомы респондентам. Например, вопрос «Каково ваше семейное положение?» может некоторых людей смутить. Было бы более правильным спросить: «Являетесь ли вы одиноким, женатым (замужем) или разведенным?». Большинству опросов предшествуют предварительные пилотные исследования, проводимые с целью узнать о возможных проблемах, не учтенных ученым. Пилотное исследование — это пробный прогон, при котором анкета заполняется лишь небольшим числом людей. Все возникающие трудности могут быть предусмотрены и устранены до того, как начнется основной этап опроса.────────────────────────────┐ ■ «Выбор народа?» Одним из наиболее известных примеров исследования с помощью опросов была работа под названием «Выбор народа?», выполненная Полом Лазарсфельдом и его коллегами около полувека назад (Lazarsfeld et al. 1948). Эта работа, в которой изучались намерения избирателей — жителей графства Эри, штат Огайо, — во время президентской кампании 1940 г., впервые ввела ряд основных приемов исследования с помощью опросов, используемых по сей день. Чтобы пойти в исследовании несколько дальше, чем получилось бы при использовании одной анкеты, ученые брали у каждого члена выборки избирателей несколько интервью в разные дни. Целью было проследить и понять причины изменений позиции избирателей. Исследование основывалось на ряде определенных гипотез. Согласно одной из них, отношения и события, близкие избирателям из той или иной общины, больше влияют на избирательские предпочтения жителей, чем мировые события, и результаты в целом подтвердили это. Для анализа политических воззрений ученые разработали сложные приемы оценки, но их работа также внесла важный вклад в теорию. Среди концепций, введению которых они способствовали, были «лидер общественного мнения» и «двухступенчатый коммуникационный поток». Работа показала, что некоторые индивиды — лидеры общественного мнения — формируют политические позиции своего окружения. Взгляды людей формируются не прямо, а в ходе двухступенчатого процесса. Первой ступенью является реакция лидеров общественного мнения на политические события, второй — воздействие этих лидеров на других — родственников, друзей и коллег. Взгляды, выражаемые лидерами общественного мнения, отфильтрованные таким способом через личные взаимоотношения, влияют на отношение людей к современным политическим проблемам. ────────────────────────────┘
Выборка Часто социологам интересны характеристики большого числа людей — например, политические взгляды населения Великобритании в целом. Изучить непосредственно всех невозможно, поэтому в таких случаях в исследовательских работах останавливаются на выборке — небольшой доле от общего числа. Обычно можно быть уверенным, что результаты, полученные от части населения, при условии, что она выбрана правильно, можно будет обобщить по отношению ко всему населению. Например, опрос двух-трех тысяч избирателей может быть очень точным отражением позиций всего населения и его намерений относительно выборов. Однако чтобы получить точные результаты, выборка должна быть репрезентативной: группа изучаемых лиц должна быть типичной для всего населения. Определение выборки сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, и статистики разработали правила для определения верного размера и характера выборок. Особенно важной процедурой при определении репрезентативности является случайный отбор, при котором выборка составляется таким образом, что каждый представитель общей совокупности населения имеет одинаковую степень вероятности попасть в нее. Наиболее сложный способ получения случайного отбора — приписать каждому члену совокупности некий номер, а затем с помощью компьютера создать случайный список, из которого и составляется выборка, например, останавливаться на каждом десятом человеке из этой случайной серии. Преимущества и недостатки опросов Опросы по ряду причин широко используются при социологических исследованиях. Ответы на анкеты легче подсчитать и проанализировать, нежели те, которые были собраны с помощью какого-то другого метода; можно изучить большое число людей; при наличии достаточного количества материальных средств ученые могут нанять агентство, специализирующееся на опросах, для сбора ответов. Для этого типа исследования образцом является научный метод, так как опросы дают ученым статистическую оценку изучаемого материала. Однако многие социологи относятся к опросам как к методу критически. Они утверждают, что сомнительным результатам можно придать видимость точности, учитывая относительно ограниченный характер большинства ответов, получаемых при опросе. Иногда высок уровень неполучения данных, особенно в тех случаях, когда анкеты рассылаются и возвращаются по почте. Нередки случаи опубликования исследований, основанных на результатах, полученных от чуть более чем половины членов выборки, хотя обычно делается попытка установить контакт с не давшими ответа или заменить их другими людьми. О тех, кто предпочитает не отвечать на опросы или отказывается давать интервью, информация практически отсутствует.
Эксперименты
Эксперимент можно определить как попытку протестировать некую гипотезу при строго контролируемых условиях, установленных ученым. Эксперименты часто используются в естественных науках, поскольку они дают важные преимущества по сравнению с другими процедурами исследования. В ситуации эксперимента ученый непосредственно контролирует изучаемые условия. По сравнению с естественными науками, сфера, поддающаяся экспериментированию в социологии, является довольно узкой. В лабораторию можно привести лишь небольшую группу людей, и при таких экспериментах люди знают, что их изучают, и могут вести себя неестественно. Подобные изменения в поведении субъекта называются эффектом Готорна. В 1930-е гг., ученые, проводившие работу на тему продуктивности труда в Вестерн Электрик Компани в Готорне, находящемся неподалеку от Чикаго, к своему удивлению, обнаружили, что продуктивность рабочих продолжала расти независимо от поставленных условий эксперимента (уровня освещенности, интервалов между перерывами, размеров рабочей команды и т.д.). Работники знали, что за ними ведется тщательное наблюдение, и поэтому ускорили свой естественный темп работы. Тем не менее, экспериментальные методы иногда могут с пользой применяться в социологии. Примером является оригинальный эксперимент, проведенный Филиппом Зимбардо, который организовал псевдотюрьму, где некоторые студенты выполняли роль охранников, а другая часть волонтеров были заключенными (Zimbardo 1972). Целью Зимбардо было увидеть, насколько исполнение тех или иных ролей приведет к изменению взглядов и поведения студентов. Результаты шокировали ученых. Студенты, игравшие роль охранников, быстро усвоили авторитарную манеру; они демонстрировали неподдельную враждебность по отношению к «заключенным», отдавая последним приказы, оскорбляя и запугивая их. «Заключенные», наоборот, демонстрировали смесь апатии и непокорности, часто подмечаемые среди настоящих тюремных заключенных. Эти последствия были столь явными и уровень напряженности настолько высоким, что эксперимент пришлось прервать на раннем этапе. Результаты, тем не менее, были значительными. Зимбардо пришел к заключению, что на поведение в тюрьмах в большей степени влияет характер тюремной ситуации как таковой, а не индивидуальные качества людей, оказавшихся в ней.Жизнеописания
В отличие от экспериментов жизнеописания имеют отношение исключительно к социологии и другим общественным наукам; им нет места в естественных науках. Жизнеописания состоят из биографического материала, собранного об отдельных лицах, как правило, в виде воспоминаний самих этих людей. Другие процедуры исследования обычно не дают такого количества информации о постепенном развитии взглядов и позиций, как метод жизнеописания. Однако биографические исследования редко полагаются только на воспоминания самих людей. Обычно для расширения и проверки достоверности информации, предоставляемой лицами, используются письма, отчеты того времени и газетные описания. Взгляды социологов относительно ценности жизнеописаний различаются: некоторые считают, что они слишком ненадежны для того, чтобы давать полезную информацию, другие полагают, что они являются несравненным источником искренне поведанных достоверных сведений. Жизнеописания успешно применялись в ряде наиболее влиятельных работ. Одним из знаменитых ранних исследований стал пятитомный труд У. И. Томаса и Флориана Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке», впервые опубликованный между 1918 и 1920 гг. (Thomas and Znaniecki 1966). Томас и Знанецкий смогли дать более детальный и тонкий рассказ о миграции как жизненном опыте, чем мог бы получиться без собранных ими интервью, писем и газетных статей.Исторический анализ
При социологическом исследовании часто важна историческая перспектива. Ведь, чтобы осознать собранный по определенному вопросу материал, нам часто требуется заглянуть в прошлое. Социологи нередко хотят непосредственно изучать прошлые события. Некоторые периоды истории можно изучать напрямую, если еще остались свидетели того периода, как, например, в случае холокоста, когда множество евреев и представителей других национальностей погибли в концентрационных лагерях нацистов во время Второй мировой войны. Исследования устной истории подразумевают взятие у людей интервью о событиях, свидетелями которых они стали когда-то ранее в своей жизни. Непосредственные исследования подобного рода могут углубляться в прошлое лишь на период одной человеческой жизни, но растет также и важность сохранившихся старых записей как социологических и исторических источников. В других случаях для исторических исследований, касающихся более раннего периода, социологи полагаются на использование документов и письменных свидетельств, часто хранящихся в специальных коллекциях в библиотеках или в национальных архивах. Интересным примером документального исследования в некоем историческом контексте является работа социолога Энтони Эшворта о позиционной войне, происходившей во время Первой мировой войны (Ashworth 1980). Эшворта интересовал анализ жизни мужчин, находившихся неделями под постоянным обстрелом, в тесноте и непосредственной близости друг от друга. Он использовал различные документальные источники: официальные исторические очерки об этой войне, включая те, что были написаны о различных военных дивизиях и батальонах, официальные публикации того времени, заметки и другие записи, которые неформально вели некоторые солдаты, а также рассказы людей о военных событиях. Пользуясь столь разнообразным материалом, Эшворт смог дать яркое и подробное описание жизни в окопах. Он обнаружил, что у большинства солдат формировались собственные идеи относительно частоты предполагаемого ими вступления в битву с противником, они часто успешно игнорировали приказы своих офицеров. Например, в день Рождества и солдаты-немцы, и союзники приостановили военные действия, а однажды между двумя сторонами даже прошел неформальный футбольный матч.Совмещая сравнительные и исторические исследования
Работа Эшворта касалась относительно короткого временного отрезка. Примером исследования, посвященного значительно более долгому периоду, при котором также применялся сравнительный анализ в историческом контексте, является работа Фиды Скокпол «Государства и социальные революции» (Skocpol 1979) — один из наиболее известных трудов на тему общественных изменений. Скокпол поставила перед собой нелегкую задачу: вывести теорию происхождения и характера революции, основанную на подробном эмпирическом исследовании. Она рассматривала последствия революции в трех различных исторических контекстах: революцию 1789 г. во Франции, революцию 1917 г. в России (которая привела к власти коммунистов и после которой был создан Советский Союз, распавшийся в 1991 г.) и революцию 1949 г. в Китае (создавшую коммунистический Китай). Социологи, которые сочетают сравнительный метод исследования с историческим, занимаются так называемым вторичным анализом. Они рассматривают различные документальные источники, такие как официальные записи и исторические свидетельства, чтобы найти сходства и различия рассматриваемых случаев. Используя подобный подход, Скокпол смогла разработать мощную интерпретацию революционных изменений, в которой делался упор на лежащие в основе условия общественной структуры. Она показала, что революции в основном возникают непреднамеренно. До русской революции, к примеру, различные политические группировки пытались свергнуть существующий политический режим, но ни одна из них, включая большевиков, которые в итоге пришли к власти, не ожидала произошедшей революции. Серия столкновений и конфликтов привела к началу процесса гораздо более радикальной общественной трансформации, чем кто-либо мог предположить. Изучая социальные изменения: глобализация Когда мы изучаем крупномасштабные процессы общественных изменений, обычно необходима комбинация сравнительной перспективы с исторической. Возьмем, например, изучение глобализации — одну из наиболее важных тем, рассматриваемых в данной книге. Изменения, связанные с глобализацией, принадлежат длительному временному периоду и касаются многих миллионов людей. Отдельные аспекты глобализации можно изучать с помощью исследовательских методов, о которых мы говорили выше. Включенное наблюдение, опросы и материал жизнеописаний, каждый метод по-своему, позволяют нам исследовать влияние роста глобализации на определенных людей в особых социальных контекстах. Например, нас может интересовать, как люди адаптируются к глобальному рынку, при котором в большей степени, чем раньше, распространен переход с одной работы на другую. Однако нам нужно было бы провести гораздо более широкое историческое и сравнительное исследование, чтобы нарисовать общую картину процессов глобализации. Как и все большие процессы изменений, глобализация появилась благодаря смешению намеренных и непреднамеренных обстоятельств. Так, например, как объяснялось в главе 15 («Средства массовой информации и коммуникация»), Интернет был начат как проект, организованный Министерством обороны США, где он должен был облегчить связь между его различными сегментами. Последующее влияние Интернета, однако, оказалось намного более значительным, чем кто-либо изначально желал или предвидел.Исследования в реальности: проблемы, ловушки, дилеммы
Любой, кто проводил оригинальное социологическое исследование, может подтвердить, что «в реальности» исследования очень отличаются от методов, описанных в учебнике! Начиная работу, ученый может обнаружить, что первоначально отобранные инструменты исследования не дают должного эффекта для рассматриваемой темы. В других случаях могут возникнуть трудности при получении доступа к определенной группе населения или при составлении работающей анкеты для опроса. Социологическое исследование требует определенной гибкости; нередко в одной работе используется комбинация нескольких методов, каждый из которых дополняет или проверяет другие в процессе, известном как триангуляция. Мы можем увидеть сложности, связанные с началом и выполнением реального социологического исследования, еще раз обратившись к работе Митчела Дюнайера о социологии городской жизни — его исследованию уличных торговцев и попрошаек в Нью-Йорке (Duneier 1999).Исследуя вопросы расы и бедности в городских пространствах
В 1950-е гг. Гринвич-Вилледж стал предметом классического социологического исследования Джейн Джейкобс о характере городской жизни (Jacobs 1961). Район стал естественной лабораторией для понимания важной роли, которую играют повседневные взаимодействия на улице в поддержании жизни общины и в создании ситуации, при которой возможно близкое соседство незнакомых друг другу людей. Четыре десятилетия спустя Митчел Дюнайер захотел узнать, насколько изменился характер уличной жизни в Гринвич-Вилледж со времен работы Джейкобс. Район по-прежнему оставался богемным, как это было и при Джейкобс, но в нем появился ряд новых обитателей. Группа бедных черных, в основном бездомных мужчин, стала зарабатывать на жизнь на улицах этого района. Как мы увидели, некоторые работали уличными торговцами, продавая на тротуарах книги и журналы; другие продавали найденные на помойках района вещи. Были среди них и попрошайки, выпрашивающие мелочь у прохожих. Как социолог «изучает» голос уличной жизни? Дюнайер начал исследования с установления персонального контакта с одним из продавцов книг, Хакимом Хасаном. Дюнайер был постоянным покупателем у Хакима и заметил, что люди часто собирались вокруг его столика, чтобы поговорить о книгах, политике и философии. Хаким являлся примером «общественного лица» — атрибутом уличной жизни, находящимся в постоянном контакте с самыми разными людьми. Дюнайер полагал, что роль Хакима на улице и его несколько необычная биография (он оставил корпоративный мир ради того, чтобы продавать книги на улице) могли дать важный доступ к пониманию уличной жизни Гринвич-Вилледж.Таблица 20.2 Четыре основных метода, используемые в социологических исследованиях

Хотя Хаким сомневался в том, стоит ли становиться субъектом исследования, в итоге он согласился работать вместе с Дюнайером и разрешил ему написать о его жизни и работе. Дюнайер провел полевую работу на месте: он проводил время, наблюдая за Хакимом, стоящим за своим столиком, слушая разговоры между ним и его клиентами и просто между покупателями, становясь свидетелем того, как наличие книг могло привести к диалогу и спорам на улицах. После двух лет наблюдения Дюнайер написал свою работу о повседневной жизни и действиях уличного торговца и людей, приходивших к нему обсудить книги. Меняя фокус исследования Рукопись была принята к печати, но Дюнайер испытывал недовольство. Он попросил Хакима дать отзыв на свою работу — этот процесс иногда называется «ратификацией респондента», и один из комментариев уличного торговца заставил его задуматься. Хаким считал, что в работе уделяется слишком много внимания ему и его столику. Ему казалось, что фокус исследования Дюнайера был слишком узким, чтобы запечатлеть другие важные составляющие динамики уличной жизни, что лишь один его пример не может адекватно передать сложность социальной жизни на улице. Дюнайер увидел вескость комментариев Хакима и предложил новый способ дальнейшей разработки проекта. Он пригласил Хакима совместно вести семинар в Университете Калифорнии как способ углубления в детали проблем, затронутых в рукописи, одновременно подключив к дискуссии студентов. Фокус работы Дюнайера менялся по мере того, как Хаким совместно с ним вел семинар «Жизнь улицы и жизнь разума в черной Америке». Он постепенно понял, что принятие более широкого подхода к уличной жизни может преодолеть некоторые минусы его уже выполненной работы. В этом отношении важным ориентиром были вопросы студентов: Где Хаким брал свои книги? Какую роль играли на улице попрошайки? Какое взаимодействие с ними было у белого населения? Открыв свою работу для подробного разбора, Дюнайер смог сформулировать новый подход к своему исследованию.
────────────────────────────┐ ■ Статистические термины При социологических исследованиях для анализа результатов часто используются статистические методы. Некоторые из них являются чрезвычайно изощренными и сложными, но те, что применяются чаще всего, легко доступны для понимания. Наиболее используемыми являются меры главной тенденции (способ подсчета средних величин) и коэффициенты корреляции (измерение степени связи одной переменной с другой). Существует три метода подсчета средних величин, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. Возьмем, к примеру, личное благосостояние (с учетом всего имущества, т. е. домов, машин, банковских счетов и капиталовложений), имеющееся у тринадцати человек. Предположим, что у этих тринадцати имеются следующие суммы (в фунтах стерлингов): 1. 000 (ноль) 2. 5 000 3. 10 000 4. 20 000 5. 40 000 6. 40 000 7. 40 000 8. 80 000 9. 100 000 10. 150 000 11. 200 000 12. 400 000 13. 10 000 000 Среднее соотносится со средней величиной, которая получается при сложении всех данных личных состояний и последующем делении полученной суммы на тринадцать. Итоговая сумма — (фунт стерлингов) 11 085 000; при делении на 13 мы получаем среднее арифметическое — (фунт стерлингов) 852 692,31. Среднее число часто является полезной информацией, поскольку оно основано на всем объеме имеющихся данных. Однако оно может вводить в заблуждение в случаях, когда одно или небольшое число данных сильно отличается от большинства. В вышеприведенном примере среднее значение является непригодным способом измерения главной тенденции, поскольку присутствие одной очень крупной цифры, (фунт стерлингов) 10 000 000, искажает все остальные. Может возникнуть впечатление, что большинство людей имеют гораздо больший объем благ, чем на самом деле. В подобных случаях может использоваться одна из двух других мер. Мода статистическая — это значение, которое наиболее часто встречается в определенном наборе данных. В приведенном нами примере это (фунт стерлингов) 40 000. Проблема моды состоит в том, что этот метод не учитывает общее распределение данных, т. е. весь диапазон величин. Наиболее частый случай — это набор цифр, который не всегда будет репрезентативным для их распределения в целом, а поэтому может быть полезным как средняя величина. В данном случае нас может беспокоить тот факт, что цифра (фунт стерлингов) 40 000 слишком близка к нижней границе значений. Третья мера — это медиана, которая является серединой в любом наборе цифр. В нашем случае это будет седьмая цифра, т. е. (фунт стерлингов) 40 000. В нашем примере нечетное число цифр — тринадцать. Если бы это число было четным, например двенадцать, медиана бы вычислялась как среднее между двумя средними цифрами, т. е. между шестой и седьмой. Как и мода, медиана не дает нам представления об истинном диапазоне измеряемых данных. Чтобы избежать выдачи ошибочной величины среднего, ученый будет использовать не только одну меру главной тенденции. Чаще всего вычисляется стандартное отклонение для набора данных. Это — мера степени разброса значений, или диапазон для набора значений, в нашем случае от (фунт стерлингов) 0 до 10 000 000. Коэффициенты корреляции дают нам полезный способ выражения того, насколько тесно связаны две (или более) переменных. Если две переменных полностью коррелируют, мы можем говорить об абсолютной положительной корреляции, выражаемой коэффициентом 1,0. Если между двумя переменными никакой связи обнаружено не было — коэффициент будет равен нулю. Абсолютная отрицательная корреляция — выражаемая как 1,0 — существует в том случае, когда между двумя переменными наблюдается полное обратное отношение друг к другу. В общественных науках нельзя обнаружить абсолютных корреляций. Корреляции порядка 0,6 или более, будь они положительными или отрицательными, обычно считаются указателями наличия сильной степени связи между любыми анализируемыми переменными. На этом уровне положительные корреляции могут быть найдены, например, между классовым происхождением и поведением на выборах. ────────────────────────────┘
Как «стать своим» при включенном наблюдении Дюнайер вернулся на улицы Гринвич-Вилледж уже не как сторонний наблюдатель, но как активный участник повседневной жизни района. С помощью Хакима он договорился с Марвином, продавцом журналов из соседнего квартала, о работе за его столиком в течение одного лета. Марвин «спонсировал» присутствие Дюнайера на улицах микрорайона, представив его остальным лицам, зарабатывающим на жизнь на улице, и выразив свое доверие его исследованию. Но, несмотря на поддержку Марвина и Хакима, Дюнайер как включенный наблюдатель столкнулся с рядом трудностей. Процесс «становления своим» в условиях улицы потребовал времени и терпения. Будучи высокообразованным белым представителем высшей прослойки среднего класса, Дюнайер занимал общественное положение, которое очень отличалось от того, которое занимали бедные черные мужчины с клеймом выброшенных на обочину жизни, являвшиеся основной темой его исследования. Дюнайер признавал, что попытаться «вписаться» ему бы не удалось — он бы выделялся, даже изменив свою одежду и манеру разговора. Вместо этого он медленно налаживал отношения с людьми улицы, основанные на взаимном уважении. Он больше слушал, нежели говорил, и делал ставку на неформальные беседы с ними, а не на «официальные» интервью. Дюнайер получил разрешение обитателей квартала на постоянно включенный магнитофон, который он держал под столиком на месте работы; люди привыкли к аппарату и даже предлагали «управлять» им, когда Дюнайера не было на рабочем месте или он уезжал из города. Присутствие Дюнайера было постепенно принято, и в последующие два года он стал постоянным атрибутом улицы. Хотя ему удалось «вписаться», Дюнайер понимал, что выносить присутствие включенного наблюдателя и доверять ему — не обязательно одно и то же. Он знал, что некоторые мужчины сомневались в мотивах, стоящих за его исследованием, и считали, что он пытается заработать деньги на книге об их жизни. Другие полагали, что намерения у Дюнайера добрые, но сам он наивен, а потому — естественная «мишень» для эксплуатации. В начале срока, проведенного им на улице, нищие, считавшие Дюнайера «богатым чужаком», регулярно просили его дать им немного денег. Ему было трудно ответить «нет» на подобные просьбы, хотя он оплачивал исследование из собственного кармана и лишних денег не имел. Дюнайер чувствовал себя в ловушке — как донести до них его исследовательскую задачу, а также выразить глубокое уважение к их повседневным трудностям без регулярной раздачи мелочи и долларовых купюр? С огромным трудом он научился говорить «нет» на постоянные просьбы о деньгах, но охотно помогал в других ситуациях, например при выяснении отношений с арендодателями, или делился своими юридическими знаниями. Дюнайер обнаружил, что одной из самых трудных задач для него как ученого-исследователя, работающего в общине обездоленных, было решать, когда уместно вмешиваться в жизнь исследуемых им людей.
────────────────────────────┐ ■ Как понимать таблицы При чтении социологической литературы вы будете часто встречать таблицы. Иногда они кажутся сложными, но, следуя нескольким описанным ниже основным принципам, их легко понять; постепенно с практикой понимание станет машинальным. Не поддавайтесь соблазну пропускать таблицы; в них, в концентрированном виде, содержится информация, которую можно прочитать быстрее, чем в случае, если то же самое было бы описано при помощи слов. Научившись интерпретировать таблицы, вы также сможете проверять, насколько оправданными на деле покажутся выводы, сделанные тем или иным автором. 1. Прочитайте заголовок полностью. Иногда у таблиц довольно длинные названия, что вызвано попыткой исследователя точно определить передаваемую им информацию. Заголовок приводимой в качестве примера таблицы сначала указывает предмет материала, затем тот факт, что таблица дает материал для сравнения, и наконец, что данные приводятся только по ограниченному числу стран. 2. Поищите объяснительные комментарии или примечания к данным таблицы. Примечание внизу таблицы-примера, связанное с заглавием основной колонки, указывает на то, что данные относятся ко всем зарегистрированным автомобилям. Это важно, поскольку в некоторых странах доля зарегистрированных автомобилей может быть ниже, чем в других. Примечания могут указывать на то, каким образом был собран материал или почему он представлен именно таким образом. Если данные не были собраны самим исследователем, но основаны на результатах, изначально опубликованных где-то еще, будет указан источник. Этот источник иногда позволяет судить о том, насколько достоверной может быть предоставляемая информация, а также укажет, где найти оригинальные данные. В нашей таблице примечание об источнике указывает на то, что данные взяты более чем из одного источника. 3. Прочитайте заголовки сверху и с левой стороны таблицы. (Иногда таблицы построены таким образом, что «заголовок» находится не сверху, а снизу.) Они расскажут вам о том, какой тип информации содержится в каждой колонке. Читая таблицу, помните о каждом наборе заголовков во время просмотра цифр. В нашем примере заголовки слева дают названия рассматриваемых стран, а заголовки сверху относятся к уровням владения автомобилями и годам. 4. Определите используемые единицы измерения; цифры в основной части таблицы могут представлять собой отдельные случаи, проценты, средние числа и другие единицы измерения. Иногда полезно перевести данные в форму, которая более удобна для вас: если, например, данные, выраженные в процентах, отсутствуют, возможно, их стоит высчитать. 5. Подумайте о том, к каким заключениям можно прийти, исходя из информации, данной в таблице. Обычно таблицы комментируются автором, и конечно же, то, что говорится по поводу них, следует учитывать. Но вы также должны задаться вопросом, какие еще проблемы можно рассмотреть в связи с этими данными. Цифры в приводимой нами таблице указывают на несколько интересных тенденций. Во-первых, уровень владения автомобилями значительно отличается от страны к стране: количество машин на 1 000 человек в США почти в десять раз выше, чем в Чили. Во-вторых, существует явная связь между численностью личных автомобилей и уровнем благосостояния страны. В сущности, мы, вероятно, могли бы использовать цифры соотношения между владением автомобилем как примерный показатель относительного благосостояния. В-третьих, практически во всех представленных странах уровень владения автомобилями рос с 1971 по 1989 гг., но в некоторых странах рост этого уровня был быстрее, чем в других, — возможно, указывая на разницу в степени экономического роста этих стран. В-четвертых, приводимые данные можно рассмотреть в более широкой политической перспективе. Например, некоторое снижение уровня владения автомобилями в Германии будет отражать процесс объединения Западной и Восточной Германии. В-пятых, нужно принимать в расчет источники данных. Например, более низкие цифры, относящие к 1993 г., у Соединенного Королевства, Франции, Швеции и США можно отчасти объяснить разницей используемых источников. Работа с данными требует осторожности, и, в идеале, перепроверки статистических данных.
Пример таблицы. Владение автомобилем: сравнительные данные по нескольким странам
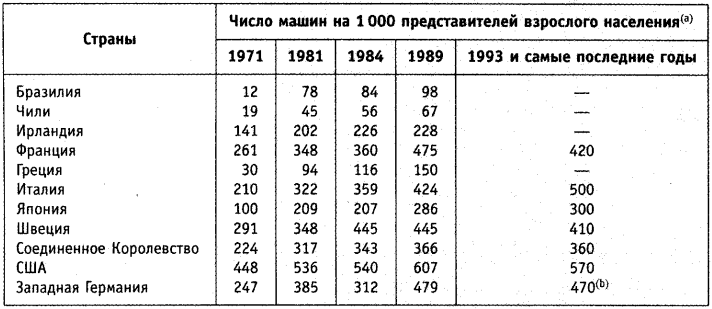 (a) Включает все зарегистрированные машины.
(b) Вся Германия в 1993 г.
Источники: International Road Federation. United Nations Annual Bulletin of Transport Statistics. Reported in Social Trends. 1987. P. 68; Statistical Office of the European Community. Basic Statistics of the Community. Luxemburg: European Union, 1991. Data for 1993 or latest from The Economist. Pocket World in Figures. 1996.
────────────────────────────┘
(a) Включает все зарегистрированные машины.
(b) Вся Германия в 1993 г.
Источники: International Road Federation. United Nations Annual Bulletin of Transport Statistics. Reported in Social Trends. 1987. P. 68; Statistical Office of the European Community. Basic Statistics of the Community. Luxemburg: European Union, 1991. Data for 1993 or latest from The Economist. Pocket World in Figures. 1996.
────────────────────────────┘
Публикация полевых исследований: анонимность, согласие и властные отношения Любая исследовательская работа, касающаяся людей, может поставить ряд этических дилемм. Дюнайер был честен с людьми улицы относительно задачи его исследования и его личности социолога, но ему также нужно было учитывать этические проблемы, связанные с публикацией результатов его исследования. Субъекты исследования могут посчитать опубликованные результаты оскорбительными либо потому, что они выставлены в неприглядном, с их точки зрения, свете, либо потому что воззрения или действия, которые они не хотели бы разглашать, стали доступны публике. Это было потенциальной проблемой работы Дюнайера: в его рукописи детально описывались такие темы, как отправление нужд на публике, приставания к прохожим-женщинам, алкогольная и наркотическая зависимость, напряженные отношения с местной полицией. Лица, рассматриваемые в исследовании Дюнайера, были уязвимы и практически бессильны; им было бы трудно «ответить» на эту книгу и ее содержание после публикации. Опубликовав результаты исследования в книге «На улице» (Duneier 1999), Дюнайер нарушил предпочитаемую рядом социологов практику сокрытия имен и мест, описанных в работе. Он считал, что разглашение имен реальных личностей субъектов своего исследования подняло бы его работу на более высокий уровень ответственности. Более того, согласно Дюнайеру, мужчины с улицы не беспокоились о том, что их имена станут известны; некоторым, скорее, нравилась идея того, что их собственные слова и фотографии появятся в опубликованной книге. Однако, решив отказаться от анонимности, Дюнайер постарался сделать все возможное, чтобы каждый, о ком рассказывалось в книге, знал, что о нем говорится. Он принес окончательный вариант рукописи в номер отеля, находящего неподалеку от квартала, и приглашал каждого человека, анализируемого на страницах книги, просмотреть все места, где о нем упоминается. Во многих случаях это оказалось сложным процессом. Многих мужчин меньше интересовало то, что говорится о них работе, чем то, как они выглядели на фотографиях. Дюнайер обнаружил, что его попытки «выразить уважение» с помощью демонстрации людям текста будущей книги часто давали обратный эффект и приводили его к ощущению, что он навязывает свои планы не склонной к ним публике. Хотя этот процесс был столь непростым, Дюнайер считал, что он необходим для того, чтобы люди с улицы считали книгу правдивой. На протяжении всего исследования Дюнайер был очень внимателен в вопросах различия расы, класса и статуса между ним и мужчинами с улицы. Но даже в окончательном варианте рукописи ему было трудно игнорировать властные отношения между ним, автором, и мужчинами, являвшимися объектами его исследования. Считая важным наличие возможности для мужчин, о которых шла речь в работе, каким-то образом отреагировать на проведенное им исследование, Дюнайер попросил Хакима написать послесловие к книге «На улице». Хотя Хаким, конечно, не мог говорить за всех мужчин квартала, он был частью этого проекта с самого начала и мог предложить перспективу, отличающуюся от позиции исследователя. Дюнайер также знал о давней традиции белых ученых использовать слова и фотографии бедных черных людей для собственных нужд. Дюнайеру было важно, чтобы его работа не закрепляла подобные формы академической эксплуатации; он сделал соответствующие юридические распоряжения, чтобы часть гонорара от книги шла тем, кто участвовал в исследовании. Дюнайер признавал, что действия исследователя-социолога не могут быть оторваны от более широкого исторического и культурного контекста, в котором они производились. Его намерения как социолога состояли в преодолении, а не в усугублении разрыва между привилегированными и неимущими в той городской атмосфере, в которой он работал.
Заключение: влияние социологии
Социологические исследования часто вызывают интерес у многих людей, не входящих в интеллектуальное сообщество социологов, а их результаты часто получают широкое распространение. Следует подчеркнуть, что социология — это не просто изучение современных обществ, но важный элемент текущей жизни этих обществ. Возьмем, к примеру, преобразования, которые происходят сегодня в сферах брака, сексуальности и семьи. Мало кто из живущих в современном обществе не имеет никаких общих сведений об этих изменениях в результате фильтрации данных социологических исследований. Социологические знания сложным и подчас тонким образом влияют на наши мышление и поведение, тем самым придавая новую форму самой области социологического исследования. Нас не должно удивлять то, что выводы социологов зачастую совпадают с расхожими мнениями. Причина этого не в том, что социология просто обнаруживает что-то уже нам известное; скорее, социологические исследования постоянно влияют на наши бытовые представления о том, чем является общество.Краткое содержание
1. Социологи изучают общественную жизнь, задавая определенные вопросы и пытаясь найти на них ответы с помощью систематических научных изысканий. Эти вопросы могут быть фактическими, эволюционными и теоретическими. 2. Согласно ее основателям, социология является наукой в том смысле, что она предполагает систематические методы исследования и оценку теории в свете имеющихся фактов и логических аргументов. Но она не может осуществляться непосредственно по образцу естественных наук, поскольку изучение человеческого поведения имеет фундаментальные отличия от изучения мира природы. 3. Любое исследование начинается с проблемы, которая беспокоит или озадачивает ученого. Проблемы исследования могут вытекать из пробелов в соответствующей литературе или из теоретических дебатов или практических вопросов социального мира. Можно выделить ряд четких ступеней развития стратегии исследования, хотя они редко точнособлюдаются в реальном исследовании. 4. Причинностная связь между двумя событиями — это такая связь, при которой одна ситуация или событие вызывает другое. Она сложнее, чем может поначалу показаться. Причинно-следственные отношения нужно отличать от корреляции, которой называют наличие систематической связи между двумя переменными. Переменные — это параметры, например возраст, доход, уровень преступности и т. п., поддающиеся сравнению. Нам также следует различать независимые переменные от зависимых, на которые влияют первые. Социологи часто используют контроль переменных, чтобы поддерживать остальные факторы постоянными и выделить причинностную связь. 5. Исследовательские методы — это то, каким образом выполняется научная работа. Выполняя полевую работу, ученый проводит длительное время с изучаемой группой или общиной. Второй метод — исследование с помощью опросов — включает в себя рассылку анкет-вопросников или проведение анкетирования у выбранных групп из некой более крупной совокупности. При документальном исследовании в качестве источника информации используются печатные материалы, материалы архивов или иных ресурсов. Другие методы включают в себя эксперименты, использование жизнеописаний, исторический анализ или сравнительное исследование. 6. У каждого из этих методов есть свои недостатки. По этой причине ученые нередко совмещают в своей работе два метода и более, каждый из которых используется для проверки или в дополнение к материалу, полученному при применении других методов. Это называется триангуляцией. В лучших образцах трудов по социологии историческая и сравнительная перспективы совмещены. 7. При социологических исследованиях перед ученым часто возникают этические дилеммы. Они могут появиться тогда, когда объекты исследования обманываются ученым, или когда публикация результатов работы может отрицательно повлиять на чувства или жизнь изучаемых лиц. Не существует единого удовлетворительного решения этих проблем, но всем ученым необходимо внимательно относиться к подобного рода дилеммам, которые возникают при их работе.Вопросы для самостоятельного анализа
1. Если большинство ученых начинает работу с проблемы исследования, то кто решает, какие проблемы существуют? 2. Почему так важно сформулировать определенную гипотезу, которую можно будет подтвердить или опровергнуть? 3. Почему ход исследовательского процесса редко протекает по заранее установленному плану? 4. Как может ученый сократить до минимума возможность ошибки и (или) субъективной точки зрения? 5. Являются ли некоторые исследовательские методы более научными, нежели другие? 6. Почему так важно отличать корреляцию от причинно-следственных отношений?Дополнительная литература
Hammersley Martin and Atkinson Paul. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge. 1995. Harvey Lee, MacDonald Morag and Devany Anne. Doing Sociology. London: Macmillan, 1992. Ragin Charles. Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 1994.Интернет-линки
Информационная служба Бата http://www.bids.ac.uk BUBL — Национальная информационная служба для работников высшей школы http://bubl.ac.uk/admin/purpose.htm Информационный шлюз Census (Программа переписи населения) http://census.ac.uk Институт социологических и экономических исследований http://www.irc.essex.ac.uk Международные исследования рынка и общественного мнения http://www.mori.com Социологический информационный шлюз http://www.sosig.ac.ukГЛАВА 21 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИИ
Оценка теоретических перспектив в области социологии — задача грандиозная и трудновыполнимая. Теоретические споры по определению носят более абстрактный характер, чем расхождения во мнениях по практическим вопросам. Тот факт, что нет ни одной теории, которая доминировала бы в социологии в целом, мог бы показаться свидетельством слабости нашей науки. Однако это не так. Напротив, столкновение различных теоретических подходов и концепций свидетельствует о жизненной силе социологической науки. При изучении человеческих существ — нас самих — многообразие теоретических взглядов спасает нас от догматизма. Человеческое поведение настолько сложно и многоаспектно, что вряд ли одна теория сможет охватить все его стороны. Различие теоретических взглядов служит неиссякаемым источником идей, которые можно использовать в исследованиях, и оно стимулирует творческое мышление, столь необходимое для прогресса в социологии. Во многих областях исследования, где работают социологи, было создано бесчисленное множество теорий. Некоторые из них сформулированы очень точно и иногда даже выражены в математической форме, хотя это чаще наблюдается в других социальных науках (в частности, в экономике), нежели в социологии. Некоторые теории стремятся дать объяснение гораздо более широкому кругу явлений, чем другие теории, и существуют различные мнения относительно того, насколько желательно или целесообразно для социолога заниматься очень широкими теоретическими проблемами. Так, например, американский социолог Роберт К. Мёртон настаивает на том, что социологам следует сосредоточить внимание на теориях, которые он называет теориями среднего масштаба (Merton 1957). Не надо пытаться создавать грандиозные теоретические построения, следует быть скромнее. Теории среднего масштаба достаточно конкретны, и их можно проверить непосредственно в эмпирических исследованиях, и вместе с тем они характеризуются достаточной обобщенностью и охватывают ряды различных явлений. Примером подобной теории может служить теория относительной депривации. Согласно этой теории, то, как люди оценивают обстоятельства своей жизни, зависит от того, с кем они себя сравнивают. Таким образом, чувство обездоленности не связано напрямую с уровнем материальной бедности, который реально присущ людям (см. подраздел «Что такое бедность?» в главе 11). Семья, живущая в маленьком домике в бедном районе, где все соседи находятся в более или менее сходных условиях, будет, скорее всего, чувствовать себя менее ущемленной, чем семья, которая живет в таком же доме, но в регионе, где большинство окружающих домов гораздо больше по размерам и более богаты. И действительно, чем более широка и амбициозна теория, тем труднее проверить ее эмпирически. И тем не менее, не существует, по-видимому, убедительной причины, почему теоретическая мысль в социологии должна ограничиваться «средним масштабом». Чтобы понять, почему дело обстоит именно так, рассмотрим в качестве примера теорию, которая была изложена Максом Вебером в его сочинении «Протестантская этика и дух капитализма» (Weber 1976, впервые опубликована в 1904–1905). Мы уже упоминали эту знаменитую книгу в предыдущих главах (см. раздел «Теории организации» главы 12 и раздел «Теории религии» в главе 17).Макс Вебер: протестантская этика
В книге «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер пытается ответить на фундаментальный вопрос: почему капитализм возник именно на Западе, а не где-либо еще? В течение почти тринадцати веков после Древнего Рима в мировой истории гораздо более заметную роль играли другие цивилизации, а отнюдь не Запад. Европа была, по правде говоря, совсем незначительным местом на земном шаре, тогда как Китай, Индия и Оттоманская империя на Ближнем Востоке все являлись могущественными державами. В частности, китайцы были намного впереди Запада по уровню технологического и экономического развития. Что же произошло в Европе и вызвало столь резкий скачок в ее экономическом развитии, начиная с XVII в. и позднее? Чтобы ответить на этот вопрос, считал Вебер, нужно выяснить, что отличает современную промышленность от более ранних типов экономической деятельности. Стремление к накоплению богатства можно обнаружить в самых разных цивилизациях, и это стремление нетрудно объяснить: люди ценили богатство за те блага, безопасность, власть и удовольствия, которые оно может обеспечить. Они хотят избавиться от нужды и, скопив богатство, используют его, чтобы сделать свою жизнь благополучной. Если мы посмотрим на экономическое развитие Запада, писал Вебер, то обнаружим нечто совершенно иное: отношение к накоплению богатства, какое в истории не встречается больше нигде. Это отношение и есть то, что Вебер называет духом капитализма, — система убеждений и ценностей, присущих первым капиталистам — торговцам и промышленникам. Этим людям было свойственно сильное стремление к накоплению личного богатства. Однако в отличие от богатых людей в других частях земли они не старались использовать накопленные богатства, чтобы обеспечить себе роскошный образ жизни. Они вели жизнь, полную самоограничения и бережливости, они жили очень скромно и незаметно, избегая обычных проявлений богатства. Такое крайне необычное сочетание характеристик, как пытался показать Вебер, было жизненно важно для экономического развития Запада в раннюю эпоху. Дело в том, что в отличие от богатых людей в прошлые века и в других культурах, эти группы людей не расточали своих богатств, но напротив, они вновь вкладывали их в дело, чтобы еще больше расширить предприятие, во главе которого они стояли. Суть теории Вебера заключается в том, что жизненные установки, связанные с духом капитализма, возникли под влиянием религии. Христианство в целом сыграло роль, благоприятствующую таким взглядам, но важной мотивирующей силой явилось влияние протестантизма — и особенно одной его разновидности — пуританства. Первые капиталисты были в большинстве пуританами, а многие из них придерживались кальвинистских взглядов. По мнению Вебера, непосредственным источником духа капитализма явились некоторые кальвинистские догматы. Одним из них была мысль о том, что человеческие существа — суть инструменты Бога на земле, от которых Всемогущий требует работы по призванию — занятия делом для вящего прославления Бога. Вторым важным аспектом кальвинизма было понятие предопределения, согласно которому только некоторые предопределенные люди окажутся среди «избранных» и попадут в рай после смерти. Первоначально в учении Кальвина утверждалось, что ничто, совершаемое человеком на земле, не может повлиять на то, окажется ли он в числе избранных или нет, это заранее предопределено Богом. Однако этот тезис вызвал такое беспокойство среди последователей Кальвина, что его пришлось изменить так, чтобы у верующих оставалась надежда получить от Бога некий знак об избранности. Успех в работе по призванию, находящий выражение в материальном процветании, стал главным знаком того, что тот или иной человек поистине является одним из избранных. В человеческих общинах, находившихся под влиянием подобных идей, появился огромный стимул к экономическому преуспеванию. Однако это сопровождалось необходимостью для верующего вести скромную и экономную жизнь. Пуритане считали роскошь злом, поэтому стремление к накоплению богатства оказалось у них соединенным с суровым и простым образом жизни. В раннюю эпоху предприниматели вряд ли сознавали, что они способствуют осуществлению важных изменений в обществе; их побуждали в первую очередь религиозные мотивы. Аскетический, т. е. полный самоограничения, образ жизни пуритан стал впоследствии неотъемлемой частью современной цивилизации. Как писал Вебер:Пуритане хотели работать по призванию, мы же вынуждены это делать. Потому что когда аскетизм вышел за пределы монастырских стен в повседневную жизнь и стал господствовать в морали мирян, он сыграл свою роль в построении огромного мироздания современного экономического порядка. ...Поскольку аскетизм способствовал перемоделированию мира и разработке идеалов этого мира, материальные блага приобрели все возрастающую и в конечном итоге безжалостно неотвратимую власть над жизнью людей, какой никогда раньше в истории не было. ...Мысль об осуществлении своего призвания как о некотором долге незримо присутствует в нашей жизни как призрак ушедших в прошлое религиозных верований. В случае, если осуществление призвания невозможно прямо связать с высшими духовными и культурными ценностями, или, с другой стороны, если оно не воспринимается просто как экономическая необходимость, люди обычно вообще отказываются от всяких попыток его оправдания. Там, где погоня за богатством достигла наивысшего развития — в Соединенных Штатах, — если снять с этого явления религиозные и этические покровы, она обычно оказывается связанной с чисто мирскими страстями (Weber 1976, 181–182).Теория Вебера была подвергнута критике с разных сторон. Некоторые утверждали, например, что ту жизненную позицию, которую Вебер назвал «духом капитализма», можно встретить в ранних итальянских торговых городах XII в. задолго до того, как стало известно о кальвинизме. Другие критики указывали, что ключевое понятие «работы по призванию», которое Вебер связывал с протестантством, уже существовало у католиков. Тем не менее, основные положения Вебера до сих пор разделяют многие социологи, а выдвинутая им теория остается такой же смелой и вдохновляющей, как и тогда, когда она была впервые сформулирована. Если теория Вебера верна, тогда можно заключить, что решающим фактором, определившим современное экономическое и социальное развитие, было нечто на первый взгляд представляющееся крайне далеким от него — совокупность религиозных взглядов. Теория Вебера отвечает некоторым критериям, существенным для теоретического мышления в области социологии: 1. Она носит контринтуитивный характер и предлагает интерпретацию явлений, отличающуюся от той, какая подсказывалась бы здравым смыслом. Таким образом, данная теория предлагает новый подход к рассматриваемым ею проблемам. Большинство авторов до Вебера не допускали возможности того, что религиозные убеждения могли бы сыграть основополагающую роль в возникновении капитализма. 2. Теория Вебера объясняет нечто, казавшееся совершенно непонятным, а именно: почему люди, предпринимая огромные усилия для накопления богатства, предпочитали жить скромно и умеренно? 3. Данная теория способна пролить свет на обстоятельства помимо тех, для объяснения которых она была создана первоначально. Вебер подчеркивал, что пытался понять только самые истоки появления современного капитализма. Тем не менее, можно с полным основанием предположить, что и в других ситуациях успешного развития капитализма могли оказывать воздействие ценности, аналогичные тем, какие проповедовало пуританство. 4. Хорошая теория — это не просто теория, которая оказывается состоятельной. Хорошая теория является также плодотворной в том смысле, что способна порождать много новых идей и стимулировать дальнейшую исследовательскую работу. Теория Вебера, несомненно, была в высшей степени плодотворной в этом отношении — она послужила отправной точкой для многочисленных последующих исследований и теоретических работ.
Теоретические дилеммы
Споры о «Протестантской этике и духе капитализма» продолжаются до наших дней, так же как и дискуссии по поводу других аспектов книги Вебера. Идеи, выдвинутые мыслителями-классиками, а также более поздние теоретические воззрения, обсужденные в главе 1 «Что такое социология?», по-прежнему вызывают разногласия. Существует несколько таких фундаментальных теоретических дилемм, которые до сих пор вызывают разногласия и споры и к которым эти столкновения мнений постоянно привлекают наше внимание. Некоторые из этих дилемм носят очень общий характер и касаются того, как следует интерпретировать человеческую деятельность и социальные институты. Мы рассмотрим здесь четыре такие дилеммы. 1. Первая дилемма затрагивает соотношение действий человека и социальной структуры. Вопрос заключается в следующем: насколько мы, творческие человеческие личности, активно контролируем условия нашей собственной жизни? Или же большая часть того, что мы делаем, является результатом действия общих социальных сил вне нашего контроля? Этот вопрос всегда разделял и продолжает разделять социологов. Вебер и сторонники теории символического взаимодействия, например, подчеркивают активные созидательные компоненты поведения человека. При других подходах, как, например, у Дюркгейма, на первый план выдвигается сдерживающий характер влияния общества на наши поступки. 2. Вторая теоретическая дилемма касается консенсуса и конфликта в обществе. Как мы уже видели, некоторые социологи — включая функционалистов — считают, что человеческим обществам изначально присущи порядок и гармония. Те, кто придерживается такой точки зрения, признают наиболее очевидными характеристиками обществ преемственность и консенсус, как бы сильно эти общества ни изменялись с течением времени. Другие социологи, напротив, подчеркивают всеобъемлющий характер социальных конфликтов. Они считают, что общества раздираемы противоборствами, напряженностью и границами. Для них представление о том, что люди большую часть времени обычно живут друг с другом мирно, — не что иное, как иллюзия; по их мнению, даже если в обществе нет открытой конфронтации, остаются глубокие различия интересов, которые в определенный момент способны перерасти в активный конфликт. 3. Третья кардинальная теоретическая дилемма вообще не получила отражения в ортодоксальных традициях социологии, однако игнорировать ее было бы неправильно. Она заключается в том, как ввести в социологический анализ адекватное понимание гендера. В прошлом в развитии социологической теории все крупные фигуры были мужчинами и в своих трудах они не уделяли практически никакого внимания тому факту, что человеческие существа разделены по полу (Sydie 1987). В их трудах люди представлены, как если бы они были «нейтральны» в отношении пола — они являются абстрактными «действующими лицами», а не различающимися по полу мужчинами и женщинами. И возможно, в настоящее время эта дилемма является самой острой и трудной из всех упомянутых четырех, поскольку в нашем распоряжении имеется очень мало материала, чтобы связать проблемы гендера с более установившимися формами теоретического мышления в социологии. Одна из главных трудностей, связанных с гендером, состоит в следующем. Нужно ли включить гендер в социологическую теорию как общую категорию? Или напротив, нам нужно изучать проблемы пола, разбив их на более частные вопросы, затрагивающие поведение женщин и мужчин в различных контекстах? Иначе говоря: существуют ли некие характерные признаки, которые разделяют мужчин и женщин с точки зрения их личности и социального поведения во всех культурах? Или же различия по полу следует всегда объяснять, исходя преимущественно из других различий, разделяющих общества (например, различий классовых)? 4. Четвертая дилемма касается не столько общих характеристик человеческого поведения или обществ в целом, сколько особенностей современного социального развития. Она имеет дело с определением факторов, воздействующих на возникновение и природу современных обществ, и отражает различия между подходами немарксистским и марксистским. Дилемма эта концентрируется вокруг следующего: насколько современный мир сформировался под влиянием экономических условий, выделенных Марксом — в частности, под влиянием механизмов капиталистического экономического производства? Или наоборот, насколько глубоко другие влияния (такие как социальные, политические или культурные факторы) определяли социальное развитие в современную эпоху? Указанные проблемы имеют для социологической теории настолько фундаментальное значение, что необходимо подробнее рассмотреть различные идеи, высказанные в связи с ними.Дилемма 1: структура и действие
Основная идея, разработанная Дюркгеймом и многими социологами после него, заключается в том, что общества, членами которых мы являемся, накладывают на наши действия социальные ограничения. Дюркгейм утверждал, что общество имеет приоритет перед отдельным человеком. Общество есть нечто гораздо большее, чем сумма отдельных актов, и оно обладает «плотностью» или «цельностью», сопоставимыми со структурами в материальной среде. Представим себе человека, который стоит в комнате, где несколько дверей. Строение комнаты ограничивает масштаб его возможных действий. Расположение стен и дверей определяет, например, пути выхода и входа. Социальная структура, согласно Дюркгейму, ограничивает нашу деятельность аналогичным образом, ставя пределы тому, что мы можем сделать как индивидуумы. Она является по отношению к нам «внешней», совершенно так же, как стены комнаты. Эта точка зрения выражена Дюркгеймом в его знаменитом высказывании:Когда я выполняю свой долг в качестве брата, мужа или гражданина и осуществляю принятые мной на себя обязательства, я действую в соответствии с обязанностями, которые определены законом и обычаем и которые являются внешними по отношению ко мне и моим поступкам. ...Сходным образом, человек верующий с самого рождения обнаруживает уже в готовом виде верования и ритуалы своей религиозной жизни; если они существовали до его появления на свет, из этого следует, что они существуют вне его. Системы знаков, которые я использую для выражения своих мыслей, денежная система, которой я пользуюсь для уплаты долгов, кредитные механизмы, которые я употребляю в своих коммерческих отношениях, обычаи, которым я следую в своей профессиональной деятельности, и т. п. — все это функционирует независимо от моего использования. Если рассмотреть по отдельности каждого члена общества, такие же замечания справедливо было бы высказать относительно каждого из них... (Durkheim 1982, 50–51).Хотя взгляды, выраженные Дюркгеймом, имеют много приверженцев, они также подверглись суровой критике. Если «общество» — не результат сложения многих индивидуальных действий, спрашивают критики, то что же тогда оно такое? Когда мы изучаем группу людей, мы не видим никакого коллективного единства, мы видим только отдельных людей, различным образом взаимодействующих друг с другом. «Общество» — это не что иное, как множество индивидуумов, которые ведут себя по отношению друг к другу неким регулярным образом. По мнению этих критиков (к которым относится большинство социологов, придерживающихся теории символического взаимодействия), поскольку мы человеческие существа, у нас есть побудительные причины для того, что мы делаем, и мы живем в социальном мире, пропитанном культурными значениями. Социальные явления, утверждают они, как раз не похожи на «вещи» и отличаются от вещей тем, что зависят от символических значений, которыми мы наделяем все, что создаем. Не общество создает нас, но мы являемся его создателями. Оценка Этот спор вряд ли будет когда-либо окончательно разрешен, потому что он существует с тех самых пор, когда современные мыслители стали впервые предпринимать систематические усилия для объяснения человеческого поведения. Более того, этот спор не ограничен только областью социологической науки, но занимает ученых, представляющих все социальные науки. Читателю данной книги в свете того, что он здесь прочитал, придется самому решить, какая позиция представляется ему более близкой к истине. Вместе с тем, вполне возможно, что различия между двумя изложенными выше точками зрения преувеличиваются. Поскольку обе из них не могут быть целиком правильными одновременно, мы можем достаточно легко увидеть между ними связь. Теория Дюркгейма в некоторых отношениях вполне очевидно обоснована. Социальные институты действительно предшествуют появлению на свет любого конкретного человека; очевидно также, что они оказывают на нас сдерживающее влияние. Так, например, не я изобрел денежную систему, которая существует в Великобритании, и у меня действительно нет выбора относительно того, использовать мне эту денежную систему или нет, если я хочу приобрести товары или услуги, которые можно купить за деньги. Денежная система, подобно всем другим установленным институтам, действительно существует независимо от любого отдельного члена общества и ограничивает деятельность этого отдельного человека. С другой стороны, было бы явной ошибкой предполагать, что общество является внешним по отношению к нам, совершенно так же, как материальный мир. Потому что материальный мир будет продолжать существовать независимо от того, будут ли жить какие-либо человеческие существа или нет, тогда как сказать то же самое об обществе было бы бессмыслицей: если общество и является внешним по отношению к каждому индивидууму, взятому отдельно, оно, по определению, не может быть внешним по отношению ко всем индивидуумам, взятым вместе. Более того, если явления, которые Дюркгейм называет «социальными фактами», возможно, и ограничивают то, что мы делаем, они не определяют того, что мы делаем. Так, если бы я твердо решил жить, не используя денег, я смог бы обойтись без них, хотя вести такое существование изо дня в день было бы очень нелегко. Будучи людьми, мы постоянно делаем выбор, а не просто пассивно реагируем на события вокруг нас. Шагом вперед в преодолении противоречия между подходом от «структуры» и подходом от «действия» может явиться признание того, что мы в процессе нашей повседневной деятельности активно строим и перестраиваем социальную структуру. Например, тот факт, что я использую данную денежную систему, способствует, хоть в малой, но необходимой степени, самому существованию этой системы. Если бы все люди или хотя бы большинство из них в какой-то момент решили отказаться использовать деньги, денежная система постепенно бы исчезла. Как уже говорилось в главе 1, удобным термином при изучении указанного процесса построения и перестройки социальной структуры является термин структурирование. Это понятие было введено в социологическую науку в последние годы автором настоящей книги (Энтони Гидденсом). «Структура» и «действие» неизбежно связаны друг с другом. Общества, общины или группы имеют «структуру» тогда, когда люди ведут себя регулярным и достаточно предсказуемым образом. С другой стороны, «действие» возможно только потому, что каждый из нас, будучи отдельным человеком, обладает огромным объемом социально структурированного знания. Яснее всего это можно показать, используя в качестве примера язык. Чтобы язык мог существовать вообще, он должен быть социально структурирован — существуют такие свойства употребления языка, которые должны соблюдаться всеми говорящими. Нечто, сказанное тем или иным говорящим в определенном контексте, будет осмысленным только в том случае, если оно следовало определенным грамматическими правилам. Вместе с тем структурные свойства языка существуют лишь постольку, поскольку отдельные пользователи языка реально следуют этим правилам на практике. Язык постоянно находится в процессе структурирования.
 Ирвинг Гоффман
Ирвинг Гоффман
Ирвинг Гоффман и другие авторы, писавшие о теории социального взаимодействия, рассмотренной в главе 4 «Социальное взаимодействие и повседневная жизнь», совершенно справедливо полагают, что все люди как действующие лица обладают огромными знаниями. Мы являемся тем, что мы есть как человеческие существа, в значительной степени потому, что следуем сложной системе условностей (ср., например, ритуалы, соблюдаемые незнакомыми людьми при обходе друг друга на улице). С другой стороны, применяя эти знания в своих действиях, мы придаем силу и содержание тем самым правилам и условностям, на которые мы опирались. Структурирование всегда предполагает то, что автор данной книги называет «дуализмом структуры». Это означает, что любое социальное действие предполагает существование структуры. Но в то же время и структура предполагает действия, потому что «структура» зависит от регулярно повторяющихся моделей человеческого поведения.
Дилемма 2: консенсус и конфликт
Противопоставляя теории консенсуса и конфликта в обществе, целесообразно также начать с Дюркгейма. Дюркгейм представлял себе общество как систему взаимосвязанных частей. По правде говоря, большинство теоретиков функционализма рассматривали общество как объединенное целое, состоящее из структур, тесно переплетенных друг с другом. Это вполне согласуется с точкой зрения Дюркгейма, который подчеркивал сдерживающий, «внешний» характер «социальных фактов». Однако аналогия здесь проводится не со стенами здания, но с физиологией тела. Тело состоит из различных специализированных частей (таких как мозг, сердце, легкие, печень и т. д.), каждая из которых способствует поддержанию продолжающейся жизни организма. Эти части по необходимости работают в гармонии друг с другом; если согласованность в их функционировании отсутствует, жизнь организма оказывается под угрозой. Так же, по Дюркгейму, обстоит дело и с обществом. Для того чтобы общество существовало на протяжении сколько-нибудь длительного времени, его специализированные институты, такие как политическая система, религия, семья и система образования, должны функционировать в гармонии друг с другом. Существование общества зависит, таким образом, от сотрудничества, которое, в свою очередь, предполагает общий консенсус, или согласие, среди его членов относительно базовых ценностей. Социологи, выдвигающие на первый план в основном конфликтную природу общества, придерживаются совершенно иных взглядов. Их основополагающий тезис легко продемонстрировать, используя в качестве примера теорию Маркса о классовых противоречиях. Согласно Марксу, общества разделены на классы, обладающие неравными ресурсами. Поскольку существует столь ярко выраженное неравенство, существует и различие интересов, которое «встроено» в социальную систему. Такое противоречие интересов в какой-то момент выливается в активное противостояние. Не все социологи, разделяющие подобные взгляды, придают столь большое значение классам, как это делал Маркс; в качестве других важных разделений в обществе, часто приводящих к конфликтам, упоминают, например, различия между расовыми группами или политическими фракциями. На первый план могут выдвигаться конфликты между разными противоборствующими группами, однако во всех этих случаях общество рассматривается в основном как насыщенное напряжениями — даже самая стабильная социальная система являет неустойчивое равновесие между антагонистическими группировками. Оценка Так же как в случае дилеммы структуры и действия, вряд ли следует ожидать, что теоретический спор по данному вопросу может быть полностью разрешен. Однако и в этом случае различие между двумя теориями — теорией, исходящей из консенсуса между членами общества, и теорией, идущей от противостояния между членами общества, — по-видимому, не столь глубоко, как это кажется. Указанные две позиции отнюдь не являются абсолютно несовместимыми. Вероятно, во всех обществах наблюдается тот или иной вид согласия относительно ценностей и в то же время, несомненно, везде возникают конфликты. Более того, как правило, в социологическом исследовании мы должны всегда изучать соотношение между консенсусом и конфликтами в пределах социальных систем. Ценности, которых придерживаются различные группы населения, и цели, которые преследуют их члены, зачастую представляют смешение как общих, так и противоположных интересов. Например, даже в том изображении классовых конфликтов, которое мы встречаем у Маркса, различные классы не только противостоят друг другу, но и имеют некоторые общие интересы. Так, капиталисты зависят от рабочей силы, которая необходима им для работы на их предприятиях, так же как рабочие зависят от капиталистов, которые платят им заработную плату. При таких обстоятельствах открытые конфликты не являются постоянными, так как иногда то общее, что присуще обеим сторонам, берет верх над их противоречиями, однако в других ситуациях дело может обстоять по-другому. Полезным понятием, помогающим при анализе взаимосвязи между конфликтами и консенсусом, является понятие идеологии — ценностей и убеждений, помогающих более могущественным группам населения сохранять свое доминирующее положение в ущерб менее могущественным группам. Власть, идеология и конфликт всегда тесно связаны между собой. Многие конфликты происходят из-за власти, из-за тех выгод, которые она может принести. Люди, обладающие наибольшей властью, для сохранения своего господства опираются главным образом на воздействие идеологии, но обычно, в случае необходимости, они имеют также возможность использовать и силу. Например, во времена феодализма правление аристократии поддерживалось идеей, согласно которой меньшинство людей «рождено, чтобы править», но феодальные правители нередко прибегали и к использованию насилия против тех, кто осмеливался выступать против их власти.Дилемма 3: проблема гендера
Проблемы пола редко находились в центре внимания крупных ученых, заложивших основы современной социологии. Однако те немногие высказывания, в которых они затрагивают вопросы гендера, позволяют нам, по крайней мере, уточнить контуры этой фундаментальной теоретической проблемы — пусть даже они мало чем могут помочь нам в ее решении. Наиболее четко сформулировать данную проблему можно, противопоставив высказывания, которые иногда встречаются в трудах Дюркгейма, тем положениям, которые можно встретить в сочинениях Маркса. В одном месте, обсуждая явление суицида, Дюркгейм замечает, что мужчина является «почти целиком продуктом общества», тогда как женщина «в гораздо большей степени „продукт природы“». Развивая этот тезис, он говорит о мужчине, что «его вкусы, стремления и чувство юмора имеют в значительной степени коллективное происхождение, тогда как у его спутницы жизни все это находится под более непосредственным влиянием ее организма. Его потребности, следовательно, совершенно иные, чем у нее...» (Durkheim 1952, 385). Иначе говоря, у женщин и мужчин совершенно разные личности, вкусы и наклонности, потому что женщины менее социализированы и стоят «ближе к природе», чем мужчины. В наши дни вряд ли кто-нибудь согласится с мнением, сформулированным подобным образом. Личность женщины в такой же мере сформирована в процессе социализации, как и личность мужчины. Однако, если высказывание Дюркгейма несколько видоизменить, оно представляет одну из возможных точек зрения на формирование и природу гендера. Согласно этой точке зрения, различия пола опираются в основном на биологически данные различия между мужчинами и женщинами. Такой взгляд не означает обязательно, что гендерные различия являются по большей части врожденными. Скорее, здесь предполагается, что социальное положение женщин и их личность формируются преимущественно (как полагает Чодороу, см. главу 5 «Гендер и сексуальные отношения») под влиянием их роли в процессе воспроизводства и воспитания детей. Если такой подход верен, тогда гендерные различия глубоко укоренены во всех обществах. Неравенство между женщинами и мужчинами в обладании властью отражает тот факт, что женщины рожают детей и несут основное бремя заботы о них, тогда как мужчины активны в «публичных» сферах политики, трудовой деятельности и войны. Взгляды Маркса существенно отличаются от рассмотренных выше. Для Маркса гендерные различия между мужчинами и женщинами, проявляющиеся по отношению к власти и социальному статусу, отражают в основном другие различия — по мнению Маркса, в первую очередь классовые различия. Согласно Марксу, в более древних формах человеческого общества не существовало ни гендерных различий, ни различий классовых. Власть мужчин над женщинами появилась только тогда, когда появились классовые противоречия. Женщины стали формой «частной собственности», которой владели мужчины через посредство института брака. Женщины освободятся от своего рабского положения, когда будут преодолены классовые различия. И так же, как в случае с Дюркгеймом, вряд ли кто-нибудь в наши дни согласится с подобной трактовкой, но мы можем сделать ее гораздо более приемлемой, если попробуем придать ей более общий характер. Класс — это не единственный фактор, формирующий социальные различия, которые воздействуют на поведение мужчин и женщин. К числу других факторов относятся этническая принадлежность и культурные истоки. Так, можно было бы утверждать, например, что если взять какое-либо меньшинство (скажем, черных в США), то женщины в этой группе имеют больше общего с мужчинами в этой же группе, чем с женщинами в группе большинства населения (т. е. с белыми женщинами). Возможен и другой случай, когда женщины, принадлежащие к определенной культуре (такой, например, как небольшая культура австралийских охотников и собирателей), имеет больше общих характеристик с мужчинами из этой культуры, чем с женщинами индустриального общества. Подъем женского движения в последние десятилетия XX в. вызвал радикальные изменения в социологии и других науках. Феминизм привел к широкомасштабному наступлению на явно ощутимую мужскую предвзятость как в социологической теории и методологии, так и в самом предмете социологии. Был не только брошен вызов господству мужчин в социологии, но раздавались также призывы к кардинальной перестройке самой науки — как в постановке проблем, составляющих самую ее сущность, так и в оценке возникших вокруг нее разногласий. Феминисты настаивают на том, что проблемы гендера должны занять центральное место в социологии при изучении социального мира. Хотя различия во взглядах представителей феминизма не позволяют делать каких-либо обобщений, можно с уверенностью утверждать, что большинство из них считает, что знание неразрывно связано с вопросами пола и гендера. Поскольку опыт, которым обладают мужчины и женщины, различен и они видят мир по-разному, понимание мира у них также неодинаково. Феминисты часто обвиняют традиционную социологическую теорию в том, что она отрицает или игнорирует «гендерную» природу знания и вместо этого выдвигает концепцию социального мира, в котором господствующее положение занимают мужчины. По мнению феминистов, мужчинам традиционно принадлежат власть и влияние в обществе и они обеспечили себе сохранение своего привилегированного положения. При таких условиях гендерное знание становится главной силой в увековечивании установленных социальных порядков и узаконивании господства мужчин. Некоторые авторы-феминистки считали ошибочным полагать, что «мужчины» или «женщины» составляют группы со своими собственными интересами или характерными чертами. Ряд таких авторов, и среди них Джудит Батлер, испытали влияние постмодернистских идей, которые будут рассмотрены ниже (см. подраздел «Теория постмодернизма» в разделе «Более поздние теории» этой главы). По мнению Дж. Батлер, гендер является категорией не фиксированной, но подвижной, и находит выражение в том, что люди делают, а не в том, что они есть (Butler 1999). Джудит Батлер
Джудит Батлер
Аналогичных взглядов придерживалась Сьюзен Фалуди. В своей недавней работе о мужественности Фалуди показывает, что утверждение о господстве мужчин во всех сферах есть не что иное как миф. Напротив, в мире, которым якобы владеют и управляют мужчины, в наши дни наблюдается кризис. Некоторые группы мужчин по-прежнему уверены в себе и чувствуют, что управляют событиями, однако многие другие становятся маргиналами и утрачивают самоуважение. Причиной этого, отчасти, является успех, которого добились по крайней мере некоторые женщины, но этому способствовали также изменения в характере труда. Так, распространение, например, информационных технологий привело к тому, что многие менее квалифицированные мужчины оказались ненужными обществу (Faludi 1999). Оценка Вопросы, связанные с третьей дилеммой, чрезвычайно важны и имеют прямое отношение к тому вызову, который авторы-феминистки бросили социологии. Никто не может сейчас всерьез оспорить упрек в том, что значительная часть социологических исследований в прошлом либо полностью игнорировала женщин, либо исходила из такого понимания личности женщин и их поведения, которое было вопиюще неадекватным. Несмотря на то, что в последние двадцать лет в социологии появились новые исследования, посвященные женщинам, все еще остается немало областей, в которых отличительные особенности деятельности женщин и их интересы изучены недостаточно. Но «включение в социологию изучения женщин» само по себе еще не означает решения гендерных проблем, потому что гендер предполагает отношения между идентичностью и поведением женщин и мужчин. Оставим пока открытым вопрос о том, насколько гендерные различия могут быть поняты сквозь призму других социологических понятий (таких как класс, этническая принадлежность, культурные истоки и т.д.) и, наоборот, насколько другие социальные разделения нужно объяснять, исходя из различий гендерных. Несомненно, в будущем объяснение ряда важнейших вопросов социологии будет зависеть от эффективности решения данной дилеммы.
Дилемма 4: формирование нового мира
Марксистский взгляд на будущее Труды Маркса явились серьезным вызовом социологическим исследованиям, и этот вызов не остался незамеченным. Со времен Маркса и до наших дней не прекращаются споры среди социологов вокруг идей Маркса относительно развития современных обществ. Как уже было сказано выше, Маркс рассматривает современные общества как капиталистические. Движущей силой, вызывающей социальные изменения в современную эпоху, является настоятельная необходимость постоянной перестройки экономики, что представляет собой неотъемлемую часть капиталистического производства. Капитализм — это несравненно более динамичная экономическая система, чем любая из существовавших прежде. Капиталисты вступают в конкуренцию друг с другом, чтобы продать свои товары потребителям, и чтобывыжить в этой конкуренции на рынке, фирмы должны производить свои товары как можно дешевле и эффективнее. Это ведет к непрерывному технологическому обновлению, потому что увеличение эффективности технологии, используемой в определенном процессе производства, — это один из способов, с помощью которых компании могут добиться преимущества по сравнению со своими конкурентами. Наблюдается также сильное стремление к поискам новых рынков для сбыта товаров, приобретения дешевого сырья и использования дешевой рабочей силы. Таким образом, капитализм, по Марксу, — это беспрестанно расширяющаяся система, стремящаяся охватить весь мир. Именно так Маркс объясняет распространение западной индустрии на весь земной шар. Объяснение, которое дал Маркс влиянию капитализма, нашло много сторонников, и последующие авторы значительно усовершенствовали первоначальную теорию Маркса. В то же время многочисленные критики выступили с опровержением взглядов Маркса, предложив иное понимание факторов, формирующих современный мир. По существу, все согласны с тем, что капитализм сыграл главную роль в создании мира, в котором мы сейчас живем. Но другие социологи считают, что Маркс, с одной стороны, преувеличил значение чисто экономических факторов как причины изменений, а с другой — что капитализм играет уже менее важную роль в развитии современного общества, нежели та, которую ему приписывал Маркс. Большинство авторов также скептически отнеслись к убежденности Маркса в том, что на смену капитализму в конце концов придет социализм. Как представляется, их скептицизм был подтвержден событиями 1989 г. и позже в Восточной Европе. Взгляды Вебера Одним из самых первых и самых резких критиков Маркса был Макс Вебер. По существу, труды Вебера многие характеризовали как отражение той борьбы, которую он вел на протяжении всей жизни «с призраком Маркса», — с тем интеллектуальным наследством, которое оставил Маркс. Теоретические положения Вебера, противопоставленные им марксизму, сохраняют свое значение и в наши дни. Согласно Веберу, в развитии современного общества ключевую роль играли неэкономические факторы. Это положение является, в сущности, одним из основных тезисов в его книге «Протестантская этика». Религиозные ценности — особенно ценности, связанные с пуританством — сыграли основополагающую роль в создании капиталистического взгляда на мир. В отличие от мнения Маркса, этот взгляд на мир не возник из экономических изменений как таковых. Присущее Веберу понимание природы современных обществ и причин распространения западного образа жизни во всем мире существенно отличается от точки зрения Маркса. Как полагает Вебер, капитализм — особый способ организации экономической деятельности — это только один из ряда других важных факторов, определяющих развитие общества в современную эпоху. Капиталистические экономические механизмы подспудно приводятся в действие в некоторых отношениях еще более фундаментальными силами — такими как влияние науки и бюрократии. Наука формирует современную технологию — и будет, по всей видимости, продолжать делать это в любом будущем социалистическом обществе. Бюрократия же — это единственный эффективный способ организации больших масс людей и, следовательно, она неизбежно будет увеличиваться по мере экономического и политического развития общества. Рост науки, современной технологии и бюрократии Вебер в совокупности называет рационализацией. Рационализация — это организация социальной и экономической жизни в соответствии с принципами эффективности на основе технических знаний.────────────────────────────┐ ■ Сравнение взглядов Маркса и Вебера
Идеи Маркса обобщенно
Главная движущая сила современного экономического развития — это экспансия капиталистических механизмов. Современные общества раздираются классовым неравенством, заложенным в самой их природе. Основные различия в отношении к власти, подобные неравенству в обладании властью, существующему между мужчинами и женщинами, проистекают, в конечном итоге, из экономического неравенства. Современные общества, какими мы знаем их сейчас (капиталистические общества) относятся к переходному типу — можно ожидать, что в будущем они будут радикально преобразованы. В конечном счете капитализм будет заменен той или иной разновидностью социализма. Распространение в мире западного влияния является, главным образом, результатом экспансионистских тенденций капиталистического предпринимательства.Идеи Вебера обобщенно
Главная движущая сила современного развития — это рационализация производства. В современных обществах классовое неравенство — лишь один из многих видов неравенства, например, неравенство мужчин и женщин. Власть в экономической системе может быть отделена от других факторов, например, неравенство мужчин и женщин не может быть объяснено исходя только из экономики. Рационализация будет неизбежно все больше прогрессировать в будущем во всех сферах общественной жизни. Все современные общества зависят от одних и тех же основных способов социальной и экономической организации. Глобальное влияние Запада в мире объясняется тем, что он владеет промышленными ресурсами и превосходящей военной силой. ────────────────────────────┘Оценка Кто же дал правильное объяснение развития современных обществ — Маркс или Вебер? Мнения ученых по этому поводу разделились. Во врезке «Сравнение взглядов Маркса и Вебера» перечислены некоторые из расхождений между двумя направлениями. (Не следует забывать, что внутри каждого лагеря существуют различия в мнениях и не все теоретики будут согласны по всем пунктам.) Противостояние позиций Маркса и Вебера пронизывает многие области социологии. Оно оказывает влияние не только на то, как ученые анализируют природу индустриальных обществ, но оно сказывается также и на нашем понимании менее развитых обществ. Кроме того, два указанных подхода связаны с различными политическими позициями: авторы левого толка в целом принимают взгляды Маркса, тогда как либералы и консерваторы склоняются больше к теории Вебера. Вместе с тем факторы, с которыми имеет дело данная дилемма, обладают характером более эмпирическим, чем те, с которыми связаны другие дилеммы. Практические исследования путей эволюции современных обществ и менее развитых стран позволяют оценить, насколько модели происходящих в них изменений согласуются с той или иной теорией.
Более поздние теории
Вопросы, затронутые в связи с дилеммой 4, сохраняют важное значение до сих пор, но в последнее время появились теории, авторы которых пытаются преодолеть влияние и Маркса, и Вебера. С падением в 1989 г. коммунизма в Восточной Европе идеи Маркса становятся, по-видимому, менее существенными для современного мира, чем это можно было представить себе раньше. По правде говоря, многие ученые, первоначально разделявшие марксистские взгляды, сейчас полностью от них отказались. Они считают, что попытки Маркса найти общие исторические модели развития общества были неизбежно обречены на неудачу. По мнению таких теоретиков, связанных с постмодернизмом, социологи должны просто отказаться от всех теорий, которые пытались разработать и Маркс, и Вебер, — от общих теорий социальных изменений.Теория постмодернизма
Сторонники идеи постмодернизма утверждают, что классики теории социологии черпали вдохновение в представлении о том, что история имеет некоторую форму — она «куда-то идет» и движется в сторону прогресса — а вот теперь это понятие рухнуло. Не существует больше «великих сказаний», или метасказаний (metanarratives) — общих концепций истории или общества, — которые имели бы какой-то смысл (Lyotard 1985). Не только не существует общего понятия прогресса, которое можно было бы отстаивать, но нет такого явления как история. В отличие от того, на что надеялся Маркс, постсовременному миру не суждено быть социалистическим. Напротив, это мир, в котором господствуют новые информационные средства, «изымающие» нас из нашего прошлого. Постсовременное общество характеризуется крайним плюрализмом и неоднородностью. Посредством бесчисленных кинофильмов, видео, телепрограмм и вебсайтов образы циркулируют по всему миру. Мы вступаем в контакт со многими идеями и ценностями, но они мало связаны с историей тех регионов, в которых мы живем, или же с нашими собственными частными историями. Кажется, что все находится в постоянном движении. Свое впечатление одна группа авторов выразила следующим образом:Наш мир перестраивается. Массовое производство, массовый потребитель, большой город, государство в роли большого брата[28], расползающийся жилой массив и национальное государство находятся в состоянии упадка: гибкость, многообразие, дифференциация и мобильность, коммуникация, децентрализация и интернационализация возрастают. В ходе этого процесса трансформируются наша собственная личность, наше ощущение себя, наши собственные субъективные качества. Мы находимся в процессе перехода к новой эре (S. Hall et al. 1988).Одним из видных теоретиков постмодернизма является французский социолог Жан Бодрийяр, работа которого упоминалась в главе 15 «Средства массовой информации и коммуникация». Бодрийяр также считает, что электронные средства массовой информации разрушили нашу связь с прошлым и создали хаотический пустой мир. В молодости Бодрийяр испытал сильное влияние марксизма, однако, по его утверждению, распространение электронных коммуникаций и СМИ опровергло марксистскую теорию, согласно которой общество формируют экономические силы. Напротив, в первую очередь на жизнь общества воздействуют знаки и образы. Здесь Бодрийяр сближается со структурализмом, подхватывая идею Соссюра о том, что значения создаются связями между словами, а не внешним реальным миром. В век господства средств массовой информации, говорит Бодрийяр, значение создается потоком образов, как в телевизионных программах. Значительная часть нашего мира стала чем-то вроде вымышленной вселенной, в которой мы реагируем на образы, созданные СМИ, а не на реальных людей или реальные места. Так, когда в 1997 г. умерла принцесса Уэльская Диана, не только по Великобритании, но и по всему миру прокатилась огромная волна горя. Но разве люди оплакивали реальное лицо? Бодрийяр считает, что нет. Для большинства людей принцесса Диана существовала лишь благодаря средствам массовой информации. По тому как люди воспринимали смерть Дианы, она больше походила на эпизод из мыльной оперы, чем на реальное событие. Бодрийяр говорит о «растворении жизни в телевидении».
Мишель Фуко
Хотя Мишель Фуко (1926–1984) возражал против того, чтобы его называли постмодернистом, он очень многое заимствовал из теории постмодернизма. В своих сочинениях он пытался показать на примерах те сдвиги в осмыслении явлений, которые отделяют мышление в нашем современном мире от мышления в прошлые века. В работах, посвященных проблемам преступления, человеческого тела, безумия и сексуальности, Фуко проанализировал возникновение таких современных институтов, как тюрьмы, больницы и школы, которые играют все возрастающую роль в контроле и управлении населением в обществе. Он хотел показать, что существует «другая сторона» у идей эпохи Просвещения об индивидуальной свободе — сторона, связанная с дисциплиной и надзором. Фуко высказал ряд важных мыслей о связи между властью, идеологией и дискурсом применительно к современным системам организации. Изучение власти — того, как отдельные люди или группы людей достигают своих целей в противоборстве с другими людьми — имеет важнейшее значение в социологии. Классики социологии, заложившие основы данной науки, Маркс и Вебер придавали особое значение власти; некоторые впервые предложенные ими идеи были развиты далее Мишелем Фуко. В его рассуждении о власти и контроле в обществе центральная роль отводится дискурсу. В употреблении Фуко этот термин означает способы говорить или думать об определенном предмете, объединенные общими допущениями. Фуко показывает, например, как принципиально изменились дискурсы о безумии со времен Средневековья до наших дней. В Средние века, например, душевнобольные обычно считались безвредными; некоторые люди полагали даже, что они обладают особым «даром» провидения. Напротив, в современных обществах «безумие» сформировано медицинским дискурсом, который подчеркивает болезнь и лечение. Медицинская форма дискурса поддерживается и увековечивается высокоразвитой и влиятельной сетью врачей, медэкспертов, больниц, профессиональных ассоциаций и медицинских журналов. По мнению Фуко, власть действует через дискурс и формирует общепринятое отношение к таким явлениям, как преступление, безумие и сексуальные отношения. Экспертные дискурсы, установленные людьми, обладающими властью или авторитетом, можно зачастую опровергнуть только с помощью конкурирующих экспертных дискурсов. Подобным образом дискурсы могут быть использованы как мощное орудие для ограничения альтернативных способов мышления или говорения. Знание становится силой, которую возможно употребить для установления контроля. Важной темой, проходящей через сочинения Фуко, является тема способов объединения власти и знания с технологиями осуществления надзора, принуждения и дисциплины. Принципиально новый подход Фуко к социальной теории противостоит общему согласию относительно природы научного знания. Этот подход, характерный для многих работ Фуко, получил известность под названием «археологии» Фуко. В отличие от других представителей социальных наук, которые стремятся понять незнакомые явления, проводя аналогии с тем, что известно, Фуко ставит перед собой противоположную задачу: осмыслить знакомое, раскапывая прошлое. Он ведет энергичную атаку на настоящее — на понятия, принимаемые как само собой разумеющиеся, на верования и структуры, которые по большей части невидимы именно потому, что хорошо нам знакомы. Так, например, он обнаружил, что понятие «сексуальность» существовало не всегда, но было создано в процессе развития общества. Аналогичные замечания можно высказать по поводу наших современных понятий о нормальной и отклоняющейся от нормы деятельности, здравом уме и безумии и т.д. Фуко попытался раскрыть те исходные допущения, которые кроются за нашими современными верованиями и обычаями, и сделать настоящее «видимым», идя к нему от прошлого. Однако построить какие-либо общие теории об обществе в целом, о социальном развитии или современности мы не в состоянии, мы способны понять только отдельные их фрагменты.Другие точки зрения
Влияние Фуко испытали на себе многие другие теоретики (см. раздел «Теории организации» главы 12). Надзор — наблюдение и сбор информации о людях, с тем чтобы контролировать их поведение, — является постоянной практикой в обществе, где происходит рост средств массовой информации. Многие современные социологи-теоретики согласны в том, что информационные технологии и новые системы коммуникации в совокупности с другими технологическими изменениями производят для всех нас основные социальные преобразования. Однако большинство из них не принимает ключевые идеи постмодернистов и Фуко, согласно которым наши попытки понять общие процессы, происходящие в социальном мире, обречены на провал, так же как и наши надежды на возможность изменить мир к лучшему. Целый ряд социологов, включая испанского ученого Мануэля Кастеллса и немецких теоретиков Юргена Хабермаса и Ульриха Бека, а также автора настоящей книги (Энтони Гидденса), считают, что существует столь же настоятельная необходимость, как и прежде, в разработке общих теорий социального мира и что такие теории могут помочь нам вмешаться, чтобы перестроить его в позитивном направлении. Мечты Маркса о социалистической альтернативе капитализму ушли в небытие. Но некоторые из ценностей, которые прокладывали путь для идей социализма — а именно социальное общество, равенство и забота о слабых и нуждающихся в помощи — по-прежнему сохраняют актуальность.Юрген Хабермас: демократия и публичная сфера
Хабермас признает, что многие положения Маркса устарели, и обращается к Веберу как к источнику альтернативных идей. Вместе с тем он также считает, что некоторые из основных принципов, вдохновлявших Маркса в его трудах, следует сохранить. Не существует альтернативы капитализму — и не нужно: капитализм доказал свою способность порождать огромное богатство. Тем не менее, некоторые из фундаментальных противоречий, обнаруженных Марксом в капиталистической экономике, по-прежнему налицо — такие, например, как тенденция порождать экономическую депрессию и кризисы. Нам нужно восстановить контроль над экономическими процессами, которые контролируют нас в большей степени, чем мы контролируем их. Юрген Хабермас
Юрген Хабермас
Одним из главных путей достижения такого более серьезного контроля над экономическими процессами, по мнению Хабермаса, является возрождение того, что он называет «публичной сферой». Публичная сфера — это, по существу, основа демократии. Ортодоксальные демократические процедуры, утверждает Хабермас, связанные с парламентами и партиями, не создают достаточных условий для коллективного принятия решений. Мы можем обновить публичную сферу путем реформирования демократических процедур и более последовательного привлечения к участию в них представителей общины и других местных групп. Современные средства коммуникации действительно приводят к некоторым негативным последствиям, отмеченным Бодрийяром и другими. Однако они могут также существенным образом способствовать дальнейшему развитию демократии. Например, там, где телевидение и пресса подчинены коммерческим интересам, они не служат центром для демократических дискуссий. Тем не менее, публичное телевидение и радио наряду с Интернетом предоставляют много возможностей для проведения открытого диалога и дискуссии. Хабермаса критиковали сторонники феминизма за то, что он не уделял должного внимания проблеме связи между гендером и демократией. Как указывали критики, демократия часто понимается как преимущественно мужская сфера. В этой связи Хабермасу следовало бы обратить внимание на те приемы, с помощью которых демократия обычно отказывает женщинам в полноправном участии в жизни общества. В большинстве парламентов, например, женщины составляют лишь незначительную часть членов. Политические дискуссии в большинстве случаев имеют тенденцию обходить проблемы, особо важные для женщин. В главной книге Хабермаса «Теория коммуникативного действия» (1986–1988) практически ничего не говорится о гендере. Как замечает Нэнси Фрэйзер, анализируя демократию, Хабермас говорит о гражданах, как будто они не имеют пола (Fraser 1989). Но как правило, гражданское общество развивалось так, что оказывалось гораздо более благоприятным для мужчин, чем для женщин. Положение женщин в семье, например, является до сих пор в значительной степени подчиненным по отношению к мужчине. Неравенство в семейной жизни имеет, следовательно, прямое отношение к публичной демократии.
Ульрих Бек: общество рисков
Мы уже имели возможность в настоящей книге познакомиться со взглядами Ульриха Бека (см. главу 3 «Меняющийся мир»). Как и Хабермас, Бек отвергает постмодернизм. Но в данном случае мы живем не в мире «за пределами современного», но движемся к фазе, которую он называет «второй современностью». Выражение «вторая современность» указывает на тот факт, что современные институты приобретают глобальный характер, а повседневная жизнь высвобождается от власти традиции и обычаев. Старое индустриальное общество исчезает и заменяется «обществом риска». То, что постмодернисты воспринимали как хаос или отсутствие модели, Бек рассматривает как риск или неопределенность. Умение управлять риском — таков важнейший признак глобального порядка. Ульрих Бек
Ульрих Бек
Риск становится центральной проблемой по ряду причин. По мере прогрессивного развития науки и технологии возникают новые ситуации риска, отличающиеся от тех, которые существовали в прежние века. Наука и технология, несомненно, приносят нам много благ. Вместе с тем они одновременно создают риски, которые очень трудно измерить. Так, никто, например, не знает наверняка, какие опасности может повлечь за собой производство генетически модифицированных продуктов питания. Многие решения, принимаемые на уровне повседневной жизни, также становятся сопряженными с риском. Тесно связаны в действительности с риском гендерные отношения мужчин и женщин. В отношениях между полами появилось много новых неопределенных ситуаций. Возьмем, например, область любви и брака. Для предыдущего поколения в развитых обществах брак был достаточно ясным процессом изменения в жизни человека — человек переходил от состояния «вне брака» к статусу «состоящий в браке», и это положение считалось достаточно долговременным. Сегодня же многие люди живут вместе, но не вступают в брак, и очень высок процент разводов. Любой человек, намеревающийся вступить в связь с другим человеком, должен принять эти факты во внимание, и таким образом он оказывается вовлеченным в исчисление рисков. Каждый человек, как мужчина, так и женщина, должен решить, насколько вероятно, что в условиях такой неопределенности задуманный ими шаг принесет счастье и безопасность. Бек не утверждает, что в современном мире больше рисков, чем их было в прошлые века. Скорее, меняется характер рисков, с которыми нам приходится сталкиваться. В наши дни риск проистекает в меньшей степени от естественных опасностей и случайностей, но чаще от тех ситуаций неопределенности, которые порождаются нашим собственным социальным развитием и развитием науки и технологии. Бек согласен с Хабермасом в том, что формирование нового общества не означает конца попыткам социального и политического реформирования. Скорее наоборот — появляются новые формы активности. Мы являемся свидетелями возникновения нового поля деятельности, которое Бек назвал «субполитикой». Этот термин относится к деятельности групп и органов, функционирующих вне формальных механизмов демократической политики, — к деятельности таких объединений как экологические организации, группы борцов за права потребителей или борцов за права человека. Ответственность за управление рисками не следует возлагать только на политиков и ученых; нужно привлекать к участию и другие группы граждан. Группы и движения, возникшие в сфере субполитики, могут, однако, оказывать сильное влияние на ортодоксальные политические механизмы. Так, ответственность за сохранение окружающей среды, которая раньше лежала на активистах-экологах, теперь воспринимается как часть традиционной политической системы.
Мануэль Кастеллс: сетевая экономика
Мануэль Кастеллс начинал свою карьеру ученого как марксист. Будучи экспертом по проблемам урбанизма, он пытался применять к изучению городов идеи Маркса. Однако впоследствии Кастеллс отошел от марксизма. Подобно Бодрийяру, он заинтересовался влиянием, которое оказывают на общество информационные и коммуникационные технологии. По мнению Кастеллса, в информационном обществе наблюдается рост сетей и сетевой экономики. Эта новая экономика, базирующаяся на связях, ставших возможными благодаря глобальным коммуникациям, является, несомненно, капиталистической экономикой. Однако капиталистическая экономика и общество в наши дни коренным образом отличаются от того, что было прежде. Экспансия капитализма больше не опирается в первую очередь, в отличие от того, что предполагал Маркс, на рабочий класс или производство материальных ценностей. Напротив, основой производства являются телекоммуникации и компьютеры. Кастеллс уделяет мало внимания тому, как эти изменения сказываются на гендерных отношениях. Значительно больше его занимает воздействие этих изменений на личность человека и на его повседневную жизнь. В сетевом обществе индивидуальность человека становится гораздо более открытой сущностью. Мы больше не заимствуем свою индивидуальность из прошлого, нам приходится активно создавать ее, взаимодействуя с другими людьми. Это непосредственно затрагивает сферу семьи, а также, в более общем плане, структурирование личности мужчины и женщины. Индивидуальность мужчин и женщин больше не определяется традиционными ролями в обществе. Так, раньше «местом» женщин был дом, тогда как «место» мужчин некогда было «вне дома на работе». Такое деление в настоящее время рухнуло. Кастеллс называет новую глобальную экономику «автоматом» (the automaton) — так же как и Хабермас, он считает, что мы уже больше не имеем полного контроля над миром, который сами же создали. В этом высказывании Кастеллса повторяются слова, сказанные столетием ранее Максом Вебером, который полагал, что рост бюрократии приведет к тому, что все мы окажемся заключенными в «железную клетку». Как сформулировал это Кастеллс, «кошмар человечества, порожденный видом наших машин, которые захватывают власть над нашим миром, находится, по-видимому, на грани превращения в реальность — но не в форме роботов, отнимающих у людей рабочие места, или правительственных компьютеров, которые устанавливают полицейский контроль над нашей жизнью, но в виде электронной системы финансовых операций» (Castells 2000, 56). Однако Кастеллс не полностью забыл свои марксистские корни. Он полагает, что, вероятно, существует возможность вновь установить эффективный контроль над мировым рынком. Это произойдет не путем революции того или иного типа, но посредством коллективных усилий международных организаций и стран, сообща заинтересованных в регулировании международного капитализма. Информационные технологии, заключает Кастеллс, могут стать средством усиления местной власти и возрождения сообщества. В качестве примера он приводит Финляндию. Финляндия является самым развитым информационным обществом в мире. Все школы в этой стране имеют доступ к Интернету, и большинство населения здесь компьютерно грамотно. В то же время Финляндия представляет собой прочно устоявшееся и эффективное социальное государство, хорошо приспособленное к нуждам новой экономики.Энтони Гидденс: социальная рефлексивность
В моих собственных работах я также рассматриваю теоретические перспективы тех изменений, которые происходят в современном мире. Мы живем сейчас в мире, который я назвал «убегающим» (runawayworld), неудержимо растущим, в мире, отмеченном новыми рисками и ситуациями неопределенности, подобными тем, которые диагностировал Бек. Тем не менее, рядом с понятием риска нам следует поставить понятие доверия. Понятие доверия указывает на уверенность, которую мы испытываем в отдельных людях или в институтах. В мире, где идут быстрые преобразования, традиционные формы доверия имеют тенденцию исчезать. Раньше доверие к другим людям обычно формировалось в местной общине. Однако теперь, когда мы живем в более глобализованном обществе, на нашу жизнь оказывают влияние люди, которых мы никогда не видели и с которыми незнакомы, люди, которые, возможно, живут на другом конце земли от нас. Доверие означает, что мы должны испытывать уверенность по отношению к «абстрактным системам» — например, что мы должны быть уверены в органах, которые контролируют продукты питания, производят очистку воды или обеспечивают эффективность банковских систем. Доверие и риск тесно связаны друг с другом. Для того чтобы противостоять окружающим нас рискам и эффективно реагировать на них, нам необходимо быть уверенными в таких органах власти. Жизнь в веке информационном требует, с моей точки зрения, большего объема социальной рефлексивности. Понятие социальной рефлексивности указывает на тот факт, что нам постоянно приходится думать или размышлять об обстоятельствах, в которых мы проводим жизнь. Во времена, когда общество в большей степени управлялось обычаями и традициями, люди могли следовать установленными путями и совершать поступки, ни секунды не раздумывая о них. Для нас же многие аспекты жизни, которые прежними поколениями принимались просто как само собой разумеющиеся, связаны с необходимостью открытого принятия решения. Например, на протяжении многих столетий у людей не было эффективных средств ограничения количества детей в семье. С появлением современных форм контрацепции и других технологических форм вмешательства в процесс деторождения родители получили возможность не только выбирать, сколько детей им иметь, но даже определять пол своих будущих детей. Эти новые возможности чреваты, разумеется, новыми этическими проблемами. Энтони Гидденс
Энтони Гидденс
Совсем не доказано, что мы потеряли контроль над своим будущим. В век глобализма государства, несомненно, утрачивают часть той власти, которой они обладали прежде. Например, государства оказывают меньше влияния на экономическую политику, чем раньше. Однако правительства сохраняют значительную власть. Действуя сообща, народы могут совместными усилиями восстановить наше влияние на неудержимо развивающийся мир. Те группы людей, на которые указывает Бек, — организации и движения, действующие за пределами официальной политической системы — могут играть важную роль. Но они не вытеснят обычной демократической системы. Демократия по-прежнему жизненно необходима, потому что объединения людей в области «субполитики» выдвигают различные требования и преследуют разные интересы. Подобные группировки могут включать, например, тех, кто активно выступает в защиту абортов или за более терпимое отношение к ним, и одновременно тех, кто придерживается прямо противоположного мнения. Демократическое правительство должно оценивать эти различающиеся требования и интересы и реагировать на них. Демократия не может быть ограничена публичной сферой, такой, как ее определил Хабермас. Существует потенциальная «демократия эмоций», возникающая в повседневной жизни. Демократия эмоций относится к появлению таких форм семейной жизни, в которых мужчины и женщины участвуют на условиях равноправия. По существу, все формы традиционной семьи строились на основе господства мужчин над женщинами, и такое положение обычно санкционировалось законом. Расширение равенства между полами не может ограничиться только областью избирательных прав, но должно распространиться также на сферу частной и интимной жизни. Демократизация в сфере частной жизни зависит от того, в какой мере личные отношения основываются на взаимном уважении, общении и терпимости.
Последние комментарии
11 часов 59 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 12 часов назад
3 дней 19 часов назад
3 дней 23 часов назад