Павел Ильич Федоров
Встречный ветер. Повести



В АВГУСТОВСКИХ ЛЕСАХ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В день какого-то католического праздника, обозначенного в старом календаре особыми красочными буквами, в сентябре 1940 года, Стася Седлецкая, жена местного лавочника села Вулько-Гусарское, что находится в Западной Белоруссии, у самой польской границы, высунулась в окно и крикнула сидевшему на крыльце мужу:
— Олесь, ты все-таки пойдешь сегодня в костел или нет?
— Я все-таки не пойду в костел. Возьми детей и ступай, если тебе так хочется.
— Как же может не захотеться в такой день?
Стася гордо встряхнула головой, рассыпала на плечах густые каштановые волосы и вызывающе посмотрела на сидящего рядом с мужем председателя Совета Ивана Магницкого. Щуря на солнце большие коричневые глаза, она навязчиво переспросила:
— Почему мне не хотеть идти в костел? Может, пан комиссар Магницкий запретит мне молиться?
— С чего это вы взяли, Стася? Да и какой из меня пан?
— А Советы скоро всем запретят молиться, — сказал только что подошедший бывший староста при панской власти — высокий большеносый поляк Юзеф Михальский.
— Большевики никому не запрещают молиться, — возразил Магницкий. Ему захотелось покрепче отчитать этого панского выродка, но его перебила Стася Седлецкая:
— Если они вздумают запретить, так я не очень-то их послушаюсь. Самому папе пожалуюсь…
— Ступай молись на здоровье и не трещи тут, как сорока, — повернув голову, властно проговорил ее муж Олесь Седлецкий. При этом концы его усов дрогнули и зашевелились от едва сдерживаемого гнева.
Седлецкий сегодня с утра был не в духе. Магницкий принес ему очередной налоговый лист. За лавочку надо было платить солидную сумму, а торговлишка шла не бойко. В Гуличи, районный центр, Советы навезли столько товаров, что даже складывать некуда. Спешно начали строить торговые помещения и лабазы.
Юзеф Михальский предлагает заняться контрабандой. Вчера познакомил с одним недавно прибывшим из Гродно человеком. Но человек этот, по мнению Олеся, очень подозрительный: одет как монах, да и интересуется больше новой властью, настроением населения, чем коммерцией… А политика вовсе не его, Олеся, дело. Разумеется, при случае он не прочь послушать хорошую политику, особенно если она может способствовать развитию коммерции. Но политика, связанная с контрабандой, не для Олеся Седлецкого. Не в его характере рисковать башкой. Он привык к тихой семейной жизни. У него жена и две дочери, одна из них уже вдова, а другая — невеста. Вот она убирается в доме и поет, как жаворонок. Ей все нипочем! Погоди, что такое она поет?
Разгромили атаманов, Разогнали воевод И на Тихом океане Свой закончили поход.
Из распахнутого окна доносился чистый девичий голос. Перемешивая русские слова с польскими, Галина, подражая пограничникам ближайшей заставы, пела сочным грудным голосом. Песня оборвалась, послышался задорный девичий смех и грозный окрик матери. — У тебя, Олесь, дочка в красные, что ли, собирается — все время солдатские песни напевает? — язвительно замечает Михальский. — Воевод-то пока еще не всех разогнали, подождите трошки… Юзеф Михальский сорвал торчащую у крыльца верхушку высохшей полыни и, разминая, зажал в горсть. В лицо Олеся Седлецкого ударил горький запах полынной пыли. Запах этот, казалось, еще больше растравил охваченную горечью душу. Хмуро покосившись на скрюченный нос бывшего старосты, Олесь дернул правый ус книзу и, не скрывая злости, проговорил: — Брось, Юзеф, эту пакость ворошить! Не труси полынь… Смотри, глаза засоришь и себе и нам… — Наши глаза давно засорены. Новые стали петь песни в Августовских лесах. Михальский разжал ладонь, подул на руки. — Советы же костелов не закрыли, а почему ты их песни хочешь запретить? — не без иронии заметил Иван Магницкий и, улыбнувшись из-под коротко остриженных усов, показал белые крепкие зубы. Ему никто не ответил. Юзеф Михальский побаивался этого высокого, плечистого, хотя и спокойного по характеру плотогона, работавшего до прихода Красной Армии на сплавном канале у помещика Гурского, в имении которого теперь открылась школа. Олесю Седлецкому не хотелось вступать в спор. Голова его была занята мыслями о младшей дочери, красавице Галинке. Неспроста повадился в его лавку этот чернобровый советский офицер-артиллерист из бетонных укреплений, которых понастроили по всей границе. Приходит и покупает вонючие немецкие сигареты, как будто у Советов нет отличных папирос! Или же закупил в течение одного месяца две дюжины зубных щеток и — о матка бозка! — столько же паршивой ваксы, которую вот уже три года никто не покупал. А Галинка посмеивается и, когда разговор заходит об этом артиллеристе, так краснеет, словно ее по щекам ладошками нашлепали. Начинает покупки завертывать, а сама с этого офицера глаз не спускает и жмурится, как тот котенок, когда его по шейке гладят. Юзеф Михальский сообщил по секрету Олесю, что видел Галинку с русским офицером на канале. Сидели под черемухой… Юзеф, спрятавшись в кустах, слышал: сначала песню разучивали, как надо «воевод разгонять», а потом… принялись целоваться… «Ах ты, матка бозка! — мысленно восклицает Олесь и сердито накручивает на палец черный, начинающий седеть ус. — Если об этом узнает жена, вот лихо начнется!» А Юзеф Михальский грозится ксендзу рассказать. За сына своего метит Галинку взять. Хватает за горло мертвой хваткой. Контрабанду предлагает завести и со свадьбой торопит. А какая тут свадьба, когда Галинка о его Владиславе и слышать не хочет! Как тут быть? Раньше выдрал бы хорошенько за косы, да и к ксендзу, а теперь Советы пришли… Нельзя даже собственного ребенка поучить. Иван Магницкий первый поймает за руку. Мысли Олеся Седлецкого прервались. В большом, прилегающем к дому Седлецких плодовом саду залаяла собака. За дощатой загородкой показался парень с вьющейся спутанной шевелюрой, в новом голубого цвета пиджаке со множеством блестящих пуговиц, украшенных польскими орлами. Парень, нагнувшись, приподнял над головой корзинку, наполненную яблоками, и легко перескочил через ограду. Увидев живописно одетого сына, Юзеф Михальский улыбнулся и самодовольно разгладил жиденькую бородку. Владислав почтительно поздоровался с мужчинами; придерживая руками корзинку, направился к открытому окну. Не доходя, весело крикнул: — Эгей! Панна Галченка, а ну, покажись! Что ты там спиваешь? — Я не икона, чтоб казаться! — раздался из комнаты звонкий шаловливый голос, и снова послышалась песня:
Разгромили всех мы панов, Разгромили воевод И на Немане, под Гродно, Свой закончили поход!
Раньше никогда Августовские леса не слышали таких песен. И теперь некоторая часть населения не понимала их или не хотела понимать. Но молодежь Западной Белоруссии и Польши, впервые услышав их от советских воинов, подхватывала на лету, переделывая на свой лад, начинала петь всюду с юношеской восторженностью. Владислав Михальский растерянно перекладывал тяжелую корзинку из одной руки в другую. Как его Галинка, — а он уже давно считал ее своей, может петь такие скандальные песни?! До сего времени он считал настоящими панами не только себя и своего отца, но и всю семью Седлецких, а в особенности мать Галины, Стасю Седлецкую. Она-то была настоящая пани, дочь каких-то давным-давно разорившихся помещиков, и очень гордилась своим происхождением. А ее дочка такие песни распевает… — Почему ты, Галина, не показываешься? — тихим голосом спросил Владислав и поставил корзинку на подоконник. В ответ ему снова раздались въедливые, оскорбительные, как ему казалось, слова песни. — Может, тебе стыдно глянуть мне в очи за ту поганую песню, за свой болтливый язык? — Это мне-то стыдно? Это у меня болтливый язык, да? — снова раздалось из комнаты. В створке окна показалось хорошенькое полудетское личико. На щеках девушки, как и на выглядывавшем из корзины яблоке, рдел огненный румянец, а в складках ярких розовых губ и в блеске рассерженных карих глаз был неподдельно-лютый ребячий гнев. — Это моя песня поганая?… Подумаешь! Притащил орех в починку да червивых яблок корзинку! В окно лезет не спрося, как то замаранное порося! Та еще такими словами кидается! Геть! На вот! Собирай, а я и руками до твоих яблок не притронусь… Вслед за такими словами маленькая, в башмаке с деревянной подошвой, сильная, голая до колен ножка сковырнула подарки с подоконника. Перевернувшись в воздухе, корзинка из сухих прутьев с треском грохнулась на землю. Крупные спелые яблоки и мелкие орешки покатились по протоптанной у окна дорожке и рассыпались в запыленной и пожелтевшей траве. Все это произошло так неожиданно, что мужчины не сразу смогли опомниться; повернув головы, сидели, как идолы, с открытыми ртами. Первым пришел в себя Владислав Михальский. Судорожно сжав кулаки, он рванулся к окну, но там уже никого не было. Постояв немного, натянул конфедератку почти до самых глаз и, нагнувшись, стал торопливо собирать раскатившиеся яблоки. — Эге! — глухо произнес Юзеф. — Вот, дорогой братка Олесь. Я тебе говорил, чему могут научить твою дочку Советы. Русский лейтенант учит под черемухой на канале, а русская учительница занимается с ней в комнатах пана Гурского. Там у ворот я каждый день вижу коня того лейтенанта, начальника заставы. И ты дозволяешь своей дочке дружить с этой учительшей, как будто не знаешь, что у большевиков-москалей все бабы общие… — Помолчи! — с глубоким внутренним напряжением не проговорил, а как-то выдавил из себя Седлецкий. — А чего я стану молчать? — Михальский, кряхтя, поднялся с крыльца. Опираясь на ореховую трость, стараясь поймать взгляд Олеся, продолжал: Чего мне молчать? Ты мне рот не заткнешь! Дочь твоя Михальских осрамила, а я должен молчать? — Говорю, закрой, Юзеф, рот! — в исступлении рявкнул Олесь и поднялся во весь свой огромный рост. Длинные усы его снова дрогнули. Видно было, как дрожит его подбородок и горят остановившиеся под опущенными бровями глаза. — Да не чепляйся ты, Юзеф, к человеку, — вмешался Иван Магницкий, едва сдерживая смех. — Если тебе не нравятся советские песни, ты не слушай. Кстати, пойдем-ка пройдемся вместе, мне кое-что тебе сказать надо. — Мне с тобой говорить не о чем, — отрезал Михальский. — Тебе не о чем, а у меня есть разговор. Да и лес, который ты вчера ночью привез, посмотреть надо. — Какой такой лес? — опешил Михальский. — А тот, что в саду свален. — Лес этот, братка мой, за наличные денежки куплен, — растерянно залепетал Юзеф, поражаясь, каким образом этот проклятый плотогон мог дознаться о его самовольной порубке. — А мы там на месте посмотрим, кому вы, гражданин Михальский, платили наличные денежки. Наверное, и расписочку имеете? Я знаю, вы человек деловой, аккуратный… Пойдем, — решительно позвал Магницкий и повел оторопевшего Юзефа в сад, откуда только что вышел неудачливый Владислав.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Олесь Седлецкий остался на крыльце, погруженный в глубокое раздумье. Над Августовскими лесами медленно поднималось еще жаркое сентябрьское солнце. Над озером Шлямы, потонувшим в густолесье, над лесосплавным каналом, впадающим в Неман, клубился туман. Невдалеке от недавно выстроенного моста виднелось длинное кирпичное здание конюшни ближайшей пограничной заставы. Оттуда доносилась бодрая военная песня:Прицелом точным врага в упор, Дальневосточная, даешь отпор!
Но Олесь сейчас ничего не слышал и не видел. Он лихорадочно думал о том, что разнесут теперь Михальские по всей округе худую славу о его дочери. Как поступить с девчонкой? Не поднимая головы, Олесь круто повернулся и, грузно ступая, зашагал в сени. Открывая дверь, он случайно бросил взгляд на висевшую на стене конскую сбрую и остановился. Подумав немного и что-то решив, машинально выдернул из клещевины ременную супонь, аккуратно сложил ее вдвое и завел правую руку за спину. Толкнул ногой дверь, вошел в избу. Галина сидела по детской привычке на полу в последней угловой комнате, служившей девушкам спальней. Тихо напевая, она делала из цветов букет. На ее лице Олесь не заметил ни тени волнения или раскаяния. Однако, увидя грозное лицо отца, она все же смутилась и опустила цветы на колени. Олесь остановился у порога и, держа руки за спиной, смотрел на нее сверху вниз. Откашлявшись, спросил ничего хорошего не сулившим голосом: — Для кого цветы приготовила? Девушка посмотрела на него с удивлением. Возилась с цветами и расставляла букеты во всех комнатах она почти ежедневно. Олесь и сам понял, что вопрос его глупый и неуместный. Силился задать какой-то другой, но мешал нарастающий гнев. Он почувствовал вдруг, что ему сейчас хочется больше всего отхлестать супонью Юзефа Михальского, но никак не эту рослую, какую-то странно чужую, настороженную Галинку. — Зачем такое с Владиславом устроила? — спросил он невпопад после напряженного молчания. — Ой, тату! Да он же сказал, что я спиваю поганые песни, что у меня болтливый язык! — Что верно, то верно. Язык у тебя как у коровы на шее ботало. — Ой, тату! Да он же сказал, что мне стыдно глянуть ему в очи! Как он может такое говорить? Мне никому не стыдно глядеть в очи! — подняв на отца глаза, проговорила Галина. — Все ты брешешь, — отрезал отец. — Я не шавка, чтоб брехать. — А с кем вчера вечером была на канале? — в упор глядя на дочь, спросил Олесь. От такого вопроса лицо девушки еще больше стало походить на румяное яблоко. Галинке даже и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог открыть ее сокровенную девичью тайну. Все же она коротко и быстро ответила: — Я была на канале, а еще… еще был Кость. Так она называла полюбившегося ей человека — лейтенанта Константина Кудеярова. — Гость или воловья кость? — поражаясь ее откровенности, спросил Олесь. — Так зовут русского лейтенанта… Костя… — Добже, — глухо сказал отец и с грубой мрачностью в голосе спросил: — Теперь отвечай, что вы там делали? — Он меня учил песни петь, — смущаясь все больше и больше, отвернув голову в сторону, ответила Галина. — Еще чему тебя учил лейтенант Кость? Девушка опускала голову ниже и ниже, к упавшим на колени цветам. — Правду говори, — жестко приказал отец. — Не ругай, тату! Я выйду за него замуж! Ни за кого больше не хочу! Понимаешь, не хочу! — выкрикнула Галинка. От этих слов Олесь отшатнулся. Будто и не он собирался стегать Галинку, а его самого хлестнули по телу. — Значит, все кончено? Олесь уже не прятал рук за спину и дрожащими пальцами крутил ремень. — Убей меня гром! Мы только поцеловались с ним. Я люблю его, вот и все!… И я стану его женой! Галинка обхватила колени руками и, уронив на них голову, затряслась всем телом. — Ты, ты… католичка… пойдешь за русского? Он же безбожник! Ох, матка бозка, что творится с моими детьми! Олесь хотел еще что-то прибавить, но вернувшаяся из костела со старшей дочерью Ганной супруга оттолкнула его. — Это что за содом такой? Что тут такое творится? — спросила Стася, посматривая то на растерявшегося мужа, то на съежившуюся посреди пола Галинку. Олесь, нелепо потрясая супонью, все рассказал супруге. Стася, выслушав мужа, вырвала из его рук супонь и хлестнула девушку по оголенной шее. Галинка, взвизгнув, подняла голову, схватив ремень, потянула его к себе, а затем резко дернула. Стася, не удержавшись, повалилась на пол и с истошным криком начала рвать на себе волосы. Ганна бросилась за лекарством. Наливая из пузырька валериановые капли, она с любопытством смотрела на притихшую сестричку.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Сдается мне, Осип Петрович, что у Седлецких кто-то голосит, бросив подметать пол, сказала мужу Франчишка Игнатьевна Августинович, соседка Седлецких. Это была сухонькая, рано состарившаяся женщина с узким худощавым лицом и остреньким птичьим носом. — У них всегда голосят, — равнодушно ответил Осип Петрович, привязывая к удочке леску. — Если Галка песни не спивает, так Стаська бранится. Осип Петрович сидел на кровати. Около него на потрепанном пестром рядне лежали сделанные из коры поплавки и свинцовые грузила. Склонив сильно поседевшую голову, он стал рассматривать завязанный на леске узелок. — Нет, там кто-то голосит. Пусть я провалюсь на этом месте, там кто-то голосит, — повторила Франчишка Игнатьевна и, бросив веник, неслышно ступая по кирпичному полу босыми сморщенными ногами, подошла к окну. Любопытство было ее извечным пороком, как это справедливо считал Осип Петрович. — Пусть у меня ноги отсохнут, а там все-таки добре голосят, вновь подтвердила Франчишка Игнатьевна. — Ноги твои и так не очень мясистые, — заметил Осип Петрович и тут же раскаялся в неуместной реплике. — А что ты чепляешься до моих ног? Почему не беленькие да не пухленькие? А отчего мои ноги такие сухопарые та корявые, а ну, отвечайте, пан Августинович! Может, вы забыли, кто нашу единственную животину годует та каждый день на заставу за три версты ребятишкам молоко носит? — А что, я не пасу твою корову и не пожинаю для нее в лесе траву? попробовал было защищаться Осип Петрович, но Франчишка Игнатьевна так затараторила, что пришлось заткнуть уши. — Он косит траву, он пасет корову! Ха! Езус-Мария! Як ты пасешь корову? Я-то знаю, як за ней ходишь! Придет корова домой и от твоего пасения готова отжевать мне руку… Вот як ты пасешь животину! Если бы тебя поить молоком от твоего сена, то был бы ты такой же костлявый, як наш старый гусак! У Франчишки был такой запас слов, что его хватило бы надолго, но тут из дома Олеся Седлецкого раздался душераздирающий крик. Франчишка даже подпрыгнула на месте и в одно мгновение юркнула в окно, словно ее, как рыбку-плотвичку, подцепили на удочку и выдернули на улицу. Осип Петрович только увидел, как мелькнули в окне ее сухощавые, исцарапанные икры. Вернулась она часа через два усталая, изнеможенная. Согнав задремавшего Осипа Петровича с кровати, прилегла отдохнуть и осмыслить события. …Войдя к Седлецким тихими шажками и затаив дыхание, она прислонилась к косяку двери и стала наблюдать. Галина по-прежнему сидела на полу с опущенной на грудь головой и, вздрагивая плечами, вялыми движениями обрывала цветочные лепестки. Олесь, согнув туловище, давил своим грузным телом скрипящий стул и, пошлепывая губами, тянул из трубки табачный дым. Ему было стыдно за ременную супонь, которую он принес, за то, что он дал волю гневу. Олесь не мог поднять глаза на Галину, на розовый, опоясавший ее шею рубец. Он слышал вздрагивающее дыхание дочери и чувствовал, что любит ее еще больше, чем прежде, видит в ее поступках частицу самого себя, своего характера. Вот Ганна — совсем другая. Она сидит на своей кровати и, неизвестно о чем думая, комкает в руках маленькую с вышитой наволочкой подушку. И взбалмошная жена ему сейчас противна. Она, беспрестанно размахивая руками, крестится и пронзительным голосом кричит: — Тварь! О-о! Что мне с тобой делать, чертово отродье! Стася сама не помнила, какие слова слетали с ее языка. От выкриков матери девушка судорожно вздрагивала и почти переставала дышать.
— Перестань же! — крикнул Олесь, желая прекратить эту омерзительную сцену.
— Я ее на цепь посажу, как шкодливую сучонку! Пусть она меня слышит и не притворяется!
Галина, казалось, ничего не могла слышать и воспринимать. Но это только казалось. На самом деле она все слышала и понимала. И в голове ее уже зрел дерзкий, отчаянный план.
Стася, видя упорное молчание дочери, чувствовала, что та сильнее ее не только молодостью, но и горячей девичьей любовью. Для выражения своего негодования Стася старалась подбирать самые обидные, оскорбительные слова, но запас их начинал иссякать, в утомленную голову, кроме пустых, мало устрашающих ругательств, ничего не шло.
— Я размозжу этой сквернавке башку! Вот мой святой крест, я убью ее!
— Мамо! Довольно, — вырвалось наконец у Ганны. Ей тоже была невыносимо противна вся эта ругань, искренне хотелось заступиться за сестру.
— Не твое дело! Можешь и помолчать! — снова разъярилась Стася. — Я ее сейчас же отведу к ксендзу, заставлю молиться и окручу с Владиславом! — И, чтобы больней задеть дочь, продолжала: — Но только Владислав не такой парень, чтобы захотеть после этой поганой истории взять в жены такую!…
— А я хочу вашего Владислава? Вы меня спросили? Можете меня на куски разрезать! Пусть мое тело собаки съедят, а Владислав меня не увидит! Нет! — страстно выкрикнула Галинка. — Хоть сейчас зовите десять ксендзов, а за Владислава выйти замуж меня никто не заставит. Сейчас не панская власть, чтоб девушек насильно выдавать.
— Значит, ты опять хочешь с русским лейтенантом на канал шляться и нас позорить!… Нет, — зашипела Стася, — лучше я тебя вниз головой в землю вобью, а такого не допущу! Не будь я пани Массальская!
И Стася притопнула ногой, стараясь показать, как она будет заколачивать свою дочь в землю. В это время позади раздался умилительный, сладко-таинственный голос Франчишки Игнатьевны:
— Не расстраивайтесь, пани Стася…
Все в комнате замерли.
— А ты чего тут торчишь? — поджав тонкие губы, сдерживая ярость, спросила Стася и резко отстранила от себя вскочившую Ганну.
— Я пришла, пани Стася, сказать, что до вашего сада зашел какой-то человек и спрятался в той самой беседке, где пан Олесь с паном Михальским часто самогонку пьют, — скороговоркой ответила Франчишка Игнатьевна, делая вид, что до семейных передряг ей нет никакого дела. Она забежала только предупредить, что в их сад забрался чужой человек. Франчишка Игнатьевна действительно увидела его в окно, выходящее из спальни в сад.
— Какой такой человек? — настороженно спросил Олесь, не веря ни одному ее слову.
— Сдается мне, пан Олесь, что это пришел до вас родственник нашего ксендза пана Сукальского, чи брат, чи двоюродный дядя, ну тот, что толички из Гродно приехал и несколько раз приходил до пана Михальского. Да и вы, кажись, там сами бывали и его видели.
— А ты не брешешь? — Находясь в полном замешательстве от осведомленности Франчишки, Олесь поднялся со стула и хотел было выйти.
— Езус-Мария! За кого вы меня принимаете, пан Олесь? Вот провалиться мне туточки, на этом самом месте. Дивлюсь, як панна Галочка от болести надрывается, и не знаю, як ей помочь, а сама глаз не спускаю, чтоб мои паршивые гусята к вам в сад не забрались и баклажанов не поклевали. А тем часом замечаю: человек по саду быстренько протрусил и заскочил в беседку. Ось, ось туды, як раз, где цветочки панны Галиночки завиваются, показывая своим маленьким пальчиком, тараторила Франчишка Игнатьевна.
Остановить ее не было никакой возможности. Рассказывая, она быстро жестикулировала, стреляя глазами то в Галинку, присмиревшую на полу, то в бледную, задыхающуюся от злости Стасю, то в окна, выходящие в сад и на улицу.
— Бувайте здоровеньки. Кажется… — Франчишка Игнатьевна приставила ко лбу ребрышко ладони и уставилась в окно. — Пусть лопнут мои очи, кажется, комиссарша с заставы со своими малышами и военными начальниками идет до меня в гости! И кажется, с ними идет тот чернявенький красавец, не то лейтенант, не то подпоручик, господь бог разберет. Кажется, он самый! Слышишь, Галочка? Тот, что в вашей лавке часто сигаретки закупает. Надо скорей бежать…
С этими словами Франчишка Игнатьевна, подобрав выгоревшую на солнце зеленую юбку, торопливо прошлепала своими беспокойными ногами по крашеному полу и исчезла за дверью.
Она оставила семью Седлецких в полной растерянности.
Галина при последних словах Франчишки Игнатьевны быстро вскочила и, мимоходом взглянув в окно, бросилась вниз лицом на смятую, неприбранную постель.
Ганна подошла к окну и стала рассматривать подходившую к их дому группу людей.
Стася сама не помнила, какие слова слетали с ее языка. От выкриков матери девушка судорожно вздрагивала и почти переставала дышать.
— Перестань же! — крикнул Олесь, желая прекратить эту омерзительную сцену.
— Я ее на цепь посажу, как шкодливую сучонку! Пусть она меня слышит и не притворяется!
Галина, казалось, ничего не могла слышать и воспринимать. Но это только казалось. На самом деле она все слышала и понимала. И в голове ее уже зрел дерзкий, отчаянный план.
Стася, видя упорное молчание дочери, чувствовала, что та сильнее ее не только молодостью, но и горячей девичьей любовью. Для выражения своего негодования Стася старалась подбирать самые обидные, оскорбительные слова, но запас их начинал иссякать, в утомленную голову, кроме пустых, мало устрашающих ругательств, ничего не шло.
— Я размозжу этой сквернавке башку! Вот мой святой крест, я убью ее!
— Мамо! Довольно, — вырвалось наконец у Ганны. Ей тоже была невыносимо противна вся эта ругань, искренне хотелось заступиться за сестру.
— Не твое дело! Можешь и помолчать! — снова разъярилась Стася. — Я ее сейчас же отведу к ксендзу, заставлю молиться и окручу с Владиславом! — И, чтобы больней задеть дочь, продолжала: — Но только Владислав не такой парень, чтобы захотеть после этой поганой истории взять в жены такую!…
— А я хочу вашего Владислава? Вы меня спросили? Можете меня на куски разрезать! Пусть мое тело собаки съедят, а Владислав меня не увидит! Нет! — страстно выкрикнула Галинка. — Хоть сейчас зовите десять ксендзов, а за Владислава выйти замуж меня никто не заставит. Сейчас не панская власть, чтоб девушек насильно выдавать.
— Значит, ты опять хочешь с русским лейтенантом на канал шляться и нас позорить!… Нет, — зашипела Стася, — лучше я тебя вниз головой в землю вобью, а такого не допущу! Не будь я пани Массальская!
И Стася притопнула ногой, стараясь показать, как она будет заколачивать свою дочь в землю. В это время позади раздался умилительный, сладко-таинственный голос Франчишки Игнатьевны:
— Не расстраивайтесь, пани Стася…
Все в комнате замерли.
— А ты чего тут торчишь? — поджав тонкие губы, сдерживая ярость, спросила Стася и резко отстранила от себя вскочившую Ганну.
— Я пришла, пани Стася, сказать, что до вашего сада зашел какой-то человек и спрятался в той самой беседке, где пан Олесь с паном Михальским часто самогонку пьют, — скороговоркой ответила Франчишка Игнатьевна, делая вид, что до семейных передряг ей нет никакого дела. Она забежала только предупредить, что в их сад забрался чужой человек. Франчишка Игнатьевна действительно увидела его в окно, выходящее из спальни в сад.
— Какой такой человек? — настороженно спросил Олесь, не веря ни одному ее слову.
— Сдается мне, пан Олесь, что это пришел до вас родственник нашего ксендза пана Сукальского, чи брат, чи двоюродный дядя, ну тот, что толички из Гродно приехал и несколько раз приходил до пана Михальского. Да и вы, кажись, там сами бывали и его видели.
— А ты не брешешь? — Находясь в полном замешательстве от осведомленности Франчишки, Олесь поднялся со стула и хотел было выйти.
— Езус-Мария! За кого вы меня принимаете, пан Олесь? Вот провалиться мне туточки, на этом самом месте. Дивлюсь, як панна Галочка от болести надрывается, и не знаю, як ей помочь, а сама глаз не спускаю, чтоб мои паршивые гусята к вам в сад не забрались и баклажанов не поклевали. А тем часом замечаю: человек по саду быстренько протрусил и заскочил в беседку. Ось, ось туды, як раз, где цветочки панны Галиночки завиваются, показывая своим маленьким пальчиком, тараторила Франчишка Игнатьевна.
Остановить ее не было никакой возможности. Рассказывая, она быстро жестикулировала, стреляя глазами то в Галинку, присмиревшую на полу, то в бледную, задыхающуюся от злости Стасю, то в окна, выходящие в сад и на улицу.
— Бувайте здоровеньки. Кажется… — Франчишка Игнатьевна приставила ко лбу ребрышко ладони и уставилась в окно. — Пусть лопнут мои очи, кажется, комиссарша с заставы со своими малышами и военными начальниками идет до меня в гости! И кажется, с ними идет тот чернявенький красавец, не то лейтенант, не то подпоручик, господь бог разберет. Кажется, он самый! Слышишь, Галочка? Тот, что в вашей лавке часто сигаретки закупает. Надо скорей бежать…
С этими словами Франчишка Игнатьевна, подобрав выгоревшую на солнце зеленую юбку, торопливо прошлепала своими беспокойными ногами по крашеному полу и исчезла за дверью.
Она оставила семью Седлецких в полной растерянности.
Галина при последних словах Франчишки Игнатьевны быстро вскочила и, мимоходом взглянув в окно, бросилась вниз лицом на смятую, неприбранную постель.
Ганна подошла к окну и стала рассматривать подходившую к их дому группу людей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Вдоль узкой улицы села Вулько-Гусарское росли старые сучковатые ветлы. За деревянными загородками висели буйно выросшие и сейчас созревающие гроздья рябины. Они были такого же цвета, как и прикрепленное Магницким на здании Совета знамя. Было уже около десяти часов утра. На улицах села играли ребятишки, из садов доносились песни, звуки гармоники, смех веселящейся молодежи. — Я люблю, когда много-много знамен и флагов! — воскликнула девочка лет восьми, дочка политрука пограничной заставы Александра Шарипова. Шагавший рядом с ней лейтенант Кудеяров молча взял девочку за руку. — Дядя Костя, ты был когда-нибудь на Красной площади в Москве? — Был, Оленька, на всех московских площадях и скверах, — отвечал Кудеяров, поглаживая густые темные волосы девочки. Девочка с хохотом отскакивала в сторону, останавливалась, ждала, когда лейтенант, как обычно, бросится ее догонять, поймает и, подхватив сильными руками, подбросит в воздух. Однако сегодня двадцатитрехлетний дядя Костя не склонен был шалить. — Оля, иди спокойно, не приставай к дяде Косте. Дай взрослым поговорить. Возьми Славу за ручку и пройдись с ним. Покажи ему, где яблоки растут, бабочку поймайте. Молодая, высокая, немного полная женщина в темно-синем шелковом платье сняла с рук двухлетнего ребенка и поставила на землю. Это был темноволосый мальчуган, с большими, как у девочки, карими глазами, такой же крутолобый и круглолицый. Ухватив девочку за руку, он вприпрыжку побежал по придорожной траве. Оставив мать и дядю Костю позади, дети решили догнать шедших впереди — Олину учительницу Александру Григорьевну и начальника заставы дядю Витю, который служил вместе с их отцом и жил в одном доме с ними. — Дядя Витя! Александра Григорьевна! Подождите нас! — крикнула девочка. — Григорьевна-а-а-а! Мы идем к ва-ам! — пищал Слава и, спотыкаясь, едва поспевал за тащившей его за руку Олей. — Я бы на вашем месте давно прекратила эту канитель. Только сами напрасно мучаетесь и другим покоя не даете, — говорила Шарипова. — Как прекратить, Клавдия Федоровна? — спросил Кудеяров. — Пойти в загс, расписаться, вот и все! — Нет, это не так просто, как вы думаете. Я попробовал посоветоваться с одним моим другом, командиром части, так он меня в пух и в прах разнес! Ты, говорит, советский командир и вдруг вздумал жениться на дочери лавочника… — Кто этот человек? Наверное, ваш начальник? — пытливо посматривая на Кудеярова синими вдумчивыми глазами, спросила Клавдия Федоровна. — Это неважно. Мне и другие так говорили. — Ну кто, например? Или вы мне не доверяете? — Что вы, Клавдия Федоровна! Я всем с вами делюсь, как с родной матерью… Если хотите, ваш муж то же самое говорил. — Саша? Это он может, — улыбнувшись, подтвердила Шарипова, воображая, какую горячую проповедь прочитал по этому поводу ее муж. — А вы бы напомнили ему его же слова: «Человека надо правильно воспитывать, для того чтобы он стал настоящим человеком!» А кто много-много лет воспитывал этих вот только что освобожденных людей? Польские паны да помещики. Возьмите Франчишку, которая нам на заставу молоко носит, мужа ее, Осипа Петровича. Они всю жизнь ломают горб с единственным стремлением разбогатеть, а живут так, что лишней сорочки не имеют. А кто этот самый Олесь Седлецкий — отец Галины? Пятикопеечный лавочник, бакалейщик по недоразумению. Там его супруга Стася всем заворачивает. Ей нужна эта жалкая лавочка для фанаберии, чтобы купчиху из себя изображать. А муж имеет единственную лошаденку и сам работает в поле как вол, и дети трудятся. У них от мозолей ладони трескаются. Что они, батраков, что ли, держат или раньше держали? — Нет. Батраков у них никогда не было. Но психология у него действительно буржуйская. — Да в капиталистической стране у каждого крестьянина такая психология. Наша молочница Франчишка, казалось бы, бедный человек, а о колхозе и слышать не хочет. Получила землю пана Гурского и по секрету мне сказала, что мечтает молочную ферму завести. Вот тоже мне фермерша! Да вы расспросите моего мужа, как он мальчишкой башмаки на углу чинил и тоже мечтал открыть свою мастерскую… Потом пошел в армию, вступил в комсомол, и там весь мусор из него вытряхнули!… А вы, коммунист, испугались дочери лавочника. Если ее родители всю жизнь лукаво мудрствуют, она-то при чем? Ей-то зачем гибнуть из-за их глупости? Она потянулась к вам всем сердцем, не видела она таких людей. А хорошего человека всегда тянет к хорошим людям. Галина прекрасная девушка. Какого из нее человека можно сделать! А вы ничего самостоятельно решить не можете. Значит, не любите по-настоящему, так и не морочьте девушке голову! — Неправда, Клавдия Федоровна. Неправда! — горячо запротестовал Кудеяров. — Люблю… Вы и представить не можете, какое у меня было тяжелое детство. Я вырос сиротой, воспитывался у дальних родственников. Как немножко подрос, уехал в город пробивать себе дорогу. Работал на заводе и учился. Когда я окончил училище, мне казалось, что счастливее человека нет на всем белом свете! Но тогда я еще не знал, что такое полная, до краев счастливая человеческая жизнь. Я понял это теперь, когда встретил Галину. И я сказал себе, что, наверное, буду долго жить, раз могу так крепко любить!… Я должен вас поблагодарить, Клавдия Федоровна, за то, что отругали и совет дали. Теперь я уже ударю беглым, на поражение… Кудеяров поднял руку, кому-то погрозил, поправил на боку пистолетную кобуру, достал из кармана папиросу. Прикуривая, он нахмурил широкие, нависшие на глаза темные брови, отрывисто добавил: — Мне бы сейчас схватиться с кем-нибудь, переломил бы пополам… Шарипова пристально посмотрела на него и залюбовалась чистотой его темных глаз и всей его крепкой коренастой фигурой, затянутой в коверкотовую гимнастерку. Радость бушевала в нем как хмельной напиток, рвалась наружу. Она была добрая женщина, и ей хотелось переженить всех ближайших друзей, сделать их такими же счастливыми, как и она сама. Наблюдая за Кудеяровым, Шарипова думала о том, что на свете бывает разное счастье и разная любовь. Вон начальник заставы лейтенант Усов тоже влюблен в недавно приехавшую учительницу Шуру. Но их любовь спокойна и ровна. Да и Усов не такой, как Костя Кудеяров. Витя Усов всегда спокоен, собран и подтянут. Или его природа выковала из твердой породы, или таким его сделала пограничная служба?… Его Шурочка проста и довольно наивна, опыта ей явно не хватает. С замужеством она не торопится, хотя любит Витю не меньше, чем он ее. Однако она боится, что как только они поженятся, то их непременно загонят в глухой медвежий угол. А он… он тоже особенно не настаивает на скорой свадьбе. Ухватился за ее слабое место, посмеивается и подшучивает: — Снова буду проситься на Памир. Какие там могучие горы и скалы! Страсть! А здесь что? Нет ни одного горного кряжа, чтобы забраться на вершину, чтоб аж дух захватило. Даже негде порядочную засаду устроить. А какой там пейзаж! Семьсот километров от железной дороги. Не поездка, а путешествие по неизведанной местности. Над головой висит скала тонн в тысячу, внизу темная бездонная пропасть, а тропинка шириной в две ладони… Или едешь по мостику через пропастищу, а мостик скрипит и покачивается. Лучшего способа закалки нервной системы и не придумаешь. Едешь от лета к зиме. На перевале вьюга с ног валит, а вниз спустился снова жаркое лето. Махнем, Шурочка, на Памир, там тигры водятся, шкуру тебе добуду и у кроватки под ножки постелю. — Нет, насчет этого погоди, Витенька. Страшновато, — признается Шура. От его рассказов у нее захватывает дух и, кажется, останавливается сердце. Усова ничем не проймешь. Напевая что-то себе под нос, он садится верхом на коня и едет проверять службу пограничных нарядов, а в свободное время обложит себя книгами и работает. Но достаточно, чтобы его конь в течение двух дней не завернул к школе, как у ворот заставы появляется Шурочка и, смущенно теребя кончик вздернутого носика, просит часового доложить дежурному, что пришла учительница и хочет видеть начальника заставы «по очень важному делу». Почему-то особенно часто ее визиты на заставу совпадали с дежурствами Игната Сороки, шутника и забавника. При появлении Шуры он принимает официальный, до приторности вежливый вид. Вытянувшись в струнку, смотрит посетительнице пристально в глаза, лаконично отвечает: — Начальник заставы лейтенант Усов заняты службой по охране государственной границы. Посторонним… тревожить запретили. — Да я же не посторонняя… Разве вы меня не узнаете? — Никак нет! — Странно… Шурочка еще в большем смущении пожимает плечами. — Так точно, странно… Вы не можете себе представить, какая у меня скверная на лица память! — Очень жаль. — Так точно. — Как же вы с такой, с позволения сказать, скверной памятью можете служить в пограничных войсках? — Никак нет, я вам сказал, что у меня никудышная память на лица, но я очень хорошо слышу и вижу. — Вы, может быть, признаете меня по голосу? — Да, голос такой я где-то слышал… Кажется, по радио… — Никак нет, товарищ Сорока, вы ошибаетесь. Может быть, можно увидеть политрука? Александре Григорьевне сразу неудобно вызывать по «важному делу» Клавдию Федоровну, но коварный дежурный и тут начинает вставлять свои шпильки и путать все карты. — Никак нет. Политрук заставы после очередного дежурства прилегли отдохнуть. — А Клавдию Федоровну? — открывает Шурочка свой последний козырь. — К сожалению, Клавдия Федоровна выбыла в город по личной надобности. После такого разговора у Шурочки начинают часто моргать ресницы и кончиком туфли она сердито топчет ни в чем не повинный кустик. Видя это, Сорока смягчает тон и предлагает гостье повидать Олю с братиком, которые вместе со старшиной Салаховым собираются варить куропаткины яйца. Предложение дежурного принимается с нескрываемой радостью. Шура бежит разыскивать ребятишек и начинает помогать в их детской кулинарии, а там, глядишь, сняв «запрет», выходит Витя Усов — и все повторяется сначала до очередного «путешествия» лейтенанта Усова на Чукотский полуостров на собаках и оленях с переправой через быстротекущие реки на самодельном, примитивно устроенном плоту. Клавдия Федоровна как старшая по возрасту в их кругу относится ко всем этим житейским историям с теплотой, действительно материнской нежностью и заботой. Размолвки среди друзей она старается по возможности быстро устранять. Вчера, например, она пробрала основательно Шуру за ее нерешительность и капризы. Досталось и Усову. Но он только отшучивался: — Действуйте, Клавдия Федоровна, действуйте. Время тоже на нас немало сработало. Сегодня она нарочно позвала их в село, чтобы они без помех могли поговорить друг с другом. Кроме того, ей хотелось познакомиться с родителями Галины. Виктор Усов согласился побывать в селе, потому что ему нужно было кое-что разузнать об одном недавно появившемся здесь человеке. Прежде чем зайти к Седлецким, они прошлись по селу из конца в конец.ГЛАВА ПЯТАЯ
— Что за человека высмотрела Франчишка? — спросила Стася после исчезновения соседки. — Может, она брешет? — Может, и брешет, — уклончиво ответил Олесь и поспешно вышел из комнаты. В саду Седлецких было много вишневых деревьев, начавших уже ронять на траву пожелтевшие листья. В самом конце сада находилась беседка, обвитая хмелем. Раздвинув куст сирени, Олесь, согнувшись, полез в беседку. Увидев сидевшего за круглым столиком вчерашнего «контрабандиста», он так растерялся, что даже позабыл поприветствовать быстро вскочившего гостя. — Не ожидали, пан Седлецкий? — проговорил гость. Острые разномастные глаза его смотрели на Олеся сквозь круглые роговые очки, неуклюже сидевшие на сухом хрящеватом носу. Вчера этих очков на незнакомце Олесь не видел. Он еще больше смутился. — Удивлен немножко… это сущая правда, — пробормотал Олесь и присел напротив. Он не только был не рад пришельцу, но чувствовал себя так, словно его самого, как карася, посадили в пруд пана Гурского к матерым, столетнего возраста щукам. — Не удивляйтесь, пан Седлецкий, — негромко проговорил гость, видя замешательство хозяина. — Я считал себя обязанным навестить оторванного от своей отчизны земляка именно сегодня! — Благодарю вас, пан. Но мы со своим братом Янушем здесь родились и выросли… — Вы мне не дали договорить, пан Седлецкий! Я имею в виду всю нашу многострадальную Польшу, о которой должен болеть душой сейчас всякий честный поляк. Теперь в каждом польском доме есть свое горе! — Это вы тоже верно сказали, — подтвердил Олесь. — Вы, как мне известно, чистокровный поляк и свой человек, поэтому будем говорить откровенно. Я шел к вам, но в вашем доме оказались посторонние люди, и я вынужден был пройти в сад. — Да, я вас понимаю, но в село, кажется, пришли пограничники, пан… пан… простите, не знаю вашего имени, — быстро заговорил Олесь. Он чувствовал себя неловко, да и неприятен был этот бесцеремонный, с напористым взглядом человек в длинном сером макинтоше и в легкой фетровой шляпе. — Сукальский. Вы же знаете, что я приехал к своему родственнику ксендзу Сукальскому. Меня не интересуют дела советских пограничников. Я прибыл навестить моего родственника и зарегистрировался в милиции. Я свободный служитель всемогущего господа бога и Речи Посполитой. Мое искреннее желание, подкрепленное свыше моими святыми наставниками и его преосвященством папой римским, — помочь каждому католику, на которого обрушилось тяжелое бедствие. Мне стало известно и ваше большое несчастье. — Покамест, пан Сукальский, в моем доме не было большого несчастья, осторожно возразил Олесь, начиная догадываться, к чему клонит этот человек. — А разве приход новой власти, которая попирает религию и свободную торговлю, — это не несчастье, пан Седлецкий? Когда не было Советов, разве ваша пани Стася не покупала дешевых заграничных товаров, разве не было возможности заниматься коммерцией? Ведь она, кажется, привозила из Кракова дамские чулки, шелк, обувь… Олесь отлично помнил, как года два назад Стася действительно привезла какие-то тряпки и начала ими торговать. Однако вскоре нагрянула полиция, произвела обыск и опись всех товаров, а потом пригрозила судом. Как тогда Стася откупилась от полицейских чиновников, одному богу известно. «Может быть, такой же монашек всучил тогда Стасе этот товарец из чужого магазина», — подумал Олесь, но сказал совсем другое: — Я, пан Сукальский, плохо разбираюсь в тонкостях торговли. В этом больше смыслит пани Стася. Но должен вам признаться, что сейчас торговля идет плохо. У Советов очень много товаров, и торгуют они гораздо дешевле, чем мы. Думаю, что нам придется закрывать лавочку. — Вот, вот! Сначала они закроют вашу лавочку, а потом, если вы не захотите идти в колхоз, вас с пани Стасей и дочками увезут в Сибирь, за десять тысяч километров… — Вы так думаете, пан Сукальский? — сумрачно спросил Олесь. Точно такие же слова он слышал от Юзефа Михальского, и ему никак не улыбалось совершать такое длительное путешествие. Олесь крепко задумался.
— Не думаю, а знаю! — резко подтвердил Сукальский и, чувствуя, что слова его достигают цели, продолжал: — А то, что делается с вашей младшей дочерью, это вам по душе, пан Олесь?
— Нет, не по душе, — откровенно признался Олесь, удивляясь, откуда пану Сукальскому известны такие подробности.
Олесь начинал верить в бога, когда его семье грозила какая-нибудь опасность. Вспомнив неурядицу в своей семье, Олесь мысленно помолился и решил про себя, что, если этот переодетый монашек умеет разгадывать семейные тайны, значит, с ним можно вести дела.
— Вы, поляк, разве можете терпеть, когда вас отлучают от церкви и совращают ваших родных детей? — приближая к Олесю худощавое продолговатое лицо, горячо прошептал гость.
— Нет, я не могу мириться с этим, — робея, согласился Олесь. — Но что мне делать, пан Сукальский?
Слова этого странного человека попадали в самые больные места Олеся.
— Каждый настоящий поляк должен быть хозяином своей жизни и должен знать, что ему делать, — жестко продолжал Сукальский.
— А все же, пан Сукальский, скажите, что мне делать?
— Сопротивляться и ждать!
— Кому сопротивляться и чего ждать? — настаивал Олесь.
— Сопротивляться Советам, а как это делать вам, укажут верные люди… — Сукальский, что-то обдумывая, несколько секунд помолчал, потом, впившись своими продолговатыми разномастными глазами в глаза Олеся, шепотом продолжал: — Скоро все изменится. Собираются такие силы, что Советам будет вот что… — Сукальский быстро провел ребром ладони по своему выпуклому кадыку и, любуясь произведенным впечатлением, замолчал.
Олесь резко отшатнулся, привалившись к спинке скамьи. Теперь ему окончательно стало ясно, что гость его занимается «большой политикой».
— Все, что вы от меня слышали, пан Седлецкий, можете рассказать только верным людям, как, например, пани Седлецкой. Она настоящая католичка! Надеюсь, вы меня поняли. Передайте ей вот эту книжицу. Тут некоторые наставления на всякие случаи жизни, — Сукальский сунул Олесю какую-то брошюру.
Олесь не все понял в странных речах Сукальского. Однако он отлично усвоил, что это тайна и касается она «большой политики». О том, что надо говорить с женой, ему и не нужно было напоминать. С ней он обо всем серьезном советовался.
Вернувшись в хату, Олесь нашел свою супругу в столовой около буфета. Она с нетерпением ожидала мужа.
— Что это за птица в беседке прячется? Зачем он сюда приходил? решительно спросила Стася.
— Это двоюродный брат нашего ксендза Сукальского, — присаживаясь к столу, ответил Олесь и попросил жену налить ему стаканчиквишневой настойки, так как заметил на старомодном громоздком буфете пустую рюмку и понял, что Стася уже приложилась к бутылке. Это напоминало, что и ему после всех передряг тоже не мешает опрокинуть стаканчик и отдохнуть.
— Так это и есть тот самый родственник пана Сукальского… Он молодой? — наливая из граненой старинной бутылки, спросила Стася, явно заинтересованная сообщением мужа.
— А я что, был у него на крестинах и считал его годы? — в свою очередь спросил Олесь с раздражением в голосе.
— Может быть, он такой же дряхлый, как наш пастух Януш Ожешко, этот самый родственник пана Сукальского?
— Вот же пристала, жинка! Да что ты его, в женихи, что ли, записать хочешь? — упорствовал недогадливый Олесь, не представляя себе, что в его отсутствие Стася пересортировала целые вороха мыслей. После третьей рюмки вишневки в ее воображении стал вырисовываться соблазнительный план: пристроить своих дочерей при помощи ксендза Сукальского, который и сам не прочь иногда скользнуть косым взглядом по корсету пани Седлецкой. Мысли ее теперь вертелись около вопроса: зачем приходил этот Сукальский и о чем беседовал с ее мужем? Ведь ксендз при каждой встрече говорит восторженные вещи о ее дочерях. Она не замедлила отчитать мужа за то, что он не пригласил такого почтенного гостя в комнаты.
— Может быть, у него были свои намерения… Мне не раз пан Сукальский намекал о своем брате. И почему, когда в доме есть взрослые дочери, их мать не должна беспокоиться?
Олесь вспомнил сухоносую физиономию монаха, на минуту вообразил его женихом Ганны или Галинки, не выдержал и громко расхохотался. Слишком далеки были его помыслы от планов супруги.
— Из него такой же женишок, как из меня духовный наставник.
— Я с тобой о деле говорю и не желаю слушать твой глупый смех! И что такого, если я спросила — молодой он или старый?
— Пан Сукальский неизвестных лет и приехал сюда не такими глупостями заниматься, какими набита твоя пустая голова! — приосаниваясь, решительно заявил Олесь, с гордостью думая, что если пан Сукальский доверил ему тайну «большой политики», то он может разговаривать со своей супругой не только как муж, но и как маленький домашний воевода и никому не позволит считать свой смех глупым.
— Если бы ты знала, зачем приехал сюда пан Сукальский…
Стася была задета за живое и зажглась любопытством.
— Если ты узнаешь, зачем здесь этот человек, так у тебя застучит сердце и начнут зудеть пятки, — подливал Олесь масла в огонь.
— Да говори же ты!
— Налей-ка еще стакашку… Ой же и добрая вишневка!
Стася не замедлила исполнить просьбу мужа, но не забыла и себя.
Сжимая рюмку пальцами и глядя на мужа расширенными глазами, Стася готова была поймать на лету и проглотить каждое сказанное им слово. Но коварный Олесь, смакуя настойку, не торопился.
— Пан Сукальский — такая голова! Его брату, нашему ксендзу, надо на крышку органа залезть, чтобы на эту голову плюнуть…
— Ты что, полыни, что ли, наелся, такое мерзавство о нашем ксендзе говоришь! — возмутилась Стася. — Больше не получишь ни одного стаканчика…
— Нет, пани Стаська! Ты мне нальешь еще несколько стаканчиков этой настойки! Вот я тебе расскажу такое, что ты прилипнешь к спинке стула, на котором сидишь, как та муха к бутылке. Прогони эту поганую муху ко всем дьяволам или убей ее, а то она мне еще в стакан упадет…
Стася покорилась и тут. Она знала, что если Олесь понюхал один стаканчик, значит, надо налить другой. После третьего он начнет думать, что он все-таки пан, и немножко покуражится. Поэтому Стася решила терпеливо ждать и потрафлять всем его мелким капризам. Нацелившись на притаившуюся у горлышка бутылки муху, она слегка, как ей казалось, шлепнула ладонью по стеклу бутылки. Бутылка с грохотом опрокинулась на пол.
Спавшая в соседней комнате Галина проснулась и подняла голову с подушки.
— Ух и глупая ж ты баба! Даже мухи не можешь пришлепнуть, а туда же, лезешь с разговорами. Гляди, что наделала!
На белых половиках разбрызгались красные капли вина, а на месте, где разбилась бутылка, образовалась порядочная лужа.
— Все из-за твоей мухи! — вскочив со стула, крикнула Стася и принялась подбирать склянки.
— Почему это моя муха? Вы, бабы, разводите столько мух, что негде даже краюху хлеба положить!
— Уж молчал бы!
— Ну и что же, буду молчать. Ставь-ка другую бутылку. Я тебе такое расскажу, что ты треснешь со страху, как эта самая бутылка.
— Да ты так рассказываешь, как ленивого вола к ярму тянешь. Через твое такое говорение столько доброго вина разлила.
— А сколько, жинка, мы все-таки намочили той доброй вишневки?
— Хватит тебе, пьянчужка. До рождества и к пасхе останется.
— А ежели мы справим свадьбу, хватит нам вина или нет?
— Была бы свадьба…
— Ну, а ежели мы справим две свадьбы и я вздумаю отпраздновать день своего рождения и позову много гостей?
— Можешь позвать все Гусарское и еще солдат с пограничной заставы.
— Ты говоришь, солдат с пограничной заставы?
Олесь многозначительно ухмыльнулся и начал закручивать облитые вином усы.
— Я глупости говорю, а ты поменьше слушай. Лучше не томи душу, расскажи те страсти, что слышал от этого монашка.
— Когда мы будем справлять свадьбу Галины, то советских солдат здесь уже не будет, — пристально посматривая на Стасю, твердо проговорил Олесь.
— А куда могут подеваться советские солдаты? — ловя его взгляд, спросила Стася.
Олесь, оторвав руку от усов, так же как и Сукальский, провел ладонью по своему горлу.
— Что же это значит, Олесь?
Стася подскочила к мужу и крепко сдавила рукой его плечо.
Олесь, ничего не утаивая, передал разговор с Сукальским, взяв с жены клятву, что она будет молчать как рыба.
— Вы так думаете, пан Сукальский? — сумрачно спросил Олесь. Точно такие же слова он слышал от Юзефа Михальского, и ему никак не улыбалось совершать такое длительное путешествие. Олесь крепко задумался.
— Не думаю, а знаю! — резко подтвердил Сукальский и, чувствуя, что слова его достигают цели, продолжал: — А то, что делается с вашей младшей дочерью, это вам по душе, пан Олесь?
— Нет, не по душе, — откровенно признался Олесь, удивляясь, откуда пану Сукальскому известны такие подробности.
Олесь начинал верить в бога, когда его семье грозила какая-нибудь опасность. Вспомнив неурядицу в своей семье, Олесь мысленно помолился и решил про себя, что, если этот переодетый монашек умеет разгадывать семейные тайны, значит, с ним можно вести дела.
— Вы, поляк, разве можете терпеть, когда вас отлучают от церкви и совращают ваших родных детей? — приближая к Олесю худощавое продолговатое лицо, горячо прошептал гость.
— Нет, я не могу мириться с этим, — робея, согласился Олесь. — Но что мне делать, пан Сукальский?
Слова этого странного человека попадали в самые больные места Олеся.
— Каждый настоящий поляк должен быть хозяином своей жизни и должен знать, что ему делать, — жестко продолжал Сукальский.
— А все же, пан Сукальский, скажите, что мне делать?
— Сопротивляться и ждать!
— Кому сопротивляться и чего ждать? — настаивал Олесь.
— Сопротивляться Советам, а как это делать вам, укажут верные люди… — Сукальский, что-то обдумывая, несколько секунд помолчал, потом, впившись своими продолговатыми разномастными глазами в глаза Олеся, шепотом продолжал: — Скоро все изменится. Собираются такие силы, что Советам будет вот что… — Сукальский быстро провел ребром ладони по своему выпуклому кадыку и, любуясь произведенным впечатлением, замолчал.
Олесь резко отшатнулся, привалившись к спинке скамьи. Теперь ему окончательно стало ясно, что гость его занимается «большой политикой».
— Все, что вы от меня слышали, пан Седлецкий, можете рассказать только верным людям, как, например, пани Седлецкой. Она настоящая католичка! Надеюсь, вы меня поняли. Передайте ей вот эту книжицу. Тут некоторые наставления на всякие случаи жизни, — Сукальский сунул Олесю какую-то брошюру.
Олесь не все понял в странных речах Сукальского. Однако он отлично усвоил, что это тайна и касается она «большой политики». О том, что надо говорить с женой, ему и не нужно было напоминать. С ней он обо всем серьезном советовался.
Вернувшись в хату, Олесь нашел свою супругу в столовой около буфета. Она с нетерпением ожидала мужа.
— Что это за птица в беседке прячется? Зачем он сюда приходил? решительно спросила Стася.
— Это двоюродный брат нашего ксендза Сукальского, — присаживаясь к столу, ответил Олесь и попросил жену налить ему стаканчиквишневой настойки, так как заметил на старомодном громоздком буфете пустую рюмку и понял, что Стася уже приложилась к бутылке. Это напоминало, что и ему после всех передряг тоже не мешает опрокинуть стаканчик и отдохнуть.
— Так это и есть тот самый родственник пана Сукальского… Он молодой? — наливая из граненой старинной бутылки, спросила Стася, явно заинтересованная сообщением мужа.
— А я что, был у него на крестинах и считал его годы? — в свою очередь спросил Олесь с раздражением в голосе.
— Может быть, он такой же дряхлый, как наш пастух Януш Ожешко, этот самый родственник пана Сукальского?
— Вот же пристала, жинка! Да что ты его, в женихи, что ли, записать хочешь? — упорствовал недогадливый Олесь, не представляя себе, что в его отсутствие Стася пересортировала целые вороха мыслей. После третьей рюмки вишневки в ее воображении стал вырисовываться соблазнительный план: пристроить своих дочерей при помощи ксендза Сукальского, который и сам не прочь иногда скользнуть косым взглядом по корсету пани Седлецкой. Мысли ее теперь вертелись около вопроса: зачем приходил этот Сукальский и о чем беседовал с ее мужем? Ведь ксендз при каждой встрече говорит восторженные вещи о ее дочерях. Она не замедлила отчитать мужа за то, что он не пригласил такого почтенного гостя в комнаты.
— Может быть, у него были свои намерения… Мне не раз пан Сукальский намекал о своем брате. И почему, когда в доме есть взрослые дочери, их мать не должна беспокоиться?
Олесь вспомнил сухоносую физиономию монаха, на минуту вообразил его женихом Ганны или Галинки, не выдержал и громко расхохотался. Слишком далеки были его помыслы от планов супруги.
— Из него такой же женишок, как из меня духовный наставник.
— Я с тобой о деле говорю и не желаю слушать твой глупый смех! И что такого, если я спросила — молодой он или старый?
— Пан Сукальский неизвестных лет и приехал сюда не такими глупостями заниматься, какими набита твоя пустая голова! — приосаниваясь, решительно заявил Олесь, с гордостью думая, что если пан Сукальский доверил ему тайну «большой политики», то он может разговаривать со своей супругой не только как муж, но и как маленький домашний воевода и никому не позволит считать свой смех глупым.
— Если бы ты знала, зачем приехал сюда пан Сукальский…
Стася была задета за живое и зажглась любопытством.
— Если ты узнаешь, зачем здесь этот человек, так у тебя застучит сердце и начнут зудеть пятки, — подливал Олесь масла в огонь.
— Да говори же ты!
— Налей-ка еще стакашку… Ой же и добрая вишневка!
Стася не замедлила исполнить просьбу мужа, но не забыла и себя.
Сжимая рюмку пальцами и глядя на мужа расширенными глазами, Стася готова была поймать на лету и проглотить каждое сказанное им слово. Но коварный Олесь, смакуя настойку, не торопился.
— Пан Сукальский — такая голова! Его брату, нашему ксендзу, надо на крышку органа залезть, чтобы на эту голову плюнуть…
— Ты что, полыни, что ли, наелся, такое мерзавство о нашем ксендзе говоришь! — возмутилась Стася. — Больше не получишь ни одного стаканчика…
— Нет, пани Стаська! Ты мне нальешь еще несколько стаканчиков этой настойки! Вот я тебе расскажу такое, что ты прилипнешь к спинке стула, на котором сидишь, как та муха к бутылке. Прогони эту поганую муху ко всем дьяволам или убей ее, а то она мне еще в стакан упадет…
Стася покорилась и тут. Она знала, что если Олесь понюхал один стаканчик, значит, надо налить другой. После третьего он начнет думать, что он все-таки пан, и немножко покуражится. Поэтому Стася решила терпеливо ждать и потрафлять всем его мелким капризам. Нацелившись на притаившуюся у горлышка бутылки муху, она слегка, как ей казалось, шлепнула ладонью по стеклу бутылки. Бутылка с грохотом опрокинулась на пол.
Спавшая в соседней комнате Галина проснулась и подняла голову с подушки.
— Ух и глупая ж ты баба! Даже мухи не можешь пришлепнуть, а туда же, лезешь с разговорами. Гляди, что наделала!
На белых половиках разбрызгались красные капли вина, а на месте, где разбилась бутылка, образовалась порядочная лужа.
— Все из-за твоей мухи! — вскочив со стула, крикнула Стася и принялась подбирать склянки.
— Почему это моя муха? Вы, бабы, разводите столько мух, что негде даже краюху хлеба положить!
— Уж молчал бы!
— Ну и что же, буду молчать. Ставь-ка другую бутылку. Я тебе такое расскажу, что ты треснешь со страху, как эта самая бутылка.
— Да ты так рассказываешь, как ленивого вола к ярму тянешь. Через твое такое говорение столько доброго вина разлила.
— А сколько, жинка, мы все-таки намочили той доброй вишневки?
— Хватит тебе, пьянчужка. До рождества и к пасхе останется.
— А ежели мы справим свадьбу, хватит нам вина или нет?
— Была бы свадьба…
— Ну, а ежели мы справим две свадьбы и я вздумаю отпраздновать день своего рождения и позову много гостей?
— Можешь позвать все Гусарское и еще солдат с пограничной заставы.
— Ты говоришь, солдат с пограничной заставы?
Олесь многозначительно ухмыльнулся и начал закручивать облитые вином усы.
— Я глупости говорю, а ты поменьше слушай. Лучше не томи душу, расскажи те страсти, что слышал от этого монашка.
— Когда мы будем справлять свадьбу Галины, то советских солдат здесь уже не будет, — пристально посматривая на Стасю, твердо проговорил Олесь.
— А куда могут подеваться советские солдаты? — ловя его взгляд, спросила Стася.
Олесь, оторвав руку от усов, так же как и Сукальский, провел ладонью по своему горлу.
— Что же это значит, Олесь?
Стася подскочила к мужу и крепко сдавила рукой его плечо.
Олесь, ничего не утаивая, передал разговор с Сукальским, взяв с жены клятву, что она будет молчать как рыба.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Галина прислушивалась к разговору в соседней комнате. Кто-то готовится напасть на советских солдат и вернуть старую панскую власть, которая уничтожит ее любимого Костю и маленькую Олю с заставы. Не будет и Олиной матери, доброй русской женщины Клавдии Федоровны, и славной учительницы Александры Григорьевны, умеющей так ласково говорить и с маленькими и со взрослыми. Клавдия Федоровна, Александра Григорьевна и Костя помогли ей узнать, как в России живут люди. Значит, ничего этого здесь не будет? Значит, снова родители могут отдать ее или Владиславу Михальскому или даже ксендзу Сукальскому. Нет, она этого не допустит! Побежит сейчас к Косте или на пограничную заставу, к лейтенанту Усову, и расскажет все об этом проклятом родственнике Сукальского, который хочет погубить русских. Олесь и Стася продолжали выпивать и разглагольствовать до тех пор, пока в дверь не постучали и в комнату не вошли начальник пограничной заставы лейтенант Усов, Клавдия Федоровна Шарипова и учительница Александра Григорьевна. Кудеяров ушел с детьми к Франчишке Игнатьевне пить молоко и покупать помидоры. Таких гостей Седлецкие никак не ожидали. Они растерялись. В особенности это было заметно по Олесю, у которого хмель быстро прошел. В его голову полезли черт знает какие несуразные мысли. «Может, когда я с тем монахом, чтоб ему собака пана Михальского перегрызла глотку, разговоры вел о «большой политике», этот беловолосый начальник заставы со своей овчаркой в кустах сидел и подслушивал?… Смотри, как по-польски трещать научился. Все, наверное, записал, до единого словечка! Вот придешь теперь на заставу, — мучительно думал Олесь (на заставу он иногда ходил выполнять плотницкие работы), — придешь туда, а та паршивая овчарка узнает тебя и цапнет голубчика за ляжку… Вот тогда-то наверняка поедешь в далекое путешествие…» Стася поставила на стол новую бутылку и большое блюдо со спелыми коричневыми яблоками. Она тоже ломала себе голову, зачем могли пожаловать к ним такие необычные гости. Стася с любопытством разглядывала ярко и модно одетых женщин, высокого красавца лейтенанта. Ей даже понравились его смелые голубые глаза, густые, зачесанные назад светлые волосы и красивый рот, полный крепких и ровных зубов. — Да вы напрасно беспокоитесь, Станислава… простите, не знаю, как вас величать по батюшке… — с сердечностью проговорила Клавдия Федоровна. Она старалась разогнать холодок отчужденности со стороны хозяев. — Меня зовут Станислава Юзефовна, — с заметным оттенком гордости ответила Стася. — Какие у вас, Станислава Юзефовна, милые дети! — говорила Клавдия Федоровна. — Чудесные, способные у вас девушки и великолепные мастерицы. А какую Галя связала и подарила моей Оленьке шапочку! Прелесть! Сразу чувствуется воспитание матери. Приучать к труду девочек может только мать. — Это вы правильно говорите, — польщенная похвалой, согласилась Стася. — А где же ваши девушки, Станислава Юзефовна? Почему вы их прячете? Позовите. Может быть, мы даже посватаемся. Вон какие у нас женихи, — кивая на Усова, закончила Клавдия Федоровна. — Да у него своя есть, — метнув на Шуру глаза, бойко проговорила Стася. — У нас не только один жених, есть и другие, не хуже этого, полушутливо-полусерьезно ответила Клавдия Федоровна. — У наших девочек уже есть женихи. Да и не пара они вашим командирам. Они католички, а вы, советские, ни в какого бога не веруете. Мрачнея в лице, Стася встала, давая понять, что разговор на эту тему дальше продолжать не намерена. От суровой, ничем не прикрытой резкости хозяйки Клавдия Федоровна умолкла. Александра Григорьевна, чувствуя, что лицо ее начинает краснеть, отвернулась к окну. За ближайшей, почерневшей от давности соломенной крышей лениво крутились серые крылья ветряной мельницы, за которой виднелась верхушка высохшей ветлы. Мельница эта принадлежала Юзефу Михальскому. В столовой, где сидели гости, было темно и неуютно. Отпечаток мрачности лежал не только на лицах хозяев, но и на всей комнате с ее неуклюжим старомодным буфетом и обветшалыми, с высокими спинками, стульями, доставшимися пани Стасе в наследство от бабушки. Единственное, что здесь радовало, так это обилие садовых цветов, расставленных Галиной на подоконниках. Резко скрипнув пистолетной кобурой, Усов встал со стула, оправил под командирским ремнем гимнастерку и, едва заметно моргнув Клавдии Федоровне, улыбнулся. Несмотря на неприветливость хозяйки и замкнутость Олеся, начальник заставы был доволен визитом. Нужно было, прежде чем выступать в роли свата, познакомиться с домашней обстановкой Седлецких, узнать, как и чем живет эта семья, с которой предстояло породниться его близкому другу. Присматриваясь внимательно к хозяйке, он почувствовал, что эта, по-видимому, гордая, самолюбивая и глубоко невежественная женщина не только чужда современной жизни, но далека и от интересов родных детей. «Тяжеловато с вами, тетя Стася, вашему молчаливому супругу», — подумал Усов и шутливо заметил: — У вас, у верующих, Станислава Юзефовна, больше преимуществ, чем у нас, безбожников. — Что вы этим хотите сказать? — круто повернувшись к нему, настороженно спросила Седлецкая. — Хочу сказать, что вы, верующие, пользуетесь и всеми земными благами и небесными, но почему же вы с нами, грешными, не хотите разделить даже мирских радостей… — Вы сами виноваты, коли отказываетесь от господа бога, назидательно проговорила Стася, очень любившая говорить о туманных божественных вещах и поучать других. — Я бы с удовольствием встретил такого человека, который мог бы насытить меня этой священной пищей, но вот, к сожалению, никак не могу встретить. Тут, говорят, приехал недавно какой-то католический наставник. Мечтаю с ним встретиться и поговорить по душам. Усов быстро вскинул на хозяйку голубые глаза и доверчиво улыбнулся. Это вышло у него непосредственно и забавно, но заставило Клавдию Федоровну прищурить и опустить глаза. — Вы шутите, товарищ лейтенант! Вам это совсем ни к чему, запинаясь, торопливо проговорила Стася, чувствуя, что глаза начальника заставы становились все пытливее и зорче, а улыбка, не сходящая с его строгого красивого лица, требовала определенного ответа. Спрятав дрожащие руки под темную кашемировую кофточку, Стася несколько раз подряд ущипнула себя за бок, поморщилась и плотно закусила губы. Олесь мысленно призывал на помощь господа бога и одновременно посылал Сукальского, вмешавшего его, скромного человека, в «большую политику», к дьяволу. Муж и жена, не глядя друг на друга и как будто забыв про гостей, мрачно и растерянно опустив головы, молчали. Попрощавшись, гости быстро вышли.ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Иван Магницкий сидел в большом плодовом саду Михальских на сваленных под ветвистой яблоней сосновых бревнах, вдыхая свежий, любимый им с детства запах смолы, и выслушивал путаные объяснения Юзефа. Кривя длинное морщинистое лицо, изрядно выпивший перед этим самогонки, Михальский говорил: — Ежели ты теперь новая власть, то можешь мне, Юзефу Михальскому, которого знают добрые люди от Познани до Варшавы, говорить, что я украл у твоей власти лес? Выходит, Юзеф, у которого душа почище вот этой смолы, вор? — Это скажет народный суд, — упрямо и настойчиво твердил Магницкий. — Ага, значит, говоришь — народный! Ну, а лес тоже народный! Ведь так же говорят Советы? — Так говорят Советы. Ну и что же? — Так что мне может сказать твой суд, коли лес принадлежит народу? — Суд охраняет народное добро, а ты украл у народа лес. Тебя надо судить. — Ха-ха! За что же меня судить, когда я сам есть народ… Как же я могу украсть сам у себя? — Народ — это все государство, а ты созорничал один! Вспомни, когда ты был старостой при панской власти, много ты разрешал рубить лес для наших крестьянских хат? Ну-ка, скажи! — Какой ты чудак, Иван! Сколько тогда было народного леса? Шиш! Тогда почти весь лес принадлежал пану Гурскому. Это была собственность! Не надо путать собаку с кошкой… А теперь это собственность народа, значит, и моя! Так говорят Советы, а при чем тут я, Юзеф Михальский? Магницкому надоели дурашливые увертки Юзефа и весь этот замысловатый разговор, сопровождаемый всякого рода ужимками, пьяными гримасами и жестами. — Ты, Юзеф, похож на того старого монаха, который, напившись бражки, нагрешил, напакостил и обвинил во всем бондаря, смастерившего бочонок. Если бы не было бочонка, то не в чем было бы квасить брагу… Не юли, я тебе не бондарь и не бочонок, в который ты можешь вылить свои помои. Лес придется отвезти в сельсовет и добровольно уплатить штраф. А то еще хуже будет. — А вот это видел?! — злобно крикнул Михальский и показал Ивану дулю. Магницкий медленно встал с бревна, гневно уставившись на Михальского, отбросил цигарку в сторону. — Озорничать ты можешь, Юзеф. Чтобы боднуть козленку вола, ума много не надо. Но себя бодать я тебе не дам! И оскорблять Советскую власть не позволю! Не ты и не твой сын ее завоевали! Она дорого стоит! Ты вот кричишь: все народное, а сам тащишь народное добро и прячешь у себя в саду. Спросил ты на это разрешение у народа? — Не у тебя ли спрашивать? Тоже комиссар! Бревно ты, а не комиссар! В лесу вырос, всю жизнь, как голодный медведь, лапу сосал, а теперь дали тебе волю!… Взбешенный, полупьяный Михальский, не помня себя, как камни, с презрением и ненавистью швырял в лицо Магницкого эти слова. — Комиссары… Да ты знаешь, скоро твоих комиссаров в Августовских лесах вешать будут! Ты тоже попадешь вместе с ними, если не одумаешься! — Погоди, погоди, что ты говоришь? Но Юзеф Михальский, казалось, ничего не слышал и с клокотавшей в горле злобой продолжал: — Тысячами глоток на тебя орать будут! Каленым железом будут того жечь, кто не перестанет притеснять нас, коренных поляков! А ты белорус, в тебе нет чистой польской крови, потому ты и против нас! Смотри, Магницкий, народ недоволен тобой. Скоро твои начальники не смогут за тебя заступиться… — Почему ты так думаешь? — Только я смогу за тебя заступиться… — не отвечая, продолжал Михальский. — Скоро все изменится… Неизвестно, какие еще мысли высказал бы Михальский, если бы в это время не раздался собачий лай и в кустах не показался какой-то человек. Магницкий и Михальский повернули головы. Нервно теребя в руках измятую шляпу, перед ними стоял Сукальский. Пробираясь по саду от Олеся Седлецкого, он услышал голоса и, спрятавшись в кустах, подслушал весь разговор. Его поразили грубые и откровенные выкрики несдержанного Михальского. Они были опасны не только для Юзефа. Захотелось выскочить из кустов и зажать рот этому дураку Михальскому, но он боялся показаться на глаза Магницкому. Однако покинуть свое убежище его вынудила огромная собака Владислава. Почуяв чужого человека, она с громким лаем бросилась в кусты и, злобно зарычав, остановилась в двух шагах. — Я вам не помешал, добрые хозяева? — спросил Сукальский и, повернув голову к Михальскому, так свирепо на него посмотрел, что тот обмяк и съежился. Иван Магницкий, оглядев незнакомца с ног до головы, вытащил из кармана коробку с табаком, стал крутить цигарку. Усиленно работавшая в голове мысль неожиданно подсказала, что появление этого человека и угроза Михальского имеют какую-то внутреннюю связь. Иван Магницкий насторожился и решил выждать, что же будет дальше. По выступившим на щеках незнакомца розовым пятнам он видел, что скуластое волевое лицо его искажено не страхом перед собакой, а злобой на Юзефа, которого он, очевидно, видел не первый раз. Сукальский без труда угадал мысли Магницкого. Он имел о нем достаточные сведения и поэтому, решив не дать ему опомниться, напал первым. — Мне известно, гражданин Магницкий, что вы являетесь председателем сельсовета. Все, что говорил вам этот гражданин, — небрежно показывая пальцем, продолжал Сукальский, — я слышал. Как официальное лицо, вы обязаны сообщить этот разговор властям. Если меня вызовут, я могу подтвердить. Я, как вновь прибывшее лицо, недавно регистрировался в милиции, имею там знакомых… Юзеф Михальский, сжимая в кулак растрепавшуюся бороденку, вытаращив глаза, поднимал голову все выше и выше, невольно подчиняясь этому жесткому скрипящему голосу. Он с ужасом почувствовал, что Сукальский говорит то, что может случиться на самом деле. Сбитый с толку, Магницкий, выжидательно посматривая на незнакомца, курил. — Пан Сукальский, — огорошенный его словами, начал было Михальский, но Сукальский, махнув рукой, властно его оборвал: — Молчите! Вы заслужили наказание, и будете наказаны! Гражданин Магницкий, я повторяю, что вы обязаны выполнить свой долг или это сделаю я сам. Вы только не выпускайте его из рук… — Сукальский выразительно посмотрел на оторопевшего Михальского и, круто повернувшись, скрылся за густыми кустами вишни. Минуту спустя слышно было, как он о чем-то разговаривал с Владиславом, который успокаивал рычавшую собаку и, видимо, привязывал ее. Потом все стихло. — Быстро, Владислав, принесите мне лучший ваш костюм, — проходя в комнату Владислава, сказал Сукальский. — Ваш родитель, как самый последний дурак, из-за каких-то бревен наговорил этому белорусу всяких глупостей и выдал нас с головой. Мне дольше оставаться здесь нельзя. Все связи вы будете держать у себя в руках. Но вам тоже придется туго. Вы отлично сделали, что вошли в доверие. А сейчас отец и вас скомпрометирует… У нас с вами почти одинаковые фигуры, — примеривая серый костюм, продолжал Сукальский. — Вы еще положите в корзину яблок. В случае чего будете говорить, что я приходил к вам покупать яблоки для больного родственника и случайно сторговал у вас и костюм. В моем положении надо чаще менять костюмы. Чертовски трудно стало налаживать связи. — Скажите, пан Сукальский, скоро все это начнется? — пытливо спросил Владислав. — Этого никто сказать не может, кроме вашего глупого отца. — Отец не глуп… Но он с утра выпивает и сегодня пропустил лишнее. Что же теперь с ним будет? Вы думаете, донесет Магницкий? — Не знаю. Может быть, и побоится. Но надеяться на это никак нельзя. — Если Магницкий донесет, что могут сделать с отцом? — Это уж надо спрашивать у советских чекистов. И я бы на вашем месте воздержался от таких вопросов. Надо принять меры, чтобы этого не случилось. — Что же можно сделать? — напряженно давя руками спинку стула, спросил Владислав. — Сейчас пока проследите, что предпримет этот лесоруб. Потом напишете донесение и снесете в указанное вам место. Самостоятельно никаких действий пока не предпринимать — понятно? Владислав молча склонил голову. Через некоторое время мимо окон Франчишки Игнатьевны прошел высокий, в сером костюме человек. В руках у него была закрытая газетой корзинка. Быстро шагая, он свернул за угол и скрылся в ближайшем переулке. — Костя, Костя! — крикнула вертевшаяся у окна Оля. — Вон дяденька пошел с корзинкой в лес. Мне тоже хочется в лес! Пойдемте, дядя Костя, грибочков наберем! — Как же мы пойдем без мамы? — отозвался Кудеяров, разговаривавший до этого с сидевшим на кровати Осипом Петровичем. Франчишка Игнатьевна поила Славу молоком. Вытянув тонкую шею, она глянула в окно, подосадовав на то, что ей не удалось узнать, кто мог в такой час отправиться за грибами. В хате Августиновичей, кроме одной табуретки, скамьи, стола и старенькой самодельной кровати, покрытой синим дерюжным одеялом, ничего не было. Когда Усов, Клавдия Федоровна и Шура вошли в хату, Франчишка Игнатьевна кое-как рассадила их, поставила на стол вторую крынку молока и тарелку с помидорами. Теперь, уперев руки в свои костлявые бока, она думала, чем еще угостить таких редких и дорогих гостей. — Погодите, я сейчас угощу вас тыквой! У меня есть такая пареная тыква, получше того абрикоса… Несмотря на свои пятьдесят лет, Франчишка Игнатьевна легко, по-девичьи быстро повернулась на пятках и подскочила к печке. — Спасибо, Франчишка Игнатьевна. Мы ничего не хотим! — в один голос сказали женщины. — Как же вы можете отказываться от такой тыквы! А когда я прихожу до вас, то сколько вы меня кушать заставляете? И того попробуй и этого откуси. По-вашему, Франчишка не может угостить? Что она, не знает, как нужно принимать гостей? — Ну что ж, тыква так тыква… Давайте, тетя Франчишка, тыкву, решительно заявил Усов, подсаживаясь к столу. — Тыква, брат, тонкий деликатес, если кто понимает, — продолжал он, с усмешкой поглядывая на шептавшихся женщин. — А чем вас угощала пани Седлецкая? — с любопытством спросила Франчишка Игнатьевна, ставя на стол сковородку с пареной тыквой. — Графинчик вишневочки появлялся… — ответил Усов, пробуя дымящуюся тыкву. — Чуешь, баба, чем угощает Стаська? Вишневкой, а ты тыквой! вмешался Осип Петрович и так смачно крякнул и разгладил усы, словно уже опрокинул стаканчик забористой вишневки. — Ты бы лучше швырнула на стол нам солененьких грибочков, та огурчиков, та малого куренка, хотя б того хроменького, я бы ему живо открутил голову, а то тыква! — тянул своим певучим тенорком Осип Петрович. — Что, у нас в доме ничего другого не может оказаться? — не унимался он, питая слабую надежду, что его занозистая женка расчувствуется ради гостей и выставит на стол припрятанную настойку. — Подождите, — снова заговорила Франчишка Игнатьевна и, остановившись посреди комнаты, подняла указательный палец кверху. — Дайте трошки подумать… Я могла бы угостить вас свежей рыбой… Вот добрая закуска! — Рыба! То пища! — весело встрепенулся Осип Петрович. — Так у тебя, матка, есть рыба? — Наверное, есть, коли ты сегодня наловил в Шлямах… — Я что-то не припомню, чтобы я сегодня ходил на Шлямы, предчувствуя коварство жены, усомнился Осип Петрович. — Раз ты не наловил, то мне птички рыбы не натаскают. И он, лежебока, спрашивает, есть ли у меня рыба! Люди добрые подумают, что он меня закормил рыбой, а я все никак не могу растолстеть. Сам целый день крюки-дрюки строит, все замусорил, не наубираешься, а в доме ни одной рыбной косточки не видно… И добрая настойка была у Седлецких? — спросила Усова Франчишка Игнатьевна. — Вишневки, Франчишка Игнатьевна, я так и не попробовал, — ухмыляясь, ответил Усов. — Тю-у-у! — разочарованно протянул Осип Петрович. — А почему бы вам не попробовать той настойки? — Не пью, — ответил Усов. — Кроме нашей «Московской», ничего не употребляю. — Вот это гарно! Она ж душу успокаивает и играет! — хлестко шлепнув себя ладонью по колену, согласился Осип Петрович. — А как сама Стаська? — не обращая внимания на азартные выкрики мужа, допытывалась Франчишка Игнатьевна. — Как сама хозяйка, очень за вами ухаживала? Сдается мне, что с ней сегодня хворость приключилась… Франчишке Игнатьевне не терпелось рассказать, как сегодня бранилась и рвала на себе волосы Стася Седлецкая, и она ждала для этого подходящего момента. Вот если бы женщины перестали шептаться и обратили бы на хозяйку внимание. — Стася сегодня совсем не своя… — горестно поджимая щеку, продолжала Франчишка Игнатьевна, — ну совсем помешанная… — Ну чего ты причепилась, — предчувствуя, что у супруги чешется язык, вмешался Осип Петрович. — Помешанная та хворая… Ты тоже пять раз в день ложишься помирать… В другой раз Франчишка Игнатьевна не стерпела бы этой дерзости мужа, но на этот раз сдержалась и только коротко огрызнулась: — Не петушись, пока тебя курица не клюнула. Раз я говорю, что Стаська хвора, значит, хвора… — Лечиться нужно, — лаконично заметил Усов и, сдерживая улыбку, добавил: — Мне показалось, что Станислава Юзефовна женщина с выдержкой. — Тю-у! — махнул рукой Осип Петрович и, ткнув сморщенным указательным пальцем в пространство, добавил: — Эта Стаська хитрюща, як та ворона, которая под крылом у себя чешет, а уж перышка не выщипнет, к другим норовит нос протянуть. — Значит, притворяется? — спросил Усов. — Эге, умеет… что в твоем гродненском цирке, — подтвердил Осип Петрович. — И что же такое случилось сегодня с вашей соседкой? — Видя страстное нетерпение хозяйки, Усов решил дать ей высказаться. — Пустяки какие-нибудь, — добавил он нарочито небрежным тоном. — Он говорит — пустяки! Послушали бы да посмотрели на эти пустяки… Осип Петрович предупреждающе посмотрел на жену и стал ей подмигивать. Все-таки неудобно было рассказывать про соседку такие нехорошие вещи. Но удержать Франчишку Игнатьевну было уже невозможно. Склонившись к лейтенанту Усову, она робко покосилась на тихо разговаривающего с женщинами Кудеярова. — Все дело произошло из-за Галины, — начала Франчишка Игнатьевна, — и вот этого самого вашего Кости. Их видели вместе на канале. Галинку отстегали и заперли в сарай, даже башмаки отобрали и платье. Стаська теперь поведет Галину к нашему ксендзу грехи замаливать и поклоны заставит бить… «На куски тебя, негодницу, изрежу и собакам выкину», — орала на нее Стаська, а у самой в руках ремень этакий, жгут сыромятный! Аж мне страшно стало… А пани Седлецкая, наверное, для своей Галины жениха присмотрела. Вижу я, как он у них в саду в беседке ховается. Высокий такой, в шляпе, ну, настоящий пан! — А откуда жених-то? — внимательно вслушиваясь в разговор, спросил Усов. — Да тот самый брат или дядька нашего ксендза Сукальского. Богатый, говорят, и большой чин имеет. — Большой чин! Скажите, пожалуйста! Усов, как бы удивляясь, покачал головой. Брови его дернулись, а лицо приняло совсем безразличное выражение, только глаза заблестели строже и жестче. Отвернув рукав гимнастерки, он посмотрел на часы и коротко, тоном приказания, сказал: — А нам ведь пора, друзья. — Да что это вы так сразу, товарищ начальник! — засуетилась Франчишка Игнатьевна. Она приготовилась выложить кучу новостей, а лейтенант вдруг бесцеремонно встал и собрался уходить. — Спасибо, Франчишка Игнатьевна, за угощение, — проговорил Усов и, кивнув Клавдии Федоровне, показал глазами на дверь. — Так скоро, Виктор Михайлович? — сказала Шарипова, но, встретившись с ним взглядом, тоже встала. Как и утром, Усов с Александрой Григорьевной пошли вперед, Клавдия Федоровна с детьми и Кудеяровым — позади. — Ах какая все-таки ужасная женщина эта самая Стася, мать Галины! беря за руку Усова, проговорила Шура. — Чем же? — спросил Усов, ускоряя шаги. — А ты и не разглядел? — Разглядел. Но ведь если бы и тебя по-иезуитски нашпиговать, ты была бы такой же… — При чем тут я? — Я говорю о воспитании. — Извини, — вспыхнула Шура, — как бы меня ни воспитывали, но уж это… — Нечего отговариваться, милая моя, — подзадоривал Усов. — Я знаю твой характер, потому и говорю. — А какой у меня характер? И вообще я тебя сегодня не узнаю. Ты с самого утра придираешься ко мне. Ну, какой у меня характер? — Упрямый. — Слыхали. Дальше? — Заносчивый, если хочешь, капризный, мелочный, эгоистичный, самолюбивый, властный… Если тебе дать волю, то выйдет такая Станислава, что сбежишь без оглядки на Памир… — В общем, я чудовище? Так, да? — Сухопутное, но не морское. Морское чудовище глупее, а ты умненькая… — Ага, признался все-таки, что я умненькая. И на том спасибо. А вот у тебя какой характер, представь себе, никак не могу определить. — Твердый, как вот этот камень. — Усов показал глазами на лежащий у дороги большой серый валун. — Что верно, то верно, — согласилась Шура. — Этого-то я и боюсь. Выйдешь за тебя замуж, ты меня в тряпочку завернешь и будешь возить, как игрушку, куда тебе захочется. А я люблю жить самостоятельно и хочу хоть немножечко мужем командовать, ну хоть капельку… И вот всем сердцем чувствую, что этого никогда не будет. Ты какой-то уж чересчур правильный человек, никакой в тебе трещинки, хоть бы ноготком поковырять. Ну дашь маленечко кое-когда покомандовать, а? Слышишь, жених? Шура ласково смотрела сбоку на сумрачное красивое лицо своего друга. — Ну что же ты молчишь? Дашь немножко покомандовать? — покачивая его тяжелую руку, спрашивала Шура. Вся эта любовная история с Кудеяровым и Галиной настроила ее сегодня на веселый лад. — Я больше к тебе, милашка, не сватаюсь, — сказал Усов и многозначительно, с озорством подмигнул. — Это что же, тебя Франчишка завлекла, что ли? А может быть, Стася? Она женщина заметная. С итальянским носом. — Это ты верно говоришь, — согласился Усов. — Только как раз не она, а дочка ее. Вот девушка так девушка! Завидую Косте. — Но ты опоздал, милый. — Ничего не опоздал. Вторая-то, Ганна, которая в саду копалась и вино приносила… Если бы ты видела, как она на меня поглядывала. Я ведь не буду вздыхать и Клавдию Федоровну донимать, а сразу в машину, на поезд — и на Памир! — Скатертью дорожка, — пропела Шура и попыталась улыбнуться, но улыбка получилась невеселая. В сестру Галины можно было влюбиться. Двадцатипятилетняя Ганна уже была замужем, но через год после свадьбы похоронила утонувшего мужа, местного лесничего. Она выделялась среди подруг яркой и зрелой красотой. Ганна иногда приходила в школу и брала книги на белорусском языке, которому научилась от своего мужа, белоруса. Шура хорошо знала ее историю. Замуж она вышла против воли родителей, стремившихся найти для нее состоятельного жениха. — Надо было сегодня посвататься, зачем откладывать? — колко заметила Александра Григорьевна. — Мы уж обойдемся без сватовства, — в тон ей ответил Усов. У Клавдии Федоровны с Кудеяровым между тем продолжался все тот же разговор. — Ты сейчас в отпуске, и нечего раздумывать! — говорила Клавдия Федоровна. — С родителями ее каши не сваришь. Теперь они создадут твоей Галине такую жизнь, что она вниз головой в канал может броситься. Ты бы посмотрел только, с какой ненавистью ее мать смотрела на меня, когда я пошутила о сватовстве. У меня даже уши покраснели… А если бы она знала всю правду? Я даже поражаюсь, почему у такой монахини, как эта Стася, такие прекрасные дочери? — Времена не те, Клавдия Федоровна. Кроме того, Галина мне рассказывала, что муж у Ганны был хороший человек. Очевидно, он всерьез повлиял на Галину. Говорят, это был начитанный человек. Научил Ганну и Галину белорусскому языку, давал им читать Мицкевича, Пушкина, Некрасова… Потом он как-то загадочно утонул. Кудеяров замолчал, потер ладонью широкий лоб и упрямо сжал красные, как у девушки, губы. Он был еще совсем молод и любил первый раз в жизни. — Ну, а как все это сделать, Клавдия Федоровна? С Виктором, что ли, поговорить? — Обязательно поговори. Он опытнее тебя, — ответила Клавдия Федоровна и крикнула шагавшему впереди Усову: — Виктор Михайлович! — Что случилось? — приостанавливаясь, спросил Усов. — Идите скорее, а то они удерут, — подтолкнула Клавдия Федоровна Кудеярова и задержалась, поджидая детей. К ней присоединилась и Шура, взвинченная разговором с Усовым, недовольная им и собой. Кудеяров пошел рядом с Усовым. — Поговорить надо, Витя. Ты знаешь, друг, я того… Решил, значит… Да тебе, наверное, Шура все рассказала, — начал Кудеяров, смущаясь и краснея. — Ну так. Дальше… Не мямли, ну? — поторопил его Усов и своим холодным «ну» окончательно сбил с толку. Мысли начальника заставы были очень далеки сейчас от любви Кудеярова к Галине. Он и Шуру слушал рассеянно. В голове Усова засело упоминание Франчишки Игнатьевны о загадочном родственнике ксендза. — Понимаешь, такие дела, такие дела… — продолжал Кудеяров. — Так складываются, братишечка… — Что ты, на самом деле, разводишь! Говори толком, что тебе от меня надо? Мне некогда! А сват… честное слово, плохой из меня сват. — Ну тогда иди к черту! Я ему, понимаешь, хочу всю душу выложить, а он! Подумаешь! — вскипел Кудеяров, стараясь попасть быстро шагающему Усову в ногу. Такого отношения к себе со стороны друга он никак не ожидал. — Я думал, ты настоящий человек, а ты булыжник! — Кудеяров яростно пнул попавший под ноги камень. — Так его, так! Еще разок! — Вспомнив, что сегодня уже говорилось о камне, Усов весело рассмеялся и, поймав друга за плечо, зашептал: Служба, понимаешь? Служба! И не злись. — Сегодня воскресенье. Не оправдывайся! Выходной день! — Дорогой мой товарищ артиллерист! У пограничников выходных не бывает. Они всегда на службе. У них есть только часы отдыха. Вот тогда и приходи. Нужно тебе невесту высватать или просто выкрасть у родителей выкрадем. Посадим тебя, как Ивана-царевича, на серого волка — и дуй! Никакая теща не догонит. А от твоей тещи надо вообще удирать без оглядки… Извини, брат, бегу. Ты только женщин не оставляй одних. Иди с ними потихоньку, цветочки пособирайте и обсудите вместе, если еще не обсудили все это жениховское дело… Женщины все предусмотрят лучше нас. А волка серого я добуду… Поймаю, будь покоен. Ну, бывай, Костя! Усов ловко козырнул и быстро зашагал полем к переброшенному через канал мосту. — Катись, булыжник, вместе со своим волком! Служба! — крикнул ему вслед Кудеяров и погрозил кулаком.ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Смутно вспоминая все случившееся, Юзеф Михальский, расставив некрепко стоявшие на земле ноги и держась за воткнутую в землю палку, ошеломленно смотрел то на кусты, где только что исчез Сукальский, то на Ивана Магницкого, тоже растерянно переступавшего с ноги на ногу. — Иван, скажи мне, тут сейчас кто-нибудь был, или мне померещилось? тряся головой, вкрадчивым стонущим голосом спросил Михальский. — Зачем меня спрашивать? Ты же отлично знаешь, что здесь был твой знакомый, пан Сукальский. Так, кажется, ты его называл? Не знаю, к чему задавать такой глупый вопрос, — ответил Иван Магницкий. Он старался понять и осмыслить все то, что здесь сейчас произошло. Кто такой Сукальский? В голове малоопытного в таких делах Магницкого возникали разные противоречивые мысли, и разобраться в них сразу казалось невозможным. До сего времени он считал язык Юзефа Михальского пустой трещоткой. Так ли это? До освобождения Западной Белоруссии Михальский слегка бранил панов и помещиков, но не так зло, как сейчас издевался над новой властью. А чем его обидела новая власть? Лишила управления селом, не позволяет обижать бедняков. То, что делала Советская власть, по мнению Ивана Магницкого, было справедливым. Советская власть призывает делать добрые дела и помогать друг другу. А к чему призывает Юзеф Михальский? Страшно подумать! Действительно ли язык его только шутовская трещотка? Иван Магницкий нахмурился и, не спуская с Михальского напряженного взгляда, снова спросил: — Может быть, ты, Юзеф Войтехович, скажешь, кто этот странный человек в измятой шляпе? — Что он за человек? Бес его знает, что он за человек… Так, значит, тут кто-то был, мне не померещилось? И он слышал, как мы с тобой, ну, трошки побранились, повздорили! Эх, пропала моя голова! — неожиданно пьяным голосом захныкал Михальский. Появление Сукальского на самом деле отрезвило его. Он смекнул, что не мешало бы по-настоящему заплакать — может быть, тогда Иван поверит ему. И тут же заплакал с гортанным завыванием. — Эх, пьяная моя голова! — причитал Михальский, дурашливо размахивая руками. — И зачем мне этот лес? И зачем нам с тобой, дорогой братка Иван, браниться? Ну, бери этот лес, бери. Я сыну прикажу, и он сам его привезет до тебя. Бери эти яблоки, и пусть на здоровье кушают их твои малюсенькие ребятишки. Я беру всех твоих пацанчиков на яблочный кошт! Зачем нам ссориться и трясти бородами? — Мои дети, Юзеф Михальский, не побирушки, а я не нищий! — гневно заговорил Иван. — Ты мне мозги не мути! Лучше ответь, что это за человек? — Брешет он все! Клянусь маткой бозкой, что брешет! Он такой же пьянчужка, этот Сукальский, как и я сам. Все утро с ним мы вдвоем, как свиньи, тянули эту настойку. Он упился, завалился дрыхнуть в кусты и ничего не помнит, как свинячье ухо. Я тоже ничего не помню… — А ты и верно ничего не помнишь? — спросил Магницкий, видя, что Юзеф, разглаживая ползавшие вокруг пьяно опущенных губ морщины, увертывается от прямых ответов. — Эх, Иван, Иван! Если бы Юзеф Михальский имел образованный ум и умел блюсти свой язык, разве он жил бы в Гусарском? Он бы тогда на почетном месте в сейме сидел! Государственные дела вершил! Пришел бы к нему Иван Магницкий, он не только отпустил бы лесу, но и новую хату выстроил бы ему! На, Иван, живи, и заставь своих мальчишек молиться за Юзефа господу богу… Вот что могло быть из Михальского! А сейчас, пока он горилку льет в горло, нет Юзефа, ничего он не помнит, не знает и мелет, как пустая мельница. Просто свинья — и все! — Значит, ты не помнишь, как собирался комиссаров вешать в Августовских лесах и огнем палить? — Езус-Мария! Чтоб такое мог сказать мой поганый язык? Так его надо заставить лизнуть сковородку, когда на ней шипит сало… — Это как раз слетело с твоего языка. — Если так болтал мой язык, там не было моей головы, а была другая, хмельная башка… — Исподлобья посмотрев на хмурого Ивана, Юзеф постучал своим костлявым кулаком по сморщенному лбу и, отведя глаза в сторону, продолжал: — Не такой Юзеф дурак, чтобы говорить это всерьез! — А Сукальский тоже не всерьез говорил? — спросил Иван. — Глупая шутка пьяного человека. Как можно такой брехне верить! Пойдем в хату и посмотрим — спит, наверное, этот пьянчужка. Кстати, и выпьем по чарке, чтобы он пропал, этот сегодняшний день! — Спасибо за угощение. Мне давно пора отсюда уходить. Не забудь про лес. Иван, круто повернувшись, быстро пошел к воротам. После того как затихли в переулке шаги Магницкого, из кустов вышел Владислав. — Ну что, батько, проводил гостя? — разламывая пополам крупное яблоко, спросил Владислав. — Где пан Сукальский? — в свою очередь спросил Михальский. — Уже далеко. — Ушел? — Да. А чего он должен здесь дожидаться?… — Его еще кто-нибудь видел? — Он переоделся в мой костюм. Мы почти одинакового роста. — Черт с ним, с костюмом! Он что-нибудь сказал тебе? — Он мне сказал, что ты много лишнего выпил и столько же наделал глупостей. Михальский вырвал из рук сына половину яблока, забыв про испорченные зубы, яростно запустил их в твердую кожуру и, вскрикнув от боли, швырнул недозрелое яблоко в кусты. Держась за щеку и проклиная все на свете, взвывая и охая, он продолжал расспрашивать, что еще говорил пан Сукальский. — Значит, он сказал, что Магницкий не донесет? — Побоится. — А вдруг не побоится? Пойдет и заявит или тайно напишет бумагу… Тогда что? — Насчет бумаги он ничего не говорил. — А ты как думаешь — может он написать такую бумагу? — Я думаю, что может, — после длительного раздумья ответил Владислав. — Этот упрямый лесной медведь все может сделать. Он может заколотить меня в гроб, — подавленно проговорил Михальский. — Ты не должен спускать с него глаз. Может быть, ты встретишься с ним и поговоришь? Предложи ему червонцев пять, а если не согласится, пообещай пеструю телку. — Иван Магницкий не возьмет ни денег, ни телки, — возразил Владислав. — Неужели этот голодранец откажется от пяти червонцев? — Батько, ты меня с детства учил, как надо узнавать людей, чтобы перехитрить их и потом вывернуть наизнанку, а сам даже не изучил Ивана. Он держит в руках власть. Если ему намекнуть на червонцы, он наверняка откажется и составит какой-нибудь протокол или другую бумагу. Надо хитрее что-нибудь придумать. — Что же можно придумать? — Не беспокойся только и не горячись. Я придумаю так, что Иван не донесет. — Ты уже придумал? — тяжело дыша, шагнув к сыну, спросил Юзеф. — Может, и придумал… — Владислав, сверкнув глазами, первый раз в жизни с грубой злостью сказал отцу: — Ты лучше не расспрашивай, коль не можешь держать за зубами свой болтливый язык. И, оставив растерянного родителя одного в саду, ушел в дом.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Соскочив с кровати, Галина подошла к окну. В лицо ей ударил ослепительный луч солнца, скользнул по растрепанным каштановым волосам и осветил старенькое коричневого цвета платье, из которого она давно уже выросла. Прижав к груди маленькие на деревянной подошве башмачки, Галина осторожно влезла на подоконник и спрыгнула в сад. С бурно колотившимся сердцем девушка, не останавливаясь, вышла на задний двор, где находился крытый соломой сушильный сарай. За сараем до недалекой опушки лесатянулось начинающее желтеть картофельное поле. Ей жалко было покидать родной дом, но и тяжело было ощущать вздувшийся на шее рубец от сыромятной супони. Еще более тяжело было слушать шепотливый, задыхающийся голос матери, когда она говорила отцу, что ненавидит новую власть и с радостью ждет ее гибели, которую предрекает какой-то Сукальский. Галина четко видела перед глазами всех этих ставших ей близкими советских людей, которых она полюбила, как и своего Костю. Он-то и сблизил ее со своими друзьями и многое научил понимать. А теперь у нее хотят отнять его, а может быть, и убить. Галина вдруг рванулась и бегом побежала к заставе, словно любимому человеку уже сейчас грозила смертельная опасность. Прошлепав босыми ногами по мосту, Галина спустилась в крутую ложбинку, заросшую кустами черемухи. Сначала узкая тропа вела вдоль канала, а затем поворачивала вправо, на небольшую высотку. У ската этой высотки начинался забор с колючей проволокой. За забором, рядом с командирским домом, стояла маленькая деревянная баня. Чуть повыше виднелся бруствер траншеи. В центре двора находилась длинная, из красного кирпича конюшня с высоким коньком. Параллельно ей стояла одноэтажная каменная казарма. В ней же были и все остальные служебные помещения.
Обогнув командирский дом, Галина, мельком взглянув на занавешенные окна, пошла к центральным воротам. Со двора доносились смех солдат и задорные хлопки ладоней. Сквозь щели забора было видно, как рослые, в сапогах и брюках, но с обнаженными загорелыми спинами пограничники сильными движениями кидали через сетку волейбольный мяч. Один из играющих — бритоголовый — был в синих военных брюках и в красной шелковой тенниске. В воротах Галину встретил высокий белокурый командир с тремя треугольниками на зеленых петлицах и с красной повязкой дежурного на рукаве.
— Что вам угодно, гражданочка? — спросил дежурный.
— Здравствуйте, товарищ Стебайлов! — Галина хотела протянуть руку, но тут же отдернула ее и густо покраснела.
— Здравствуйте, — ответил Стебайлов и тоже смутился. — Откуда вы меня знаете? — спросил он.
— Да вы же в школе доклад делали! О-о, мы вам тогда долго в ладоши хлопали и хорошо вас запомнили. Лейтенант Кудеяров нас тогда познакомил. Разве забыли?
— Кажется, теперь вспоминаю… — неловко оправив гимнастерку, ответил Стебайлов. Он хотел сказать, что все помнит, но не сказал, а вместо этого спросил, зачем она пришла и кого ей нужно видеть. Галина ответила, что она хочет видеть начальника заставы или комиссара по очень важному делу.
Стебайлов козырнул и четко повернулся. Подойдя к играющим, он что-то объяснил вышедшему с площадки бритоголовому в синих брюках. Тот в знак согласия кивнул своей крупной головой и, отряхивая широкие ладони, пошел к висевшему у кирпичной стены умывальнику.
Политрук Шарипов уже успел надеть гимнастерку и портупею и сесть за большой письменный стол, когда девушка вошла в его кабинет. Он приветливо улыбнулся, встал, пожал девушке руку. Гладко выбритой головой и серыми глазами он напомнил Галине Григория Котовского, портрет которого она видела в недавно прочитанной книге.
— Значит, по очень важному делу? — внимательно посматривая на девушку, спросил Шарипов. Он понял, что она чем-то взволнована, и, чтобы дать ей немного успокоиться, сам заговорил первым:
— Клавдию Федоровну в селе не встретили?
— А разве она туда пошла?
— Пошла с ребятишками и хотела зайти к Франчишке Игнатьевне. Как же вы их не встретили?
— Не встретила. Я полем шибко бежала. Сердце даже колыхается.
— Почему же шибко?
Шарипов налил Галине воды и предложил положить на стул башмаки, которые она все время держала в руках.
Выпив глоток воды, Галина, сжимая стакан в руке, прерывающимся голосом начала говорить:
— Я вам такое расскажу, товарищ политрук, такое! Вы только про меня никому ни словечка…
— Не скажу ни одного слова, — заверил Шарипов, отодвигая от себя карандаш и чистые листы бумаги.
— Нет, товарищ начальник, — заметив его движение, запротестовала Галина, — надо все записать и послать куда нужно. Надо заставить замолчать врагов!
— Каких врагов? — поощрительно закивал головой Шарипов, чувствуя, что его собеседница начинает волноваться еще сильнее.
— Вроде того Сукальского! — звонко выкрикнула девушка.
— А кто такой Сукальский? Рассказывайте по порядку, спокойно рассказывайте.
Из глаз девушки до конца рассказа не переставая текли слезы.
— Значит, они и вашу Олю убьют, и маленького Славу, и Клавдию Федоровну? — спрашивала потом Галина и смотрела на Шарипова широко открытыми глазами.
— Не надо волноваться. Никому больше об этом не говорите. Вам нужно отдохнуть и успокоиться. Я сейчас вернусь.
Шарипов вышел и долго не возвращался.
Вернулся он вместе с начальником заставы лейтенантом Усовым.
Галина, положив голову на стол, закрыла ее руками, не двигалась и, казалось, не дышала.
— Спит? — шепотом спросил Усов.
— Ее обессилили все эти переживания, — сказал Шарипов. — Она напугана, как ребенок, страшно напугана и оскорблена, унижена. Избили, даже платье отняли.
— О, черт побери, — тихо проговорил Усов. — Ведь посмотреть на ее мать со стороны, лицо на икону просится. И вдруг такая божественная дама с хлыстом в руках! Это уж, друг мой, настоящее иезуитство. Я сейчас поеду, всех их там расшевелю. А с ней что будем делать? — кивая на Галину, спросил Усов.
— Она совсем пришла, — с улыбкой посматривая на Усова, ответил Шарипов. — Просит проводить ее к лейтенанту Кудеярову или вызвать его сюда.
— Совсем пришла? — переспросил Усов и, резко приподняв голову, с удивлением посмотрел на склонившуюся над столом, словно застывшую, Галину.
— Да. Вот и приданое принесла: башмаки на деревянной подошве.
— Ты, может быть, шутишь, Александр?
— Какие тут шутки! Тут, милый мой, любовь!
— Смелая!
— Мало того — она помогла нам в большом деле! Таких людей надо ценить.
Посмотрев сбоку на спящую Галину, Шарипов вдруг решительно подошел к ней и легонько тронул за плечо:
— Галина! Проснитесь!
— Да, да… сейчас… — Галина вялым движением подняла голову и, встретив внимательный и сочувственный взгляд Усова, потерла ладонью глаза.
— Отдохнули? Вас проводят ко мне на квартиру.
Шарипов снял трубку и приказал дежурному проводить девушку к Клавдии Федоровне.
— Да, да! — подхватил Усов. — Сейчас должна прийти Клавдия Федоровна. Она хотела вас видеть. И лейтенант Кудеяров… Костя… тоже придет.
— А где сейчас Костя? Вы его видели?
— Видел. Вместе с ним был в вашем селе. И даже поссорился.
— Из-за чего поссорились? — вздрагивающим голосом спросила Галина. Каждое напоминание о Косте сейчас волновало ее.
— Потому что он балда, этот Костя…
— Неправду вы говорите! — горячо вступилась Галина.
— Не человек он, а булыжник! — невозмутимо продолжал Усов.
— Зачем вы такое говорите!
— Затем, что я бы на его месте… Да что об этом толковать! Мямля ваш Костя!
— Нет, он совсем не такой. Вы, товарищ лейтенант, шутите, — тихо проговорила Галина.
— Ей, пожалуй, действительно не до шуток, — вмешался Шарипов. Идемте, я вас провожу…
— Вот, Витя, какие дела-то у нас совершаются! — вернувшись, проговорил Шарипов.
— Ничего, — записывая что-то в тетрадь, ответил Усов. — Вокруг нас столько помощников, радоваться нужно. А за этим иезуитом уже целую неделю наблюдают.
— Он не может ускользнуть? — спросил Шарипов.
— Думаю, что нет. Он в кольце.
— Ты сам пойдешь в операцию?
— Вероятно, сам, если разрешит начальство. Жду звонка. Ты без меня отдашь боевой приказ на усиленную охрану границы.
— Кого ты берешь с собой?
— Наряд Кабанова и Чубарова. Связным пойдет Сорока.
Усов открыл сейф, достал несколько пачек патронов, сунул их в карман.
— А смелая девушка, — как бы про себя проговорил Усов и, обернувшись к Шарипову, вдруг в упор спросил: — Как ты, Саша, думаешь, что ее заставило прийти к нам на заставу — увлечение, любовь?
— Я уже задавал себе этот вопрос. Думаю, что не только это, — ответил Шарипов. — Молодежь, получившая свободу впервые в своей жизни и в истории своей родины, принимает ее всем сердцем и со всяким посягательством на эту свободу будет бороться тоже от всего сердца… Ватикан благословлял каждый шаг фашистов. Кардиналы Адам Сапега и Хленда насаждали во всех учебных заведениях террористические фаланги. Убивали за прогрессивные взгляды не только из-за угла, но и открыто на институтских и школьных лестницах. Кто состоял в этих фалангах? Сынки помещиков, кулаков. Даже теперь, совсем недавно, ректор духовной академии, некий Осип Слипый, послал в Москву ноту, в которой протестует против передачи крестьянам монастырских земель и еще против чего бы ты думал?… Против легализации комсомола в западных районах, освобожденных от панской власти, и против открытия во Львове Дворца пионеров… Или вот взять эту брошюру — называется-то как: «Главные правила современного душепастырства», а по существу? По существу специальный учебник, как организовать саботаж против мероприятий Советской власти… Молодежь-то видит, что это за люди. Обмануть ее трудно. У юношей и девушек теперь есть свои моральные критерии. Ведь сейчас Галина совершила подвиг, подвиг государственной важности! К ней надо проявить и нам и тому же Кудеярову много человечности и внимания… Он на самом деле всерьез задумал жениться?
— Кажется, решил окончательно. Он мне начал было изливать свои чувства, но я торопился и не мог его выслушать. Разозлил его. Девушка действительно замечательная. Я только сегодня по-настоящему ее разглядел, — задумчиво проговорил Усов.
— Ну, а у тебя как? — спросил Шарипов.
— У меня?… Ничего! Ну, кажется, мне надо собираться.
— Не виляй, друг, не виляй! Скоро мы тебя женим или нет?
— Вы с Клавдией Федоровной готовы всех переженить!
— А что, плохо? Женитьба — это большое событие. А после пойдут еще более важные события: начнут появляться ребятишки. Мы вот четвертого ждем. Хорошо!
Усов, приподнявшись над столом, раскрыл толстый журнал. С озорством подмигнув Шарипову, сказал:
— Скоро, Саша, в этом нашем историческом кондуите ты запишешь чрезвычайное происшествие: такого-то числа, во столько-то ноль-ноль, начальник заставы лейтенант Усов выбыл из строя холостяков и вступил в брак!
Продолжая посмеиваться, Усов пристукнул каблуками и, направляясь к двери, запел:
Прошлепав босыми ногами по мосту, Галина спустилась в крутую ложбинку, заросшую кустами черемухи. Сначала узкая тропа вела вдоль канала, а затем поворачивала вправо, на небольшую высотку. У ската этой высотки начинался забор с колючей проволокой. За забором, рядом с командирским домом, стояла маленькая деревянная баня. Чуть повыше виднелся бруствер траншеи. В центре двора находилась длинная, из красного кирпича конюшня с высоким коньком. Параллельно ей стояла одноэтажная каменная казарма. В ней же были и все остальные служебные помещения.
Обогнув командирский дом, Галина, мельком взглянув на занавешенные окна, пошла к центральным воротам. Со двора доносились смех солдат и задорные хлопки ладоней. Сквозь щели забора было видно, как рослые, в сапогах и брюках, но с обнаженными загорелыми спинами пограничники сильными движениями кидали через сетку волейбольный мяч. Один из играющих — бритоголовый — был в синих военных брюках и в красной шелковой тенниске. В воротах Галину встретил высокий белокурый командир с тремя треугольниками на зеленых петлицах и с красной повязкой дежурного на рукаве.
— Что вам угодно, гражданочка? — спросил дежурный.
— Здравствуйте, товарищ Стебайлов! — Галина хотела протянуть руку, но тут же отдернула ее и густо покраснела.
— Здравствуйте, — ответил Стебайлов и тоже смутился. — Откуда вы меня знаете? — спросил он.
— Да вы же в школе доклад делали! О-о, мы вам тогда долго в ладоши хлопали и хорошо вас запомнили. Лейтенант Кудеяров нас тогда познакомил. Разве забыли?
— Кажется, теперь вспоминаю… — неловко оправив гимнастерку, ответил Стебайлов. Он хотел сказать, что все помнит, но не сказал, а вместо этого спросил, зачем она пришла и кого ей нужно видеть. Галина ответила, что она хочет видеть начальника заставы или комиссара по очень важному делу.
Стебайлов козырнул и четко повернулся. Подойдя к играющим, он что-то объяснил вышедшему с площадки бритоголовому в синих брюках. Тот в знак согласия кивнул своей крупной головой и, отряхивая широкие ладони, пошел к висевшему у кирпичной стены умывальнику.
Политрук Шарипов уже успел надеть гимнастерку и портупею и сесть за большой письменный стол, когда девушка вошла в его кабинет. Он приветливо улыбнулся, встал, пожал девушке руку. Гладко выбритой головой и серыми глазами он напомнил Галине Григория Котовского, портрет которого она видела в недавно прочитанной книге.
— Значит, по очень важному делу? — внимательно посматривая на девушку, спросил Шарипов. Он понял, что она чем-то взволнована, и, чтобы дать ей немного успокоиться, сам заговорил первым:
— Клавдию Федоровну в селе не встретили?
— А разве она туда пошла?
— Пошла с ребятишками и хотела зайти к Франчишке Игнатьевне. Как же вы их не встретили?
— Не встретила. Я полем шибко бежала. Сердце даже колыхается.
— Почему же шибко?
Шарипов налил Галине воды и предложил положить на стул башмаки, которые она все время держала в руках.
Выпив глоток воды, Галина, сжимая стакан в руке, прерывающимся голосом начала говорить:
— Я вам такое расскажу, товарищ политрук, такое! Вы только про меня никому ни словечка…
— Не скажу ни одного слова, — заверил Шарипов, отодвигая от себя карандаш и чистые листы бумаги.
— Нет, товарищ начальник, — заметив его движение, запротестовала Галина, — надо все записать и послать куда нужно. Надо заставить замолчать врагов!
— Каких врагов? — поощрительно закивал головой Шарипов, чувствуя, что его собеседница начинает волноваться еще сильнее.
— Вроде того Сукальского! — звонко выкрикнула девушка.
— А кто такой Сукальский? Рассказывайте по порядку, спокойно рассказывайте.
Из глаз девушки до конца рассказа не переставая текли слезы.
— Значит, они и вашу Олю убьют, и маленького Славу, и Клавдию Федоровну? — спрашивала потом Галина и смотрела на Шарипова широко открытыми глазами.
— Не надо волноваться. Никому больше об этом не говорите. Вам нужно отдохнуть и успокоиться. Я сейчас вернусь.
Шарипов вышел и долго не возвращался.
Вернулся он вместе с начальником заставы лейтенантом Усовым.
Галина, положив голову на стол, закрыла ее руками, не двигалась и, казалось, не дышала.
— Спит? — шепотом спросил Усов.
— Ее обессилили все эти переживания, — сказал Шарипов. — Она напугана, как ребенок, страшно напугана и оскорблена, унижена. Избили, даже платье отняли.
— О, черт побери, — тихо проговорил Усов. — Ведь посмотреть на ее мать со стороны, лицо на икону просится. И вдруг такая божественная дама с хлыстом в руках! Это уж, друг мой, настоящее иезуитство. Я сейчас поеду, всех их там расшевелю. А с ней что будем делать? — кивая на Галину, спросил Усов.
— Она совсем пришла, — с улыбкой посматривая на Усова, ответил Шарипов. — Просит проводить ее к лейтенанту Кудеярову или вызвать его сюда.
— Совсем пришла? — переспросил Усов и, резко приподняв голову, с удивлением посмотрел на склонившуюся над столом, словно застывшую, Галину.
— Да. Вот и приданое принесла: башмаки на деревянной подошве.
— Ты, может быть, шутишь, Александр?
— Какие тут шутки! Тут, милый мой, любовь!
— Смелая!
— Мало того — она помогла нам в большом деле! Таких людей надо ценить.
Посмотрев сбоку на спящую Галину, Шарипов вдруг решительно подошел к ней и легонько тронул за плечо:
— Галина! Проснитесь!
— Да, да… сейчас… — Галина вялым движением подняла голову и, встретив внимательный и сочувственный взгляд Усова, потерла ладонью глаза.
— Отдохнули? Вас проводят ко мне на квартиру.
Шарипов снял трубку и приказал дежурному проводить девушку к Клавдии Федоровне.
— Да, да! — подхватил Усов. — Сейчас должна прийти Клавдия Федоровна. Она хотела вас видеть. И лейтенант Кудеяров… Костя… тоже придет.
— А где сейчас Костя? Вы его видели?
— Видел. Вместе с ним был в вашем селе. И даже поссорился.
— Из-за чего поссорились? — вздрагивающим голосом спросила Галина. Каждое напоминание о Косте сейчас волновало ее.
— Потому что он балда, этот Костя…
— Неправду вы говорите! — горячо вступилась Галина.
— Не человек он, а булыжник! — невозмутимо продолжал Усов.
— Зачем вы такое говорите!
— Затем, что я бы на его месте… Да что об этом толковать! Мямля ваш Костя!
— Нет, он совсем не такой. Вы, товарищ лейтенант, шутите, — тихо проговорила Галина.
— Ей, пожалуй, действительно не до шуток, — вмешался Шарипов. Идемте, я вас провожу…
— Вот, Витя, какие дела-то у нас совершаются! — вернувшись, проговорил Шарипов.
— Ничего, — записывая что-то в тетрадь, ответил Усов. — Вокруг нас столько помощников, радоваться нужно. А за этим иезуитом уже целую неделю наблюдают.
— Он не может ускользнуть? — спросил Шарипов.
— Думаю, что нет. Он в кольце.
— Ты сам пойдешь в операцию?
— Вероятно, сам, если разрешит начальство. Жду звонка. Ты без меня отдашь боевой приказ на усиленную охрану границы.
— Кого ты берешь с собой?
— Наряд Кабанова и Чубарова. Связным пойдет Сорока.
Усов открыл сейф, достал несколько пачек патронов, сунул их в карман.
— А смелая девушка, — как бы про себя проговорил Усов и, обернувшись к Шарипову, вдруг в упор спросил: — Как ты, Саша, думаешь, что ее заставило прийти к нам на заставу — увлечение, любовь?
— Я уже задавал себе этот вопрос. Думаю, что не только это, — ответил Шарипов. — Молодежь, получившая свободу впервые в своей жизни и в истории своей родины, принимает ее всем сердцем и со всяким посягательством на эту свободу будет бороться тоже от всего сердца… Ватикан благословлял каждый шаг фашистов. Кардиналы Адам Сапега и Хленда насаждали во всех учебных заведениях террористические фаланги. Убивали за прогрессивные взгляды не только из-за угла, но и открыто на институтских и школьных лестницах. Кто состоял в этих фалангах? Сынки помещиков, кулаков. Даже теперь, совсем недавно, ректор духовной академии, некий Осип Слипый, послал в Москву ноту, в которой протестует против передачи крестьянам монастырских земель и еще против чего бы ты думал?… Против легализации комсомола в западных районах, освобожденных от панской власти, и против открытия во Львове Дворца пионеров… Или вот взять эту брошюру — называется-то как: «Главные правила современного душепастырства», а по существу? По существу специальный учебник, как организовать саботаж против мероприятий Советской власти… Молодежь-то видит, что это за люди. Обмануть ее трудно. У юношей и девушек теперь есть свои моральные критерии. Ведь сейчас Галина совершила подвиг, подвиг государственной важности! К ней надо проявить и нам и тому же Кудеярову много человечности и внимания… Он на самом деле всерьез задумал жениться?
— Кажется, решил окончательно. Он мне начал было изливать свои чувства, но я торопился и не мог его выслушать. Разозлил его. Девушка действительно замечательная. Я только сегодня по-настоящему ее разглядел, — задумчиво проговорил Усов.
— Ну, а у тебя как? — спросил Шарипов.
— У меня?… Ничего! Ну, кажется, мне надо собираться.
— Не виляй, друг, не виляй! Скоро мы тебя женим или нет?
— Вы с Клавдией Федоровной готовы всех переженить!
— А что, плохо? Женитьба — это большое событие. А после пойдут еще более важные события: начнут появляться ребятишки. Мы вот четвертого ждем. Хорошо!
Усов, приподнявшись над столом, раскрыл толстый журнал. С озорством подмигнув Шарипову, сказал:
— Скоро, Саша, в этом нашем историческом кондуите ты запишешь чрезвычайное происшествие: такого-то числа, во столько-то ноль-ноль, начальник заставы лейтенант Усов выбыл из строя холостяков и вступил в брак!
Продолжая посмеиваться, Усов пристукнул каблуками и, направляясь к двери, запел:
Эх ты, Галя, Ты моя завлека, Завлекнула Костюка, Поедешь далеко!
В дверь постучали. Придерживая карабин, вошел старший наряда Сорока и попросил разрешения обратиться к начальнику заставы. Усов окинул пограничника острым, внимательным взглядом и задержал глаза на его сапогах. — Наряд номер три прибыл для получения боевого приказа по охране государственных границ. Докладывает старший наряда Сорока. — Хорошо, — протянул Усов и продолжал пристально рассматривать улыбающегося Сороку. По тону его ответа и по особому прищуру глаз начальника заставы Сорока понял, что надо ожидать серьезного разговора. — Когда вернулись из наряда? — спросил Усов. — В двадцать четыре ноль-ноль, товарищ лейтенант! — Отдохнули? — Так точно! — Чем были заняты днем? — Тренировались в волейбол. Готовимся к соревнованиям с четвертой. — Так. Заметили что-нибудь новое на заставе? — Никак нет, ничего не заметил. — Ничего-таки не заметили? — Вроде как ничего, — пожимая широкими плечами, ответил Сорока. — Плохо наблюдаете, товарищ Сорока, очень плохо. Пограничник все должен замечать и все помнить. — Да ничего такого не случилось, товарищ лейтенант! — А я вот скажу, что случилось. Видел в окно, что вы заметили на дворе девушку и, когда ее Стебайлов провожал, вы подошли к ней, немножко разинули рот и забыли, что у вас расстегнут воротник, а на ногах нечищеные сапоги. Как пришли из наряда, сунули их под койку и в таких же грязных явились на доклад к начальнику заставы. А я уверен, что девушка все заметила. Ну, скажет, и пограничники, ну и неряхи!… Наверное, и начальник такой же замухрышка. — Виноват, товарищ начальник, — смущенно оправдывался Сорока, — в волейбол тренировались… Забыл. — Вот опять виноват. Придется мне надевать парадную форму и идти к девушке объясняться. Не подумайте, мол, что у нас все такие. Это у нас только Сорока забывчивый. — Больше этого не будет, товарищ лейтенант. — Посмотрим. Можете идти. Я сейчас выйду. Быстро повернувшись, Сорока вышел. Щеки его горели, а на лбу от стыда и напряжения выступили капельки пота.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Клавдия Федоровна с возбужденным и радостным лицом, с засученными по локоть рукавами готовила закуску. Иногда, открыв дверь в комнату, где сидели на диване, прижавшись друг к другу, Галина и Кудеяров, она, встряхивая головой, говорила: — Хоть маленькую, скромную свадьбу, да устроим. Все будет хорошо! Ну ладно, не стану вам мешать, мои милые, не стану. Молодые люди смущенно прятали глаза и, как только исчезала неугомонная хозяйка, снова брали друг друга за руки и говорили совсем не то, что, казалось бы, следовало говорить в такие минуты. — Ударили тебя? Да еще и заперли? Это же возмутительно! — Больше не надо об этом говорить, Костя! Не надо! — глухо и протестующе проговорила Галина. — Прости, милая, не буду. Но мне обидно. Понимаешь, за тебя обидно… Тяжело тебе, я понимаю. Но расскажи, как ты решилась? — Легла в постель, все решила, обдумала… — тихим грудным голосом говорила Галина. Костя склонил к ней взъерошенную голову и притронулся губами к ее горячей щеке. У Галины вспыхнули глаза, и неожиданно со страстной решимостью она прижалась к нему всем телом. Ее маленькие ладони были в руках Кости. — Почему не ко мне сразу? Пришла бы в Новицкое. — Туда далеко, и у тебя строгий начальник, этот страшный майор. Я его почему-то боюсь. — Бояться его нечего… — На заставе меня все знают. И Клавдия Федоровна здесь, — продолжала Галина. — Да, да. Ты все сделала правильно. Очень правильно. Я тебя хочу спросить, Галя… Вдруг ты… тебе захочется домой вернуться? Галина подняла на него темные глаза. Глубоко вздохнув, заговорила: — Как же я могу вернуться, когда мне хочется на тебя все время смотреть и смотреть, слышать, как ты говоришь и как ты сердишься! Я знаю, что ты любишь меня. Но я боюсь, что нам с тобой не дадут жить. Прежде, когда я не знала тебя, я много пела и смеялась. А теперь я перестала смеяться, пою только потихоньку и все время о тебе думаю. Я все думаю и думаю о том, что… Как же я могу вернуться! Да и некуда мне теперь возвращаться. Взволнованный Костя перебирал в своих руках ее горячие пальцы и сжимал их все крепче и крепче. — Ты еще не знаешь, как я тебя люблю. Но ты узнаешь, Галя, узнаешь! Мне невозможно тебя потерять, невозможно. В комнате было тихо. Костя чувствовал, что может пересчитать удары своего сердца. — Мы сегодня же отсюда уедем. — Куда? — Сначала поедем в Гродно… — А как мы поедем… — Галина растерянно посмотрела на свои босые ноги и смущенно одернула платье. — Как же мы поедем, когда у меня одни деревянные башмаки да старое, как тряпка, платье. — Стоит ли об этом говорить! Башмаки, платье — все будет. Мы с тобой немножко побудем в Гродно, а потом поедем дальше. Костя уже видел перед собой Крымские горы, синее море, сизые гроздья винограда. — А куда мы поедем дальше? — спрашивала Галина. — О-о, Галочка! Мы поедем к Черному морю! Ты знаешь, есть такое море, все его зовут почему-то Черным, по оно бывает то голубое, то зеленое. Мы заедем в Москву. Ты же мечтала побывать в Москве и увидеть Кремль! — Неужели это правда, Костя? — Это так же верно, как то, что я сейчас вижу тебя. — И нам никто не помешает? — А кто нам может помешать поехать в Москву? Никто. Глаза девушки вспыхнули и осветились теплой улыбкой. Она высвободила руки, смущенно и робко обняла его сильные плечи. Закрыв глаза, тихо спросила: — Ты будешь моим мужем, да? Костя не дал ей договорить и поцеловал в горячие полуоткрытые губы. И они обо всем на свете забыли… Им не нужно было в эту минуту ни свадебной пирушки, ни счастливых пожеланий, ни новых башмаков. Они оторвались друг от друга только тогда, когда в передней скрипнула дверь и от грубого окающего мужского голоса, казалось, задрожала тонкая тесовая перегородка. — Где он, этот беглец? — прогремел голос. — А-а! Зиновий Владимирович! Здравствуйте! Здесь. Все здесь, ответила Клавдия Федоровна. — Вы уж только не пугайте их, Зиновий Владимирович. От вашего голоса можно сбежать из дому. Кудеяров выпустил руки Галины и быстро вскочил. — Кто это, Костя? — испуганно спросила Галина. — Мой начальник. Ничего, ничего, не волнуйся. Вот же притащился. Он всегда так. Где нужно и не нужно лезет со своим длинным носом. Кудеяров хоть и уважал своего начальника, но не любил его и боялся. Мельком взглянув в зеркало, он начал поправлять съехавшую с плеча портупею. Вошла Клавдия Федоровна. — Ну как, голубчики мои, наговорились? — ласково посматривая на смутившихся молодых людей, проговорила она и, порывшись в комоде, вытащила чистое полотенце. — Вы сейчас умойтесь, освежитесь. Майор Рубцов к нам приехал. Все будет отлично! — И, перейдя на шепот, добавила: — Уж я его, толстяка, на подарок выставлю… — Его-то каким сюда ветром занесло? — спросил Костя, совсем не разделяя ее веселости. — Зачем он-то здесь появился? — Как зачем? Вот тебе раз! На свадьбу приехал. Кудеяров и не подозревал, какой перед этим состоялся разговор у спрутов Шариповых. …— Хозяйничаешь, Клавочка? — войдя в кухню, где Клавдия Федоровна протирала посуду, спросил Шарипов. — Надо, Сашенька, надо. Все чтобы было по-настоящему. Свадьба эта особенная. — Да, конечно… Все это очень интересно… — поглаживая свою бритую голову, неопределенно проговорил Шарипов. — А где дети? — Дети с Александрой Григорьевной, во дворе. Ты чего, Саша, такой? пытливо посматривая на озабоченного мужа, спросила Клавдия Федоровна. — Ничего, так. Ну, как там молодежь-то, успокоилась? — Чудесная пара! Им теперь скорее с глаз долой. А ты отчего не в своей тарелке? Что-нибудь случилось? — Ничего особенного. — А что не особенное? Ты можешь мне сказать? — Пока не могу. Я вот насчет этой свадьбы, Клава. Как-то себя неловко чувствую. — Ничего. Все получится очень хорошо. Ты будешь посаженым отцом. — Нет уж, уволь, милая! Я этих порядков не знаю, да и некогда мне. Посидеть, конечно, немножко посижу, лошадей могу запрячь… И в добрый путь! — Ну вот, начинается! Сразу и дела нашлись! Тогда тащи сюда Усова. Я его сейчас проинструктирую, что и как. — Усова совсем не будет. Выехал. Клавдия Федоровна хотела спросить, куда выехал Усов, но поняла, что ответа все равно не получит. Промолчала и задумалась. Раз Александр так озабочен и нет Усова, значит у них дела, и свадьба может получиться не только не веселой, но даже грустной. Для этого было много других оснований и причин. У невесты, как заметила Клавдия Федоровна, не просыхают глаза. Надо было что-то придумать и сделать пирушку хоть немного веселой, а остальное, как она предполагала, все утрясется само собой. — Значит, Усова не будет? — Вряд ли он успеет. Да и нашим молодым надо выехать заранее. Не исключено, что сюда придут родители Галины, а это совсем ни к чему. Ты меня понимаешь? — Понимаю. Если придут родители, то я скажу часовому, чтобы он их выпроводил. Подумаешь! Так просто отпустить молодых я не могу! Позвони майору Рубцову. Я с ним сама договорюсь. Звони Рубцову, — решительно заявила Клавдия Федоровна. — Да ты, мамка, сама-то не кипятись. У нас на самом деле много забот. А что касается Рубцова — это мысль правильная. Но только вряд ли он захочет приехать. Я знаю, что он был против этой свадьбы. — И ты был против. Все вы, женатые люди, такие… осторожные. — Ну ладно, ладно. Позвоню твоему Рубцову. Я знаю, ты к нему неравнодушна. — Определенно симпатизирую. Он-то уж не будет ходить вокруг да около. По крайней мере, скажет то, что думает. — Все равно он не приедет. — А я тебе говорю, приедет. Как узнает, что все решено, непременно прикатит. К тому же он начальник Кости и неудобно его не позвать. Шарипов с доводами Клавдии Федоровны должен был согласиться… …Сейчас сочный басок Рубцова гудел уже в передней. — Да как же он узнал? — спросил у хозяйки Кудеяров, вовсе не желавший, чтобы его начальник присутствовал здесь. — Как он узнал? — Александр ему позвонил и пригласил. — Дорогая Клавдия Федоровна, — с досадой в голосе и раздражением говорил Кудеяров. — Женюсь-то все-таки я! Список-то гостей надо было согласовать со мной. Не хотели мы приглашать никаких гостей. Все это не так получается, как я думал… — Это уж, прости, моя вина: я попросила Александра позвонить и даже предложила Зиновию Владимировичу быть твоим посаженым отцом. Он согласился. У тебя родителей нет, и он все-таки твой начальник, отец-командир. С ним надо считаться. — Очень строгий начальник, — робко заметила Галина, видевшая этого страшноватого, некрасивого офицера на собрании, когда он приезжал к ним делить помещичью землю и очень сердито говорил о пане Гурском. — Я сейчас в отпуске и сам собой командую! — горячился Кудеяров. — Какой герой, а? — пробасил вошедший вместе с Шариповым майор Рубцов. Вид у майора был действительно грозный. Плотный, тучный, на коротких ногах, он, казалось, сразу же занял собой много места в комнате. Его большой, длинный, оседланный роговыми очками нос занимал почти половину узкого лица. Под кончиком носа торчали ровно подстриженные седоватые усики. Из толстогубого рта раздавался громкий и редкий по густоте бас: — Герой, герой! Прямо Хаз-Булат! Коней взнуздал, в отпуск собрался скакать. А ведь не представляет соколик, что ему враз можно крылышки подрезать. Кто его в отпуск-то направляет? Я или он сам себе хозяин? Забыл, соколик, что я могу присесть за этот стол, написать две фразы: «Отпуск отложить. Лейтенанта Кудеярова вернуть к исполнению служебных обязанностей». — Вы, Зиновий Владимирович, никогда этого не сделаете! — вступилась Клавдия Федоровна. — Если этого потребуют интересы Красной Армии, я это непременно сделаю! И притом я должен руководствоваться принципиальными соображениями. Кроме всего прочего, я приглашен в посаженые отцы, а он что говорит? Что я от этого Хаз-Булата слышу? — Извините, товарищ майор, я просто… немножко погорячился. Извините. Очень буду рад, если вы согласитесь быть посаженым отцом, багровея, заговорил Кудеяров, которого все время толкала в бок Клавдия Федоровна. — Вижу, как ты рад, вижу, — ворчал Зиновий Владимирович. — Ты бы хоть, сокол, для приличия орлицу-то свою показал да представил, продолжал майор, искоса посматривая на невесту. Кудеяров взял смущенную Галину за руку и подвел к Рубцову. — Не знал я, дочка, что ты такая, — проговорил Рубцов, пожимая оторопевшей Галине руку. — За храбрость хвалю, одобряю, ну, остальное потом скажу, потом… И больше, пока не сели за стол, Зиновий Владимирович не сказал молодым ни слова. Разговаривая с Шариповым, он был рассеян и задумчив. Только один раз пристально посмотрел на Галину. Клавдия Федоровна принесла свои туфли и платье учительницы Шуры, за которым пришлось ехать на машине майора Рубцова в бывшую усадьбу помещика Гурского. Все это она уговорила девушку надеть. Длинное белое платье так шло к смуглому лицу Галины и так разительно изменило ее внешность, что вошедший Иван Магницкий сразу и не узнал девушку. — А вас там ищут, — запинаясь, проговорил Магницкий, совсем не ожидавший встретить здесь Галину. — Вас Ганна кличет, а вы тут… Извините, товарищ политрук, у меня до вас дело. Увидев Магницкого, Галина вздрогнула и невольно прижалась к спинке дивана. Ей почудилось, что вот сейчас откроется дверь и с криком ворвется мать. За ней появится отец, сурово на нее посмотрит и потребует, чтобы она шла сейчас же домой. При этой мысли даже и майор показался ей не таким уж грозным и строгим. Галина растерянно оглянулась. Костя ушел умываться. Ушел и политрук Шарипов вместе с Иваном Магницким. В комнате остался только майор. Посапывая своим большущим носом, он курил толстую папиросу, потом начал расспрашивать, что она умеет делать и чем думает заняться, когда выйдет замуж. Галина немного успокоилась. Краснея и смущаясь, она рассказала майору, что умеет и жать, и косить, и разводить цветы, и хорошо знает, как надо стряпать из картошки белорусские лапуны. От ее ответов майор, как показалось Галине, подобрел. Вернулся Шарипов, и гости по приглашению Клавдии Федоровны уселись за стол. Как ни старалась хозяйка развеселить и оживить это маленькое скромное застолье, но это ей не удавалось. Шарипов сидел как на иголках, то и дело посматривая на часы. Он с нетерпением ожидал сообщений от Усова. Майор Рубцов, выпив две рюмки настойки, закусывал, сосредоточенно о чем-то думая, и, изредка поворачивая голову, украдкой рассматривал розовую от смущения невесту. Костя с душевным огорчением думал, что, не будь здесь его угрюмого начальника, все бы было хорошо и только он, майор Рубцов, своим мрачным видом и ледяной неприступностью заморозил всю компанию. Рубцов, по мнению Кости, молчал и пыжился, как сибирский медведь. Недаром и родился-то он где-то в глухой уссурийской тайге. Все шло совсем не так, как предполагала добрая и гостеприимная хозяйка, тяготившаяся этой неловкостью больше всех. В открытые окна уже вползали сумерки, и в комнате установилась скучная, давившая гостей тишина. Только было слышно, как тяжело дышал грузный Рубцов. Со двора доносились крики и веселый смех играющих детей. Скоро должен был уйти политрук Шарипов. Подходило время отдачи боевого приказа на охрану государственных границ. Наступал ласковый, прохладный осенний вечер. От прикосновения легкого ветерка с чуть слышным звоном падали с деревьев сухие листья. — Ну-ка, хозяюшка, налей-ка еще по одной, по последней, — неожиданно для всех попросил Зиновий Владимирович и, взяв рюмку, поднялся. Разрешите мне все-таки воспользоваться правом посаженого отца и от чистого сердца поздравить молодых… Решение их, я вижу, серьезно, но только, как и всякие молодые, неопытные люди, они не продумали своих поступков до конца… Рубцов замолчал и тяжело передохнул, словно на его плечах был непомерный груз; тяжелым взглядом своих маленьких серых глаз он обвел гостей.
— По выражению ваших лиц и снисходительным улыбкам я вижу и чувствую, что вы сейчас думаете: Рубцов, мол, пожилой и странный человек, не понимает молодости и говорит не то, что обычно говорят в таких случаях. Скука и грусть, присутствующие на этой в действительности невеселой свадьбе, как вы все полагаете, исходят из моего поведения… Я молчал потому, что не хотел говорить пустых, ничего не стоящих слов. Разве не грустно и не печально, что за этим столом нет родителей невесты? Грустно, а нам, советским людям, еще и дико. Грустно, и это не спрячешь ни за какими красивыми словами. Почему так невесело, почему так тяжело нам всем? Да потому, что совершено зло! Совершено преступление! Не делайте ужасных лиц! Не думайте, что я буду обвинять этих молодых людей, нет! Они поступили по влечению своих молодых, горячих сердец! Тем, что они любят друг друга и будут жить дружно — а я в этом не сомневаюсь, — они исправят зло, совершенное старшими. А над этими старшими сотнями лет совершали преступление другие. Это иезуиты, мракобесы из ватиканских мрачных трущоб, фашисты. Но придет время, и родители этой девушки все поймут и осудят сами себя. И время это не далеко, оно скоро придет… Но и наши молодые ничего не продумали, ничего не взвесили! Вот они сегодня уезжают. Все это отлично. Завтра будут в городе. Где они остановятся? В гостинице или у товарища? Башмаки на деревянной подошве нужно сменить на приличные туфли. Надо купить новое платье, и не одно. Потом Кудеяров хочет повезти Галину в Москву, затем на курорт. Он хочет, чтобы человек, которого он любит, почувствовал себя счастливым. Я приветствую это желание и в свою очередь хочу помочь им. Вот возьмите этот ключик. — С этими словами Зиновий Владимирович вытащил из кармана ключи и положил на стол. — Мне с супругой гродненская трехкомнатная квартира пока не нужна. Живите и будьте счастливы, там все есть, все приготовлено… А вот и еще один ключ — это от моей машины, она у меня собственная. Садитесь — и в добрый путь. Вот такой мой отцовский завет!
Густой голос Зиновия Владимировича разогнал, уничтожил тягостное настроение. В комнате стало как-то светлей, уютней. Оживились и повеселели лица гостей. У Галины часто затрепетали темные ресницы, и она, сжимая под столом руку Кости, с радостным чувством поглядывала на этого удивительного пожилого офицера.
Костя смущенно и неловко налил полный стакан вина и поставил перед майором, но, поймав его укоризненный взгляд, окончательно смутился и покраснел. «Что же я, дурень, делаю? Надо ведь, наверное, благодарить. Хоть бы Клавдия Федоровна что-нибудь подсказала».
Зиновий Владимирович взял стакан и выпил его до дна.
Клавдия Федоровна со следами слез на щеках встала и решительными шагами обошла вокруг стола. Подойдя к Рубцову, она белой, полной рукой обняла его за шею.
— Хоть и не любит наш Зиновий Владимирович целоваться, а я его все-таки поцелую.
С этими словами она трижды поцеловала сконфузившегося майора в щеки.
— Браво! — хлопая в ладоши, крикнул Шарипов. — Браво!
— Кто это сказал, что я не люблю целоваться? — оправдывался Зиновий Владимирович. — Это я на людях только стесняюсь, — закончил под общий хохот Рубцов.
Спустя два часа молодых усадили в машину и отправили в город.
Рубцов замолчал и тяжело передохнул, словно на его плечах был непомерный груз; тяжелым взглядом своих маленьких серых глаз он обвел гостей.
— По выражению ваших лиц и снисходительным улыбкам я вижу и чувствую, что вы сейчас думаете: Рубцов, мол, пожилой и странный человек, не понимает молодости и говорит не то, что обычно говорят в таких случаях. Скука и грусть, присутствующие на этой в действительности невеселой свадьбе, как вы все полагаете, исходят из моего поведения… Я молчал потому, что не хотел говорить пустых, ничего не стоящих слов. Разве не грустно и не печально, что за этим столом нет родителей невесты? Грустно, а нам, советским людям, еще и дико. Грустно, и это не спрячешь ни за какими красивыми словами. Почему так невесело, почему так тяжело нам всем? Да потому, что совершено зло! Совершено преступление! Не делайте ужасных лиц! Не думайте, что я буду обвинять этих молодых людей, нет! Они поступили по влечению своих молодых, горячих сердец! Тем, что они любят друг друга и будут жить дружно — а я в этом не сомневаюсь, — они исправят зло, совершенное старшими. А над этими старшими сотнями лет совершали преступление другие. Это иезуиты, мракобесы из ватиканских мрачных трущоб, фашисты. Но придет время, и родители этой девушки все поймут и осудят сами себя. И время это не далеко, оно скоро придет… Но и наши молодые ничего не продумали, ничего не взвесили! Вот они сегодня уезжают. Все это отлично. Завтра будут в городе. Где они остановятся? В гостинице или у товарища? Башмаки на деревянной подошве нужно сменить на приличные туфли. Надо купить новое платье, и не одно. Потом Кудеяров хочет повезти Галину в Москву, затем на курорт. Он хочет, чтобы человек, которого он любит, почувствовал себя счастливым. Я приветствую это желание и в свою очередь хочу помочь им. Вот возьмите этот ключик. — С этими словами Зиновий Владимирович вытащил из кармана ключи и положил на стол. — Мне с супругой гродненская трехкомнатная квартира пока не нужна. Живите и будьте счастливы, там все есть, все приготовлено… А вот и еще один ключ — это от моей машины, она у меня собственная. Садитесь — и в добрый путь. Вот такой мой отцовский завет!
Густой голос Зиновия Владимировича разогнал, уничтожил тягостное настроение. В комнате стало как-то светлей, уютней. Оживились и повеселели лица гостей. У Галины часто затрепетали темные ресницы, и она, сжимая под столом руку Кости, с радостным чувством поглядывала на этого удивительного пожилого офицера.
Костя смущенно и неловко налил полный стакан вина и поставил перед майором, но, поймав его укоризненный взгляд, окончательно смутился и покраснел. «Что же я, дурень, делаю? Надо ведь, наверное, благодарить. Хоть бы Клавдия Федоровна что-нибудь подсказала».
Зиновий Владимирович взял стакан и выпил его до дна.
Клавдия Федоровна со следами слез на щеках встала и решительными шагами обошла вокруг стола. Подойдя к Рубцову, она белой, полной рукой обняла его за шею.
— Хоть и не любит наш Зиновий Владимирович целоваться, а я его все-таки поцелую.
С этими словами она трижды поцеловала сконфузившегося майора в щеки.
— Браво! — хлопая в ладоши, крикнул Шарипов. — Браво!
— Кто это сказал, что я не люблю целоваться? — оправдывался Зиновий Владимирович. — Это я на людях только стесняюсь, — закончил под общий хохот Рубцов.
Спустя два часа молодых усадили в машину и отправили в город.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Кавалерийский наряд пограничников во главе с лейтенантом Усовым рысью проследовал вдоль канала и втянулся в лес. Встретив на развилке дорог патруль, Усов приказал всадникам спешиться и укрыть лошадей под деревьями. Советские радисты запеленговали работу неизвестного радиопередатчика, действующего в разных лесных квадратах. Было видно, что нарушители кочуют с места на место и передают шифрованные передачи. Несколько часов назад войска оперативной группы совместно с пограничниками зонального отряда заняли все выходы из леса и начали осуществлять его методическую проческу. Для того чтобы обнаружить радиоточку, пришлось прочесать лесной массив в тридцать — сорок километров. Начальнику заставы лейтенанту Усову было приказано выставить на своем участке конные и пешие патрули, контролировать дорогу на Вильнюс и лесосплавный канал. Это старое сооружение было построено белорусскими и польскими крестьянами. Канал брал свое начало от пограничного озера Шлямы, окруженного девственными лесами, и тянулся на многие десятки километров по Западной Белоруссии к Неману. Сукальский хорошо знал эту местность. Еще будучи уланским офицером, он не раз приезжал в имение пана Гурского и распил здесь на пикниках и охоте не одну бутылку французского вина. Блестящий мундир офицера он сменил на монашескую сутану, но и ее давно уже променял на черный костюм находящегося на службе у Ватикана разведчика, которого христолюбивые хозяева заставляли творить самые грязные дела. Пользуясь фальшивыми документами пастыря Львовской метрополии, Сукальский приехал в Западную Белоруссию для «ревизии деятельности католических церквей». На самом же деле он распространял брошюру Слипого «Главные правила современного душепастырства» и другую нелегальную литературу среди отсталого крестьянства и реакционно настроенного кулачества. Одновременно, выполняя задание иностранной разведки, он собирал информацию о строительстве пограничных укреплений и настроениях белорусского и польского населения. По прибытии на место Сукальский связался с местными националистическими элементами фашистской ориентации. После визита к Юзефу Михальскому, боясь провала, Сукальский взял надежных людей и перебазировался в лес. Чувствуя, что на одном месте оставаться нельзя, Сукальский, сняв радиостанцию, двинулся по направлению к литовской границе с намерением получить помощь у известных ему людей. Однако вскоре он понял, что находится в ловушке. Волчий инстинкт этого матерого диверсанта подсказал ему, что он попал в железное кольцо, которое с каждым часом сжималось все плотней и плотней. Сукальский повернул в другую сторону и стал пробираться в глубь леса. Его сопровождали сыновья Юзефа Михальского — Юрко и Владислав. Пройдя метров пятьсот, Владислав обогнал Юрко, тащившего за спиной портативный радиопередатчик, приблизился к Сукальскому и тронул его за плечо: — Если вы хотите, пан Сукальский, идти на Вильнюс, то дорога на Вильнюс не здесь, — тихо сказал Владислав. — Я это знаю, — мрачно ответил Сукальский и, зверовато оглядываясь по сторонам, спросил: — Неужели в лесу нет такого места, где было бы можно надежно укрыться и дождаться темноты? — Места такие есть, — сказал Владислав. — Это, пожалуй, и есть самое дикое место. Но у пограничников собаки.
Он еще не подозревал, что лес почти окружен. Понимал безвыходность положения только Сукальский, о чем сразу же сообщил и Владиславу. Тот удивленно заморгал глазами и стал нетерпеливо перекладывать пустую корзинку с руки на руку.
— Тогда нам надо уходить, пан Сукальский, — в смятении проговорил Владислав.
— А если тебя по дороге схватят? — в упор спросил Сукальский. Он знал, что удерживать Владислава нет никакого смысла: парень будет только помехой.
— Я скажу, что ходил в лес за грибами… что вообще у меня сегодня расстроены нервы! Я поссорился со своей невестой и решил пойти в лес успокоиться…
— Но если советские чекисты не поверят тебе и упрячут туда?… Сукальский сложил два пальца крестом, изображая тюремную решетку.
— Надо иметь доказательства, а их нет. Я все-таки советский служащий, лесотехник, на хорошем счету… Но если нас всех захватят вместе и вот с этой штукой… — Владислав показал пальцем на радиопередатчик.
Сукальский исподлобья посмотрел на подходившего Юрко и нахмурился. Владислав, пожалуй, прав. Радиоустановку надо немедленно спрятать. Подозвав Юрко, он приказал отнести аппарат подальше в кусты и зарыть под корневищем.
— Да вы не беспокойтесь, пан Сукальский! — сказал Юрко.
Юрко был совсем еще юноша со светлыми, кудрявыми, как у барашка, волосами, с полными, порозовевшими от быстрой ходьбы щеками; у него были печальные голубые глаза.
— Здесь нас никто не найдет…
— Мы всегда находимся в опасности, — мрачно ответил Сукальский.
Он подошел к Владиславу, рывком схватил его за руку и отвел к толстой, шатром раскинувшейся ели. Прижавшись спиной к стволу, лихорадочно спросил:
— Ты хорошо знаешь этот лес?
— О-о! Отлично, пан Сукальский, — понимая его волнение, ответил Владислав.
— Как можно отсюда выбраться? Неужели нет никакого скрытого выхода?
— Попробуйте через канал, — после некоторого раздумья заговорил Владислав. — Неприятно, конечно, но другого выхода нет. Придется ползти по канаве, по которой осушают болото, тут совсем недалеко. Когда спуститесь в воду, поплывете у самой стены и почти все время под водой. Юрко вас проведет до канала, а потом проберется домой…
— Хорошо, — коротко проговорил Сукальский и, выхватив из чехла острый короткий нож, стал торопливо делать на древесной коре отметку. Ему надо было запомнить это место. Здесь, в лесу, он спрятал важные документы. Пришлось заучивать их наизусть. Покончив с отметкой, он повернулся и сунул нож в маленький, висевший на поясе кожаный чехол.
— Разрешите пожелать вам успеха, пан Сукальский. Мне надо торопиться. Когда будете плыть, обвяжите голову травой или ветками. Так раньше контрабандисты делали.
— Меня этому учить не надо… — Сукальский усмехнулся и протянул Владиславу сухую жилистую руку. Тот крепко пожал ее и быстро скрылся в густом орешнике.
Через несколько часов он был задержан пограничниками с полной корзинкой грибов и отведен в комендатуру.
Высокий сгорбленный Сукальский остался стоять на месте. Ухватившись за ветви ели руками, наклонив голову, он поджидал Юрко и напряженно думал. Все, что посоветовал ему Владислав, было малоутешительным. Как загнанный зверь, он чувствовал, что окружен со всех сторон солдатами, и понимал, что вырваться из этого кольца будет трудно. В памяти всплыли все ранее применяемые им в таких случаях уловки, но сейчас ничего подходящего не находилось.
Далеко за деревьями звонко и призывно заржал конь.
Сукальский вздрогнул. Ему показалось, что в лесных шорохах, в шелесте листьев скрывается шепот приближающихся пограничников и даже слышны их осторожные шаги. Вот сейчас зашевелятся, раздвинутся кусты и раздастся грозный окрик: «Стой! Руки вверх!»
Шаги действительно приближались. За кустом черемухи мелькнула фигура Юрко.
Сукальский оторвал руку от сучка, за который держался.
Робкий и смущенный вид Юрко, измятый коричневый костюм, круглые бараньи глаза вызывали у Сукальского глухое озлобление. Больше всего Сукальского раздражала и озлобляла безответная покорность этого красивого юноши. Стоило пообещать ему, что он скоро будет носить мундир уланского офицера, командовать кавалерийским взводом, драться за новую Польшу, и он, бросив учиться, слепо пошел за паном Сукальским, беспрекословно выполняя все его поручения. А теперь, думал Сукальский, если этот мальчишка попадется в руки пограничников, он так же откровенно и просто выдаст его.
— Все в порядке. Бегите к каналу, — прошептал Юрко. — Торопитесь, прошу вас. А мне надо домой.
Сукальский не ответил, продолжая украдкой хмуро коситься на Юрко. Больше всего ему сейчас неприятна была тонкая, белая, едва покрытая загаром шея юноши, с помятым, нечистым воротничком. У Сукальского бурно заколотилось сердце. От сильного напряжения становилось трудно дышать. Выбрав глазами место, он ударил Юрко ниже мочки уха в шею и, чтобы не забрызгаться кровью, отскочил в сторону.
Когда замерла на лице юноши последняя судорога, Сукальский поднял труп с земли, прислонил его к дереву, сунул в вялые пальцы нож и, согнувшись, побежал в кусты.
Спустя несколько часов пограничники нашли мертвого Юрко. Дальше розыскная собака привела пограничников к берегу Августовского канала и там потеряла след. Под корневищем сваленного дерева была найдена рация германского происхождения.
По глубокой водосточной канаве, заросшей мелким густым кустарником, Сукальский осторожно прополз к каналу. Свой след он посыпал специальным порошком.
Сначала он плыл под водой, иногда высовывая обмотанную камышом голову, жадно глотал воздух, снова плыл вниз по течению дальше от границы, с намерением миновать посты, а там пробраться в Литовский лес. Потом он остановился и, сидя в воде, спрятался под нависшую над берегом корягу. Он слышал, как по противоположному берегу прошел пограничный патруль. Дрожа от холода и страха, сидел не шелохнувшись. К ночи он так закоченел, что его тело начало сводить судорогой. Но переходить в незнакомом месте границу он не решился и поплыл в обратном направлении. Единственным спасением было выползти на берег и идти в Гусарское, чтобы укрыться в доме Михальского. Другого выхода не было. Он вылез на берег, спотыкаясь и падая в темноте, в полном безразличии ко всему окружающему, пошел через поле в село и с трудом добрался до сада Михальских.
Услышав сердитый лай собаки, Юзеф вышел в сад и столкнулся с едва живым, промокшим, облепленным илом и водорослями Сукальским.
— Что случилось? — шепотом спросил Михальский. — А где сыновья?
— Дайте мне вина и спрячьте… Умоляю вас, — еле выговорил Сукальский. — Ваши сыновья спасли мне жизнь, о-о! Да сохранит их господь бог!
Юзеф Михальский принес сухую одежду. Сукальский переоделся. После этого Михальский отвел его в костел, а под утро они уже были у литовской границы. Старый волк Юзеф знал тайные тропы. Через несколько дней он вернулся и был арестован.
Владислав, которого за недостатком улик вскоре выпустили, стал писать высшим властям жалобы, всячески стремясь выгородить отца и запутать следствие.
— Места такие есть, — сказал Владислав. — Это, пожалуй, и есть самое дикое место. Но у пограничников собаки.
Он еще не подозревал, что лес почти окружен. Понимал безвыходность положения только Сукальский, о чем сразу же сообщил и Владиславу. Тот удивленно заморгал глазами и стал нетерпеливо перекладывать пустую корзинку с руки на руку.
— Тогда нам надо уходить, пан Сукальский, — в смятении проговорил Владислав.
— А если тебя по дороге схватят? — в упор спросил Сукальский. Он знал, что удерживать Владислава нет никакого смысла: парень будет только помехой.
— Я скажу, что ходил в лес за грибами… что вообще у меня сегодня расстроены нервы! Я поссорился со своей невестой и решил пойти в лес успокоиться…
— Но если советские чекисты не поверят тебе и упрячут туда?… Сукальский сложил два пальца крестом, изображая тюремную решетку.
— Надо иметь доказательства, а их нет. Я все-таки советский служащий, лесотехник, на хорошем счету… Но если нас всех захватят вместе и вот с этой штукой… — Владислав показал пальцем на радиопередатчик.
Сукальский исподлобья посмотрел на подходившего Юрко и нахмурился. Владислав, пожалуй, прав. Радиоустановку надо немедленно спрятать. Подозвав Юрко, он приказал отнести аппарат подальше в кусты и зарыть под корневищем.
— Да вы не беспокойтесь, пан Сукальский! — сказал Юрко.
Юрко был совсем еще юноша со светлыми, кудрявыми, как у барашка, волосами, с полными, порозовевшими от быстрой ходьбы щеками; у него были печальные голубые глаза.
— Здесь нас никто не найдет…
— Мы всегда находимся в опасности, — мрачно ответил Сукальский.
Он подошел к Владиславу, рывком схватил его за руку и отвел к толстой, шатром раскинувшейся ели. Прижавшись спиной к стволу, лихорадочно спросил:
— Ты хорошо знаешь этот лес?
— О-о! Отлично, пан Сукальский, — понимая его волнение, ответил Владислав.
— Как можно отсюда выбраться? Неужели нет никакого скрытого выхода?
— Попробуйте через канал, — после некоторого раздумья заговорил Владислав. — Неприятно, конечно, но другого выхода нет. Придется ползти по канаве, по которой осушают болото, тут совсем недалеко. Когда спуститесь в воду, поплывете у самой стены и почти все время под водой. Юрко вас проведет до канала, а потом проберется домой…
— Хорошо, — коротко проговорил Сукальский и, выхватив из чехла острый короткий нож, стал торопливо делать на древесной коре отметку. Ему надо было запомнить это место. Здесь, в лесу, он спрятал важные документы. Пришлось заучивать их наизусть. Покончив с отметкой, он повернулся и сунул нож в маленький, висевший на поясе кожаный чехол.
— Разрешите пожелать вам успеха, пан Сукальский. Мне надо торопиться. Когда будете плыть, обвяжите голову травой или ветками. Так раньше контрабандисты делали.
— Меня этому учить не надо… — Сукальский усмехнулся и протянул Владиславу сухую жилистую руку. Тот крепко пожал ее и быстро скрылся в густом орешнике.
Через несколько часов он был задержан пограничниками с полной корзинкой грибов и отведен в комендатуру.
Высокий сгорбленный Сукальский остался стоять на месте. Ухватившись за ветви ели руками, наклонив голову, он поджидал Юрко и напряженно думал. Все, что посоветовал ему Владислав, было малоутешительным. Как загнанный зверь, он чувствовал, что окружен со всех сторон солдатами, и понимал, что вырваться из этого кольца будет трудно. В памяти всплыли все ранее применяемые им в таких случаях уловки, но сейчас ничего подходящего не находилось.
Далеко за деревьями звонко и призывно заржал конь.
Сукальский вздрогнул. Ему показалось, что в лесных шорохах, в шелесте листьев скрывается шепот приближающихся пограничников и даже слышны их осторожные шаги. Вот сейчас зашевелятся, раздвинутся кусты и раздастся грозный окрик: «Стой! Руки вверх!»
Шаги действительно приближались. За кустом черемухи мелькнула фигура Юрко.
Сукальский оторвал руку от сучка, за который держался.
Робкий и смущенный вид Юрко, измятый коричневый костюм, круглые бараньи глаза вызывали у Сукальского глухое озлобление. Больше всего Сукальского раздражала и озлобляла безответная покорность этого красивого юноши. Стоило пообещать ему, что он скоро будет носить мундир уланского офицера, командовать кавалерийским взводом, драться за новую Польшу, и он, бросив учиться, слепо пошел за паном Сукальским, беспрекословно выполняя все его поручения. А теперь, думал Сукальский, если этот мальчишка попадется в руки пограничников, он так же откровенно и просто выдаст его.
— Все в порядке. Бегите к каналу, — прошептал Юрко. — Торопитесь, прошу вас. А мне надо домой.
Сукальский не ответил, продолжая украдкой хмуро коситься на Юрко. Больше всего ему сейчас неприятна была тонкая, белая, едва покрытая загаром шея юноши, с помятым, нечистым воротничком. У Сукальского бурно заколотилось сердце. От сильного напряжения становилось трудно дышать. Выбрав глазами место, он ударил Юрко ниже мочки уха в шею и, чтобы не забрызгаться кровью, отскочил в сторону.
Когда замерла на лице юноши последняя судорога, Сукальский поднял труп с земли, прислонил его к дереву, сунул в вялые пальцы нож и, согнувшись, побежал в кусты.
Спустя несколько часов пограничники нашли мертвого Юрко. Дальше розыскная собака привела пограничников к берегу Августовского канала и там потеряла след. Под корневищем сваленного дерева была найдена рация германского происхождения.
По глубокой водосточной канаве, заросшей мелким густым кустарником, Сукальский осторожно прополз к каналу. Свой след он посыпал специальным порошком.
Сначала он плыл под водой, иногда высовывая обмотанную камышом голову, жадно глотал воздух, снова плыл вниз по течению дальше от границы, с намерением миновать посты, а там пробраться в Литовский лес. Потом он остановился и, сидя в воде, спрятался под нависшую над берегом корягу. Он слышал, как по противоположному берегу прошел пограничный патруль. Дрожа от холода и страха, сидел не шелохнувшись. К ночи он так закоченел, что его тело начало сводить судорогой. Но переходить в незнакомом месте границу он не решился и поплыл в обратном направлении. Единственным спасением было выползти на берег и идти в Гусарское, чтобы укрыться в доме Михальского. Другого выхода не было. Он вылез на берег, спотыкаясь и падая в темноте, в полном безразличии ко всему окружающему, пошел через поле в село и с трудом добрался до сада Михальских.
Услышав сердитый лай собаки, Юзеф вышел в сад и столкнулся с едва живым, промокшим, облепленным илом и водорослями Сукальским.
— Что случилось? — шепотом спросил Михальский. — А где сыновья?
— Дайте мне вина и спрячьте… Умоляю вас, — еле выговорил Сукальский. — Ваши сыновья спасли мне жизнь, о-о! Да сохранит их господь бог!
Юзеф Михальский принес сухую одежду. Сукальский переоделся. После этого Михальский отвел его в костел, а под утро они уже были у литовской границы. Старый волк Юзеф знал тайные тропы. Через несколько дней он вернулся и был арестован.
Владислав, которого за недостатком улик вскоре выпустили, стал писать высшим властям жалобы, всячески стремясь выгородить отца и запутать следствие.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Вечером Усов вызвал старшего наряда Сороку в канцелярию штаба и приказал: — Доложите подробно, как несли службу на посту номер шесть. — Да я уже, товарищ лейтенант, докладывал товарищу политруку, ничего не подозревая, бодро ответил Сорока. — Доложите еще раз начальнику заставы. Расскажите все от начала до конца, как заступили и как сменились. — Да по-обыкновенному, товарищ лейтенант! Пришли, заняли пост, залегли… с Юдичевым. Трохи полежали в одном месте, потом пошли в другое, там посидели… — Посидели, полежали трохи, — багровея, проговорил Усов. — Какую боевую задачу имеет пост? — Смотреть за каналом и за ближайшими дорогами. — Повернув недовольное лицо в сторону, Сорока добавил: — Да какая там боевая, товарищ начальник, в тылу… Кроме, як бабы сельские полощут белье да голяшками сверкают с утра до ночи, там и смотреть не на что. Ну, ночью туда-сюда, а днем сидеть тошно. — Так ты, наверное, не службу нес, а смотрел, как бабы юбки моют? — Конечно, смотрел, — ухмыляясь, ответил Сорока. — Глаза ж у меня подходящие, ну и смотрел… — Не годятся твои глаза, чтобы нести пограничную службу. Сегодня посылаю рапорт и отчисляю тебя в другой род войск! — За что, товарищ лейтенант? — Сорока часто заморгал, предчувствуя, какой позор обрушится ему на голову, когда он изменит адрес и пошлет письмо невесте Варваре, бригадиру одного кубанского колхоза, молодой, разотчаянной девушке. Сорока гордился своей службой на границе, рассказывал о подвигах пограничников, сочиняя и выдумывая их повсякому поводу. На заставе это был самый первый балагур, сказочник и фантазер. Недавно он послал своей невесте фотографию. В парадной форме он выглядел таким молодцом, что привел, как писала Варя, в восхищение всю бригаду. И вот теперь начальник заставы прямо заявил, что отчислит его в другую часть. Что же с ним будет, как станет смотреть он в глаза товарищам, а главное — Варваре? — За что, товарищ лейтенант? Ну, ежели эти самые бабы полоскают, то даю вам честное комсомольское, что и очей своих больше не подниму… — Плохие твои очи, товарищ Сорока. Они сегодня диверсанта проглядели, нарушителя, такого врага, что… — Этого не может быть, товарищ лейтенант! — словно подстегнутый, вытягиваясь в струнку, проговорил Сорока, ошеломленный сообщением Усова. — Прозевали! Да, да, прозевали, просмотрели! Забыли устав. Забыли, что на границе нет второстепенных и главных участков, а есть служба, дисциплина и точное выполнение приказаний. Вам молодой пограничник Юдичев говорил, что это тоже важный пост, а вы убеждали его в обратном, чего вы, как старший наряда, не имели права делать! Вы, вы его должны воспитывать и дисциплинировать, а получается наоборот. Под носом у вас плыл нарушитель, а вы где были? Ходили с места на место и на деревьях воробьев считали! — Больше этого никогда не будет, товарищ начальник заставы. Я согласен перенести, перетерпеть любое наказание, только никуда не отправляйте меня! — Поздно! Сдайте оружие. Получите пилотку и приготовьтесь к отъезду, — твердо заключил Усов. Вернувшись из канцелярии, Сорока долго ходил по казарме из угла в угол, вздыхал, мучился. Несколько раз открывал сундучок, перебирал знакомые вещи. Попадавшиеся в руки письма бригадирши Варвары обжигали ему руки, он запихивал их на самое дно и с треском захлопывал крышку. На Юдичева смотреть не мог, отводил глаза в сторону. Тот тоже молчал. Оба чувствовали, что надо поговорить, но не знали, с чего начать. — Меня, слышь, Юдичев, отправляют… — Куда отправляют? — Учиться… на курсы, — сам не зная почему, брякнул Сорока. — На какие такие курсы? — удивленно и недоверчиво спросил Юдичев. — Я бы тебя к чертовой бабушке послал, а не на курсы. Проморгали на посту. Ты все… «второстепенный»… «в тылу»… Эх! — Сам понимаю, что проморгал. Вот за это меня и отправляют в другую часть, — хмуро и подавленно признался Сорока, чувствуя, что у него начинает першить в горле. — В другую часть? — спросил Юдичев. — Значит, совсем с нашей заставы? А меня как же? Ведь вместе были на посту. Юдичеву неловко было перед товарищем: себя он тоже считал виновным, да и наказание казалось очень тяжелым. Уехать из части, с которой сжился, не легко. — Ну что ж, что вместе были. Я старший наряда, значит, за все ответственный. А тебе что? Ты молодой боец. Вызвал тебя начальник, пропесочил — и концы в воду. А мне, брат, выдирай на голове чуприну. Что я домой напишу? Переведен в другую часть? А за что, дорогой товарищ Сорока, вы удостоились такой чести? И как еще там примут голубчика? Ну, скажут, куда нам такого спихнуть? Валяй каждый день на кухне барабулю чисть, бачки выскребай, в казарме пол натирай… Таковский! Да разве, скажут, можно ему, разгильдяю, после этого какой-нибудь пост доверить? И не посмотрят, что у Сороки два поощрения было. Возьмут да еще и в газете какой-нибудь пропечатают. Сраму для меня будет на всю страну. В колхоз и глаз не кажи. Там у нас такие девчата, засмеют и до дыр пальцами затыкают. Хана мне, Юдичев! Варвара на такого и глядеть не захочет. Если бы, начальник заставы, товарищ Усов, вы знали, что со мной зробили. Э-эх! Сорока сел на койку и опустил голову. Однако он глубоко ошибался, думая, что начальник заставы не знал о его положении. О переписке с бригадиршей знала вся застава. Не раз Сорока в приливе нежных чувств читал вслух письма и показывал фотокарточки. Усов вполне сознательно объявил ему свое решение, заранее зная, какое оно будет иметь воздействие. Весть о том, что Сороку отсылают с заставы, быстро разлетелась по всей казарме. — Ты к политруку сходи, — посоветовал повар Чубаров. — А зачем ему ходить к политруку? — вмешался Бражников. На заставу Бражников прибыл недавно из госпиталя и имел медаль «За отвагу», полученную в боях за Халхин-Гол. Несмотря на короткий срок пребывания на заставе, он был назначен командиром отделения и всей своей степенностью бывалого сибиряка, разумностью суждений и строгой дисциплинированностью быстро завоевал всеобщее уважение. — К политруку ходить нечего и не положено это по уставу. Раз начальник заставы принял решение, значит, он нашел нужным его принять. Товарищ Сорока комсомолец, так мы обсудим его поступок на комсомольском собрании и тоже примем решение. Пригласим начальника заставы, и он нам как член партии выскажет свои соображения и объяснит, почему решил так, а нам всем полезно будет послушать и каждому подумать, как лучше нести службу. Слова Бражникова произвели на Сороку угнетающее впечатление. Он только сейчас почувствовал, что приказ начальника — одно, а обсуждение его проступка на комсомольском собрании — совсем другое. По существу, это будет товарищеский суд. Целый день Сорока ходил как в воду опущенный, не зная, куда девать оставшееся до собрания время. Его неудержимо тянуло сходить к политруку, поговорить по душам. Несколько раз Сорока подходил к квартире Шарипова, смущенно поглядывал на дверь, но каждый раз уходил обратно. При последней попытке он неожиданно столкнулся с Клавдией Федоровной почти у самого крыльца и в замешательстве спросил: — Дома товарищ Шарипов? — Дома. Заходите, — доброжелательно и просто ответила Клавдия Федоровна. Отступать теперь было уже неудобно. Сорока вошел. Шарипов в одной майке стоял посреди комнаты и, держа в руках гимнастерку, говорил: — Тут, Оленька, пуговица держится на одной ниточке, надо ее перешить. Принеси-ка мне иголочку с ниткой, и мы сейчас прикрепим ее. — Папа, отдай мне свою гимнастерку, я сама пришью пуговичку, сказала Оля. — Ты, Оленька, не сумеешь. — Нет, сумею. Я своей кукле Маше сама платье сшила. Дай, папочка, я пришью. Ну, дай! Вот посмотришь, как я крепко пришью. Сорока, поздоровавшись, сказал: — Очень извиняюсь, товарищ политрук. Мне нужно с вами поговорить по личному вопросу. — Говорите, товарищ Сорока. Я слушаю. — Шарипова не удивило появление бойца. О решении Усова он знал и ждал, что Сорока сам заговорит о своем деле при первом удобном случае. — Мне бы наедине хотелось с вами поговорить, товарищ политрук, смущенно проговорил Сорока. — Можно и наедине… Выйдем! Шарипов отдал дочери гимнастерку и вместе с Сорокой вышел во двор. Оставшись одна, Оля достала из комода ножницы, отрезала едва державшуюся пуговицу, полюбовавшись ею, положила на стол и, отойдя к окну, стала вдевать в игольное ушко нитку. Нитка не сразу влезла в крошечное отверстие. Пришлось кончик намочить, скрутить пальчиками, и, когда после многих усилий нитка наконец влезла в ушко, Оля, торжествуя, обернулась к столу. Но пуговицы на месте уже не было. Около комода стоял Слава. Завладев золотой пуговицей, он примерял ее к своей рубашке. — Зачем ты взял пуговицу? — строго спросила Оля. — Это не твоя пуговица, — не обращая ни малейшего внимания на ее строгий тон, ответил Слава и на всякий случай, зная характер Оли, зажал пуговицу в кулачок. — Я только что положила пуговицу вот на это местечко, а ты ее схватил. Сейчас же отдай! — А я не отдам, — заявил Слава, бочком направляясь к двери. Но Оля это заметила, и путь к бегству был немедленно отрезан. — Отдай пуговицу, я ее должна пришивать. — Я сам буду пришивать! — крикнул Слава. Оля бросилась отнимать пуговицу силой. Между братом и сестрой произошла потасовка. Когда Оля разжала Славин кулачок, пуговицы там не оказалось. — Ты куда девал пуговицу? — Не скажу, — упорствовал Слава. — Ты ее забросил? — Забросил. Оля исползала весь пол, но пуговицы не нашла. — Ты, может быть, проглотил ее? — Проглотил. — Слава плутовски зажмурил глаза и показал пальчиком на свой рот. — Ой какой глупый мальчишка! — Оля заглянула ему в рот, но и там пуговички не было. — Если проглотил, то умрешь! — Ты сама глупая, и ты сама умрешь, — защищался Слава как умел. Об этом происшествии было доложено Клавдии Федоровне. Слава признался, что пуговицу он не съел, а забросил. Он разводил ручонками, показывал пальцем во все углы, но пуговица так и не отыскалась.ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Сцепив руки, согнувшись, Игнат Сорока сидел на кромке кирпичного фундамента и хмуро смотрел себе под ноги. Не отводя напряженно блестевших коричневых глаз от земли, он попросил Шарипова уделить ему несколько минут для беседы. Вглядываясь в молодое осунувшееся лицо пограничника, Шарипов заметил резкую в нем перемену. Не было видно ни одной прежней лукавой черточки и нарочитого ухарства. Только изгибы плотно сжатых губ и упиравшийся в воротник гимнастерки кадык временами едва заметно вздрагивали, а в глазах то угасал, то вспыхивал вновь влажный блеск. — О чем будем говорить, товарищ Сорока? — спросил Шарипов. — Разве вы не знаете, товарищ политрук? — Сорока нервно вскочил, сунул ладонь под пряжку солдатского ремня, но, спохватившись, опустил руки по швам. — Садись, поговорим спокойно. Ты вот в струнку тянешься, дисциплину показываешь, а не замечаешь, что я в майке, без фуражки… Побеседуем запросто, по-товарищески. — Виноват, товарищ политрук, — вздохнув, проговорил Сорока и почувствовал, что с политруком разговор будет полегче, чем с начальником заставы. — Шутка сказать, решил отчислить! По врожденной привычке, не удержавшись от занозистого словца, Игнат Сорока добавил: — Виноватых всегда на скамью сажают… А меня товарищ лейтенант Усов зараз не хочет садить, а долой с заставы гонит. Лучше уже посадил бы суток на десять — и концы в воду! — Значит, ты считаешь себя обиженным? — посматривая сбоку на строгое мрачноватое лицо Игната, спросил политрук. — Тяжело мне уходить с заставы от своих товарищей! Тяжелее этого и придумать ничего нельзя… — А когда ты на посту стоял, о товарищах своих думал? — спросил Шарипов. Его начал волновать этот разговор. Нравились и откровенность и переживания бойца. — Помнил о товарищах? — переспросил политрук. — О начальнике заставы тоже следовало подумать! Он первое лицо, которое несет ответственность за охрану границы, и за тебя, и за товарищей твоих перед нашей Родиной! Думал или нет? Игнат подавленно молчал. Видно было, что тот напряженный тон, с каким задавал Шарипов вопросы, для Сороки был неожиданным и выдержать его стоило ему больших усилий. Разговор оказался вовсе не легким, как подумал вначале Игнат. Ему только теперь во всю полноту стало понятно значение своего проступка. Горькое раскаяние охватило его. Он опустил голову и медленно проговорил: — Наверное, не так думал, как следовало думать… — Ты понимаешь, что за твое ротозейство несет ответственность вся застава, начиная от начальника и кончая молодым пограничником Румянцевым? Скажу больше — весь отряд. Позор-то на всех нас. Как же после этого может быть мягким начальник заставы? Ты подумай! Пойми! — Все понимаю, товарищ политрук… — с прежним упрямством ответил Сорока, и Шарипову стало ясно, что он чего-то не договаривает. — Не-ет! — хлопнув ладонью по колену, решительно заявил политрук. Не до конца ты понял и чем-то недоволен. Уж раз пришел, так выкладывай все. Я играю в прятки только со своими ребятишками. А ты не мальчик… — Хорошо, товарищ политрук, раз на то пошло, то скажу все, поднявшись, решительно проговорил Сорока. — Я честно признался, что есть моя вина, и большая. Заслужил я самого строгого наказания. Вы помните мою собаку Тигра, с которой я пришел на заставу? Знаете, как она работала! Двадцать километров тогда я преследовал нарушителей, сам притомился, а она хоть бы что — и взяла! А когда убили ее бандиты, я целый месяц места себе не находил, письма домой писать не мог… Шутки шутил, а на душе-то тоска была. А после этого мне Ойру подсунули… Сколько раз я говорил командиру отделения, что нет у ней ни чутья, ни выносливости! Сидишь на посту, а она сладко позевывает, словно взвару наелась и ко сну ее клонит. А тут рядом на канале бабы вальками хлопают, смеются, а она и ухом не ведет. Ну, хоть бы раз заворчала! Сержант говорит, что ее надо лучше тренировать. Пробовал. Никакого в ней зла нет. Она, наверное, старше моей бабушки, давно уже оглохла… Всем говорил, что негодная собака, а надо мной только посмеивались, думали, что я шучу и что после Тигра мне эта собака просто из каприза не нравится… Вот, может быть, через эту Ойру мне теперь с родной заставой распрощаться придется. Ну, были у меня промашки по дисциплине, это все правильно. А по службе в наряде я ответственность понимаю, товарищ политрук, и, если нужно будет, жизни не пожалею. Вот сержант Бражников сегодня хочет разбирать мое дело на комсомольском собрании, а ему тоже я не раз говорил, что у меня очень плохая собака. Может, сегодня исключат из комсомола и с заставы отчислят, но я знаю, что совесть у меня есть и она чиста. Может быть, я чего другого не понимал, а насчет службы я, товарищ политрук, всем сердцем служил! — взволнованно и горячо закончил свою речь Сорока. После этого разговора Шарипову стало понятно, что с Игнатом Сорокой получилось не совсем ладно. Как и во всяком деле, нашелся острый уголок, на который он больно напоролся, а вместе с ним и они, начальники и воспитатели. Успокоив пограничника, Шарипов пообещал детально во всем разобраться и поступить по справедливости. Одевшись, он пошел в казарму и, пригласив опытного инструктора, установил, что сторожевая собака по кличке Ойра, перед тем как попасть к Сороке, сильно болела и в значительной мере утратила чутье. Ночью, находясь в наряде, Игнат Сорока вспоминал, как горько ему было выслушивать справедливые упреки товарищей за его промахи по дисциплине, как пылали его щеки, когда говорил на комсомольском собрании начальник заставы лейтенант Усов о «второстепенных» постах, а кроме того, припомнил ему все старые грехи с первых дней службы. — Все начинается с мелочей, — говорил Виктор Михайлович. Разрисовали товарища Сороку в стенной газете вместе с плохо заправленной койкой, а он стоит рядом с другими и как ни в чем не бывало посмеивается и даже критикует художника, что неправильно нарисованы «бугры» на одеяле… Не понимал, что начальник заставы стоит здесь же и ему не смешно от этой карикатуры и шутовских замечаний виновника, а стыдно за такого пограничника. Пришел после отдыха в канцелярию в грязных сапогах и на замечание дежурного тоже отделался шуточкой. Пререкался с командиром отделения и потешался над сонливостью собаки, смешил товарищей, а о своей собаке мне ничего и не сказал. Вот так началось с мелочей, и они довели товарища Сороку до большого проступка… Комсомольская организация объявила Сороке выговор. Комендант участка приказал не назначать его старшим наряда. Крепко поддержали в эти дни суровых испытаний Игната Сороку политрук и сержант Бражников, который обязался помочь товарищу исправить ошибки.ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
В декабре 1940 года в одном из пограничных районов Польши, в глухом лесном местечке, остановилось несколько броневиков. Из головного броневика вышел невысокий тучноватый генерал в табачного цвета бекеше. Отвечая на приветствия встречавших его офицеров, он небрежно взмахивал длинной рукой, то и дело прикладывал ее к шапке из соболиного меха. Выслушав рапорт командира части, стоявшей здесь, у границы, генерал потер кожаной перчаткой толстый старчески красный нос. Потом, скользнув из-под седых бровей по зеленой шинели офицера маленькими глазками, жестко и отрывисто произнося каждое слово, он приказал: — Майор, вы будете сопровождать нас. Захватите в свою машину Сукальского. Кругом засуетились, забегали солдаты и офицеры, выполняя какие-то приказания майора. Глухо постукивая, сотрясая мерзлую землю, гудели автомобильные моторы. Генерал с длинными руками в сопровождении двух в таких же бекешах генералов отошел в сторону, обернувшись, посмотрел на верхушки деревьев и, о чем-то задумавшись, гортанным хриповатым басом проговорил: — Мы находимся, господа, на историческом месте. Мне пришлось быть здесь двадцать пять лет тому назад, еще офицером генерального штаба его императорского величества. Мы тогда прибыли выручать австрийцев. Их крепко побили русские. Разумеется, неприятно вспоминать такие вещи, но это исторический факт. Генерал хрипло рассмеялся и, сняв очки, стал протирать запотевшие на морозе стекла. — В наших планах предусмотрена только победа, господин фельдмаршал, деревянно отозвался высокий длиннолицый фельдмаршал Рейхенау. Рядом с ним, чуть поменьше ростом, стоял фельдмаршал Лист. Низкорослый тучный генерал был автор людоедского плана «Блицкриг», главнокомандующий всеми вооруженными силами гитлеровской Германии фельдмаршал Вальтер Браухич. В сопровождении тридцати высших офицеров фашистской армии он прибыл в Польшу для инспекторского смотра частей и специального обозрения советской границы. Для обозрения границы заранее была сооружена тщательно замаскированная вышка. Фельдмаршалы навели на советскую сторону стереоскопические трубы и долго наблюдали за жизнью нашей пограничной полосы. В голубой морозной дымке на снежных сугробах отражались полуденные солнечные лучи. Слева от высокой гряды темных Августовских лесов поднимались небольшие заснеженные холмы. Дальше снова тянулись густые леса, наполненные молчанием и тайной. Что знает офицер немецкого генерального штаба первой мировой войны, ныне фельдмаршал, о русском народе? Только то, что пишут дипломаты и шпионы. На что думает опереться гитлеровский главнокомандующий в предстоящих битвах с Красной Армией? Знает ли он, какой у него будет тыл? Может быть, он рассчитывает, что русский народ позволит накинуть себе на шею ярмо и будет безропотно снова возить на своем хребте капиталистов и помещиков? Представляет ли себе Браухич, как он сможет завоевать двухсотмиллионный советский народ и как он будет им управлять? Много ли он приготовил резиновых дубинок? Фашистский генерал с брезгливо поджатыми губами думал только о том, что он скоро пустит своих солдат разорять цветущую Украину, Молдавию и Белоруссию, что его солдаты растекутся по необъятным пространствам русской земли. Прикрыв веки, гитлеровский фельдмаршал представлял, как затрещат автоматные очереди, засвистят кнуты, закачаются петли с повешенными. Но он не знал, что русская земля скоро будет огненной от гнева и ненависти. Сейчас, наблюдая за пограничным селом, фашистский фельдмаршал видит, как мирно вьется над соломенными крышами сизый дымок. На улице бегают и резвятся детишки, не подозревая, что на них, как стволы орудий, нацелены сверхмощные цейсовские трубы, а скоро, быть может, с той стороны ударят крупповские пушки и повалится высокая стройная рябина вместе с тем бойким мальчишкой, который залез на самую макушку, чтобы полакомиться вкусными мерзлыми ягодами. Фельдмаршал нащупывает своими змеиными глазами советские оборонительные сооружения, но не видит их. Не оборачиваясь, он раздраженно спрашивает: — Вы утверждаете, Сукальский, что строительство блокгаузов здесь не закончено? — Да. Так было в сентябре, господин фельдмаршал, — почтительно склонясь, словно переламывая костистую фигуру надвое, отвечает Сукальский. Ему очень хочется выслужиться перед высоким начальством. Он старается говорить веско и обстоятельно. — Вы, кажется, были там в роли ксендза? — Браухич неожиданно резко повернул голову и, не скрывая презрения, оглядел Сукальского с головы до ног. — У меня к этому особое призвание, господин фельдмаршал. Мои религиозные и политические убеждения, надеюсь, вам известны, — хмуро ответил Сукальский. Высокомерность и ирония командующего были для него оскорбительны. Даже папа римский с ним так не разговаривал. — О-о, да! Я сам набожный человек. Иногда ищу утешения в молитве. Мир суров, Сукальский. Религия призвана смягчать человеческие души… Удалось ли вам выполнить высокую миссию, чтобы привести к миру украинских униатов и польских католиков? Ваш священнейший папа и мой фюрер очень обеспокоены этими религиозными раздорами… — У священной католической церкви сейчас единая цель — борьба с коммунизмом. Видит бог, что мы всеми силами стараемся помочь вашему фюреру в осуществлении его идеалов! — Это заслуживает высоких похвал! — сказал Браухич и, тут же забыв о господе боге, продолжал: — Из вашего доклада мне известно, что граница здесь сильно охраняется, но вы отлично знаете условия местности. Как бывший военный, что вы можете сказать о препятствиях, которые могут возникнуть во время маневренного продвижения наших частей? — Очевидно, наличие современных укреплений и войск красных, господин фельдмаршал… — неопределенно ответил Сукальский. — Никакие современные укрепления для доблестной германской армии не являются препятствием! — высокопарно, подражая своему фюреру, сказал Рейхенау. — Вы объясните нам: что собой представляет здесь граница? — Я уже имел честь докладывать господину фельдмаршалу, что границу в этом районе мне перейти не удалось. Обстоятельства вынудили меня плыть по каналу в обратном направлении, чтобы не попасть в руки пограничников. Мне посчастливилось пройти границу на другом участке. Помогли ваши доблестные солдаты, которым пришлось немножко пострелять. — Это нам известно, — прервал его Браухич. — Я бы просил вас ознакомить некоторых наших людей с условиями обстановки и местности именно здесь, в этом районе. — Я всегда готов, господин фельдмаршал, — склонив голову, проговорил Сукальский. Вечером фельдмаршал вызвал командира пограничного батальона майора Рамке и приказал начать усиленную разведку по выявлению телефонных линий советских пограничных частей, во что бы то ни стало подключиться к ним и систематически вести подслушивание телефонных разговоров. Группу разведчиков он предложил переодеть в форму советских войск и перебросить через границу с боем, то есть устроить провокацию, последствия которой свалить на так называемых «бульбашей» из бандитской организации, созданной из кулацких и других реакционных националистических элементов. В ту же ночь в доме батальонного командира Рамке, чей гарнизон стоял против заставы лейтенанта Усова, Сукальский вел беседу с двумя военными, переодетыми в советскую форму. Водя указкой по карте, он говорил: — Как только войдете в лес, в район озера Чарное, можете считать себя наполовину в безопасности. Там вы смешаетесь с красными саперными войсками. При встрече с пограничниками в бой не вступайте, а берите ваши топоры и пилы и начинайте валить лес. На первый случай вас выручат ваши лесорубные инструменты. Никому и в голову не придет, что вы пришли с этой стороны такой большой группой. Там есть лесничий, ему покажите свои документы и скажите пароль. Он вам отведет делянку, а потом покажет дорогу. Его резиденция находится в селе Грушковке. Зовут лесничего Владислав Михальский. Раньше там был другой лесничий, нам пришлось его уничтожить. В случае если придется разбиться на отдельные группы, снимайте форму и пробирайтесь в эту же Грушковку. Там вас могут укрыть в костеле. Участники этого совещания при последней фразе Сукальского улыбнулись, явно относясь ко всему с шутливой иронией. Гладко остриженный тип неопределенных лет с тугой толстой шеей и круглыми простоватыми глазами что-то проговорил по-немецки и громко расхохотался. Он вел себя нагло и все время подмигивал высокому горбоносому партнеру со знаками различия младшего лейтенанта на поношенной выгоревшей гимнастерке. Именно в таких рабочих гимнастерках ходили командиры на учение и на саперные работы. — Перестань, Людвиг! — прервал его горбоносый. Трудно было определить, к какой он принадлежал национальности. У него были темные вьющиеся на висках волосы. Горбинка носа придавала его продолговатому худощавому лицу непроницаемость. Сукальский понял, что начальник группы — тип дрессированный. Он не задал ни одного лишнего вопроса, только слушал и бросал быстрые взгляды то на собеседника, то на разостланную на столе карту и, видимо, все запоминал. — Как ваше имя? — заинтересовавшись, спросил Сукальский под конец беседы. Ему нравился этот тип с осторожными, неторопливыми манерами. — Моя фамилия Дорофеев, — неприятно улыбаясь углами сжатых губ, ответил тот и встал. — Хорошие собаки у советских пограничников? неожиданно спросил Дорофеев и, получив утвердительный ответ, стал прощаться. — Этот иезуит подумал, что меня можно заставить работать на его ватиканских бишопов! Вот сволочь, а! — когда ушел Сукальский, проговорил Дорофеев. — Если бы эта драная ряса знала, как мне тошно ломать комедию с этими швабами и получать их обесцененные марки, от которых отказывается в Польше самый последний нищий! Всех привлекают наши зеленые доллары. А ведь эта обезьяна, толстоносый Браухич, думает, что я буду работать на него, как негр… Как мы ловко провели их, Эдди! Нашу страну тоже интересует русская армия не меньше, чем ихнего фюрера. Нам бы только попасть в Россию, а там маньчжурским экспрессом на Дальний Восток, к мистеру Кауфману. Он даст нам настоящую работу. А поверил этот поп, что я действительно Дорофеев, как ты думаешь? — спросил он у партнера. — Он скорее всего догадался, что ты работаешь и нашим и вашим. Мне кажется, он почувствовал твое калифорнийское происхождение. Он наблюдал за тобой, а я за ним. Это хитрый иезуит, — отозвался Людвиг. — А в общем, Бен, мне не очень нравится путешествие по России. Что там нас ожидает? Две недели живем в этой дыре и не можем проскочить через границу. — Завтра швабы устроят провокацию, и мы проскользнем… — Я боюсь, как бы русские пограничники не просверлили нам башки. Я каждый день слежу за их границей, а они, наверное, смотрят за нами в сотню глаз. Вот что я думаю, мистер Олифсон… — Все будет отлично. Швабы — мастера устраивать провокации. А тебя в последний раз предупреждаю, что если назовешь мою настоящую фамилию еще хоть только раз, то я размозжу твою голову. Давай спать, — приказал Бен Олифсон и вытянулся на койке.ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Третий месяц Сорока нес службу младшим наряда. Нередко он выходил на границу вместе с Бражниковым и, к своему удивлению, по-новому воспринимал службу на границе. В секрете сержант сидел словно замороженный, но казалось, что видел все даже в темноте. Днем он приводил Игната на облюбованное место и, спрятавшись в кустах, говорил: — Охранять границу днем — дело нехитрое. Для чего мы пришли сейчас сюда, а вчера ходили на другое место? Для того чтобы весь участок нашей заставы мы знали, как свой собственный огород, на котором ты даже ночью, ежели, конечно, хороший хозяин, найдешь, где у тебя растет огурец, где поспевает дыня, где можно сорвать на закуску красненький помидорчик… Вот такими хозяевами мы должны быть и здесь. Самое главное на границе — это ночь. Чем она темнее, тем хуже для нас, труднее нести службу. Встал на пост — всякое мечтание о Мотях и Варях брось… Освободился, отдохнул, можешь мечтать, плясать и байки рассказывать, сколько твоей душе угодно. Вот придешь ты сегодня ночью на это самое место и не узнаешь его. Все кусты и деревья покажутся тебе другими. Но ты должен знать, что это обман, и не поддавайся ему, а держи перед глазами местность, как ты ее видел днем. Это называется не потерять ориентировки, что очень важно при преследовании. Налетишь на куст — выколешь глаза, и не видать тебе вовек твоей Варвары… А Варя-то пишет? Сорока смутился от такого неожиданного вопроса. Лукаво покосившись на товарища, он ответил со вздохом: — Когда иду на границу, свои мечтания о Варе, товарищ сержант, оставляю на заставе… — Да мы же сейчас не в наряде, изучаем местность, — засмеявшись, проговорил Бражников. — Так точно, товарищ сержант! Но в сорока метрах в кустах торчат фашистские солдаты, и я не желаю, чтобы они знали мои мысли… Однажды Бражников и Сорока сидели в кустах, продолжая изучать местность на берегу Августовского канала. Берег канала зарос ольхой и черемухой, обшитые бревнами края обвалились, полая вода размыла берег, расширила русло и образовала широкую заводь. Здесь водились крупные лини и окуни. Немецкие солдаты иногда закидывали сети. Нашим же пограничникам рыбачить в этом месте было запрещено. Дело было в октябре. Ясное осеннее небо синим шатром раскинулось над каналом. Воздух был наполнен бодрящей прохладой. Он молодил горячие щеки пограничников. Бражников и Сорока увидели на той стороне немецкого офицера с солдатом и невысокого человека в штатском с перекинутой через плечо сетью. Фашисты смотрели именно на то место, где сидели пограничники. Бражников сразу понял, что их заметили. Повернувшись к Сороке, он негромко сказал: — Выйдем и открыто пройдем по бережку. — Зачем же обнаруживать себя? — удивленно спросил Сорока. — Ты делай то, что тебе старший говорит, — резко ответил Бражников и приподнялся. Вскинув на плечо карабин, он внимательно посмотрел на ту сторону. Фашисты повернулись и скрылись в кустах. Бражников и Сорока прошлись вдоль берега, потом, свернув на тропу, сделали вид, что уходят на заставу. — Они сейчас наблюдают за нами. Пойдем открыто, как будто это нас не интересует, — сказал Бражников. — Наверное, рыбачить собирались, а мы их спугнули, — ответил Сорока. — Собираются на другую рыбалку… Сеть — это только маскировка. Хитрят что-то… Иди быстро на заставу и доложи лейтенанту Усову, а я пойду к патрулям и предупрежу, чтобы тоже открыто ушли. Сам залягу напротив коряги. Ты туда приходи, только ползи осторожно. Предупрежденный Бражниковым патруль тоже прошелся вдоль берега и тоже свернул на заставу… Не прошло и пятнадцати минут, как человек в штатском вытолкнул из кустарника легкую лодку и, бросив на дно сеть, стал торопливо грести веслами. С кормы лодки, разматываясь, в воду падала длинная веревка. «Рыбак» действовал нахально и быстро. Едва он успел причалить и выпрыгнуть на наш берег, лодку тотчас же потянули обратно. Нарушитель, выбирая кусты погуще, стал углубляться в лес. Ловкий и верткий сибиряк Бражников, держа в руках оружие, скрытно двигался в нескольких шагах от нарушителя, выбирая момент, где бы поудобней уложить его на землю. Тот был, видимо, опытный, шел осторожно, но решительно, очевидно убежденный, что его никто не заметил… Бражников, напряженно сжимая карабин, не спуская с нарушителя глаз, дал ему сойти в небольшую балку, где росли толстые ели и мелкий кустарник. Сдерживая нарастающее волнение, он встал за дерево и зычно крикнул: — Ложись! Затем Бражников дал предупредительный выстрел. Как ни был дерзок и опытен нарушитель, но неожиданный оклик и выстрел ошеломили его. Он вздрогнул. Повернувшись, увидел могучую фигуру пограничника, за которым наблюдал полчаса назад, узнал его по широкому скуластому лицу и покорно плюхнулся на грязное дно балки. «Рыбак» сам попался в сети…ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
В приемную секретаря райкома партии вошла рослая разрумянившаяся на морозе девушка в новой черной шубейке, отороченной серым барашковым мехом. Оправив на голове оренбургский платок из козьего пуха, она по-хозяйски оглядела просторную с широким окном комнату и поставила к кафельной печке объемистый чемодан. — Вы откуда, товарищ? — спросила миловидная секретарша. — С Кубани, — расстегивая шубейку, просто ответила девушка. Достав из кармана синей жакетки ключик, она быстро отперла чемодан, взяла лежавшую сверху сумку. Секретарша успела заметить, что в чемодане, под какими-то свертками, лежали пучки колосьев с длинными, торчащими в разные стороны усами. «Новый агроном», — подумала секретарша и сказала: — Вам, наверное, нужно обратиться в райзо… — Нет! Мне нужно именно сюда, — ответила девушка и протянула секретарше какой-то документ. Это было удостоверение, в котором сообщалось, что «бригадир колхоза «Червонный маяк» Варвара Христофоровна Руденко командируется в Гродненскую область для изучения состояния сельского хозяйства и обмена опытом своей работы». — Вот по этому делу мне и нужен секретарь партийного комитета, звонким певучим голосом сказала Варвара Руденко. — Прошу доложить, да побыстрее, а то время идет зря. Меня люди ждут… Секретарь райкома Сергей Иванович Викторов, услышав громкий разговор в приемной, встал из-за стола и открыл дверь. Увидев девушку и стоявший на полу чемодан, спросил: — Вы ко мне? — Сергей Иванович по одежде определил, что девушка приехала из дальних краев. Приветливо улыбнувшись, он пригласил: Проходите! — Значит, вы и есть секретарь райкома? — густо краснея, спросила Варя, входя в кабинет следом за Викторовым. — Совершенно верно… — Бригадир колхоза «Червонный маяк» Варвара Руденко! С Кубани! бойко сказала Варя. — Варвара Руденко! — Сергей Иванович круто повернулся. — Погодите, погодите!… — Вглядываясь в ее лицо, в синие большие глаза, Викторов продолжал: — Так я же вас знаю! — Откуда вы меня знаете? — Примерно два месяца назад о вас «Комсомольская правда» писала и напечатала ваш портрет. Правильно? — Правильно. Я самая… Вот до вас приехала, — смущаясь, ответила Варя. — Вот уж не ожидал такой гостьи! Очень рад, товарищ Руденко. Садитесь. — Спасибо! — Варя присела на стул и подала свои документы. Пробежав глазами удостоверение, Викторов сказал: — Отлично, Варвара Христофоровна! Только вот срок-то у вас очень мал, а район у нас большой. Колхозы мы только что начали создавать. Изучать здесь надо много… А поделиться с нами опытом — это правильно. Непременно расскажите здешним крестьянам, как добились такого урожая. А почему вы выбрали именно наш район?… В обкоме партии были? — Нет, прямо с поезда сюда… На военной машине, — ответила Варя. — Почему же вы решили все-таки поехать к нам, Варвара Христофоровна?… Повинуясь внезапному чувству откровенности, Варя посмотрела на Викторова и просто сказала: — Так и быть, я вам все поясню. Мне позарез нужно попасть на границу, — опустив глаза, проговорила Варя. — А зачем вам это нужно? — Тут где-то недалечко на заставе служит один человек, — не глядя на Викторова, медленно и застенчиво сказала Варя. — Мне его дюже повидать хочется… — А как фамилия того человека? — заинтересованно спросил Викторов. — Сорока… Игнат Максимович. — Знаю такого. — Ой! Знаете? — воскликнула Варя. — Я всех должен знать… Так чем же вас заинтересовал Игнат Сорока? — Все скажу начистоту… Когда меня вместе с другими колхозниками направили сюда поделиться опытом, я очень обрадовалась. А этот самый Игнат… мне всю душу издергал. Все время писал такие расчудесные письма, всей бригадой читали и за него, дурня, радовались. Зараз стал писать только открыточки на восемь строчек, и ни якой души не открывает, и всю нашу любовь як ножом обрезал… До этого писал мне, что белорусские дивчины с наших бойцов очей не сводят, что есть у них там учительница Александра Григорьевна и все с ними по арифметике занимается… Вот поеду, думаю, побачу эту арифметику… Варя высказала все, что было у нее на душе. Викторов, добродушно улыбаясь, с любопытством смотрел на кубанскую девушку, которая сейчас сидела перед ним, смущенная и взволнованная. — А вы напрасно волнуетесь! — с подкупающей простотой сказал Сергей Иванович. — Все будет хорошо. Вы подождите немного в приемной. Сейчас все выясню и помогу вам проехать на заставу. Варя встала и вышла из кабинета. Викторов снял телефонную трубку и соединился с заставой. В канцелярии заставы находился Шарипов. — Так как же, Александр? — спросил его в конце разговора секретарь райкома. — Это, брат, приехала такая бригадирша, что, честное слово, сам бы женился… Привезла целый чемодан колосьев, будет крестьянам показывать. Я думаю, что надо устроить ее в Гусарском. А Сороке дайте отпуск. Пусть встретятся, поговорят. И вообще поинтересуйтесь, чем он ее разобидел. А устроиться, думаю, можно у Франчишки и Осипа. Люди они хорошие… Вызвав машину, Сергей Иванович поехал с Варей в Гусарское. Варю поместили у Франчишки Игнатьевны. Та приняла гостью с радостью и, как обычно, начала суетиться и хлопотать. Притащив жиденький, с тонкими стеблями сноп ржаной соломы, стала разжигать печь. Варя знала от Викторова, что колхоза в селе нет и народ здесь живет всяк по-своему. Заговорив с хозяйкой, Варя спросила ее об урожае, хотя уже по соломе определила, что рожь была слабенькая. — Нынче еще добрый был урожай, — ответила Франчишка, — а вот те годы, при панской власти, нечего было жать. — Почему же плохо хлеб родился? — спросила Варя. — А где было взять навозу, коли нет скотины? В этом году есть корова, и тот человек, что тебя привез, какой-то штуки дал, на собрании объяснил, как нужно землю этим порошком посыпать. Вот хлеб лучше и уродился. При панах мы про это и не знали. — Про удобрения не знали? — поднимаясь со скамьи, спросила Варя. Открыв чемодан, она положила на стол пучок колосьев. Ей не терпелось показать свою пшеницу. — А вот такую пшеницу видели, тетя? Варя потрясла перед обомлевшей Франчишкой Игнатьевной тяжелыми золотистыми колосьями кубанской пшеницы. — Езус-Мария! Осип Петрович! — крикнула франчишка. — Иди сюда и посмотри, что эта дивчина показывает! — Эге! — восторженно прищелкнул языком Осип Петрович. — Где ж она, голубка, уродилась? Я такой даже в Пруссии не видал! — Это в нашем кубанском колхозе растет, в моей бригаде, — ответила Варя не без гордости. — Сколько же пудов дает десятина? — Сто шестьдесят. Осип Петрович недоверчиво посмотрел на гостью и, выдернув из пучка колосок, спросил: — Можно один размолотить? Осип Петрович размял на ладони колос и, сосчитав зерна, ахнул. Не поверил, сосчитал второй раз и покачал головой: — Сколько же у вас хлеба? Ваша семья сколько получила такого хлеба? — Мы работаем трое: мама, братишка и я. У нас тысяча двести трудодней. Получили по четыре килограмма, вот и считайте! Да еще получаем подсолнух, горох, картофель, яблоки… Варя рассказала, как они живут и работают в колхозе, что покупают, как веселятся… Тем временем Шарипов вызвал Игната Сороку и сказал ему, что он должен побывать у Осипа Петровича и узнать, не может ли Осип прийти на заставу поплотничать… Несколько удивленный этой срочной командировкой в село и скрытой улыбкой политрука, Игнат спросил: — Других поручений не будет, товарищ политрук? — Нет, это все. Да вы поторопитесь в Гусарское, ночь наступает, сказал Шарипов, сдерживая улыбку. Игнат быстро зашагал к селу. Широкое поле и в сторонке от него лес застилались сумерками. С неба лукаво подмигивали звезды, разбросанные по необъятному горизонту. Щеки холодил легкий декабрьский морозец. От быстрой ходьбы Игнат запыхался и, подходя к хате Августиновичей, остановился, чтобы отдышаться. В доме Франчишки Игнатьевны горел огонек. Хозяйка сидела у стола напротив гостьи и, не замечая ее рассеянности, спрашивала: — Догадываюсь я, что ты сюда колхоз гарнизовать приехала. Ну что ж, гуртом работать веселее. Только народ у нас здесь к этому еще не привычный, своего счастья под носом не чует. Растревожила ты сегодня моего Осипа. Начинай, красавица моя! Расскажи про ваше житье нашим крестьянам, я тебе помогать буду… А чего ты все в окошко да на дверь смотришь? Ожидаешь, что ли, кого? — подметив беспокойство Вари, спросила Франчишка. — Жду одного человека, бабуся… — поднявшись со скамьи, ответила Варя. Ее неясная тревога и волнение нарастали и усиливались. — Кого ж ты ждешь-то? — спросила Франчишка, загораясь любопытством. — Мужа жду… — совсем неожиданно сорвалось с языка Вари. В сенцах постучали. Франчишка пошла открывать дверь и через минуту ввела в комнату ничего не подозревавшего Сороку. Хозяйка осталась в сенях, служивших также кухонькой, и сквозь дырочку в дерюжной занавеске видела, как молодые люди стояли друг против друга и молчали… Затем она услышала голос Игната: — Да что ж оно творится в этой хате! Дайте я трошки посижу. — Игнат, тяжело переводя дух, плюхнулся на скамью и, вытирая рукавом шинели лоб, спросил: — Значит, ты… приехала? — Не-ет! — сдерживая радостный смех, звонко крикнула Варя. — Это не я… Ты подойди, потрогай, может, тебе только кажется… Да хоть поздоровайся, детина милый! Игнат вскочил и, не дав Варе опомниться, прижал ее голову к своему лицу. — Ты полегче, полегче! — слабо протестовала Варя, опускаясь на скамью. — И какой же ты комедиянтщик!… Як будто и ничего не знал! Ой же, и хитер солдат… — Да я ж ничего не знал, ничего не чуял! Щоб горб у меня на спине вырос, ежели брешу! — Зачем тебе горб, ты и так не особенно стройный… Не крутись, я, голубок мой, все о тебе знаю… — Что ты обо мне знаешь? Сделав строгое лицо, Варя начала пытать Игната, да так крепко, как могут это делать только казачки. И когда он рассказывал чистосердечно, с волнением обо всем, что с ним случилось и что он пережил, девушка придвигалась к нему все ближе, и он почувствовал на своей щеке теплоту ее руки. От Вари, казалось Сороке, веяло запахом родных кубанских полей, цветами, созревающим хлебным колосом, и дыхание ее было горячее, как ласковый степной ветерок… — Преследовали мы его, — говорил Сорока, — почти двадцать километров и нагонять стали. Собака моя — тот самый Тигр, о котором я тебе писал, почуяла, что он близко, прячется в кустах. Я приказал моему напарнику дать выстрел и крикнул бандиту, чтобы он прекратил сопротивление. Но бандит стал отстреливаться и бросился бежать. Я тогда спустил Тигра, и тут этот гадюка застрелил его в упор. Знаешь, Варя, как мне было тяжко! Обозлился я дюже и ударил на поражение… Раненого взяли его, а Тигра пришлось в землюзарыть. — Игнат крепко сжал руку Вари и, немного помолчав, продолжал: — А потом вот прозевал того и наказание понес… Виноват, конечно. Что ж мог я тебе написать, Варя, когда на свою дурную голову навлек такой позор?… — Надо было мне все написать, — с ласковой строгостью проговорила Варя. — Позже написал бы все, конечно, написал бы… но тогда не мог, карандаш из рук валился… — Ты что ж думал, Игнат Максимович, что я знаться с тобой перестану? Бросила бы тебя в беде? Если бы ты сознательно что-нибудь натворил, так я бы тебе сама глаза выцарапала. Но ты попал в беду, а тут я все силы приложила бы, а тебя из беды вызволила. Вот как ты должен обо мне думать! — Да так я и разумел, голубка моя! Ты не серчай! Писал коротенькие письма потому, что сейчас служба у нас дюже строгая и сами мы строгие стали. Каждый день на границе в разных местах тарарам… Лезет всякая мерзость, потому что фашисты рядом, нахальные. Ну да ничего, мы их учим… Расскажи что-нибудь, а то все я говорю… — Да что ж тебе, миленький, говорить? Крепко люблю тебя, вот и прилетела… — Ты, Варенька, такие слова произносишь, что у меня печка на глазах начинает гопака танцевать, — смело смотря ей в лицо, медленно проговорил Игнат, не в силах унять колотившееся под гимнастеркой сердце. — А ты поставь печку на место… — Знаешь, Варя, я ту самую печку могу взять руками и в другой угол перетащить… Скажи только одно слово! — А что его говорить, я уже сказала… — Варя! — тихо и задумчиво проговорил Игнат и обнял девушку за плечи. — Так что же… рапорт надо начальству подавать? А вдруг откажут? — А ты добейся, чтобы не отказали. Укажи якую-нибудь важную причину… Да что тебя учить? Ты мастер всякие балансы сводить… Сегодня со мной побудешь, а потом без резолюции начальников, что можно нам в загс сходить, глаз до меня не кажи… Я не хочу разные побасенки выслухивать, да и перед земляками краснеть… Так-то, дорогой мой… Завтра с секретарем райкома поеду здешние колхозы глядеть и свою работу показывать, а ты оформляй тот самый документ. — Командиры у меня, Варюша, хорошие, — задумчиво, с внутренней радостью сказал Игнат, — и они все поймут правильно, разберутся во всем справедливо. Так что ты, Варенька, будь спокойна, езди по селам, показывай людям нашу золотую кубанскую пшеницу…ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Зная горячую, большую любовь Игната Сороки к Варе, командование одобрило его решение жениться. Сорока бережно спрятал рапорт в нагрудный карман гимнастерки и в великолепном настроении отбыл вместе с сержантом Бражниковым на охрану государственной границы. Передать это радостное известие Варе он не смог: она вместе с прибывшими с Кубани колхозниками и сопровождавшим их местным агрономом ездила по району. Со сцен сельских клубов, за столом красных уголков горячо звенел ее молодой голос: — Приезжайте, дорогие друзья, к нам в гости, мы вас примем, как родных, и вы сами посмотрите на нашу жизнь. Простота и рассудительность этой девушки подкупали крестьян. Высокая, белолицая, с темными волнистыми волосами, она была не только красивой, но и какой-то сильной, уверенной в себе. Сергей Иванович откровенно любовался кипящей в ней энергией и должен был признать: то, что она сейчас делала, не смогли бы сделать десятки агитаторов, которых, кстати сказать, в районе было еще далеко не достаточно. Женщины зазывали Варю в гости, старались подробней расспросить, как живут и работают кубанские колхозники. Она показывала фотографии своей бригады, себя, работающую на комбайновом агрегате, за рулем автомашины, на тракторе. Все поражались, что она может управлять такими машинами. Это было самое убедительное доказательство. Некоторые жители Западной Белоруссии впервые видели комбайны и не сразу верили, что машина может давать готовое, обмолоченное зерно.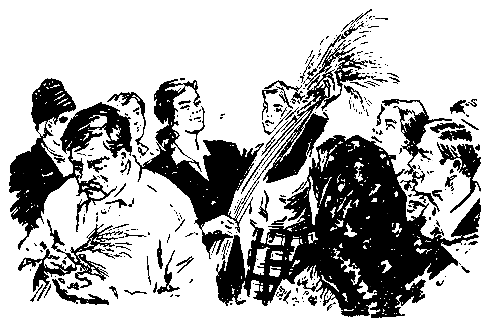 После собрания сельского актива Иван Магницкий пригласил всю прибывшую с Кубани делегацию к себе в гости. Народу набралась полна хата. Пришла Франчишка Игнатьевна с Осипом. Даже приплелся старый пастух дед Ожешко, которому стукнуло уже семьдесят два года. С десяти лет он начал пасти скот помещика. С установлением Советской власти в Западной Белоруссии деду была построена хата за счет государства. До этого он своей хаты никогда не имел, всю жизнь прожил по чужим людям.
— Хоть бы раз глянуть на ту самую машину… Так сама косит… косит и молотит? — щуря под седыми бровями маленькие темные глаза, спрашивал дед Ожешко.
— Да, скоро и у вас будут такие машины, — улыбнувшись, отвечала Варя деду.
— Кто ж нам даст такие машины? — сомневался дед, покачивая крупной плешивой головой.
— Советская власть. Видел, сколько уже в эту осень пришло тракторов? — проговорил Иван Магницкий. — Вот организуем колхоз — будем убирать наш урожай такими комбайнами.
— Пан Гурский тоже имел разные машины, а таких, как на вашей картинке, не было, — сообщил Ожешко гостям.
Варя с любопытством смотрела на деда. Он был похож на кубанских дедов: такой же морщинистый, вислоусый и безбородый, седые волосы скобкой обрамляли только затылок.
— А скажи мне, дочка, — трогая за плечо Варю, спрашивал Ожешко, — у вас там, в России, по отдельности трактора не дают?
— Нет, дедушка, не дают, — улыбаясь, ответила Варя. — Тракторы работают на колхозных полях.
— Добре! Я так думаю, что пока наши мужики будут слушать Михальского да всяких монахов, им придется в борозде со своими клячами маяться… Но вот я в кино видел, что у вас на Кубани не только тракторов, но и рысаков много. И какие рысаки! Таких даже пан Гурский во сне не видывал!
— Вы сами-то, дедушка, пойдете в колхоз? — спросила Варя.
— Ежели над скотом должность дадут, почему не пойти? У меня еще ноги крепкие, — пристукнув каблуком об пол, ответил Ожешко. — Я еще думаю к вам на Кубань в гости приехать. А то я дальше Гродно нигде не был.
— Приезжайте, обязательно приезжайте! — приветливо и просто ответила Варя.
За последние дни у Вари взяли адрес многие люди и обещали приехать на Кубань в гости. Все они верили, что ничто не может помешать установившейся между ними дружбе.
После собрания сельского актива Иван Магницкий пригласил всю прибывшую с Кубани делегацию к себе в гости. Народу набралась полна хата. Пришла Франчишка Игнатьевна с Осипом. Даже приплелся старый пастух дед Ожешко, которому стукнуло уже семьдесят два года. С десяти лет он начал пасти скот помещика. С установлением Советской власти в Западной Белоруссии деду была построена хата за счет государства. До этого он своей хаты никогда не имел, всю жизнь прожил по чужим людям.
— Хоть бы раз глянуть на ту самую машину… Так сама косит… косит и молотит? — щуря под седыми бровями маленькие темные глаза, спрашивал дед Ожешко.
— Да, скоро и у вас будут такие машины, — улыбнувшись, отвечала Варя деду.
— Кто ж нам даст такие машины? — сомневался дед, покачивая крупной плешивой головой.
— Советская власть. Видел, сколько уже в эту осень пришло тракторов? — проговорил Иван Магницкий. — Вот организуем колхоз — будем убирать наш урожай такими комбайнами.
— Пан Гурский тоже имел разные машины, а таких, как на вашей картинке, не было, — сообщил Ожешко гостям.
Варя с любопытством смотрела на деда. Он был похож на кубанских дедов: такой же морщинистый, вислоусый и безбородый, седые волосы скобкой обрамляли только затылок.
— А скажи мне, дочка, — трогая за плечо Варю, спрашивал Ожешко, — у вас там, в России, по отдельности трактора не дают?
— Нет, дедушка, не дают, — улыбаясь, ответила Варя. — Тракторы работают на колхозных полях.
— Добре! Я так думаю, что пока наши мужики будут слушать Михальского да всяких монахов, им придется в борозде со своими клячами маяться… Но вот я в кино видел, что у вас на Кубани не только тракторов, но и рысаков много. И какие рысаки! Таких даже пан Гурский во сне не видывал!
— Вы сами-то, дедушка, пойдете в колхоз? — спросила Варя.
— Ежели над скотом должность дадут, почему не пойти? У меня еще ноги крепкие, — пристукнув каблуком об пол, ответил Ожешко. — Я еще думаю к вам на Кубань в гости приехать. А то я дальше Гродно нигде не был.
— Приезжайте, обязательно приезжайте! — приветливо и просто ответила Варя.
За последние дни у Вари взяли адрес многие люди и обещали приехать на Кубань в гости. Все они верили, что ничто не может помешать установившейся между ними дружбе.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Была суровая зима 1940 года. Сорока и Бражников стояли недалеко от границы под кроной старой сосны. Дело было уже под утро. Начал падать снег. До слуха пограничников доносился шум какого-то непонятного движения. Он то приближался к самой границе, то отдалялся в глубь леса. Было ясно, что фашисты что-то затевали. Вглядываясь в темноту, острый на глаз Бражников заметил впереди белые движущиеся пятна. Показывая на них рукой, он шепнул Сороке: — Ползут в маскхалатах… Вдруг в напряженной тишине раздался громкий крик: «Хальт!» Следом загремели автоматные и пулеметные очереди. Сбивая с веток пушистый снег, пули полетели в сторону пограничников. Бражников вспомнил, как лейтенант Усов во время инструктажа наряда предупреждал, что фашисты могут прибегнуть к провокации, для того чтобы перебросить во время стрельбы диверсантов. Бражников и Сорока на провокацию не ответили. Но когда нарушители переползли границу, пограничники бросились к ним. Враги вскочили и метнулись в лес. Начавшаяся вьюга зализывала следы начисто. Бражников и Сорока шли по следу прорвавшихся нарушителей, но догнать врагов не смогли. Кое-где видневшиеся следы вывели их на проселочную дорогу, по которой рано утром проехали лесорубы на нескольких санях и перемешали разрыхленный снег. Бражников решил идти по этим следам. Вскоре он встретил бежавшего навстречу по дороге Ивана Магницкого. В то утро жители Гусарского вышли рубить лес для новой школы. Магницкий выехал вместе с ними. Едва они приступили к работе, рассказывал Магницкий пограничникам, как по их следу пришли шесть человек военных во главе с командиром и, ссылаясь на то, что здесь пограничная зона, запретили производить порубку леса. — Как же они могут нам запрещать, когда мы от лесничества имеем разрешение? — жаловался Магницкий. Затем, понизив голос до шепота, он продолжал: — Командир такой высокий, нос с горбинкой, на вид очень бравый. Остальные — солдаты; пилы у них есть и топоры, походные мешки за плечами. Но дело в том, товарищ сержант, что солдаты эти какие-то странные, неприветливые и уже в годах… Я ж знаю, наши красноармейцы почти все молодые. Потом очень уж быстро они шли, запыхались. Я спросил про стрельбу, которую слышал рано утром, а командир начал на меня орать, что я такой и сякой и много хочу знать. Так, товарищ сержант, на меня еще никто не орал, а в особенности военные. Ушли они очень поспешно по направлению к Грушковке. Я посылал за ними сына своего Петра посмотреть, куда они пойдут. Петро, прячась за деревьями, пошел вслед и увидел такую картину. Встретили они на дороге подводу. Это ехал Олесь Седлецкий. Я его попросил, чтобы он помог обществу лес вывозить. Сынишка рассказывал, что эти военные насильно влезли в сани Олеся и погнали его коня на Грушковку. Мне думается, что наши красноармейцы не могли так поступить… — Какие у них петлицы? — спросил Бражников, начиная догадываться, что это именно те, кого они с Сорокой преследовали. — Петлицы черные, — ответил Магницкий. — Да, это петлицы саперных войск. Но сейчас в этом районе наших саперных войск нет, — задумчиво проговорил Бражников и, обратившись к председателю Совета, сказал: — Товарищ Магницкий, подвезите нас побыстрее на своей лошади до Грушковки. Выясним, что это были за саперы, почему они вам запретили лес рубить… А сыну вашему на другой лошади придется на заставу скакать. Бражников быстро написал Усову донесение, а сам вместе с Сорокой и Иваном Магницким поехал в Грушковку. …Олесь выехал на субботник после других. Утром он пропустил чарочку настойки и, сев в сани, отправился в лес. Запел по дороге песню, но закончить ее не успел. Неожиданно в пролеске его остановили военные и стали расспрашивать, куда он едет. — Куда же еще мне ехать, как не в лес? Сегодня мы бревна вывозим для нашей школы! — сказал он. — Довези-ка нас, дядька, до Грушковки. Лес твой никуда не убежит, сказал командир и без дальнейших разговоров сел в сани. Олеся возмутило такое поведение военного. Он встал с саней, поправил чересседельник и сказал угрюмо: — До Грушковки два километра, можно и пешком дойти, а меня народ ждет. Нет уж, вы не задерживайте… — Мы тебе хорошо заплатим. Мужики подождут, а мы торопимся, проговорил все тот же высокий, горбоносый. — Я тоже тороплюсь, опаздываю, — ответил Олесь. Глаза его глядели упорно и мрачно. Вытерев рукавицей отвислые большие усы, Олесь с горечью подумал: «Неужели и зять мой Костя может так поступить с простым крестьянином?» Но солдаты в это время уже облепили его сани и торопили поворачивать. — Я приказываю тебе как советский командир! — крикнул горбоносый с раздражением. — У меня зять — тоже советский командир. Но он так не сделает, как вы! — зло сказал Олесь, с волнением наблюдая, как один из солдат взял лошадь под узцы и завернул ее в обратную сторону. Дорога шла по узкой лесной просеке и прямой стрелой скатывалась по длинному отлогому откосу почти до самой Грушковки. К большому озлоблению Олеся, командир несколько раз хлестнул хворостиной и без того бойко бежавшую кобылу. Так проскакали под горку с полкилометра. Вдруг лошадь остановилась и, вскинув голову, громко заржала. Позади саней тотчас же раздалось заливистое ответное ржание. Горбоносый командир вздрогнул и повернулся. По изволоку вдогонку им на полном галопе, разбрасывая по сторонам вихри снега, мчалась группа всадников, за ними виднелось несколько саней, над головами сидевших в них людей поблескивали топоры. Не успел Олесь опомниться, как военные мгновенно выпрыгнули из саней и пустились бежать в лес. Подскакавший Усов спрыгнул с коня. По его примеру спешились и другие. Соскочили с саней и лесорубы, устремившиеся на помощь пограничникам. — Кого вы везли, Алексей Юрьевич? — спросил Усов. — Да ваши солдаты, они меня того… — недоуменно забормотал Олесь, прижимаясь к запотевшей лошади. — Ну, потом разберемся, — неопределенно и сердито проговорил Усов. А сейчас надо догнать ваших «пассажиров»… Быстро в обход, Бражников и Стебайлов… — Мне бы оружие какое! — дернув за рукав Сороку, сказал Магницкий. Топор мой Петро забрал. — Нема оружия. Вот берите ракетницу, — ответил Сорока и стал догонять Бражникова. Пограничники вместе с лесорубами устремились в лесную чащу. Группа конников под командованием заместителя политрука Стебайлова заняла просеки. Участок леса, где спрятались нарушители, скоро был окружен плотным полукольцом. Когда пограничники стали приближаться к бандитам, те открыли стрельбу. Начальник заставы приказал огнем ручных пулеметов, автоматов и винтовок прижимать врагов к широкому полю, а на опушке леса посадил засады. Через некоторое время нашли одного раненого нарушителя и трех убитых. Раненый показал, что от группы остались двое. Усов приказал вести поиск со всеми предосторожностями. Вскоре был захвачен еще один нарушитель. Остался последний. Он уже не отстреливался, а засел где-то в кустах. Иван Магницкий бесшумно двигался неподалеку от Сороки и неожиданно увидел бандита в пяти шагах от себя. Это, видимо, был главарь банды. Спрятавшись между двумя толстыми елями, он целился в Сороку, который шел прямо на него, так как из-за кустов не мог видеть врага. Если бы Иван Магницкий растерялся и выстрелил из своего большущего ракетного пистолета секундой позже, то не пригодился бы Игнату Максимовичу лежащий в кармане рапорт с резолюцией… Магницкий выстрелил — и весь ракетный заряд угодил бандиту в щеку, разворотив всю скулу. Враг выронил пистолет, и Сорока с Магницким спокойно скрутили ему руки.
Если бы Иван Магницкий растерялся и выстрелил из своего большущего ракетного пистолета секундой позже, то не пригодился бы Игнату Максимовичу лежащий в кармане рапорт с резолюцией… Магницкий выстрелил — и весь ракетный заряд угодил бандиту в щеку, разворотив всю скулу. Враг выронил пистолет, и Сорока с Магницким спокойно скрутили ему руки.
 Разбирая в канцелярии карты и документы задержанных, Усов диктовал Стебайлову:
— Карт западных районов двадцать три листа…
Обращаясь к сидевшему в углу с перевязанной щекой горбоносому, начальник заставы спросил:
— Олифсон?
— Моя фамилия не Олифсон!… — вздрогнув, ответил горбоносый. — Вы ошибаетесь, товарищ начальник.
— Во-первых, я вам не товарищ, а во-вторых, вы не Дорофеев, а Олифсон. Бросьте валять дурака. Я знаю, что еще в марте этого года вы ремонтировали в Чикаго часы в мастерской Бауера.
— Я никогда не был в Чикаго…
— Как же тогда ваши часы No 58640 попали туда без владельца? Может быть, квитанцию вам прислали на имя Бена Олифсона воздушной почтой?… Вместе с этой квитанцией у вас оказались в сумке десять тысяч американских долларов, карты Японии, Дальнего Востока, Кореи и Маньчжурии. Ну, зачем же нужны фашистскому разведчику карты Японии и Маньчжурии? Ведь у Гитлера с ними одна ось!… Видимо, не знает фашистская разведка, которая вас послала, кто вы такой есть на самом деле. Но мы вернем вас обратно к фашистам.
— Не делайте этого! Я все скажу! Да, я действительно Олифсон, из Америки! — злобно озираясь, выкрикнул шпион.
— Ну, вот давно бы так! Товарищ Бражников, уведите задержанного, приказал Усов и, отвернувшись, закурил папироску.
Вся предвоенная зима сопровождалась на границе частыми провокациями, вооруженными бандитскими налетами со стороны гитлеровцев. Фашистская разведка пыталась засылать на советскую землю шпионов и диверсантов. Не дремали и другие империалистические разведки. Американские и английские шпионы, находившиеся в Германии, вербовались в фашистские разведывательные органы, для того чтобы проникнуть на территорию Советской страны. Они считали, что это самый верный способ. Вооруженные силы гитлеровской Германии, переправляя своих агентов, всюду натыкались на наряды наших пограничников. Это раздражало и ожесточало фашистов. Они стали прибегать к открытым провокациям, перебрасывая своих шпионов с боем, сваливая за это ответственность на националистические бандитские организации.
События, происходившие на границе в течение предвоенной зимы, заставляли наших командиров о многом думать. Лейтенант Усов и политрук Шарипов иногда подолгу сидели в канцелярии заставы, обдумывая каждый случай задержания фашистских шпионов, каждое боевое столкновение с гитлеровскими солдатами.
— Усиление разведки — это верный признак подготовки к войне, задумчиво говорил Виктор Михайлович. — Да, и обрати внимание, Александр, почти все задержанные нами за последнее время нарушители границы — матерые фашистские шпионы и военные разведчики. Раньше шли беженцы из Польши, а теперь только одни акулы попадаются. Это неспроста…
Разбирая в канцелярии карты и документы задержанных, Усов диктовал Стебайлову:
— Карт западных районов двадцать три листа…
Обращаясь к сидевшему в углу с перевязанной щекой горбоносому, начальник заставы спросил:
— Олифсон?
— Моя фамилия не Олифсон!… — вздрогнув, ответил горбоносый. — Вы ошибаетесь, товарищ начальник.
— Во-первых, я вам не товарищ, а во-вторых, вы не Дорофеев, а Олифсон. Бросьте валять дурака. Я знаю, что еще в марте этого года вы ремонтировали в Чикаго часы в мастерской Бауера.
— Я никогда не был в Чикаго…
— Как же тогда ваши часы No 58640 попали туда без владельца? Может быть, квитанцию вам прислали на имя Бена Олифсона воздушной почтой?… Вместе с этой квитанцией у вас оказались в сумке десять тысяч американских долларов, карты Японии, Дальнего Востока, Кореи и Маньчжурии. Ну, зачем же нужны фашистскому разведчику карты Японии и Маньчжурии? Ведь у Гитлера с ними одна ось!… Видимо, не знает фашистская разведка, которая вас послала, кто вы такой есть на самом деле. Но мы вернем вас обратно к фашистам.
— Не делайте этого! Я все скажу! Да, я действительно Олифсон, из Америки! — злобно озираясь, выкрикнул шпион.
— Ну, вот давно бы так! Товарищ Бражников, уведите задержанного, приказал Усов и, отвернувшись, закурил папироску.
Вся предвоенная зима сопровождалась на границе частыми провокациями, вооруженными бандитскими налетами со стороны гитлеровцев. Фашистская разведка пыталась засылать на советскую землю шпионов и диверсантов. Не дремали и другие империалистические разведки. Американские и английские шпионы, находившиеся в Германии, вербовались в фашистские разведывательные органы, для того чтобы проникнуть на территорию Советской страны. Они считали, что это самый верный способ. Вооруженные силы гитлеровской Германии, переправляя своих агентов, всюду натыкались на наряды наших пограничников. Это раздражало и ожесточало фашистов. Они стали прибегать к открытым провокациям, перебрасывая своих шпионов с боем, сваливая за это ответственность на националистические бандитские организации.
События, происходившие на границе в течение предвоенной зимы, заставляли наших командиров о многом думать. Лейтенант Усов и политрук Шарипов иногда подолгу сидели в канцелярии заставы, обдумывая каждый случай задержания фашистских шпионов, каждое боевое столкновение с гитлеровскими солдатами.
— Усиление разведки — это верный признак подготовки к войне, задумчиво говорил Виктор Михайлович. — Да, и обрати внимание, Александр, почти все задержанные нами за последнее время нарушители границы — матерые фашистские шпионы и военные разведчики. Раньше шли беженцы из Польши, а теперь только одни акулы попадаются. Это неспроста…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
С того времени как Галина вышла замуж и уехала в Гродно, прошло больше полугода. Однажды вечером к Франчишке Игнатьевне пришла Ганна Седлецкая. Присев на скамью, она сказала:
— У нас мама заболела.
— Слегла все-таки? Я давно ей говорила, что надо поберечь себя, быстро откликнулась Франчишка Игнатьевна. Она не раз пробовала заговорить со Стасей о ее младшей дочери, передать некоторые приятные новости о Галине. Но Стася Седлецкая, не удостаивая соседку ответом, гордо отворачивалась и, наклонив голову, молча отходила от нее.
— Мама по ночам плачет и совсем мало спит. Второй день как слегла, ничего не кушает и все время молчит. Папа тоже все вздыхает. Не знаю, тетя Франчишка, что мне делать?
— Что тут можно поделать? — Франчишка Игнатьевна подбоченилась и в раздумье пожала своими узкими плечиками. — Ничего не поделаешь. Галину назад вернуть нельзя, и я вам скажу по секрету, что Галиночка в городе так живет, дай бог, чтоб другие так жили. Башмаки у нее… так это башмаки; платье каждый день новое и такое, как у польской королевы на картинках!
— Да откуда вы это знаете, тетя Франчишка? Вы же не были в Гродно! Да и мы ничего не знаем — мама порвала, не прочитав, письмо от нее.
— Как же мне не знать? — обиженно заговорила Франчишка Игнатьевна. Как будто я не бываю на заставе и чужой там человек! Как будто туда не приезжают из Гродно всякие начальники, как будто они ховаются от Франчишки и не беседуют с нею! Да сколько раз я самого главного начальника молочком поила и благодарности получала! А разве Клавдия Федоровна не бывает в Гродно и не заезжает к Галине и не рассказывает потом новости! Да жена того комиссара, товарища Шарипова, родную матку так не любила, как любит Франчишку Игнатьевну… Галина ваша здесь гусят пасла, и они ей голяшки щипали, а там она офицерская жена! Каждый день в театры ходит или на автомобиле ездит, на этих самых роялях бренчать учится и поет! А поет она, ты сама знаешь, не хуже пани Гурской… А вы мне говорите! Ваша мама, я знаю, чем больна. Гордостью своей! Чтоб гордиться — не надо в бархат рядиться; чтобы барыней быть — надо барина родить, так говорили старые люди. Что этот русский офицер, Костя, не достоин быть зятем Стаси Седлецкой? Взять да стряхнуть с нее эту барскую спесь, она и выздоровеет.
Ганна и сама понимала, что мать всерьез не больна, просто она страдала тоской по дочери и раскаянием за свой безрассудный поступок, который толкнул тогда Галину на такой решительный шаг. Ганна видела, что матери хотелось, чтобы Галина приехала и сделала шаг к примирению.
— Ты, Ганночка, сама знаешь, что после Галиночки мне любить, кроме тебя, некого, может, только ребятишек с заставы, так они совсем малюсенькие и их все любят, — продолжала Франчишка Игнатьевна. — Так я тебе скажу, как можно вылечить твою мать. Ей надо свою панскую амбицию завязать в тряпочку и помириться с зятем. Он — советский офицер и имеет свою гордость. Это понимать надо. Вам надо гордиться таким зятем, а не отворачиваться от него.
— Но мама с ним и не ссорилась, — возразила Ганна, чувствуя сама, что говорит не те слова.
— Эге! Яка ты востра! Твоя мать оскорбила его! Она не захотела, чтобы он стал мужем ее дочери. На Галину за это в драку кинулась и всякие слова говорила. Мне стыдно было слушать такие слова! Мои щеки горели тогда, будто перцем натертые. Да что там… даже вспоминать не хочется!
Слова Франчишки Игнатьевны были справедливы. Ганна давно осудила поступок матери и не раз говорила ей, что она не права, что изменить ничего нельзя, надо смириться, написать письмо или поехать в Гродно. Но мать и слушать не хотела.
Вернувшись домой, Ганна собрала на стол и позвала отца ужинать. Стася второй день лежала в постели.
Олесь после исчезновения Сукальского ждал вызова на допрос, но о нем словно забыли. Владислава после допроса освободили. Юзефа Михальского отправили в Гродно и там оставили. Олесь чувствовал себя скверно, ходил из угла в угол молчаливый и подавленный. В доме Седлецких установилась гнетущая, словно после покойника, тишина. Все трое перестали громко разговаривать и избегали смотреть друг другу в глаза.
— Я думаю завтра поехать в Гродно, — как-то за ужином решительно заявила Ганна.
— В Гродно?
Олесь медленно поднял от тарелки голову, закашлялся, пережевывая кусок мяса, и отодвинул тарелку в сторону. По строгому и упрямому взгляду дочери он понял, что Ганна задумала что-то важное.
— Зачем нужно тебе ехать в Гродно? — спросил он тихо.
— У меня расшаталась коронка, нужно переделать…
Ганна подняла верхнюю губу и показала темный без коронки зуб.
— Ты сама сняла коронку? — пристально посматривая на дочь, спросил Олесь. Он понимал, что Ганне трудно говорить неправду, и был доволен, что она придумала эту историю с зубом.
— Я же сказала, что коронка расшаталась, — не поднимая головы, ответила Ганна, продолжая есть.
Олесь покивал головой и едва заметно улыбнулся.
— Хорошо, — после некоторого раздумья проговорил он. — Мы можем поехать вместе. У меня тоже найдутся в городе кое-какие делишки. Только не нужно пока говорить об этом матери.
— Но она все равно узнает, — возразила Ганна.
— Конечно, узнает. Я сам с ней поговорю.
Неизвестно, какой разговор произошел у Олеся с женой, только на другой день рано утром Ганна увидела, как мать с заплаканными глазами вынимала из комода платья и белье младшей дочери и все это аккуратно складывала.
Чалая кобыла тащилась по тряской, вымощенной булыжником дороге томительно долго. Олесю часто приходилось сворачивать в сторону, закрывать пугливой лошади мешком глаза и пропускать мимо брички поток груженых автомашин.
Стояла ранняя весна сорок первого года. На окрестных полях ползали новенькие челябинские тракторы. Такое количество машин Олесь видел впервые в жизни. «Брехал Михальский, что у Советов тракторы только на картинках», — подумал Олесь. Странными и жалкими казались ему сейчас упирающиеся в дорогу узкие полоски единоличников с тощими кустиками озимой ржи, посеянной на плохо удобренной земле. И вместе с тем никогда еще Олесь не видел таких массивов, принадлежащих одному хозяйству. Ровными рядами колыхались под ветерком густая пшеница и широкоперый ячмень. «Богато будет хлеба», — с завистью подумал Олесь и, вспомнив свое жалкое, заросшее сорняками поле, устыдился. Вспахал он его мелко, унавозил плохо. Ушла Галина, и некому стало навоз вытаскивать, Ганна не такая здоровая и сильная, как младшая дочь. Забороновал тоже небрежно, даже не разрушил ссохшихся комьев. Сколько пропадет и заглохнет под этими комьями зерна!
В одном месте его кобыла так взбунтовалась, напугавшись легковой машины, что поставила бричку поперек дороги. Из машины вылезли два человека. Один, в военном плаще, был секретарь райкома, а другой — кто бы мог подумать? — Иван Магницкий, бывший плотогон, разъезжавший теперь с начальством в автомобиле. Секретаря райкома Викторова Олесь знал, когда еще тот был капитаном-пограничником. Потом он заболел, где-то лечился и несколько месяцев назад вернулся в город.
Поздоровавшись с Олесем и Ганной, Викторов подошел к лошади, взял под уздцы, погладил трясущуюся грудь коня, успокаивающе заговорил:
— Ну чего, глупая, от машин шарахаешься… Машины пришли тебе на помощь, а ты их пугаешься. Зачем, товарищ Седлецкий, вы ей мешок на глаза накидываете? Так она никогда у вас к машинам не привыкнет. Ну, пойдем, хорошая моя, пойдем ближе, ничего страшного…
Викторов успокоил лошадь, снял с ее глаз мешок и подвел к постукивающему мотору. Она недоверчиво покосилась на блестевшие части радиатора и вдохнула ноздрями запах бензина. Викторов велел шоферу погудеть. Кобыла рванулась было в сторону, но Викторов ее удержал, велел загудеть еще и проехать мимо. Лошадь хотя и беспокоилась, но все же оставалась стоять на месте. Ганна не сводила внимательных глаз с худощавого лица секретаря райкома и невольно залюбовалась его простой, приветливой улыбкой. Она видела его много раз и в школе и на собраниях, слышала его голос, но сейчас он показался ей и проще и лучше, чем в официальной обстановке. Она знала, что Викторов был серьезно болен. Ходили слухи, что его бросила жена. «Наверное, это очень глупая женщина», почему-то подумала Ганна. У человека, пережившего тяжелое личное горе, бывают минуты, когда, проверяя себя, он начинает прислушиваться к своему сердцу, и вспоминает что-то из прошлого, и вдруг находит, что жизнь еще может быть снова прекрасной.
«Чем-то он похож на моего Михася, — прислушиваясь к голосу секретаря, подумала Ганна. — И сразу заставил лошадь покориться…» И тут же возникла другая мысль: «Не сходить ли к нему и не попросить ли устроить на работу учительницей немецкого языка? Ведь недаром я училась в Белостокской гимназии».
— Значит, в город? — угощая Олеся папироской, расспрашивал тем временем Викторов. — А как же сеять? Глядите, пропустите хорошую погоду, земля высохнет, хлеба меньше соберете!
— Да я уже трошки посеял, — смущенно ответил Олесь, а про себя подумал: «Вот сейчас будет тянуть в колхоз».
— Много посеяли? — допытывался Викторов, посматривая на Олеся своими серыми напористыми глазами.
Олесь рассказал, сколько он засеял.
— Ну, дорогой, так и коня не прокормишь! — прищурился Викторов и рассмеялся. — А вот мы, гляди, сколько засеваем! — Викторов круто повернулся и широко взмахнул рукой на дальние поля, где гусеничные тракторы, упорно гудя, тащили сеялки. — Сеем! Советский Союз большой, хлеба много надо. И мы дадим хлеба, дадим! Как вы думаете, товарищ Магницкий?
— Обязательно дадим. И землю будем обрабатывать так, чтобы собирать двойной урожай, — ответил Магницкий.
— А вы, товарищ Седлецкий, верите, что мы дадим много хлеба? — снова спросил Викторов.
— Что ж, с такими машинами можно дать, — подумав, ответил Олесь.
— Вот если бы вы поехали на Кубань, на Украину, в Сибирь — посмотрели бы там, сколько работает машин и какой родится хлеб!
— А в Сибири тоже сеют хлеб машинами? — робко и недоверчиво спросил Олесь, вспоминая ужасы, которые говорил ему о Сибири Михальский.
— В два раза больше, чем в Германии и во Франции, вместе взятых! ответил Викторов. — Ну что ж, до свидания. Передайте привет вашему зятю. Я его хорошо знаю, — уже из машины крикнул Викторов и приветливо помахал Ганне рукой.
— Никогда не думал, что это такой простой человек, — садясь в бричку, сказал Олесь.
— А ты-то все время считал, что умнее человека, как Юзеф Михальский, на свете не существует, — закутывая от пыли лицо платком, с усмешкой сказала Ганна.
— А ну его к черту, Михальского! Никогда я не считал его умным. Откуда ты могла такое подумать? Как будто у отца нет ума!
— Но ты же хотел, чтобы Владислав был мужем Галины…
— То не я хотел, а мать того хотела.
Олесь сильно хлестнул кобылу, и бричка снова затарахтела по булыжнику.
Ближе к городу дорога становилась все оживленней. Почти беспрерывно навстречу катили машины и брички. Один грузовик был заполнен веселой молодежью. Гармонист без шапки, встряхивая светлыми растрепанными кудрями, самозабвенно растягивал мехи. Это городская молодежь ехала помогать только что организованному колхозу.
Олесь, сутуля грузную спину, старался отряхнуть с нового черного пиджака пыль, пугливо озирался по сторонам и напряженно молчал. И только когда бричка покатилась по городской улице, он, натянув вожжи, придерживая бодро побежавшую кобылу, обернувшись, спросил:
— А ты точно знаешь, где она живет?
— Поезжай на улицу Мицкевича! — стараясь перекричать грохот колес, ответила Ганна.
…На втором этаже большого каменного дома Ганна встретилась с пожилой женщиной в широком пестром халате и спросила, где проживает лейтенант Кудеяров с женой.
— А-а! — почему-то вскрикнула женщина и добродушно улыбнулась. Проходите. Видите: в конце коридора дверь, которая немножко приоткрыта. Там и живет лейтенант Кудеяров. Я уже догадываюсь, кто вы такие, — шагая впереди Ганны, говорила женщина и вдруг, остановившись, добавила: — Да чего это я вас веду? Вы и сами дойдете. Галина будет рада вас видеть. Вон приоткрытая дверь! — Женщина помахала пухлой рукой и, пропустив гостей мимо себя, сказала вслед: — Слышите, это она заливается!
Ганна поблагодарила ее кивком головы и тихими шагами подошла к двери. До нее донесся родной певучий голос сестры и ее звонкий смех. Чувствуя, как учащенно забилось сердце и закружилась голова, Ганна остановилась и опустила чемодан на пол. Смех почему-то тяжело отдавался в ушах, волновал и тревожил. «Значит, она весела и счастлива и нет ей до нас никакого дела».
Остановился и Олесь, тащивший два больших туго завязанных узла. Он начал волноваться еще во дворе, заспорил с Ганной и категорически отказался остаться с лошадью. Пришлось отыскать дворника и препоручить ему лошадь с бричкой.
— Я сам хочу глянуть ей в очи, когда она ничего не будет знать и некогда ей будет притвориться…
Он не верил слухам о ее счастливой жизни и был убежден, что найдет дочь несчастной, кающейся грешницей.
«Чего ж она так заливается? — думал Олесь, прислушиваясь к смеху дочери, доносившемуся из комнаты в коридор. — Сегодня воскресенье — может, пьяночки да гуляночки?»
Видя нерешительность Ганны, Олесь слегка оттолкнул ее в сторону и без стука вошел в приоткрытую дверь. В большой с высоким потолком комнате драпировки на окнах были опущены и стоял приятный, розовый полумрак. Но Олесь сразу разглядел маленькую кудрявую девочку с медведем в руках, которая догоняла ползущую по ковру на четвереньках молодую женщину в длинном ярко-зеленом халате, с растрепанной прической. Вся комната была наполнена веселым, беспечным смехом.
Увидев незнакомого человека, девочка остановилась и попятилась.
Галина обернулась и узнала отца. Она подхватила ребенка на руки, быстро вскочив, отдернула розовую на широком окне драпировку.
 В комнату хлынул дневной солнечный свет. Лучи его заиграли на черной полировке рояля с разбросанными на крышке нотами, на массивных, с позолоченными рамами картинах, на широком во весь пол узорчатом ковре, но ярче всего осветили возбужденное лицо Галины, карие настороженные глаза, всю ее стройную, округленную в талии фигуру. В эту минуту Олесю показалось, будто эта чужая, цветущая красавица никогда не была его родной дочерью. А ведь прошло только полгода с тех пор, как она ушла из дому!
— Здравствуй, Галиночка, — обойдя растерявшегося отца, сказала Ганна и, не скрывая слез, начала горячо целовать сестру и неизвестного ей ребенка.
Первые несколько поцелуев девочка безропотно приняла, потом отвернула личико и положила головку Галине на плечо. Своими строго пытливыми глазенками она неотступно смотрела на чужого усатого дядю, сердитым молчанием протестуя против нарушения игры.
Когда же Олесь подошел к Галине поздороваться, девочка оттолкнула его крепко сжатым кулачком и звонко, сквозь слезы, крикнула:
— Нехалосый дядя!
Детский выкрик смутил сестер, но еще больше подействовал он на Олеся, и без того чувствовавшего себя неловко и подавленно. Этот, казалось бы, незначительный факт напомнил отцу и дочерям все прошедшее, мучительное и постыдное, напомнил то, главным виновником чего был именно он, седеющий мужчина, державший в руках теперь уже не сыромятную супонь, а узлы с бельем и платьями.
Свидание получилось слишком тяжелым для Олеся. «Пусть посмотрела бы на все это Стася, тогда бы узнала, каково мне из-за нее приходится», думал Олесь.
Галина унесла девочку в коридор и отдала матери. Вернувшись, она усадила сестру и отца на громадный, с высокой спинкой диван, сама сходила в другую комнату, переоделась в светлое шелковое платье и, придвинув кресло, села напротив гостей.
Разговор никак не налаживался. Олесь решил выставить болезнь Стаси как причину их неожиданного визита.
— Хворает мать. Все после того, как это случилось, — тяжко вздохнув, сказал он.
Галина, заметно волнуясь, хмуро пошевелила темными бровями:
— Кто ж тут виноват?
Олесь пожал вислыми плечами и, глядя на большое трюмо, чтобы избежать взгляда дочери, назидательно, как прежде, проговорил:
— О таких вещах дети у родителей не спрашивают!
— Однако я все же спрошу, отец, — смело возразила Галина. — Хочу, чтобы вы мне сказали, кто виноват, что дочь сбежала из дому в одних деревянных башмаках. Если виновата я, пусть буду я!
— Да разве мы виноватого искать приехали! — чувствуя, что может произойти новая ссора, вмешалась Ганна.
— Это она ищет виноватого! — с раздражением в голосе заметил Олесь. Он видел, что вместо прежней веселой хохотушки Галины перед ним сидит взрослая женщина, оберегающая свое достоинство и говорящая с ним с оттенком требовательности и даже упрека. С одной стороны, это нравилось Олесю, с другой — вызывало раздражение.
— Да, отец, — прежним тоном продолжала Галина. — Мне жалко и маму и вас, и я, конечно, виновата, что не послушалась вас и не стала женой Владислава, а нашла себе мужа, которого люблю больше всего на свете. Но если бы вам, молодому, сказали, что вы должны взять себе в жены не нашу маму, а, например, тетю Франчишку, как бы вы поступили?
— Не говори глупостей, — резко бросил Олесь и тут же с улыбкой вспомнил, как отец в пылу гнева обещал женить его не на Франчишке, а на рябой вдове, вечно пьяной гадалке Ядвиге.
— Какие же глупости? Тетя Франчишка очень хорошая, добрая женщина! горячо защищала соседку Галина.
— Хай будет добрая, — махнул рукой Олесь. — Раз она така добра, хай попадет в царство небесное. Давайте не будем вспоминать того, что не случилось, а поговорим о том, что есть. Ежели кто виноват, того господь бог накажет. Где твой муж? Коли он не прогонит нас, то мы переночуем.
— Как вы можете, отец, такое говорить? Вы же совсем не знаете, какой мой Костя! Когда узнаете, другое скажете, — сказала Галина с волнением в голосе.
— Ну, а какой все-таки твой муженек? — загадочно прищурив глаза, спросил Олесь. Он заметно подобрел и успокоился. Напоминание о женитьбе развеселило его.
— Костя — русский офицер! — заявила Галина и, вскочив, выпрямилась во весь рост. — Он мой муж! Мы с ним вместе учимся! Вы еще не знаете и Зиновия Владимировича! Вот когда вы увидите майора Зиновия Владимировича и жену его Марию Семеновну, то по-другому будете думать!
Вошла пожилая женщина, которую Олесь и Ганна видели в коридоре. Галина познакомила ее со своими родными.
— А я сразу догадалась, какие гости к нам идут, — здороваясь, проговорила Мария Семеновна. — Ну, как доехали? Почему, Галиночка, вещи тут лежат? Убрать их нужно. — Мария Семеновна подхватила узлы и, несмотря на свой солидный возраст и полноту, быстрыми шагами понесла их к двери.
— Мария Семеновна, я сама все сделаю! — крикнула Галина.
— А разве я не могу сделать? Ты занимай гостей… Косте позвонила? Нет? Надо позвонить. — Мария Семеновна улыбнулась умными, молодо блестевшими глазами и унесла узлы в смежную комнату.
— Ну, дочка, звони скорей своему Косте по телефону, а я пойду коняку куда-нибудь определю и загляну в магазины.
— Долго не ходи. Опоздаешь к обеду, — сказала Галина и, как только Олесь скрылся за дверью, порывисто бросилась сестре на шею, начала ее тормошить и целовать.
— Вот и встретились, — вернувшись из комнаты, тихо и ласково проговорила Мария Семеновна. — Я похлопочу по хозяйству. А ты не забудь позвонить.
— Да посидите с нами, Мария Семеновна! — воскликнула Галина.
— Посидим еще, поговорим, — ловко поправляя перед зеркалом седеющие волосы, ответила Рубцова. Она запросто поцеловала Галину в лоб, провела рукой по ее щеке и вышла.
— Наверное, очень добрая женщина? — спросила после ее ухода Ганна.
— Чтобы не обидеть тебя, Ганна, я не скажу, что она мне вторая мать, но другой такой женщины на свете, наверное, нет!
В комнату хлынул дневной солнечный свет. Лучи его заиграли на черной полировке рояля с разбросанными на крышке нотами, на массивных, с позолоченными рамами картинах, на широком во весь пол узорчатом ковре, но ярче всего осветили возбужденное лицо Галины, карие настороженные глаза, всю ее стройную, округленную в талии фигуру. В эту минуту Олесю показалось, будто эта чужая, цветущая красавица никогда не была его родной дочерью. А ведь прошло только полгода с тех пор, как она ушла из дому!
— Здравствуй, Галиночка, — обойдя растерявшегося отца, сказала Ганна и, не скрывая слез, начала горячо целовать сестру и неизвестного ей ребенка.
Первые несколько поцелуев девочка безропотно приняла, потом отвернула личико и положила головку Галине на плечо. Своими строго пытливыми глазенками она неотступно смотрела на чужого усатого дядю, сердитым молчанием протестуя против нарушения игры.
Когда же Олесь подошел к Галине поздороваться, девочка оттолкнула его крепко сжатым кулачком и звонко, сквозь слезы, крикнула:
— Нехалосый дядя!
Детский выкрик смутил сестер, но еще больше подействовал он на Олеся, и без того чувствовавшего себя неловко и подавленно. Этот, казалось бы, незначительный факт напомнил отцу и дочерям все прошедшее, мучительное и постыдное, напомнил то, главным виновником чего был именно он, седеющий мужчина, державший в руках теперь уже не сыромятную супонь, а узлы с бельем и платьями.
Свидание получилось слишком тяжелым для Олеся. «Пусть посмотрела бы на все это Стася, тогда бы узнала, каково мне из-за нее приходится», думал Олесь.
Галина унесла девочку в коридор и отдала матери. Вернувшись, она усадила сестру и отца на громадный, с высокой спинкой диван, сама сходила в другую комнату, переоделась в светлое шелковое платье и, придвинув кресло, села напротив гостей.
Разговор никак не налаживался. Олесь решил выставить болезнь Стаси как причину их неожиданного визита.
— Хворает мать. Все после того, как это случилось, — тяжко вздохнув, сказал он.
Галина, заметно волнуясь, хмуро пошевелила темными бровями:
— Кто ж тут виноват?
Олесь пожал вислыми плечами и, глядя на большое трюмо, чтобы избежать взгляда дочери, назидательно, как прежде, проговорил:
— О таких вещах дети у родителей не спрашивают!
— Однако я все же спрошу, отец, — смело возразила Галина. — Хочу, чтобы вы мне сказали, кто виноват, что дочь сбежала из дому в одних деревянных башмаках. Если виновата я, пусть буду я!
— Да разве мы виноватого искать приехали! — чувствуя, что может произойти новая ссора, вмешалась Ганна.
— Это она ищет виноватого! — с раздражением в голосе заметил Олесь. Он видел, что вместо прежней веселой хохотушки Галины перед ним сидит взрослая женщина, оберегающая свое достоинство и говорящая с ним с оттенком требовательности и даже упрека. С одной стороны, это нравилось Олесю, с другой — вызывало раздражение.
— Да, отец, — прежним тоном продолжала Галина. — Мне жалко и маму и вас, и я, конечно, виновата, что не послушалась вас и не стала женой Владислава, а нашла себе мужа, которого люблю больше всего на свете. Но если бы вам, молодому, сказали, что вы должны взять себе в жены не нашу маму, а, например, тетю Франчишку, как бы вы поступили?
— Не говори глупостей, — резко бросил Олесь и тут же с улыбкой вспомнил, как отец в пылу гнева обещал женить его не на Франчишке, а на рябой вдове, вечно пьяной гадалке Ядвиге.
— Какие же глупости? Тетя Франчишка очень хорошая, добрая женщина! горячо защищала соседку Галина.
— Хай будет добрая, — махнул рукой Олесь. — Раз она така добра, хай попадет в царство небесное. Давайте не будем вспоминать того, что не случилось, а поговорим о том, что есть. Ежели кто виноват, того господь бог накажет. Где твой муж? Коли он не прогонит нас, то мы переночуем.
— Как вы можете, отец, такое говорить? Вы же совсем не знаете, какой мой Костя! Когда узнаете, другое скажете, — сказала Галина с волнением в голосе.
— Ну, а какой все-таки твой муженек? — загадочно прищурив глаза, спросил Олесь. Он заметно подобрел и успокоился. Напоминание о женитьбе развеселило его.
— Костя — русский офицер! — заявила Галина и, вскочив, выпрямилась во весь рост. — Он мой муж! Мы с ним вместе учимся! Вы еще не знаете и Зиновия Владимировича! Вот когда вы увидите майора Зиновия Владимировича и жену его Марию Семеновну, то по-другому будете думать!
Вошла пожилая женщина, которую Олесь и Ганна видели в коридоре. Галина познакомила ее со своими родными.
— А я сразу догадалась, какие гости к нам идут, — здороваясь, проговорила Мария Семеновна. — Ну, как доехали? Почему, Галиночка, вещи тут лежат? Убрать их нужно. — Мария Семеновна подхватила узлы и, несмотря на свой солидный возраст и полноту, быстрыми шагами понесла их к двери.
— Мария Семеновна, я сама все сделаю! — крикнула Галина.
— А разве я не могу сделать? Ты занимай гостей… Косте позвонила? Нет? Надо позвонить. — Мария Семеновна улыбнулась умными, молодо блестевшими глазами и унесла узлы в смежную комнату.
— Ну, дочка, звони скорей своему Косте по телефону, а я пойду коняку куда-нибудь определю и загляну в магазины.
— Долго не ходи. Опоздаешь к обеду, — сказала Галина и, как только Олесь скрылся за дверью, порывисто бросилась сестре на шею, начала ее тормошить и целовать.
— Вот и встретились, — вернувшись из комнаты, тихо и ласково проговорила Мария Семеновна. — Я похлопочу по хозяйству. А ты не забудь позвонить.
— Да посидите с нами, Мария Семеновна! — воскликнула Галина.
— Посидим еще, поговорим, — ловко поправляя перед зеркалом седеющие волосы, ответила Рубцова. Она запросто поцеловала Галину в лоб, провела рукой по ее щеке и вышла.
— Наверное, очень добрая женщина? — спросила после ее ухода Ганна.
— Чтобы не обидеть тебя, Ганна, я не скажу, что она мне вторая мать, но другой такой женщины на свете, наверное, нет!
ГЛАВА ВТОРАЯ
К обеду Олесь вернулся слегка под хмельком. Дочерям он сказал, что встретился со старым приятелем и тот уговорил его зайти выпить по кружке пива. На самом же деле он заходил в ресторанчик один и выпил исключительно для храбрости. Встреча с зятем, по правде говоря, сильно смущала его, и он готовился к ней с безотчетной робостью. Он предполагал, что зять должен обижаться на него хотя бы потому, что за него, русского офицера, не хотели выдать Галину и, значит, оскорбили его. Да и какой же был бы он офицер, с точки зрения Олеся, если бы не обиделся на такое пренебрежение! Да, все получилось очень глупо… Но ничего теперь не поделаешь, придется моргать глазами и дергать себя за длинный ус. Костя встретил тестя с откровенной, веселой простотой. Взяв полотенце, повел Олеся в ванную умываться, сам открыл кран, подал мыло, и когда тот, растроганный вниманием зятя, стал умываться, Костя, как бы невзначай, спросил: — Почему мать не приехала? — Прихварывает немножко. — Вот и нужно было привезти. Здесь есть хорошие доктора, — деловито заметил Костя, не подозревая, что творится в душе Олеся. — Дорога слишком тяжелая, трудно ей ехать… — А чем она больна? Может быть, послать врача? — Нет, нет! Она не захочет, — с ожесточением растирая порозовевшие щеки, сказал Олесь, удивляясь, как этот нежданный зять может так запросто разговаривать. — Больных в таких случаях не спрашивают. Если серьезно больна, то надо лечить. Машина есть. Все это можно быстро сделать, — заявил Кудеяров. — Не стоит беспокоиться. Да и не так уж она больна. Пройдет, я думаю, — смущенно проговорил Олесь. Выйдя из ванной, Олесь, совсем не ожидая того, встретился с начальником заставы лейтенантом Усовым и с тем самым суровым майором в роговых очках, который приезжал при разделе помещичьей земли и так рассердился на Михальского, что тот вынужден был покинуть собрание. Юзеф тогда сказал какую-то глупость насчет колхозов, а этот майор так его разделал, что даже у Олеся рубашка взмокла, — мысли Олеся и Юзефа в то время были одинаковыми… А теперь вот пришлось встретиться. И где только зятек мог разыскать его?… — Так вот какой у тебя тестюшка! — здороваясь, сказал Рубцов, в упор рассматривая из-под очков совсем растерявшегося Олеся, уже начавшего раскаиваться, что затеял эту поездку. Послать бы жену. Сама заварила кашу, сама пусть и расхлебывала бы. — В солдатах служил? — напористо спросил майор. — Приходилось служить и в солдатах, — с натугой проговорил Олесь. — Против кого воевал-то? — Против кайзера, в ту войну… — Ну и я тогда воевал против кайзера. Значит, товарищи по оружию. В этих местах, на Августовском канале. — Наши места! — оживился Олесь. — Ты садись, чего стоишь. К дочери приехал, к зятю, — косясь на Кудеярова, продолжал Рубцов и, лукаво улыбнувшись, добавил: — Ничего, скоро дедушкой будешь… Чего ты разводишь руками, старый солдат! На свадьбе не гулял, нет? Вот сейчас выпьем за будущих внуков. Хочешь не хочешь, брат, а выпьем! Когда все сели за стол, Зиновий Владимирович поднял бокал и, поглядывая на Олеся, проговорил: — Жаль, что нет здесь вашей супруги. Я бы ее немножко и огорчил и обрадовал. Как же не радоваться, коли ожидаешь внуков! — Да что вы, Зиновий Владимирович, — стыдливо замахала руками Галина. — Ты уж не смущай ее, — вступилась Мария Семеновна. — Всегда говорю то, что думаю. Пью за будущих внуков, пью за нашу молодежь и за дружбу русских с поляками, только не с панами, а с простыми трудовыми людьми. — Вот это верно вы говорите, очень верно, — расчувствовался Олесь. — Ведь не с фашистами вам дружить? Не так ли, Олесь Юрьевич? обернувшись к нему, сказал Усов. — Конечно, так, — кивая головой, подтвердил Олесь и, вспомнив разговор с Сукальским, почувствовал, как наливаются кровью его чисто выбритые щеки и дрожат кончики усов. «Какой же был я дурак, что слушал тогда всерьез эту сморщенную щуку, Сукальского!» — подумал Олесь, опрокидывая рюмку. «Может быть, рассказать?» — шевельнулась в голове острая мысль. Олесь выпил еще несколько рюмок и неожиданно для самого себя решил сказать, что против них организуется заговор, что скоро будет война. Выждав время, он заговорил: — Вы вот люди военные… Скажите, война будет скоро или нет? — Коль скоро на нас нападут, так, значит, будет война, — ответил Рубцов. — Кто же может напасть на Россию? — спросил Олесь, пристально поглядывая на аппетитно закусывающего майора. — Германские фашисты, например, — ответил Рубцов. — Так вы, значит, знаете?! — словно обрадовавшись, вскрикнул Олесь. — А чего ж тут не знать? Вопрос времени, товарищ Седлецкий… Мы, коммунисты, не хотим войны, но фашисты заставляют к ней готовиться. — А чья армия сильней, Красная или германская? — совсем осмелев, спросил Олесь. — Если придется воевать, выяснится, кто сильней, — уверенно ответил Костя. — Оно и теперь ясно. Германская армия сильная, обученная. Имеет опыт. Но мы гораздо сильней. Советские люди знают, за что им придется драться, твердо сказал Зиновий Владимирович. — Однако об этом хватит. Давайте поговорим о будущих внуках. Да, кстати, Усов, когда же догуляем на твоей свадьбе? Я завтра в те края, на все лето. — Моя свадьба, Зиновий Владимирович, будет не скоро, — улыбаясь, ответил Усов. — Да и невесты подходящей нет… — Ну это ты брось! — Рубцов погрозил ему пальцем. — Невесты нет… А сколько рыжий конь трензелей сгрыз, когда стоял у крылечка, где учительница живет? Все рассмеялись. Усовпокраснел и не нашелся, что ответить. Разошлись поздно. Олесь не только смирился со своим зятем, но, кажется, и полюбил этих простых, сердечных людей. Прожив в Гродно несколько дней, он уехал в Гусарское, а Ганну оставил погостить у Галины.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В то незабываемое лето поздно расцвела черемуха, густо растущая по берегам Августовского канала. Поздно вылетели из ульев пчелы. Березки поздно выбросили свои сережки, но, украсившись ими, зазвенели, как веселые модницы. Мощные дуплистые ветлы, раскинувшиеся широкими зелеными шатрами на луговой низине, манили в свою тенистую прохладу. Но едва войдешь под эти густые шатры, как невольно начинаешь чувствовать себя напряженно и чего-то ждешь. Все это происходит оттого, что ветлы растут на последних метрах советской земли. За ними начинается государственная граница. Последние дни пограничники часто слышат с той стороны чужую, не славянскую, гортанную речь и видят солдат в мутного цвета касках с желтой свастикой. Опустив ружья к ноге, они останавливаются неподалеку от пограничного столба, долго смотрят на государственный герб Советского Союза и тихо о чем-то переговариваются. Сегодня на редкость жаркий день. Восточный горизонт чист и прозрачен. На западе недвижимо встала темная туча. Но это только кажется, что она стоит на месте. Туча незаметно подвигается на восток и приносит с собой ураган. Тишина неожиданно нарушается отдаленным гулом, как будто кто-то небывало грузный ступил на землю и пошел по ней. Кусты черемухи начинают лихорадочно вздрагивать и, как снегом, осыпают траву лепестками. Птицы настораживаются и перестают щебетать. Настораживается и группа купающихся в канале пограничников. Сержант Башарин, поглаживая прилипшие к телу мокрые трусы, стоит по колено в воде и прислушивается. — Где-то гром гремит. Далеко… — пришивая к гимнастерке чистый беленький подворотничок, говорит тоже раздетый Сорока. Он уже забыл все свои прежние невзгоды, снова веселый и задорный. — Это совсем не далеко и не гром, — возражает Башарин. — Нет, это не гром, — соглашается Бражников, почесывая укушенное слепнем плечо. Плечи у него мускулистые и загорелые. Ширококостная спина перевита выпуклыми мышцами. — Танки, должно быть! Странно как-то гудят… — замечает Башарин и выходит из воды. Ему неприятно слышать этот тревожно нарастающий гул. — Так уж прямо и танки! — не соглашается Сорока. — Подумаешь, механик нашелся! Может быть, тракторы идут. Откуда тебе знать? — Много ты найдешь в Польше тракторов?… И вообще отстань, тебя сроду не переспоришь. Пограничники, лежа на берегу в разных позах, прислушиваются. Кабанов и Малафеев перестали чинить сеть и тоже подняли головы. Солнце горячо припекает. По каналу, обшитому бревнами, лениво течет вода. Над водой свесилась большая коряга, от нее на поверхности воды распростерлась уродливая тень. Плеснулась крупная рыбина. Гул на той стороне постепенно удалялся и окончательно затих. — Рыбы-то сколько! Смотри, как плещется, — проговорил Сорока, свертывая вылинявшую гимнастерку. — Надо сегодня побольше наловить. Как только жар схлынет, так и забросим сетку. Линей бы покрупней захватить. У меня от Клавдии Федоровны заказ имеется. Сегодня у нее с утра стряпня идет. Пирушка будет на всю заставу — своими ушами слышал. — По какому такому случаю? — спрашивает Юдичев. — Уж не ты ли именины справлять собираешься?… — Не обо мне речь. Начальник заставы лейтенант Усов жениться собирается. У них с учительшей, которая с нами по литературе и арифметике занимается, кажется, получился баланс. — Сорока, в прошлом счетовод, по старой привычке любит щегольнуть бухгалтерскими терминами и этим забавляет товарищей. — Сошелся у них дебет с кредитом. — Да откуда это тебе известно? — раздаются со всех сторон голоса. — Сегодня, — таинственно объясняет Сорока, — меня вызвал замполитрука товарищ Стебайлов, попросил наловить рыбы и приготовить торжественную речь… Да чего вы хохочете, как филины! Ну вот, по случаю женитьбы нашего начальника мне велено приготовить свадебное поздравление… — Ну, и ты приготовил речь? — спрашивает Юдичев. Все прислушиваются. Сейчас должно последовать что-то веселое. — Пока еще как следует не придумал, но примерно обмозговал. Сорока пальцем потирает висок. Его веснушчатое мальчишеское лицо принимает лукавое и озорное выражение. — Врет он все. Бесшабашный человек, — осуждающе покачивая головой, заключает Башарин. Сороку он считает легкомысленным и пустым человеком, часто одергивает его, но, несмотря на это, дружит с ним и охотно ходит в наряд. — Я — вру! Да я такую тебе речь сочиню, реветь начнешь! — Будто бы… Так сейчас и разрыдаюсь. — А ну, попробуй, — подзадоривает Бражников. — Давай, давай, Сорока! — раздается со всех сторон. — Я бы им для начала так сказал, — польщенный всеобщим вниманием товарищей, продолжает Сорока. — Дорогие новобрачные! Вы сегодня, так сказать, записаны в книгу семейных людей. Желаю вам от всего нашего коллективного сердца поскорее заиметь маленьких человечков, которых мы, ваши боевые друзья и подчиненные товарищи, обязуемся нянчить и тетешкать всей нашей заставой… Есть у нас доблестный советский пограничник Ваня Башарин, он возьмет маленьких Усят на свои богатырские ладони и будет подкидывать до самого неба… — Вот идол, а! — на лице Башарина расплывается мягкая, задушевная улыбка. Такими же хорошими улыбками озаряются лица и других пограничников. — Ваши маленькие Усята станут расти на нашей заставе в общем государственном балансе. Мы соорудим им колясочки и будем катать по двору, а когда подрастут, завяжем красный галстук и отведем в школу, и так далее, и тому подобное… Почему вот я, хлопчики, человек женатый, а? Почему жена со мной только неделю прожила? Но и я своих ребятишек в генералы выведу! — Подожди маленько. Может, сам в генералы выйдешь, потом уж… поддевает его Башарин, зная, что Сорока любит мечтать о командных должностях. Реплика Башарина вызывает дружный хохот. — А что ты думаешь, и выйду! Наперед совершаю подвиг, проявляю геройство! Окружная газета помещает мой портрет и описывает мой подвиг. Командование направляет меня в училище. Проходит годика три-четыре, к вам на заставу приезжает командир, на петлицах два кубаря. Перед ним выстраивается вся застава. Вы глаза вылупили и шепчете: «Это ведь наш Сорока!» — Мы к тому времени демобилизуемся, не загибай, — добродушно говорит Башарин. — Ты, милый, на сверхсрочную останешься. Не морочь мне голову, кивает на него Сорока и вдохновенно продолжает: — Старшина Башарин, подтянутый и ловкий, командует: «Застава, смирно!» И каблуками цок-цок, рапортует: «Товарищ начальник заставы, вверенная вам пограничная застава по вашему приказанию выстроена!» — «Вольно!» — командую я, Игнат Сорока, прохожу по рядам и останавливаюсь на левом фланге, против командира отделения товарища Юдичева и спрашиваю: «Почему, товарищ Юдичев, у вас такой кислый вид, словно вы дюжину лимонов зараз скушали? Ежели вы скучаете и у вас есть зазнобушка, можете собираться в отпуск, я разрешаю. Только не портите строевой вид вверенных мне орлов своим кислым лицом…» — Почему у меня кислый вид? Ты это брось! У меня просто чирий вскочил, вот я и не купаюсь, — не выдерживает Юдичев и отворачивается в сторону. — Значит, Башарин только старшина, а ты лейтенант? Здорово отхватил, — свертывая цигарку, замечает Башарин. — А может быть, я раньше твоего махну в училище? Сорока резким движением подтягивает голые коленки к подбородку и, раскачиваясь всем туловищем, лукаво прищурив глаза, отвечает: — Видишь, какое дело, Ваня… У тебя очень фигура старшинская. Человек ты рассудительный, хозяйственный, сети добре вяжешь, рыбак настоящий, особый вид картофеля умеешь выращивать, помидоры с капустой. Вообще, так сказать, личность ты сугубо тыловая… — Как ты можешь своему старшему наряда говорить такие слова? притворно возмущается Башарин. Он на самом деле любит хозяйственные дела. Сорока выдает его тайную мечту: стать старшиной и поехать на такую заставу, где есть большое хозяйство, или развести его здесь. — Я тебе говорю это как будущий генерал… Понимаешь? А ему, товарищ Башарин, лучше знать, кого и на какую должность определить, — сделав строгое лицо и подняв палец кверху, заявляет Сорока. Начальник заставы Усов, выйдя из дому и услышав веселый смех пограничников, не утерпел, вернулся в комнату, взял полотенце и направился к реке. Уж очень заразительно смеялись люди. Он любил свободное время провести и отдохнуть вместе с бойцами. — Ну чего притихли? — спросил Усов, оглядывая улыбающихся пограничников. — Чьи байки слушали? — Да вот Сорока болтал, — улыбаясь, признался Башарин. — Продолжай, товарищ Сорока, не стесняйся, — грея на горячем солнце стройную мускулистую спину, поощрительно подмигнул Усов. — Что продолжать, товарищ начальник… Денек сегодня добрый, припекает здорово. — Сорока прищурил глаза. — Денек такой… Рыбки думаем наловить… — Давайте, ребята, поплаваем, — предложил Усов, быстро подошел к воде и бросился вниз головой. За ним с криком и хохотом кинулись остальные. День сегодня был праздничный.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В свободное от занятий время на заставе иногда проводилась военная игра. В ней принимали участие все желающие. Выбрав время, начальник заставы собирал пограничников и заявлял: — Завтра в шестнадцать часов будем играть. Я изображаю нарушителя. Буду пытаться перейти «границу». Задача — захватить «нарушителя». Кто выполнит задачу на «отлично», тому после коллективного обсуждения присуждается премия — книги «Поднятая целина» и «Чапаев». — Кому-то повезет, — сокрушался Сорока, которому страшно хотелось захватить такого необычного нарушителя, как начальник заставы. — Не беспокойтесь, товарищ Сорока. Я буду действовать на всех участках. Ваше дело — бдительно нести службу. — А как вы докажете, что были на всех участках? Ведь наряд-то будет действовать не один, — не унимался дотошный Сорока. — А след? — На следу-то не будет написано, что тут проходил начальник заставы, а не другой кто-нибудь! — Хорошо. Я буду в каком-то месте что-нибудь оставлять. Ну, скажем, на участке Сороки я «потеряю» коробку спичек, на участке Башарина платок. Если проползу к линии условной границы, то положу записку, где будет указано точное время, когда я там был. Вы предварительно проверяете полосу «границы» в обычном порядке, чтобы убедиться, что там ничего не было. — Здорово придумано! — хором отвечали пограничники, увлеченные игрой. — Ну, держитесь, товарищ начальник! — грозился Сорока и тут же спрашивал: — А ежели, товарищ лейтенант, наряд найдет этот ваш предмет, то будет наряду какое-нибудь поощрение в баллах? — Будет поощрение! Повесим в ленинском уголке специальную доску и станем там отмечать результаты. Для игры был отведен специальный лесной участок и намечена линия «границы». Первый раз в игре участвовало несколько нарядов. В одном из них старшим был Сорока. Однако всех постигла неудача. «Нарушитель» «растерял» свои вещи, но следов не оставил, словно не на ногах ходил, а летал по воздуху. Пограничники сошлись на сборный пункт и, растерянно топчась на месте, смущенно посматривали на улыбающегося начальника. Сорока, неловко козырнув, хотел было сесть на пенек, но начальник заставы остановил его и приказал доложить о действиях наряда. Сорока понял, что игра игрой, а докладывать надо, как положено по уставу. Доклад принимал политрук Шарипов и требовал соблюдения всех уставных правил. — Значит, ничего не обнаружено? — спросил Шарипов и, подмигнув Усову, с сомнением в голосе добавил: — А может быть, так никакого нарушителя и не было? Надо проверить! — Обязательно надо, товарищ политрук! — настаивал Башарин. Он считался одним из лучших пограничников, и ему обидно было, что он мог прозевать «нарушителя». — Можно, пожалуй, и не проверять, — продолжая загадочно улыбаться, сказал Усов. — Как же не проверять? — возразил Сорока. — Не желаю я, чтобы в моей службе отмечался позорный случай… — Раз настаиваете, — значит, проверим, — согласился Усов. — В доказательство того, что я прошел незамеченным на всех участках, скажу: видел вас, товарищ Сорока, как вы спокойно под кустом орешника собирали землянику… — Сроду этого, товарищ лейтенант, не было, — запротестовал Сорока, да и ягода совсем еще зеленая… — Вот вы и сказали Юдичеву: «Ягоды зараз много, а спелой ни одной». — По-моему, я ж это тихо сказал, — признался ошеломленный Сорока. Ничего подобного он не ожидал, и от его неожиданного признания пограничники дружно засмеялись. — Если бы вы сказали тихо, то я бы не слышал, — продолжал Усов. — Я сидел в этом самом орешнике и все видел… Посрамленный Сорока сначала смущенно мигал глазами, потом тоже принялся хохотать вместе с другими. Дальше выяснилось, что начальник заставы побывал на всех участках, пробравшись на обусловленную линию границы, оставил на участке Башарина ручные часы с запиской, в которой точно обозначил время и даже нарисовал схему своего пути. Затем по этой схеме он разъяснял всей группе, как следовало нести службу. — Но почему следов не видно? — спрашивали участники игры. На этот вопрос Усов отвечать категорически отказался. — Вы, может быть, полагаете, что нарушитель сообщит вам запиской, где он пойдет, и в каких сапогах, и сколько у него будет на подошве гвоздей? Нет, товарищи, должна быть своя смекалка. Надо знать свой участок так, чтобы мышонок не смог проползти, — сказал Усов и на практике объяснил, как нужно изучать местность и следы, как нужно маскироваться и терпеливо прислушиваться к каждому звуку. Перед следующей игрой все участвующие заранее пришли на свои участки, изучили и проверили каждый кустик и каждую кочку. Однако «нарушитель» оказался настолько осторожным и хитрым, что обманул всех и во второй раз. Башарин и Сорока выходили из себя. Как удавалось лейтенанту это делать, разгадать никто не мог. Первым, наконец, уловки «нарушителя» понял упорный и настойчивый Башарин. Изучая на другой день путь своего движения, он обнаружил, что «нарушитель» все время ухитрялся идти по их же следу. Но когда наряд приближался к линии «границы», Усов оставался сзади и, спрятавшись в кустах, наблюдал за дальнейшими действиями пограничников, записывал каждый их промах, видел, куда и как они ложились в засаду. После этого незаметно полз в нужном направлении и, положив записку, а иногда и еще какой-нибудь предмет, этими же следами возвращался обратно. Башарин после тщательного изучения догадался, что начальник заставы ходит в одних носках и так маскирует свои следы, что их почти невозможно заметить. На ближайшем занятии Башарин устроил «хитрую засаду» и захватил «нарушителя» на подходе. По коллективной договоренности опыт был перенесен в другие группы. Следующий раз повезло и Сороке. На его тумбочке уже красовался новенький том «Поднятой целины», и он с упоением читал вслух о приключениях деда Щукаря. Теперь в игре участвовали почти все пограничники. Даже повар Чубаров однажды изображал нарушителя. Поощрялись и те, кому хитрой выдумкой удавалось обмануть товарищей. Пограничная служба требует от людей большого умственного и физического напряжения, быстроты действия при преследовании нарушителя, железной выдержки и дисциплины. На малейшее нарушение дисциплины Усов немедленно реагировал, но, наказывая провинившегося, он внутренне был недоволен собой, чувствуя, что где-то сам чего-то недосмотрел и недоделал. Советовался по этому поводу с Шариповым. Молодой командир, он все советы по воспитанию людей воспринимал от политрука с благодарностью. Шарипов был старше его годами, с солидным партийным стажем. На границе он служил свыше десяти лет и успел побывать во многих, самых отдаленных уголках страны. Беседуя с политруком о воспитании людей, Усов каждый раз убеждался в том, что у заместителя есть чему поучиться.ГЛАВА ПЯТАЯ
Усов написал Шурочке записку и, передавая ее Клавдии Федоровне, сказал: — Вы на словах ей передайте, чтобы она пораньше пришла… Чего ей сидеть в выходной день в одиночестве? Пусть с утра приходит. Глядишь, и я пораньше освобожусь… — Когда же вы наконец женитесь? — спросила Клавдия Федоровна. Запугал девушку своим Памиром, вот она и робеет. — А мне робкая жена не годится. Беру на выдержку, а там посмотрим… Клавдия Федоровна направилась с детьми в школу, передала записку и вернулась на заставу вместе с Александрой Григорьевной. После этого Клавдия Федоровна стала искать Усова, чтобы пригласить его к завтраку. Однако выяснилось, что Виктор Михайлович оседлал коня и уехал в комендатуру, куда его срочно вызвали. Поиграв со Славой, Шура долго ходила по комнате и рассеянно посматривала в окно. Потом, взяв первую попавшуюся в руки книгу, пошла на берег Августовского канала и села под старой вербой. Однако читать не могла, да и книга оказалась не той, какая нужна была по ее настроению. Это было наставление по сбору лечебных трав. Шура раздраженно покусывала сорванную на ходу ветку черемухи. В ушах нудно гудели противные комары, а в глаза лез проскользнувший сквозь листву солнечный луч. Повалявшись на траве и измяв тщательно выутюженное платье, Шура встала и спустилась к берегу канала. Там на деревянном мостике сидела какая-то женщина в синем платье и мыла ноги. Шура подошла ближе. Женщина, услышав ее шаги, обернулась. Это была Ганна Седлецкая. — Здравствуйте, Александра Григорьевна! — сказала Ганна. — А я, знаете, к вам заходила, и мне сказали, что вы ушли на заставу. — Здравствуйте, Ганна! Шура очень обрадовалась этой встрече, и они расцеловались. — Почему, Ганночка, тебя не видно? Ты даже в библиотеке не показываешься… — Меня здесь не было. Я два месяца жила в Гродно у Галины. — Как она поживает? — спросила Шура. — Галина очень счастлива, скоро будет матерью, а я тетушкой, грустно улыбнувшись, проговорила Ганна и вытерла платком глаза. — Ты плакала, Ганна? — Да, я сегодня поплакала… Садитесь рядом со мной, Шура. Здесь хорошо. Я была у секретаря райкома партии Викторова. Я могу преподавать польский и немецкий языки. Он посоветовал мне поступить на работу в вашу школу. Я зашла к вам и хотела поговорить… Вы знаете Викторова? спросила Ганна. — Еще бы. Это замечательный человек, — воскликнула Шура и, почему-то мысленно сравнив его с Усовым, к своему удивлению, нашла, что эти два человека очень похожи друг на друга своими характерами. Оба они любят острый юмор, оба упрямые и требовательные. — Да, это хороший человек, — задумчиво продолжала Ганна. — Я, признаться, мало встречала таких людей. Он часто бывает в школе? — Он везде бывает, и все его уважают, даже маленькие дети… — Да, да! Я вам об этом и говорю, — взволнованно перебила Ганна. Дети очень тонко и верно чувствуют хорошего человека. Их невозможно обмануть. Ганна, опустив голову, несколько секунд помолчала, а потом передала разговор, который у нее произошел с секретарем райкома партии. В Гродно Ганна много думала о том, что советские люди живут совсем не так, как жили поляки при старой власти. Ганну поражала обаятельная простота, честность, заботливость этих людей. Они не только не гордились своим положением и достатком, но и как будто не замечали всего этого. Никогда Ганна столько не читала, как за эти последние два месяца своей жизни в Гродно. У Рубцовых была хорошая библиотека, и книги помогли ей основательно познакомиться с жизнью Советской страны. Как-то она сказала Косте, что хотела бы стать учительницей иностранного языка. Кудеяров принес ей литературу по педагогике. При отъезде Рубцов написал записку Викторову, которого близко знал, и сказал Ганне, чтобы она с этой запиской поехала в райком партии. В большом светлом кабинете навстречу Ганне из-за стола поднялся человек в защитного цвета гимнастерке, в котором она не сразу узнала Викторова. Секретарь райкома был в очках, но тут же снял их, положил на стол. Он сейчас показался Ганне совсем молодым и выше ростом. Его серые живые глаза дружелюбно улыбались. — Здравствуйте, товарищ Седлецкая. Мы с вами немножко знакомы, сказал Викторов, напоминая о встрече на дороге. — Да, мы встречались… — чувствуя, как приливает кровь к щекам, ответила Ганна. — Простите, товарищ Викторов, — оправившись от волнения, продолжала она. — Моя фамилия Михновец. Ганна Михновец по мужу. — Виноват. Я этого не знал. Они постояли некоторое время молча. Пригласив Ганну присесть, Викторов сказал: — Ваше желание учить ребят приветствую. Люди нам нужны, очень нужны. Значит, вы замужем? Извините, это не праздный вопрос. Ваш муж работает где-нибудь? Михновец!… Что-то очень знакомая фамилия!… Михновец, повторил Сергей Иванович, постукивая пальцами по столу. — У меня нет мужа. Он погиб летом тридцать девятого года. Мы жили вместе только один год, а потом случилось несчастье… — медленно проговорила Ганна. — И как это случилось, вы можете рассказать? Но если вам тяжело вспоминать это, то не рассказывайте. — Сергей Иванович откинулся к спинке кресла. — Мой муж был лесничий и утонул в озере Шлямы, — тихо сказала Ганна. — Подождите, подождите… Утонул в Шлямах… Михновец! Викторов быстро встал и открыл сейф. В руках у него очутилась объемистая тетрадь. Перелистывая ее, он спросил: — А как звали вашего мужа? — Михась. Он белорус, — поднимая на Викторова удивленные глаза, ответила Ганна. — Совершенно верно. «Михновец Михаил Михайлович, рождения 1915 года, родился в селе Рабовичи Белостокской области, окончил лесотехническое училище и работал государственным лесничим, привлекался к ответственности за участие в студенческих беспорядках», — читал Викторов. — Откуда вам все это известно? — волнуясь, спросила Ганна. — Видите ли, когда я работал в пограничной комендатуре, то мне пришлось познакомиться с этим делом… — Что вы выяснили, Сергей Иванович? — Предчувствуя что-то недоброе, Ганна поднялась со стула. Она и раньше догадывалась, что Михась не мог случайно утонуть, он был сильным, выносливым человеком, отлично плавал. — Вы только не волнуйтесь. Садитесь и успокойтесь. — Викторов подошел к Ганне и, положив руку на плечо, усадил в кресло. — Прошу успокоиться. Я вам все расскажу, что мне известно о вашем муже. Но не припомните ли вы сами некоторые случаи из его жизни?… Может быть, он что-нибудь вам рассказывал? Какие у него были отношения с местным ксендзом Сукальским? — Он не любил католических священников и вообще не верил в бога. Он говорил, что в бога могут верить только невежественные люди, а ксендзов считал лгунами и лицемерами. Когда Сукальский приходил в наш дом, то мой муж сильно спорил с ним и резко высмеивал его, в особенности за его отношение к женщинам… Ксендз очень сердился на мужа и грозил выхлопотать ему папское проклятие. — А вы не припомните, что у него произошло с помещиком Гурским по поводу лесных делянок? — Помню эту историю. Долго рассказывать… — Ничего. Расскажите, — попросил Викторов. — Михась работал государственным лесничим, вы знаете это. Так вот рядом с его участком были леса пана Гурского. Когда не было еще на службе моего мужа, пан рубил лес, где ему хотелось, и никто этого не запрещал. Лесничим он давал взятки. Приехал Михась, поставил новых объездчиков и начал проводить новое межевание. Старое давно заросло, и от него не осталось почти никакого следа. Гурскому это не понравилось. Он вызвал к себе Михася и попробовал перетянуть его на свою сторону, предложил крупную взятку. Но муж был человек честный и горячий. Пану он наговорил дерзостей. С тех пор и пошли неприятности. Пан посылал своих холопов и производил хищнические порубки казенного леса. Михась ничего не мог поделать: у пана были вооруженные люди и много собак. Тогда Михась написал обо всем в Варшаву главному начальству. В Белостоке у него жил приятель — журналист Петр Ключинский. Так Михась написал и ему о всех панских безобразиях. А тот напечатал об этом в газетах. После этого приехала комиссия и все подтвердила. Гурского по суду оштрафовали на большую сумму и заставили заплатить государству. Потом стало все тихо. Мы поженились и жили очень хорошо целый год. Ссора с Гурским была забыта… — Напрасно вы думаете, что ссора была забыта. — Сергей Иванович вынул из тетради фотографию и, передав ее Ганне, спросил: — Вы знаете этого человека? — Да, знаю! — возбужденно проговорила Ганна. — Это Петр Ключинский! Вы какие-нибудь сведения о нем имеете? — Да, имею. Он в Минске на советской работе. Он-то и просил меня проверить это дело. Я выполнил его просьбу… А вот этого человека вы тоже знаете? — Викторов показал другую фотографию, где был снят человек в рваной одежде, с растрепанной густой копной волос и раскосыми глазами. — Это же глухонемой рыбак Мережко. Михась всегда очень жалел его, и они вместе утонули… Но рыбака не нашли, а Михась всплыл потом… — Нет, Ганна Алексеевна, нашли и этого, он не утонул, а жив… — Жив? Мережко? — с ужасом глядя на Викторова, прошептала Ганна. — Да, — подтвердил секретарь райкома. — Только он вовсе не глухонемой и не Мережко, а подкупленный помещиком и ксендзом Сукальским бандит… Мы не хотели вам этого говорить и растравлять вашу душевную рану… Но, мне кажется, следует рассказать об этом, чтобы вы лучше разбирались в людях. Это он убил вашего мужа. — Что вы говорите, Сергей Иванович! Что вы говорите! Этот Мережко часто приходил к нам, я ему всегда давала хлеба и вина. Как же это могло случиться, Сергей Иванович? — Это был ваш враг, а вы его не заметили! Успокойтесь. Ваш муж был честный и порядочный человек… — Вот что он мне рассказал! — подняв грустные глаза, сказала Ганна. Вы понимаете, Шура, как тяжело было слушать? Но я ушла из райкома какая-то, ну, как вам сказать… я на все стала смотреть как-то иначе. Ганна с минуту помолчала. Потом неожиданно спросила: — Шура, скажите, правда, что Сергея Ивановича жена оставила? — Он никогда не был женат. Жила здесь девушка, агроном, кажется, они должны были пожениться, но он заболел и уехал. И она уехала… Уж не влюбилась ли ты, Ганночка? — положив руки на ее плечи, спросила Шура. — Я не знаю, что тебе ответить, но признаюсь, что за таким человеком я всюду бы пошла. Это очень чистый человек и ясный, вот как это небо… Ганна взмахнула рукой и, глядя в синюю высоту, где не было ни единого облачка, добавила: — Он такой же, как и мой Михась, справедливый и гордый! Ганна и Шура тепло простились. Обо всем этом Шура рассказала Клавдии Федоровне. История эта взволновала Клавдию Федоровну до крайней степени. Они сидели на веранде и долго молчали. Потом Клавдия Федоровна пошла готовить обед. Шура взялась ей помогать, но у нее ничего не клеилось, все валилось из рук. Ей казалось, что очень медленно тянется время. Виктор Михайлович появился только перед самыми сумерками.ГЛАВА ШЕСТАЯ
Весь день Шура сердилась на Усова. Она приберегла для него много обидных слов, но при его появлении они исчезли, улетучились, как дым. С языка сорвалась самая обыкновенная фраза: — Ну как только тебе не стыдно! — Почему мне должно быть стыдно? — присаживаясь рядышком, спросил Усов. Он был в новой летней гимнастерке, чисто выбрит, надушен. Ей стало неприятно за свое помятое платье, за растрепанные волосы, в которых маленький Слава Шарипов, сидя у нее на коленях, навел «порядок» на свой детский вкус. — Прислал записку, пригласил, а сам исчез на весь день! — Дела, голубушка моя, дела… — Зачем же тогда приглашал? — Извини, конечно, но я не знал, что так получится. А ты уже домой собралась? Нам поговорить необходимо… — Да, мне надо скоро уходить. Уже поздно… Усов, ничего не ответив, взял ее за руки, ласково посмотрел в глаза и провел рукой по ее горячей щеке. Они сидели на квартире Усова, куда Шура пришла впервые. Видя просительную улыбку на лице Виктора, Шура почувствовала, что дальше не может на него сердиться. Она была утомлена ожиданием, взволнована рассказом Ганны, и ей хотелось сейчас только покоя, счастливого покоя с дорогим ей человеком. — Мне надо уходить, — снова напомнила она тихо. Но уходить ей вовсе не хотелось. Если бы Усов сказал, что ей надо поскорее уйти, то она, пожалуй, расплакалась бы от обиды. Он снова промолчал и продолжал смотреть на нее упорно, с пытливой ласковостью в глазах. — Уже темно. Ты меня проводишь? — спросила Шура. Он подавлял ее своим упорным молчанием, как и всем своим поведением. Ничего никогда не требовал, ни на чем не настаивал, говорил, казалось, полушутя-полусерьезно. Впервые как-то поцеловал ее при прощании, уезжая на границу. Поцеловал дружески, искренне и просто. Она не обиделась, не запротестовала, а всю ночь не спала и все думала о нем, где он и что делает в эту темную дождливую ночь. Это были счастливые думы, ожидание чего-то хорошего. Наступила ночь. С запада стала подниматься туча, и белые оконные занавески застлала мутная темнота. Полусвет июньской белой ночи падал на новые голубые обои, и Шура видела блестящую никелем кровать, высокую спинку дивана, стулья, большой письменный стол, на котором лежали бумаги и книги. Раньше этих вещей в комнате не было: стояла обыкновенная солдатская койка с соломенным матрацем, а вместо дивана какая-то рыжая тумбочка. — Почему ты, Витя, молчишь? — тихо спросила Шура, боясь пошевелиться. — Мне же уходить надо… Вот ведь ты какой… Но вместо того чтобы встать, она прижалась к нему плечом и почувствовала, что раньше стоявшая между ними какая-то невидимая стенка исчезла. — Никуда тебе не нужно уходить, — проговорил он медленно, но с твердой властностью в голосе и встал со стула. Не выпуская ее руки, он продолжал: — Мне, Саша, сейчас надо уже уходить, а ты оставайся. Первый раз за все время он назвал ее Сашей. — Зачем тебе уходить? — огорченно спросила Александра Григорьевна. — Мне необходимо быть на границе. Сегодня вечером над нашей территорией летал чужой самолет. Слово, «чужой» Усов подчеркнул жестко, как бы придавая ему особое значение. — Как чужой? — спросила она. — Обыкновенно… чужой, — значит, не наш… В данном случае германский, с фашистской свастикой. Летал, должно быть, фотографировал… — Он же не имеет права! Что же это значит? — растерянно прошептала Александра Григорьевна. — Ясно, что не имеет права. Но это же фашисты! А они, как известно, с правами и законами не считаются… Усов прошелся из угла в угол. Остановившись перед Шурой, он вдруг резко выпрямился и, подняв голову, громко проговорил: — Понимаешь, на крыльях желтые кресты и змеиная свастика на хвосте! У меня зарябило в глазах! Казалось, что там переплелись две желтые кобры, высунули кончики жала и готовятся ужалить. Стрелять хотелось! Пришить бы их, как, бывало, в поле я железными вилами пришивал к земле гадюку! А мы стояли с Шариповым и молчали. Пограничники то на самолет, то на нас с удивлением смотрели. А стрелять было нельзя, к провокациям надо с выдержкой относиться… — Ты подумай, какая наглость! — хрустнув пальцами, сказала Александра Григорьевна. — Вот именно, наглость, — горячо согласился с ней Усов. — Уходить тебе уже поздно. Здесь располагайся. Отдыхай, не думай ни о чем дурном… — Ты уже собираешься? — Да. Утром вернусь. — Значит, ты… на всю ночь? — Ночь теперь короткая… Усов нагнулся к ней, взял осторожно за голову, несколько раз поцеловал и быстро пошел к порогу. Рано утром в комнату ворвался первый солнечный луч и пощекотал девушке разрумяненное сном лицо. Она открыла глаза. Скомканное одеяло валялось в ногах. Шура потянула его на себя, но, повернув голову, неожиданно увидела склоненную над столом фигуру Усова. Он что-то быстро писал, останавливался, потирал щеку и снова продолжал писать. Взглянув на свои обнаженные ноги, Шура почувствовала, как вспыхнуло ее лицо, и зажмурила глаза. Закутавшись с головой, она прислушивалась к трепету своего сердца, к скрипу пера, к шелесту бумаги. Потом услышала, как Усов зашуршал спичками, закурил и осторожно, видимо, боясь разбудить ее, встал и открыл окно. Она представила себе, как хлынул сейчас в комнату свежий воздух, и ей вдруг стало душно под одеялом и радостно, что она находится здесь, в этой комнате. Чуть приподняв одеяло, она глубоко вдохнула прохладный утренний воздух и протяжно, словно издалека, спросила: — Давно вернулся? — Доброе утро! Пришел полчаса тому назад. Ты спишь, милая, как русалка… Укрыл тебя, но ты брыкаешься, будто котенок лапками. Одеяло моментально очутилось опять в ногах.
— Ужас какой! — с неподдельным испугом воскликнула Шура, снова закрылась с головой и отвернулась к стенке.
— Ничего ужасного, — сказал Усов и, подойдя к кровати, присел с краешка.
Оба долго молчали. Усов заговорил первым:
— Да, красавица моя. Видимо, придется сейчас ехать к Ивану Магницкому и как полагается по закону…
Усов говорил оживленно и весело.
— Ну, хватит, миленький! Устроил мне западню, а теперь насмехаешься.
— Нет, Сашенька, все, что я сказал, сказано серьезно, — улыбнулся Виктор Михайлович. — За эту ночь я многое продумал…
— Доброе утро! Пришел полчаса тому назад. Ты спишь, милая, как русалка… Укрыл тебя, но ты брыкаешься, будто котенок лапками. Одеяло моментально очутилось опять в ногах.
— Ужас какой! — с неподдельным испугом воскликнула Шура, снова закрылась с головой и отвернулась к стенке.
— Ничего ужасного, — сказал Усов и, подойдя к кровати, присел с краешка.
Оба долго молчали. Усов заговорил первым:
— Да, красавица моя. Видимо, придется сейчас ехать к Ивану Магницкому и как полагается по закону…
Усов говорил оживленно и весело.
— Ну, хватит, миленький! Устроил мне западню, а теперь насмехаешься.
— Нет, Сашенька, все, что я сказал, сказано серьезно, — улыбнулся Виктор Михайлович. — За эту ночь я многое продумал…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Прошли еще сутки, и в шесть часов утра большой, рыжей масти конь с белыми по колени ногами, запряженный в легкую бричку, подвез Усова к школе и остановился. Лейтенант не спеша слез с сиденья, поправил разостланный на свежем сене ковер и, подойдя к задернутому белой занавеской окну, осторожно постучал. Через минуту в окне показалась голова Александры Григорьевны: — Здравствуй, миленький! Ведь только недавно пропели первые петухи, а ты уже здесь! Куда мы поедем в такую рань? — С утра воздух чистый, настроение великолепное, а днем начнется духота, пыль, жарища, — с улыбкой посматривая на Шуру, проговорил Усов и быстро и легко побежал к двери. Когда Виктор Михайлович вбежал в комнату, Шура запротестовала: — Но я же ничего не собрала. Ну чего ты так торопишься? — Ежели будешь долго собираться, я могу раздумать. Сама знаешь, какой я человек! — Усов подхватил Шуру на руки и начал кружиться с ней по комнате. — Все-таки собраться-то нужно, — говорила она, смеясь, и голос ее прерывался. — Для того чтобы собрать твое имущество, много времени не потребуется. Надевай побыстрей свои туфли и поедем. Нет, давай я сам тебе надену. Несмотря на протесты Шуры, Усов опустился на колени и стал надевать на нее туфли. — Чулки, чулки нужно!… — раскрасневшись, крикнула Шура. — Подожди! — Сойдет и так, не у попа будем венчаться. Быстрей, милая, быстрей! Галина вон босиком к жениху пришла, и все получилось чудесно! — Галиной никто не командовал и не торопил. Я еще не стала твоей женой, а ты уже командуешь, пикнуть не даешь! — Мне командовать отродясь положено. Но сейчас я не командую, я ухаживаю… — Кто же невесту босоножкой в загс возит? Там же люди будут!… — Добрые люди на это не обратят никакого внимания… Так они, подшучивая друг над другом, собрали вещи, уложили в бричку. Рыжий конь, почувствовав вожжи, тронул с места бодрым шагом, потом перешел на легкую, плавную рысь, и они покатили в Вулько-Гусарское. Председатель Совета Иван Магницкий выдал им брачное свидетельство и поздравил с законным браком. Утренний воздух свеж и звучен, перемешан с запахом полевых цветов и близкого леса, бросающего на край выколосившейся ржи длинные прозрачные тени. Гулко стучат на железных осях окованные колеса. Белоногий конь хорошо помнит дорогу на заставу, идет он свободным и ровным шагом. Александра Григорьевна смотрит на Усова сбоку и как бы впервые видит его лицо: нос с какой-то неуловимой хитрой горбинкой, гладко выбритую загорелую щеку. Она по привычке покусывает травинку, в ее синеватых глазах застыла печальная улыбка. «О чем он сейчас думает? Знает ли, что у нее грустно на душе, хочется прислонить голову к его плечу и немножко поплакать?…» Она даже сама не знала и не смогла бы ответить, почему у нее такое настроение. Может быть, потому, что она теперь часто будет не спать по ночам и с беспокойством ждать его возвращения с границы? Но она и до этого думала о нем каждый час, мучилась оттого, что иногда подолгу не могла его видеть, и, обеспокоенная, сама бежала на заставу. Шура не выдержала, просунула руку под его локоть и спросила, о чем он думает, почему молчит. — Мне немножко стыдно, Сашенька. Я думал, что ты меня мало любишь, и вел себя как самый последний эгоист! — Опять Памир? Плохо ты думал. Теперь я с тобой и на луну полечу, глубоко вздохнув, серьезно проговорила Александра Григорьевна. — Это правда, Шура? — резко повернувшись к ней, спросил Усов. — Не надо и спрашивать, милый! А решила я это не сегодня. — А в воскресенье я пригласил тебя и целый день мучил. Но поверь, я не мог быть дома… Он так искренне и просто говорил, смотрел на нее такими виноватыми глазами, что Шура не могла на него сердиться и тем более упрекать. Словно утренним прохладным ветерком сдунуло с Шуры печальное настроение, и она, не удержавшись, рассмеялась, обняла его за шею. Он выпустил вожжи, которые тотчас же стали сползать и закручиваться на колесо. Рыжий конь остановился и с недоумением оглянулся назад… До заставы оставалось метров триста. Усов внезапно забеспокоился и стал внимательно смотреть вперед. Через минуту на краю межи, около ржаного поля, показался сержант Бражников. Он неторопливо шел им навстречу. Усов натянул вожжи, остановил лошадь и выпрыгнул из брички. Подойдя к Бражникову, о чем-то с ним переговорил и, вернувшись обратно, сказал: — Ты меня прости, Сашенька! Дальше поедешь с сержантом. Он великолепно довезет! — А ты куда? — обеспокоенно спросила Шура. — Да понимаешь, мне надо отлучиться… Я сию же минуту буду дома. А ты там располагайся. — Ничего не понимаю! — разводя руками, сказала Шура и по выражению его глаз видела, что все это делается преднамеренно, что не случайно оказался здесь сержант Бражников. Отвернувшись, она решительно добавила: Без тебя никуда не поеду. Что это такое, на самом деле! — Она в эту минуту ревновала его даже к сержанту Бражникову. — Мне неудобно, Сашенька, понимаешь? — искренне признался Усов. Вдруг начальник заставы с невестой вкатывает во двор… Я лучше с другой стороны зайду! Лицо у него в это время было одновременно и озорное и грустное. Шура поняла, что этот смелый, дерзкий человек сейчас стыдится собственного счастья. Ей и самой было как-то неловко, но, расхрабрившись, она быстро проговорила: — Ну хорошо же! Я сама буду править лошадью, а сержанта посажу вместо жениха. Вкачу во двор и все равно всем объявлю и всех на свадьбу приглашу! — Я тогда до вечера глаз не покажу! — Можешь! Мы и без тебя будем пировать! Шура, пугнув лошадь и грозно сверкнув глазами, поехала дальше. Бражников на ходу прыгнул в бричку. Усов широко улыбнулся и долго еще стоял на дороге.ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Вернувшись из ночных нарядов, пограничники отдыхали, и никто, кроме дежурного, не видел, как Шура въехала во двор заставы. Устраивать свадебную пирушку Усов категорически отказался и отделался обыкновенным скромным чаем. Это дало Клавдии Федоровне повод не раз укорять начальника заставы, что он «зажилил свадьбу», нарушил обычай. Но в конце концов Клавдия Федоровна все-таки настояла на своем. В июне в Вулько-Гусарское приехала Галина, которая окончательно примирилась со своей матерью. После того как Олесь и Ганна побывали у Галины в Гродно и рассказали о том, как она живет, Стася не вытерпела и сама съездила к дочери. Как состоялась их встреча, она никому не рассказывала, но по всему было заметно, что Стася осталась довольна поездкой и успокоилась. Узнав, что Александра Григорьевна вышла замуж, Галина вместе с Франчишкой Игнатьевной на другой же день после своего приезда в село пошла на заставу. В эти дни Усов наметил провести занятие по снайперской стрельбе. В субботу, выбрав время, он отдельно занимался с утра с сержантом Бражниковым. Сибирский охотник Максим Бражников стрелял исключительно метко, но недостаточно хорошо освоил оптический прибор. Лежа рядом с начальником заставы на стрельбище, он говорил: — Смущает меня, товарищ лейтенант, это стеклышко — и шабаш! Глаз почему-то режет, и сомнение берет. — Не привык, потому и сомневаешься. Больше тренироваться надо… — Да и без него я не хуже попаду. — Ты что, и бойцам так говоришь? — выразительно посмотрев на сержанта, спросил Усов. — Нет, нет, товарищ лейтенант! Я просто говорю, что не освоил прицела. Поэтому и попросил отдельно позаниматься со мной… А вот давайте — вы будете стрелять с прибором, а я без. Посмотрим, кто больше наберет очков. Ежели я стрельну хуже вас, то дни и ночи буду тренироваться. Усов подумал и согласился. Стрелял он из снайперской винтовки отлично. После трех выстрелов побежали проверять мишени. Оказалось, что у Усова попадания в центр и почти в одно место. Бражников разбросал пули по всей мишени. Это сильно огорчило сержанта. — Откровенно говоря, товарищ лейтенант, не верил я, что вы так метко стрельнете с этим прибором, — признался Бражников. — Почему же? — улыбнулся Усов, Ему нравилась вдумчивость этого могучего спокойного парня, приятна была и его похвала. — Мы, товарищ лейтенант, охотники, народ гордый, но справедливый. Хороших стрелков уважаем. Я теперь эту механику ни за что не оставлю. Освою, будьте спокойны. У меня первоначально, когда я пришел в армию, такая думка была… что самая точная механика — верный глаз. Они поднялись и, отряхнувшись, пошли на заставу. По дороге Бражников продолжал высказывать свои мысли: — Я думал, ну, кто может лучше меня или моей сестры Дуняши стрелять? Мы иптицу на лету бьем и белку в глаз. — Сестра, значит, тоже отлично стреляет? — переспросил Усов. — Еще бы! Сызмальства к этому делу приучена. Мне иногда перед ней краснеть приходилось, как, примерно, сегодня перед вами… Вот станковый пулемет, товарищ лейтенант, — неожиданно перевел разговор Бражников на прежнюю тему, — это умная машина. Бывало, лежим на Халхин-Голе, укрытие хорошее. Как сыпанешь по самураям, на душе светло делается! С такой машинкой можно и наступать и обороняться… А этот приборчик я отработаю! Освою! …Услышав стрельбу, Слава Шарипов выскользнул из комнаты и решил отправиться к дяде Вите, раздобыть патронную гильзу, но его догнала Оля и, схватив за руку, потащила обратно. Слава стал упираться, идти домой ему не хотелось. — Когда тебя зовут, почему ты не откликаешься, а все убегаешь и убегаешь? — А я не хочу с тобой говорить! Мне дядя Витя, когда будет возвращаться со стрельбища, патрончиков даст, я стрелять буду! — Ты еще маленький, чтобы стрелять… Идем, тебе говорят! — Я тебя не хочу слушать, ты девчонка! Оля была старше Славы на семь лет, но он далеко не всегда подчинялся ей. — А кто тебя спать укладывает? — упрекающе спросила Оля. — Мама. А гильзы я тебе приносил? — Приносил. Но все равно ты нехороший мальчик! — Нет, я хороший! — Кто сказал, что ты хороший? — Папа сказал, ты сама нехорошая, и тебя кошка исцарапала… У открытого окна стояла Клавдия Федоровна и слушала весь этот разговор. На лице ее теплилась счастливая улыбка. Она была беременна и, ожидая четвертого ребенка, была особенно нежна и ласкова с Олей и Славой. Старший ее сын находился у бабушки. Клавдия Федоровна с грустью думала, что новый ребенок отнимет на первое время у Славы и Оли почти все материнское внимание. — Саша, поди-ка сюда, — позвала она мужа. — Послушай, как они разговаривают. Ты только послушай! Шарипов подошел и, обняв ее за плечи, встал рядом. Слава и Оля продолжали свой спор. — Он говорит: «Тебя кошка исцарапала, а папа сказал про меня, что я хороший мальчик». Милые вы мои! Когда только вы успели подрасти? — Я тоже часто об этом думаю и удивляюсь. Как будто мы совсем недавно на Дальнем Востоке отпаивали Олю козьим молоком. И Славке уже скоро три года! — Помолчав, Шарипов спросил: — Как ты себя чувствуешь? — Все, кажется, хорошо… — По-моему, тебе нужно на этих днях поехать в Гродно. Звонил Зиновий Владимирович. Мария Семеновна ждет тебя. Рядом с ними открыли замечательный родильный дом… — Как же вы тут без меня будете жить? — спросила Клавдия Федоровна. — Проживем! Теперь Александра Григорьевна здесь, — ответил Шарипов. — Я подумаю… Кстати, приехала Галина. Мы, может быть, вместе и уедем. Сегодня Александра Григорьевна созывает гостей, придет и Галина. Будем справлять сразу две свадьбы! А то получилось как-то ни то ни се. — Ну что ж, справим две свадьбы… В дверь постучали. На пороге показался Сорока. В руках у него на таловом кукане висело полдесятка толстых, как поросята, линей. Они еще были живые. Двулапчатый хвост последнего, шириной в добрую ладонь, шлепал по полу. — Коллективный вам подарочек, Клавдия Федоровна! Куда можно положить? Лини, товарищ политрук, отменные! Клавдия Федоровна поблагодарила и, приняв рыбу, спросила: — Какой же праздник сегодня? Я что-то не припомню. — Завтра праздник. Соревнование по волейболу с первой заставой. Надо товарищей угостить на славу… Тренироваться будем, товарищ политрук? А то первая хвастается обыграть! — После обеда обязательно начнем тренировку. Рыбы много поймали? — Порядочно, килограммов тридцать, — ответил Сорока. — А насчет волейбола будьте спокойны, не подкачаем. Когда Сорока ушел, Клавдия Федоровна задумчиво проговорила: — Замечательные у нас на заставе солдаты! Мне думается, что лучше их и людей на свете нет. Или я так привыкла к ним? — Что и говорить, народ хороший. Смотри, Сорока-то как выправился, не узнать. — Вот и я говорю, — как-то рассеянно отозвалась Клавдия Федоровна и, поправляя на окне занавеску, тихо добавила: — Знаешь, Александр, я давно хотела спросить тебя, да все не решалась… — Давно бы и спросила, не откладывала. Ты, я вижу, чем-то встревожена? — сказал он, беспокойно поглядывая на жену. — Последнее время я плохо сплю. Ты сам понимаешь, думаю. Слышу, как каждую ночь на той стороне гудят моторы, много моторов. Такой гул, что земля начинает вздрагивать. Сначала думала, что это мне снится… Иногда слышу человеческие крики, неприятные голоса… И речь непривычная. Если тебя нет, жутко становится, Олю иногда разбудить хочется. От коменданта ты ничего не слышал, ничего тебе не известно? — Мне ничего не известно, — покусывая губы, негромко проговорил Шарипов и, достав портсигар, торопливо закурил, но, взглянув на усталое лицо жены, погасил папиросу. — А моторы гудят — это армия маневры проводит… Обычное явление, сказал он неопределенно. — Нет, это не обычное явление. Я не первый день живу на границе. Какая против нас стоит армия? Германская! Ты мне не толкуй! Я знаю, кто наши друзья, кто враги! — Допустим, что так. Зачем же себя расстраивать? — Удивительно, как ты можешь спокойно говорить! Неужели Красная Армия стала бы маневрировать с танками у самых пограничных столбов! Это была бы какая-то демонстрация, вызов! — Ну, положим, фашисты давно уже воюют и все время демонстрируют свою технику. Пугают слабонервных людей. Но мы-то не слабонервные… А в данном случае ты просто преувеличиваешь. — Но какое право имеют фашисты маневрировать у нашей границы? Не то говоришь, не то, — быстро замахала руками Клавдия Федоровна. — Сегодня опять всю ночь тарахтели… — Ну и пусть тарахтят! Тебе нельзя волноваться. Ты сейчас находишься в таком положении, вот тебе и чудятся разные страхи… — Мне не двадцать лет, четвертого ребенка жду. Не о себе я тревожусь, пойми, вот о них! — Клавдия Федоровна показала рукой на помирившихся и беззаботно игравших детей. — Все я понимаю, Клава, и знаю, что тебе нужен покой, большой и заслуженный покой. Сколько мы уже с тобой пережили, переезжая с места на место! Тебе нелегко переносить в таком положении это соседство с фашистами. Думал отправить вас на Днепропетровщину, к бабушке, но сейчас уже поздно. Да ты, я знаю, и сама бы не поехала. Вот скоро получим отпуск и махнем вместе с нашим выводком. В Днепре покупаемся, рыбу половим. Ну, а что соседи озорничают, так у нас с тобой и на Дальнем Востоке и в Средней Азии спокойных соседей не было. — И правда! Напустила я, видимо, на себя лишние страхи… Однако Шарипов и Усов отлично понимали, что фашисты, захватив Польшу и приблизившись к границам Советского Союза, затевают что-то серьезное. Их провокации с каждым днем становились все очевидней. Из отряда был получен приказ быть в постоянной боевой готовности. Сегодня была суббота. Все на заставе было обычным, будничным. Клавдия Федоровна видела, как со смехом выскочила из своей комнаты Шура, за ней с кружкой в руках — Усов. Он догнал ее и облил водой. Потом они стояли друг против друга, молодые, радостные, сильные, и смеялись. Шура, изловчившись, схватила с головы мужа фуражку и начала ерошить его светлые вьющиеся волосы. Усов вдруг резко выпрямился, быстро одернул гимнастерку, пригладил волосы и наклонился к жене: — Шалунья, смирно! Отдай фуражку! Он выразительно показал глазами на ворота. Там часовой пропускал мимо себя наряд пограничников, вернувшихся с охраны границы. Пограничники остановились около фанерной дощечки, где было написано «Разряжай», с другой стороны от выхода из казармы висела вторая дощечка с надписью «Заряжай». Солдаты, щелкнув затворами, вынули из магазинов патроны. Кладя обойму в подсумок, Юдичев сказал: — В свастику бы их разрядить, чтобы не нахальничали. — Не положено, — мрачно ответил Башарин и, поглядывая на кончик патрона, сам подумал именно о том же. — Это известно, что не положено, — вздохнув, продолжал Юдичев. — Но палец у меня все время шевелился на спусковом крючке. — Может, и шевелился, а раз не положено, значит, точка! Проверив оружие, дежурный разрешил пограничникам идти. Надев фуражку, начальник заставы пошел в канцелярию. Там он принял доклад старшего наряда. Сурово и гордо звучали торжественные слова: — Пограничный наряд в составе младшего сержанта Башарина и рядового Юдичева прибыл с охраны границы Союза Советских Социалистических Республик!… За время несения службы нарушения государственной границы не обнаружено. Докладывает старший наряда младший сержант Башарин. — Что замечено на сопредельной стороне? — спросил Усов. — Замечена группа офицеров в шлемах. Офицеры рассматривали в бинокль нашу высоту 194. — Сколько было офицеров? — Трое. — Форма? — Темно-серые френчи, на рукавах свастики, фуражки с высокими тульями, погоны белые, звание не установлено, — доложил Башарин. — Вы себя не обнаруживали? — Никак нет. — Все замеченное записали? — Так точно! — Хорошо. Идите отдыхать. Приняв рапорт, Усов задумался. Фашисты вели себя нагло. Они ежедневно торчали с биноклями у самой границы, делали это почти открыто. Усов долго сидел молча, потом встал из-за стола и прошел в конюшню осмотреть лошадей. Выходя из конюшни, он встретил во дворе старшину Салахова и вместе с ним зашел на кухню. — Вот что, товарищи, — сказал Усов старшине и поварам, — завтра надо приготовить обед, да не простой, а дипломатический! — Есть приготовить дипломатический обед! — весело ответил молодой повар Чубаров. Приготовить дипломатический обед означало изобрести что-нибудь особенное. — По какому случаю такой обед, товарищ лейтенант? — спросил старшина, прикидывая в уме, что он может предложить. — Завтра наши физкультурники будут состязаться по волейболу с первой заставой. Вот и приготовьте людям отменный обед. — А если они проиграют? — спросил Чубаров. — Угощать будем не только победителей. Всех! Ну, что вы можете предложить, товарищ старшина? — Можно азу по-татарски, — сказал старшина. — От твоего азу зачешется в каждом глазу… перцу и луку ты не пожалеешь, — поглядывая на черноватого, с узкими лукавыми глазами старшину, рассмеялся Усов. Старшина с поваром перечислили целый ряд известных им кушаний, но начальник заставы все отверг. — Есть свежая рыба. Можно поджарить в сухарях, — предложил наконец Чубаров. — Вот удивил! Не видали они твоей жареной рыбы! А если ты ее пережаришь да еще пересолишь, как в прошлый раз? Чубаров смущенно покраснел и даже снял поварской белый колпак. Грех такой однажды случился с ним. — Пирог можешь испечь со свежей рыбой? — спросил Усов. — Пирог с рыбой? Не приходилось готовить такого блюда, товарищ лейтенант. — Не приходилось готовить? — удивился Усов. — Так слушай… Поставишь на дрожжах тесто, обыкновенное, как для выпечки хлеба, только из белой муки. Предварительно отваришь пшено. Когда будешь отваривать, воду слей, чтобы каша получилась крутая. Потом эту кашу поджаришь на постном масле с луком. Когда тесто подойдет, раскатаешь его на четыре угла, понимаешь, чтобы можно было загнуть и слепить из теста конверт. Нальешь в противень масла, положишь эту приготовленную для конверта лепешку — аккуратно, смотри не порви, — ровным слоем наложишь каши, а сверху на нее рядками рыбу и репчатый лук. Все это упакуешь в конверт — и в духовку. Как только тесто подрумянится и подсохнет, значит, и рыба готова. Тащи из духовки и накрой полотенцем. Мягкий получится пирог и пышный. Это кулебяка по-сибирски. Расспроси Бражникова, он тебя научит. Понимаешь? — Все ясно! — улыбаясь, сказал Чубаров, с удивлением думая, откуда начальник заставы знает такие кулинарные премудрости. — Действуй, да смотри не испорти, не пересоли!… Возвращаясь к себе. Усов увидел у крыльца офицерского дома группу громко разговаривающих людей. Шура стояла, обнявшись с какой-то высокой в зеленом платье женщиной. Рядом стояла Клавдия Федоровна. Она разговаривала с Франчишкой Игнатьевной. Справа от дома, около низенькой бани, на бревне сидели: политрук Шарипов, секретарь райкома партии Сергей Иванович Викторов и Иван Магницкий. Когда Усов подошел ближе, женщина в зеленом платье, видимо, предупрежденная Александрой Григорьевной, бойко повернулась к нему лицом и легкими быстрыми шагами пошла навстречу. Что-то очень знакомое мелькнуло в улыбающихся глазах этой высокой темноволосой красавицы. — Здравствуйте, Виктор Михайлович, — крикнула она, подбегая к смутившемуся Усову. — Здравствуй, Галина. Вот ты какая стала! — пожимая и встряхивая ее руку, отозвался Усов. Галина так изменилась, что узнать в ней прежнюю босоногую девушку было почти невозможно. Она возмужала, выросла, похорошела. Движения ее стали медлительными и плавными. Без тени кокетства, неторопливо она поправила растрепавшиеся волосы. Шелковое с широкими складками платье не могло скрыть беременности. Она знала это и прятала глаза, блестевшие острой радостью. — Какая же я стала, Виктор Михайлович? — спросила она своим чистым певучим голосом, не отнимая от волос сильной загорелой руки. — Об этом не надо спрашивать у мужчин. Сама должна догадываться, вместо Усова ответила Франчишка Игнатьевна, раскачивая в руках металлический бидончик, в котором она всегда приносила на заставу молоко. — Я своего Осипа никогда не расспрашивала, чи я красивая, чи як пугало с огорода. Вот он другой раз рассердится, когда я его допеку, назовет меня драной козой… А я ему отвечаю: смотрел, когда женился, вот и живи! Все рассмеялись. — Да вы, тетя Франчишка, наверное, в молодости красавицей были! заметила Клавдия Федоровна. — Может, и была… — задумчиво проговорила Франчишка Игнатьевна. — Я помню, шел мне тогда восемнадцатый год, а я уже у пана Гурского десять коров доила, да три раза в день. Вечером суставчики на пальцах не разгибаются, руки ломит, а в остальное время надо в саду копаться, полоть да поливать. Как-то увидел меня молодой пан и говорит: «Чья такая?» А мы с Осипом в тот год поженились, и мой молодой муженек вскоре в Восточную Пруссию в батраки уехал. Пан узнал об этом и приказал, чтобы я ему вечером принесла парного молочка. Я, конечно, ничего не думаю, несу. А он сидит на балконе и собакой забавляется. Я ему кружку подаю, а он меня берет за подбородок и спрашивает: «Скучно без мужа-то, востроносенькая?» Вижу, дела не туда поворачиваются, от подбородка дальше полез… Я взяла и парное молоко из кружки прямо ему в морду и выплеснула. На другой день все мои шматочки через забор вышвырнули. Осенью вернулся мой Осип из Пруссии. Я его спрашиваю: «Ну як, много заробил монетов?» — «Накопил, — говорит, две кубышки да слопали их баронские мышки. Барон сам жженые спички собирает, а нас вместо коней запрягает». — «Прибаутки, — говорю, — я потом послухаю, ты мне дело отвечай: что привез?» — «Отсчитал, — говорит, барон десять марок да пять колотушек в подарок: иди, говорит, поляк усатый, а вернешься, на порог не пущу да еще кобелей спущу… Барон все за харчи подсчитал, да за обувку, кажется, я ему еще трохи должен остался. Вот какие мои заработки!… Ну, а ты как?» — спрашивает он меня. Я тоже на прибаутки мастерица, отвечаю ему: «Оказал пан мне ласку, а я у него на носу зробила закваску. Потом жить мне стало весело, и юбки мои на кол сушить повесила. Расчет получила не лучше твоего». — «Ежели, — говорит, пан что-нибудь с тобой худое сделал, так я у него хлеб могу спалить да и усадьбу не пожалею. В России, — говорит, — жгли панов!…» Вот он. Осип-то мой, какой! Не гляди, что маленький да коротенький! — Ну, а как ребенок-то? — спросила Шура. — Ребеночек-то, Франтишка Игнатьевна, родился? — Конечно, родился. Как же иначе? Пожил, пожил, да и умер. Мы тогда с Осипом лес корчевали. Трудная была жизнь… Ну, что вспоминать! Все прошло и быльем заросло. Вот вам этого не пережить, у вас мужья-то — соколы! Мой Осип тоже был сокол, да тогда взлететь ему было некуда… Я вот смотрю на ваших соколов да на этих воробушков, — Франчишка Игнатьевна потрепала Славу по голове, — сердце радуется, что я их молочком да сливками поить могу, хай растут, хай и моя тут будет малюсенька доля. А когда у тебя, Шура, детишки будут и у Гали, я им тоже принесу холодненького молочка по бидончику. — Франчишка Игнатьевна, моргнув Клавдии Федоровне, добавила: Но только скажу вам, дорогие мои, замуж вы успели выпорхнуть, а свадьбы я что-то ни одной не видела, кружку бражки иль доброй настойки не попробовала. Нехорошо, голубушки мои, нехорошо! Франчишка Игнатьевна постучала костяшками пальцев о молочный бидон и укоризненно покачала головой. — Правильно, Франчишка Игнатьевна! Я им все время говорю, что так нельзя поступать, — подхватила Клавдия Федоровна. — Вот видишь! — Шура дернула за рукав Усова и, повернув голову к старушке, весело сказала: — Сегодня свадьбу справляем, обязательно приходите! — Мой Костя придет, сразу будет две свадьбы! Костя давно к вам, Франчишка Игнатьевна, в гости собирается, — добавила Галина. — Ну что ж, свадьба так свадьба! — тряхнув головой, согласился Усов. Клавдия Федоровна пригласила женщин в комнаты. Усов остался с присевшими на бревна мужчинами. С Викторовым он познакомился несколько месяцев назад, но много слышал о нем от Шарипова, с которым они вместе служили на Дальнем Востоке. Викторов по-прежнему часто бывал на заставах, интересовался жизнью солдат. Многих коммунистов и комсомольцев заставы райком партии привлекал для агитационной и пропагандистской работы в селах. — Михальский опять вернулся в Гусарское, — пристально взглянув на Усова, сказал Магницкий. Лицо у него было угрюмое и встревоженное. — Значит, отпустили? — спросил Усов, не успевший собраться с мыслями: новость была неожиданной. — Отпустили совсем. Документы я проверял. Председатель сельсовета расправил усы и недовольно кашлянул, видя, что Усов насторожился. — Когда он вернулся? — спросил Усов. — Вчера вечером. Напился пьяный, пришел ко мне и начал приставать. «Ты, — говорит, — написал на меня донос и штраф заставил уплатить за порубку леса». Я ему сказал, что если он будет снова безобразничать, то свяжу его веревкой и отвезу в район. — Ну, а он что? — спросил Усов. — Сразу притих, и, как обычно, в комедиантство пустился. «Ты, говорит, — Иван, теперь ученый человек, курсы прошел, знаешь, как управлять нами. Скажи мне: могу ли я, Юзеф Михальский, быть полезным Советской власти?» — «Нет, — говорю, — с такими мыслями, как у тебя, ты для Советской власти не годишься. Тебе, — говорю, — наверное, больше фашисты нравятся». Так ему и сказал. А он так нагло отвечает: «А я люблю сильную власть. Скажи мне: кто сильней все-таки — большевики или фашисты?» Я ему говорю, что когда в тридцать третьем году фашисты брали власть, я в Восточной Пруссии в батраках жил и видел, как они друг другу горло перегрызали из-за того, кому на какой должности быть. Так вот какой зверюга этот Михальский! Мне хотелось взять его за шиворот и так тряхнуть, чтобы душа выскочила! — На кулаки тут, товарищ Магницкий, не возьмешь. Надо так работать, чтобы его сам народ тряхнул. Надо покрепче сколачивать сельский актив, который помогал бы тебе и мог бы дать отпор таким, как Михальский, спокойно проговорил Викторов, думая о том, насколько еще слаб сельский актив и как мало подготовлен он политически. Колхоза в селе не было. Большинство крестьян почти все время работали на отхожих промыслах и домой возвращались только по праздникам. Массовая работа среди населения западных районов Белоруссии еще только развертывалась. Ощущалась нужда в хорошо подготовленных партийных и советских кадрах. Шла ожесточенная борьба с тайными шпионами Ватикана. Укрывшись за железными дверями костелов, они нелегально распространяли антисоветскую литературу, проповедовали скорое падение Советской власти, обещая населению «манну небесную», готовили фашистско-националистические вылазки. Обстановка была сложная и напряженная. Некоторые обманутые обыватели слепо верили проповедникам Ватикана. — На мой взгляд, товарищи пограничники, — сказал Викторов Усову и Шарипову, — вам надо не только охранять советские границы, но и еще больше помогать местным органам. Вот мы открыли клуб, избу-читальню. А ведь ни белорусское, ни польское население этих районов ничего подобного никогда не знало. Вот и нужно помочь организовать работу и клуба и избы-читальни. — Мы, Сергей Иванович, видим свою силу в крепкой дружбе с местными жителями, с народом, — вглядываясь в серые улыбающиеся глаза Викторова, отозвался Усов. Шарипов предложил Викторову остаться обедать, обещая угостить жареными линями. — Вот соблазн, а! — покачивая головой, сказал Сергей Иванович. — Но не могу остаться, друзья. Люди меня ждут в соседнем селе… Попрощавшись, Сергей Иванович уехал. Никто тогда не знал и не думал, что их встреча была последней. Наступил уже вечер, но предполагаемый свадебный обед все еще не начинался: Костя Кудеяров еще не приезжал. Женщины успели не только испечь пироги и приготовить закуску, но и переговорить о своих житейских делах, пересказать и обсудить прочитанные за последнее время литературные новинки, пересмотреть и перетряхнуть купленные обновки и даже немножко попробовать удачно приготовленную Клавдией Федоровной настойку под предлогом того, что Франчишке Игнатьевне надо уходить домой, где ее ожидал Осип Петрович. — Не дождешься твоего лейтенанта, — посматривая на Галину, с грустью сказала Франчишка Игнатьевна. — Что вы, тетя Франчишка, он обязательно придет, — уверенно ответила Галина, но сама беспокойно поглядывала в окошко. — Слово моего Кости твердое. Тем более завтра мы поедем отсюда вместе с Клавдией Федоровной. Она у нас, в Гродно, будет жить. Ведь так? — спросила Галина Шарипову. — Поедем, Галиночка, непременно поедем! — невесело, думая о детях, ответила Клавдия Федоровна. Трудно ей было расставаться с ними, но вместе с тем и хотелось попасть в хороший родильный дом. — Твой Костя человек военный. Что ему начальство прикажет, то он и должен делать, голубушка. Эта случайно брошенная Франчишкой Игнатьевной фраза всех насторожила. После ухода веселой, говорливой молочницы все притихли. Настроение взрослых передалось и детям. Галина вздыхала. Оля и Слава ласково и робко прижались к матери. Она гладила их по головкам и думала какую-то свою материнскую думу. Внезапно вспомнилась такая же тихая, но тяжелая ночь под праздник на Дальнем Востоке, и она рассказала о ней Галине и Шуре. Тогда у нее был маленький трехмесячный ребенок. На заставе готовились к встрече десятой годовщины Октябрьской революции, тоже напекли пирогов, и вдруг на границе началась стрельба. Шарипов побежал к границе. Она осталась одна. Граница была совсем близко, и там гулко начали бить винтовки. Винтовочные выстрелы перемешивались с резкими и частыми пулеметными очередями. Пули стали долетать до заставы, из окон дома с треском посыпались стекла, одна из пуль разбила зеркало в платяном шкафу. Вот после этого события у Шариповой и пропало молоко. Ребенка пришлось выкармливать козьим молоком. Во дворе неожиданно раздался резкий и продолжительный гудок автомобиля. Галина вскочила и, бросившись к двери, крикнула: — Ну, я же говорила, что Костя приедет обязательно, вот он и приехал! С этими словами она выбежала из комнаты, но вскоре вернулась с Рубцовым, недавно ставшим подполковником. — Не приедет Костя, — нервно комкая в руках записку от мужа, со слезами на глазах прошептала Галина и начала торопливо, с суетливой лихорадочностью собираться. — Чего носы-то повесили, как купчихи на похоронах? — поздоровавшись, со скуповатой, какой-то неестественной веселостью сказал Зиновий Владимирович. В новом обмундировании, с пистолетом и походной сумкой, он был как-то весь собран и подтянут. Женщины промолчали. — Ну, не приехал ваш Костя, что ж из этого? Переводят его в другую часть. Срочно должен выехать из Гродно. А закуски-то сколько наготовили, милые мои! — оглядывая стол, продолжал Рубцов. — У нас все не так, как у добрых людей, — вставая, сердито заговорила Клавдия Федоровна. — А что же такое случилось, дорогая Клавдия Федоровна? — спросил Зиновий Владимирович и присел к столу. — Сплошное безобразие, Зиновий Владимирович! Целый день стряпали! Вон все стоит. Спасибо, хоть вы приехали. Давайте все за стол, больше я ждать никого не хочу. Оля, позови отца и Виктора Михайловича. Что такое, на самом деле: хлопочешь, хлопочешь, а все шиворот-навыворот! — Действительно, ерунда какая-то получается! Неужели позвонить нельзя было? И мой Витя вечно мудрит. Сейчас наверняка скажет, что ему некогда, и на всю ночь исчезнет. Уж я его знаю… — Пробовал я вам дозвониться, — словно оправдываясь, сказал Рубцов. Линия все время занята… — Зиновий Владимирович, подвигайтесь к столу, — попросила Шура Рубцова. — Будем пировать. Но свадебному обеду, как видно, не суждено было состояться. — Благодарю, голубушка моя! Остаться обедать я не могу, — развел руками Рубцов. — Что с вами со всеми случилось? Уж вы-то, Зиновий Владимирович, такой компанейский человек! — Лето сейчас. А в жару я только пивком балуюсь и никакого другого зелья в рот не беру… Однако, чтобы не обидеть вас, одну рюмочку выпью да и поеду: в лагерь тороплюсь. Мария Семеновна меня ждет… Галине в Гродно нужно. Костя завтра уезжает. Приказ уже подписан. Пришел и Усов, сел за стол, но выпить наотрез отказался: — Не такой сегодня день, чтобы пировать. — Вы что… сговорились портить нам настроение? — возмущалась Клавдия Федоровна. — Где Александр? Я его… — Уж кому-кому, Клавдия Федоровна, а вам-то известно, что ночью у нас самая горячая пора. Ну, днем еще другое дело, можно посидеть и песенки попеть, а вечером!… — Усов встал, выпрямился, подтянул поясной ремень, сказал: — Извините, дорогие гости, попируйте за нас. Извини меня, Шурочка, — добавил Усов и поцеловал жену. — Да ну тебя! — махнула Шура рукой. — Я сейчас тоже домой иду, вместе с тобой. Попрощавшись, Усовы ушли. Опустела квартира Шариповых. Осталась Клавдия Федоровна одна с детишками. Уложив их спать, она присела на край Олиной кровати и, сама не зная почему, горько заплакала.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
На заставе затихли последние ночные звуки. Наряд пограничников пощелкал затворами винтовок около дощечки «Заряжай» и ушел на охрану границы. Так каждую ночь на протяжении шестидесяти пяти тысяч километров государственных границ нашей Родины, зарядив оружие боевыми патронами, подседлав коней или запустив моторы боевых кораблей, уходят пограничники охранять мирный труд советских людей. Клавдия Федоровна, не отрывая от спящих детей заплаканных глаз, облокотившись на спинку Олиной кровати, вглядывалась в спокойное лицо девочки, обрамленное темными вьющимися волосами. Девятилетняя Оля — на редкость красивый и развитой ребенок. От матери она унаследовала буйную кровь запорожских казаков, а по отцу — степная татарочка. Слава похож на сестренку, у него такие же большие выразительные глаза, но волосы светлее, чем у сестренки. Разбросавшись на постели, дети крепко спали. Клавдия Федоровна насильно оторвала прикованный к детским личикам взгляд и отошла к окну. Тихо было в эту душную июньскую ночь. С вечера от Августовского канала доносилось кваканье лягушек. Ночью замолкли и они. Но Клавдия Федоровна к чему-то прислушивалась, чего-то напряженно ждала. Спустя некоторое время она легла в постель, но уснуть не могла. Полежав с открытыми глазами, встала и при лунном свете снова подошла к кроватке сынишки, поправила всклокоченную прядку волос, приложилась губами к влажному лобику, укрыла ножки одеялом. Чутким ухом она уловила отдаленный ритмичный звук моторов и вздрогнула. Как и в прошлые ночи, ее охватило тревожное состояние. Звуки моторов все приближались и приближались, распространяя по земле мощный нарастающий гул. Клавдия Федоровна угадала, что где-то в стороне, неподалеку, летит большая группа самолетов. Она затаила дыхание и почувствовала под сердцем легкий толчок. Это давала о себе знать новая жизнь, ожидавшая своего права вдохнуть воздух и взглянуть на свет. Вдруг недалекий, словно подземный грохот продолжительными толчками качнул землю вместе с домом. От внезапного гула, прокатившегося томительной волной, зазвенела в буфете посуда и затрепетали на окнах занавески. С тревожно забившимся сердцем Клавдия Федоровна тихонько отдернула занавеску и высунулась наружу. Восток уже озарился рассветом. Редкие утренние звезды точно расплывались по побледневшему небу. Клавдия Федоровна подошла к другому окну и, прислушиваясь к непонятному шуму, взглянула на запад. В вышине было много бледно-зеленых, веером рассыпавшихся в небе звезд, которые лопались и ослепительным фейерверком падали на землю по всей линии границы. Вдруг близко вспыхнувшее пламя ослепило ее, в уши ударил грохот, что-то затрещало. Клавдию Федоровну отбросило в сторону. Ударившись об оконный косяк и теряя сознание, она различила в этом хаосе звуков, как и тогда на далекой заставе на берегу Амура, яростную пулеметную стрельбу. Проснувшаяся Оля вздрогнула всем телом, кинулась к матери и прижалась к ней. Пронзительным голосом она крикнула: — Мама, стреляют! Закрыв глаза, Оля спрятала голову на груди матери. За углом дома разорвался тяжелый снаряд. С треском распахнулась сорванная с петель дверь. В комнату с карабином в руках вбежал Шарипов, за ним Александра Григорьевна, не успевшая убрать рассыпавшихся по плечам волос. Закрыв глаза, она прислонилась к косяку.
— Что такое, Саша? — со стоном выкрикнула очнувшаяся Клавдия Федоровна. — Что это такое?
— Нападение! — коротко ответил Шарипов. — Быстрей одевайте детей! Собирайтесь, живо! — торопил он, вынимая из кровати мальчика.
— Да куда же мы? Что творится?! — волновались женщины, не зная, за что схватиться. Голоса их заглушались выстрелами, грохотом рвущихся мин и снарядов.
— Спокойно и быстро собирайтесь! — распоряжался Шарипов, надевая Славе рубашонку. — За заставой ожидает запряженная лошадь. Поедете в комендатуру. Здесь нельзя оставаться. Звонили по телефону и приказали отправить женщин и детей. Быстро! Клава! Шура! Оленька, быстро, детка!
Шарипов завернул мальчика в одеяло и понес к двери.
— Неужели, Саша, война? — крикнула Клавдия Федоровна.
— Кажется, война! Не задерживайтесь!
— А вы как же, Саша?
— Не спрашивай, милая! Некогда. Мы отбиваться должны! Идем, идем! Только не задерживайтесь!
— Но ведь что-нибудь надо взять? Какие-нибудь вещи? — завязывая на голову вместо платка какую-то тряпку, крикнула Шура.
— Какие там вещи! Идите, говорю, за мной! — раздался из сеней голос Шарипова.
Держа на руках ребенка и подхватив под руку жену, он повел ее рядом со стеной дома к подводе.
Александра Григорьевна с Олей замешкались, что-то торопливо хватали и снова бросали. Оля завязала в платочек тетради и учебники, томик Пушкина. Раздался взрыв снаряда. Он разорвался за стеной и разворотил угол дома. Оля и Александра Григорьевна упали на пол, потом вскочили и, подхватив свои узелки, выбежали во двор.
Беглым беспорядочным огнем фашисты уже били из минометов по всей заставе. Со зловещим завыванием утренний воздух разрезали мины.
— Сюда! Сюда прыгайте! — крикнул замполитрука Стебайлов.
Он стоял на дне траншеи и держался за ручки станкового пулемета. Глубокая, в полный профиль траншея подходила почти к самому углу командирского дома.
Пограничники заняли оборону и приготовились к бою.
— Переждите здесь. Скоро утихнет… — Стебайлов, спустив ремешок от зеленой фуражки под скуластый подбородок, продолжая сжимать ручки станкового пулемета, напряженно прислушивался к доносившимся от границы крикам и гулким винтовочным выстрелам.
— Это наши наряды отбиваются, — пояснил Стебайлов. — В упор, наверное, фашистов бьют.
Башарин, стоя в круглой ячейке окопа, нетерпеливо перекладывал ручной пулемет с места на место и прилаживался широким плечом к прикладу. По его сжатым губам и собравшимся у глаз морщинкам было видно, что ему трудно сдержаться, чтобы не нажать на спусковой крючок. Юдичев и Кононенко, сидя на корточках, брали из распечатанных цинковых коробок блестевшие патроны и набивали ими запасные пулеметные ленты. Александра Григорьевна удивлялась их необъяснимому спокойствию и той деловитости, с какой они выполняли свои обязанности. При завывающем свисте мин пограничники только немного наклоняли головы, а потом поднимали их и, отодвинув со лба козырьки фуражек, смотрели вверх, ожидая, когда завоет и разорвется следующая.
Оля с узелком в руках присела на нераспечатанный патронный ящик, озиралась по сторонам и почему-то мысленно старалась запомнить лица давно знакомых ей пограничников. Она часто ходила с ними в лес за грибами и ягодами, любила смотреть, как они купают в канале лошадей и служебных собак. Вот Башарин, который всегда был к Оле особенно добр и ласков. Такой большой и неуклюжий, он залезал на деревья, чтобы сломать для нее густо облепленную спелыми ягодами ветку черемухи. А вот Юдичев, тихий и застенчивый, он приносил ей из леса грачиные яйца, вырезал из древесной коры человечков и рисовал в тетрадке животных и птиц. Мысли девочки прерывались и застилались туманом, когда близко лопались мины. Оле хотелось закричать, но она только сжималась в комочек и крепко давила ручонками на свой узелок.
Внезапно на краю траншеи показалась фигура начальника заставы Усова в глубоко надвинутой на лоб фуражке. С секунду он смотрел в бинокль на линию границы, откуда одиночные выстрелы доносились все реже и реже. Оторвав от глаз бинокль, он шумно прыгнул в траншею и негромко сказал, переводя дыхание:
— Приготовиться к бою!
— Витя, Витя! — крикнула бросившаяся к нему Шура. — Что же будет, Витя?!
Усов вздрогнул, резко повернулся:
— А ты зачем здесь? — И, тряхнув головой в такт лопнувшей мине, изменив тон, продолжал убедительным полушепотом: — Здесь тебе, родная моя, не место! Не место, Шурочка, милая! Оля, почему ты не с мамой? Почему вы не уехали?
От напряжения на лице начальника заставы, казалось, шевелятся и играют все морщинки. Он не ожидал этой встречи. Только сию минуту, перебегая по двору, он в душе упрекнул себя, что даже не простился с женой и не видел, как она уехала. Он все время разговаривал по телефону с комендантом. Потом политрук Шарипов сказал ему, что обстрел не дал Шуре и Оле выйти на улицу, поэтому они и отстали от Клавдии Федоровны, которая поджидает их в ближайшем лесу.
— Сейчас же уходите отсюда по оврагу, уходите! — сказал Усов жестко.
— Никуда я не пойду! Я останусь здесь! — в исступлении крикнула Шура.
— Нельзя! Бери Олю и уходите!
— Куда? Куда? — сжимая кулаки, не унималась Шура.
— Вас ждет Клавдия Федоровна. С тобой ребенок!
Не желая больше слушать возражений, он подтолкнул жену вперед. Олю подхватил за руку и повел вдоль траншеи к выходу в овраг. Крепко поцеловал жену и Олю, посмотрел, как они побежали через ржаное поле, помахал им вслед своей зеленой фуражкой…
За углом дома разорвался тяжелый снаряд. С треском распахнулась сорванная с петель дверь. В комнату с карабином в руках вбежал Шарипов, за ним Александра Григорьевна, не успевшая убрать рассыпавшихся по плечам волос. Закрыв глаза, она прислонилась к косяку.
— Что такое, Саша? — со стоном выкрикнула очнувшаяся Клавдия Федоровна. — Что это такое?
— Нападение! — коротко ответил Шарипов. — Быстрей одевайте детей! Собирайтесь, живо! — торопил он, вынимая из кровати мальчика.
— Да куда же мы? Что творится?! — волновались женщины, не зная, за что схватиться. Голоса их заглушались выстрелами, грохотом рвущихся мин и снарядов.
— Спокойно и быстро собирайтесь! — распоряжался Шарипов, надевая Славе рубашонку. — За заставой ожидает запряженная лошадь. Поедете в комендатуру. Здесь нельзя оставаться. Звонили по телефону и приказали отправить женщин и детей. Быстро! Клава! Шура! Оленька, быстро, детка!
Шарипов завернул мальчика в одеяло и понес к двери.
— Неужели, Саша, война? — крикнула Клавдия Федоровна.
— Кажется, война! Не задерживайтесь!
— А вы как же, Саша?
— Не спрашивай, милая! Некогда. Мы отбиваться должны! Идем, идем! Только не задерживайтесь!
— Но ведь что-нибудь надо взять? Какие-нибудь вещи? — завязывая на голову вместо платка какую-то тряпку, крикнула Шура.
— Какие там вещи! Идите, говорю, за мной! — раздался из сеней голос Шарипова.
Держа на руках ребенка и подхватив под руку жену, он повел ее рядом со стеной дома к подводе.
Александра Григорьевна с Олей замешкались, что-то торопливо хватали и снова бросали. Оля завязала в платочек тетради и учебники, томик Пушкина. Раздался взрыв снаряда. Он разорвался за стеной и разворотил угол дома. Оля и Александра Григорьевна упали на пол, потом вскочили и, подхватив свои узелки, выбежали во двор.
Беглым беспорядочным огнем фашисты уже били из минометов по всей заставе. Со зловещим завыванием утренний воздух разрезали мины.
— Сюда! Сюда прыгайте! — крикнул замполитрука Стебайлов.
Он стоял на дне траншеи и держался за ручки станкового пулемета. Глубокая, в полный профиль траншея подходила почти к самому углу командирского дома.
Пограничники заняли оборону и приготовились к бою.
— Переждите здесь. Скоро утихнет… — Стебайлов, спустив ремешок от зеленой фуражки под скуластый подбородок, продолжая сжимать ручки станкового пулемета, напряженно прислушивался к доносившимся от границы крикам и гулким винтовочным выстрелам.
— Это наши наряды отбиваются, — пояснил Стебайлов. — В упор, наверное, фашистов бьют.
Башарин, стоя в круглой ячейке окопа, нетерпеливо перекладывал ручной пулемет с места на место и прилаживался широким плечом к прикладу. По его сжатым губам и собравшимся у глаз морщинкам было видно, что ему трудно сдержаться, чтобы не нажать на спусковой крючок. Юдичев и Кононенко, сидя на корточках, брали из распечатанных цинковых коробок блестевшие патроны и набивали ими запасные пулеметные ленты. Александра Григорьевна удивлялась их необъяснимому спокойствию и той деловитости, с какой они выполняли свои обязанности. При завывающем свисте мин пограничники только немного наклоняли головы, а потом поднимали их и, отодвинув со лба козырьки фуражек, смотрели вверх, ожидая, когда завоет и разорвется следующая.
Оля с узелком в руках присела на нераспечатанный патронный ящик, озиралась по сторонам и почему-то мысленно старалась запомнить лица давно знакомых ей пограничников. Она часто ходила с ними в лес за грибами и ягодами, любила смотреть, как они купают в канале лошадей и служебных собак. Вот Башарин, который всегда был к Оле особенно добр и ласков. Такой большой и неуклюжий, он залезал на деревья, чтобы сломать для нее густо облепленную спелыми ягодами ветку черемухи. А вот Юдичев, тихий и застенчивый, он приносил ей из леса грачиные яйца, вырезал из древесной коры человечков и рисовал в тетрадке животных и птиц. Мысли девочки прерывались и застилались туманом, когда близко лопались мины. Оле хотелось закричать, но она только сжималась в комочек и крепко давила ручонками на свой узелок.
Внезапно на краю траншеи показалась фигура начальника заставы Усова в глубоко надвинутой на лоб фуражке. С секунду он смотрел в бинокль на линию границы, откуда одиночные выстрелы доносились все реже и реже. Оторвав от глаз бинокль, он шумно прыгнул в траншею и негромко сказал, переводя дыхание:
— Приготовиться к бою!
— Витя, Витя! — крикнула бросившаяся к нему Шура. — Что же будет, Витя?!
Усов вздрогнул, резко повернулся:
— А ты зачем здесь? — И, тряхнув головой в такт лопнувшей мине, изменив тон, продолжал убедительным полушепотом: — Здесь тебе, родная моя, не место! Не место, Шурочка, милая! Оля, почему ты не с мамой? Почему вы не уехали?
От напряжения на лице начальника заставы, казалось, шевелятся и играют все морщинки. Он не ожидал этой встречи. Только сию минуту, перебегая по двору, он в душе упрекнул себя, что даже не простился с женой и не видел, как она уехала. Он все время разговаривал по телефону с комендантом. Потом политрук Шарипов сказал ему, что обстрел не дал Шуре и Оле выйти на улицу, поэтому они и отстали от Клавдии Федоровны, которая поджидает их в ближайшем лесу.
— Сейчас же уходите отсюда по оврагу, уходите! — сказал Усов жестко.
— Никуда я не пойду! Я останусь здесь! — в исступлении крикнула Шура.
— Нельзя! Бери Олю и уходите!
— Куда? Куда? — сжимая кулаки, не унималась Шура.
— Вас ждет Клавдия Федоровна. С тобой ребенок!
Не желая больше слушать возражений, он подтолкнул жену вперед. Олю подхватил за руку и повел вдоль траншеи к выходу в овраг. Крепко поцеловал жену и Олю, посмотрел, как они побежали через ржаное поле, помахал им вслед своей зеленой фуражкой…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Первый бой пограничники приняли непосредственно на линии границы. Еще с вечера находившиеся в нарядах пограничники слышали приглушенный шум моторов, отдаленные человеческие голоса. Бражников со своим напарником лежал на поваленных деревьях и наблюдал за опушкой леса, расположенной в ста шагах от них, за кордоном. — Последние дни тихо было, а вот сейчас опять началось, — сказал напарник Бражникова, Румянцев. — Шумят… — отозвался Максим Бражников. — Прислушивайся лучше и гляди зорче. Фашисты что-то затевают… Перед пограничниками темной стеной стоял чужой лес. Неизвестно было, что скрывалось в этом отдаленном, все нарастающем шуме и в звуках голосов. Когда к утру стали ясно выделяться очертания леса и ближайших кустов, в небе пролетела большая группа самолетов, и вскоре послышались тяжелые бомбовые удары. Бражников, побывавший в боях на Халхин-Голе, понял, что где-то поблизости самолеты сбросили бомбы. Вся местность вдруг озарилась вспышками бледно-зеленых ракет, а вдоль линии границы грохнули выстрелы. В предутреннем рассвете поднялась, словно выросла из-под земли, редкая цепь солдат в низких, как показалось Бражникову, приплюснутых касках. Прижав приклад к плечу, Бражников сделал первый выстрел и увидел, как, взмахнув руками, упал солдат. В ответ хлестко защелкали пули. Приказав Румянцеву дать сигнал о нападении на границу, Бражников стал стрелять уже беспрерывно, поражая цели с особым охотничьим азартом, не обращая внимания на свист пуль и треск рвущихся вокруг мин. На своем участке Бражников знал каждый куст — это помогло ему маскироваться. Но вот он заложил в магазин последнюю обойму и, решив приберечь патроны, спустился к берегу канала, где встретил ползущего Сороку. Тот был ранен пулей в ногу и полз к каналу, чтобы напиться. Трясущимися руками Сорока снял сапог. Бражников наклонился над товарищем, разрезал на нем штанину и крепко перевязал рапу. Вместе они вышли ко второй траншее, где уже начал разгораться бой. Бражников рассказал обо всем лейтенанту Усову и тут же лег за станковый пулемет. В эту ночь больше половины пограничников заставы находилось в нарядах. Оставшиеся на заставе бойцы по заранее разработанному плану быстро заняли в траншеях оборону, чтобы вести бой до прихода полевых армейских частей. Первая траншея была расположена в четырехстах метрах от границы, на скатах небольшой высоты, фронтом на запад и юго-запад, а левым флангом на юг и юго-восток. Траншея прикрывала подступы со стороны лощины, поросшей ветлами и кустами черемухи. Вторая траншея находилась справа и прикрывала северо-западную и северо-восточную стороны. Расстояние между траншеями составляло сто — сто пятьдесят метров. Начиналась она от командирского дома и тянулась по небольшой высоте, упираясь правым флангом в овраг, идущий вдоль берега Августовского канала. Отсюда можно было вести кинжальный огонь и прикрывать правый фланг первой траншеи. Фронтально из нее обстреливались дорога, идущая на северо-запад, и переброшенный через канал мост. Пограничники, находившиеся на линии границы, были отрезаны от заставы. Расстреляв при первой же схватке все патроны, они бросились в штыковую атаку и почти все погибли. В распоряжении начальника заставы осталась небольшая горстка людей, которая и приняла на себя всю тяжесть боя с наступавшими фашистами. Вернувшись в траншею, Усов прислушался к стрельбе справа и понял, что идет ожесточенный бой на второй заставе; слева, на юге, грохотали пулеметы на четвертой заставе, связь с которой была прервана. Фашисты почему-то прекратили огонь. Первые вылазки их автоматчиков Усов отбил пулеметным огнем. Но вскоре наблюдавший с чердака конюшни Юдичев сообщил, что противник густой колонной втягивается в ближайший от заставы лес. Усов, захватив с собой ручной пулемет, забрался на чердак конюшни, сложенной в давние времена из кирпича. В узкое, похожее на бойницу шуховое окно Усов увидел, как фашисты совсем близко, на лесной опушке, не маскируясь, установили минометы и начали обстреливать ближайший населенный пункт Новичи. Установив ручной пулемет, Усов гневно проговорил: — Сейчас, Юдичев, мы им покажем, — и нажал на спусковой крючок. Бросив минометы, гитлеровцы побежали в лес, оставив на земле несколько трупов. — Будешь дежурить здесь, Юдичев, — приказал Усов. — Стреляй короткими очередями. Если начнут бить по чердаку из пушки, уходи вниз. — Ничего, товарищ лейтенант, я их аккуратненько… — весело отозвался Юдичев. Ему было по душе это особое доверие командира. Спустившись вниз, Усов побежал к первой траншее с надеждой увидеть там политрука Шарипова и сообщить ему, что он отослал его дочь Олю вместе со своей женой в тыл. К тому же надо позвонить коменданту и выяснить общую обстановку. В первые минуты нападения, когда Усов доложил о нарушении границы, у него был такой разговор с комендантом. — Держитесь! — приказал комендант. — Первая отбила две атаки. Надеюсь на вас. Примем все меры, чтобы оказать вам помощь. — Будем держаться. Пушки бы нам, пушки! — почти выкрикнул в ответ Усов. — Детей и женщин отослали? — спросил комендант. — Да, да! — Усов сжал в кулаке телефонную трубку и взглянул на мелко дрожащие в оконных рамах стекла. Все помещение вздрагивало, словно борта корабля от работы моторов. На высотке, расположенной к востоку от заставы, огненными взбросами, казалось, горела земля. По всему полю рвались снаряды и мины… — Ваши семьи, товарищ Усов, мы здесь встретим, — спокойно говорил комендант. — Постарайтесь немедленно отослать секретные документы с надежным посыльным. Документы должны быть при всех обстоятельствах сохранены. — Слушаюсь! А как насчет пушек, товарищ комендант? — Пушки Рубцова отбивают танковые атаки. Не теряйте спокойствия. Поможем. — От заставы не отойду ни на шаг! — жестко сказал Усов. — Желаю успеха! — голос коменданта, как обычно, был бодрым и уверенным. Усов вынул из кармана ключ от сейфа и, вытащив документы, положил их в полевую сумку. Вошел Шарипов. Он только что вылез из траншеи. Его брюки и гимнастерка были в глине. Большие выразительные глаза политрука остановились на Усове. — Телефонную линию я приказал провести в траншеи, чтобы не бегать сюда. — Документы приказано отправить. — Раз приказано, значит, отправим. — Вот и началось, Саша! — сказал Усов. — Началось. Будем держаться. Я должен быть во второй траншее. Ты здесь будешь? В первой? — Да, в первой. Усову хотелось рассказать о том, при каких обстоятельствах он отправил в тыл Олю и Шуру, но он не сделал этого: не поворачивался язык. — Ты распорядился поставить на чердаке пулемет? Если начнут сильно обстреливать, его надо снять, — сказал Шарипов. — Юдичева я предупредил. Усовпротянул Шарипову несколько пачек револьверных патронов, которые взял из сейфа. Во дворе заставы разорвался тяжелый снаряд. С потолка посыпалась штукатурка. От командирского дома послышалась близкая пулеметная стрельба. Усов и Шарипов пошли к выходу. — Слушай, Александр: прикажи бить только прицельным огнем. Патроны надо беречь. Мы не знаем, сколько нам придется держаться. Ну, дорогой Саша, держись… Шарипов кивнул головой и, согнувшись, побежал во вторую траншею. Усов, придерживая полевую сумку, прыгнул в первую траншею и, подойдя к снайперу Владимирову, спросил: — Как дела? — Все в порядке, товарищ лейтенант, — повернув к нему возбужденное краснощекое лицо, ответил пограничник. — Вон посмотрите! — Владимиров показал на приземистые ветлы. Под одной из них Усов увидел в бинокль три трупа в серо-зеленых мундирах, четвертый лежал подальше. — Молодец! — Они, товарищ лейтенант, какие-то бесшабашные, сами на мушку лезут! — не выпуская из рук винтовки, сказал Владимиров. Голубые глаза солдата блестели острой взволнованностью, ему было приятно, что его похвалил начальник. Перейдя на полушепот, Владимиров спросил: — А в Москве, товарищ лейтенант, знают, что на нас напали? Этот вопрос Усову задавал не только Владимиров, спрашивал об этом и Юдичев, когда они поднимались на чердак, спрашивали и другие. Однако Владимиров, не дав лейтенанту ответить, быстро проговорил: — Ну, конечно, знают… А подмога нам будет, товарищ лейтенант? — Непременно будет подмога. Но мы должны держаться, товарищ Владимиров, крепко держаться. — Я окопчик давно приготовил. Видите? На дерне даже цветочки растут. И в самом деле: окоп был вырыт давно, и на его бруствере росли одуванчики и белая кашка. Еще раз похвалив снайпера за меткую стрельбу, Усов прошел в другой конец траншеи. Здесь были Лысенко, Румянцев и Бражников. — Как пулемет, Бражников? Исправен? — спросил Усов сержанта, наблюдавшего за местностью. — Так точно, исправен! Фашисты было опять стали подниматься, да мы их так чесанули, что они сразу притихли. Только минами, проклятые, донимают. Я, товарищ лейтенант, приказал снять с кладовки двери и соорудить верхнее укрытие. — Правильно распорядились, — сказал Усов. — Тут бы маленький дзотик соорудить, примерно как у нас были на Дальнем Востоке. Никакие бы мины не взяли… Вон она визжит, будто жилы вытягивает. Оторвав руки от рукояток станкового пулемета, Бражников повернул голову и, казалось, совсем неуместно улыбнулся. Мина уже пролетела и разорвалась где-то позади траншеи. Лысенко и Румянцев сидели с втянутыми в плечи головами и с удивлением смотрели на сержанта. — Эх, орешки кедровые! Чего притихли? — крикнул Максим Бражников. Не ломайте фуражек, все равно не поможет. Я в Монголии спервоначалу минам и пулям тоже кланялся, а потом обвык. Страх, ежели он есть у кого, загоняй его в патронник! — Как это в патронник? — удивленно спросил Лысенко. — А так: когда досылаешь патрон, страх туда из груди выдуй и крепче патрон загони. Страх-то тогда на кончике пули улетит — и гаду, врагу твоему, достанется. Ты только бей его и посылай патрон за патроном. Но ежели струсишь, считай — пропал! Усов с улыбкой смотрел на широкий, гладко остриженный затылок Бражникова, на потемневшую от пота и пыли гимнастерку, туго обтягивающую мощную спину. Лысенко что-то сказал Румянцеву и с улыбкой на запачканном землей лице резким рывком загнал в карабин патрон. Во второй траншее стрельба становилась все гуще. Здесь, в первой, тоже чаще стали посвистывать пули и рваться мины. — Смотрите, товарищ лейтенант! — крикнул Бражников. — Снова во весь рост перебегают. Простым глазом было видно, как за ветлами, впереди кустов, перебегали фашистские солдаты. — Ого-онь! Усов, прижавшись грудью к краю окопа, выбросил на бруствер винтовку и выстрелил. Бражников, вздрагивая широкой, могучей спиной, хлестко бил из станкового пулемета. В другом конце траншеи стреляли ручные пулеметы. Атака гитлеровцев захлебнулась в самом начале. Вражеские солдаты скрылись в кустарнике, оставив под ветлами много убитых. Вдруг над головами пограничников с тяжелым свистом один за другим полетели снаряды. Они подняли в расположении гитлеровцев черные взбросы земли вместе с толстыми ветлами. Следом полетела вторая серия снарядов. Это открыла огонь по гитлеровцам наша артиллерия. Над фашистскими войсками серой тучей поднялась густая, перемешанная с дымом пыль. — Наши бьют, товарищи! Наши! — крикнул Лысенко. — Начальника заставы к телефону! Просит подполковник Рубцов! Рубцов просит, Рубцов! — бойцы с радостью передавали по траншее фамилию артиллерийского командира. Все знали, уважали и любили сурового батарейца. — Вот видите, друзья, пушки нам помогают! — говорил Усов, пробираясь вдоль траншеи к телефону. — Спасибо, Зиновий Владимирович! Спасибо! — присев на корточки, закричал в телефонную трубку начальник заставы. — Ударить южнее канала! Квадрат двадцать четыре сорок шесть! Отбили танковую атаку? Поздравляю! Говорили с Москвой? Неужели? Будем стоять насмерть! Спасибо за помощь! После разговора с артиллеристом Усов соединился с Шариповым. — Ну как, держитесь? — спросил начальник заставы политрука. — Двое ранены? Один? Постараюсь побывать у вас. Усов передал телефонисту трубку, торопливо выхватил из кармана платок. Платок был синий, он напоминал ему, как два дня назад они разучивали с Шурой песенку про синий платочек… Вытирая катившиеся по щекам капельки пота, Усов почувствовал знакомый запах духов и подумал, что, может быть, жена и Оля попали под минометный огонь и уже лежат, растерзанные минами… Он порывисто вытер платком крутой лоб и приказал созвать людей, не занятых наблюдением. Артиллеристы продолжали бить по расположению фашистских войск тяжелыми снарядами, заставив противника отступить к лесу, почти к самой границе. — Товарищи пограничники! Из Москвы в наш отряд поступила телеграмма, в которой выражается надежда, что мы, пограничники, принявшие первый удар врага, дадим достойный отпор! Советское правительство отдало приказ войскам защищать каждую пядь нашей родной земли, защищать до последней капли крови, до последнего дыхания! Так выполним же с честью этот исторический приказ нашей Родины! Мы первые приняли на себя вероломный удар фашистов и первые будем уничтожать их храбро и мужественно, не щадя своей крови и самой жизни. Поклянемся, что выполним этот долг до конца! — Клянемся выполнить свой долг до конца! — с глубокой воодушевленностью подхватили люди, вскинув над головами оружие. Над лесом поднялось горячее июньское солнце и яркими лучами осветило суровые запыленные лица воинов.
Над лесом поднялось горячее июньское солнце и яркими лучами осветило суровые запыленные лица воинов.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Командир фашистского батальона майор Фридрих Рамке после неудачно повторенной атаки вынужден был перенести свой командный пункт назад и расположиться в овраге на берегу Августовского канала. С тяжелым чувством прислушиваясь к грохоту русской артиллерии, он покорно терпел свирепую ругань полкового командира и неприязненно смотрел на сидевшего неподалеку капитана в форме итальянских вооруженных сил. Капитан устало ковырял вилкой в консервной банке с этикеткой «Сделано в Бельгии». Журналист Гаспери, он же Сукальский, поглядывал на заросший травой канал, по которому он когда-то в темной воде плыл, спасаясь от советских пограничников. Обстановка переменилась, и теперь пану Сукальскому выгодней было надеть мундир итальянских вооруженных сил, чем рясу служителя Ватикана. Он сейчас числился корреспондентом иезуитской газеты, с которой вынужден был считаться не только Муссолини, но и сам фюрер. Этой газетенке помимо официальных корреспонденций прежде всего важно было знать, как будет вести себя гитлеровская армия «в завоеванной стране» и как ее встретит простой народ. Нужно было также наладить связь с ватиканскими гнездами в оккупированных районах Литвы, Латвии, Белоруссии и Украины. За эту деятельность Сукальский в будущем должен был получить епископскую мантию. Документ, подписанный видным генералом из гитлеровской ставки, обеспечивал Сукальскому право доступа на любой участок фронта и в любой оккупированный район. Майору Рамке он был рекомендован как знаток здешней местности. Утомленный стрельбой капитан мечтал утром, что он быстро достигнет резиденции своего друга пана Гурского и на правах завоевателя недурно там переночует. Однако батальон Рамке вот уже несколько часов топтался на одном месте и понес такие потери, каких не было при переходе границы ни одной другой страны. Когда Рамке доложил о потерях командиру полка, тот пришел в ярость. Корреспондент, уже забыв об обещанном завтраке, сидел и лопал его, майора Рамке, бельгийские консервы и пил французский коньяк. Рамке уже начинал презирать этого долговязого писаку. «Сидел бы, болван, в своем Неаполе, — думал майор, — или в Риме, а то тоже полез войну описывать…» — Вы, господин капитан, кажется, только вчера сказали, — сдержанно заговорил майор, — что у русских в этом районе, кроме тех пограничных подразделений, о которых мы с вами говорили, нет войск. Получается что-то не так… — Я и сейчас могу это подтвердить, господин майор, — сухо ответил Сукальский. Ему тоже противна была сытая физиономия майора Рамке, который сегодня дважды поил коньяком своих солдат, дважды гнал их в атаку. — Вы, господин капитан, недостаточно разбираетесь в военных вопросах. Скажите мне: как вы будете излагать причину сегодняшних неудачных атак? — Я напишу, что господин майор Рамке слишком много выдал своим солдатам коньяку и слишком мало храбрости привил им. Всякое спиртное, как известно, имеет свойство быстро выдыхаться… — Остроумно, — недовольно пробурчал майор. — Сейчас вернется разведка, и я пошлю своих солдат вдоль этого капала, накоплю их в овраге и атакую левый фланг русских. Вы утверждаете, что бетонных укреплений здесь нет? — Я здесь был давно. Тогда их не было. А теперь, может быть, и есть! Надо вызвать авиацию и танки. Тогда с ними можно будет сразу разделаться, — предложил Гаспери-Сукальский. — Вы, я вижу, действительно не очень-то разбираетесь в военных вопросах. Сейчас наши танковые соединения под прикрытием авиации совершают грандиозный маневр. Они захватывают главные магистрали! — с важностью в голосе заявил Рамке, попивая маленькими глотками коньяк. — Правда, пока еще нам мешает русская артиллерия, — поставив на стол рюмку, сказал гитлеровец. — Но я могу, черт побери, и без танков раздавить эту заставу. Они увидят, что такое майор Рамке! Он подошел к телефонному аппарату и приказал открыть усиленный минометный и артиллерийский огонь. Вызвав командиров рот, майор велел выдать солдатам еще коньяку и подготовиться к наступлению вдоль канала. На обороняющихся пограничников снова обрушился шквальный огонь. В окопе неожиданно появился повар Чубаров. Столкнувшись с начальником заставы, он взял под козырек: — Товарищ лейтенант, разрешите обратиться! — Слушаю. — Усову странно было видеть повара без белого халата и поварского колпака. Чубаров был в фуражке, в новом обмундировании, на поясе висели гранаты и подсумки. — Разрешите мне, товарищ лейтенант, пострелять в фашистов. — Тебе же приказано за ранеными присматривать! Что же их оставил, товарищ дорогой! — с упреком проговорил Усов. — Раненые… — Чубаров покачал головой. — Раненые, товарищ лейтенант, они… все разбежались… — Куда это могли раненые сбежать? — спросил Усов. — Как только я их перевязал, в окопы поубегали… Сорока на одной ноге упрыгал. Вы сами знаете, с таким человеком справиться нет никакой возможности. — Так! А завтрак приготовил? — Завтрак давно готов, — замявшись немного, ответил Чубаров. — Рыбу поджарил. Только завтракать никто не идет… — Сам понимаешь, почему не идут. Ты вот что, дружок, разнеси завтрак по траншеям и покорми людей! — Есть накормить людей! — Чубаров повернулся и, пригнувшись, побежал по траншее. Через некоторое время его приземистая, в новом обмундировании фигура мелькала во второй траншее. Ставя полную миску макарон, положив большой кусок рыбы, он каждому внушительно говорил: — Все съесть, без остатка. Поешь крепче, стрелять будешь метче! После этого начальник заставы приказал Чубарову доставить в комендатуру документы и донесение. Проводив Чубарова, Усов быстрыми шагами прошел на командный пункт и стал наблюдать в бинокль за полем боя. Во второй траншее пулеметные очереди перемешивались с гулкими винтовочными выстрелами. От линии границы, скрытой кустарником и лесом, доносились чужие, захлебывающиеся, истошные выкрики. Когда справа и слева начинали стрелять станковые и ручные пулеметы, у Усова от радости теснило в груди. Это отбивали атаки соседние заставы, вторая и четвертая. Усов брал телефонную трубку, спокойно и негромко спрашивал: — Вторая, вторая… Что нового? Появилась кавалерия? Ничего! Встретим и кавалерию… Хотят прорваться в тыл? Наблюдаю. Зловещий свист мин заставил Усова плотно прижаться к стенке траншеи. После разрывов над бруствером вместе с тучей песка и пыли клубился смрад, густо заполняя ходы сообщения. Усов вскочил и окинул взглядом траншею. Все были на местах. Румянцев отряхивал с гимнастерки песок. Владимиров протирал подолом гимнастерки затвор снайперской винтовки. Бражников вглядывался вперед, он словно прирос к ручкам станкового пулемета. Вдруг он резко склонил голову, и тут же стальной щит затрясла длинная хлесткая очередь. Усов вскинул к глазам бинокль. Окуляры поймали и приблизили зелень кустов, где на рысях шла группа всадников на крупных рыжих лошадях. Не доскакав до переправы, они повернули обратно, оставляя на земле посеченных пулями коней. Всадники еще мельтешили в кустах, но Бражников почему-то не стрелял. — Ого-онь! — крикнул Усов, но пулемет молчал. Сжимая в руках бинокль, Усов подбежал к Бражникову. — Заело, товарищ лейтенант! — повернув голову и вытирая рукавом гимнастерки разгоряченное лицо, ответил сержант. От виска его к мочке уха катились грязные струйки пота. Усов отстранил приподнявшегося Бражникова и отодвинул затвор. Приемник оказался забитым песком. — Отказывает оружие, — сказал Бражников. — Уже несколько раз чистил, все тряпки израсходовал. Как мина лопнет, так куча песка. — Чистить, быстро! Сейчас кавалерия снова пойдет в атаку, в тыл прорвется, вот тогда будут нам «тряпки!» — Усов выхватил из кармана пахнущий духами платок и торопливо стал протирать приемник пулемета. — Платочком, товарищ лейтенант, тут не спасешься! — Бражников дернул пряжку поясного ремня и, расстегнув его, вместе с подсумками бросил себе под ноги. В одно мгновение он стащил через голову гимнастерку и с треском разорвал нижнюю рубашку надвое. — Разрешите, товарищ лейтенант? — сжимая в руках белые ленты полотна, проговорил Бражников. Усов, комкая в кулаке носовой платок, встал сбоку и с волнением следил за ловкими движениями рук сержанта. Глядя на его сильное, мускулистое, тронутое загаром тело, Виктор почувствовал, что рядом с этим богатырем он сам становится сильней. Обернувшись, лейтенант увидел, что Владимиров тоже рвал рубаху и бросал белые клочья товарищам. Сорока, вытянув забинтованную ногу, протирал затвор ручного пулемета. Потом начал менять ствол. Несколько раз начальник заставы отсылал Сороку в укрытие, но он снова появлялся то в первой, то во второй траншее. Усову захотелось самому сбросить с плеч гимнастерку, освежить тело прохладным ветерком, хотелось сказать людям какие-то значительные слова, но его окликнули вернувшиеся из разведки Юдичев и Кононенко. Они сообщили, что на правом фланге, против второй траншеи, во впадине Августовского канала, накапливается противник. Южнее заставы в лес втягивается кавалерия. Предположение, что фашисты намереваются форсировать канал и зайти в тыл, оправдывалось. Усов подошел к телефону и, опустившись на корточки, взял у связиста трубку и сообщил обстановку коменданту, а затем позвонил Шарипову. Не выпуская из рук трубки, крикнул: — Сержант Бражников, ко мне! Подтянув поясной ремень и вытирая на ходу руки тряпкой, Бражников подошел к начальнику заставы. — Присядь, — сказал Усов, протягивая сержанту папиросу. — Видел я, как ты фашистскую кавалерию сразил. Надеюсь, больше пулемет не заест? Теперь надо снова ждать появления конницы. Возьмите с Румянцевым ручной пулемет, захватите побольше патронов и дисков и сядьте в засаду. Выдвинитесь ползком в учебный окоп. Знаете, в соснах? — Сам отрывал, товарищ лейтенант! — ответил Бражников. — Тем лучше. Займите окоп и, как только фашисты начнут переправляться через канал, расстреливайте их в упор. Мы поддержим, и пушки подполковника Рубцова тоже ударят! — Усов задумался и, медленно подняв на Бражникова воспаленные глаза, добавил: — Отход — две красные ракеты с командного пункта. Задача ясна? Бражников ответить не успел. В руке начальника заставы протяжно запела телефонная трубка. Усов приложил ее к уху. — Слушаю, товарищ комендант! Есть, есть! — отрывисто говорил он. Лицо его становилось все суровее, остро поблескивали глаза с выражением гордой и жгучей радости. — По радио выступает нарком иностранных дел! — крикнул Усов притихшим пограничникам. Стоявшие неподалеку подходили поближе и напряженно прислушивались. — Всех, кроме наблюдателей, ко мне! — передавая связисту трубку, приказал Усов, но тут же, о чем-то вспомнив, решительно добавил: — Нет, собирать не нужно. Пусть все, кто меня слышит, коротко расскажут своим товарищам. Сейчас от имени Центрального Комитета нашей Коммунистической партии и Советского правительства по радио сообщили советскому народу, что сегодня в четыре часа утра фашистские войска вероломно напали на нашу Родину. По всей линии государственной границы, от Баренцева до Черного моря, на протяжении трех тысяч километров, на всех постах и заставах, пограничники грудью встретили врага, героически защищая священные границы нашей Родины! Красной Армии отдан боевой приказ — дать жестокий отпор фашистским захватчикам! Нам выпала великая честь первыми ударить по врагу, и мы будем бить его до последнего патрона, ни на шаг не отступим от границы. Передайте слова из Москвы: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Стреляйте, товарищи, метко, наверняка, насмерть. За нами стоит Родина, с нами весь советский народ! Сообщение начальника заставы передавалось из уст в уста. Усов обошел траншею и, останавливаясь в каждой стрелковой ячейке, рассказывал о передаче. Новое, одухотворяющее чувство охватывало пограничников, они напряженно и зорко всматривались вперед, разили врага без промаха, пользуясь малейшей передышкой, они подтаскивали запас патронов, разбирали и чистили оружие, перевязывали раненых товарищей. Все раненые, кто мог двигаться, из окопов не уходили, продолжали вести бой. Побывал начальник заставы и во второй траншее. — Слышал выступление наркома? — встретив Усова, возбужденно спросил Шарипов. — Слышал весь конец речи, — присаживаясь в тесном окопе на корточки, ответил Усов. — Дежурный комендатуры телефонную трубку к репродуктору приспособил. Слышал: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Как же может быть иначе, Александр? Как мне хочется ударить! Силенок бы немножко побольше, ох, и ударили бы! Да еще ударим! Слушай, Саша, надо организовать вылазку на выступ канала. Они накапливаются ниже моста. Угостить покрепче гранатами. Здесь, у нас, на этом фланге… — Усов топнул ногой по дну окопа, — здесь, Александр, ключевая позиция. Они понимают это. Мост и две дороги. Они уже убедились, что в лоб взять нас трудно. Подтянули кавалерию, думают атаковать с тыла. Если обойдут, то заставы не удержать. Пограничники ожидали новых вражеских атак. Несколько раз фашистская конница пыталась форсировать канал и обойти заставу с тыла, но пулемет Бражникова и огонь соседней четвертой заставы отгоняли ее назад в лес. Фашисты несли большие потери. Ожесточаясь, они повторяли одну атаку за другой. Убывал и боевой состав пограничников. Положение становилось все более напряженным. После полудня поднялся ветер. Горизонт все гуще и гуще заволакивался дымными тучами. Горели пограничные села. Под напором ветра густой едкий дым двигался на восток. Деревья в саду пригибались и роняли на землю только что завязавшиеся яблоки. В повитой хмелем черемухе таились птицы, выжидая, когда стихнет этот непонятный чудовищный грохот. Застава кипела в огне разрывов. Из леса снова выбросилась гитлеровская конница и устремилась к переправе. Усов дал несколько коротких очередей, нажал еще на спусковой рычаг, но пулемет не действовал. — Сорока! — крикнул он громко. — Давай тряпку, быстро! — Что случилось, товарищ лейтенант? — спросил стоявший неподалеку Игнат Сорока. — Кожух пробило, — проговорил Усов. — Давай тряпку и пояс, ремень какой-нибудь… Волной от разорвавшейся перед бруствером мины Усова отбросило на дно окопа. Протирая ладонью воспаленные глаза, он почувствовал, что наступила самая напряженная минута. Пулемет находившегося в засаде Бражникова тоже замолчал. Очевидно, был сбит минометным огнем противника. «Если сейчас не уничтожить фашистскую кавалерию, — думал Усов, — то она прорвется в стыке с четвертой заставой и зайдет в тыл. Тогда все будет кончено». Надо было остановить фашистов во что бы то ни стало. — Скорей, Сорока, скорей, тряпку и воды! — повторил приказание Усов. Вспомнив, что Сорока может передвигаться лишь на одной ноге, другую, вспухшую от бинтов, он мог только волочить по траншее, Усов крикнул: — Владимиров! Воды для пулемета, воды! Сейчас же чтоб была вода! — Есть! — раздался голос Владимирова и потонул в треске винтовочной стрельбы. Усов открыл глаза. Сорока стащил станковый пулемет в траншею и, чтобы сохранить в кожухе остатки воды, положил его боком на одно колесо. Разрезанную на раненой ноге штанину он оторвал совсем, она лежала рядом и темнела пятнами крови. Орудуя винтовочной отверткой, Игнат заткнул пробитое отверстие куском материи, потом обмотал кожух оторванной штаниной, сверху крепко закрутил брезентовым поясным ремнем. — Ну, товарищ лейтенант, кажись, починил трохи, — ставя пулемет на оба колеса и неловко прыгая на одной ноге, с трудом проговорил Игнат. Усов был поражен действиями этого человека. Высокий, неуклюжий Сорока с забинтованной до паха ногой, загорелый на солнце и разгоряченный боем, казался Усову воплощением могучей силы, мужества и несгибаемой воли, которая так ярко и властно прорывается наружу в момент тяжелой опасности и неотразимо действует на окружающих. — Молодец, Сорока! — крикнул Усов. Он рывком поднял грузный пулемет и, словно игрушку, поставил его на прежнее место. Но в это время подошел связной с четвертой заставы. — Ну, как там у вас? — принимая скатанную в трубочку записку, спросил Усов у связного. — Жарко? — Так же, товарищ лейтенант, как и у вас, без передыху бьемся, стряхивая с колен липкую грязь и вытирая рукавом гимнастерки потное с веснушками лицо, ответил связной. — У нас тоже один пулемет исковеркало. Но Усов, не слушая солдата, читал записку. Начальник заставы старший лейтенант Борцов писал, что у него разбит телефон и он не имеет связи с комендатурой и другими заставами. Просил сообщить обстановку, одновременно спрашивал, почему молчат пулеметы третьей заставы. Он сообщил также, что небольшая группа противника уже переправилась через канал, и если не принять мер, то она просочится в тыл. Старший лейтенант писал, кроме того, что если третья застава поддержит его с фланга пулеметным огнем, то он сделает вылазку и сбросит переправившихся гитлеровцев в канал. — Передай начальнику заставы, что у нас все в порядке. Поддержим огнем и даже сами вылазку сделаем. Усов написал коротенькую записку. Передавая ее связному, велел взять запасной телефонный аппарат и быстрей идти обратно. Сам же снова направился к телефону. — Опять кавалерия, смотри сколько! — кричали из траншеи пограничники, щелкая затворами. Сорока сжал ручки станкового пулемета. Справа от заставы, в кустах за Августовским каналом мелькали кони немецких кавалеристов. Всадники пригибались к вытянутым лошадиным шеям, выставляя вперед серые приплюснутые каски. Сорока ударил по ним длинной очередью. Кони сначала падали на колени, а потом, сверкая подковами, валились на землю. На них налетали задние, шарахались в стороны. Сорока продолжал бить до тех пор, пока пулемет не умолк в третий раз. — Воды-ы! — яростно закричал Сорока. — Воды, говорю!
Но никто не отзывался. Все вокруг ухало, стреляло, дымилось.
— Воды! Владимиров! — Сорока бил мосластым кулаком по пустому горячему кожуху и ругался.
— Ну, где же ты провалился?!
— К колодцу бегал, — наливая в пулемет воду, ответил Владимиров. — А разве я долго бегал? Три минуты.
— Три минуты! А ты знаешь, что такое сейчас три минуты? — укорял его Сорока. — Годи, полно. Завинчивай, — уже более спокойно закончил Сорока и снова взялся за ручки пулемета, который застрекотал сразу же четко и ровно.
Атака была отбита. Сорока разжал руки и, повернувшись к пулемету спиной, вытянул несгибающуюся ногу. Сцепив зубы, он стал поправлять сползшие, перепачканные в песке бинты, пытаясь прикрутить концы завязок к клочьям истерзанной штанины, чтобы бинты не спускались и не обнажали рану с застрявшими в ней осколками. За этим делом его и застал лейтенант Усов. Вид Сороки с его единственной штаниной и окровавленными, запачканными в песке бинтами производил тяжелое, гнетущее впечатление. Усов вытащил из полевой сумки свой индивидуальный пакет, еще раз перебинтовал ногу Сороки сверху и категорически приказал:
— Добирайся до казармы. Сейчас за ранеными придет машина.
— Есть добираться до казармы, — медленно, с расстановкой проговорил Сорока.
— Отлично стрелял. А за ремонт пулемета особое спасибо. Теперь иди быстрей.
— А куда торопиться, товарищ лейтенант? Машина-то ведь еще не пришла…
— Мне позвонили. Сейчас должна быть, — отрывисто проговорил Усов.
В эту минуту им обоим было очень тяжело. Усов, приставив к глазам бинокль, упершись локтем в пулеметную станину, стал говорить Сороке о скорой встрече:
— Конечно, Игнат, мы еще встретимся, вместе повоюем! Но сейчас ты торопись, дорогой, торопись… А то стукнет в другую ногу, тогда надо нести двоим. А люди, сам знаешь, здесь нужны… Иди, Игнат, на машину, иди…
Сорока уходил из траншеи с чувством виноватости и обиды на то, что он здесь лишний, неполноценный, и в то же время понимая, что начальник заставы прав. Подобьют вторую ногу — и он уже станет обузой. В казарме Сорока, кроме телефониста, никого не нашел. Он напился из бака воды, сменил брюки и, кое-как натянув штанину на раненую ногу, пользуясь временным затишьем, снова пробрался во вторую траншею. Стараясь не попадаться на глаза политруку Шарипову, Сорока пристроился в окопе Юдичева. Однако на него никто не обратил внимания. В ожидании атаки пограничники были суровы, сосредоточенны, молчаливы.
— Воды-ы! — яростно закричал Сорока. — Воды, говорю!
Но никто не отзывался. Все вокруг ухало, стреляло, дымилось.
— Воды! Владимиров! — Сорока бил мосластым кулаком по пустому горячему кожуху и ругался.
— Ну, где же ты провалился?!
— К колодцу бегал, — наливая в пулемет воду, ответил Владимиров. — А разве я долго бегал? Три минуты.
— Три минуты! А ты знаешь, что такое сейчас три минуты? — укорял его Сорока. — Годи, полно. Завинчивай, — уже более спокойно закончил Сорока и снова взялся за ручки пулемета, который застрекотал сразу же четко и ровно.
Атака была отбита. Сорока разжал руки и, повернувшись к пулемету спиной, вытянул несгибающуюся ногу. Сцепив зубы, он стал поправлять сползшие, перепачканные в песке бинты, пытаясь прикрутить концы завязок к клочьям истерзанной штанины, чтобы бинты не спускались и не обнажали рану с застрявшими в ней осколками. За этим делом его и застал лейтенант Усов. Вид Сороки с его единственной штаниной и окровавленными, запачканными в песке бинтами производил тяжелое, гнетущее впечатление. Усов вытащил из полевой сумки свой индивидуальный пакет, еще раз перебинтовал ногу Сороки сверху и категорически приказал:
— Добирайся до казармы. Сейчас за ранеными придет машина.
— Есть добираться до казармы, — медленно, с расстановкой проговорил Сорока.
— Отлично стрелял. А за ремонт пулемета особое спасибо. Теперь иди быстрей.
— А куда торопиться, товарищ лейтенант? Машина-то ведь еще не пришла…
— Мне позвонили. Сейчас должна быть, — отрывисто проговорил Усов.
В эту минуту им обоим было очень тяжело. Усов, приставив к глазам бинокль, упершись локтем в пулеметную станину, стал говорить Сороке о скорой встрече:
— Конечно, Игнат, мы еще встретимся, вместе повоюем! Но сейчас ты торопись, дорогой, торопись… А то стукнет в другую ногу, тогда надо нести двоим. А люди, сам знаешь, здесь нужны… Иди, Игнат, на машину, иди…
Сорока уходил из траншеи с чувством виноватости и обиды на то, что он здесь лишний, неполноценный, и в то же время понимая, что начальник заставы прав. Подобьют вторую ногу — и он уже станет обузой. В казарме Сорока, кроме телефониста, никого не нашел. Он напился из бака воды, сменил брюки и, кое-как натянув штанину на раненую ногу, пользуясь временным затишьем, снова пробрался во вторую траншею. Стараясь не попадаться на глаза политруку Шарипову, Сорока пристроился в окопе Юдичева. Однако на него никто не обратил внимания. В ожидании атаки пограничники были суровы, сосредоточенны, молчаливы.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В тот день особенно жарко пригревало солнце. Высохли на цветах хрустальные блестки росы. На узкую, заросшую травой межу от высокой колосистой ржи падала короткая тень. Она, казалось, вздрагивала от гулких неумолкающих выстрелов. Вздрагивала и устало шагавшая по меже Александра Григорьевна. В одной руке она несла белый узел, другой поддерживала Олю, одетую в пестренькое короткое платьице. Оля тоже несла в руках свой узелок с книжками. Иногда они останавливались, чтобы перевести дыхание. Александра Григорьевна прислушивалась и пугливо озиралась по сторонам. — Куда мы идем, тетя Шура? — дергая Александру Григорьевну за руку, спрашивала Оля. — Где же моя мама?… — Идем, Оленька, идем быстрей, милая, — торопила девочку Александра Григорьевна, а сама, измученная и потрясенная всем случившимся, не в состоянии была хоть сколько-нибудь прибавить шагу. Она тоже плохо соображала, куда и сколько времени они идут. — Ну где же мама, где? — шептала Оля, откидывала падающую на глаза темную, липкую от пота прядку волос. — Мама со Славой, наверное, здесь где-нибудь недалеко? Она нас дожидается, правда? — Да, да, Оленька, конечно, правда! — Шура вытирала выступавшие на глазах слезы и, как бы успокаивая себя, уверяла: — Ну, конечно, дожидается! — Это война, тетя Шура? И долго она будет? — спрашивала Оля, когда они садились отдыхать. — Кончится бой, и наши победят, да? — пытливо посматривая на учительницу, спрашивала Оля, ни на минуту не переставая думать о своей матери. Шуре тоже казалось, что так оно и будет. — Когда мы жили на другой границе, там тоже был бой, — вспоминала Оля. — Ночью тоже стреляли, стреляли, а утром наши победили — и все кончилось… Только маму бы разыскать… Она нас, наверное, ищет! Так они шли бесконечно долго. Сначала вдоль канала, дальше свернули на восток и стали пробираться через густую рожь. Стебли путались и раздирали ноги до крови. Над покачивающимися колосьями посвистывали пули, что-то рвалось и трещало, в лицо летели комья земли вместе с истерзанными хлебными колосьями. Шура и Оля падали, вновь поднимались и только после длительного блуждания угодили на межу, и по ней вышли на неизвестно куда ведущую дорогу, за которой тянулось широкое зеленое поле. В конце, его на возвышенности стоял темно-серый дот, вокруг него клубился сизый дым, вспыхивало пламя. В полукилометре стоял второй дот. Он тоже с грохотом изрыгал ослепительные вспышки пламени. Александра Григорьевна узнала местность. Оказалось, что, несмотря на долгое мучительное путешествие, они прошли от заставы не больше километра. Слева густо зеленел лес, стоило перебежать зеленое поле — и там серой лентой лежала дорога в комендатуру. Александра Григорьевна была твердо уверена, что в комендатуре они встретятся с Клавдией Федоровной. Шура уже решила переходить дорогу, но вдруг со стороны ржаного поля, утробно завывая мотором, показалась темная, незнакомой формы машина. В кузове над бледно-зелеными касками блестели короткие ножевые штыки. Александра Григорьевна разглядела на касках свастику. Вспыхнувший ужас заставил ее мгновенно схватить Олю за руку и, рванувшись, побежать обратно в рожь. Они бежали, спотыкаясь, ничего не видя перед собой, падали и только слышали сзади трескотню автоматов. Внезапно Оля несколько раз подряд крикнула: «Ой! Ой!» — и, задыхаясь, упала на землю. Александра Григорьевна, отпустив руку Оли, упала рядом. — Оленька, милая, что с тобой? — схватив девочку за голову и вглядываясь в ее побледневшее лицо, спросила Шура. — Нога, нога подвернулась… — Оля хотела тронуть ушибленное место ладонью, но быстро отдернула руку и с детским удивлением проговорила: — У меня кровь, кровь… Александра Григорьевна на мгновение застыла в неподвижности, но, пересилив себя, отдернула платье девочки и увидела выше колена струйку крови. Дрожащими руками она развязала свой узел и, разорвав какой-то платок, обмотала раненую ногу. Потрясенная случившимся, Оля первое время не чувствовала боли и даже уверяла Шуру, что ей совсем не больно, но встать на ногу не смогла. Позднее, обливаясь потом, она стала вздрагивать всем телом, просила пить. — Подожди, Оленька, милая моя девочка! Скоро мы дойдем, дойдем, неся на руках ставшее вдруг таким тяжелым тело девочки, говорила Шура. Она сама задыхалась от жары и усталости. Пройдя несколько шагов, Александра Григорьевна почувствовала, как у нее потемнело в глазах, часто и неровно застучало сердце, и она в изнеможении повалилась на землю. Когда открыла глаза, то, совсем как в бреду, охваченная радостью, увидела перед собой родную зеленую фуражку. Из-под козырька на нее смотрели усталые знакомые глаза. Она не сразу вспомнила, чьи это глаза, но уже знала, что это другие глаза, совсем не те, которые ей страстно хотелось увидеть. — Александра Григорьевна! Это я, Чубаров, повар, — проговорил пограничник хриплым голосом. — Вот с поручением в комендатуру пошел… и вот… Начальник заставы меня послал с документами… А меня, вишь, подстрелили… — продолжал Чубаров. — Размозжили коленку… Полз, полз и ползти уж сил не хватает… — Словно в доказательство того, что у него действительно не хватает сил и разбита коленка, повар показал рукой на обмотанную окровавленной штаниной ногу. — А дочку нашего политрука тоже ранили. — Чубаров отвернулся в сторону и с дрожью в голосе продолжал: Дочку нашего политрука… Она-то совсем маленькая. Вишь, спит и ничего не знает… Попить у меня все просила… А чем попоить? Нечем. Про папу с мамой спрашивала. — Как там наши?… — склонясь к Чубарову, одними губами прошептала Шура. — Ничего, наши бьются… Вот сейчас что-то притихли, наверное, опять отбили атаку. Я уже больше часа ползу. Сам весь горю и ногу, как огнем, жжет. Надо ведь, угодил куда — прямо в коленную чашку. Ну хоть бы в руку иль в плечо, иль еще куда-нибудь, чтобы двигаться можно было, а то как раздавленный… Как же я теперь приказ-то выполнять буду? Чубаров взял обеими руками ногу, хотел приподнять, но желто-зеленое лицо его исказилось от боли, и, чтобы заглушить боль, он продолжал говорить, как он кормил завтраком людей, как полз, как его ранили. — Как же, Александра Григорьевна, мне быть с документами? — задумчиво спросил повар. — Приказ я должен выполнить. — Подождем. Наши отобьются, и кто-нибудь сюда придет. Ведь бывали же нападения. Ночью стреляли, а днем все заканчивалось, — успокаивающе ответила Шура. — Э-э, нет, Александра Григорьевна! По всей границе началось, от моря и до моря. Начальник заставы такое сообщение получил. Война везде началась. Приказано биться так, чтобы не отдать ни одного кусочка земли. Ежели я был бы сейчас на заставе… Нога там или еще какое ранение, пристроился бы в окопе и стрелял бы, как и все наши, до последнего патрона! А теперь вот тут… — Чубаров покачал головой и, чтобы не заплакать, заскрипел зубами, и, повернув к ней лицо, приглушенным отрывистым голосом продолжал: — Вы знаете, как сержант Бражников этих гадов уничтожает? Сотню, наверное, из снайперской винтовки уложил на линии границы, а потом из пулемета. Лейтенант Усов дал задание подползти и закидать гранатами минометную батарею фашистов. Пошли они с Лысенкой, а потом мы наблюдали, какой там был грохот. Все на воздух подняли. Лысенку ранили, и Бражников его на плечах принес. Только фельдшер перевязал Лысенку, он тут же взял винтовку и стрелять начал из окопа. Вот как дерутся наши! — Вы видели Шарипова? — спросила Александра Григорьевна. С появлением Чубарова она немного успокоилась. Теперь около нее был хоть и раненый, но свой человек. — Шарипова я видел в самую последнюю минуту… Вернулся, гляжу, на том месте, где стрелял Лысенко, одна винтовка лежит, а Лысенки нету… Александра Григорьевна все поняла и не могла заставить себя расспрашивать дальше. Однако Чубаров говорил с жесткой простотой: — Не видно Лысенки и Фаргошина тоже… А политруку нашему сначала плечо осколком разбило… — Ранило? — Шура наклонила к нему лицо и вцепилась руками в его плечо. — Ранило?… Ну, говори же, говори! — Ранило его прежде, а потом… второй раз… — ответил Чубаров и осторожно снял со своего плеча тяжелые руки Шуры. — Сейчас почему так тихо, Чубаров? Почему там не стреляют? — касаясь концами пальцев его мокрой горячей щеки, спрашивала Александра Григорьевна. — Может, там уже никого нет? — Отбили, вот и тихо. Нет, наши оттуда уже не уйдут! Это я наверняка знаю. Оля вздрогнула и открыла глаза. Потирая кулачком переносицу, снова зажмурилась и уронила голову на узел, вяло попросила: — Мама! Мамочка! Дай мне водички попить…ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Очнувшись, Клавдия Федоровна почувствовала у себя на ногах что-то живое и теплое. Положив голову к матери на колени, совсем измученный мальчик спал тяжелым, тревожным сном. Клавдия Федоровна посмотрела на Славу, хотела было пошевелиться, изменить положение, дать отдохнуть своему онемевшему телу, но ей не хотелось тревожить ребенка, и она не переменила своего неудобного положения, ощущая острую боль в голове и во всем поющем теле, которую причиняла ей стучавшая по неровной дороге бричка. За высокой стеной темно-зеленого леса что-то ухало, грохотало и, казалось, шумно покачивало верхушки деревьев. Сознание пришло внезапно, и Клавдия Федоровна сообразила, что куда-то едет. Она вспомнила треск разрывающихся снарядов, падающие и лопающиеся в небе звезды, потом крик Оли и Славы… «А где же Оля?» — как молнией ударило ей в голову. Осмотрела торопливо бричку, спящего ребенка, запыленную спину бойца в зеленой пограничной фуражке, который вел лошадь под уздцы, и все поняла. — Подождите, товарищ, стойте, — тихо проговорила она со стоном в голосе. Боец оглянулся и, добродушно улыбаясь, придержал мерно шагающую лошадь и понимающе сказал: — Может быть, вам что-нибудь нужно? Я сейчас… — Он остановил лошадь. — Да куда же вы, Кабанов? — спросила Клавдия Федоровна, не понимая его хлопотливых движений. — Моя фамилия не Кабанов, а Тимошин. Егор Тимошин из комендатуры, поправил ее пограничник, косясь на округленный живот Клавдии Федоровны. Я всю дорогу за вас боялся. Потихоньку уж теперь еду. Спервоначалу шибко пришлось гнать. Долго в балке простояли, снаряды рвались, да и мальчик сильно плакал, а вас как лихорадка трясла. Вон оно что кругом творится! Мне комендант приказал доставить вас в полной сохранности. — Куда же мы едем-то? — почти выкрикнула Клавдия Федоровна. — В район едем. Туда приказано… — Поворачивай назад! У меня там дочка осталась! Оля!… Понимаешь? Скорей, скорей! Олюшка моя! Назад, Егорушка, давай назад, милый! Олю же надо взять! Олю! — Назад нельзя, что вы! — посматривая на Клавдию Федоровну испуганными глазами, проговорил Егор. — Значит, дочка ваша? Большая? — Маленькая, девять лет! Оленька моя! Поворачивай, поворачивай назад, милый, голубчик! — Вот ведь она история какая, а? — растерянно бормотал Егор Тимошин. — Что же делать-то? Назад поворачивать нельзя. — Почему нельзя? — вдруг резко заговорила Клавдия Федоровна, успокаивая проснувшегося и заплакавшего Славу. — Там наши! Слышишь? Бьются! — Все я слышу… Как же вы ее так одну оставили? — Она с учительницей Александрой Григорьевной, там отец в бою. Что же это такое делается?! — Выходит, она не одна? Это уж тогда мы зря задерживаемся. Раз не одна, значит, и ничего, может, и не случится. Мне надо скорей вас отвезти, а самому назад вернуться. — Тимошин стал решительно разматывать вожжи. — Значит, тебе все равно возвращаться назад, ну, и меня вези. Вези! твердо проговорила Клавдия Федоровна, чувствуя, что она без Оли не может ехать. — Нет, назад везти я вас не могу, никак нельзя. Егор собрал вожжи, сел в бричку и, положив на колени винтовку, тронул лошадь. — Неужели ты, Егорушка, такой бесчувственный! Там же дочка моя осталась, дите мое родное! Понимаешь ты или нет? Неужели у тебя такое каменное сердце? — Это у меня-то? — Егор Тимошин быстро обернулся и укоризненно покачал головой. Клавдия Федоровна беспомощно опустила руки и, прижимаясь лицом к маленькому Славе, горько заплакала. Миновали широкую зеленую стену леса. За лесом широким ковром раскинулся зеленый луг, а за ним — бурая, косматая, полновесно налившаяся рожь. На самой середине зеленого луга бричку обогнала грузовая, переполненная ранеными машина. Немного отъехав вперед, шофер затормозил. Из кабины вышел капитан медицинской службы и позвал к себе Тимошина, что-то негромко сказал ему. Егор Тимошин отдал честь и бегом вернулся к своей повозке. — Что он говорит? — спросила Клавдия Федоровна. — Ехать велел скорее. А мне еще назад надо вернуться. Вот она, какая история, — ответил Тимошин и, стегнув взмахнувшую хвостом лошадь, быстро покатил вслед за машиной. Клавдия Федоровна оглянулась и с разрывающей сердце тоской долго смотрела на оставшуюся позади зелень Августовских лесов, окутанных серыми полосами дыма. Не знала она и не думала, что вернется сюда только спустя четыре долгих и тяжких года. В районный центр приехали в полдень. Улицы и площадь были переполнены войсками, машинами и множеством эвакуирующихся людей. С этой самой минуты Клавдия Федоровна попала под рубрику этого неуютного, малознакомого слова, ставшего для людей, временно потерявших свой родной угол, символом страдания и беспримерного мужества. Клавдия Федоровна решила остановиться около районного комитета партии. Ей хотелось повидать Викторова. Она увидела его, окруженного группой военных и штатских. Поймав брошенный на нее взгляд, она помахала Викторову рукой. Он узнал ее и кивнул своей крупной головой. Поправив на носу очки, энергично раздвинув плечом толпившихся вокруг людей, он подошел к повозке. Окинув жену своего друга пытливым, внимательным взглядом, все понял и, ни о чем не расспрашивая, взял мальчика на руки, поднял его и ласково и просто сказал: — Ну, слезай, вояка. Приехали. Викторов поставил мальчика на землю, потом осторожно взял вялую и грузную Клавдию Федоровну за руку и помог ей слезть с повозки. — Только ночью вернулся из села, готовил людей к уборочной. А тут, видишь, что случилось. Я тебя давно жду. Всех наших женщин и детей уже проводили. — По старой привычке он считал пограничников своими. — Мне уже насчет вас звонили. Справлялись. — Кто звонил? Скажи скорее, Сергей Иванович! — нетерпеливо спросила Клавдия Федоровна. — Александр, конечно, звонил и комендант тоже. Беспокоились. — Давно звонил? — Часа три назад, — ответил Викторов. — Ты мне разреши ему позвонить? Вместе позвоним! Вот как у меня худо получилось… Олюшка-то моя там осталась… Если бы ты только знал, Сергей Иванович, если бы только знал, как мне тяжело!… — Все понимаю, дорогая моя, все! Позвонить сейчас невозможно. Понимаешь, линия все времязанята… — Викторову не хотелось ей говорить, что линия уже давно не работает, а в районе заставы и даже ближе уже фашистские войска. — Как же с девочкой у вас так получилось? — Ничего не могу сообразить и ничего не понимаю. Когда все это началось, прибежал Александр, взял Славку на руки, а меня повел к подводе. Я подумала, что Оля идет сзади… Почему она осталась с Александрой Григорьевной, не знаю! — Клавдия Федоровна не могла говорить, глаза ее наполнились слезами, и снова все перед нею потемнело и завертелось каруселью. Сергей Иванович завел ее во двор, посадил в кузов грузовой машины к раненым бойцам, сунул какую-то бумажку, крепко пожал руку и ушел. Вскоре машина тронулась со двора. Клавдию Федоровну кто-то позвал по имени. Она оглянулась. Из другого угла кузова на нее удивленно и в то же время тепло смотрели знакомые глаза, на забинтованном лице торчал большой рубцовский нос. — Зиновий Владимирович? — спросила Клавдия Федоровна. — Похож еще? — улыбнулся глазами Рубцов. — Перебирайся ко мне, душа моя, вместе будем страдать. Вот они, какие дела-то! При первой же короткой остановке Клавдия Федоровна перенесла Славу к нему и сама пристроилась у изголовья подполковника. Зиновий Владимирович долго молчал. — Значит, у тебя вещичек-то никаких? — наконец сказал он мрачно и удивил Клавдию Федоровну таким мелким, ничего не значащим в данную минуту вопросом. — Ничего взять не успела… Не до этого было. — Об этом горевать не станем. Может, в городе сумеешь к Галине забежать, там у нас кое-что для тебя найдется… Но как плохо у вас с Олюшкой получилось! А я вот остался без Марии Семеновны… — Что вы, Зиновий Владимирович! — удивленно посмотрела на него Клавдия Федоровна. Рубцов, потрогав на голове бинты и глухо кашлянув, хрипловатым басом проговорил: — Да, душа моя… сегодня утром… сегодня утром… когда только всходило солнышко, ее… убили. — Что вы такое говорите! — в ужасе выкрикнула Клавдия Федоровна. Она еще не привыкла к этой простейшей на войне возможности внезапно умереть и подумала: «Не шутит ли?» Но по искаженному страданием лицу Рубцова видела и чувствовала, что подполковнику не до шуток. — Говорю, что уж есть, и не могу не говорить! — продолжал Рубцов. Он помолчал с минуту и стал рассказывать более спокойно: — Меня еще утром, по дурацкой случайности, осколками слегка стукнуло. А ей какой-то доброжелатель позвонил по телефону. Она и решила прийти ко мне, посмотреть. Убеждал я ее по телефону, что это пустяки, не стоит приходить. Но она не послушалась, пошла все-таки и угодила под бомбежку… — Рубцов посмотрел на Клавдию Федоровну. — Ну, чего ты плачешь? — спросил он участливо. — Зря я все это рассказал. Перестань плакать, а то я молчать буду. Вот ты только подумай, у кого сегодня горя нет? С утра бомбили Львов, Киев, Минск, Брест, Ленинград! Сколько там горя! А сколько его еще будет впереди! Я провоевал всего шесть часов и, надо сказать, очень плохо воевал. Четыре войны хорошо воевал, а на этот раз плохо! Пушки потерял, жену потерял, самого изуродовали. Черт его знает, что я делал, командовал и злился, как необстрелянный прапорщик… Вроде все делалось не так, как мне хотелось, или оттого, что война внезапно началась, или мы чего-то недоглядели и плохо учились воевать? Очевидно, всего есть понемногу. Надо все заново пересмотреть, передумать. Главное — себя перетряхнуть и людей. Главное — действовать! Ваши хорошо дрались на заставе. Все видел и слышал, по телефону с ними разговаривал, помогал им, как мог, но… Хорошо дрались, хорошо! Первый удар на себя приняли у самых пограничных столбов…
— Что у них дальше-то было? Вы ведь оттуда, Зиновий Владимирович, вы все должны знать.
— Всего никто не знает, милая Клавдия Федоровна. Я ведь кривить душой не умею и утешать тоже. Им пришлось трудно. Приняли на себя лобовой удар крупных сил. Они до конца выполнили свой долг. Честь им и слава!
Машину подбрасывало на ухабах. Раненые внимательно прислушивались к словам подполковника и смотрели в голубое безоблачное небо, где со свистом пролетали чужие, вражеские самолеты. Машина шла по магистрали, окутанной клубами дыма и вспышками взвивающегося пламени. Гулко и часто громыхали орудия.
Шел первый день Великой Отечественной войны.
— Говорю, что уж есть, и не могу не говорить! — продолжал Рубцов. Он помолчал с минуту и стал рассказывать более спокойно: — Меня еще утром, по дурацкой случайности, осколками слегка стукнуло. А ей какой-то доброжелатель позвонил по телефону. Она и решила прийти ко мне, посмотреть. Убеждал я ее по телефону, что это пустяки, не стоит приходить. Но она не послушалась, пошла все-таки и угодила под бомбежку… — Рубцов посмотрел на Клавдию Федоровну. — Ну, чего ты плачешь? — спросил он участливо. — Зря я все это рассказал. Перестань плакать, а то я молчать буду. Вот ты только подумай, у кого сегодня горя нет? С утра бомбили Львов, Киев, Минск, Брест, Ленинград! Сколько там горя! А сколько его еще будет впереди! Я провоевал всего шесть часов и, надо сказать, очень плохо воевал. Четыре войны хорошо воевал, а на этот раз плохо! Пушки потерял, жену потерял, самого изуродовали. Черт его знает, что я делал, командовал и злился, как необстрелянный прапорщик… Вроде все делалось не так, как мне хотелось, или оттого, что война внезапно началась, или мы чего-то недоглядели и плохо учились воевать? Очевидно, всего есть понемногу. Надо все заново пересмотреть, передумать. Главное — себя перетряхнуть и людей. Главное — действовать! Ваши хорошо дрались на заставе. Все видел и слышал, по телефону с ними разговаривал, помогал им, как мог, но… Хорошо дрались, хорошо! Первый удар на себя приняли у самых пограничных столбов…
— Что у них дальше-то было? Вы ведь оттуда, Зиновий Владимирович, вы все должны знать.
— Всего никто не знает, милая Клавдия Федоровна. Я ведь кривить душой не умею и утешать тоже. Им пришлось трудно. Приняли на себя лобовой удар крупных сил. Они до конца выполнили свой долг. Честь им и слава!
Машину подбрасывало на ухабах. Раненые внимательно прислушивались к словам подполковника и смотрели в голубое безоблачное небо, где со свистом пролетали чужие, вражеские самолеты. Машина шла по магистрали, окутанной клубами дыма и вспышками взвивающегося пламени. Гулко и часто громыхали орудия.
Шел первый день Великой Отечественной войны.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
На заставе продолжался яростный бой. Утреннее солнце круглым раскаленным шаром повисло на востоке, и сквозь дым казалось, будто оно замерло на месте, чтобы освещать пограничников, их закопченное оружие, марлевые на головах повязки, окрашенные кровью. Это было в то воскресное утро, в то время, когда москвичи поднимались с постелей; одни из них, вскинув на плечи полотенце, шли умываться, другие укладывали в рюкзаки и чемоданы свертки, наскоро просматривали свежие газеты и журналы, торопились на дачу. Они назвали бы сумасшедшим того, кто сказал бы в то солнечное утро, что ровно через сто дней в подмосковном лесу, где они собирались провести свой выходной день, загрохочут тяжелые пушки, тысячами стволов разорвет тишину пулеметная дробь и повалятся истерзанные снарядами и бомбами вековые деревья. Трудно было во все это поверить до того часа, пока радио не сообщило народу о нападении гитлеровской армии на мирную Советскую страну… Шарипов стоит в глубокой траншее. В левой руке у него бинокль, правая — обмотана бинтами. Она висит рядом с разорванным рукавом гимнастерки, из марлевой повязки видны концы распухших посиневших пальцев. Рядом с политруком стоит его заместитель Стебайлов. У него на голове вместо пограничной фуражки белой чалмой намотан бинт. Не обращая внимания на разрывы мин и снарядов, он докладывает политруку, что фашисты готовятся к повторной атаке. По-прежнему у ручного пулемета стоит сержант Башарин, зорко следит за каждым движением врага и, когда нужно, хлестко бьет короткими очередями. Пригнувшись под тяжестью ящика, по траншее идет Юдичев. За ним прихрамывает Сорока. Под мышками у него две цинковые коробки с патронами. — Разрешите доложить, товарищ политрук? Принесли последние патроны, говорит Юдичев, сбрасывая с плеч ящик. — Остальные отдали в первую траншею, — тяжело стукнув о землю цинковой коробкой, докладывает Сорока. — Остались только бронебойные и трассирующие. Разрешите вскрыть? — Да, да. Вскройте. Зарядите все диски, набейте подсумки. Будем бить бронебойными. Зря не стреляйте, берегите патроны. Скоро придут войска — и все у нас будет. Выдержать надо, выдержать! Так, товарищ Юдичев? — Комсомольская застава, товарищ политрук, да чтобы не выдержала! Вон сколько мы их положили! Юдичев снимает с патронного ящика крышку и разрывает бумажную обертку. Вместе с пачками патронов в руках у него картонка упаковочного ярлыка. Юдичев медленно читает вслух: «Завод номер двести шестьдесят пять, упаковочный ярлык номер тысяча девятьсот двадцать один». Улыбнувшись, он присаживается на корточки. Сдвинув на затылок запыленную фуражку, показывая Сороке ярлык, говорит: — Игнат, посмотри… Вот штука, понимаешь: ярлык номер тысяча девятьсот двадцать первый! — Ну и что же из этого? — удивляется Сорока. — Как что? Какого я года рождения? Тысяча девятьсот двадцать первого, а тут у упаковщицы тоже такая цифра, вот случай, а! — Это верно… Ты спрячь ярлычок-то. На досуге письмо напиши и поблагодари за упаковку. Заведешь переписочку — то да се, глядишь, война кончится, женишься… — Да я женатый… Звуки его голоса заглушает трескучий разрыв мины. Над траншеей повизгивают осколки, шуршит и, словно живая, шевелится осыпающаяся по краям земля. — Вот они, товарищ политрук, смотрите! — приседая, шепчет Стебайлов. — К берегу канала спрыгивают. Что-то замыслили… Стебайлов только что вернулся из вылазки и видел, как фашисты, пробираясь берегом канала, накапливались за густыми кустами черемухи под обрывом. Шарипову было ясно, что фашисты хотят приблизиться на короткое расстояние и, навалившись подавляющей силой на правый фланг, ворваться на заставу с северо-запада. Людей у Шарипова осталось мало. У лейтенанта Усова тоже немного. Он все время отбивает атаки с юго-западной стороны, где на поле перед траншеей виднеются трупы в темно-зеленых мундирах. Высота, по которой проходит первая траншея, господствует над всей окрестностью. С тыла траншею прикрывают два железобетонных дота. Там идет беспрерывная артиллерийская пальба. К югу от заставы немцы ввели в бой большое количество танков. Есть приказ командования удержать заставу любыми средствами. Она контролирует большую площадь и не дает развернуться немецкой пехоте, так как справа от заставы Августовский канал, слева — позиция артиллерии. — Стебайлов, раскройте еще ящик гранат. Мы их сейчас атакуем первыми. Забросаем овраг гранатами. — Есть приготовить гранаты! — Стебайлов идет выполнять приказание. Люди все заняты. Заряжают диски, набивают патронами подсумки и даже карманы. У Шарипова бледное, позеленевшее лицо, только глаза, когда он, склонившись, разговаривает с Усовым по телефону, блестят с напряженной строгостью. — Решил сделать еще одну вылазку. Иначе нам придется трудно. Они готовят атаку, а пулемет вышел из строя, — кричит политрук в телефонную трубку. Несколько человек выстроены вдоль траншеи. Впереди сам Шарипов, за ним Стебайлов. У всех к винтовкам примкнуты штыки. У Шарипова пистолет заткнут за ремень, так удобней. В руках граната, за поясом еще несколько. Он коротко отдает приказание: — Действовать смело и решительно. Башарин, как только услышишь «ура», бей по мосту. Там засели фашистские автоматчики, пришивай их на месте, а то они могут нам помешать. Вы тоже здесь кричите «ура». Громче кричите! За мной, товарищи! Шарипов поворачивается и, пригнувшись, быстро идет вперед. Траншея уводит вниз к оврагу, поворачивает на северо-восток. Отсюда начинаются заросли молодой черемухи, ольшаника и чернотала. Там есть тропки, известные только пограничникам, — они приведут туда, куда нужно. Перед оврагом высота, доходящая до самого канала. За этой высотой крутой обрыв, там-то внизу, у берега, и накопились фашисты. Вот сейчас надо бесшумно пробраться на самую вершину высотки. Там не должно быть фашистов: пулеметы Башарина и Усова прожигают кусты насквозь. Если гитлеровцы вздумают еще раз обойти заставу с севера, от моста, то их встретит огонь другого ручного пулемета. У противника единственный выход это вскарабкаться на высоту и лезть через кусты напролом… Но пограничники во главе с Шариповым их опередили. Шарипов выскакивает на обрыв первым, кричит: «Ур-ра! За Родину! Вперед!» — и швыряет первую гранату. Крик его подхватывают пограничники. В овраг летят гранаты. Земля гудит от оглушительных взрывов. Вместе с истошным нечеловеческим воем что-то трещит, ломается. Слышны всплески воды, вместе с брызгами вверх взлетают гнилые обломки бревен, которыми обшиты стенки канала. Фашисты прыгают в воду и гибнут под выстрелами пограничников. Пулемет Башарина добивает автоматчиков на мосту. Бесшумно возвращаются пограничники обратно. Несут на руках Юдичева.
На заставе снова тишина, на этот раз оцепенелая и зловещая. Слышно, как плещется в канале рыба, щебечут на ветках воробьи. В конюшне тревожно и призывно заржали кони. Их сегодня забыли выгнать на пастбище. Особенно неистовствует рыжий конь Усова.
Усов услышал призывное ржание своего коня, что-то резко крикнул последний раз в телефонную трубку и вяло выпустил ее из рук. Она скользнула но колену и бесшумно упала на землю. Связи уже не было. На правом фланге гитлеровские танки прорвали нашу оборону, заняли село Вулько-Гусарское. На левом фланге танки прорвались к дотам и вышли заставе в тыл. Все это сообщили Усову в последнюю минуту — и на этом оборвалась связь.
Начальник заставы посмотрел вокруг. Людей осталось мало. Владимиров приник к ложе снайперской винтовки, целится и изредка стреляет. Усов помнит номер этой винтовки: «А-С 450». Сегодня он сам много раз стрелял из нее. Она уже перешла в третьи руки. Румянцев дежурит у станкового пулемета, накрытого сверху крепкой тяжелой дверью. Она хорошо защищает от осколков. Бражников раненой рукой пытается перевязать вторую, пробитую пулей. Кровь просачивается сквозь слабо наложенную повязку.
Усов, заметив его усилия, выбросил изо рта папиросу, подошел, крепко и быстро забинтовал.
— Вот что, Бражников, — после молчания заговорил Усов. — Пойдешь сейчас в комендатуру и передашь донесение. На словах расскажешь все, что сам видел. Скажи, что ждем помощи… Раненых отправить надо.
— О, они не пойдут! Я уже, по вашему приказанию, пробовал отослать не уходят. Сорока во второй траншее дерется.
— Ничего, машина придет — поедут. Ты сам быстрей отправляйся!
— Мне бы тоже не хотелось, товарищ лейтенант…
— А донесение кто понесет? Сам начальник? Не задерживайся, быстро, понимаешь? Телефон не работает.
— Понимаю… Но в комендатуру, я думаю, уже не пробраться.
— Должен пробраться. Понятно?
— Да, все ясно, товарищ лейтенант…
— Надо быстро доставить донесение!
— Будет исполнено! Разрешите отправиться?
— Подожди… — Усов пожевал запекшимися губами, вдавил пяткой песок на дне окопа, потом отломил от обшивки тоненькую щепочку и, покусывая ее, добавил: — В случае чего донесение прочти, запомни и уничтожь. Иди берегом канала, дальше через ржаное поле, а там лесочком. По дороге не иди. — Взяв Бражникова за голову, Усов притянул его к себе, поцеловал и сказал хрипловато: — Выздоравливай, герой… Все! Отправляйся!
Но Бражников не уходил. С большими, вздутыми от бинтов, опущенными вниз руками, по-ребячьи моргая глазами, он смотрел куда-то в сторону.
— Ну чего стоишь? Может быть, встретишь жену мою, Шуру, кланяйся. Теперь ступай. Пару гранат захвати с собой.
— Значит, мне надо идти? — не меняя положения, спросил Бражников.
— Надо, — проговорил Усов и, не оборачиваясь, добавил: — Пойдешь мимо конюшни, коней на волю выпусти, пускай тоже уходят… — Не добавив больше ни слова, Усов пошел по траншее и остановился там, где лежала его снайперская винтовка.
Бражников, как-то странно, не двигая опущенными руками, пошел в другую сторону и скрылся за поворотом траншеи. Когда он спустился к каналу, позади него все загрохотало и загудело, и вновь вместе с пулеметной дробью затряслась земля, забилась, будто в судороге. Оглянувшись, он увидел, как взлетела на воздух расщепленная взрывом снаряда дверь, укрывавшая станковый пулемет. И Бражников понял, что на заставе скоро наступит тишина. Не слышно было пулеметов во второй траншее. В первой раздавались отдельные винтовочные выстрелы. Заметил Бражников и то, как обходили заставу и били снарядами серые тяжелые танки…
Из первой траншеи к Усову пришел заместитель политрука Стебайлов. Он молча показал рукой на ползущий ко второй траншее фашистский танк. Взяв чей-то карабин, сделал по танку несколько выстрелов и упал на дно траншеи.
Начальник заставы остался один. Он продолжал стрелять из снайперской винтовки по бегущей за танками немецкой пехоте. Но вот кончились патроны. Он пододвинул ногой нераспечатанную цинковую коробку с патронами. Наклонившись, яростно отодрал от нее свинцовую ленту, разорвал картон на пачке. Зарядив винтовку, выбирая подбегающих фашистов, выстрелами валил их на землю. Снова кончилась обойма. Прижавшись спиной к стенке окопа, он вставил запал в ручную гранату и положил ее себе под ноги. Потом перезарядил винтовку, несколько раз выстрелил, стал загонять новый патрон, но уже дослать его в патронник не успел. Сраженный разрывом мины, он упал на спину. Разорвавшийся рядом снаряд обвалил край окопа и засыпал начальника пограничной заставы вместе с его оружием.
Так со снайперской винтовкой «А-С 450» в руках нашли его тело одиннадцать лет спустя…
Бесшумно возвращаются пограничники обратно. Несут на руках Юдичева.
На заставе снова тишина, на этот раз оцепенелая и зловещая. Слышно, как плещется в канале рыба, щебечут на ветках воробьи. В конюшне тревожно и призывно заржали кони. Их сегодня забыли выгнать на пастбище. Особенно неистовствует рыжий конь Усова.
Усов услышал призывное ржание своего коня, что-то резко крикнул последний раз в телефонную трубку и вяло выпустил ее из рук. Она скользнула но колену и бесшумно упала на землю. Связи уже не было. На правом фланге гитлеровские танки прорвали нашу оборону, заняли село Вулько-Гусарское. На левом фланге танки прорвались к дотам и вышли заставе в тыл. Все это сообщили Усову в последнюю минуту — и на этом оборвалась связь.
Начальник заставы посмотрел вокруг. Людей осталось мало. Владимиров приник к ложе снайперской винтовки, целится и изредка стреляет. Усов помнит номер этой винтовки: «А-С 450». Сегодня он сам много раз стрелял из нее. Она уже перешла в третьи руки. Румянцев дежурит у станкового пулемета, накрытого сверху крепкой тяжелой дверью. Она хорошо защищает от осколков. Бражников раненой рукой пытается перевязать вторую, пробитую пулей. Кровь просачивается сквозь слабо наложенную повязку.
Усов, заметив его усилия, выбросил изо рта папиросу, подошел, крепко и быстро забинтовал.
— Вот что, Бражников, — после молчания заговорил Усов. — Пойдешь сейчас в комендатуру и передашь донесение. На словах расскажешь все, что сам видел. Скажи, что ждем помощи… Раненых отправить надо.
— О, они не пойдут! Я уже, по вашему приказанию, пробовал отослать не уходят. Сорока во второй траншее дерется.
— Ничего, машина придет — поедут. Ты сам быстрей отправляйся!
— Мне бы тоже не хотелось, товарищ лейтенант…
— А донесение кто понесет? Сам начальник? Не задерживайся, быстро, понимаешь? Телефон не работает.
— Понимаю… Но в комендатуру, я думаю, уже не пробраться.
— Должен пробраться. Понятно?
— Да, все ясно, товарищ лейтенант…
— Надо быстро доставить донесение!
— Будет исполнено! Разрешите отправиться?
— Подожди… — Усов пожевал запекшимися губами, вдавил пяткой песок на дне окопа, потом отломил от обшивки тоненькую щепочку и, покусывая ее, добавил: — В случае чего донесение прочти, запомни и уничтожь. Иди берегом канала, дальше через ржаное поле, а там лесочком. По дороге не иди. — Взяв Бражникова за голову, Усов притянул его к себе, поцеловал и сказал хрипловато: — Выздоравливай, герой… Все! Отправляйся!
Но Бражников не уходил. С большими, вздутыми от бинтов, опущенными вниз руками, по-ребячьи моргая глазами, он смотрел куда-то в сторону.
— Ну чего стоишь? Может быть, встретишь жену мою, Шуру, кланяйся. Теперь ступай. Пару гранат захвати с собой.
— Значит, мне надо идти? — не меняя положения, спросил Бражников.
— Надо, — проговорил Усов и, не оборачиваясь, добавил: — Пойдешь мимо конюшни, коней на волю выпусти, пускай тоже уходят… — Не добавив больше ни слова, Усов пошел по траншее и остановился там, где лежала его снайперская винтовка.
Бражников, как-то странно, не двигая опущенными руками, пошел в другую сторону и скрылся за поворотом траншеи. Когда он спустился к каналу, позади него все загрохотало и загудело, и вновь вместе с пулеметной дробью затряслась земля, забилась, будто в судороге. Оглянувшись, он увидел, как взлетела на воздух расщепленная взрывом снаряда дверь, укрывавшая станковый пулемет. И Бражников понял, что на заставе скоро наступит тишина. Не слышно было пулеметов во второй траншее. В первой раздавались отдельные винтовочные выстрелы. Заметил Бражников и то, как обходили заставу и били снарядами серые тяжелые танки…
Из первой траншеи к Усову пришел заместитель политрука Стебайлов. Он молча показал рукой на ползущий ко второй траншее фашистский танк. Взяв чей-то карабин, сделал по танку несколько выстрелов и упал на дно траншеи.
Начальник заставы остался один. Он продолжал стрелять из снайперской винтовки по бегущей за танками немецкой пехоте. Но вот кончились патроны. Он пододвинул ногой нераспечатанную цинковую коробку с патронами. Наклонившись, яростно отодрал от нее свинцовую ленту, разорвал картон на пачке. Зарядив винтовку, выбирая подбегающих фашистов, выстрелами валил их на землю. Снова кончилась обойма. Прижавшись спиной к стенке окопа, он вставил запал в ручную гранату и положил ее себе под ноги. Потом перезарядил винтовку, несколько раз выстрелил, стал загонять новый патрон, но уже дослать его в патронник не успел. Сраженный разрывом мины, он упал на спину. Разорвавшийся рядом снаряд обвалил край окопа и засыпал начальника пограничной заставы вместе с его оружием.
Так со снайперской винтовкой «А-С 450» в руках нашли его тело одиннадцать лет спустя…

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Оля протянула руку, чтобы сорвать усатый колосок, но вскрикнула от режущей боли в ноге и разбудила Александру Григорьевну.
Чубаров, подняв голову, попросил пить. Выяснилось, что у него не только разбита коленная чашечка, но есть еще и рваная осколочная рана в голени.
— Плохо вам, милые… Что же мне такое сделать? Все стреляют и стреляют, — завязывая на голове косынку, проговорила Александра Григорьевна. — Положи, Оленька, головку ко мне на колени… Что-нибудь придумаем, может быть, воды немного найдем.
— Спасибо, тетя Шура. Ой как жарко, хоть бы маленечко водички. Где же мама? Где же мамочка? — Оля сорвала ржаной колосок, размяла его на ладони и стала грызть.
Глаза девочки испуганно, с печальным выжиданием смотрели по сторонам. Побледневшее ее лицо было испачкано землей.
Выстрелы иногда раздавались совсем близко, по полю раскатывались резкие длинные пулеметные очереди. Плечи Оли вздрагивали. Александре Григорьевне тяжело и больно было на нее смотреть. Она положила на лоб девочки руку и почувствовала, как ладонь обожгло сухим жаром.
— Что же мы будем делать, как думаешь, товарищ Чубаров? Ты человек военный, — посматривая на раненого пограничника, сказала Шура, надеясь, что он придумает и подскажет какое-нибудь решение.
— Что делать? — Чубаров, приподняв голову, подтянул за ремень винтовку дулом под мышку, вытер рукавом обильно катившийся по лицу пот. Что делать? — повторил он. — Дождемся вечера, а там пойдем дальше, будем искать наших. Они должны быть близко, стреляют же…
— А идти сможешь?
— Идти не смогу. Буду как-нибудь передвигаться ползком…
— Так далеко не уйдем, — со вздохом проговорила Александра Григорьевна.
У нее было такое состояние, как будто она куда-то бесконечно долго, без передышки бежала, потом присела отдохнуть, но встать не было сил.
— Нам бы только до леса добраться, хоть в тени где-нибудь полежать… Может, там и воды найдем. Страшно хочется пить! В лесу, надо полагать, наша пехота залегла, ночью в наступление пойдет. И танки, наверное, подтянули. Вышвырнем гада обратно за границу…
Шура тоже была уверена, что фашистов быстро прогонят.
За ржаным полем послышался перекатывающийся по земле гул. Он все нарастал и приближался.
— Александра Григорьевна, — проговорил Чубаров, — вы не сможете пройти к дороге? Ну, стало быть, как будто бы в разведку. Там вроде кто-то двигается. Я бы и сам, конечно… но уж больно долго мне придется ползти.
Он приподнялся и сел, вытянув неподвижную, неуклюже забинтованную ногу.
— Боюсь я очень, — откровенно призналась Шура.
В душе она понимала, что надо что-то предпринимать, и, как единственный здоровый человек, чувствовала на себе ответственность за судьбу и Чубарова и Оли. Но ей казалось, что, как только она отойдет немного в сторону, ее непременно заметят и сразу начнут обстреливать.
— Вы далеко не ходите, — наставлял Чубаров. — Выйдите на межу и наблюдайте, что там делается. На заставу взгляните, как там наши… Утихло вроде…
Мягко ступая домашними тапочками, в которых она выбежала из квартиры, и осторожно раздвигая спутанные стебли ржи, Шура пошла в ту сторону, где, по мнению Чубарова, должны быть межа и дорога, ведущая по направлению к заставе.
Александра Григорьевна взошла на небольшой бугорок. Стараясь не подниматься над густой рожью и закрыв от яркого солнца глаза ладонью, стала напряженно смотреть вперед. На расстоянии чуть побольше километра виднелась застава. Там что-то дымилось. Шура ясно разглядела длинное из красного кирпича здание конюшни, низкий одноэтажный корпус казармы; в густой зелени фруктового сада краснела железная крыша командирского дома. В луговой низине, около берега канала, паслись кони. По белым чулкам на ногах и светлой на голове лысине она узнала коня Усова. Казалось, все было на своем месте, ничего не изменилось. Не слышно было и стрельбы. «Может быть, бой давно уже кончился. Может быть, Витя давно уже нас разыскивает. Найдет и станет подшучивать», — вспыхнула на мгновение в голове Шуры радостная мысль. Но от сознания, что кони пасутся не на обычном месте да еще в самый разгар жаркого дня, вспышка мгновенной радости начала потухать, превращаться в болезненное ощущение чего-то страшного, непоправимого.
«Если бы все благополучно кончилось, то не паслись бы так беспечно кони, — подумала Александра Григорьевна. — Рыжий давно уже был бы подседлан и мчал хозяина куда-нибудь в комендатуру или на соседнюю заставу; скакали бы посыльные с боевым донесением и не щелкали бы в Вулько-Гусарском одиночные выстрелы и автоматные очереди».
Над заставой по-прежнему гордо развевался красный флаг. Но что это? Шура только сейчас заметила у стен казармы и конюшни темно-серые, крытые брезентом грузовики, а из распахнутых ворот вдруг выехала незнакомая приземистая легковая машина и покатила через мост в Вулько-Гусарское. Разглядев на людях приплюснутые каски, Александра Григорьевна поняла, что на заставе уже хозяйничают фашисты. «Но где же наши? Куда ушли наши?» волновалась Шура. Ей даже и в голову не приходило, что Усов мог погибнуть, она гнала эту страшную мысль от себя, не хотела и не могла об этом думать. «Куда же все-таки девались наши?» В груди стало нестерпимо жечь, словно туда бросили раскаленный кусок металла, который быстро вертелся и все сильнее припекал сердце. Ведь там, под этой крышей, ее дом, роднее и дороже которого не было сейчас уголка на свете. Как хочется вернуться на заставу, попить из колодца холодной водички, лечь отдохнуть в свежую, чистую постель!…
Но она не только лишена всего этого, а даже сейчас не должна об этом думать. Ее ожидают страдающие люди. Она чувствует себя уже не школьной учительницей, а разведчицей. Ей нужно посмотреть, что вокруг делается, и принять решение, от которого зависят их жизни. Вон справа по пыльной дороге в комендатуру ползет вереница машин, повозок и пушек. Что-то страшное и зловещее в этом движении. А слева, на краю ржаного поля, возникает вдруг сплошной лес покачивающихся ножей над полукруглыми шарами. У Александры Григорьевны останавливается сердце. Она сразу не может даже понять, что это движется колонна фашистов, у которых на ружьях вместо штыков плоские ножи, а шары — все те же темно-серые каски со свастикой…
— Дядя Миша, а куда тетя Шура ушла? Почему ее долго нет? Дядя Миша, что это так сильно стучит? Даже земля трясется… Кто это громко разговаривает? Мне страшно, дядя Миша, — тихо, дрожащим голоском говорит Оля и смотрит на Чубарова расширенными от ужаса глазами. — Дядя Миша, а если мы пойдем к тете Франчишке, попьем там молочка? Тетя Франчишка добрая…
— Тебе можно и сходить, а мне нельзя, — отвечает Чубаров.
— А тете Шуре можно?
— Нет, ей тоже нельзя! — серьезно говорит Чубаров.
— Ну, значит, и мне нельзя, — вздыхает Оля.
Склонив головку, она выбирает из колоска наполненные сладковатым молочком хлебные зернышки. Это немножко утоляет жажду и голод.
— Ты еще, Оля, совсем дитя, тебя не тронут, — силясь улыбнуться, говорит пограничник.
— И вовсе я не дитя. Нельзя мне туда, пионерка потому что! Как вы думаете, дядя Миша, где сейчас мой папа? — И, не дожидаясь его ответа, добавляет: — На заставе, конечно… Наверно, туда уж можно идти? Как вы думаете?
Вопрос застает Чубарова врасплох. Он медленно поворачивает голову и начинает стонать. Беседуя с Олей, он немного забылся, отвлекся от своего тяжелого состояния, и вдруг она напомнила ему все, что произошло на заставе: перед его глазами снова возникли раненый политрук и погибшие товарищи.
— Интересно, как найдут нас и что тогда будет? — спрашивала Оля. Вот я на минуточку закрываю глаза, а потом открываю, и передо мной стоит папа и говорит: «Ну, пойдем, Оленка-соленка, домой. Мама ждет, совсем расстроилась». А я ему отвечаю: «Милый папочка, я не могу идти, у меня ножка раненая…» А он мне скажет: «Мне с тобой в шуточки играть некогда. Мать с ума по тебе сходит, а ты шуточки!» — «Да правда, папа, посмотри!» Он посмотрит и удивится: «Верно ведь, милая моя дочушечка!» Подхватит меня на руки да бегом на заставу, а ежели верхом приедет, то посадит впереди себя на седло, и помчимся мы… А там мама… Она сейчас же расстроится, начнет хлопотать, уложит меня в постельку, даст горячего чаю с вареньем… всего, всего принесет… А я буду просить холодной водички… А тут братик мой рядом стоит. Притих, тихонечко мне руку поглаживает и говорит: «Оленька, сестричка моя, я теперь всегда тебя буду слушаться…»
Оля по-детски увлеклась рассказом, говорила об этом так, как будто видела перед собой лица матери, отца, братишки. Она не замечала, как тряслось, вздрагивало большое тело Чубарова и билась о землю его голова в зеленой фуражке.
В эту минуту совсем рядом с оглушительным треском ударили многочисленные автоматы и пулеметы. Разрывные пули лопались вокруг, срезали над головой девочки трепетавшие колосья ржи, впивались в землю. Оля сидела с застывшими глазами и ничего не понимала после своего чудесного, как сон, видения.
Чубаров схватил окаменевшую от ужаса девочку, прижал к себе и закрыл ее своим телом…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Максим Бражников ушел от заставы недалеко. Как только там снова вспыхнул бой, он сел на крутом обрыве Августовского канала и был уже не в силах сделать дальше ни одного шага. Глаза были обращены туда, где его товарищи принимали на себя всю тяжесть неравного и жестокого боя. Непреоборимая сила тянула Максима обратно к своим друзьям и товарищам. Он видел, что ни один раненый не покинул своего места в бою, и он тоже бы никуда не пошел в этот трудный час, если бы ему не приказал начальник заставы. Максим не мог понять до сих пор, почему лейтенант Усов выбрал именно его, а не кого-нибудь другого. Когда на первой траншее прогремел последний выстрел и на бруствере появилась стальная громада вражеского танка, Бражников закрыл глаза и крепко стиснул зубы. Превозмогая боль, он пошевелил правой забинтованной рукой, снял фуражку, вытащил из-под клеенчатой подкладки донесение и развернул его. Крупным неровным почерком было написано: «Тов. Бражников! В комендатуру не заходи. Там противник. Ищи наших где-нибудь в ближайшем лесу. Когда встретишь, то расскажи все, как было. Иди осторожно, лесочком. Л-т Усов». Максим до боли зажал записку распухшими пальцами, поднял налившиеся слезами и кровью глаза и долго смотрел на дымящуюся заставу. Темно-серый танк, развернувшись, бил из пулемета по пустой казарме, потом, заскрежетав гусеницами, въехал во двор и остановился. Из открывшегося люка сначала помахали пестрым флажком, затем уже показалась голова в странном шлеме и грузное туловище танкиста. Бражников на минуту задумался, потом лег на край оврага, положив перед собой карабин. Прицелившись ниже флажка, он выстрелил. Темная фигура танкиста перевесилась через борт люка; флажок, затрепетав на ветру, упал на землю. Вновь загрохотали выстрелы. Максим скатился по отлогому спуску к каналу. Тяжело приподнявшись, он спрятал измятую записку в карман. С трудом повесив карабин на плечо, Максим осторожно пошел кустами вдоль берега. У изгиба канала он вылез на яр и, пробираясь сквозь буйно растущую рожь, взял направление на северо-восток. Вскоре он пересек поле, пригнувшись перебежал через пыльную дорогу, миновал редкий кустарник на опушке леса и очутился в густом тихом лесу. Выбрав место поглуше и поуютней, Бражников устало опустился на землю. Ему хотелось уснуть, забыться длительным, оздоровляющим сном. Но сделать это не пришлось. Острым охотничьим инстинктом он почувствовал приближение человека и, спрятавшись за толстое дерево, положил на сук карабин.
Из ближайших кустов с чемоданчиком в руках вышел человек в черном пиджаке и такой же кепке. Видимо заметив пограничника, он смело зашагал к нему и, не дойдя шагов десять, остановился.
— Здравствуйте, товарищ, — проговорил человек, снимая свою черную кепку.
— Здравствуйте, — не спуская с него глаз, ответил Бражников, стараясь припомнить, где он видел лицо этого человека с густыми, ровно подстриженными усами и с удлиненным с горбинкой носом.
— Вы с Юзехватовской заставы? — спросил подошедший.
Бражников молча кивнул головой, продолжая следить за всеми движениями человека. Тот опустил на траву чемодан и, присев на него, стал вытирать платком вспотевшее лицо. Спрятав платок в карман, он вытащил оттуда кисет с табаком и, подняв на Максима усталые, подернутые влагой глаза, заботливо спросил:
— Курить будете?
Он хотел еще что-то сказать, но, остановив взгляд на забинтованных руках Бражникова, стал торопливо крутить трясущимися пальцами цигарку. Подавая ее Максиму, тихим голосом продолжал:
— Вы меня должны знать. Я председатель сельсовета из Гусарского. Фамилия моя Магницкий, зовут Иван. Вот какие дела, товарищ…
— Бражников, — подсказал Максим. — Теперь я узнал вас. Кажется, вы вчера были на нашей заставе?…
— Совершенно верно. Был вчера вместе с секретарем райкома Викторовым. А сегодня вот… видите… Вы давно оттуда?
— Только что, — жадно затягиваясь, ответил Максим.
— Я тоже был от заставы недалеко, хотел к вам пройти, но нельзя уже было…
— Обошли нас, с танками, пушками. Вы сейчас куда направляетесь? спросил Бражников.
— Сам еще не знаю, братка, куда мне направиться, — наклонив голову, со вздохом проговорил Иван. — Хотел до секретаря райкома пробраться, указание получить, да не сумел. Фашисты кругом. Назад возвращаться в Гусарское? — Магницкий с сомнением пожал плечами. — Нельзя мне в Гусарское. Там теперь Юзеф Михальский. Давно ждал, сволочь, фашистской и панской власти!
Магницкий подробно рассказал о Юзефе Михальском.
— Конечно, он вам припомнит и лес и другое, — задумчиво проговорил Бражников, представляя себе злобное, мстительное лицо Михальского, которого не раз видел и кое-что слышал о нем от других.
— У меня, брат Максим, там четверо детей. Сын Петро шестнадцати лет, дочки малые. Мы с Петром все бумаги из сельсовета вытащили и в огороде закопали. Печать при мне, только теперь она уж без надобности…
— Печать берегите, — сурово проговорил Бражников.
— Вы думаете, пригодится печать? — спросил Иван, с удивлением и любопытством поглядывая на солдата.
— Это государственная печать, товарищ Магницкий. А разве наши люди дадут панствовать таким, как Михальский? Никогда этого не будет! — твердо сказал Бражников. — На нас ведь из-за угла напали, а из-за угла всегда сразу ошарашить можно. Но если одна наша застава полдня дралась, то ты еще увидишь и услышишь, как будет драться вся наша Красная Армия! На Халхин-Голе японцы попробовали вот так же на наших соседей напасть, на монголов, так мы им крепенько по зубам дали! Дадим и этим!
— Спасибо за хорошее слово! Теперь скажите мне, что мы с вами будем делать? Как у вас раны, очень опасные?
— Вот обе руки ранены осколками, — стараясь пошевелить торчащими из бинтов пальцами, ответил Максим. На согнутых суставах виднелась запекшаяся, перемешанная с грязью кровь. — Не знаю, целы кости или нет, одной рукой совсем не владею. Крови много потерял. Сейчас бы обмыть тепленькой водичкой, спиртом иль водкой протереть, легче бы стало. Ничего, я человек сибирский, должен выдержать! Вот тут я травки нарвал, полезная трава: приложу — скорей подживет.
— Вы сам и доктор, оказывается! — улыбаясь, заметил Иван.
— Доктор не доктор, а в тайге приходилось сызмальства. На охоте всякое бывает. То медведь подерет, то рысь или волка живого из капкана достаешь, ну и хватит за руку.
— Зачем живого? — с удивлением посматривая на этого могучего, из далеких краев человека, спросил Магницкий.
— Просто так, ребятам для потехи.
— Вон вы какие там, в Сибири. Давай-ка, брат, перекусим. Надо сил набираться.
— Правильно, мне сейчас сил много нужно. Отдохну маленько и дальше пойду. Закусить, конечно, не мешает.
Магницкий открыл чемодан и достал еду. Оба стали есть.
— Что бы вы сейчас ели, если б меня не встретили? — спросил Иван.
— Ничего бы не ел, спать бы лег. А когда проснулся бы, что-нибудь придумал. Мне только отдохнуть. Оружие со мной, — уверенно сказал Бражников.
В стороне все еще продолжался бой. Орудийная и пулеметная стрельба то утихала, то вновь возобновлялась с яростной силой.
— Слышите, как бьются наши? — сказал Максим.
— Конечно, слышу. Там с самого утра наши батарейцы бьются…
— Маленько оправлюсь, по лесам пойдем своих искать, партизанить будем. Вот сегодня фашисты напали — ихняя взяла… Но подождите — это только начало! Вот только руки мои!… Э-эх! — Максим попытался пошевелить руками и болезненно сморщился.
— Ничего, товарищ Бражников, я вам помогу. Вечером думаю пробраться в Гусарское, разузнать, что делается там. Продуктов захвачу, может, какое лекарство найду. У меня жинка запасливая. Сейчас мы отсюда уйдем. Я тут знаю такие места, что сам дьявол не разыщет. Будет у нас и рыба и дичь.
Покончив с завтраком, Иван повел Бражникова в глубину леса, к озеру. Но далеко пройти Максим не смог; после трех километров он свалился около тропинки на мох и впал в забытье. Иван Магницкий втащил его в густую заросль, устроил постель из еловых лап, укрыл своим пиджаком и сверху забросал хворостом. В сумерках Магницкий отправился в Вулько-Гусарское.
Вскоре он пересек поле, пригнувшись перебежал через пыльную дорогу, миновал редкий кустарник на опушке леса и очутился в густом тихом лесу. Выбрав место поглуше и поуютней, Бражников устало опустился на землю. Ему хотелось уснуть, забыться длительным, оздоровляющим сном. Но сделать это не пришлось. Острым охотничьим инстинктом он почувствовал приближение человека и, спрятавшись за толстое дерево, положил на сук карабин.
Из ближайших кустов с чемоданчиком в руках вышел человек в черном пиджаке и такой же кепке. Видимо заметив пограничника, он смело зашагал к нему и, не дойдя шагов десять, остановился.
— Здравствуйте, товарищ, — проговорил человек, снимая свою черную кепку.
— Здравствуйте, — не спуская с него глаз, ответил Бражников, стараясь припомнить, где он видел лицо этого человека с густыми, ровно подстриженными усами и с удлиненным с горбинкой носом.
— Вы с Юзехватовской заставы? — спросил подошедший.
Бражников молча кивнул головой, продолжая следить за всеми движениями человека. Тот опустил на траву чемодан и, присев на него, стал вытирать платком вспотевшее лицо. Спрятав платок в карман, он вытащил оттуда кисет с табаком и, подняв на Максима усталые, подернутые влагой глаза, заботливо спросил:
— Курить будете?
Он хотел еще что-то сказать, но, остановив взгляд на забинтованных руках Бражникова, стал торопливо крутить трясущимися пальцами цигарку. Подавая ее Максиму, тихим голосом продолжал:
— Вы меня должны знать. Я председатель сельсовета из Гусарского. Фамилия моя Магницкий, зовут Иван. Вот какие дела, товарищ…
— Бражников, — подсказал Максим. — Теперь я узнал вас. Кажется, вы вчера были на нашей заставе?…
— Совершенно верно. Был вчера вместе с секретарем райкома Викторовым. А сегодня вот… видите… Вы давно оттуда?
— Только что, — жадно затягиваясь, ответил Максим.
— Я тоже был от заставы недалеко, хотел к вам пройти, но нельзя уже было…
— Обошли нас, с танками, пушками. Вы сейчас куда направляетесь? спросил Бражников.
— Сам еще не знаю, братка, куда мне направиться, — наклонив голову, со вздохом проговорил Иван. — Хотел до секретаря райкома пробраться, указание получить, да не сумел. Фашисты кругом. Назад возвращаться в Гусарское? — Магницкий с сомнением пожал плечами. — Нельзя мне в Гусарское. Там теперь Юзеф Михальский. Давно ждал, сволочь, фашистской и панской власти!
Магницкий подробно рассказал о Юзефе Михальском.
— Конечно, он вам припомнит и лес и другое, — задумчиво проговорил Бражников, представляя себе злобное, мстительное лицо Михальского, которого не раз видел и кое-что слышал о нем от других.
— У меня, брат Максим, там четверо детей. Сын Петро шестнадцати лет, дочки малые. Мы с Петром все бумаги из сельсовета вытащили и в огороде закопали. Печать при мне, только теперь она уж без надобности…
— Печать берегите, — сурово проговорил Бражников.
— Вы думаете, пригодится печать? — спросил Иван, с удивлением и любопытством поглядывая на солдата.
— Это государственная печать, товарищ Магницкий. А разве наши люди дадут панствовать таким, как Михальский? Никогда этого не будет! — твердо сказал Бражников. — На нас ведь из-за угла напали, а из-за угла всегда сразу ошарашить можно. Но если одна наша застава полдня дралась, то ты еще увидишь и услышишь, как будет драться вся наша Красная Армия! На Халхин-Голе японцы попробовали вот так же на наших соседей напасть, на монголов, так мы им крепенько по зубам дали! Дадим и этим!
— Спасибо за хорошее слово! Теперь скажите мне, что мы с вами будем делать? Как у вас раны, очень опасные?
— Вот обе руки ранены осколками, — стараясь пошевелить торчащими из бинтов пальцами, ответил Максим. На согнутых суставах виднелась запекшаяся, перемешанная с грязью кровь. — Не знаю, целы кости или нет, одной рукой совсем не владею. Крови много потерял. Сейчас бы обмыть тепленькой водичкой, спиртом иль водкой протереть, легче бы стало. Ничего, я человек сибирский, должен выдержать! Вот тут я травки нарвал, полезная трава: приложу — скорей подживет.
— Вы сам и доктор, оказывается! — улыбаясь, заметил Иван.
— Доктор не доктор, а в тайге приходилось сызмальства. На охоте всякое бывает. То медведь подерет, то рысь или волка живого из капкана достаешь, ну и хватит за руку.
— Зачем живого? — с удивлением посматривая на этого могучего, из далеких краев человека, спросил Магницкий.
— Просто так, ребятам для потехи.
— Вон вы какие там, в Сибири. Давай-ка, брат, перекусим. Надо сил набираться.
— Правильно, мне сейчас сил много нужно. Отдохну маленько и дальше пойду. Закусить, конечно, не мешает.
Магницкий открыл чемодан и достал еду. Оба стали есть.
— Что бы вы сейчас ели, если б меня не встретили? — спросил Иван.
— Ничего бы не ел, спать бы лег. А когда проснулся бы, что-нибудь придумал. Мне только отдохнуть. Оружие со мной, — уверенно сказал Бражников.
В стороне все еще продолжался бой. Орудийная и пулеметная стрельба то утихала, то вновь возобновлялась с яростной силой.
— Слышите, как бьются наши? — сказал Максим.
— Конечно, слышу. Там с самого утра наши батарейцы бьются…
— Маленько оправлюсь, по лесам пойдем своих искать, партизанить будем. Вот сегодня фашисты напали — ихняя взяла… Но подождите — это только начало! Вот только руки мои!… Э-эх! — Максим попытался пошевелить руками и болезненно сморщился.
— Ничего, товарищ Бражников, я вам помогу. Вечером думаю пробраться в Гусарское, разузнать, что делается там. Продуктов захвачу, может, какое лекарство найду. У меня жинка запасливая. Сейчас мы отсюда уйдем. Я тут знаю такие места, что сам дьявол не разыщет. Будет у нас и рыба и дичь.
Покончив с завтраком, Иван повел Бражникова в глубину леса, к озеру. Но далеко пройти Максим не смог; после трех километров он свалился около тропинки на мох и впал в забытье. Иван Магницкий втащил его в густую заросль, устроил постель из еловых лап, укрыл своим пиджаком и сверху забросал хворостом. В сумерках Магницкий отправился в Вулько-Гусарское.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Рано утром, услышав тяжелый гул артиллерийской стрельбы, Франчишка Игнатьевна проснулась. Вскочив с кровати, она подбежала к окошку. Но оно выходило в сад Седлецких, и увидеть оттуда много было нельзя. Вернувшись к кровати и сдернув с Осипа Петровича одеяло, Франчишка крикнула: — Осип! Ну, вставай же ты, Осип! Слышишь, что творится? — А что такое случилось? — спросонья испуганным голосом спросил Осип Петрович. — Да поднимись же, Езус-Мария! Как будто я генерал и могу знать, почему стреляют! Тебе лучше знать, ты старый солдат! — Может, какое учение? — кряхтя и почесывая спину, ответил Осип. — От такого чертова учения хата развалится и окна повылетают. Потом Франчишка замазку добывай да вставляй. Нехай оно пропадет, такое учение. Ось, ось, матка бозка! Франчишка Игнатьевна присела на край постели и от страха подпрыгивала вместе с деревянной кроватью. А тут на нее напала еще икота, которая не давала ей покоя и вывела Осипа Петровича из терпения. — Ось як! Гык!… Совсем с ума посвихнулись! Гык! — Перестань ты в ухо гыкать! — прикрикнул Осип. — Что я, сама гыкала? У меня тут в печенках гыкает! Тут так загыкаешь, глаза выскочат! — В ухо уж встряло, а ты гык, гык! Помолчала бы трохи… — Чем ворчать-то, как старый домовой, встал бы да пошел, да узнал бы, да жену успокоил, как это хорошие муженьки делают. Небось на Клавдию Федоровну муж так не ворчит, коли она в другой раз и заикает… — На черта мне такое узнавание! Вот напустилась спозаранку! Як будто я сам из пушек палю и ей спать не даю. Сама над ухом палит, як из пары добрых пистолей. Говорю, военное учение, хочешь — слухай, хочешь — нет! — От петуха яйца не дождешься, так и от тебя доброго слова! — Я уже все добрые слова, какие у меня были, давно повысказал. Нет у меня добрых слов для такой трещалки. — Осип Петрович повернулся на другой бок и потянул на себя одеяло. Как ни страшно было выходить Франчишке Игнатьевне, но утерпеть не было никакой возможности, тем более она услышала, что проснулись и захлопали дверями соседи, с улицы доносился громкий разговор. Франчишка Игнатьевна торопливо накинула на плечи платок, выскользнула в сени, а затем, осторожно ступая, маленькими шагами вышла на улицу. Гул стрельбы ни на секунду не умолкал. Возле дома Юзефа Михальского толпились люди. У крыльца, одетый в полувоенную форму, рядом с громко разговаривающим отцом стоял Владислав и курил папиросу. — Мы этого давно ожидали. Германская армия такая, что завоевала всю Европу. Капут Советам! — возбужденно говорил Михальский. Все молчали. Олесь Седлецкий стоял в сторонке, тревожно посматривал на небо и прислушивался к рокоту высоко летящих самолетов. Мелкими шажками сбоку подходила Франчишка Игнатьевна, начиная понимать сущность разговора. Со стороны пограничной заставы доносились густая пулеметная дробь и резкие хлопки одиночных выстрелов. — На заставе уже бой, — поднявшись на верхнюю ступеньку крыльца, сказал Владислав, вглядываясь в сторону Новичей. — Что там застава! — горячился его отец. — Через полчаса там одни кирпичики останутся. У меня недавно был один разговор с верным человеком… про германскую армию… Владислав, быстро сойдя с крыльца вниз, дернул отца за руку и что-то шепнул ему на ухо. Юзеф повернулся и злыми глазами уставился на Франчишку Игнатьевну. — А тебе, босоножка, что здесь нужно? — стуча по земле палкой, крикнул Михальский. Франчишка Игнатьевна сначала растерялась, опешила, но тут же оправилась и приняла оборонительную позу: — Хай я буду босоножка, добре… А ты кто такий? Куркуль недобитый! Ты на меня палкой не махай, не махай! Я ж тебя все равно не испугаюсь. Тоже мне разгусачился! Вытянул шею, смотри, лопнет! Босоножка! — Геть ты отсюдова, чертова баба! — Михальский поднял палку, но Владислав удержал его и попросил Франчишку Игнатьевну уйти от греха подальше. Франчишка Игнатьевна, суля старому Михальскому кучу бесенят за пазуху, повернулась и собралась уходить. Но в эту самую минуту над головами толпившихся людей пролетел со свистом тяжелый снаряд и с грохотом разорвался в саду Михальских. С треском повалилась старая яблоня, на улицу упали комья земли. Оцепеневшая Франчишка Игнатьевна какое-то мгновение после разрыва снаряда постояла на месте, потом упала на землю, полежала, как она потом рассказывала, трошечки, ощупала коленки, они оказались целыми, вскочила и помчалась к своей хате. Осип Петрович уже был одет, стоял у открытого окна и невозмутимо курил свою цигарку. — Война, Осип, слышишь? Жинку твою чуть не загубили, — задыхаясь, проговорила Франчишка Игнатьевна. — Снова началась, проклятущая! Як меня вдарило, перевернуло несколько раз, як куриное перо, и через забор кинуло… Кажись, я уже на том свете побывала и назад возвернулась… — Может, тебя того… куда-нибудь зачепило? — с тревогой в голосе спросил Осип Петрович. — Ничего меня не зачепило! Я стояла, як верба, и даже не шелохнулась, а чего мне ховаться… — Я еще тогда почуял, что война, — разглаживая ребрышком ладони подстриженные усы, сказал Осип Петрович. — Ничего ты не почуял! Это я почуяла и побежала… — Раз почуяла, так и сидела бы дома, и нечего было нос казать. Часом трахнет бризантным снарядом, и опрокинешься вверх копытцами, а кому это нужно, чтобы моя Франчишка опрокинулась вверх копытцами, и что я тогда буду делать один с коровой да с бычком, да с твоими гусятами, и на черта мне сдалась такая жизнь, чтобы ты попала под эту бризантную штуку? Слово «бризантную» Осип Петрович подчеркнул, показывая этим свою компетентность в военном деле. — Раз ты знал, что война, то, как старый солдат, удержал бы меня, и я бы не побежала и не натерпелась такого страху, — проговорила Франчишка Игнатьевна. Но, тронутая его сочувствием, добавила: — А ты и сам не торчи у окна, еще залетит якая-нибудь железка и зачепит… — Ну-ну! Мы не такое видали! — Осип Петрович покашлял и молодцевато прошелся до порога. — Чего же мы будем делать? — присаживаясь на постель, спросила Франчишка Игнатьевна. Она никак не могла успокоиться. Нарушался ход ее мыслей и весь обычный уклад жизни. Надо было доить корову, кормить птицу, но ей не хотелось даже сдвинуться с места. — Тот длинный черт Михальский, чтоб ему клещ залез в поганую ноздрю, на меня растопырил крылья да так рассобачился, начал палкой махать. — Как так палкой махать? — остановившись посреди хаты, спросил Осип Петрович. Франчишка все ему подробно рассказала и даже от себя прибавила то, что только подумала, а не сказала Юзефу в глаза. — Зря, говорю, тебя, колченогого беса, Советы домой отпустили. Тебя надо, як шавку, на цепь приковать, а то ты на людей начнешь кидаться… — Что верно, то верно, — согласился Осип Петрович. — Заимеет он теперь власть и начнет на добрых людей кидаться… — Говорят, на заставе наши уже давно бьются. Там все трещит и валится, — глубоко вздохнув, сказала Франчишка Игнатьевна. — На них, конечно, первый удар, — подтвердил Осип Петрович. — Как там моя Клавдия Федоровна со своими детками? Вот же маленькие натерпятся страху, и не будет у них сегодня молочка! Кто ж ту войну несчастную придумал? Земли, что ли, кому не хватает? Наверное, панам да помещикам. Побьют народ, и землю пахать будет некому… А мы еще вчера договаривались идти в лес ягоды собирать. Вот они сегодня, какие ягодки, пригорюнившись, говорила Франчишка Игнатьевна. — Хорошо, что Галина в город уехала, а то она маленького ждет. И у Клавдии Федоровны до родов остался один месяц. Я все думала: вот малюсенького скоро попестую та погулькаю, молочком из бутылочки попою… А сейчас вон оно что творится. Что же все-таки с нами будет, скажи мне, дорогой мой муженек, Осип Петрович? Сколько раз я тебя провожала на эту проклятую войну! Может, еще придется? — Может, и придется. Только я уже буду по-другому воевать. Германскую власть я добре по Восточной Пруссии знаю. Оттого, что на баронов свой горб гнул, кровью не раз кашлял… Так говорили Осип Петрович с Франчишкой Игнатьевной этим беспокойным утром. Они не видели, как в Вулько-Гусарское вошли фашистские солдаты. Это было в десять часов утра, когда на пограничной заставе еще шел ожесточенный бой. Подоив корову и процедив молоко, Франчишка Игнатьевна, как обычно, наполнила свой эмалированный бидончик, с которым ходила на заставу, и спрятала его в погреб. «Может, еще пригодится», — подумала она и вышла кормить гусят. Птицы в этом году она развела порядочно, мечтала справить к осени мужу теплую шубу. Она несла в руках чугунок с кашей и вдруг услышала из сада Седлецких звуки заведенных моторов и непонятный человеческий крик. Франчишка Игнатьевна поставила посудину на землю и подбежала к изгороди. В саду Седлецких стояла большая, крытаябрезентом машина. Два солдата в серо-зеленых мундирах оттаскивали молодую, только что срубленную ими яблоню; громко крича на чужом языке, проволокли ее до беседки и там бросили. Один из них, высокий, с краснощеким упитанным лицом, отряхнув руки, сел в кабину, взявшись за руль, развернул машину и, выворачивая колесами молодую свеклу и морковь на грядках, въехал в тень других садовых деревьев. Второй солдат, коротконогий и белобрысый, с узким уродливым лицом, поднял с земли срубленную яблоню, приставил ее к машине и, захохотав, крикнул: — Гут! От дома подошла Ганна. Показывая солдатам на изуродованные грядки, стала что-то говорить на немецком языке. Белобрысый солдат сначала только похохатывал и, ломаясь, прикидывал руку к пилотке; потом, грубо схватив Ганну за плечи, стал вталкивать ее в беседку. Ганна, сопротивляясь, упиралась кулаками ему в грудь и что-то говорила. Но солдат продолжал толкать ее в беседку. — Эй, пан солдат! — не выдержав, крикнула Франчишка Игнатьевна. — Так не можно, пан солдат! Не можно! Солдат от неожиданности отпустил руки и, обернувшись, увидел за изгородью грозившую ему маленьким кулачком женщину. Во двор въезжала еще одна машина. Отбежавшая от беседки Ганна остановилась, что-то гневно и презрительно крикнула по-немецки и быстро пошла к дому. — Тебе что здесь нужно, старая крыса? — заорал на Франчишку белобрысый солдат и, грозно сжав кулак, направился к изгороди. Но его тут же окликнули резко и властно: — Фишке! Солдат волчком перевернулся на месте и увидел вылезавшего из кабины офицера. Подойдя к солдату, тот сурово спросил: — Ты что здесь делаешь? — Мы размещаем машины, господин обер-лейтенант, — бросая руку к пилотке, ответил Фишке. — Придется мне научить тебя, болван, как нужно обращаться с женщинами! — офицер размахнулся, влепил солдату крепкую пощечину и прогнал к машинам. Вбежав в комнату, Ганна бросилась вниз лицом на кровать и беззвучно заплакала. — Ты о чем это плачешь? — войдя в комнату, спросила мать. Стася, готовясь к встрече с германскими офицерами, жарила в кухне курицу. — Этот… тот… Боже мой! — Ганна вскочила и стала гадливо отряхиваться, точно сбрасывая с плеч, с рук невидимую грязь. — Что случилось? — Он, понимаешь, оскорбил меня! Грубо, гадко! У меня даже язык не поворачивается! — ероша трясущимися руками волосы, выкрикивала Ганна. — Кто?… Говори же! — Фашист… грязный шваб! Он смеялся мне в лицо сказал: «Ничего, что вы, поляки, гордые… Мы собьем с вас эту спесь». — Где он, этот негодяй? — закипая гневом, спросила Стася. — Он в нашем саду. «Не ломайся, — говорит, — девочка, лучше пойдем в беседку…» И стал меня тащить… Я ему сказала: «Зачем губите сад и огород?» А он захохотал мне в лицо и стал пошлости говорить: «Зачем вам сад, вы сами цветочек…» Мерзавец! — Но это же черт знает что! — кипятилась возмущенная Стася. — Где отец? Чего он смотрит! — Но ты что же хочешь, Станислава. Если они яблоню срубили, то и голову мне срубят, не пожалеют… Я все это видел, — мрачно отозвался стоявший около двери Олесь. Он только что вошел, но разговор слышал через открытую дверь. — Где ты ховаешься? — набросилась на него Стася. — У нас вырубают сад, оскорбляют дочь, а он забился, как крот, и нос боится высунуть! — А что я могу поделать? — низко опустив голову, проговорил Олесь. Ничего я не могу поделать. — Он ничего не может поделать! Раскис, как пересоленный огурец! Пойти надо к офицеру и пожаловаться! — Мы можем жаловаться? — пытливо посматривая на жену, с волнением спросил Олесь. — Кому жаловаться? — Вот именно! Перед кем он станет выкладывать свою жалобу! — крикнула Ганна. — Ты, мама, еще не знаешь, что это за люди… — Не говори так! Не говори! Ты не можешь так говорить! — широко открыв глаза, истерическим голосом крикнула Стася. Голос ее прерывался. — Почему нельзя говорить? Это же ужасно, что они делают! Вот ты, мама, все носилась со своими «святыми» брошюрками, боялась, что придется тебе закрыть твою несчастную лавочку. Ты, мама, ошиблась, глубоко ошиблась. — Я все равно пойду жаловаться и добьюсь правды! — Хорошо, ты пойдешь к офицеру… Кстати, он, кажется, решил у нас остановиться. Не для него ли готовишь ты завтрак? — Ну и что же из этого? — возмущенно крикнула Стася. — Ты все-таки меня послушай и не шуми, — продолжал Олесь. Предположим, ты понесешь и поставишь на стол свою курицу и расскажешь ему всю эту историю… И он сожрет куриное крылышко, выпьет бутылку вина и попросит положить ему в постель твою дочь. Что ты ему скажешь? Стася растерянно повела глазами куда-то в угол, потом, повернув голову к Олесю, приглушенным голосом произнесла: — Не говори глупостей. — Разных слов ты много стрекочешь, а вот простой вещи не разумеешь. Юзеф и Владислав уже с фашистами якшаются. Они припомнят нам, что Галина им в морду плюнула… Стася трясущимися руками накручивала на пальцы белый передник, лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточением. Она чувствовала себя беспомощной. Перед ней было оскорбленное, гневное лицо Ганны, суровое лицо Олеся с вяло опущенными усами. Вспомнились счастливая своей беременностью Галинка, только вчера уехавшая в город, и ее муж, строгий, снисходительный, немного гордый русский офицер Костя, который, конечно, стреляет теперь из пушек в этих солдат в темных касках с крестообразным знаком. В одну минуту перед ее мысленным взором прошли многие лица, и она ощутила в себе гнетущую тяжесть стыда и безысходного горя. Стася тряхнула решительно головой. Топнув ногой, она, вопреки своим мыслям и желаниям, проговорила: — Ну, хорошо, вы все знаете, все понимаете, а я дура!… Но я знаю, что моему зятю больше тут не бывать и я никогда не увижу своей дочери, вот что я знаю! — Это еще неизвестно, мама, — твердо сказала Ганна. — Ты еще не знаешь, что такое советские люди… В комнату громко постучали. Ганна, сидевшая спиной к двери, обернулась. На пороге в черном мундире итальянских войск стоял пан Сукальский и с наигранно покорной улыбкой смотрел на растерявшихся хозяев.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Пулеметный обстрел хлебного поля закончился. Фашистская армия перешла государственную границу Советского Союза и углубилась на несколько километров в нашу территорию. С первого же шага она явно боялась каждого куста, каждого перелеска и загона хлеба, каждого мостика и балки, каждой белорусской деревни. С первых часов войны гитлеровское командование увидело и почувствовало, что это не та страна, не тот народ, не такая Советская Армия, какими их рисовала геббельсовская пропаганда, обещавшая победить Россию в несколько недель. Маленькая пограничная застава и ее защитники с двумя пулеметами покрыли линию границы сотнями трупов фашистских солдат и офицеров. Батальон Рамке был разбит наголову. Пришлось подтянуть второй, но и он ничего не мог сделать с горсткой русских пограничников. Гитлеровцы решили тогда задавить эту героическую крепость силой тяжелых и средних танков и большим количеством артиллерии. До двенадцати часов дня защищалась эта застава, а соседняя билась до позднего вечера. Так дрались пограничники от Баренцева до Черного моря. Когда стрельба прекратилась и движение по большаку временно затихло, Александра Григорьевна с трудом поднялась с земли. Облизывая сухие губы, она огляделась по сторонам. Очень хотелось пить, но воды не было, вокруг шумела посеченная пулями рожь. Высоко в небе заливался неугомонный-жаворонок, верещали кузнечики, в деревне пели свою предвечернюю песню петухи. Александра Григорьевна еще раз посмотрела в сторону заставы. Коней на лугу уже не было. Над железной крышей командирского дома поднимался из трубы серый дым. Там уже кто-то хозяйничал. Александра Григорьевна повернулась и, путаясь ослабевшими ногами в густых хлебных стеблях, пошатываясь, пошла куда-то. Она не знала, где теперь искать Олю и Чубарова. Несколько раз присаживалась отдыхать, потом, пересиливая слабость, поднималась и шла дальше. По ближайшим дорогам снова началось движение, слышался громкий разговор на немецком языке и стрельба. Под конец Александра Григорьевна почти совсем выбилась из сил, опустилась на землю и навзрыд заплакала. Ее услышал Чубаров и негромко окликнул. Оказалось, что она не дошла до них несколько десятков метров. Подойдя к ним, она увидела комочком лежавшую на земле Олю, голова ее была прислонена к узлу. Чубаров сидел рядом и вымолачивал в фуражку зерна. — Живы? — тяжело опускаясь, спросила Александра Григорьевна. — Живем и колоски жуем, — ответил Чубаров. — Тетя Шура, ты пришла? Ты вернулась? — всем телом прижимаясь к ней, заговорила Оля. — Я думала, что ты к нам не придешь… — Поешьте, Александра Григорьевна, зернышек, — предложил Чубаров. — Я тут намолотил. Вкусные, тот же хлеб, да еще с молочком… — Спасибо, Чубаров, спасибо… — Покушай, тетя Шура, покушай, — попросила Оля. Александра Григорьевна взяла в рот зерна и стала медленно пережевывать. Минуту спустя почувствовала, как она голодна, и ей показалось, что вкусней этой недозревшей ржи она ничего в жизни не ела. — Ну, что вы там заметили, Александра Григорьевна? — спросил Чубаров. — На заставу глядела… Коней наших видела, потом их кто-то угнал. В нашем доме печка топится, дым видно… — Кто же, тетя Шура, затопил? Может, там мама? — встрепенувшись, спросила Оля. — Не знаю, Оленька, кто там топит, — низко опуская голову, проговорила Александра Григорьевна. Она еще никак не могла свыкнуться с мыслью, что кто-то чужой может быть на заставе… Подкрепившись хлебными зернами, они решили продвинуться ближе к каналу, чтобы утолить одолевавшую всех жажду. Шура взяла Олю на руки. Чубаров, опираясь на винтовку, тащился сзади. Пройдя несколько шагов, скрипнув зубами, пограничник упал на землю. Вырывая руками кусты ржи, он пополз на боку и все время стонал. До канала они так и не добрались, а очутились на какой-то меже около картофельного поля. Здесь их и застала мучительная, страшная ночь, первая ночь на захваченной врагом родной земле. Ночью по всем дорогам на восток двигались колонны вражеских войск. Всюду за высокой темной грядой Августовских лесов горели села. В синем июньском небе гудели моторами сотни самолетов. Так же мучительно прошли для Александры Григорьевны и ее спутников и второй день и вторая ночь. Не было возможности добраться ни до канала, чтобы напиться воды, ни укрыться в лесу. Наступило утро третьего дня. Солнышко поднялось над лесом, сверкнуло горячими лучами и разбудило маленькую Олю. Порадоваться бы этому ласковому свету, улыбнуться бы ему весело, но у Оли пересохло во рту и запеклись воспаленные губы. Третьи сутки без глотка воды, без корочки хлеба. На берегу канала повсюду расположились фашистские солдаты. У Чубарова вздулась нога, очень сильно болела голова. — Плохо мне, Александра Григорьевна, — хрипло говорит Чубаров. — Что же можно сделать, миленький мой? — не поднимая головы, отвечает Александра Григорьевна. — У меня секретные документы, — сурово продолжает Чубаров, — которые я должен был сдать в комендатуру и не сдал… Надо их уничтожить. Возьмите сумку и достаньте. Порвем их, а то мало ли что может со мной случиться… Не читая, рвали вместе на мелкие кусочки, закапывали их в землю. Оля тоже помогала, стараясь рвать своими тоненькими пальчиками как можно мельче. Потом снова под палящим июньским солнцем ползли дальше с намерением добраться до леса к ночи. А что могла дать следующая ночь? Оля попробовала подняться. Раненая нога сильно болела, но стоять, хотя и с трудом, все-таки было можно. Кроме стены из стеблей ржи, девочка ничего перед собой не видела. А тут совсем рядом пролетела какая-то птичка. Раскрыл свою чашечку голубой василек и покачивался вместе с усатым колоском. Неподалеку, на картофельном поле, паслась корова с пестрым черноголовым теленком, рядом сидела женщина… Да ведь этот бычок, и корова, и платок Франчишки Игнатьевны! Забыв обо всем на свете, Оля крикнула звонким, плачущим голосом: — Тетя Франчишка! Тетенька! Франчишка вскочила и приложила ладошку к бровям. — А чего тебе нужно, голубка моя? — спросила Франчишка Игнатьевна. — Это я, тетя Франчишка! Я! Оля! — Оля? Какая Оля? Франчишке Игнатьевне и во сне не снилось встретить здесь Олю с пограничной заставы. Не оглядываясь, шелестя юбкой по высокой траве, она быстро побежала вперед. — Откуда ты взялась? — Оля, с кем ты разговариваешь? — с удивлением и страхом в голосе спрашивает Александра Григорьевна. Но Оля ее не слышит и, сделав попытку броситься навстречу Франчишке Игнатьевне, падает на землю. Франчишка Игнатьевна подхватывает рыдающую Олю и прижимает к себе. — А где твоя мама? — спрашивает она и гладит подрагивающую спину девочки.
— Не знаю, где мама, не знаю, где папа. Ничего я, тетя Франчишка, не знаю.
— Вот тебе и грех, як гнилой орех! Здравствуйте, Александра Григорьевна! Ховай боже! Да тут и солдат с вами. — Покосившись на винтовку, Франчишка Игнатьевна добавляет: — И ружье у него… Сейчас в наш край пришли другие, не такие солдаты…
— Какие же они, тетя Франчишка? — с затаенным страхом в глазах спрашивает Александра Григорьевна.
Франчишка Игнатьевна гневно и торопливо рассказала о своей первой встрече с гитлеровскими солдатами. Узнав от Александры Григорьевны о том, что произошло с ними и как они двое суток бродили, не зная что делать, Франчишка Игнатьевна долго вздыхала, ахала и, разводя быстро руками, шлепала себя по бедрам, бранила фашистов, Михальского и даже своего Осипа за то, что сидит в хате, как сыч, и носа никуда не показывает. Досталось и Шуре.
— Ты, Григорьевна, не малый же ребенок! Вчера еще надо было до меня подаваться. Девочка ранена, солдат тоже. Как можно в такую жару без воды сидеть!
— Как же мы пошли бы? Что вы говорите, тетя Франчишка… оправдывалась Александра Григорьевна, чувствуя, что только эта женщина может их спасти.
— А черта лешего их бояться! Вы жинка, а Оля малое дите. Сколько таких жинок сейчас с детками по дорогам идет! Ни хаточки, ни кроваточки, як боговы птички, ни хлебца, ни водички. Быстро собирайтесь и пойдем до моей хаты. Солдату, конечно, нельзя, мы ему сюда покушать принесем. Слушай, як тебя там звать — Иван али Степан?
— Михаил, — ответила за него Шура.
— Да это же никак Михайло, повар! Вижу, обличье знакомое. О, як же тебя перекрутило! — покачивая головой, продолжала Франчишка Игнатьевна. Ну, хорошо, Михайло! Разом ты добирайся до канала. Сегодня там никого нет. Лицо ополосни, легче станет, а мы что-нибудь придумаем. А вы собирайтесь живехонько.
— Нет, тетя Франчишка, мне в деревню нельзя, — заявила Александра Григорьевна. Она даже не представляла себе, как сможет встретиться с фашистскими солдатами, как будет смотреть им в глаза.
— А что ты дальше станешь делать? Гляди, на кого похожа! — показывая на ее похудевшее лицо с синими кругами под глазами и опухшими веками, говорила Франчишка Игнатьевна. — А потом — куда ты пойдешь? Тебя поймают в первом же селе… Там заступиться будет некому.
— А тут кто за меня заступится?
— Как это кто? — возразила Франчишка. — Народ заступится! Ты народу служила, учила ребятишек грамоте. Муж твой тоже народу служил, защищал границу, и никто от него плохого слова не слышал. Он же яблони не рубил, грядок не портил! Вот только третий день пришла германская армия, а народ видит, якие были наши и что такое за птицы эти… Народ не обманешь… Пойдем, а там видно будет.
— Меня же там все знают, и кто-нибудь, есть же всякие люди, расскажет немцам, что я жена коммуниста, начальника пограничной заставы, протестовала Шура.
— Да я, так и быть, на первый случай так спрячу тебя, что и сам твой Усов не разыщет… Одной тебе идти нияк не можно. Кругом фашисты, такое с тобой сделают, избави матка бозка! — Франчишка Игнатьевна, как всегда, говорила очень быстро.
Скрепя сердце Александра Григорьевна согласилась с ней и стала собираться. Поправив на голове волосы, завязала свой узел.
— Ты, Михайло, як тебя называют, — распоряжалась Франчишка Игнатьевна, — спрячься на берегу канала и там поджидай. Только ружье куда-нибудь брось. Не нужно тебе ружье.
— Нет, винтовку я не брошу, — хриплым голосом проговорил Чубаров. Нельзя мне без оружия.
— Твоим же ружьем тебе же пузо проткнут!
— Пока винтовка у меня в руках, я себя живым человеком чувствую.
— Ну, як сам знаешь. Не будем суперечить. Мое дело — сказать тебе. Коли ты пойдешь с ружьем, то и прячься добре. Я к тебе буду бережком идти, а ты слушай, я подсвистну ось як!
Франчишка Игнатьевна приложила пальцы к губам и неумело свистнула негромким шипящим звуком. Чубаров улыбнулся.
— Вот так, понял, солдат? Ну, Олечка, пойдем. Ты попробуй, деточка, сама ножкой наступить, попробуй.
— Мне больно, тетя Франчишка… — Оля осторожно ступила на ногу.
Франчишка Игнатьевна и Шура поддерживали ее за руки.
— Девочку можно понести, — предложила Александра Григорьевна.
— Нельзя на руках тащить. Увидит погана морда вроде Михальского и скажет: кого это тащит Франчишка, куда да зачем? А хромает, ну и хай. Может, ножку колючкой наколола або стеклом порезала, мало ли что может быть с ребятишками…
Нельзя было не согласиться с такими доводами, и Шура не стала возражать. Шли медленно, часто садились отдыхать. Корову Франчишка Игнатьевна вела на веревке; пощипывая травку, бежал пестрый бычок; нередко он отставал, но стоило Франчишке оглянуться и крикнуть, как он, задрав хвост, мчался к ней и, сопя носом, выпрашивал кусочек хлебца.
Приближаясь к селу, Александра Григорьевна почувствовала нервный стук своего сердца. Ей казалось, что она сделает еще несколько шагов и полетит куда-то в темную, страшную пропасть. Вулько-Гусарское выглядело каким-то грустным, незнакомым и тихим. Даже собаки не лаяли.
В селе разместились хозяйственная часть и германский полевой госпиталь. На некоторых хатах болтались флажки с красными крестами. Дорогу уже измяли тяжелые двускатные колеса с перекошенными рубцами. По обочинам дороги серая пыль была разбросана по свежей траве и дальше толстым слоем лежала на листьях деревьев, на изуродованной снарядом ветле, в глубокой воронке, наполненной мутной водой.
Сердце Шуры сжималось и трепетало от жуткой, томительной неизвестности. Еще ярче и свежей предстало в ее воображении недавнее счастливое прошлое. Где он, ее друг и муж? Где ее мать и сестры? Где Клавдия Федоровна? Все рухнуло, исковеркалось, перемешалось, перепуталось. Пересекая дорогу, Александра Григорьевна увидела в конце улицы серо-зеленые фигуры солдат с винтовками. «Вот они!» Кровь прилила к голове, в глазах потемнело. Александра Григорьевна не помнила потом, как Франчишка Игнатьевна провела их огородами до своей хатенки.
— А где твоя мама? — спрашивает она и гладит подрагивающую спину девочки.
— Не знаю, где мама, не знаю, где папа. Ничего я, тетя Франчишка, не знаю.
— Вот тебе и грех, як гнилой орех! Здравствуйте, Александра Григорьевна! Ховай боже! Да тут и солдат с вами. — Покосившись на винтовку, Франчишка Игнатьевна добавляет: — И ружье у него… Сейчас в наш край пришли другие, не такие солдаты…
— Какие же они, тетя Франчишка? — с затаенным страхом в глазах спрашивает Александра Григорьевна.
Франчишка Игнатьевна гневно и торопливо рассказала о своей первой встрече с гитлеровскими солдатами. Узнав от Александры Григорьевны о том, что произошло с ними и как они двое суток бродили, не зная что делать, Франчишка Игнатьевна долго вздыхала, ахала и, разводя быстро руками, шлепала себя по бедрам, бранила фашистов, Михальского и даже своего Осипа за то, что сидит в хате, как сыч, и носа никуда не показывает. Досталось и Шуре.
— Ты, Григорьевна, не малый же ребенок! Вчера еще надо было до меня подаваться. Девочка ранена, солдат тоже. Как можно в такую жару без воды сидеть!
— Как же мы пошли бы? Что вы говорите, тетя Франчишка… оправдывалась Александра Григорьевна, чувствуя, что только эта женщина может их спасти.
— А черта лешего их бояться! Вы жинка, а Оля малое дите. Сколько таких жинок сейчас с детками по дорогам идет! Ни хаточки, ни кроваточки, як боговы птички, ни хлебца, ни водички. Быстро собирайтесь и пойдем до моей хаты. Солдату, конечно, нельзя, мы ему сюда покушать принесем. Слушай, як тебя там звать — Иван али Степан?
— Михаил, — ответила за него Шура.
— Да это же никак Михайло, повар! Вижу, обличье знакомое. О, як же тебя перекрутило! — покачивая головой, продолжала Франчишка Игнатьевна. Ну, хорошо, Михайло! Разом ты добирайся до канала. Сегодня там никого нет. Лицо ополосни, легче станет, а мы что-нибудь придумаем. А вы собирайтесь живехонько.
— Нет, тетя Франчишка, мне в деревню нельзя, — заявила Александра Григорьевна. Она даже не представляла себе, как сможет встретиться с фашистскими солдатами, как будет смотреть им в глаза.
— А что ты дальше станешь делать? Гляди, на кого похожа! — показывая на ее похудевшее лицо с синими кругами под глазами и опухшими веками, говорила Франчишка Игнатьевна. — А потом — куда ты пойдешь? Тебя поймают в первом же селе… Там заступиться будет некому.
— А тут кто за меня заступится?
— Как это кто? — возразила Франчишка. — Народ заступится! Ты народу служила, учила ребятишек грамоте. Муж твой тоже народу служил, защищал границу, и никто от него плохого слова не слышал. Он же яблони не рубил, грядок не портил! Вот только третий день пришла германская армия, а народ видит, якие были наши и что такое за птицы эти… Народ не обманешь… Пойдем, а там видно будет.
— Меня же там все знают, и кто-нибудь, есть же всякие люди, расскажет немцам, что я жена коммуниста, начальника пограничной заставы, протестовала Шура.
— Да я, так и быть, на первый случай так спрячу тебя, что и сам твой Усов не разыщет… Одной тебе идти нияк не можно. Кругом фашисты, такое с тобой сделают, избави матка бозка! — Франчишка Игнатьевна, как всегда, говорила очень быстро.
Скрепя сердце Александра Григорьевна согласилась с ней и стала собираться. Поправив на голове волосы, завязала свой узел.
— Ты, Михайло, як тебя называют, — распоряжалась Франчишка Игнатьевна, — спрячься на берегу канала и там поджидай. Только ружье куда-нибудь брось. Не нужно тебе ружье.
— Нет, винтовку я не брошу, — хриплым голосом проговорил Чубаров. Нельзя мне без оружия.
— Твоим же ружьем тебе же пузо проткнут!
— Пока винтовка у меня в руках, я себя живым человеком чувствую.
— Ну, як сам знаешь. Не будем суперечить. Мое дело — сказать тебе. Коли ты пойдешь с ружьем, то и прячься добре. Я к тебе буду бережком идти, а ты слушай, я подсвистну ось як!
Франчишка Игнатьевна приложила пальцы к губам и неумело свистнула негромким шипящим звуком. Чубаров улыбнулся.
— Вот так, понял, солдат? Ну, Олечка, пойдем. Ты попробуй, деточка, сама ножкой наступить, попробуй.
— Мне больно, тетя Франчишка… — Оля осторожно ступила на ногу.
Франчишка Игнатьевна и Шура поддерживали ее за руки.
— Девочку можно понести, — предложила Александра Григорьевна.
— Нельзя на руках тащить. Увидит погана морда вроде Михальского и скажет: кого это тащит Франчишка, куда да зачем? А хромает, ну и хай. Может, ножку колючкой наколола або стеклом порезала, мало ли что может быть с ребятишками…
Нельзя было не согласиться с такими доводами, и Шура не стала возражать. Шли медленно, часто садились отдыхать. Корову Франчишка Игнатьевна вела на веревке; пощипывая травку, бежал пестрый бычок; нередко он отставал, но стоило Франчишке оглянуться и крикнуть, как он, задрав хвост, мчался к ней и, сопя носом, выпрашивал кусочек хлебца.
Приближаясь к селу, Александра Григорьевна почувствовала нервный стук своего сердца. Ей казалось, что она сделает еще несколько шагов и полетит куда-то в темную, страшную пропасть. Вулько-Гусарское выглядело каким-то грустным, незнакомым и тихим. Даже собаки не лаяли.
В селе разместились хозяйственная часть и германский полевой госпиталь. На некоторых хатах болтались флажки с красными крестами. Дорогу уже измяли тяжелые двускатные колеса с перекошенными рубцами. По обочинам дороги серая пыль была разбросана по свежей траве и дальше толстым слоем лежала на листьях деревьев, на изуродованной снарядом ветле, в глубокой воронке, наполненной мутной водой.
Сердце Шуры сжималось и трепетало от жуткой, томительной неизвестности. Еще ярче и свежей предстало в ее воображении недавнее счастливое прошлое. Где он, ее друг и муж? Где ее мать и сестры? Где Клавдия Федоровна? Все рухнуло, исковеркалось, перемешалось, перепуталось. Пересекая дорогу, Александра Григорьевна увидела в конце улицы серо-зеленые фигуры солдат с винтовками. «Вот они!» Кровь прилила к голове, в глазах потемнело. Александра Григорьевна не помнила потом, как Франчишка Игнатьевна провела их огородами до своей хатенки.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Максим Бражников проснулся от шороха приближающихся шагов и нащупал лежащий рядом карабин. Спал он в старом лесном шалаше, построенном около заброшенных угольных ям. «Кто это может быть?» — встревожился Максим. Он расслышал, что идет не один человек, а двое. Идут смело, видимо, знают куда. Может быть, выследили Магницкого и заставили его показать, где скрывается раненый пограничник? Не обращая внимания на боль в руке, Бражников подхватил карабин, выполз из шалаша, спрятался за ближайшим старым дубом и стал ждать сигнала. Они договорились, что Иван прокричит совой. Шаги приближались, но никакого сигнала не было. Бражников приготовился к бою, но в это время услышал голос Магницкого: — Спит, наверное, мой сержант… — Он же израненный, намучился, — ответил ему второй, молодой незнакомый голос. — Обе руки побиты. Как шел рядом со мной, так и упал. Сначала я его укрыл в одном месте, но это было недалеко от дороги. Подумал и вернулся, поднял его и перевел сюда. Максим! — позвал Магницкий негромко. — Ну вот видишь, как спит… Подойди и тяни за ноги… — Да нет, дядя Иван, не сплю, — отозвался из темноты Максим. — Не сплю, а вас поджидаю. Кто это с вами? — Здравствуйте, Максим. Хлопец со мной пришел, сын Петро. Где ж вы там сховались? — Малость проветриться вышел. Слышу, двое идут, ну и подождал маленько… — Вы что же, испугались? — сбросив на землю тяжелый мешок, спросил Иван. — Не то чтобы испугался… У меня карабин всегда заряженный, и сам я человек ко всему привычный… Просто выжидал. Двое — не один, подумать было надо… — Ну и что же вы надумали? — настороженно спросил Магницкий. — Надумал, что не совсем точно выполняет свое слово председатель Совета Иван Магницкий. Установили пароль, а он прется молча да еще вдвоем. А у меня карабин наготове был — только пальцем на крючок давнуть. По звуку я тоже без промаха бью! — Неужели стрельнул бы? — А надо все-таки пароль говорить… — Извините, Максим. Вы правильно предостерегли. Сам в солдатах служил, а тут все из памяти вылетело. Такие дела, брат. — Понимаю. Но когда идете не один, а ведете нового человека, оставьте его неподалеку, а сами придете и скажите так-то, мол, и так-то, идет со мной новый паренек… А то сейчас разве узнаешь, кто ваш друг, а кто враг? — Я, Максим, твой друг. Ты мне верь, — перейдя на «ты», тихо проговорил Иван. — Петру тоже можно довериться, он комсомолец и мой сын. Там идут слухи, что фашисты начинают панскую власть восстанавливать. А мне панская власть двадцать пять лет хребет гнула! Там сейчас новые порядки. Михальский фашистов приветствует. Он и заберет власть. Обо мне пять раз справлялись, где да что… Я на всякий случай и Петра своего сюда привел. Опять появился тот родственник ксендза и дружок Михальского. Помните, когда ловили нарушителя, то убитого нашли, а другой скрылся? Вот та самая гадюка и есть. В офицерской форме… Петро его видел. — Еще что слышно? Наши далеко? — спросил Бражников. — Под Гродно идут бои. Тут вот жена лекарства прислала — йод, порошки разные, бинты. Будем тебя лечить, Максим. — Да, мне надо быстрей выздоравливать, — задумчиво проговорил Бражников. — Ну как, Петро, видел фашистов? Стараясь разглядеть в темноте молчавшего парня, Максим придвинулся к нему ближе. — Уже увидел! — Петр тяжело вздохнул. — Сегодня старика одного застрелили… — За что же они его? — А порося не давал забивать… Петро отодвинулся и, покашливая, стал снимать сапоги. Помолчав, спросил: — А вы, товарищ сержант, фашистов видели? — Мне первому пришлось. Не хочется и говорить о них, — ответил Максим глухим голосом. Молчали напряженно и долго. Начинало светать, и можно было уже различить на ближних деревьях ветки. — Что же будем делать? — после длительного раздумья спросил Магницкий. — Так и придется все время, как волкам, в лесу ховаться? Что ты скажешь, Максим? — Мое дело — немного сил накопить. Буду до своих пробираться. А вам надо партизанский отряд организовать и начинать драться. У нас в двадцатом году кругом по Сибири колчаковцы да японцы зверствовали. Мужики наши почти поголовно ушли в лес, сформировали отряд да так колотили белых — разлюли малина! И бабы им помогали, продукты носили, одежду. Не захотел народ колчаковской власти. Ну, вот ты, например, и сын твой Петро, можете ли с фашистами жить? — Нет. Я бы со своими ушел в Красную Армию, да не успел, — ответил Петро. — У вас там, в Сибири, проще было создать отряд. Все охотники, у каждого оружие, а у нас что? — с грустью сказал Иван. — Было бы желание, товарищ Магницкий, а оружие добыть можно. Теперь война, а где война — там и оружие. Подумайте, — тихо сказал Максим и погрузился в свои мысли. — Давайте-ка ляжем спать. Завтра будет новый день и новая думка, заметил Магницкий и полез в шалаш. Петро последовал за отцом. Бражников остался снаружи и поудобней уселся у входа. По дремавшему лесу легкой волной пробежал ветерок, качнул на деревьях сучья, пошевелил листву и горохом рассыпал холодную росу по молодым веткам. Первым пробудился трудолюбивый дятел. Пристроившись на сучок, застучал своим острым клювом и, как по сигналу, поднял других лесных обитателей. Вот прыгнул на качнувшуюся ветку снегирь и, оправив свой ярко-малиновый мундирчик, посматривал на ползущую по дереву букашку. Но юркий и нахальный сизый дрозд тоже заметил ее и выхватил из-под самого клюва снегиря. Беззаботный щегол хихикнул и защелкал свою веселую песню… У Франчишки Игнатьевны теперь хлопот полон рот: нужно с утра затопить печь, подоить корову, дать корм пестрому бычку, гусям и курам, приготовить завтрак и накормить свое новое большое семейство, отнести чего-нибудь горячего скрывающемуся на берегу Августовского канала солдату Чубарову, отмочить и перевязать ему раны, пересыпать их порошком, который она достала у Ганны. А тут еще Юзеф Михальский увидел ее за изгородью и уж что-то очень подозрительно вежливо с ней поздоровался: — Как спали-отдыхали, соседушка? Как здоровье Осипа Петровича? Что-то он нигде не показывается… — А куда ему казаться? Сейчас такое время, что краше на печи сидеть да на тараканов глядеть, — обычной своей скороговоркой ответила Франчишка Игнатьевна. — Почему твой Осип не приходил новую власть выбирать? — Для власти надо иметь трошки ума. А у моего Осипа в голове погана думка, а за плечами драна сумка. Не годится он в выборники новой власти. — Тебе, что же, соседка, не нравится новая власть и новый порядок? хитро прищуривая глаз, спросил Михальский. — Матка бозка, он мне о властях толкует! А по мне, хай будет черт в свитке або мужик в сутане, лишь бы были губы в сметане… — Вот я и хочу поговорить с тобой насчет сметанки! Ежели бы ты, баба, ничего не слыхала, а ты хитрюща, все ты видишь и все знаешь, только байками отделываешься. Так ты слушай и разумей. Я, Юзеф Михальский, есть в Гусарском новая власть! Доблестна германска армия разгромила большевиков, и для того, чтобы она быстрей могла забрать Москву, ей надо помогать. Молочко и сметанку, определенное количество, будешь носить в военный госпиталь! — Якое такое количество? — не понимая, спросила Франчишка Игнатьевна. — Надо твоему Осипу до канцелярии дойти, расписаться, а там ему скажут количество. — У тебя три скотинки, пан Михальский, а у меня одна. Себе да теленку — вот и все мое количество. — А сколько ты большевикам таскала молочка на заставу? — продолжая косить глазом, ехидно спросил Михальский. — Своему молоку я сама хозяйка. Хочу выпью, хочу вылью, хочу продам, а то и так отдам. И ты мне не указчик! — Нет! Я теперь новая власть, и я тебе укажу! А еще разреши-ка задать один пустяковенький, но очень интересный вопросик. У тебя, кажись, сейчас молочка только гостям хватает… И откуда они понаехали, эти твои гостечки? — Гости? Якие такие гости? — пряча под сарафан дрожащие руки и чувствуя, как начинает трепыхаться у нее сердце, спросила Франчишка Игнатьевна и тут же подумала: «Вот оно где, мое лихо!» — Она не знает про своих гостей, все перезабыла наша бедная Франчишка… Может быть, ты даже не помнишь, как зовут твоего муженька и сколько тебе от роду лет? — издевался Михальский. — Языком ты болтать мастерица, другой такой на свете не сыщешь, а тут у ней, видите ли, и память отшибло! — Да он вон про яких гостей! Будь ты неладна! Может быть, ты, пан староста, сам зайдешь до моей хаты и с моими родственничками познакомишься… Ты человек вдовый, и сын у тебя неженатый, и ваша прислуга старая Гапка совсем весь порох порассыпала, еле ноги таскает. Может быть, тебе приглянется моя двоюродная сестрица из Сувалок? Может, возьмешь ты ее за Владислава, да я бы и за тебя отдала. Чем ты не жених, ежели тебе бороду сахарными щипцами повыдергать. Будешь такий пригоженький мужчиночка, спаси боже! А то навязалась на меня эта сестричка из Сувалок, найди да подай ей богатого жениха. Правда, она с дочкой и трошки чахоточная. Дом у них погорел, она сюда притопала, думает, что у тетки Франчишки на огороде пироги растут… Может, породнимся? А что она чахоточна та кособока, ты человек богатый, добрый… вылечишь! — Фу ты скаженна баба! — разозлился Михальский. — Не забивай мне голову своим пустомельством! Пускай твоя родственница приходит и паспорт покажет. Говорить с тобой — все равно что пыль в ступе толочь, только полные глаза набьешь дряни всякой. Михальский плюнул и, повернувшись, пошел по садовой дорожке к дому. Франчишка Игнатьевна поняла, что о ее гостях он пока слышал только краем уха и ничего толком не знает, но разговор сильно ее растревожил. В клетушку, где находились Александра Григорьевна и Оля, она вошла с хмурым, озабоченным лицом. Присаживаясь на разостланную на соломе дерюжку, проговорила: — Поганые наши дела, девчата. — Что случилось? — встревоженно спросила Шура. — Тот злыдень Михальский, чтоб таракан ему в ухо залез, услышал, что у меня кто-то живет, и в волость с бумагами требует. — Вот оно… начинается, — тихо прошептала Александра Григорьевна. Она ждала, что такая тревожная минута рано или поздно настанет. Сколько бы ни скрывались они, все равно властям когда-нибудь станет известно, что жена начальника пограничной заставы и дочка политрука живут в доме Осипа Августиновича. Притянут к ответу и его и Франчишку. А что тогда будет с ней и с Олей? Эта мысль приводила Шуру в отчаяние. За эти два дня она отоспалась, отдохнула, но на душе было жутко, ни одной минуты она не знала покоя. Оля как-то неожиданно сразу повзрослела, о чем-то думала, наморщив лобик, и почти все время молчала. — Как же нам быть, Франчишка Игнатьевна? — робко спросила Александра Григорьевна, предчувствуя, что утешительного ответа ждать нельзя. Да и что могла ответить хозяйка? Она делала все, что было в ее силах: спасла от явной гибели трех человек, делила с ними последний кусок хлеба, подвергала себя и мужа опасности. — Я и сама не знаю, как тут быть и что делать! Ему я пока набрехала три короба всякой чепухи. Говорю, что это моя больная родственница из Сувалок. Вроде поверил, а там якому он черту свою душу продаст, никто не знает. Он теперь молоко и сметану для госпиталя собирает и девок переписывает, а на что ему девки? Франчишка Игнатьевна умолкла и задумалась. Прошел еще один напряженный и тревожный день. Осип Петрович ходил хмурый и все время, как солдат на посту, дежурил в сенцах, чтобы на случай появления начальства или немцев подать сигнал. Никогда еще на Франчишку Игнатьевну не сваливалось столько забот. Сегодня утром она не нашла на своем месте Чубарова. Еще вчера он поблагодарил заботливую старуху, сказал, что ему стало лучше, попросил буханку хлеба. По всему было видно, он собирался уходить, но прямо об этом не сообщил. Сегодня Франчишка Игнатьевна не утерпела, налила утром крынку молока, захватила вареной картошки и побежала на берег канала. В кустах было тихо. На свежепримятой траве валялись вата, обрывки бинтов да рваные, мокрые от росы газеты, в которых она приносила еду Чубарову. Всплакнув втихомолку, Франчишка вернулась домой и зашла в клетушку. Надо было на что-то решиться. Рано или поздно история с Олей и с Александрой Григорьевной может выплыть наружу и закончиться печально. — Вот что, Александра Григорьевна, — после тяжкого раздумья заговорила Франчишка Игнатьевна, — мы посоветовались с Осипом Петровичем и загадали таку думку, что тебе нужно отсюда уходить. — А я, тетя Франчишка? — подняв голову, беспокойно поблескивая глазенками, спросила Оля. — О тебе, дочка, другая будет песня. — Я, Франчишка Игнатьевна, понимаю, все понимаю, — с дрожью в голосе прошептала Александра Григорьевна, совершенно не представляя себе, куда она пойдет. — Да не расстраивайте вы меня! — едва сдерживая слезы, выкрикнула Франчишка Игнатьевна, никак не желая показать своей слабости. — Нельзя ждать, когда полицаи придут. Ну, нехай, допустим, что не придут полицаи… Как мы будем жить, чем кормиться? Хай так, прожили бы как-нибудь! Но жить нам все равно не дадут. Сегодня германцу требуется молоко да сметана, а завтра наши руки да головы. Эти паны спокойно жить не дадут, а заставят на себя батрачить. Осип их знает. Сколько он шею гнул в Восточной Пруссии! А ты пойдешь батрачить на фашистов? Нет? Правильно. Но жить как-то нужно. Вот что мы придумали с Осипом. В Перстуни, недалечко отсюда, у меня знакомая живет. Сама она больна, а хозяйство имеет, корову, и курята там, и гусята да детей куча. Ей нужен хороший человек. Пока там поживешь, присмотришься, будешь ее племянницей числиться, а там, глядишь, и наши вернутся… — Тетя… Франчишка! — хватая ее за руку, крикнула Александра Григорьевна. — О том, что они вернутся, — это такая же правда, як тебя вот здесь я вижу. Эти хвостодеры не удержатся. Людишки избалованные, сразу начали яблоньки рубить, свиней резать да за бабьи юбки чепляться. Гитлера ихнего я в кино видела, он ногой дрыгает, як ощипанный гусак. А советские люди это не такой народ, чтобы Гитлеру покориться! Они еще тряхнут фашистов, да так тряхнут, перья посыпятся!… Вот так думает Франчишка Августинович, и не одна она так думает. Собирайся, значит, до Станиславы Дворак. Она добрая. Ты только помоги ей, услужи, полюбит тебя, як дочь родную. — Но я ведь не знаю, где эта Перстунь и как туда попасть. — А ты помолчи, когда я говорю… У меня одна голова, и та сейчас колесом крутится! Мне самой известно, что ты не найдешь, где живет моя знакомая. Сначала я одна к ней схожу, потом тебя сведу. Надо разузнать все. Про ее мужа Ефима тоже. — Ну, а как с Олей, тетя Франчишка? — спросила Александра Григорьевна, с ужасом думая, как она расстанется с девочкой. Вместе с ней уходило последнее, самое дорогое и близкое. Обливаясь слезами, она чувствовала, что это уже никогда больше не возвратится. — Оля останется у меня, — коротко и решительно заявила Франчишка Игнатьевна. — Но если они узнают, что она дочка политрука? — Ну и нехай узнают! Франчишка Игнатьевна поднялась с дерюжки, потом открыла стоявшую в углу деревянную кадку и стала накладывать в подол яйца. Кроме кадки и корыта, в этой клетушке с маленьким полутемным, выходящим во двор окном никаких других вещей не было. — Нехай узнают. Что, Франчишка не может заступиться за ребенка? Олю еще надо вылечить, у ней с ножкой плохо. Она, бедняжка, совсем замучилась. Ну, не вздыхайте, все уладится… Сейчас я вам завтрак принесу. Придерживая в подоле пестрого сарафана десятка два яиц, Франчишка Игнатьевна вышла. Постояла во дворе, выглянула на улицу, почесала пальчиком свой остренький нос и, открыв калитку в сад Седлецких, быстро пошла к их дому. У нее был еще один план: пожертвовать накопленный запас яичек немецкому обер-лейтенанту, чтобы он разрешил врачу подлечить Олю.ГЛАВА ШЕСТАЯ
В доме Седлецких поселился обер-лейтенант Альфред Цугер. С утра он уходил на службу, вечером, возвращаясь на квартиру, принимался ухаживать за Ганной. Не отставал от него и Гаспери-Сукальский, часто приезжавший в Вулько-Гусарское. Помимо того, что он являлся уполномоченным от митрополичьей курии по делам католической церкви, ему было поручено готовить почву для формирования воинских частей из лиц призывного возраста, проживающих на оккупированной территории. Разъезжая по районам, Сукальский налаживал связи со старыми знакомыми из реакционной католической клики и прощупывал настроение в народе. По вечерам он и Цугер удерживали Ганну в столовой и почти силой усаживали ее за стол, откупоривали дорогое французское вино и заводили разговор на волнующую тему. Всех интересовало, что будет с Москвой. Приходил Олесь, скромно усаживался в уголок и покуривал свои цигарки. — Вы бывали в Москве? — спросил как-то Цугер у Ганны. — Да. В этом году я была в Москве, — кутаясь в черную шаль, отвечала Ганна. Она каждый раз старалась пораньше покинуть это тяжелое для нее общество. Но мать побаивалась офицеров и говорила ей: — Ты уж потерпи! Мало ли что может с нами случиться… — Как же вас впустили в Москву? На это, кажется, требовалось разрешение? — приставал Цугер. — Для вас, конечно, потребовалось бы особое разрешение… язвительно заметила Ганна. В глазах сидевшей на стуле и штопавшей чулок Стаси появился испуг. Своим резким, насмешливым разговором Ганна могла накликать беду. Вдруг им напомнят о родстве с русским офицером, да и вообще еще неизвестно, чем все это кончится. Михальский на Стасю волком смотрит, а Владислав работает в волости и как будто совсем не замечает своей соседки. — Мы и так скоро будем в Москве, — не переставая чистить напильничком ногти, вставил Сукальский, самодовольно улыбаясь. — Не думаю, — отвечала Ганна. — Слишком далеко… После таких слов наступило долгое молчание. Обер-лейтенант с нескрываемой неприязнью смотрел на Ганну. — А вы ведете себя слишком дерзко, — сказал Сукальский, — понимаете, что хорошеньким женщинам все прощается… — Может быть, ради хорошеньких женщин вы и надели этот мундир. Интересно, какой мундир вы предпочтете надеть завтра? Олесь слушал все это с волнением и поражался, откуда его тихая и молчаливая Ганна научилась так говорить. — Вы страшно злы, мадам! — начиная чувствовать себя неловко, процедил сквозь зубы Сукальский. — Наоборот, снисходительна. — Было нетрудно заметить, что Ганне не хотелось говорить со своими бесцеремонными гостями. — Вас смущает моя форма? Но ведь в наше время военный мундир всюду открывает двери… — Но он к чему-то обязывает? — Да. Я военный корреспондент газеты религиозного направления. Святая католическая церковь призывает всех на борьбу с коммунистами, которые закрывают костелы. Какое все это имеет значение? — возразил Сукальский с прежней напыщенностью. — У нас за полтора года коммунисты не закрыли ни одного костела. Обер-лейтенант Цугер, подняв голову, выкрикнул: — Прекратите это глупое препирательство! Обозленный Сукальский попрощался и вышел. Квартировал он у Юзефа Михальского. Помощником во всех его делах был Владислав. Цугер после ухода Сукальского настроился на веселый лад. Он видел, как ярко пылает в эту минуту красивое лицо Ганны, и ему страстно хотелось покорить эту гордую женщину. Он стал шутить, улыбаться какой-то наигранной, неестественной улыбкой, похожей на гримасу. Ганна задержалась в столовой. Ей нужно было поговорить с обер-лейтенантом об одном щекотливом деле. Сегодня днем к ней пришла с яйцами в подоле Франчишка Игнатьевна и попросила вызвать через Цугера врача. Надо было вручить ему подарок. Ганна знала о трагической истории девочки и относилась к ней с большим сочувствием. Сейчас предстояло поговорить об этом с Цугером. — Не окажете ли вы, — сдержанно обратилась Ганна, — господин Цугер, мне одну маленькую услугу? — Я вас слушаю. — У моей соседки есть больная девочка… То есть она не больна, а ранена в ногу. Это совсем ребенок. Случилось такое несчастье… Вы не могли бы разрешить врачу посмотреть девочку, господин Цугер? Цугер долго не отвечал. Потом он поднял свои свинцовые глаза, бросил на Ганну какой-то пустой, ничего не выражающий взгляд и негромко проговорил: — Стоит ли беспокоиться сейчас о какой-то девчонке, когда каждый день гибнут тысячи доблестных наших солдат? Ха-а! Лучше будем пить вино, пока мы еще молоды… Ганна выбежала из комнаты и горько разрыдалась…ГЛАВА СЕДЬМАЯ
На другой день Франчишка Игнатьевна стала собирать Олю на прием к фельдшеру, старичку поляку, который скрывался от оккупантов. Оля долго отказывалась, протестовала и плакала. — Ты что, хочешь, чтобы тебе отрезали ногу? — пригрозила Франчишка Игнатьевна, — Тетя Франчишка, а если мы не пойдем к доктору? У меня уже не болит нога, я хромаю только маленечко… Вот сами посмотрите, совсем и не хромаю… Крепко сжимая губенки, пересиливая боль, она даже пыталась улыбнуться. Но Франчишка Игнатьевна была неумолима: — У тебя так быстро перестала болеть нога? Ты уже можешь не хромать? Я вижу, как ты можешь не хромать! Ах, доченька, кого ты хочешь обмануть? Тетю Франчишку? Не трусись, деточка! Ничего худого не будет тебе от доктора. Он непременно тебя вылечит. Фельдшер, маленький седой старичок, принял Олю в полутемной с низким потолком комнате. Он не сразу разрешил Франчишке и Ганне войти в комнату, а заставил их сначала спрятаться в саду. Потом высунул из приоткрытой двери голову и тихо позвал Ганну. Попытавшуюся пройти следом Франчишку Игнатьевну оставил в передней. Ганна стала наблюдать за перевязкой. Фельдшер быстро размотал загрязненный бинт и бросил его в таз. Промыв рану спиртом, не обращая внимания на стоны девочки, старичок покачал головой. Взглянув на Ганну, сокрушенно сказал: — Плохо! Идет воспалительный процесс. Будьте любезны, пани Ганна, подайте вон тот флакончик. Придется резать… — Что резать? — в ужасе спросила Ганна. — Неужели девочка может остаться без ноги? — О, нет! Вы меня не так поняли. Придется вскрыть рану и сделать небольшую прочистку. Все будет отлично, — сказал он, беря ланцет. — Но, господин фельдшер, она ведь ребенок… Посмотрите, как девочка дрожит, боится. Нельзя ли… — Я уверяю, что не будет больно. — Не забывайте, что перед вами ребенок, — настаивала Ганна. — Если нужно сделать прочистку, как вы выражаетесь, то неужели нельзя это сделать без вмешательства ваших ножей? — Разумеется, можно. Но я хотел ускорить процесс выздоровления. Тогда сделаем проще. Положим лекарство, перевяжем — вот и все. Закончив перевязку, фельдшер внимательно посмотрел на Олю. — Какое прекрасное лицо у этой девочки! — воскликнул он. — Кто ее родители? Оля понимала, что речь идет о ней, и видела пристальный взгляд старика. По ее бледному лобику катились крупные капли пота. — Это дочка наших знакомых, — отвечала Ганна. — Она дочь советского офицера с пограничной заставы… — Все мне понятно, не говорите больше ни слова, — сказал фельдшер, видя, что Ганна может сейчас же разрыдаться. Старик помолчал, потом, взглянув на Олю добрым и грустным взглядом, ласково спросил: — Как тебя зовут, девочка? — Оля… — чуть слышно прошептала она. — Твой отец пограничник? Комиссар? Оля низко опустила голову и ничего не ответила. — Не бойся! Я поляк и тебя не обижу. Вот возьми печенье… — фельдшер взял со стола пачку печенья и сунул ее растерявшейся Оле. — Ступай, малышка, и поправляйся, милая… Когда они шли по тихой садовой дорожке, Оля спросила: — Тетя Ганна, а как зовут этого хорошего дедушку? — Я, милая девочка, даже и не узнала его имени. А вернуться к нему, наверно, уже нельзя… Прошло несколько дней. Оля начала поправляться. Александру Григорьевну Франчишка отвела в Перстунь. Осталась Оля одна в чужой семье. С утра она брала в руки палочку, выходила во двор и, прихрамывая, гнала пасти гусей к берегу Августовского канала. С первых же дней ее трудовой жизни с ней начал враждовать старый злой гусак. Как только Оля подходила к стаду, глава гусиного семейства, вытянув шею, по-змеиному шипел, растопырив крылья, бежал навстречу. В первый день Оля так испугалась, что выронила свою палочку. Серый гусак исщипал ее до синяков. В другой раз он едва не сбил ее с ног. Оля вынуждена была отбиваться. Так, с раненой ногой и с синяками на теле, девочка стала привыкать к новой жизни, помогая Франчишке Игнатьевне в хозяйстве. Подогнав гусей к каналу, она садилась на пригорок неподалеку от берега и до боли в глазах неотрывно смотрела на заставу. Застава была совсем близко, в каких-нибудь двух километрах от поселка. О, если бы кто знал, как тянуло ее туда! Только бы одним глазком посмотреть в окошко своей квартиры! Там стояла ее кроватка, а где-нибудь в уголке, наверное, одиноко лежали заброшенная, осиротевшая кукла Маша и бархатный медвежонок с желтыми пуговицами-глазами. С каждым днем Оля угоняла гусей все дальше и дальше от поселка и все ближе к заставе. Вот уже видны и мостик через канал, конюшня и маленькая баня, стоявшая неподалеку от дома, в котором они жили. Высоко в небе над опустевшей заставой кружился коршун. То он парит под самыми облаками, то опускается вниз, пролетает над крышей казармы и вьется над вяло текущей в канале водой. Что-то высматривает крылатый хищник. Он с высоты, может быть, даже видит гнездышко с маленькими коршунятами. Оля завидует этой вольной птице и чувствует, что ей трудно, неимоверно трудно пройти даже несколько сот шагов, чтобы заглянуть в родной дом, где все ей так дорого и близко. Собрав все силы, всю волю, она оставляет гусей по эту сторону канала и направляется к заставе. Вот уже она ступает босыми ногами по нагретому солнцем деревянному настилу моста. Забыв про боль в коленке, быстро спускается в лощинку, затем поднимается на изрытую снарядами высотку. Вот баня, от нее начинается вторая траншея, по которой они вышли с Александрой Григорьевной с заставы. Но этого места теперь не узнать: все изуродовано, исковеркано взрывами. На бруствере глубокие вмятины танковых гусениц. И вдруг Оля видит запыленную, помятую зеленую пограничную фуражку. Затаив дыхание, она остановилась, чувствуя, как сильно заколотилось в груди сердце. Оля хотела поднять фуражку, но в это время в траншее увидела еще одну такую же запыленную фуражку, прикрывавшую чью-то голову. Под солнцем рубином поблескивала пятиконечная звездочка. Прижавшись спиной к стенке траншеи, там сидел полузасыпанный землей пограничник. Оля почувствовала, что ее душит что-то тяжелое, гнетущее. Задыхаясь, она закрыла глаза, пошла дальше ощупью, в темноте, и, не помня себя, очутилась в своей квартире.
Двери распахнуты настежь, холодом веет из опустошенных комнат. В разбитые окна врывается ветер, завывает в рамах. Шуршат, пошевеливаются на крашеном полу бумажные клочья и, как живые, вихорьком мечутся из угла в угол. Только у стены от луча полуденного солнца ярко и тепло блестит пуговичка от отцовской гимнастерки, которую Славка не дал тогда пришить, а закинул куда-то за гардероб. Оля бросается к этой драгоценной пуговице, хватает ее, зажимает в кулачке и пугливо оглядывается по сторонам: не подсмотрел ли кто, не отнимет ли это последнее, что осталось от их родного угла!
Крепко прижимая к бьющемуся сердцу свою находку, Оля медленно пятится назад. Споткнувшись о порог, она круто поворачивается, выходит в сени и, как в тумане, бродит по изрытому снарядами двору. Кругом ямы, комья подсыхающей земли. Передняя стена конюшни из красного кирпича почти до самого конька выщерблена пулями и осколками мин. В казарме выбиты стекла. Склад старшины Салахова, уехавшего накануне войны в Гродно, стоит пустой, разбитый. Озираясь на страшную картину разрушения, Оля тихонько идет обратно, ее немилосердно тянет взглянуть еще раз на этого, словно отдыхающего, с опущенной головой человека в зеленой пограничной фуражке…
Оля Шарипова, милая девочка, чует ли твое сердце, кто это сидит? Подойди поближе, стряхни землю и пыль с неподвижных плеч и там увидишь потертую командирскую портупею, побывавшую на Дальнем Востоке, в горах Памира, у берегов Балтийского моря. Сними зеленую фуражку и, может, узнаешь знакомую, только недавно начисто выбритую голову, и тогда увидишь в последний раз дорогое тебе лицо. Это его пуговица с пятиконечной звездочкой зажата в твоем кулачке!
Впрочем, не надо. Тебе и так тяжело, а впереди ждет тебя еще много испытаний. Придет время, вернутся советские воины, снимут свои фуражки перед памятником, где станет вечно, неугасимо гореть большая пятиконечная звезда. Новые поколения пограничников, уходя на охрану священных рубежей нашей Родины, будут стоять перед гранитным обелиском в минутном молчании, отдавая честь мужеству и доблести.
Медленными шажками Оля подошла к краю траншеи, осторожно поднялась на цыпочки. Вдруг что-то зашуршало, и ей показалось, что зашевелилась и чуть покачнулась зеленая фуражка. Оля вздрогнула, замерла на месте, но тут же поняла, что это скатился потревоженный ее ногой комочек земли, потянул за собой другие и засыпал сверху фуражку, не коснувшись лишь ярко горевшей красной звездочки.
Оля вернулась к стаду гусей, села на бережку, вымыла дорогую находку, отчистила песком и долго смотрела на нее мокрыми от слез глазами. Как живой, стоял отец с гимнастеркой в руке и собирался пришивать эту пуговицу, а братишка примерял ее на своей синей рубашонке…
Вечером Оля пригнала гусей в поселок и сразу же легла в постель. Нестерпимо болела голова, тоскливо сжималось маленькое измученное сердце.
Пересчитав гусят, Франчишка Игнатьевна, браня за что-то Осипа Петровича, шумно вошла в избу:
— Так где ж она, моя дорогая пастушка?
— Здесь я, тетя Франчишка, — тихо отозвалась из своего уголка Оля.
— Ты уже завалилась, голубонька? Як же ты стерегла гусей и где ж они у тебя паслись-кормились? Вот что мне хочется знать.
— На канале пасла… у того лужка… Ну, там, где эти зеленые кустики, — предчувствуя беду, ответила Оля.
— И что ты там делала у этих кустиков, на том зеленом лужке? На якие ты там диковинки любовалась и не видела ли, куда подевался тот бойкий гусенок с черной шейкой?
— Он все время там был, только часто убегал в стороночку.
— Вот утром-то он был, а сейчас нет его…
— Куда же он мог подеваться? — тихонько спросила девочка, вспомнив, что тетя Франчишка учила ее поглядывать на небо да чаще считать гусей. А ведь Оля сегодня ни разу не пересчитала их, да и вечером не сделала этого.
— Мне тоже хотелось бы знать, куда мог деваться у нашей пастушки гусенок с черной шейкой? Коршун, наверно, сегодня добре пообедал, ворчала Франчишка Игнатьевна. — Ежели ты будешь так стеречи, то через неделю у меня останется один старый гусак. А тут еще Осип мой — хай дьявол на его лысине блины печет! — пас в лесу корову, а она столько дала молочка — одного воробья не напоишь! А все требуют с Франчишки молока. Старосте подавай молоко, паршивой солдатне молоко, Осипу и поросю тоже, цыплятам вари кашу на молоке, коту толстобокому подавай молока… Да брысь ты, окаянная! — Франчишка Игнатьевна пнула подвернувшуюся под ноги кошку, чтобы хоть на ней сорвать злость. — Всем надо молочка, а Пеструшка одна… И разнесчастный мой Осип не пас корову, а больше воронят считал. Бычок-то, не будь дурак, корову и выдоил. Чтоб вы пропали все, помощники!
От Оли Франчишка Игнатьевна хотела узнать одно: куда и при каких обстоятельствах исчез злополучный гусенок.
— Может, ты спала под кусточками? — пытала она измученную девочку.
— Нет, я не спала, тетя Франчишка…
— Может быть, ты подружек нашла и заигралась с ними?
— Нету у меня подружек…
— Или тебе трудно и не хочется пасти гусят, тогда так ты и скажи.
— Да, мне не хочется пасти. Гусак все время щипается, — проговорила сквозь слезы Оля.
— Эге! Чего ж тебе хочется?
— Мне хочется… К маме я хочу, тетя Франчишка. Я вот пуговичку нашла на заставе.
— Ты была на заставе?… Вот, значит, почему погубился гусенок. Так бы и говорила… — Франчишка Игнатьевна замолчала.
Она сразу все поняла, ей тяжело стало смотреть на девочку.
— Ну, что там на заставе?
— Человек мертвый сидит… в фуражке… В нашем доме, кроме пуговички, я ничего не нашла… — и Оля рассказала, что она увидела на заставе.
Обливаясь слезами, она судорожно сжимала в руке пуговицу с пятиконечной звездочкой.
— Почему ты мне ничего не сказала, голубка моя? — присев на кровать, сокрушалась Франчишка Игнатьевна. — Мы бы с тобой вместе пошли. Раньше надо было, раньше! Я виновата. Хоть бы какое-нибудь платье для тебя взяли. Все ваше имущество, которое немцы не забрали, потаскуха и пьяница Лушка в Новичи к себе вывезла, да и ваша швейная машина у ней. Люди все знают! А у тебя ничего не осталось. Одно платьишко да башмаки старые. А ведь тебя одевать да обувать надо. Вот же она, проклятая война! И чего людям не живется мирно?…
Высоко в небе над опустевшей заставой кружился коршун. То он парит под самыми облаками, то опускается вниз, пролетает над крышей казармы и вьется над вяло текущей в канале водой. Что-то высматривает крылатый хищник. Он с высоты, может быть, даже видит гнездышко с маленькими коршунятами. Оля завидует этой вольной птице и чувствует, что ей трудно, неимоверно трудно пройти даже несколько сот шагов, чтобы заглянуть в родной дом, где все ей так дорого и близко. Собрав все силы, всю волю, она оставляет гусей по эту сторону канала и направляется к заставе. Вот уже она ступает босыми ногами по нагретому солнцем деревянному настилу моста. Забыв про боль в коленке, быстро спускается в лощинку, затем поднимается на изрытую снарядами высотку. Вот баня, от нее начинается вторая траншея, по которой они вышли с Александрой Григорьевной с заставы. Но этого места теперь не узнать: все изуродовано, исковеркано взрывами. На бруствере глубокие вмятины танковых гусениц. И вдруг Оля видит запыленную, помятую зеленую пограничную фуражку. Затаив дыхание, она остановилась, чувствуя, как сильно заколотилось в груди сердце. Оля хотела поднять фуражку, но в это время в траншее увидела еще одну такую же запыленную фуражку, прикрывавшую чью-то голову. Под солнцем рубином поблескивала пятиконечная звездочка. Прижавшись спиной к стенке траншеи, там сидел полузасыпанный землей пограничник. Оля почувствовала, что ее душит что-то тяжелое, гнетущее. Задыхаясь, она закрыла глаза, пошла дальше ощупью, в темноте, и, не помня себя, очутилась в своей квартире.
Двери распахнуты настежь, холодом веет из опустошенных комнат. В разбитые окна врывается ветер, завывает в рамах. Шуршат, пошевеливаются на крашеном полу бумажные клочья и, как живые, вихорьком мечутся из угла в угол. Только у стены от луча полуденного солнца ярко и тепло блестит пуговичка от отцовской гимнастерки, которую Славка не дал тогда пришить, а закинул куда-то за гардероб. Оля бросается к этой драгоценной пуговице, хватает ее, зажимает в кулачке и пугливо оглядывается по сторонам: не подсмотрел ли кто, не отнимет ли это последнее, что осталось от их родного угла!
Крепко прижимая к бьющемуся сердцу свою находку, Оля медленно пятится назад. Споткнувшись о порог, она круто поворачивается, выходит в сени и, как в тумане, бродит по изрытому снарядами двору. Кругом ямы, комья подсыхающей земли. Передняя стена конюшни из красного кирпича почти до самого конька выщерблена пулями и осколками мин. В казарме выбиты стекла. Склад старшины Салахова, уехавшего накануне войны в Гродно, стоит пустой, разбитый. Озираясь на страшную картину разрушения, Оля тихонько идет обратно, ее немилосердно тянет взглянуть еще раз на этого, словно отдыхающего, с опущенной головой человека в зеленой пограничной фуражке…
Оля Шарипова, милая девочка, чует ли твое сердце, кто это сидит? Подойди поближе, стряхни землю и пыль с неподвижных плеч и там увидишь потертую командирскую портупею, побывавшую на Дальнем Востоке, в горах Памира, у берегов Балтийского моря. Сними зеленую фуражку и, может, узнаешь знакомую, только недавно начисто выбритую голову, и тогда увидишь в последний раз дорогое тебе лицо. Это его пуговица с пятиконечной звездочкой зажата в твоем кулачке!
Впрочем, не надо. Тебе и так тяжело, а впереди ждет тебя еще много испытаний. Придет время, вернутся советские воины, снимут свои фуражки перед памятником, где станет вечно, неугасимо гореть большая пятиконечная звезда. Новые поколения пограничников, уходя на охрану священных рубежей нашей Родины, будут стоять перед гранитным обелиском в минутном молчании, отдавая честь мужеству и доблести.
Медленными шажками Оля подошла к краю траншеи, осторожно поднялась на цыпочки. Вдруг что-то зашуршало, и ей показалось, что зашевелилась и чуть покачнулась зеленая фуражка. Оля вздрогнула, замерла на месте, но тут же поняла, что это скатился потревоженный ее ногой комочек земли, потянул за собой другие и засыпал сверху фуражку, не коснувшись лишь ярко горевшей красной звездочки.
Оля вернулась к стаду гусей, села на бережку, вымыла дорогую находку, отчистила песком и долго смотрела на нее мокрыми от слез глазами. Как живой, стоял отец с гимнастеркой в руке и собирался пришивать эту пуговицу, а братишка примерял ее на своей синей рубашонке…
Вечером Оля пригнала гусей в поселок и сразу же легла в постель. Нестерпимо болела голова, тоскливо сжималось маленькое измученное сердце.
Пересчитав гусят, Франчишка Игнатьевна, браня за что-то Осипа Петровича, шумно вошла в избу:
— Так где ж она, моя дорогая пастушка?
— Здесь я, тетя Франчишка, — тихо отозвалась из своего уголка Оля.
— Ты уже завалилась, голубонька? Як же ты стерегла гусей и где ж они у тебя паслись-кормились? Вот что мне хочется знать.
— На канале пасла… у того лужка… Ну, там, где эти зеленые кустики, — предчувствуя беду, ответила Оля.
— И что ты там делала у этих кустиков, на том зеленом лужке? На якие ты там диковинки любовалась и не видела ли, куда подевался тот бойкий гусенок с черной шейкой?
— Он все время там был, только часто убегал в стороночку.
— Вот утром-то он был, а сейчас нет его…
— Куда же он мог подеваться? — тихонько спросила девочка, вспомнив, что тетя Франчишка учила ее поглядывать на небо да чаще считать гусей. А ведь Оля сегодня ни разу не пересчитала их, да и вечером не сделала этого.
— Мне тоже хотелось бы знать, куда мог деваться у нашей пастушки гусенок с черной шейкой? Коршун, наверно, сегодня добре пообедал, ворчала Франчишка Игнатьевна. — Ежели ты будешь так стеречи, то через неделю у меня останется один старый гусак. А тут еще Осип мой — хай дьявол на его лысине блины печет! — пас в лесу корову, а она столько дала молочка — одного воробья не напоишь! А все требуют с Франчишки молока. Старосте подавай молоко, паршивой солдатне молоко, Осипу и поросю тоже, цыплятам вари кашу на молоке, коту толстобокому подавай молока… Да брысь ты, окаянная! — Франчишка Игнатьевна пнула подвернувшуюся под ноги кошку, чтобы хоть на ней сорвать злость. — Всем надо молочка, а Пеструшка одна… И разнесчастный мой Осип не пас корову, а больше воронят считал. Бычок-то, не будь дурак, корову и выдоил. Чтоб вы пропали все, помощники!
От Оли Франчишка Игнатьевна хотела узнать одно: куда и при каких обстоятельствах исчез злополучный гусенок.
— Может, ты спала под кусточками? — пытала она измученную девочку.
— Нет, я не спала, тетя Франчишка…
— Может быть, ты подружек нашла и заигралась с ними?
— Нету у меня подружек…
— Или тебе трудно и не хочется пасти гусят, тогда так ты и скажи.
— Да, мне не хочется пасти. Гусак все время щипается, — проговорила сквозь слезы Оля.
— Эге! Чего ж тебе хочется?
— Мне хочется… К маме я хочу, тетя Франчишка. Я вот пуговичку нашла на заставе.
— Ты была на заставе?… Вот, значит, почему погубился гусенок. Так бы и говорила… — Франчишка Игнатьевна замолчала.
Она сразу все поняла, ей тяжело стало смотреть на девочку.
— Ну, что там на заставе?
— Человек мертвый сидит… в фуражке… В нашем доме, кроме пуговички, я ничего не нашла… — и Оля рассказала, что она увидела на заставе.
Обливаясь слезами, она судорожно сжимала в руке пуговицу с пятиконечной звездочкой.
— Почему ты мне ничего не сказала, голубка моя? — присев на кровать, сокрушалась Франчишка Игнатьевна. — Мы бы с тобой вместе пошли. Раньше надо было, раньше! Я виновата. Хоть бы какое-нибудь платье для тебя взяли. Все ваше имущество, которое немцы не забрали, потаскуха и пьяница Лушка в Новичи к себе вывезла, да и ваша швейная машина у ней. Люди все знают! А у тебя ничего не осталось. Одно платьишко да башмаки старые. А ведь тебя одевать да обувать надо. Вот же она, проклятая война! И чего людям не живется мирно?…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
На второй месяц пребывания у Франчишки Игнатьевны Оля пригнала однажды корову, впустила ее в хлев, дала свежей травы и, на минутку задержавшись во дворе, задумалась. Нога ее почти совсем поправилась. Франчишка Игнатьевна постепенно приучала ее к труду, иногда бранилась и ворчала, но с каждым днем привязывалась к девочке все сильней и сильней. Однако Оля по-прежнему тосковала и по ночам плакала. На заставе разместилось немецкое управление по разработке леса. Оля почти каждый день, забравшись в кусты, подолгу глядела на крышу своего дома. На заставе хозяйничали чужие люди. Они приезжали и уезжали на машинах, рубили и возили лес. Сегодня Оля снова не утерпела и пошла туда. Траншея была закопана и сровнена с землей, а на высотке был поставлен маленький, в две палочки, крестик. Оля нарвала цветочков и, сделав венок, положила у подножья креста. В это время из их дома вышел с палкой в руках Михальский. Увидев Олю, он крикнул: — Тебе что здесь нужно? А ну, геть отсюда! Но Оля как вкопанная стояла на месте, торопливо перебирая оставшиеся в руках цветы. Она не чувствовала страха и смело смотрела на размахивающего палкой Михальского. — Я кому сказал, тебе или вот этим кирпичам? — тыча палкой, спросил Михальский. — А я вот не уйду, — упрямо проговорила Оля, исподлобья посматривая на злое сморщенное лицо Михальского. — Так и не уйдешь? — спросил Михальский, не чувствуя и не понимая возмущения и гнева ребенка. — Так и не уйду!… Это мой дом, — решительно заявила Оля. — Ах, вот оно что! Этот змееныш еще может кусаться! Пошла вон, тебе говорят! На крик Михальского из конюшни вышли рабочие, в числе их плотник Калибек. Он хорошо знал Олю. — Ну, что ты, Юзеф, привязался к ребенку? — сказал Калибек. — Она тут жила и пришла проведать старое свое местечко. Ты, дочка, не пугайся его и не вяжись с ним, иди лучше до тетки Франчишки. Услышав спокойные, ласковые слова плотника, Оля, косясь на Михальского сердитыми глазами, медленно побрела к каналу. — Этого красного отродья я уже больше не потерплю в Гусарском! крикнул вслед Михальский. — Я ей найду место… А тебе, Калибек, не к лицу заступаться за красных. — А ты еще побранись, еще! — крикнул Калибек, уходя в конюшню. Не знала Оля, какая грозит ей беда от этой встречи со старостой. Вспоминая дневное происшествие, Оля открыла дверь в хату. В комнату ворвался бледноватый свет сумерек и упал на сидевшего у стола человека в измятой военной форме. Человек резко повернулся и поставил на стол недопитую кружку молока. Франчишка Игнатьевна сидела в другом конце стола и, взглянув на Олю, загадочно улыбнулась. Военный, вытирая рушником губы и густо заросшие щеки, пристально смотрел на девочку черными, блестевшими при тусклом свете глазами и тоже улыбался. — Здравствуй, Оленька! Узнала? — проговорил он хрипловатым, совсем незнакомым голосом и, положив на широкое плечо выгоревшей гимнастерки белый рушник, подался вперед всем корпусом. — Нет, не узнаю, — смущенно призналась Оля. — Раз не признаешь, значит, все в порядке, — продолжая улыбаться, сказал военный. — Да это же Костя! Дядя Костя, посмотри-ка получше, — показывая рукой, проговорила Франчишка Игнатьевна. — Дядя Костя! — обрадованно крикнула Оля и почувствовала, как он подхватил ее на свои сильные руки, прижал к груди и стал гладить тяжелой и теплой ладонью по голове. Он уже все знал от Франчишки Игнатьевны и в свою очередь рассказал, как дрался в боях под Гродно, был ранен, едва не попал в плен. Его укрыли и вылечили местные жители. Сейчас он пробирается к линии фронта. Сюда зашел, чтобы узнать обстановку и запастись продуктами для всей группы, которую он вел. К тестю Кудеяров сразу зайти не решился, а через огороды прошел к Франчишке Игнатьевне. Теперь он поджидал Ганну. Осип Петрович отправился ее предупредить. Вскоре вошла Ганна. Увидев Костю, она схватилась за грудь и остановилась около порога. Кудеяров мягко поставил на пол Олю и с протянутыми руками шагнул Ганне навстречу. — Здравствуй, Ганна! Здравствуй, сестра! Ганна бросилась к нему и, целуя его колючие щеки, отрывисто шептала: — Милый Костя! Славный наш Костя! Хорошо, что ты вернулся здоровый и сильный! Я верила, что ты жив! Где же теперь Галина? — Галина теперь далеко… И Костя рассказал, как он отправил ее вместе с другими женами командиров в специальном поезде в эвакуацию, а сам вернулся в часть и в районе Гродно был ранен. — Ты хорошо сделал, что отправил ее. А у нас тут… — сказала Ганна, сильно взмахнув рукой. — Я на это смотреть не могу! Помнишь, Костя, мы рассказывали тебе про того пана Сукальского, — продолжала Ганна. — Он уже здесь. Уполномоченный по делам католической церкви. А сам выясняет настроение народа и регистрирует молодежь. Для чего, ты думаешь, это делается? Германской промышленности требуется много рабочей силы. Так вот они и гонят туда новых рабов из славян. — А ты разъясняй людям, что может ожидать их в фашистском царстве! сказал Костя. — Говори всюду, где только можно, что они попадут на каторгу к фашистам. И твердо говори, что Красная Армия не разбита и никогда не будет разбита! С востока целыми эшелонами везут раненых фашистов. Значит, Красная Армия бьет их, и крепко бьет! Пришла Стася и, желая скрыть напряженное волнение, поздоровалась с зятем сухо и отчужденно. — Ну, рассказывай, как воевал, куда нашу дочку подевал? — Она оглядела Костю с ног до головы и, показывая пальцем на пистолет, добавила: — Еще не отвоевался, значит? Дочь нашу загубил и нас тоже хочешь? Зачем с оружием ходишь? Нам и так житья нет! Зять — красный офицер, большевик! А что, разве мы выбирали себе такого зятя? Дочь нас об этом не спрашивала. — Оставь, мама! — крикнула Ганна. — Ты уже давно свою войну проиграла — и молчи. Он не в твоем доме сидит… — Вижу, как он считает нас своими родственниками: мимо прошел и в чужом доме оказался. Пусть хоть скажет: куда девал мою дочь? Костя коротко и спокойно все рассказал, под конец спросил: — Ты что же, мать, нарушила свое слово? Хочешь выяснить, кто сильней, так что ли? — Какое я нарушила слово? — А помнишь, когда мы были у вас с Галиной, ты сказала, что все забыто, а теперь опять за старое? Пользуешься тем, что зять твой попал в беду. Да, правильно, я большевик! Оружие ношу при себе и померяюсь еще силами с врагом. Мы еще долго будем носить при себе оружие, до тех пор, пока не останется на земле ни одного фашиста! Ты вот лучше расскажи, как новая власть? Расскажи! — На черта мне эта власть! Мне бы только спокойно прожить на старости лет, а вы вот войну затеяли… — Не мы ее затеяли, — сказал Костя. — Откуда мне знать, кто ее затевал… Стася под влиянием Ганны давно уже поняла, что от фашистов хорошего ждать нечего, но из-за гордости не хотела признаться, что война перевернула все ее понятия о жизни. Завоеватели оказались совсем не такими, какими она их себе представляла раньше. Жаль было и Костю, похудевшего, с измученным, постаревшим лицом. Взять бы да приласкать по-матерински, сказать задушевное человеческое слово, а вот что-то мешало, не позволяло тронуться с места. — Ладно, не будем сейчас судить, какая власть краше. Пойдем-ка лучше отсюда. Людям тоже надо покой дать. Иди в овин, там тебя отец ждет. Он тоже выпрягся из ярма и ходит, как ленивый вол… Опустил голову и молчит, молчит… А нам что, легче от его молчания? Вечером при тускло горевшем фонаре в овине сидели Олесь и Осип Петрович и слушали Костю. — Советская Россия, — говорил Кудеяров, — имеет огромные резервы, война только началась. По радио выступал председатель Государственного Комитета Обороны Сталин и сказал, что военный успех германской армии, обусловленный внезапностью нападения, является кратковременным. Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. И фашисты в этом с каждым днем убеждаются, — продолжал Костя. — Они видели, как советские бойцы и командиры защищали Брестскую крепость. Даже раненые, в лужах крови, стреляли до последнего патрона. А здесь какой героический бой выдержали пограничники заставы лейтенанта Усова! Я проходил мимо и видел, сколько немцы выбросили туда снарядов. — Это верно, — подтвердил Осип Петрович и глубоко вздохнул. — Мы с Иваном Калибеком да с Шиманчиком захоронили их, знаем… — Где они похоронены? — поблескивая при слабом свете темными глазами и жадно затягиваясь махоркой, спросил Костя. — Там, прямо в траншеях. Нам запретили их трогать. Пока так захоронили и временный крест поставили. — Сколько их? — приближая лицо к фонарю, спросил Кудеяров. Он отрывисто и часто дышал, стараясь разглядеть посуровевшее лицо Осипа Петровича. — Да, почитай, все остались… Другие на границе по одному, по два человека лежали… на разных участках. Их тоже на месте захоронили… — И лейтенант Усов там? — после длительного напряженного молчания задал Костя этот нелегкий для него вопрос. — Да. Он вместе со своими… — Осип Петрович наклонился к Кудеярову, перейдя на шепот, добавил: — У него была зажата в руках винтовка, этакая с особым прибором. Он вдоль траншеи лежит и как будто отдыхает, на небо смотрит, а винтовка в руках. Так мы его и захоронили вместе с ней. Хай будет с винтовкой. Мы не тронули ее и никому не сказали… Ну, с прибором такая, со стеклышками… — Снайперская! — Костя расстегнул душивший его воротник гимнастерки и дрожащими пальцами стал рвать бумагу для новой цигарки. Олесь Седлецкий пожевывал усы и шумно сопел носом. Весь вечер он молчал, только в начале беседы расспросил о Галине. — А ты почему молчишь?… Чего ты молчишь? — не выдержал Осип Петрович. — Тебя слушал… Не трогай меня, Осип, и без тебя лихо! — А кому сейчас не лихо?… Всем горько! У тебя в саду яблони рубили, а я свой топор в руки схватил. Во двор вышел, трошки посмотрел да в хлев, около коровы постоял, опять в хату, а из хаты во двор, а топор у меня в руках, а чего он у меня очутился, сам не помню… Осип Петрович замолчал, поднявшись, вышел из овина и постоял у выхода. Было уже поздно. В деревне пропели вторые петухи. Взошла и повисла над Августовскими лесами неполная луна, похожая на разрубленную пополам серебряную медаль крупного размера и далеких времен. В полосе бледного света тучами вились и гундосили комары. Вернувшись в овин, Осип Петрович сел на солому и после минутного молчания заговорил: — Слушай меня, Константин! В лесу скрываются раненые пограничники. Сначала там был один, а потом я второго туда отвел. Фамилия ему Чубаров, повар с заставы. Ты, наверное, его знаешь. Они с винтовками. Ходи до них. У меня недавно грех случился, ой и добре же мне досталось от моей старухи. Погнал я пасти коров, пройду, думаю, подальше, где корму побольше. А то Франчишка все точит меня — и что плохо пасу корову и мало она молока дает. Пригоняю я свою животину до лесочку, смотрю, из Оленьего овражка выходит Иван Магницкий. Он в лесу ховается. Его Юзеф собирается немцам на суд отдать, да Иван не такой дурак, чтобы к ним идти. Когда разговорились, он мне признался, что лечит и подкармливает одного солдата. А мы с Франчишкой тоже одного присматривали. Я ему так и сказал. «Может быть, — говорю, вашему что-нибудь нужно? Мы своего молочком поим». — «Молочка, — говорит, — не мешает, чтобы побыстрей поправился». — «Ну что ж, — говорю, — молочка так молочка. Цибарка есть?» — «Найдется, — говорит, — цибарка. Только вот кто доить будет?» — спрашивает он меня. Я говорю: «Старый солдат да чтобы корову не выдоил!» Ну, взял эту цибарку, а чертова Пеструшка не дается, лягаться почала. Кое-как все-таки выдоил. Молоко отдал. Пригоняю скотину домой, баба моя хвать за цибарку и доить села, а молочка нет. Тут она меня давай пытать, где я пас корову и как. Я нарочно указал такое место, где никакой травы не растет. Она все тут знает. «Все равно, — говорит, — хоть сколько-нибудь да я должна надоить. Ты, — говорит, — наверное, черноголового бычка проглядел». — «Случился, — говорю, — такой грех…» Ох же, и почала меня баба вздрючивать! Всех чертей и бесенят на меня поваляла… Досталось нам на пироги вместе с Олей… А я уж молчу, молчу. Магницкий заказал не говорить, только вам говорю. Теперь корову каждый день доим — и достается мне от Франчишки такое лихо, не дай боже! Ты, Костя, ходи до них. Они рады будут. Сержант уже поправляется… Еще до рассвета Осип Петрович проводил Кудеярова в лес, туда же снесли и мешок с продуктами.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Иван Магницкий привел в лес и Сороку, которого он нашел на берегу Августовского канала в бессознательном состоянии. Кроме ноги у Сороки оказалось простреленным правое плечо. От большой потери крови и истощения Сорока спал почти круглые сутки. Его поили молоком, куриным бульоном. Могучий организм взял свое, и Сорока стал быстро поправляться. Остался в живых, как он рассказывал, чудом. Когда фашистские танки ворвались на заставу, он, раненный, лежал в пулеметном окопе второй траншеи, через которую прошел танк, и его засыпало землей. Ночью он выбрался и добрался до канала, там напился воды и заснул в кустах мертвым сном. Он только помнил, что иногда просыпался, пил в канале воду и снова засыпал. Его случайно обнаружила какая-то женщина из Новичей, сообщила об этом жене Магницкого, а та — Ивану, после чего Сороку разыскали и доставили в лес. Сейчас он сидел около шалаша, худой, почерневший. Горбинка его носа была чем-то ободрана, подернулась вишневого цвета рубцом, отчего резко изменилось осунувшееся сухощавое лицо Игната. От угла губ, через высокий покатый лоб жизнь зло и небрежно суровой росписью прочертила преждевременные морщины. Все дни Сорока почти ни с кем не разговаривал, на расспросы отвечал неохотно и все время к чему-то настороженно прислушивался. — Ты чего все хмуришься? — спросил его Бражников. — Нет причины веселиться, Максим, — хмуро ответил Сорока, ломая пальцами краешек лубка, в котором покоилась раненая нога. Лубок этот соорудил Бражников из еловой коры. — Ничего, поправимся, партизанить будем, — сказал Бражников. — Сейчас из меня такой партизан, как из турки поп. Куда к черту партизанить! Нога — що твое гнилое бревно, а руки — даже цигарки не можу скрутить… Партизан! — Сорока сердито сплюнул и поморщился. Игнат вдохнул теплый запах прелого леса, который показался ему приторным и тяжелым. В шалаше скопилось шестеро раненых — трое пограничников и трое артиллеристов. Здоровых было двое: Магницкий и его сын Петро. Знойная тишина леса нагоняла на Сороку столько тревожных дум, что разобраться в них было очень трудно. Думы были какие-то тоскливые, враждебные характеру Сороки. Они обжигали душу солдата своей мрачностью, выплетали такие несуразные и грубые узоры, что сердце Игната начинало гореть так же, как обжигала его раны нудная, неутихающая боль во всем теле. Однажды он сказал Бражникову: — Знаешь, Максим… В случае если фашисты нас обнаружат, ты сразу же пришей меня к земле из карабина — и точка… — А здорово ты придумал! — многозначительно покачав головой, ответил Бражников. — Я уж для тебя давно пулю приготовил, да и для Чубарова с Румянцевым, и для батарейцев. У них тоже ноги перебитые. Так и быть, палачом вашим стану… Как только тебе не стыдно говорить мне такие слова! С этого дня Бражников начал по-своему поднимать настроение товарищей. Он устраивал утром общий подъем, заставлял — кто как мог — делать зарядку, умываться и бриться, готовить завтрак, чистить оружие. Он ввел строгую дисциплину, установил посты и заставлял нести службу всех без исключения. Солдаты, привыкшие к дисциплине, как-то сразу же подтянулись, появились бодрость, шутки. По ночам Иван Магницкий отсутствовал, добывал продукты и медикаменты, а днем спал или готовился к ночному походу и на рыбную ловлю. Надо было прокормить восемь человек! Сороке Бражников приказал помочь Петру изучить винтовку. Сорока воспрянул духом и охотно согласился. — Собери мне затвор и назови все части, — говорил Сорока Петру. — Это рукоятка затвора, это будет боева лычина, это выкидыватель… — Выбрасыватель, — поправлял Игнат. — Сколько тебе, Петро, лет? Восемнадцать, поди. — Откуда! Зимой шестнадцатый тольки спочався, — сожалея, что ему так мало лет, со вздохом отвечал Петро. Ему неприятно было, когда Сорока подшучивал над ним, как над мальчишкой, но он охотно выполнял все советы пограничника. — Ты меня научи белорусскому языку, — миролюбиво говорил Сорока. Он успел полюбить этого добродушного аккуратного паренька и восторгался певучестью его речи. Часто они с ним поругивались, но дружили крепко. — Можаце не сумневацца, товарыш Сорока, адкроем вучение, только я тоже на тебя крычать буду… Во время таких занятий и нагрянули в лагерь незнакомые люди. Их было трое. Стоявший на посту Бражников подпустил их на самое близкое расстояние и увидел, что они были все вооружены автоматами и пистолетами. Максим крикнул: «Стой!», но передний даже не остановился, а только негромко и спокойно проговорил: «Не шуми, свои». Это смелое спокойствие заставило Максима опустить карабин и выйти из кустов. В переднем человеке он узнал секретаря райкома партии Викторова, удивился, растерялся и обрадовался этим неожиданным людям так, как, пожалуй, ни разу не радовался даже в самые счастливые минуты своей жизни. — Много вас здесь? — поздоровавшись, спросил Сергей Иванович Викторов. Бражников ответил, с любопытством поглядывая на двух других спутников Викторова, походивших не на партизан, а скорее всего на добродушных хозяйственников, пришедших в лес на охоту с новеньким оружием. — Винтовки у всех есть? — расспрашивал Викторов Бражникова, когда подходили к шалашу. — Так точно, у всех, — ответил Максим. — Добро! Здравствуйте, товарищи! — Викторов поправил на плече автомат и подошел к лежавшим под елкой раненым. На разостланной плащ-палатке были разбросаны части винтовки. Петро растерянно сжимал в руках собранный им затвор и так же, как и другие, обрадованно, по-юношески восторженно смотрел на настоящих партизан, которых ему пришлось увидеть первый раз в жизни. Викторова Петро хорошо знал, он не раз бывал у них в доме, другой — повыше, в серой шляпе — был директор зареченской школы, а третий — широколицый, в синей кепке начальник лесничества. Когда-то вместе с отцом Петра он работал на лесосплаве. На них были новые, еще не успевшие измяться костюмы, модные ботинки и шелковые носки. — Покалечили, товарищ Сорока? — присаживаясь около Игната, спросил Сергей Иванович. — Так точно, есть трошки! — посматривая на Викторова, как на чудо, ответил Сорока. Ему и в голову не могло прийти, что он может увидеть здесь в такое время секретаря райкома партии. Спутники Викторова, казалось, совершенно не обратили внимания на раненых и попросили у Петра воды. Попили, вытерли губы беленькими платочками — ну, как на празднике! Но Сорока сердцем почувствовал, что все это временное. Эти серьезные пожилые люди, конечно, собирались с секретарем райкома делать какое-то большое дело. Сорока понимал, что от них теперь зависит вся его судьба и судьба его товарищей. Раз они ничему не удивляются, то пришли не случайно. — Значит, товарищ Викторов, теперь вы вроде как партизаны? — робко спросил Сорока. — Вроде так… — улыбнувшись своей чистой строговатой улыбкой, сказал Викторов. — Тоже, значит, не успели эвакуироваться? Понятно. Автоматы у вас новенькие, «ППД», — со знанием дела проговорил Сорока. — Эвакуироваться, говоришь? — переспросил Викторов. — А мы и не собирались уезжать. — Как так? — не понимая, спросил Игнат. — Очень просто. Мы остались по приказу партии и командования. Не дадим фашистам спокойно жить на нашей советской земле! Нет, покоя им не будет! Давайте-ка, хлопцы, выздоравливайте поскорее. Люди нам очень нужны. Сказав это, Викторов стал расспрашивать пограничников, как шел на заставе бой. Бражников и Сорока рассказали все. Бражников показал записку Усова. Сергей Иванович, прочитав ее, глухо сказал: — Сохрани. Ну что ж, товарищи, помолчим… Закурили. Слабый предвечерний ветерок крутил махорочный дым под ветками деревьев, поднимал к зеленым листьям стройной березы и уносил в синее небо. Перед глазами Викторова стоял большеголовый, с упрямым подбородком Александр Шарипов, густобровый, с серыми, всегда настороженными, смелыми глазами лейтенант Усов. — Сегодня мы у вас заночуем, а завтра переедем к нам, — стараясь отогнать тяжелые воспоминания, проговорил Викторов. — Куда к вам, товарищ секретарь? — спросил Бражников, хотя для него было уже ясно, что где-то существует партизанская база. Но этот вопрос он задал не ради любопытства, а для того, чтобы успокоить раненых друзей, которые сильно страдали и мучились во время перевязок. — Это не близко. Но мы ночью достанем подводы, — успокоил Викторов. Нас там много, и раненых в десять раз больше вашего. Собираем по лесам да по оврагам. Кто же о них будет заботиться? Вот и вас вылечим. — Спасибо, товарищ Викторов, — сказал Бражников. На рассвете в лагерь пришел со своей группой Костя Кудеяров. — Ну, вот теперь есть у меня и начальник штаба! — обрадованно воскликнул Викторов. — Нет, я в штабе, товарищ капитан, никогда не работал, тем более в партизанском, — смущенно заявил Кудеяров. — Я тоже никогда не партизанил, а вот приходится. Учиться будем. На следующую ночь все раненые были перевезены в лагерь партизанского отряда Викторова. Лагерь располагался в гуще Августовских лесов. Когда под утро подводы прибыли на место, Бражникову представилась удивительная картина. В лесу стройным порядком стояло около двух десятков повозок. Сверху на них были натянуты палатки, похожие на старые казачьи лагерные кибитки. На каждой из повозок по два тяжелораненых. На кострах в молочных бидонах с узким горлом варился завтрак. По лесу разносился приятный запах лаврового листа. Под деревьями стояли шалаши, крытые еловыми лапами. На сучьях висели винтовки и патронные подсумки. Несколько человек разбирали станковый пулемет. Рыжеволосый, с повязкой на голове солдат объяснял устройство пулемета и называл части.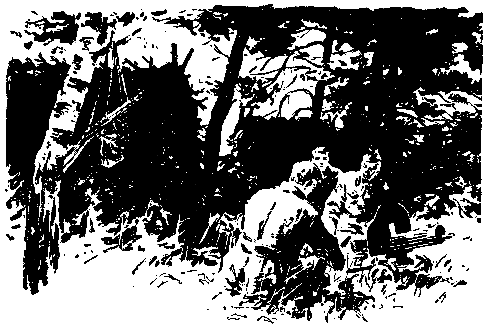 — У нас здесь не только партизанское войско, но и госпиталь на колесах. Подбираем в лесах раненых. На днях подобрали в лесу старшего лейтенанта Кушнарева, бывшего начальника заставы. Здоровых-то всего тридцать восемь человек, — сказал Викторов Кудеярову. — Пришлось организовать вот эти повозки, чтобы быстро собраться в путь в случае каких-либо осложнений… Вылечим, встанут в строй. Действовали мы пока еще мало. Небольшой обоз у фашистов отбили, повозки взяли с продуктами и ранеными красноармейцами. Народ у нас подходящий, рвется в бой, но действуем пока еще осторожно: опыта мало. Будем учить. Драться придется крепко. Есть у меня план на ближайшие дни. Думаю провести одну операцию.
— У нас здесь не только партизанское войско, но и госпиталь на колесах. Подбираем в лесах раненых. На днях подобрали в лесу старшего лейтенанта Кушнарева, бывшего начальника заставы. Здоровых-то всего тридцать восемь человек, — сказал Викторов Кудеярову. — Пришлось организовать вот эти повозки, чтобы быстро собраться в путь в случае каких-либо осложнений… Вылечим, встанут в строй. Действовали мы пока еще мало. Небольшой обоз у фашистов отбили, повозки взяли с продуктами и ранеными красноармейцами. Народ у нас подходящий, рвется в бой, но действуем пока еще осторожно: опыта мало. Будем учить. Драться придется крепко. Есть у меня план на ближайшие дни. Думаю провести одну операцию.
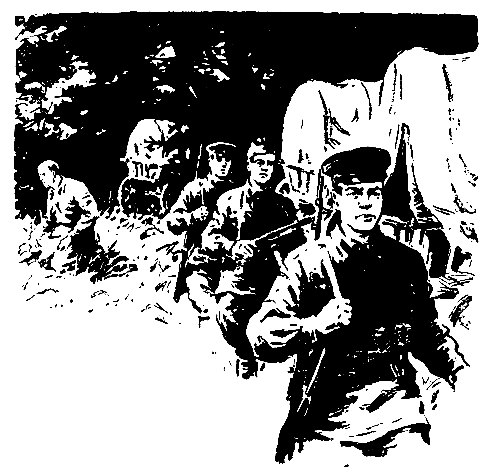 Викторов достал карту и развернул ее на коленях.
— Вот здесь, в районе Максимовичей, — показал он на карте, находились наши нефтесклады, сжечь их не успели. Противник, видимо, знал о них и выбросил десант. По данным нашей разведки, базу охраняет полурота солдат с двумя офицерами. Ведут себя фашисты, по словам разведчиков, беспечно. Головы им вскружили первые победы. Гитлеровцы привезли из Гродно целую машину советских вин, ежедневно задают пиры и горланят песни. Надо уничтожить их. Еще раз надо обстоятельно разведать и разработать план операции. Я уверен, что дело будет успешным.
Через два дня Кудеяров доложил результаты разведки и составил вместе с Бражниковым план операции. Это была обычная операция наступления роты на населенный пункт, составленная по всем уставным правилам. План этот Викторов забраковал.
— Не можем мы так действовать, — сказал Сергей Иванович. — Нас сразу же обнаружат, встретят плотным огнем, заставят залечь, потом вызовут по телефону подкрепление и разобьют, если не уничтожат полностью. У нас нет ни тыла, ни флангов, ни резервов…
— А как вы думаете? — смущенно спросил Кудеяров.
Он рассчитал, как ему казалось, все детально, обстоятельно — и вдруг все насмарку.
— Партизанская тактика — это внезапный налет, короткий бой, диверсия и быстрый отход, а самое главное — тщательная разведка и подготовка. Прежде всего надо тихо подойти, ликвидировать наружную охрану, перерезать связь. Разобьем отряд на три основные группы и одну резервную. Первая должна уничтожить часовых; вторая, самая большая, забросает гранатами казарму; третья будет зажигать склады. Резервная действует по особому распоряжению командира, смотря по обстановке. Отход по сигналу двух красных ракет. Вот примерно я так думаю, — заключил Викторов.
Он понимал, что от результатов этой операции зависит дальнейшая судьба отряда. Прежде всего надо было приучить людей действовать смело, быстро, осторожно, наверняка и без потерь.
Бражников, теперь уже поправившийся от ран, возглавил самую большую группу для нападения на казарму. Кудеяров руководил группой по уничтожению часовых. Директор зареченской школы Мищенко должен был со своей группой поджечь склады. Задачу он выполнил успешно, но сам нелепо погиб от разорвавшейся в руках гранаты. Не все гладко прошло и в других группах. Кудеяров, уничтожив часового, налетел в темноте на снабженную секретной сигнализацией колючую проволоку, которой была опоясана база. Бражников в это время со своими бойцами затыкал рот наружному часовому. В казарме поднялась тревога, зажглись электрические фонари, немцы бросились к оружию, но Максим успел подпереть дверь толстой жердью. В казарме начался страшный галдеж и переполох. Подбежавший Викторов бросил в открытое окно две гранаты. От взрыва вылетели оконные рамы. Фашисты в панике стали выбрасываться наружу и тут же падали от партизанских пуль. В предутреннем рассвете ярко запылали взорвавшиеся бензобаки и автомашины с цистернами.
Партизаны возвращались в лагерь с победой. Она окрылила их: люди радовались хорошему началу. Впереди были новые бои, и партизаны думали о них с твердой верой в свои силы, которые будут расти и крепнуть. Как реки возникают из ручейков, так из отдельных, пусть еще небольших по численности, отрядов под руководством партии возникнет мощное партизанское движение. В это глубоко верили сейчас партизаны, испытывая счастье своей первой победы.
Викторов достал карту и развернул ее на коленях.
— Вот здесь, в районе Максимовичей, — показал он на карте, находились наши нефтесклады, сжечь их не успели. Противник, видимо, знал о них и выбросил десант. По данным нашей разведки, базу охраняет полурота солдат с двумя офицерами. Ведут себя фашисты, по словам разведчиков, беспечно. Головы им вскружили первые победы. Гитлеровцы привезли из Гродно целую машину советских вин, ежедневно задают пиры и горланят песни. Надо уничтожить их. Еще раз надо обстоятельно разведать и разработать план операции. Я уверен, что дело будет успешным.
Через два дня Кудеяров доложил результаты разведки и составил вместе с Бражниковым план операции. Это была обычная операция наступления роты на населенный пункт, составленная по всем уставным правилам. План этот Викторов забраковал.
— Не можем мы так действовать, — сказал Сергей Иванович. — Нас сразу же обнаружат, встретят плотным огнем, заставят залечь, потом вызовут по телефону подкрепление и разобьют, если не уничтожат полностью. У нас нет ни тыла, ни флангов, ни резервов…
— А как вы думаете? — смущенно спросил Кудеяров.
Он рассчитал, как ему казалось, все детально, обстоятельно — и вдруг все насмарку.
— Партизанская тактика — это внезапный налет, короткий бой, диверсия и быстрый отход, а самое главное — тщательная разведка и подготовка. Прежде всего надо тихо подойти, ликвидировать наружную охрану, перерезать связь. Разобьем отряд на три основные группы и одну резервную. Первая должна уничтожить часовых; вторая, самая большая, забросает гранатами казарму; третья будет зажигать склады. Резервная действует по особому распоряжению командира, смотря по обстановке. Отход по сигналу двух красных ракет. Вот примерно я так думаю, — заключил Викторов.
Он понимал, что от результатов этой операции зависит дальнейшая судьба отряда. Прежде всего надо было приучить людей действовать смело, быстро, осторожно, наверняка и без потерь.
Бражников, теперь уже поправившийся от ран, возглавил самую большую группу для нападения на казарму. Кудеяров руководил группой по уничтожению часовых. Директор зареченской школы Мищенко должен был со своей группой поджечь склады. Задачу он выполнил успешно, но сам нелепо погиб от разорвавшейся в руках гранаты. Не все гладко прошло и в других группах. Кудеяров, уничтожив часового, налетел в темноте на снабженную секретной сигнализацией колючую проволоку, которой была опоясана база. Бражников в это время со своими бойцами затыкал рот наружному часовому. В казарме поднялась тревога, зажглись электрические фонари, немцы бросились к оружию, но Максим успел подпереть дверь толстой жердью. В казарме начался страшный галдеж и переполох. Подбежавший Викторов бросил в открытое окно две гранаты. От взрыва вылетели оконные рамы. Фашисты в панике стали выбрасываться наружу и тут же падали от партизанских пуль. В предутреннем рассвете ярко запылали взорвавшиеся бензобаки и автомашины с цистернами.
Партизаны возвращались в лагерь с победой. Она окрылила их: люди радовались хорошему началу. Впереди были новые бои, и партизаны думали о них с твердой верой в свои силы, которые будут расти и крепнуть. Как реки возникают из ручейков, так из отдельных, пусть еще небольших по численности, отрядов под руководством партии возникнет мощное партизанское движение. В это глубоко верили сейчас партизаны, испытывая счастье своей первой победы.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
После того как Оля побывала на пограничной заставе, а потом увидела дядю Костю, ее охватила невыносимая тоска по родителям. Девочка заболела и слегла в постель. Толчком к этому послужило также начавшееся преследование со стороны старосты. Михальский не забыл последней встречи на заставе и потребовал отправить Олю в интернат для детей, потерявших родителей. Олю ожидала страшная судьба тех советских детей, которые попали в лапы фашистских захватчиков. Впоследствии многие из них очутились во власти англичан и американцев, отказавшихся вернуть наших ребят на родину. Оля узнала об интернате после того, как Франчишку Игнатьевну вызвал Юзеф Михальский. — Куда же они меня заберут, тетя Франчишка? — прижимаясь к ней своим маленьким худым телом, спросила Оля. — Кабы я знала, детка моя! Кабы я знала! У этой сильной, с благородным сердцем женщины опускались руки. Она успела привязаться к девочке, полюбить ее. Расстаться с ней для Франчишки Игнатьевны было тяжким испытанием. У нее оставалась последняя надежда на Ганну. Та могла попросить защиты у Сукальского. Не теряя ни минуты, она пошла к Ганне. Ганна обещала поговорить с Сукальским. Сукальский теперь появлялся у Седлецких редко. Ганна скрепя сердце направилась к Михальским. В саду она неожиданно встретилась с Владиславом. С момента выхода Галины замуж Владислав избегал встречи с Седлецкими и как будто забыл об их существовании. Сейчас он работал в волости каким-то начальником и все время разъезжал с Сукальским по селам. Ганна как ни в чем не бывало поздоровалась с Владиславом. С ним она никогда не ссорилась, и в детстве они даже дружили и вместе учились в Белостоке. — Ты совсем, Владис, загордился! Смотри, какая на тебе красивая форма, — шутливо проговорила Ганца. На молодом Михальском был надет мундир полицая. — Нет, Ганночка, пока мне нечем еще гордиться. А вас я помню, и Галину помню, такое скоро не забывается. Это вы меня забыли, — стараясь быть дружелюбным и приветливым, ответил Владислав. — На вас вот пан Сукальский обижается… Ганна вспыхнула и нахмурилась. Ей было трудно с ним говорить, лукавить она не могла. Несмотря на внутреннюю неприязнь, она переборола себя и все же решила испытать, не поможет ли в ее деле Владислав. Помолчав, она рассказала ему, зачем пришла. — Ничего не могу сделать. Да и нельзя мне вмешиваться. Девочка должна быть отправлена. Не советую вам хлопотать. Есть приказ рейхскомиссара, сухо заявил Владислав. Увидев Ганну в окно, Сукальский вышел в сад и вмешался в разговор. — Знаете, пани Седлецкая, я вас очень уважаю, и меня удивляет, что вы вмешиваетесь в это дело. Приказа рейхскомиссара не может отменить никто. — Да это же ребенок, поймите! Мы все любим девочку. Пусть она останется у Франчишки Игнатьевны. Зачем ее куда-то отправлять? возмущалась Ганна. Зная, что судьба девочки находится в руках этих людей, она решила протестовать до конца. — Вы понимаете, что девочка не хочет ехать! Тетя Франчишка заботится о ней, как о родной дочери. Да и мы не позволим ей ехать… — Имперское правительство тоже заботится о детях, потерявших родителей. Оно создает специальные учреждения, где малыши могут получить нормальное воспитание и образование, — нравоучительно произнес Сукальский. — Какое воспитание? — еле сдерживая раздражение, спросила Ганна. Ее возмущал лицемерный тон этого бывшего монаха. — Чему их там будут учить? — Там есть своя программа… Прежде всего их научат уважать новый порядок… — Эта девочка, пан Сукальский, не германской, а славянской крови… Ее ждет там участь рабыни, невольницы… Вы ведь, кажется, тоже славянской крови? А впрочем, бог знает, какой вы крови! Не хотите мне помочь?… Ну, так знайте: девочку мы не отдадим! Ганна с презрением посмотрела на Сукальского и Владислава и, не оборачиваясь, быстрыми шагами пошла домой. Обо всем этом она рассказала Франчишке Игнатьевне. Оля лежала в постели, перекатывая головку по подушке, тихонько стонала. Плакать она уже не могла. Франчишка Игнатьевна, перебирая рукой волосы девочки, почувствовала пальцами что-то жесткое и только сейчас увидела болячки на голове. У Оли началась экзема. — Боже мой, что же это делается! Как же я не доглядела! — качала своей седеющей головой Франчишка Игнатьевна. Надо было срочно принимать какие-то меры. Укрыв Олю одеялом, она побежала к Ганне. После выхода замуж Галины Франчишка Игнатьевна перенесла свою большую, сердечную любовь на Ганну. Не было дня, чтобы она не встретилась с ней и не поговорила. В доме Седлецких она застала удивительную и грустную картину. Положив голову на край стола, навзрыд плакала Стася. Шевеля большими руками, растрепанный, но все же радостный, стоял спиной к печке вислоусый Олесь. Посредине комнаты, с желтым, похудевшим лицом, с босыми загорелыми ногами, сидела на стуле Галина и печально улыбалась своими карими глазами. Ганна обнимала ее, поправляя на округленном животе сестры серое измятое, заношенное платье. — Галиночка! — всплеснула руками Франчишка Игнатьевна. — Она самая! — ответила Галина, продолжая улыбаться. — Ты тоже видела моего Костю, тетя Франчишка? Франчишка Игнатьевна кивнула головой и выжидательно посмотрела сначала на Стасю, потом на Олеся. — Вот ты его видела, а я нет… Расскажи, какой он стал. А то я спрашиваю, спрашиваю… — голос Галины дрожал и переходил то на высокие, то на низкие ноты. — Спрашиваю, а они мало рассказывают, ни то ни се… Только бранят меня… Ну, расскажи, какой стал Костя… Бородатый? Борода, наверно, черная, как у цыгана? Ой же, Костя ты мой, бородатый!… — Галине и радостно было, что Костя жив и здоров, и печально, что не застала его, не увидела. Ей хотелось, чтобы сейчас все говорили и думали только о нем. — Обо мне спрашивал, вспоминал? — О ком еще ему спрашивать да говорить! Сто раз вспоминал, — ответила Франчишка Игнатьевна. — А нам он сказал, что тебя проводил и ты далекоуехала… Что-то ты, девонька, не больно далеко уехала! — Мы, тетя Франчишка, сначала быстро поехали… А потом как начали наш поезд бомбить… впереди все рельсы пораскидало. Мы побежали, и сами не знаем куда… Встретили какую-то воинскую часть, там посадили всех ребятишек на повозку и меня вместе с ними. Другие, кто мог, пешком пошли. Всю ночь по степи ехали. Вот так больше месяца мытарства продолжались отсиживались в лесах да болотах. Но вот, видишь, добралась… — Теперь знаешь, как замуж бегать? — подняв голову, проговорила Стася, с удивлением думая, как это могла ее Галинка перенести такое. — Если, мамочка моя, можно было бы все снова повторить, я бы не задумалась, лишь бы Костя был жив. — Хоть помолчала бы перед матерью! — крикнула Стася. — А чего мне молчать? Кто же виноват, если война началась? Мы, что ли, ее начинали? Прогонят фашистов, тогда заживем… — Вот ты скоро родишь, — обратилась Стася к Галине, — а что будешь с ребенком делать? Знаешь, какое теперь время! — Жить буду, мама, жить! Если вы не хотите, чтобы я у вас жила, пойду к Франчишке. Не прогонишь меня, тетя Франчишка? — У нее уже есть своя дочка, — сказала Стася, — Оля Шарипова. — Оля осталась без мамы? — с тоской спросила Галина. Отстранив сидевшую рядом Ганну, она встала, высокая и суровая, повзрослевшая за эти недели. — Пойдем, тетя Франчишка, я хочу видеть эту бедную девочку! Франчишка Игнатьевна рассказала Галине все, что произошло с Олей, как она осталась без родителей и что ее хотят сейчас куда-то увезти. — Никому ее, тетя Франчишка, не отдадим! Никому! Пусть я не останусь жить на этом свете! — решительно заявила Галина. — Я узнала, что если девочку удочерить и дать другую фамилию, то ее никуда не отправят… — Так нужно это сделать! Разве можно ее отдавать? — Галина вопросительно посмотрела на всех и, видя их растерянное молчание, твердо добавила: — Вот что я вам скажу… а ежели скажу, то так и сделаю! У меня теперь другая фамилия, русская, — Кудеярова. Я запишу девочку на мою фамилию и буду считать ее своей дочерью! — Вот теперь я вижу, что это моя дочь, — негромко сказал Олесь и отвернул лицо к печке. — Это, Галиночка, я должна сама сделать. Спасибо твоему доброму сердцу, — сжав свой сухонький кулачок и поднося его к глазам, дрожащим голосом сказала Франчишка Игнатьевна. — Я нашла Олю, и хай она навечно будет моей родной дочерью! Пойдем, Галиночка, в хату… В том же виде, в каком она заявилась к своим родителям, — босая, загорелая, не успевшая привести себя в порядок, — Галина побежала к Августиновичам, чтобы увидеть девочку. Но когда увидела ее, то остановилась ошеломленная и с сильно заколотившимся сердцем замерла около кровати. Там лежала не прежняя Оля, а маленькая, похудевшая девочка с утомленным взглядом, в беленьком платьице, с растрепанными косичками, в беспорядке упавшими на бледное лицо. — Олечка! Милая моя деточка! Вот и я, Галина, вернулась к тебе! — Ой, Галя! — протягивая руки, вскрикнула Оля. Она целовала Галину и чувствовала от нее запах свежих лесных трав и душистой хвои. Через час Галина остригла Олины каштановые волосы, вымыла теплой водой голову, принесла свою старую кофточку, надела на девочку и, закутав ее в одеяло, уложила в постель. Спустя некоторое время Оля обрела других родителей и стала носить новую фамилию и отчество — Ольга Иосифовна Августинович.ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Шел 1943 год. Давно отгремели бои под Москвой. Победоносно закончилась незабываемая Сталинградская битва. Отголоски ее докатились в далекое Вулько-Гусарское. От радостных вестей потеплели, отогрелись сердца многих обездоленных людей, находившихся в тяжелой фашистской неволе. В солнечный летний день, как и два года назад, во дворе Франчишки Игнатьевны гоготали гуси. — Ох, чтоб вам скорей головы отрубать, опять чегой-то загалдели, только сейчас накормила! — крикнула Франчишка Игнатьевна и появилась на пороге. Взору ее представилось следующее зрелище. Посреди двора с палкой в руках, в коротких синих штанишках и совсем без рубашки стоял крепкий, загорелый, темноволосый мальчишка и, размахивая палкой, отбивался от наседавшего на него молодого гусака. — Я тебя все лавно забью, плотивный гусака! — забавно картавя и посапывая носом, упрямо выкрикивал мальчик, тыча палкой и стараясь угодить в шипящую гусиную голову. — Эй! Костя! Костик! А ну, иди сюда и кинь палку, бо я такого отчаюгу сейчас лупцовать начну вместе с тем гусаком! — подходя к мальчику, крикнула Франчишка Игнатьевна. — Погоди, бабуся, дай мне забить того плоклятого гусаку, а то шипит и кусается! — Когда ж я перестану тебе говорить, чтоб ты не лез до этого гусака? Или ты хочешь, чтоб у тебя остался один глаз? — отталкивая упирающегося Костю, сказала Франчишка Игнатьевна. — Сколько он насажал синяков на твои голяшки! — Он сам на меня кидается и шипит, — оправдывался Костя. — Я ж его забью!… Он может утащить нашу Олю. Одну девочку утащил, мне мама лассказывала. — Не утащит он нашу Олю, она уже ось якая великая выросла. Посмотри, вон идет твоя Оля. С вязанкой травы за плечами из огорода шла Оля. Ее трудно было узнать. Это была рослая миловидная большеглазая девочка. На вид ей можно было дать лет четырнадцать-пятнадцать. За два с лишним года Оля сильно развилась и окрепла. Она уже выучилась жать, копнить, косить и во всем была незаменимой помощницей Франчишке Игнатьевне. Увидев Костю, она остановилась и, сбросив с плеч связанную веревкой траву, отведя усталые руки за спину, звонким голосом крикнула: — Костик, а ну, беги до меня, что-то тут для тебя найдется!… — она уже говорила на том наречии, какое употребляется в западных районах, но к польским и белорусским словам, как и Франчишка Игнатьевна, добавляла русские слова. — Ягодки, да? — подбегая к ней, спросил Костя. — А живого зайчика не плинесла? — В другой раз принесу и живого зайчика, а сейчас кушай ягодки, подавая ему веточки перезревшей земляники, сказала Оля. — А ежика плинесешь? Маленького такого… — тормошил ее мальчуган, заглядывая в лицо. — У вас там Косточки нет? — раздался из сада звучный женский голос. — А где же ему быть, твоему Косточке! — отозвалась Франчишка Игнатьевна. — Все с гусаком воюет! Через садовую калитку вошла Галина. Она была в цветном поношенном, выгоревшем платье, такая же, как и раньше, живая и по-девичьи статная, только шире стали полукруглые плечи и круче выдавалась вперед высокая грудь. — Что ты делаешь, мой Костяшка-черняшка? Где же твоя рубашечка? Галина подошла к ребенку и взяла его на руки. — Лубашка? Нету лубашки, — разводя ручонками, ответил мальчик. — Я ту лубашечку сушить повесил… — Где же ты ее вымочил? — А в колыте, где гуски воду пьют… — ответил Костя. Это был прелестный мальчуган с умными черными, как смородина, глазами. — Нашла твою рубашку, — сказала Франчишка Игнатьевна. — А то поджарился, как грибок-боровичок… — Оля! Тетя Франчишка! Идите сюда, что-то я вам расскажу интересное! — крикнула Галина. Франчишка Игнатьевна и Оля подошли. — Наша армия выгнала фашистов из Орла, из Харькова и еще из других городов. Их под Курском так разбили, что они удирают без оглядки. Бегут, а скрывают, как тогда скрывали свое поражение под Сталинградом. Сегодня наши самолеты листовки сбросили. Хоть бы одну подобрать!… Староста Михальский ходит злющий! Приехал Владислав из Белостока и, наверное, привез неприятные вести. — Листовки, говоришь? А ну, стой! — Франчишка Игнатьевна полезла за пазуху. — Сегодня пришел мой Осип с рыбалки, и вижу, ходит такий петушистый… В хату не зашел, а прямо в хлев шмыгнул… Ну, думаю, тут что-то не так! Посмотрела в щелочку, ховает что-то за кормушку… Вышел из хлева и усики подкручивает, и веселый такой, и насвистывает! Ну ж, думаю, сейчас я тебе подсвистну! Своими очами гляну, что такое ты там сховал… Он пришел в хату, а я побегла в хлев. Сунула руку, чую, бумажка. Читаю я по-русски не гораздо, а все-таки разобрала, что большими буквами написано: «Дорогие товарищи!» А ну-ка, почитай, Галиночка, что там пишут дальше, попросила Франчишка Игнатьевна. — «В сражении под Курском, — читала Галина, — фашисты потеряли 70 тысяч солдат и офицеров, уничтожено 3 тысячи танков, свыше тысячи орудий, 1400 самолетов. Нашими войсками освобождены города Орел, Белгород и Харьков. Товарищи партизаны и партизанки, товарищи советские граждане, находящиеся во вражеском тылу, сопротивляйтесь врагу, уничтожайте фашистских захватчиков!» — Это твой папа бьет там фашистов! Наш большой Костя! — закончив читать, с волнением проговорила Галина. — А я сегодня дядю Костю во сне видела, — возбужденно и радостно размахивая руками, заговорила Оля. — Будто наши пришли и мама с папой с ними. Я сижу и вижу в окошко: вот по этой самой тропиночке идет дядя Костя в новой фуражке, а за ним мама и папа. У меня внутри что-то перевернулось и дышать не могу. Хочу выпрыгнуть в окошко и побежать им навстречу, а ноги не двигаются. А мама большим белым платком закутана, одни только глаза виднеются. Так она на меня смотрела, так смотрела, я не выдержала, заплакала и проснулась. Щеки мокрые, подушка мокрая… — Оля не договорила и, закрыв лицо руками, убежала в сад. Так она делала часто: уйдет и поплачет там украдкой. — Не может забыть, не может, — со вздохом заметила Франчишка Игнатьевна. Она так полюбила Олю, что стала даже ревновать ее к родителям. Подошла Ганна. Поздоровавшись с Франчишкой Игнатьевной и обращаясь к Галине, сказала: — Опять приехали Сукальский и Владислав. Хотят узнать, где находится Иван Магницкий. Гитлеровцы собираются прочесывать лес, партизан искать будут. Только вряд ли найдут… — Не было бы у меня Костяшки, я бы тоже ушла партизанить, — задумчиво проговорила Галина. — Уж молчала бы! — махнула на нее рукой Франчишка Игнатьевна. — А к нам гость приехал. Дядя Януш из Белостока, — сказала Ганна. Иди, Галя, поздоровайся с дядей. — Приехал-таки наш Януш? Пойдем, Костик, посмотрим, какой стал веселый дядя Януш. Вы заходите до нас, тетя Франчишка.ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В саду у Михальских сидели Сукальский и Владислав и пили водку. Они только что прибыли из Львова, где Сукальский участвовал в формировании дивизии «Галичина». Было жарко и душно. Изредка налетал порывистый ветер, будоражил на деревьях листья и сбивал попорченные червями яблоки. Они падали с дробным стуком, раскатывались по земле. Владислав вздрагивал, торопливо наливал водку и пил рюмку за рюмкой. С мрачным видом пережевывая колбасу, со злобой говорил: — Я перестаю вас понимать, пан Сукальский! Вот никак не разберусь: поляк вы или черт знает кто! И этот итальянский мундир на вас… смотреть тошно! — На вас мундир тоже не почетней моего, — издевался Сукальский. Владислав оглядел свой распахнутый китель и ответил не сразу. То, что он видел за последнее время, когда находился во Львове и Белостоке, заставило его призадуматься. Украинский и польский народы открыто сопротивлялись всем мероприятиям фашистского командования, а что делали гитлеровцы с народом — страшно подумать! Недавно Владиславу пришлось поговорить с человеком, бежавшим из Майданека. То, что ему рассказал этот поляк, казалось чудовищным и невероятным. Горячий и необузданный, Владислав только сейчас почувствовал, что запутался и кругом обманут. Сукальский стал ему омерзителен. Грызла тоска по брату. Он никогда не переставал думать об этом загадочном убийстве и за последнее время все больше приходил к выводу, что в гибели его брата повинен этот тип. Подвыпивший Владислав придирался к нему и открыто вызывал на ссору. — Я уже раскаиваюсь, что надел эту свитку. Но дело не в этом. За свою жизнь я верил многим поганым людям… Будучи мальчиком, как на бога, молился на пана Пилсудского, считая его настоящим рыцарем! Что же я теперь увидел, пан Сукальский? Вместо свободной Польши и независимого правительства создали какой-то «Комитет помощи». Чем же занимается этот комитет? Оказывается, тем, что хватает польских крестьян за шиворот, кидает в вагоны и отправляет на работу в Германию, в кабалу… Мало того, забирают у наших людей для швабов последний кусок хлеба. Поляков убивают в Майданеке, оскорбляют и грабят. За кого они нас считают — за дураков, что ли? Если Магницкий ушел к партизанам, то в Августовских лесах сейчас таких тысячи! А что будет дальше? Позволят ли поляки над собой издеваться? Вы поляк или нет? Отвечайте! Сукальский отлично понимал, что после Сталинградской битвы все рушится, все идет к неминуемой катастрофе, и ничего ответить не мог. — Ты сегодня пьян как свинья! — сказал он раздраженно. — Это не имеет значения! Отвечай мне: ты поляк? Ты любишь Варшаву-мать? Скажи, у тебя есть совесть? — Владислав помолчал и сдержаннее добавил: — Конечно, ты считаешь, что твоя совесть чиста… Ты скоро наденешь епископскую мантию, станешь замаливать грехи… Святой человек! — Владислав откинулся на спинку стула и раскатисто на весь сад захохотал. — Замолчи, ты! Знаешь, что я могу с тобой сделать? — Сукальский вскочил и дрожащей рукой вытер платком побелевшие губы. Он жалел, что Владислав слишком много знал. Ему казалось, что ведет он себя последние дни отвратительно. — Если скажешь еще одно слово… — впиваясь во Владислава неморгающими глазами, продолжал Сукальский и, не выдержав, нервно крикнул: — Сволочь! Михальский оборвал смех и тоже встал во весь рост. Дергая одной рукой черный короткий ус, другую сжал в огромный кулак и, поднеся его Сукальскому под нос, проговорил с бешеной злобой: — Вот это видел? Да, я действительно сволочь, но этим словом я позволю назвать себя только самому себе! Другим расшибу голову! Тебе я тоже верил, как самый последний дурак. А ты оказался гнусный, ничтожный шпион! Чтобы спасти свою шкуру, ты убил моего брата Юрко! Он любил Польшу и слепо шел за тобой, а ты предаешь Польшу! Владислав с грохотом отшвырнул стул и, схватившись за голову, тяжело пошатываясь, пошел в глубь сада. Давно все в нем накипело и вот теперь прорвалось. В открытые окна Седлецких было слышно, как кричал я гремел стулом Владислав. — Сын Михальского забунтовал. С утра пьют, — тихо проговорила Ганна. За столом, рядом с Олесем, напротив Ганны, сидел лет сорока мужчина с такими же, как у Олеся, длинными усами. Это был его брат. Тут же, сбоку, находилась Галина со своим малышом. Стася хлопотала в кухне. — Они теперь грызутся, как пауки в банке, — сказал Януш. — Хотят всех поляков заставить воевать против русских. Не выйдет! — Значит, с армией ничего не получается? — спросил Олесь. — Никогда не получится, хотя они даже костелы превратили в вербовочные бюро. Тех, кто не идет в их армию, ксендзы проклинают, обещают вечные муки ада. А на польской земле уже третий год творится кромешный ад. Кругом льется кровь. — Тебя же они не призывают… Ты же в тридцать девятом году бил фашистов, — сказала Галина. — То было, а может, и теперь придется… От их мобилизации я и удрал сюда. — Что же ты думаешь делать дальше? — настороженно спросил Олесь. — Августовские леса рядом. Там, говорят, запевают настоящие песни… — Януш посмотрел на брата и весело рассмеялся. — Правильно, дядя Януш! — крикнула Галина. — Вместе с моим Костей лупите их покрепче! — Подожди, Галя. Тебя потом послушаем, — осторожно заметил Олесь. — А чего там ждать, я давно говорю ежели бы у меня не было вот этого пацанчика, спивала бы и я песни с партизанами в Августовских лесах! — Молодец, Галина! Пойдем вместе! А пацанчика Ганна со Стасей присмотрят. На пороге показалась Стася и поманила Галину к себе. — Ребенка-то оставь, — сказала она негромко. Галина передала мальчика Ганне и вышла вслед за матерью. — Тебя Владислав зовет… Поговорить хочет, — остановившись в сенцах, тревожно сказала Стася. — Неужели снова допрашивать будут? — Владислав? — Галина вспыхнула и, словно защищаясь, прижала локти к бокам. — Что ему от меня нужно? — Это я уже не знаю. Сходи, раз зовет. Он такой весь сумный. Смирно просил, дело, говорит, есть. — Может, он хочет старое вспомнить? Э-э! Была песня, да давно спета и забыта. Ну что ж, поговорим… Где он? — В саду дожидается. Галина встречалась с Владиславом, когда ее вызывали в гестапо и расспрашивали о муже. Гестапо получило сведения, что в июле сорок первого года, вскоре после появления Галины в Гусарском, какой-то лейтенант Красной Армии в артиллерийской фуражке с группой пограничников сжег склад с горючим и разбил в селе гарнизон немцев. В доносе прямо называлась фамилия зятя Седлецких. Вызвали и Олеся, но он скрыл, что зять его приходил и ночевал в овине. «Может быть, и сейчас что-нибудь такое? подумала Галина. — Тогда Владислав даже не вмешивался, а теперь, может быть, вспомнил?» В надетом нараспашку светло-зеленом мундире Владислав стоял под старой яблоней и грыз недозрелый плод. — Здравствуй, Галя! — отшвырнув зеленое яблоко, сказал Владислав и подал Галине руку. Но протянутая рука повисла в воздухе: Галина не сделала даже попытки прикоснуться к ней. — Ты поздороваться со мной не хочешь? окидывая высокую фигуру Галины красными, мутными глазами, спросил Михальский. — Я только что держала на руках ребенка… — Галина рассеянно посмотрела на свои загорелые, жесткие от работы руки.
— Ну и что такое? Ребенок чистый, — понимая ее совсем по-другому, сказал Владислав.
— Я тоже так думаю, что ребенок чистый… А ты обнимался сейчас с Сукальским. У него поганые руки…
— Вот ты о чем!… Я с ним как раз не обнимался, — мрачно ответил Владислав.
Слова Галины будто хлестнули его по лицу, и он не знал, как вести разговор дальше. Вылетели из головы приготовленные фразы. По выражению ее строгих глаз он видел, что эта женщина потеряна для него навсегда, по чем дальше она отдалялась от него, тем сильнее он ее любил. Сейчас, когда у него была растоптана душа, ему был нужен такой человек, которому он мог бы признаться, что запутался, пошел не по той дороге и что несчастнее его нет никого на свете… А Галина, словно угадывая больное надломленное его состояние, била в самое уязвимое место.
— Значит, и мои руки поганые? — с трудом выдавливая слова, спросил он.
— Не знаю, где ты бываешь и что делаешь… Может, они еще хуже, чем у Сукальского, — смело глядя ему в лицо, сказала Галина.
— Галина!
— Ты не кричи на меня. Ой, за эти годы я сама так научилась кричать! У меня и по ночам сердце кричит!
— Кого же оно кличет?
— Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Твое ли это дело?
Терзавшая его раньше ревность и оскорбленная гордость вспыхнули вдруг с новой силой.
— Ты знаешь, — рывком отламывая ветку яблони, заговорил он хрипловатым голосом. — Думаешь, мне не известно, что твой муж скрывался здесь, потом они сожгли склад и побили полицейских? Я тогда за тебя заступился, а ты и не знала! Так вот теперь могу взять! Гестаповцы сорвут с тебя платье… Я буду смотреть на твое голое тело… Ты знаешь, у гестаповцев есть такая резина, похожая на бычий хвост, так они станут стегать тебя вот этой резиной!
— Давно это знаю… Поэтому и ненавижу вас, ох как я вас ненавижу, если бы ты только знал! Вы расстреляли в Старом форту[1] тысячи людей и еще немало замучите… Но от этого ничего для вас не изменится. Придет время и вы за все расплатитесь! От Днепра до Немана не так уж далеко, Владислав. Советские танки быстро стали ходить! Теперь фашистам и поляки понадобились. Да только не все поляки такие дураки, как ты. Ну что ж, бери! Может быть, заодно и маленького Костю захватишь, убьете нас вместе! Но не забывай, есть большой Костя, не забывай!
— Молчи! Молчи! — Владислав рванулся было к Галине.
Руки ее затряслись под кофточкой, но она не тронулась с места. Прижимая руки к груди, Галина словно хотела остановить бурно колотившееся сердце.
— Иди, иди к тому иезуиту, пусть он убьет тебя, как убил твоего брата Юрко. Ты ведь все этому не верил! Так я тебе клянусь своим маленьким Костей, что это сделал он! А отец твой спас ему жизнь за то, что он сына его зарезал.
Словно ножом по сердцу, ударили слова Галины. Владислав не раз задумывался над этим загадочным убийством, чувствуя, что не могли так поступить русские пограничники. Не раз заговаривал он об этом с Сукальским, но тот убеждал, что Юрко, боясь ответственности, видимо, покончил самоубийством. Но это очень мало похоже на его брата.
— Ты откуда это знаешь? — хриплым голосом спросил Владислав.
Он посмотрел Галине в глаза. В них не было ни страха, ни покорности. В них светилась жестокая, суровая правда. Давно Владислав чувствовал эту правду, но не хотел верить ей. Слишком страшно было поверить. Одернув мундир, Владислав круто повернулся и побежал к дому. Машина Сукальского, взвихривая пыль, выехала со двора и скрылась за деревьями.
Без фуражки, с болтающимися на ветру полами мундира, наклонив голову, Владислав, как рассвирепевший бык, ворвался в дом. Наспех собрав кое-какие вещи, он молча выскочил на улицу и тут же свернул в узенький переулок. Через несколько минут Владислав был уже на опушке леса. Куда же теперь? Но этот вопрос был для него решенным. Конечно же, не к партизанам. Его путь, как он ясно понял это за последние дни, лежал в Армию Крайову.
— Я только что держала на руках ребенка… — Галина рассеянно посмотрела на свои загорелые, жесткие от работы руки.
— Ну и что такое? Ребенок чистый, — понимая ее совсем по-другому, сказал Владислав.
— Я тоже так думаю, что ребенок чистый… А ты обнимался сейчас с Сукальским. У него поганые руки…
— Вот ты о чем!… Я с ним как раз не обнимался, — мрачно ответил Владислав.
Слова Галины будто хлестнули его по лицу, и он не знал, как вести разговор дальше. Вылетели из головы приготовленные фразы. По выражению ее строгих глаз он видел, что эта женщина потеряна для него навсегда, по чем дальше она отдалялась от него, тем сильнее он ее любил. Сейчас, когда у него была растоптана душа, ему был нужен такой человек, которому он мог бы признаться, что запутался, пошел не по той дороге и что несчастнее его нет никого на свете… А Галина, словно угадывая больное надломленное его состояние, била в самое уязвимое место.
— Значит, и мои руки поганые? — с трудом выдавливая слова, спросил он.
— Не знаю, где ты бываешь и что делаешь… Может, они еще хуже, чем у Сукальского, — смело глядя ему в лицо, сказала Галина.
— Галина!
— Ты не кричи на меня. Ой, за эти годы я сама так научилась кричать! У меня и по ночам сердце кричит!
— Кого же оно кличет?
— Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Твое ли это дело?
Терзавшая его раньше ревность и оскорбленная гордость вспыхнули вдруг с новой силой.
— Ты знаешь, — рывком отламывая ветку яблони, заговорил он хрипловатым голосом. — Думаешь, мне не известно, что твой муж скрывался здесь, потом они сожгли склад и побили полицейских? Я тогда за тебя заступился, а ты и не знала! Так вот теперь могу взять! Гестаповцы сорвут с тебя платье… Я буду смотреть на твое голое тело… Ты знаешь, у гестаповцев есть такая резина, похожая на бычий хвост, так они станут стегать тебя вот этой резиной!
— Давно это знаю… Поэтому и ненавижу вас, ох как я вас ненавижу, если бы ты только знал! Вы расстреляли в Старом форту[1] тысячи людей и еще немало замучите… Но от этого ничего для вас не изменится. Придет время и вы за все расплатитесь! От Днепра до Немана не так уж далеко, Владислав. Советские танки быстро стали ходить! Теперь фашистам и поляки понадобились. Да только не все поляки такие дураки, как ты. Ну что ж, бери! Может быть, заодно и маленького Костю захватишь, убьете нас вместе! Но не забывай, есть большой Костя, не забывай!
— Молчи! Молчи! — Владислав рванулся было к Галине.
Руки ее затряслись под кофточкой, но она не тронулась с места. Прижимая руки к груди, Галина словно хотела остановить бурно колотившееся сердце.
— Иди, иди к тому иезуиту, пусть он убьет тебя, как убил твоего брата Юрко. Ты ведь все этому не верил! Так я тебе клянусь своим маленьким Костей, что это сделал он! А отец твой спас ему жизнь за то, что он сына его зарезал.
Словно ножом по сердцу, ударили слова Галины. Владислав не раз задумывался над этим загадочным убийством, чувствуя, что не могли так поступить русские пограничники. Не раз заговаривал он об этом с Сукальским, но тот убеждал, что Юрко, боясь ответственности, видимо, покончил самоубийством. Но это очень мало похоже на его брата.
— Ты откуда это знаешь? — хриплым голосом спросил Владислав.
Он посмотрел Галине в глаза. В них не было ни страха, ни покорности. В них светилась жестокая, суровая правда. Давно Владислав чувствовал эту правду, но не хотел верить ей. Слишком страшно было поверить. Одернув мундир, Владислав круто повернулся и побежал к дому. Машина Сукальского, взвихривая пыль, выехала со двора и скрылась за деревьями.
Без фуражки, с болтающимися на ветру полами мундира, наклонив голову, Владислав, как рассвирепевший бык, ворвался в дом. Наспех собрав кое-какие вещи, он молча выскочил на улицу и тут же свернул в узенький переулок. Через несколько минут Владислав был уже на опушке леса. Куда же теперь? Но этот вопрос был для него решенным. Конечно же, не к партизанам. Его путь, как он ясно понял это за последние дни, лежал в Армию Крайову.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Артиллерийская канонада постепенно замирала, удаляясь на запад. Туда же почти беспрерывно, сотрясая вечерние сумерки мощными перекатами завывающих пропеллеров, большими группами уходили тяжелые бомбардировщики. В густом темном лесу гудели моторами невидимые танки, раздавались гулкие, резкие выхлопы. Советская Армия наступала, она уже подходила к польской границе. Шло лето сорок четвертого года… На небольшой поляне, около дома лесника, часовой в стальной каске с красной звездой, с фронтовыми погонами артиллерийских войск проверил документы двух каких-то военных в зеленых плащах и пропустил их в сени. В передней комнате гостей встретил капитан и попросил их раздеться. Военные сняли влажные от моросившего дождя плащи и повесили их на вбитый в стене гвоздь. Оба они оказались майорами. Один был среднего роста, худощавый, с внимательными улыбающимися глазами, пограничник, другой — высокий, с могучими плечами, артиллерист, с широким скуластым молодым лицом, с густыми вьющимися на большой голове темными волосами. Капитан внимательно просмотрел их документы, нарочито замедленными движениями покрутил недавно отращенные, вошедшие в фронтовую моду рыжие усы и, показав на дверь, коротко сказал: — Проходите, генерал ждет. Гости одернули в третий раз, как заметил рыжеусый капитан, свои помятые гимнастерки, а артиллерист пригладил широкой ладонью непокорную шевелюру, осторожно открыл дверь и пропустил вперед пограничника. — Разрешите, товарищ генерал? — спросил пограничник. — Да, да! — прогудел из угла густой, словно из бочки, бас. Генерал поднял с большого неуклюжего носа круглые роговые очки и, взглянув из-под косматых бровей серыми живыми глазами, показал рукой на стоявшие около стола стулья. Сам же, прижав оттопыренное хрящеватое ухо к телефонной трубке, продолжал разговор: — Ага! Так, так! Значит, у тебя пушки застряли? Ага! Сам-то ты не застрял?… Сам, говорю, не утонул в грязи? Нет? Ну, слава богу, хоть сам-то чистенький!… Хорошо. Я скоро приеду, впрягусь в трактор и пушки твои выдерну! Не надо приезжать?… Нет, приеду обязательно. Пушки у тебя отстали, харчей нет… Непременно приеду… Я умею и пушки вытаскивать и харчи добывать. Ну, вот что, душа моя, пушки должны быть на месте к сроку, который тебе известен. Оправдываться будем после — и точка!… Все исполнишь? Отлично, заканчиваем, а то меня гости ждут. Бывай здоров. Генерал встал и, пожимая майорам руки, прищурив насмешливые глаза, сказал: — Ну, милейший майор Кудеяров, поздравляю тебя со старшим офицерским званием. — Генерал не дал ему ответить и, лукаво улыбнувшись, добавил: Майоров теперь развелось — сердце радуется! Швырни рукавицу — в майора попадешь… — Присвоили, товарищ генерал! — сказал Кудеяров. — Мало ли что бывает… уж больно майоры-то молодые… — Да у нас и генералы есть такие! — Есть и генералы! Но насчет генералов ты, брат, поосторожней! Эти погоны Рубцову легли на плечи после тридцати лет службы. Ну как, жену разыскал, майор? — Никак нет, товарищ генерал! — вставая, ответил Кудеяров. — Да ты сиди, сиди! Вот привычка вскакивать по каждому поводу! Ну, знаем, что ты храбрый майор. Орденов у тебя полная грудь! Знаем, что ты отлично умеешь козырять, а вот жену беременную потерял и не можешь отыскать! Непростительно! Как ты думаешь, Сергей Иванович? — ворчливо спросил Рубцов. В душе он был рад успехам своего воспитанника, но прямо высказать этого не хотел. — Есть сведения, что эшелон этот разбомбили, — ответил Викторов. — Не всех же разбомбили! Кто-нибудь жив остался? — Разумеется, не все погибли. Может, и найдутся, — согласился Сергей Иванович. — Я в этом уверен, товарищ генерал! — Ну, ты что же без конца «генералишь»? У меня есть имя, отчество. Ты для меня сейчас прежде всего секретарь районного комитета партии! Вот кончится война, будем рядом работать, и снова начнешь в докладчики таскать… — Генерала не легко в докладчики вытащить! — засмеявшись, ответил Викторов. — А ты не стесняйся! На то ты и партийный руководитель. Да ты сумеешь, я тебя знаю… Ну, ладно! Дело у нас впереди трудное. Капитан Рогов! — крикнул Рубцов в телефонную трубку. — Прикажите, чтобы нам сюда принесли чаю, да покрепче! — И, положив трубку, спросил: — Вы знаете, друзья, зачем я вас вызвал? — Да, примерно, Зиновий Владимирович, — ответил Викторов. — Вот и отлично, если знаете. Подсаживайтесь ближе, сейчас начнем колдовать. — Рубцов придвинул к ним карту одного из районов Гродненской области со смежным участком Литовской республики. Вглядываясь в знакомые топографические зеленые штрихи лесов и голубые извилины рек, продолжал: Такие люди, как вы, сейчас для нас клад. Ты, Сергей Иванович, служил на этой границе, работал здесь, а потом стал партизаном. Скоро тебе придется восстанавливать район после трехлетней оккупации. Это дело нелегкое. Но ты в этом районе как у себя дома. И Кудеяров тоже. Мы с этим юношей такие там дела делали! Воевали, невест крали, свадьбы устраивали и тому подобное… Ты, милок, не делай удивленное лицо, — генерал взглянул на Кудеярова. Поедешь жену разыскивать. Здесь не нашел, так в тылу у немцев поищешь. Там, наверное, уже потомство твое растет, может, родились двойняшки!… Так что я сказал? Самое главное… — Вы сказали, что мы клад, — напомнил Кудеяров. — Без тебя знаю, не повторяй! Вот куда мне положить этот клад? свирепо наморщив брови, не отрываясь от карты, проговорил Рубцов. Мысль его работала напряженно и четко. Очертив на карте красный кружок, поставив в середине точку, Зиновий Владимирович добавил: — Вы ляжете на парашютах примерно в этом месте. Видите точку? А мы, как известно, находимся вот здесь. Рыбница. Это по прямой шестьдесят километров. Такое расстояние мы со своими стволами на моторах пройдем быстро, ну, в два-три дня. Правда, у нас много тяжелых машин, а здесь неважные дороги. Выйдем юго-западнее района Дружниковки — к Неману, вы понимаете, к Неману! — Рубцов поднял вверх толстый цветной карандаш и погрозил в пространство. — Вот как раз на это место, где в знаменитую реку впадает Августовский канал. Вы спросите: чем знаменит Неман? Да хотя бы тем, что там Наполеон топил своих уланов. К устью мы подойдем в срок. Гарантирую. Против моих самоходок и тридцатьчетверок враг жидковат, мы его стопчем быстро. Это для меня совершенно ясно. Но там этот проклятый Августовский канал, на котором мне приходится воевать уже четвертый раз. Он у меня в печенках сидит еще с той войны! Я тогда через него солдатом плавал, потом в гражданскую кавалеристом, младшим командиром, в начале этой войны — подполковником, а теперь генералом там искупаться хочется, да только самому, а чтобы не противник выкупал… Там моя Мария Семеновна осталась! — Зиновий Владимирович замолчал, хотел отойти от стола вдохнуть свежего воздуха у окошка, но остался на месте и вдруг неестественно громко заговорил: — Мне, понимаете, сын мой Борька, летчик, и тоже, между прочим, майор… пишет и все время спрашивает, где мать? А я ему вру, выдумываю всякие глупые истории. То она в Ташкенте, то в Самарканде, то эвакуировалась в колхоз, переменила климат. Не могу правду написать… Понятно, они большие друзья были… Да… А на днях он мне прислал письмо и корит, что я такой и рассякой эгоист — старуху бросил и не могу ему сообщить, где она находится… Вот они какие, майоры-то!… И Костя и Викторов хорошо понимали, чем вызвана неожиданная откровенность этого человека. — Да надо бы уже написать правду, Зиновий Владимирович, сочувственно посматривая на генерала, сказал Викторов. — Как отвоюю это место, тогда напишу, — решительно заявил Рубцов. Так вот, друзья мои, продолжим наше дело. До этого, как видите, змеевидного канала мы пройдем форсированным маршем, придется подраться на пути, не без этого. Но там, в устье, настоящее змеиное гнездо. Надо их основательно вышибать. Правый фланг нашей армии будет наносить удар вдоль линии железнодорожной ветки от Поречья — на Друскеники — в Литву. Наши части идут в центре армии, чтобы большой мощностью артиллерийских стволов расхлестать это гнездо вдребезги! Прежде всего нам нужны точные данные разведки и корректировщики там, в тылу… Это должна выполнить десантная группа. Командир десанта — гвардии майор Кудеяров, политический руководитель и уполномоченный штаба партизанского движения — майор Викторов. Вы должны высадиться в районе действующих партизанских отрядов и целиком подчинить их себе. Задача: разведка живой силы и техники противника, обнаружение скрытых минных полей. В вашем распоряжении будут саперы. Проверка состояния мостов и дорог для дальнейшего продвижения нашего тяжелого вооружения. Мы должны иметь полную информацию! Когда вы услышите, что наши стволы начали хлестать по этому змеиному гнезду, тоже начнете действовать, но в зависимости от того, как к тому времени сложится обстановка. Если подойдет такой момент, что можно ударить с тыла, наносите концентрированный удар большой силы, только не распыляйтесь. Это одна сторона дела. Другая заключается вот в чем: противник при отступлении угоняет все мирное население. Ваша задача — всеми усилиями воспрепятствовать угону населения в фашистское рабство. Как только выявится наш успех — а он будет непременно, — и гитлеровцы начнут сматывать удочки, вот тут-то вы и должны развернуться. Все дороги на замок! Сильный рывок вперед, глубже в тыл, засады на всех магистралях, и не давать вывозить не только живую силу и технику, но и ни одного мешка хлеба, ни одной картофелины! А с хлебцем у фашистов туго. Украина и почти вся Белоруссия уже освобождены. Враг мечется, как зверь, а когда зверь начал метаться, тут его и добивай. Перспектива сейчас у этих зверей мрачная. Мы подходим к нашей границе и напомним им июнь тысяча девятьсот сорок первого года! Напомним так, чтобы те, кто сумеет уйти отсюда, всю жизнь не забывали об этом и передавали потомству, что советские люди умеют постоять за свою землю. Я думаю, друзья мои, что вы представляете себе, какая перед вами стоит задача? — Все ясно, Зиновий Владимирович, — подтвердил Викторов. — Задание будет выполнено. — Завидую вам! Раньше меня придете на наши пограничные рубежи. Сам рвусь, рвусь! Зиновий Владимирович встал, снял очки, положил их на карту и прошел до противоположного окна. Остановился, посмотрел на лесные сумерки, погрозил пальцем маячившему перед окном часовому. Тот улыбнулся и, поправив каску, скрылся за стеной. Генерал повернулся к столу. На некрасивом, но вдохновенном лице его тенью лежала мечтательная улыбка. — Костя! Помнить, на заставе осталась дочка политрука Шарипова?… Ты тоже, Сергей Иванович, должен ее знать. — Конечно, знаю. Я же тогда провожал вас вместе с ее матерью. Как это случилось, толком не узнал. Клавдия Федоровна ничего не успела рассказать… — А я вот знаю! Шура, жена Усова, в момент обстрела решила узлы какие-то связать, осталась с ней и девочка, ну, ее там и ранило. Так и осталась. Вот Костя видел ее после. Жила в польской семье. Вы там обязательно поинтересуйтесь судьбой этой девочки. А у тебя где семья, Сергей Иванович? — У меня, кроме отца, никого нет, — смущенно ответил Викторов. — Сколько же тебе стукнуло, душа моя? — спросил Рубцов и, заглядывая в глаза Сергею Ивановичу, остановился напротив. — Тридцать пять, Зиновий Владимирович! — И не женился? Ну, это, брат, непростительно! Болезнь, говоришь? К черту твою болезнь! Это тебе доктора ее придумали! Болезнь… Поди, любила какая-нибудь? Да и как не полюбить такого! А ты посыпал голову пеплом: нельзя-де жениться, умру скоро… Знаю я вас таких самоотверженных, свои поступки за геройство считаете, а чувства других для вас нуль! — Признаюсь честно, Зиновий Владимирович, так оно и было. Заболел, демобилизовался, лечиться поехал. Врачи действительно наговорили таких страстей, куда там женитьба! — Это, милый, я и тогда знал — рассказывала мне одна женщина. Где она сейчас? — Агроном. В колхозе работает. Переписываемся… — Переписываемся… Поехал бы да женился… Не понимаешь, душа моя, как приятно получить письмо от жены, а сынишка пальчик к письму приложит… Эх ты, дядя Сережа! — ворчал генерал. Он медленными шагами стал ходить по комнате и большими глотками пить остывший крепкий чай. Поставив пустой стакан на стол и порывшись в кармане, Зиновий Владимирович достал маленькую записную книжечку и, листая ее, сказал: — Возьми у меня адрес Клавдии Федоровны Шариповой. Как только узнаешь там все о девочке, при первой же возможности сообщи матери, понял? Тепло распрощавшись с офицерами и пожелав им удачи, Зиновий Владимирович подошел к окну. Летний день уже давно сменился ночью. На западе гулко ударили пушки. Генерал узнал их по голосу и улыбнулся. Повернувшись, он подошел к столу и снова развернул перед собой большую топографическую карту. Война продолжалась…
ЭПИЛОГ
В один из августовских дней сорок четвертого года маленький Костя поскандалил с бабушкой Франчишкой, назвал ее «драной козой», как она сама часто говорила о себе, и потом, выискивая предлог, чтобы помириться, поднимался на цыпочки и робко заглядывал в окошко. Один раз тихонько окликнул, но ему никто не отозвался. Встав на лежащий возле стены кирпич, он приплюснул нос к стеклу: — Бабуся, а можно мне до тебя зайти? Ему пошел уже четвертый год, он понимал, что обидел бабку, и не знал, как ее расположить к себе. — Нельзя ко мне заходить, — раздался из окна голос Франчишки Игнатьевны. — Раз ты бранишься, так уходи домой. А как только приедет папа твой, я ж ему все про тебя расскажу, какой ты есть озорной мальчишка! — А когда приедет папа? — спросил Костя. Каждый день ему говорили, что скоро должен приехать папа, но он все не ехал, и мальчик теперь в каждом военном пытался узнать своего отца. Вдруг за воротами послышался шум мотора, потом гудок автомобиля. Костя оглянулся. Тут уж, когда машина подъезжала к самому дому, Косте было не до мирных переговоров с бабушкой. Подтянув штанишки, он шариком выкатился на улицу и очутился прямо против дверцы остановившейся у ворот машины. Костя широко открыл рот и часто заморгал глазенками. Вышла на улицу и Франчишка Игнатьевна. Из машины сначала вылез один военный, высокий и плечистый, с большим пистолетом, затем второй, пониже ростом, в зеленой пограничной фуражке. Костя уже много видел военных за последние дни, не раз они катали его на своих машинах, и он теперь сторожил каждый звук мотора. — Ты чей, мальчик? — присев на корточки и тревожно всматриваясь темными, блестящими от радости глазами, спросил военный с погонами артиллериста. — Мамин и бабушкин, да еще немножко тетин да дедушкин, — охотно ответил мальчик. — А как твоя фамилия, мальчик, и как тебя зовут? — Да я ж Костяшка Кудеяров! — с особым ударением на букву «р», смело ответил мальчик. — Сын! — закричал артиллерист и подхватил ребенка на руки. Стоявшую поодаль Франчишку Игнатьевну как ветром сдуло. Лейтенант-пограничник только заметил, как мелькнули ее башмаки на деревянной подошве и она скрылась в саду. — Ты знаешь своего папу? Знаешь? — ничего не видя, кроме этого черноглазого мальчика, выкрикивал большой Костя. — Знаю папу. Вот он, мой папа! — растерянно тыча пальчиком в лоб обласкавшего его офицера, с довольной улыбкой проговорил мальчик и робко прислонился к его горячей щеке. Прижав руки к груди, у садовой калитки уже стояла Галина и не могла двинуться с места. Из-за ее плеча, чуть пониже ее ростом, выглядывала стройная темноволосая девочка с грустным красивым лицом. Тут же стояли Франчишка Игнатьевна и Осип Петрович. — Ну, Костяшка, а где наша мама? — продолжая целовать сына, спросил Костя. — Ах ты, маленький! — Нет, я уже большой! А мама, — вот она, мама! Не успел Кудеяров оглянуться, как Галина повисла на его плече и сильной рукой вместе с сыном обняла за шею. Высокая, гибкая, она прижималась мокрой щекой и целовала то большого, то маленького Костю, забыв, что рядом стоят Франчишка Игнатьевна, незнакомый лейтенант и мать. Ей как-то странно было видеть крутоплечего офицера в погонах с двумя просветами, со строгими под глазами морщинками. Не было прежнего молоденького лейтенанта в начищенных до блеска сапогах, не было и прежней девчонки Галины, — казалось, что только сейчас она выросла на ее глазах вместе с этим загорелым офицером и черноглазым лобастым мальчишкой, выросла и возмужала. Кроме Галины и сына, Костя тоже никого не видел, слышал только ее ласковый шепот и чувствовал ее горячее дыхание. — Папка, у тебя волосы колючие, — напомнил о себе маленький Костя, теребя отцовский чуб. — А у тебя не колючие? — спросил Кудеяров, поглаживая гладко остриженную головенку сына. — У бабушкиного порося вот так колючие! — ответил мальчик и заставил всех рассмеяться. Отдельно, в сторонке, стояла Оля. Она вскидывала большие серые глаза то на Костю, то на лейтенанта в зеленой фуражке. Детская память отыскивала знакомые черты этого лица и находила их, но еще не могла подсказать, где она видела его. Кудеяров заметил Олю и шагнул к ней. Он понимал, о чем она сейчас думала. Поздоровавшись с Олей, Кудеяров представил лейтенанта. — Новый начальник пограничной заставы лейтенант Павлов. Ты, Оля, помнишь сержанта Павлова? — Немножко помню, — ответила Оля. — Он служил на соседней заставе. — Должна помнить! — Павлов шагнул вперед, протянул руку ей, потом подошедшему Осипу Петровичу. — Вот и опять встретились, — заметила Франчишка Игнатьевна, искоса посматривая, как Павлов тискал в своих крепких руках щупленькое тело Осипа Петровича. — Что ж, придется снова коровку доить да молочком поить… — добавила Франчишка Игнатьевна. — Подоим, матка, подоим! Давай-ка крынку бери да новую кашку вари! Гости дорогие! Не ветерок попутный занес, а сами издалека, издалека пришли, — взволнованно проговорил Осип Петрович. В это время налетел порывистый ветер, закрутил под ногами слабые, раньше времени упавшие с деревьев листья и начисто вымел их со двора. Качнулась молодая рябина под окном Франчишки Игнатьевны и зазвенела своими красными недозрелыми ягодами. Сидевшая на вершине птичка вспорхнула и полетела куда-то в вышину, где кружились серые курчавые облака. «Вот так и моя птичка скоро улетит», — посматривая на оживленно разговаривавшую Олю, подумала Франчишка Игнатьевна. Так этому и суждено было случиться. Спустя несколько дней Оля жала серпом на берегу канала траву для коровы и не заметила, как к ней тяжелой, разбитой походкой подошла уже немолодая, повязанная синим платком женщина и, остановившись, спросила: — Ты не скажешь, девушка, как мне пройти в село Вулько-Гусарское. Мне надо видеть семью Августиновичей… Женщина нервно поджала сморщенные губы и, чтобы не показать, как они дрожат, закрыла их платком. От сильного напряжения она покачивалась, словно пьяная. — Гусарское туточки рядом, — певуче, на белорусский манер ответила Оля. — А зачем вам Августиновичи? Я из их семьи… Оля повернулась к ней лицом и стала пристально рассматривать утомленную женщину со знакомыми, поблескивающими от слез глазами. — Ты меня не узнаешь, доченька? — стараясь проглотить слезы, совсем задыхаясь, спросила женщина. Оля выронила блеснувший на солнце серп, тихо, замирающим голосом, по-взрослому сказала: — Узнаю, мама! И, сильней еще раз выкрикнув это слово, протянув руки, прижалась к матери, и они обе как подкошенные опустились на землю. Потом сидели на берегу канала, и Клавдия Федоровна с жадностью истосковавшейся матери целовала трепетавшую у нее на руках девочку и не верила, что наконец она ее нашла. Клавдии Федоровне казалось, что она уходила куда-то во тьму бесконечно длинной и тяжелой ночи, когда невозможно заснуть, а только можно думать, страдать, ждать весточку от мужа, от этой маленькой девочки, о судьбе которой она ничего не знала более трех лет. Надо было обо всем думать, заботиться, чтобы прокормить оставшихся на руках мальчиков, надо было мучительно ждать этот счастливый и печальный сегодняшний день. Она говорила торопливо, страстно, чтобы излить свою горечь и радость встречи. Ей хотелось спросить об отце, но она боялась, догадываясь, что ничего утешительного не услышит. — Оленька, деточка, расскажи, как ты жила, а то все я говорю, говорю. Тяжко мне было, Олюшка!… Ой как тяжко! — Я ж знаю, мама… — Оля положила голову к ней на колени, поглаживая жесткие руки матери, продолжала: — Когда у меня немножко зажила нога, погнала я гусей пасти, и захотелось мне домой — на заставу, ой как захотелось, мама! — И ты пошла? — наклонившись к ней, спросила КлавдияФедоровна. — Да, мама. В нашей квартире на полу пуговичка лежала, папина пуговичка… Помнишь, которую, думали, Славка проглотил? — Ну, а как папа? — вырвалось у Клавдии Федоровны, и она сама испугалась этого вопроса. — Папа? Папа в окопе сидел… Я его видела, узнала, как же я могла не узнать папу? Голова большая, остриженная, а на фуражку комочек земли скатился. — Ничего, Оленька, этого не было, ты фантазируешь, — стараясь быть спокойной, проговорила Клавдия Федоровна. Но Оля чувствовала, как у матери, точно в ознобе, тряслись колени. — Нет, мамочка, я видела сама. Потом еще ходила, а там уже стоял маленький крестик… Мы туда, мамочка, сходим. — Сходим, доченька, — тихо проговорила Клавдия Федоровна. Вечером они вместе с генералом Рубцовым, с большим и маленьким Костей стояли на высоте, где была пограничная застава. На западе за темной тучей спрятался и погас последний луч солнца. Блеснула молния, раскатисто загремел гром. — За Августовскими лесами гроза продолжается. Но завтра будет хороший день, — сказал генерал Рубцов и крепко надвинул на лоб фуражку с малиновым околышем. …Через три с лишним года Клавдия Федоровна вновь увидела, как во дворе заставы выстроились пограничники. Только люди, за исключением Павлова, были другие. Но они были так же строги и мужественны, как и их предшественники, навечно оставшиеся на своей родной заставе. Новому поколению воинов пришлось пройти тяжелый тысячекилометровый путь, чтобы встать на охрану прежних государственных рубежей. Они прошли от стен Москвы, через руины Сталинграда, Киева, Харькова, Минска, твердой рукой били врага, освобождая свою землю, и первыми встали на пограничный пост. — Застава, смирно! — скомандовал Павлов и, подойдя к генералу, отдал рапорт. — Товарищи пограничники! — остановившись перед строем, проговорил Рубцов. — Здесь, на этой заставе, двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года ваши братья по оружию приняли первый удар фашистских захватчиков. Здесь в неравном бою пали геройской смертью начальник заставы лейтенант Виктор Усов, политрук Александр Шарипов, заместитель политрука Стебайлов, солдаты Башарин, Кабанов и другие… Золотыми буквами напишет Родина их имена на гранитном памятнике. И каждый день, уходя на охрану государственных границ, многие поколения пограничников будут останавливаться перед ярко горящей звездой. В минутном молчании отдадут они воинскую честь славным героям и еще бдительнее станут охранять мирный труд нашего народа, наше коммунистическое будущее… Когда генерал закончил короткую речь, наступила торжественная тишина. Слышно было, как весело взмахивая крыльями, скрипел электрический ветряк. Потом от правого фланга строя отделился наряд пограничников и, отойдя на несколько шагов, остановился. Раздалась негромкая, но отчетливая и строгая команда: «Заряжай!» Защелкали затворы, еще быстрее закрутился пропеллер ветряка, словно измеряя плотность и чистоту воздуха. А воздух был еще не совсем чистый, пахло пеплом и гарью войны, которая, все отдаляясь, уходила далеко на запад, оставляя за собой страшные следы горя, вселяя в сердца людей великую радость скорой победы.ОТ АВТОРА
27 июля 1952 года офицерский состав пограничного отряда собрался в кабинете начальника. Здесь же были члены комиссии по раскопкам траншей бывшей Юзехватовской заставы. Касаясь дрожащими пальцами края стола, покрытого зеленым сукном, перед нами стояла молодая мать двух детей, Ольга Александровна Шарипова, бесценный свидетель героической эпопеи, которая свершилась в страшный день 22 июня 1941 года. Более двух часов мы слушали ее тихий, временами горький и скорбный рассказ о том, как с оглушительным треском рвались снаряды и мины, как плакал и звал маму братишка Славик, как из-за Августовского канала доносился истошный галдеж на чужом языке, как ржали в конюшне кони, как, пригибаясь, сновали по траншее пограничники с тяжелыми ящиками патронов. Потом Оля с женой начальника заставы Шурой бежали по полю, густая, высокая рожь путалась в ногах, мешала движению. Свистели пули, а одна ударила Оле в ногу. Стало больно, потекла кровь. Очень хотелось пить. Потом приполз к ним повар Чубаров. Он истекал кровью. Ему начальник заставы приказал доставить в комендатуру секретные бумаги. Доставлять было некуда. Документы они разорвали на мелкие кусочки и закопали в землю. На третий день их нашла во ржи жительница села Вулько-Гусарского ныне село Усово — Франчишка Игнатьевна Августинович и увела к себе домой. А впоследствии, чтобы не дать фашистам увезти девочку в Германию, Осип Петрович и Франчишка Игнатьевна Августиновичи удочерили Олю, записав ее на свою фамилию. Рассказала Ольга Александровна, как еще тогда, в сорок первом, она украдкой ходила на заставу. Вошла в опустошенную, разграбленную фашистами свою квартиру, подобрала пуговицу от отцовской гимнастерки. Видела в окопе пограничника в зеленой фуражке в сидячем положении, полузасыпанного землей… Ходила второй раз, но там на месте, где была траншея, стоял только деревянный, из двух палочек, крест. И поныне о трагедии, разыгравшейся здесь, напоминают отметины пуль и осколков на поблекших от времени кирпичах старой конюшни, где когда-то стоял боевой конь лейтенанта Усова. Почти исчезла под новыми, свежими посадками главная траншея, исковерканная в тот последний, тяжкий час гусеницами немецких танков. Но память о подвиге жива, она не может исчезнуть… В кабинете сидели и молодые и пожилые офицеры, прошедшие с боями от границы до последних рубежей под Москвой, затем от Москвы до Берлина. Они хмуро клонили тронутые сединой головы, опускали неестественно блестевшие глаза. От слов Ольги Александровны в кабинете накалялась тишина. Перед мысленным взором каждого вставали герои, которые до этого были безымянными. На другой день были продолжены раскопки бывшей Юзехватовской заставы, с тем чтобы извлечь останки солдат и офицеров, павших в первые дни Великой Отечественной войны. О результатах раскопок и опросов местных жителей, свидетельствующих о беспримерном подвиге начальника заставы лейтенанта Виктора Усова, политрука Александра Шарипова, многих солдат и сержантов, был составлен акт. В акте отмечалось, что личный состав пограничной заставы под командованием лейтенанта Усова и политрука Шарипова в 4 часа утра 22 июня 1941 года вступил в бой с батальоном немецко-фашистской пехоты, усиленным танками и минометами. Оборона заставы была круговой, организованной и стойкой. Подтверждением этого служит наличие вокруг заставы окопов и траншей, из которых пограничники вели бой. Об организованной и стойкой обороне говорит и тот факт, что при раскопках траншей и ячеек было обнаружено большое количество пустых деревянных ящиков из-под патронов и гранат, вокруг валялось множество стреляных гильз, а часть оставшихся ящиков с неизрасходованными патронами была открыта и приготовлена для ведения огня. По показаниям местных жителей и дочери политрука заставы Шарипова Шариповой О. А., бой пограничников с немецко-фашистскими захватчиками длился с 4 часов утра до 12 часов дня 22 июня 1941 года. Бой был ожесточенным. Фашисты, несмотря на большое численное превосходство, не смогли с ходу сломить упорное сопротивление пограничников и вынуждены были применить минометы, артиллерию и вернуть ушедшие вперед танки. Пограничники дрались до последнего. Подступы к заставе были устланы вражескими трупами. Командование погранзаставы руководило боем до последних минут. Политрук Шарипов находился на левом фланге траншеи. Начальник заставы лейтенант Усов был на правом фланге на командном пункте — в 10-15 метрах от казармы, где и найдены останки его тела со снайперской винтовкой в руках, с недосланным патроном в патронник. В момент перезаряжения винтовки он был поражен пулей в висок. Извлеченные при раскопках траншей останки павших в бою при защите государственной границы пяти пограничников, в том числе начальника заставы лейтенанта Усова, 28 июля 1952 года в 22.00 захоронены в братской могиле с отданием всех воинских почестей, положенных по уставу. (Останки остальных пограничников, погибших при обороне заставы, в том числе политрука Шарипова, были извлечены из траншеи и захоронены раньше — в 1951 году.) Отмечая факт героической борьбы личного состава заставы с немецкими оккупантами, комиссия обратилась с ходатайством о присвоении Н-ской заставе имени лейтенанта Усова. Именно этот документ и рассказы Ольги Александровны Шариповой, Франчишки Игнатьевны, Осипа Петровича Августиновичей и других очевидцев местных жителей — послужили основой для романа «В Августовских лесах». Однако обстоятельства сложились так, что ни командование, ни мы, члены комиссии по раскопкам, в то время даже не знали настоящего имени лейтенанта Усова. Даже в акте он всюду назван лишь по должности и званию. И только после опубликования романа были получены письма, сначала от жены бывшего начальника связи пограничной комендатуры капитана Дубового Валентины Васильевны Дубовой, которая сообщила адрес жены Виктора Усова Александры Григорьевны. Были получены письма от оставшихся в живых пограничников этой заставы Вавилова и Тупицина. От Александры Григорьевны я узнал, что имя Усова — Виктор, отчество — Михайлович, что родился он в городе Никополе, в рабочей семье. Перед началом войны окончил Харьковское пограничное училище. Выяснилось, что в Никополе проживают мать Виктора Матрена Ануфриевна и брат Николай Михайлович, тоже участник Великой Отечественной войны, ныне подполковник в отставке. В 1958 году Советское правительство присвоило Н-ской пограничной заставе имя лейтенанта Виктора Усова и 22 июня под залпы воинского салюта состоялось торжественное открытие именной заставы. А в мае 1965 года в честь 20-летия Победы над фашистской Германией Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР лейтенанту Виктору Михайловичу Усову присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. После опубликования романа автор получил много писем. Пожалуй, не было письма, в котором читатели не спрашивали бы о судьбе Оли Шариповой, ее матери Клавдии Федоровны, жены Виктора Усова Александры Григорьевны. Ольга Александровна давно замужем. Муж у нее пограничник. У них растут прекрасные дети. Клавдия Федоровна воспитала двух сыновей. Старший, как и отец, — офицер, служит в рядах Советской Армии. Слава живет с матерью и трудится на заводе. Нелегко сложилась судьба Александры Григорьевны. В 1952 году во время беседы с Франчишкой Игнатьевной мне запомнилось село Поречье, куда якобы была отправлена Шура. Сверившись по карте, я узнал, что село это находится на территории Польши. Позже выяснилось, что Шура была отправлена в село Перстунь. Жену начальника заставы тогда приютила польская семья Ивана Ефимовича и Станиславы Ивановны Дворак. — Прожила у нас Шура около месяца, — рассказал Иван Ефимович. — К этому времени фашисты начали всякое лихо творить, стали вылавливать русских людей. Заинтересовались и нашей Шурой. — Слушай, Дворак, — спросил однажды староста, — у тебя какая-то русская живет? — Ну так что? — Комендант спрашивал… — Ее уже нет. Ушла. — Куда? — Не знаю… Иван Ефимович успел отправить Шуру в село Свясие. Там ее укрыла бывшая учительница Ольга Ивановна Ефремова. «…Чтобы не попасть в Германию, — пишет Александра Григорьевна, — я укрылась у Ольги Ивановны. Станислава Ивановна навещала меня, приносила продукты. Потом вскоре приехал Иван Ефимович, и я снова вернулась к Дворакам. Станислава Ивановна и Иван Ефимович много делали хорошего русским людям. Русские убегали из плена, часто ночью приходили в деревню, заходили к Дворакам, были обогреты и накормлены. Для разговора с ними меня всегда будил и вызывал Иван Ефимович». В июле 1944 года стала подходить к этим местам Советская Армия. Завязался бой и за деревню Перстунь. Станислава Ивановна укрылась с ребятишками и Шурой на бугре в погребе, где хранились зимой овощи. В доме остался один Иван Ефимович. После непродолжительного боя солдаты Советской Армии заняли Перстунь. Фашистов выбили, но они зацепились за высотку, расположенную на окраине села, и открыли ответный огонь. Наши артиллеристы выкатили пушку и поставили посреди улицы — прямо напротив хаты Ивана Ефимовича. От первого же выстрела посыпались стекла, а снаряд разорвался неподалеку от зеленого бугра… Иван Ефимович подошел к солдатам и сказал, что под бугром погреб, а там жена с ребятишками. Артиллеристы перенесли огонь правее и вскоре отогнали фашистов. Стрельба стихла. Кто-то открыл крышку погреба. В створке показалось лицо солдата в пилотке с красной звездочкой. Шура кинулась к нему первой и, плача, стала целовать обветренное солдатское лицо, пропахшее махоркой и порохом. В ноябре 1944 года Александра Григорьевна уехала на родину в город Ростов-на-Дону, где живет и в настоящее время. Она работает учительницей, вот уже около 30 лет учит детей. «Живу одна и не заметила, как состарилась», — с грустью заключает она в своем недавнем письме. Александра Григорьевна осталась верна своему мужу и вторично не вышла замуж. Да мало ли состарилось двадцатилетних вдов! «Бывают даты, которых не празднуют. Вдовы надевают траур в такие дни, и листья на деревьях выглядят жестяными, как на кладбищенских венках». Каждый год в день 22 июня Франчишка Игнатьевна Августинович приезжала к памятнику героям-пограничникам с букетиком полевых цветов в сухой, натруженной руке. Долгую и славную жизнь прожили они с Осипом Петровичем. Советское правительство высоко оценило их смелый, патриотический поступок, наградив медалями «За отличие в охране государственной границы СССР». До самых последних дней их жизни — скончались они в 1968 году — все боевые смены поколений пограничников заставы имени Виктора Усова оставались лучшими друзьями стариков Августиновичей. Их хата всегда была тепло натоплена, накормлена корова. Об этом постоянно заботились солдаты, сержанты и офицеры заставы. Время неумолимо движется вперед, реликвиями становятся памятники Великой Отечественной войны, выветриваются на них буквы, выцветают фронтовые снимки, но никогда не поблекнут подвиги героев — им суждено вечно жить в сердцах благодарных потомков.

ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР
Часть первая
Глава первая
Петька Пыжиков, худенький остроносый мальчик лет девяти, выбежал из подъезда большого серого дома и, задрав голову, как молодой петушок, пронзительно свистнул. Это был сигнал другу Мишке Ромашкову, жившему в этом же доме с матерью и сестренками.
Во дворе на вянущие газоны и осыпающиеся акации спускались скучные осенние сумерки. Наступала та вечерняя пора, когда спать еще рано, но игры закончились и ребята разошлись по квартирам. Дома мать хнычет, отец бесконечные наставления читает. Скорей бы уж уехать, а то вконец изведут этими нудными советами и причитаниями. Петька с нетерпением ждет своего задушевного товарища Мишку. Надо все ему рассказать. Петька перекатывает пальцами в кармане своего темно-синего бушлатика две папироски, которые стащил у отца. От тоскливых сумерек грустно, да и курить не хочется, а папироски стащил…
С балкона третьего этажа раздался тихий ответный свист, и вскоре там показался вихрастый мальчик.
— Ты чего, Пыжик? — спросил Мишка.
— Выходи! — Петька поднял руки, стал заговорщически показывать пальцами, что надо захватить с собой спички.
 Мишка понимающе кивнул головой и тут же исчез. Через минуту стало слышно, как он, спускаясь по лестнице, стучит каблуками ботинок и весело насвистывает.
Спрятавшись в углу двора за кустами акаций, они присели и взяли в губы по измятой папироске. Хотя Мишка был на два года старше, курить он тоже не умел, однако обоим хотелось подражать взрослым. Сейчас от едкого табачного дыма ребята задыхались и приглушенно кашляли.
— Ты папирос больше не таскай, — сердито сказал Мишка и, сплюнув в куст, затоптал окурок.
— Это уж я в последний раз, — согласился Петька.
Во рту у него было горько, щипало язык, он швырнул папироску под ноги и снова повторил:
— Это уж в последний раз…
— Что ты заладил в последний да в последний… Будто умирать собрался.
— Ну да. Говорю, что в последний… Ты еще ничего не знаешь!
— А что случилось? — заинтересованно спросил Мишка. — Что такое я должен знать?
— Ты этого не можешь знать, — с некоторым превосходством проговорил Петька. — У меня такая новость, такая! Тебе никогда не угадать!
— А я и не собираюсь. — Мишка безразлично пожал плечами. — Но знать ему все-таки хотелось. — Наверно, что-нибудь купили. Вот если бы новый велосипед — это да!
— Ха! У меня и старый еще ничего, только восьмерки выправить да спицы, но не нужен мне теперь никакой велосипед.
— Вот как! — удивленно заметил Мишка.
На старом велосипеде они катались вместе, катались фигурно, по-всякому, пожалуй, только вверх колесами не пробовал и…
— Не нужны мне больше никакие велосипеды, — со вздохом повторил Петька, — а этот я могу подарить тебе.
От волнения Мишка взъерошил волосы и подтянул штаны. Велосипед — это была его давнишняя мечта. Сколько раз он намекал матери, но она только отмахивалась. Отца у Мишки не было, умер три года назад. Мать работала и воспитывала троих детей. А Петька у родителей единственный сын. У него была даже отдельная комната, заполненная всякими игрушками. От Мишкиного же детства остался лишь один облезлый плюшевый медвежонок.
— Думаешь, я загибаю? — глядя на приятеля, горячо воскликнул Петька.
— Бывают у тебя разные фантазии. Сразу не поверишь…
— Фантазии? Можешь считать велосипед своим, можешь забрать все мои удочки и запасные крючки. Я уезжаю навсегда!
— Ври! Куда ты можешь уехать!
— В Суворовское училище, вот куда! Понял?
Мишка часто заморгал глазами и тихо спросил:
— Это правда?
— Не веришь? Пойдем к нам, и я тебе покажу все свои форменные бумаги. Сегодня папа привез. Скоро я отсюда уеду, — проговорил Пыжик и вздохнул.
Последние слова он сказал с такой грустью, что не поверить было нельзя.
— А мать тоже отпускает? — в раздумье спросил Мишка.
Петя пожал худыми плечиками и, разминая пальцами в кармане бушлатика хлебные крошки, солидно ответил.
— При чем тут мать? Разве в военном деле она что-нибудь понимает? Вот папа — это да! А мама только поплакивает, целует и говорит, что я самый необыкновенный и самый трудный ребенок на всем белом свете.
— Трудный? Почему трудный? — спросил Мишка.
— Я и сам не знаю… Мама так говорит. А необыкновенный, — это значит умнее, лучше других. Она написала мне речь, которую я должен на прощание сказать в классе. Но папа прочитал и разорвал, поругал маму, что она делает из меня бюрократа. Папа говорит, что в училище из меня это вытряхнут, сделают молодцом.
— Нет, Пыжик, ты парень ничего! — вздохнув, сказал Мишка. — Вот как наденешь военную фуражку да ремень с бляхой — картина! А я, как только закончу семилетку, поступлю в педучилище, учителем стану. Мама говорит, что я терпеливый, сестренкам помогаю. Но мне тоже военным быть хочется!
Мишка почесал затылок и, снова глубоко вздохнув, спросил:
— А когда уедешь, писать будешь?
— Конечно буду! Могу, чем хочешь, поклясться. — Восторженные клятвы Петя любил и не мог упустить такого подходящего случая. Хочешь?
— Хочу. Да я и так тебе верю.
— Давай лучше поклянемся в вечной дружбе — поедим земли маленько да вдобавок хлебных крошек. У меня тут есть в кармашке.
— Землю есть — ерунда, крошки тоже. Мы не маленькие! Лучше обнимемся, как солдаты на фронте, дадим честное слово быть настоящими друзьями навсегда, навечно.
Ребята обнялись.
Во дворе сгущалась темнота. На город надвигалась осенняя ночь.
Через два дня военный врач Алексей Иванович Пыжиков увез своего девятилетнего Петю в Суворовское училище, а Миша Ромашков остался в родном городе.
Так на много лет разошлись их мальчишечьи дороги.
Мишка понимающе кивнул головой и тут же исчез. Через минуту стало слышно, как он, спускаясь по лестнице, стучит каблуками ботинок и весело насвистывает.
Спрятавшись в углу двора за кустами акаций, они присели и взяли в губы по измятой папироске. Хотя Мишка был на два года старше, курить он тоже не умел, однако обоим хотелось подражать взрослым. Сейчас от едкого табачного дыма ребята задыхались и приглушенно кашляли.
— Ты папирос больше не таскай, — сердито сказал Мишка и, сплюнув в куст, затоптал окурок.
— Это уж я в последний раз, — согласился Петька.
Во рту у него было горько, щипало язык, он швырнул папироску под ноги и снова повторил:
— Это уж в последний раз…
— Что ты заладил в последний да в последний… Будто умирать собрался.
— Ну да. Говорю, что в последний… Ты еще ничего не знаешь!
— А что случилось? — заинтересованно спросил Мишка. — Что такое я должен знать?
— Ты этого не можешь знать, — с некоторым превосходством проговорил Петька. — У меня такая новость, такая! Тебе никогда не угадать!
— А я и не собираюсь. — Мишка безразлично пожал плечами. — Но знать ему все-таки хотелось. — Наверно, что-нибудь купили. Вот если бы новый велосипед — это да!
— Ха! У меня и старый еще ничего, только восьмерки выправить да спицы, но не нужен мне теперь никакой велосипед.
— Вот как! — удивленно заметил Мишка.
На старом велосипеде они катались вместе, катались фигурно, по-всякому, пожалуй, только вверх колесами не пробовал и…
— Не нужны мне больше никакие велосипеды, — со вздохом повторил Петька, — а этот я могу подарить тебе.
От волнения Мишка взъерошил волосы и подтянул штаны. Велосипед — это была его давнишняя мечта. Сколько раз он намекал матери, но она только отмахивалась. Отца у Мишки не было, умер три года назад. Мать работала и воспитывала троих детей. А Петька у родителей единственный сын. У него была даже отдельная комната, заполненная всякими игрушками. От Мишкиного же детства остался лишь один облезлый плюшевый медвежонок.
— Думаешь, я загибаю? — глядя на приятеля, горячо воскликнул Петька.
— Бывают у тебя разные фантазии. Сразу не поверишь…
— Фантазии? Можешь считать велосипед своим, можешь забрать все мои удочки и запасные крючки. Я уезжаю навсегда!
— Ври! Куда ты можешь уехать!
— В Суворовское училище, вот куда! Понял?
Мишка часто заморгал глазами и тихо спросил:
— Это правда?
— Не веришь? Пойдем к нам, и я тебе покажу все свои форменные бумаги. Сегодня папа привез. Скоро я отсюда уеду, — проговорил Пыжик и вздохнул.
Последние слова он сказал с такой грустью, что не поверить было нельзя.
— А мать тоже отпускает? — в раздумье спросил Мишка.
Петя пожал худыми плечиками и, разминая пальцами в кармане бушлатика хлебные крошки, солидно ответил.
— При чем тут мать? Разве в военном деле она что-нибудь понимает? Вот папа — это да! А мама только поплакивает, целует и говорит, что я самый необыкновенный и самый трудный ребенок на всем белом свете.
— Трудный? Почему трудный? — спросил Мишка.
— Я и сам не знаю… Мама так говорит. А необыкновенный, — это значит умнее, лучше других. Она написала мне речь, которую я должен на прощание сказать в классе. Но папа прочитал и разорвал, поругал маму, что она делает из меня бюрократа. Папа говорит, что в училище из меня это вытряхнут, сделают молодцом.
— Нет, Пыжик, ты парень ничего! — вздохнув, сказал Мишка. — Вот как наденешь военную фуражку да ремень с бляхой — картина! А я, как только закончу семилетку, поступлю в педучилище, учителем стану. Мама говорит, что я терпеливый, сестренкам помогаю. Но мне тоже военным быть хочется!
Мишка почесал затылок и, снова глубоко вздохнув, спросил:
— А когда уедешь, писать будешь?
— Конечно буду! Могу, чем хочешь, поклясться. — Восторженные клятвы Петя любил и не мог упустить такого подходящего случая. Хочешь?
— Хочу. Да я и так тебе верю.
— Давай лучше поклянемся в вечной дружбе — поедим земли маленько да вдобавок хлебных крошек. У меня тут есть в кармашке.
— Землю есть — ерунда, крошки тоже. Мы не маленькие! Лучше обнимемся, как солдаты на фронте, дадим честное слово быть настоящими друзьями навсегда, навечно.
Ребята обнялись.
Во дворе сгущалась темнота. На город надвигалась осенняя ночь.
Через два дня военный врач Алексей Иванович Пыжиков увез своего девятилетнего Петю в Суворовское училище, а Миша Ромашков остался в родном городе.
Так на много лет разошлись их мальчишечьи дороги.
Глава вторая
Первое время Петя писал то восторженные, то грустные письма. В ответах Миша подбадривал друга и, как умел, давал товарищеские советы. Суворовец приезжал на каникулы, но встречались они теперь редко. Летом Петя жил с родителями на даче, а Миша — у бабушки в деревне. Чувствовалось, что дружба затухала, иногда переписка между ребятами прерывалась на долгие месяцы. И вдруг Ромашков получил от Пети длиннущее письмо, набросанное небрежным размашистым почерком. «Здравствуй, Мишуха! Не знаю, почему я не ответил тебе на твое последнее письмо. Наверное, была очередная хандришка. Сейчас оно случайно попалось мне на глаза, и я вспомнил наше детство, наши милые и глупенькие мечтания. Загрустил, вот и решил черкнуть тебе. Вспомнил, как ты провожал меня в последний раз и с завистью смотрел на мою чистенькую форму. Да, живу я здесь неплохо. Одет отлично, кормят, как в санатории. Водятся и деньжата. Иногда батька подбрасывает. Он у меня добрейший и умный — научные труды сочиняет. А о мамаше и говорить нечего. Сам знаешь, она у меня ангел-хранитель. Уедет, смотришь недельки через две опять сюда летит. Только надоело, что до сих пор она считает меня маленьким. Больше сотни не дает. А на самом-то деле мы уже взрослые парни, нам уже скоро восемнадцать. Иногда хочется с какой-нибудь красоткой в кино сходить, душу излить где-нибудь в уютном уголочке. А тут тебя оберегают и согревают со всех сторон. Но у нас железное товарищество и солидарность — разработана целая система взаимной выручки, поймать нас почти невозможно». Миша бросил на стол письмо, задумался. — Скверные у тебя дела, Петька, — проговорил он вслух и стал читать дальше. «Недавно был такой случай. Один офицер-воспитатель каким-то образом раскусил наши проделки и виновников строго наказал. Ты можешь вообразить…» Прочитав все до конца, Ромашков почувствовал, как гадко стало у него на душе. Он порывисто скомкал письмо и зажал его в кулаке. Он уже заканчивал десятый класс и готовился к последним экзаменам. Склонив голову, Миша долго сидел за столом и думал. В этот день он писал сочинение на тему: «Образ молодого человека в советской литературе». Перед глазами, будто живые, стояли Павка Корчагин, Олег Кошевой, Лиза Чайкина. Тяжко и больно было читать письмо друга, еще тяжелее было отвечать. Целых три дня не мог Миша начать этот ответ. «Петр Пыжиков, удивил ты меня, — писал ему Михаил. — Как тебе не стыдно, что ты бахвалишься? Да никакое это не товарищество, а мерзкая круговая порука, которая помогает вам скрывать плохие поступки. Это не система помощи и взаимной выручки, а система защиты лентяев, бездельников, нарушителей дисциплины. Я думаю, что у вас таких «героев» немного. Как же ты попал в их компанию? Может быть, ты что-нибудь присочинил, прихвастнул? За тобой это водилось и раньше. Я вспоминаю нашу клятву на красивую, настоящую дружбу, и мне больно, что мой друг не понимает теперь большого значения этого слова! Подумай над тем, что я сказал тебе, и отвечай побыстрее. Михаил». Но Петр Пыжиков не ответил.Глава третья
…Углубленный в свои воспоминания, капитан Ромашков сидел в номере Приморской гостиницы, в мягком кресле, и перелистывал объемистый альбом. Вот он десятиклассник, в коричневой рубашке с молнией, а вот курсант пограничного училища, в новенькой, с иголочки форме. Вот он стоит около собачьей упряжки с шестом в руках, в мохнатых оленьих унтах, в полушубке, а кругом белые тяжелые снега, за высокими сугробами видна лишь крыша заставы, а над трубой чуть заметно вьется дымок. Сегодня, вручив медаль «За отличие в охране государственных границ СССР», пожимая руку, генерал спросил: — Где бы вам теперь хотелось послужить, капитан Ромашков? — Где прикажут, товарищ генерал! — Михаил пожал плечами и улыбнулся. — Тоже верно. А как себя чувствуете после Курил? — Курилы хоть и не курорт, но на здоровье пока не жалуюсь. — Вижу, — рассмеялся генерал. Садитесь. А есть люди, вот такие молодые, здоровые, но жалуются, длинные рапорты пишут… Ветер надоел, камни, вода, снег, дождь… Как будто готовятся не границу охранять, а лежать на печке. Мы понимаем, что трудно, поэтому и стараемся выяснить, где человеку хочется послужить. А по-моему, где трудней, там и почетней. Вы женаты? — Никак нет. — Двадцать пять уже стукнуло? — Так точно. — Отвечайте проще. Вот когда на заставу приеду, там козыряйте. Сегодня и у вас праздник и у меня. Приятнее награду давать, чем наказывать. Пора подумать о женитьбе, пора, да и детишек надо… Вот вспоминаю, собираешься границу проверять, а сын за штанину. Кричит, да так настойчиво — бери с собой и точка. Разве плохо? — Не плохо. Но пока еще… — Что? Девушку не присмотрели? Не верю! — Генерал улыбнулся, тряхнул нависшими бровями и погрозил пальцем. — Девушка есть, — смущенно согласился Ромашков. — Так в чем же дело? — Мало еще знаем друг друга. Переписывались, а встречались редко. Она учится. Мне тоже хотелось бы поучиться, если разрешит командование. — Я думал об этом. В академию хотите? — Да. Но нужно основательно подготовиться. Кое-что уже позабыл. — Ничего. Сейчас у вас уже есть опыт, так что старайтесь лучше организовать работу со своими заместителями. Вот и найдете время почитать учебники, вспомнить забытое. Решено послать вас к теплому морю, там и солнышко, и воздух другой, и девушки в пестреньких сарафанчиках… Только смотрите, голову не потеряйте, а то и студентку свою забудете. Михаил вспомнил, что у него сегодня два свидания — одно с Наташей. О чем говорить? Как держать себя? Переписывались три года, а виделись два раза и то накоротке. Последние ее письма были какие-то рассудочные. Дважды она собиралась приехать к нему в летние каникулы, и вот приехала только теперь. Другое свидание было назначено с другом юности. Подходя сегодня в управлении округа к дверям отдела кадров, Михаил столкнулся со старшим лейтенантом и от удивления застыл на месте. Высокий офицер с бледным продолговатым лицом, в потертом кителе, рассеянно взглянув, козырнул и хотел посторониться. Но Михаил, взмахнув руками, загородил ему дорогу. — Петька! — обрадованно крикнул он, обхватив плечи старшего лейтенанта. — Неужели ты? Молчун! — словно не веря своим глазам, с дрожью в голосе заговорил Петр. — Я, Петя, я! Никакой ошибки. А ты чертушка! Ну какая, брат, встреча! — во всю силу обнимая товарища, выкрикивал Ромашков. — Ты, медведь, полегче, кости сломаешь, — закряхтел Петр. — У тебя и руки-то, как железные. — От радости! От больших чувств, друг мой! — Вот уж не думал, что станешь военным, да еще пограничником, — когда улеглось возбуждение от неожиданной встречи, сказал Петр. — Гляди-ка! Капитан, и медаль успел получить. — Завидуешь? — Ну, что ты! Рад за тебя. Был дома, заходил к вам на квартиру, но никого не застал. Мама твоя в деревне гостила. — Да все уже там изменилось. Маша теперь агрономом в колхозе работает, замужем. Мать внука нянчит, души в нем не чает. Ну, а ты как? Рассказывай! — Да, что говорить! Биография пока еще очень коротенькая. После училища служил заместителем начальника заставы, — скупо и нехотя говорил Пыжиков. — Сейчас-то откуда? — допытывался Михаил, чувствуя, что дружок его многое недоговаривает. — Был на учебном пункте и тоже замом. Так случилось, что решил демобилизоваться, а мне вдруг взяли да и отказали. — Вот как! — удивился Ромашков. — Да, именно так. — Ты, я вижу, чем-то недоволен. — Всем. Понял, что все это не по мне. — Да-а-а, — протянул Михаил. — У тебя, брат, какая-то сумятица в голове. — Никакой сумятицы. Все логично и естественно, — сказал Петр, но, вспомнив последнее письмо друга, вспыхнул и замолчал. Потом, подумав, добавил: — У меня одно желание — уйти из армии. — Ну, а дальше? — Буду учиться. В институт поступлю. Мне ведь только двадцать три года, и я хочу быть ученым, а не… — Что же получается? Окончил военное училище и впустую? Ты, Петр, коммунист? — Комсомолец. А ты? — Уже два года в партии. — Хорошо, что мы встретились. Ты свободен вечером? — спросил Петр. — Найду время. Приходи в гостиницу, обо всем потолкуем. — Приду непременно. Михаил дал свой адрес, и они расстались. В гостинице вечером он поджидал своего друга. …Петр, придерживаясь за гладкие перила, медленно поднимался по лестнице. На втором этаже он остановился и перевел дух. Пыжиков хотел этой встречи и в то же время боялся ее. Знал, что разговор для него будет нелегким. Зажатый под мышкой сверток с бутылкой вина, казалось, давил на сердце и заставлял его учащенно биться. Зачем вино-то купил? Затуманить мозги и облегчить трудное объяснение? Биография-то короткая, а жизнь-то шла зигзагами да с ущербинами. В Суворовском училище проказничал, грубил воспитателям, придерживался глупого принципа «свободного» товарищества. Один раз с шоферами водки напился, за что был строго наказан. Вот так и дожился, что решил уйти из армии. Все, о чем думал Петр, поднимаясь по лестнице, он рассказал Михаилу. И много услышал от него жестоких слов. Ромашков ругал его откровенно и беспощадно. …В небольшой комнате на пустой бутылке и стаканах то вспыхивал, то угасал последний луч солнца. Горячий разговор друзей начинал остывать. Петр, слушая Ромашкова, почти беспрерывно курил. Михаил подошел к окну и открыл его настежь. — Ты поменьше кури! — отойдя от окна, попросил Ромашков.
— От твоих слов не только закуришь, горстями начнешь махорку жевать, — с грустной усмешкой ответил Пыжиков.
— Говорю то, что думаю. Такой уж у меня характер.
Петр, склонившись к столу, смял над пепельницей папироску и, подняв голову, тихо спросил:
— По-твоему выходит, что я уже нравственный урод?
— Нет. Это гораздо сложнее, чем ты думаешь. Даже и не в том дело, что ты пил с шоферами водку, нарушал дисциплину. Конечно, это похуже, чем горстями махорку жевать. Можно пожевать ее и выплюнуть. Беда в том, что ты эту жвачку во рту держишь. Говоришь, что ты совершил этот поступок сознательно: чтобы тебя уволили из армии, что тебе все надоело…
— И не скрываю этого. Сказал тебе, что решил стать ученым. Все делал сознательно.
— Дурацкая сознательность! — сердито проговорил Ромашков.
— Возможно, — пожал плечами Петр и, тряхнув головой, добавил: — Давай закажем еще одну бутылку. От твоих слов у меня в горле пересохло.
— Я пить не буду и тебе не советую.
Михаилу было искренне жаль Петра за то, что он бравирует своим ухарством, глупой откровенностью, гнет себя не в ту сторону.
Пыжиков сидел насупившись, одной рукою барабаня пальцами по столу.
Ромашков присел на диван и, взяв со стола журнал, стал перелистывать.
Оба почувствовали, что разговор не окончен. Но не знали, как начать его снова.
Михаил вспомнил, что ему надо идти встречать Наташу, и посмотрел на часы.
— А ты пошел бы ко мне заместителем? — вдруг спросил он Петра.
— Не знаю… Пожалуй, это зря, — растерянно ответил Петр.
— Выкинь ты эту жвачку и говори от чистого сердца! — с досадой в голосе сказал Михаил.
— А что мне говорить? Ведь и так все ясно. Тебе вдруг захотелось мной командовать, учить, воспитывать… Я сказал тебе, что не люблю власти над собой. Вот, например, я предложил купить еще вина, ты отказался. Значит, тоже живешь, как хочешь! В комнате я дыму напустил, ты сделал сейчас замечание. Вот видишь…
— А ты и сейчас туману напускаешь… петляешь, философствуешь, а до сути добраться не можешь или не хочешь.
— До какой сути?
— Душой кривишь, Петр, а это ни к чему.
Эти слова Ромашкова обожгли душу Петра. Он покачал склоненной головой, тихо сказал:
— А ты беспощадный. Помню твое последнее письмо, помню. Ты давно ждешь, чтобы я заговорил о нем.
— Жду, — твердо ответил Михаил.
— Понимаю. Я шел к тебе и на лестнице остановился. Не знал, что делать: вернуться или поговорить обо всем начистоту. Видишь, я пришел, не струсил…
— Вот и хорошо. Так оно и должно быть, — взволнованно сказал Ромашков.
На другой день капитан Ромашков снова побывал у генерала. Спустя три дня он вместе с Пыжиковым уехал на одну из пограничных застав.
— Ты поменьше кури! — отойдя от окна, попросил Ромашков.
— От твоих слов не только закуришь, горстями начнешь махорку жевать, — с грустной усмешкой ответил Пыжиков.
— Говорю то, что думаю. Такой уж у меня характер.
Петр, склонившись к столу, смял над пепельницей папироску и, подняв голову, тихо спросил:
— По-твоему выходит, что я уже нравственный урод?
— Нет. Это гораздо сложнее, чем ты думаешь. Даже и не в том дело, что ты пил с шоферами водку, нарушал дисциплину. Конечно, это похуже, чем горстями махорку жевать. Можно пожевать ее и выплюнуть. Беда в том, что ты эту жвачку во рту держишь. Говоришь, что ты совершил этот поступок сознательно: чтобы тебя уволили из армии, что тебе все надоело…
— И не скрываю этого. Сказал тебе, что решил стать ученым. Все делал сознательно.
— Дурацкая сознательность! — сердито проговорил Ромашков.
— Возможно, — пожал плечами Петр и, тряхнув головой, добавил: — Давай закажем еще одну бутылку. От твоих слов у меня в горле пересохло.
— Я пить не буду и тебе не советую.
Михаилу было искренне жаль Петра за то, что он бравирует своим ухарством, глупой откровенностью, гнет себя не в ту сторону.
Пыжиков сидел насупившись, одной рукою барабаня пальцами по столу.
Ромашков присел на диван и, взяв со стола журнал, стал перелистывать.
Оба почувствовали, что разговор не окончен. Но не знали, как начать его снова.
Михаил вспомнил, что ему надо идти встречать Наташу, и посмотрел на часы.
— А ты пошел бы ко мне заместителем? — вдруг спросил он Петра.
— Не знаю… Пожалуй, это зря, — растерянно ответил Петр.
— Выкинь ты эту жвачку и говори от чистого сердца! — с досадой в голосе сказал Михаил.
— А что мне говорить? Ведь и так все ясно. Тебе вдруг захотелось мной командовать, учить, воспитывать… Я сказал тебе, что не люблю власти над собой. Вот, например, я предложил купить еще вина, ты отказался. Значит, тоже живешь, как хочешь! В комнате я дыму напустил, ты сделал сейчас замечание. Вот видишь…
— А ты и сейчас туману напускаешь… петляешь, философствуешь, а до сути добраться не можешь или не хочешь.
— До какой сути?
— Душой кривишь, Петр, а это ни к чему.
Эти слова Ромашкова обожгли душу Петра. Он покачал склоненной головой, тихо сказал:
— А ты беспощадный. Помню твое последнее письмо, помню. Ты давно ждешь, чтобы я заговорил о нем.
— Жду, — твердо ответил Михаил.
— Понимаю. Я шел к тебе и на лестнице остановился. Не знал, что делать: вернуться или поговорить обо всем начистоту. Видишь, я пришел, не струсил…
— Вот и хорошо. Так оно и должно быть, — взволнованно сказал Ромашков.
На другой день капитан Ромашков снова побывал у генерала. Спустя три дня он вместе с Пыжиковым уехал на одну из пограничных застав.
Глава четвертая
На пограничную заставу капитан Ромашков и старший лейтенант Пыжиков прибыли на грузовике отрядного киномеханика. Спрыгнув с кузова, Михаил размял занемевшие ноги, расстегнул офицерский ремень, отряхнул запылившуюся гимнастерку, снова подпоясался и посмотрел на ручные часы. Стрелки показывали девять часов утра. На заставе это было самое тихое время, когда вернувшиеся с охраны границы солдаты, плотно позавтракав, крепко спали. Отдыхал и капитан Земцов, у которого Ромашкову предстояло принимать заставу. Предъявив рослому светловолосому сержанту — дежурному заставы — служебное предписание, Ромашков вернулся к машине и помог Петру снять чемоданы. — Комнаты вам и старшему лейтенанту приготовлены, — доложил сержант Батурин. — Разрешите показать? — Спасибо. Успеем, — ответил Ромашков. — Может, побудить капитана? — Не нужно, пусть отдыхает, — возразил Ромашков. Пыжиков, попросив у сержанта щетку, с мрачной рассеянностью чистил сапоги. Он все еще злился на Михаила. Минут сорок назад, когда они проезжали мимо рыбозавода, Петр заметил купающуюся возле пирса девушку в голубой шапочке и, не видя ее лица, почему-то решил, что она очень миленькая. В этом захолустье, каким он считал отдаленную заставу, встреча с такой стройной купальщицей была неожиданной и немножко романтичной. Заметил девушку и капитан Ромашков. Оба пристально наблюдали из кузова машины, как она, вскидывая загорелые руки, помахала им ладошкой, заплывая все дальше и дальше. На легкой волне мелькала ее голубая резиновая шапочка, потом слилась с синеватой далью. — Гляди, какая смелая! — сказал Петр, когда за крутым выступом береговой скалы исчезла бухта. — Просто глупенькая, — усмехнулся Михаил. — Почему? — сердито спросил Петр. — От большого ума на два километра от берега в одиночестве в пограничной зоне не плавают. — Значит, живет не по инструкции? А я и забыл, что такие люди тебе не по душе, — иронически сказал Петр. — А вот нам обоим все же придется жить по инструкции. Не хочешь, а придется, — глядя на Пыжикова в упор, проговорил Михаил. Петр ничего не ответил, чувствуя, что нелегко ему будет ладить с крутоватым характером друга. За эти годы Ромашков изменился до неузнаваемости. Его суждения о людях, как казалось Пыжикову, были слишком резкими и грубовато прямыми. Студентке мединститута, ехавшей с ними в одном купе, когда она рассказала, что после пребывания в анатомичке у нее появляется тошнота и кружится голова, он посоветовал бросить институт. — А что же мне делать? — спросила студентка растерянно. — Поступайте в маникюрши. Очень занятная профессия, — косясь на ее ярко выкрашенные ноготки, сказал Михаил. Хорошенькая, веселая спутница защелкнула на чемодане застежки и тут же перешла в соседнее купе. Когда же уезжали из комендатуры, Михаил наотрез отказался сесть в кабину и забрался в кузов грузовика. Пришлось туда лезть и Петру. Солдат-киномеханик ехал рядом с шофером, на мягком сиденье, а они, офицеры, шестьдесят километров тряслись у бортов машины да еще придерживали киноаппарат. «К чему все эти выходки?» — с сердцем думал сейчас Петр, до блеска полируя щеткой свои новые сапоги. А капитан Ромашков в это время со скрытым волнением рассматривал заставу. В углу двора виднелась недостроенная баня, возле которой лежали кучи камня, битый кирпич и торчали выпачканные в известке ручки деревянных тачек. Тут же неподалеку солдат в длинной, без ремня, выгоревшей гимнастерке поил из брезентового ведра высокую белоногую лошадь. Чуть подальше плотная женщина в цветном стареньком сарафанчике развешивала на протянутой вдоль забора веревке солдатское белье. Часто поворачивая повязанную синим платком голову, она искоса посматривала на прибывших офицеров и поправляла сползавший с плеча сарафанчик. — Это кто? — спросил Ромашков у сержанта. — Наша прачка, товарищ капитан. Тетка Ефимья, — ответил сержант и ухмыльнулся. — Вот как живете? — заметив его ухмылку, проговорил Ромашков. На Курильских островах, где он был начальником заставы, пограничники находились на полном самообслуживании. — Живем, товарищ капитан, не плохо, — ответил Батурин. — Что-то вы, сержант, все время улыбаетесь. — Просто так… Над теткой Ефимьей. — Не понимаю. — У нас тут история случилась… — Что за история? — Вы уж лучше младшего сержанта Нестерова спросите который коня поит. — Батурин не выдержал и рассмеялся. — А тетка Ефимья у нас недавно… второй месяц. Ребята наши прозвали ее вторым старшиной. — Командовать любит? — спросил Ромашков и тоже улыбнулся. — Так точно. Подтягивает. А вообще тетка хорошая, добрая. Мы ее уважаем, вот только Нестеров… Короче говоря, сами узнаете. — Что у вас сегодня по расписанию? — спросил Ромашков. — В пятнадцать ноль-ноль зачетная стрельба, а потом кинокартина. — Часто показывают фильмы? — Летом раз в неделю. Осенью и зимой реже. Хотя зимы тут почти не бывает, просто длинная осень с дождями. Через перевал к нам добираться трудно: машины юзом ползут. — По всему видно, что дыра здесь порядочная, — сказал Пыжиков, слышавший последние слова сержанта. Взглянув на помрачневшего Ромашкова, он внутренне приготовился к отпору, но Михаил промолчал и, повернувшись, направился к солдату, поившему лошадь. Петр пошел было за ним вслед, однако, оглянувшись на чемоданы, крикнул: — Погоди! Надо же вещи отнести и жилье посмотреть? — А зачем? — Михаил остановился. — А может быть, назад вернемся? — Ну, хватит чудить-то, — пробормотал Петр. — Здесь же дыра, — не унимался Ромашков. — Будем ездить до тех пор, пока не выберем место покурортней. — Ну, до чего же ты злой! — сказал Петр в раздумье. Постояв несколько секунд, он вернулся к чемоданам и нехотя взялся за ручки. — Разрешите помочь, товарищ старший лейтенант? — спросил Батурин. — Позови солдата. Пусть он отнесет их в комнату, — приказал Пыжиков и нехотя зашагал к Ромашкову. Михаил уже был у колодца и разговаривал с поившим лошадь пограничником. — Значит, вы младший сержант? — спрашивал Ромашков. — Так точно, товарищ капитан, младший сержант Нестеров, — ответил он густым сочным баском. — А что же у вас вид такой? — Ромашков пристально посмотрел на его розовое в веснушках лицо, нежное и даже немного застенчивое. Нестеров, переминаясь с ноги на ногу, оглядел забрызганные водой брюки, неловко стряхнул с колен сырые кусочки отрубей, блеснув на капитана чистотой голубых глаз, и пожал плечами. — Однако коней убираю, товарищ капитан, — проговорил он протяжным северным говорком. — Наказаны? — догадался Ромашков. — Так точно. — Давно служите? — Второй год. Конь уже напился, приподняв голову, нетерпеливо потянул повод. Ярко начищенные кольца недоуздка, роняя на землю дрожащие капли воды, четко звякнули. — Стоять, дурачок! — ласково крикнул Нестеров и слегка дернул за повод. Белоногий встряхнул головой, громко фыркнул, обдав офицеров влажной пылью. — И много у вас было взысканий? — вмешался в разговор Пыжиков. — Были, — снова пожимая плечами, ответил Нестеров. — Сколько? — допытывался Петр. — Не помню… В карточке все точно отмечено, — ответил младший сержант. Весь его облик говорил о том, что вопросы ему неприятны и отвечать на них нет никакой охоты. — А сейчас за что наказаны? — настойчиво расспрашивал Пыжиков. — Это мы можем узнать в канцелярии, — сказал Ромашков. — Разрешите, товарищ капитан, обратиться? — спросил Нестеров. — Говорите. — Если не ошибаюсь, вы будете новый начальник заставы? — Вы не ошиблись, — ответил Ромашков. — А это мой заместитель, — показав на старшего лейтенанта, добавил Михаил. — Слушаюсь, — как-то невпопад ответил Нестеров и хмуро опустил голову. Лицо его еще больше порозовело, смятая пирожком пилотка съехала к большому изуродованному уху, мочка которого была похожа на крохотный сморщенный грибок, подвешенный шляпкой вниз. — Вы же все-таки сержант, — нарочно выпустив слово «младший», многозначительно проговорил Ромашков. — Капитан Земцов обещал разжаловать, — глубоко втягивая воздух, сказал Нестеров. — Далеко зашло, — покачал головой Михаил. — Что же вы такое совершили? — Рапорт подал. — О чем вы писали рапорт? — По личному вопросу обращался, — с трудом выговаривая слова, отвечал Нестеров. — Насчет этого самого… — А ты посмелее, сержант, откровенно говори, — непроизвольно переходя на «ты», подбодрил его Ромашков. Он чувствовал, что у сержанта на душе тревожно. — Да, уж скажу начистоту. На счет расписки обращался… — Какой расписки? — Стало быть, обыкновенной. Просил разрешения в загс сходить. — То есть, как это в загс? — удивленно спросил Михаил. — Вот это развеселил! — воскликнул Пыжиков. — Значит, задумал жениться? — Так точно, товарищ старший лейтенант, — сгребая ладонью выступившие на лбу капельки пота и поглядывая на изменившиеся лица офицеров, облегченно ответил Нестеров. Офицеры молча переглянулись. Старший лейтенант, стараясь сдержать приступ смеха, отвернулся, нагнувшись, взял лежавший у ног кусок щебня и отбросил его к забору, где колыхалось подвешенное на веревке белье. Капитан Ромашков, пряча улыбку в строго поджатых губах, с нарастающим интересом смотрел на Нестерова. «Так вот она «история с прачкой», — вспомнив ухмылку дежурного, подумал Михаил. Нестеров, помаргивая светлыми ресницами, безостановочно вертел в покрасневших от солнца руках конец ременногоповода, глядя куда-то в сторону. За забором в кустарнике щебетали птички. Над пограничной вышкой кружился орел. Казалось, что в этой сонной утренней тишине можно услышать шум его крыльев. Но сейчас было слышно, как белоногий конь, пережевывая травянистую пену, позванивая колечками, словно свадебными бубенцами, мерно дышит, щекоча теплой губой солдатский затылок. — Значит, решил вступить в законный брак? — Ромашков не мог скрыть озадаченной улыбки, потянул пальцами козырек фуражки и наклонил голову. — Так точно, товарищ капитан, приходится, — убежденно и решительно ответил Нестеров. — Как это приходится? Тебе еще служить больше года, — сказал Михаил, чувствуя, что своим упрямым и настойчивым взглядом солдат ставит его в тупик. За внешним смущением и подкупающей застенчивостью скрывалась твердая сила воли, сломить которую было не так-то легко. — Я понимаю, что не положено, — пошевеливая белесыми бровями, продолжал Нестеров. — Все, товарищ капитан, понимаю. А оно выходит так, что тут моя судьба… — Да он просто голову морочит! — Ладно. Погоди! — движением руки Михаил остановил Пыжикова и, обращаясь к Нестерову, спросил: — Что вам ответил капитан Земцов? — Товарищ капитан Земцов взыскание дал… Потому что я самовольно за забор вышел, тут неподалеку. — На свидание, что ли? — снова вмешался Пыжиков. — Так точно. Я просился два слова сказать, а капитан не отпустил. — Можно было и здесь сказать, — посоветовал Ромашков, неприязненно думая о крепконогой прачке, которая издалека показалась ему старше сержанта лет на двадцать. — Разве она сюда пойдет? Что вы, товарищ капитан! — поднимая на Ромашкова удивленные голубые глаза, проговорил Нестеров. — А где она живет? — спросил Петр. — На рыбозаводе. Пекарем работает, — ответил Нестеров. «Значит, совсем не то, — подумал Михаил. — Черт знает, какая ерунда получилась». — Надо же ей объяснить, — сказал он Нестерову, что до окончания службы вам жениться не полагается. — Сто раз объяснял, товарищ капитан! Да разве втолкуешь? Не могу ждать — и все. У нее свой резон. Нестеров глубоко вздохнул. Потрогав ладонью изуродованную мочку уха, он снял пилотку и вытер упругий, похожий на пятку подбородок, который сильно выдавался вперед и подчеркивал упрямый характер северянина. А светлые, с голубинкой глаза излучали скрытое в них лукавство и самобытный, по-мужицки расчетливый ум. — Какой же у нее резон? — спросил Пыжиков. — Почему она так торопится? — Да как вам объяснить? — вздохнул Нестеров. Дело тут такое, что не может она ждать целый год, вот и все. — Если любит, так подождет, — назидательно проговорил Петр. — Это все верно, конечно… Каждый человек любит свой мотив и поет, что ему нравится. — А может, она того… Ну? — Подыскивая подходящее слово, Пыжиков щелкнул концами пальцев. — Может, у вас уже… — Думаете ребенок? — перебил его Нестеров. — Нет, товарищ старший лейтенант, промеж нами ничего такого не было. Этого она не позволяет. Тут пытались некоторые хлюсты из рыбаков, да и из наших тоже. В этом деле, — Нестеров довольно улыбнулся, — она занимает пока круговую оборону… Но я понимаю, ей тоже трудновато приходится. Есть у них на заводе рыбак Брошка, бравый такой, форсун несусветный, он все время к ней ломится и на счет женитьбы сеть закидывает. Заработок у него две тыщи в месяц, да и она кое-что для свадьбы припасла. А тут и другие не прочь пришвартоваться, потому что девчат на рыбозаводе всего только две: Надежда моя и Настя, которая в зеленых штанах ходит, погоду наблюдает в своей будке и градусы в море высчитывает. Их значит две, а ухажеров — полроты. Наши киномеханики, что с вами приехали, ездят туда картину крутить и тоже не прочь заморочить голову. Офицер тут один из ПВО тоже цветочки приносит. Попробуй, утерпи… Никакая оборона не удержит. Вот она и торопит меня. А я, скажем прямо, не какой-нибудь писаный красавец, чтобы больше года еще ждать. А она такая девка, что кого хошь раскипятить может. Глядишь, томится, томится, да и сама вспыхнет, и аминь мне тогда… А я желаю расписаться и к матери моей в деревню ее отправить, вот и все. На лице Нестерова остановилась и замерла мрачноватая улыбка. Он глядел на капитана Ромашкова синеватыми, как небо, глазами и ждал ответа на свой житейский вопрос.Глава пятая
За годы службы капитану Ромашкову случалось наблюдать всякое: были и самовольные отлучки, и любовные истории, и выпивки, которые иногда печально заканчивались — в трибунале. Встречались парни, отсталые, малограмотные, выросшие в годы войны в полубеспризорном состоянии, нередко без отцов и матерей. Отцы дрались на фронтах, а матери работали, делали пушки и снаряды, выращивали хлеб и махорку. Нелегко многим детям было и в послевоенные годы. В школе и рабочих коллективах старались привить им навыки дисциплины и трудолюбия, но не всегда это удавалось. А здесь, на границе, каждого прибывшего парня, какой бы ни был у него груз в прошлом и какой бы характер он не имел, надо было сделать солдатом, да и не просто солдатом, а пограничником, которому оказывается исключительно большое доверие, поручается настоящее государственное дело. Ромашков на опыте знал, что с каждым молодым солдатом надо было работать много и долго, отдавать душу и сердце, как отдавали ему, Ромашкову, офицеры, с которыми он встретился сначала в военкомате, потом на учебном пункте, в школе сержантского состава и, наконец, на границе. Капитан шел своим и тоже нелегким путем. А вот каким путем идет младший сержант Нестеров? Все это надо изучить, осмыслить и сделать правильные выводы. — У вас, товарищ Нестеров, есть отец? — после напряженного раздумья спросил Ромашков. — Никак нет, товарищ капитан Погиб на фронте. — У меня тоже отца нет, — сказал Михаил. И, помолчав, добавил: — А все же на счет женитьбы не торопись, подумаем. — И так, товарищ капитан, каждый час думаю. — А когда на границе, тоже о ней думаешь? — Бывает, — сумрачно ответил Нестеров, начиная понимать, что этот молодой широкобровый капитан добирается до самых корней его души. — Ну, предположим, товарищ Нестеров, что тебе командование разрешит жениться, затем это же сделать захочет другой, третий… Что же это за пограничники будут? Нестеров потер ладонью лоб, но ничего не ответил. Его веснушчатую, порозовевшую щеку беспощадно жгло южное солнце. Полусонно и тяжко вздыхал присмиревший конь, изредка и вяло помахивая коротким хвостом. — Рапорт, товарищ Нестеров, мы, конечно, рассмотрим, поговорим по душам и решим, как тут быть. А сейчас расскажите, что за история произошла у вас с прачкой Ефимьей? Нестеров оживился: — Уж и это успели наплести? Не знаю как, товарищ капитан, но случай такой вышел. Опять же мне за него влетело… — А что за случай? — Это длинная история. Разрешите отпустить коня? — Отпустите. Он и без вас дорогу найдет. Нестеров замотал вокруг конской шеи повод и ласково потрепал белоногого за гриву. Конь, почувствовав свободу, повернулся и рысью побежал в конюшню. — Я, товарищ капитан, очень коней люблю, — с улыбкой посматривая вслед белоногому, проговорил Нестеров. — Мне было годов восемь или девять, повадился я на конюшню. Там жеребенок был со звездочкой на лбу, гнеденький, шустренький такой. Полюбили мы друг дружку. Как бывало появлюсь, он бежит ко мне и губами за ухо. Привадил я его, сахар на плечо клал. Один раз так цапнул, все ухо отжевал. Вот видите, какой пирожок остался. Срамота одна. А с теткой Ефимьей получилось так: ездили мы с Максимовым, шофером, на комендатуру за матрацами. Ну, конечно, получили и назад покатили. Стали подниматься на перевал. Вижу: впереди какая-то тетка козленка на веревочке ведет. Посторонилась на обочину — стоит усталая, заморенная. Кругом жарища, духота. Жалко мне ее стало. Говорю шоферу: «Давай подвезем эту тетку с козленком». Он, конечно, согласился. Притормозили. Открываю дверку, кричу: «Садись, тетка, подвезем до рыбного завода!» — «Ах, миленькие мои, родненькие» — засуетилась она. — «Дай-то вам бог доброго здоровья и невест хороших. Мне как раз туда и нужно. Я там с племянницей живу. Козочку вот купила…» Посмотрел я из кабинки в заднее стекло, вижу: уселась, пристроилась тетка хорошо. Говорю шоферу: «Трогай». Поехали, конешно, газанул. Дорожка пошла добрая, каменистая. А ездит Максимов, — сейчас он на легковой начальника отряда возит, — ездит будьте уверены. Дал километров на семьдесят… Чую, тетка наша вдруг вроде завизжала и кулаками по кабине начала барабанить. Говорю: «Тормози, Максимов. Наверное, нашу пассажирку растрясло, может, помощь какую оказать нужно». Остановились. Опять же открываю дверку, спрашиваю: «В чем дело, мамаша?» — «Сатана тебе мамаша, а не я, дьявол карнаухий!» И пошла и пошла! «Изверги, — кричит, — разбойники, что вы с козой-то моей сотворили! Полюбуйтесь, чертяки!» Вышли мы с Максимовым из кабины и ахнули. Вместо козленка на веревочке, почитай, одна голова болтается да шмоток козлятины, как мукой пылью обволоченный. Тетка голосит и нас такими словечками награждает, не дай боже! А вышло так: вместо того чтобы козленка в кузов сунуть, сама вперед влезла и на матрац плюхнулась от радости, веревку за железный крюк зацепила. Я вижу, что села, ну и тронулись… Давай ее успокаивать. Куда там! Ругается на чем свет стоит. Говорим ей: «Купим тебе другую козу, да еще козла в придачу». — «А на черта он мне нужен, ваш козел!» Кое-как уговорили, довезли до рыбозавода. Надо было все сразу же начальству доложить, а мы оттянули это дело. На другой день явилась она на заставу, все, конешно, рассказала. Нас, голубчиков, вызвали и крепенько проработали. А потом эта самая тетка Ефимья к нам прачкой устроилась. Помирились мы с ней. В гости как-то я к ней сходил, а там племянница, ну и познакомились. Вот от этого и пошла вся история.Глава шестая
Когда Нестеров ушел, Пыжиков сказал: — Клоун. К тому же упрямый и хитрый. — Торопишься с выводами, — возразил Ромашков. — А мне такие хитрые весельчаки нравятся. Они мерно шагали от колодца к казарме. В открытые окна, сквозь неплотно задернутые занавески виднелись железные кровати с высоко натянутыми сетками из белой марли. Солдаты в белых майках, раскинув руки, спали глубоким сном. «Хорошо придумано — ни комар, ни москит не укусит. Отдыхают, как ребятишки в зыбках», — мысленно одобрил Ромашков. Некоторые солдаты уже проснулись, свесив босые ноги, тихо переговаривались. Офицеры пошли мимо кухни. Запахло лавровым листом и жареным луком. Из окна выглянуло молодое румяное лицо повара и тут же скрылось. На ярко вычищенных кастрюлях поблескивал косой солнечный луч. От ветерка пузырился, дрожал на подоконнике марлевый полог. Вдоль стены, цепляясь за натянутую проволоку, густо рос дикий с зубчатыми листьями виноградник. Завиваясь усатыми концами, он лез под самую крышу. На заставе было тихо, солнечно. Только из темно-зеленого ущелья, похожего на огромную с отрубленным носом шаланду, временами, как из трубы, вылетал порывистый ветер, взъерошивал листву на береговых кустарниках и покрывал узорчатой рябью голубоватое, прозрачное в полукруглой бухте море. А дальше, за серыми громадами скал, над синей морской гладью проплывали высокие пухлые облака, освещенные горячим утренним солнцем. — Давай искупаемся, — предложил Петр. — Сначала надо плечи размять. — Ромашков пошевелил тугими, обтянутыми гимнастеркой плечами и направился к спортивной площадке, где на двух, недавно окоренных столбах трепыхалась слабо натянутая волейбольная сетка; тут же, рядом с волейбольной площадкой, стоял турник. Шлепнув ладонями, Ромашков ловко подпрыгнул и крутанул «солнце». — Вот это да! — восхищенно воскликнул выглянувший из окна повар. Капитан Ромашков снова поднял гибкое тело над металлической перекладиной и замер «свечкой» на вытянутых руках, потом, сделав еще несколько кругов, легко спрыгнул на землю. — А ну, Петр, вспомни-ка наши школьные «боевые» дела, когда мы еще до турника не доставали. Теперь, наверное, мастер, — медленно подняв руки и глубоко вдохнув чистый морской воздух, проговорил Ромашков. — К сожалению, это мне противопоказано, — смущенно ответил Петр. — Почему? — удивился Михаил. — Предплечье болит. Играл в волейбол и упал неудачно. Но турником и раньше не увлекался. — Напрасно, — с улыбкой сказал капитан. — Значит, волейболист? Отлично! Организуем команды и посоревнуемся. — Я не против. Они прошли к морю, разделись на изогнувшемся подковой щебенчатом пляже, выкупались и вернулись в казарму. Так начался их первый день на новом месте службы.Глава седьмая
После завтрака вместе с капитаном Земцовым, который только вернулся с соседней заставы, куда выезжал по срочным делам, и с приехавшим офицером комендатуры Рокотовым Ромашков и Пыжиков стали знакомиться с участком государственной границы — сначала по висевшей на стене схеме, а затем, подседлав коней, проехали по галечному, местами обрывистому и каменистому берегу моря. Позднее, выйдя в море на небольшом катере, осмотрели правый фланг, загроможденный высокими отвесными скалами. В конце участка сошли у сероватой, мрачной Орлиной скалы, вскарабкались по узкой ступенчатой тропке на крутизну и пешком возвратились на заставу. Долговязый, неутомимо подвижный, в белом с начищенными пуговицами кителе капитан Земцов торопился с передачей заставы. Коренастый, степенный майор Рокотов, туго перетянутый ремнями, с пистолетом на поясе, подолгу задерживался в каждом уголке, изредка делая спокойные критические замечания. — Тачки-то вместо зениток, что ли, поставили? — спрашивал он старшину Маслюкова, указывая на оставленные строителями и разбросанные около бани тачки, ящики, носилки, доски. — Приберем, товарищ майор. — У собак опять нет свежего мяса. Прикажу сварить ваши порции, товарищ старшина. — Сегодня забьем старую кобылу, как договорились, — оправдывался рассудительный и хозяйственный Маслюков. — А мы, по-моему, давно уже об этом договорились. Забыли? — тихим голосом говорил Рокотов. — Я сейчас дам указание. Разрешите? Получив разрешение, старшина отделился от группы, пошел на конюшню. Коней на заставе — вместе с молодняком — было одиннадцать голов, не считая старой гнедой кобылы, которая последние годы возила для бани и прачечной воду. Теперь же ее откормили на мясо, специально для питания собак. Старшина приказал Нестерову вывести кобылу в лес и там пристрелить. — Вывести могу, а стрелять не могу, — стоя посреди конюшни с метлой в руках, сказал Нестеров. — Боишься, что ли? — подзадорил старшина. — Никак нет… — А я приказываю! — повысил голос старшина. Но Нестеров даже не шелохнулся. Он уже успел подшить чистый подворотничок, как это заметил вошедший капитан Ромашков, почистить брюки и сапоги. Выглядел свежо и опрятно. Так же чисто и опрятно было во всей конюшне с аккуратно развешанными уздечками и седлами. Пол был подметен, утрамбован и полит водой. — Что за шум? — спросил появившийся капитан Земцов. Рокотов и Пыжиков остались во дворе. — Опять, товарищ капитан, Нестеров мудрит. Отказывается выполнять приказание, — доложил старшина. — В чем дело, товарищ Нестеров? — строго обратился к младшему сержанту Земцов. — Не могу я, товарищ капитан, стрелять эту гнедуху, вот и все, — хмуро поглядывая на Земцова, ответил Нестеров. — Почему? — Есть собашники. Пусть уже они сами. — Это же приказание! А если придется в человека стрелять? спросил капитан Земцов. — То дело другое. Я присягу принимал и всяких врагов уничтожать обязан. Враг есть враг, а гнедуха ничего для меня вредного не сделала. — Вот мудрец! — с усмешкой заметил старшина. — А мне все равно, кто я есть, — спокойно, но твердо ответил Нестеров. — Может, она жеребая, у ней все зубы сточены, я ее с рук хлебом кормил… — Вот странный человек! — воскликнул Земцов, не зная, как поступить в этом необычном случае. Акт приема и сдачи подписан еще не был. Земцов чувствовал, что ответственность за дисциплину пока лежит на нем и он должен принять какое-то решение. — Значит, отказываетесь? — спросил он резко. — Не могу. — Розовые щеки Нестерова дрогнули. Он выразительно посмотрел на нового начальника заставы. Ромашков понимал состояние сержанта, но не вмешивался. Ему хотелось знать, какое решение примет капитан Земцов. — Придется вас, товарищ Нестеров, строго наказать, — проговорил Земцов с желанием прекратить эту неприятную сцену. — Наказывайте, товарищ капитан, — глухо проговорил Нестеров. — Прекратите разговоры, младший сержант! А вам, товарищ Ромашков, советую поставить вопрос о переводе Нестерова на другую заставу. Он здесь не о службе думает, а о синеньких косыночках… Рассерженный Земцов повернулся и вышел из конюшни. Ромашков, задержавшись на минуту, укоряюще посмотрел на Нестерова. Оторопело постояв с минуту на одном месте, Нестеров швырнул в угол метлу и решительно вышел в станок. Где-то стукнулась о кормушку лошадиная скула, звякнули кольца, зашуршало сухое сено, протяжно всхрапнул конь, визгливо и озорно заржал разыгравшийся стригунок. — А ну, леший! Вот подойду, да как опояшу! — хрипло прикрикнул на него Нестеров.Глава восьмая
История с младшим сержантом Нестеровым, с его курьезным намерением жениться до окончания срока службы, и происшествие со старой гнедой кобылой для молодых офицеров были поучительны. — Давно у вас служит Нестеров? — догнав Земцова, спросил Ромашков. — Около трех месяцев. Он уже успел переменить несколько мест, а приятель его, рядовой Баландин, сумел побывать и послужить на семи заставах. Познакомитесь с их служебными карточками — увидите, что они вытворяли. — А именно? — Самовольные отлучки — раз, выпивки — два, пререкания — три. Нестеров, когда прибыл к нам, показался мне хорошим, дисциплинированным парнем: взял на себя ответственность воспитывать разболтанного Баландина. Буду справедливым, первое время он на него жал крепко, а потом сам попал под его дурное влияние. Как-то возвращались они с границы, зашли на заводе в хату, познакомились с племянницей нашей прачки. Тут еще произошла эта дурацкая история с козой. Вам не рассказывали? — Слышал, — улыбнулся Ромашков. — А дальше пошло! Парень завел подружку, задумал жениться, начал бегать туда при всяком удобном случае, да и она стала сюда похаживать. Вижу однажды: за забором стоит и в дырочку подглядывает. А через несколько минут и он туда шмыгнул. Вот так и началась вся эта ерунда. — И давно началась? — Месяца полтора. А теперь рапорт подал, чудак! Решил сочетаться законным браком. — А вы с ней беседовали? — спросил Ромашков. — Пробовал… — Ну и что? — Ничего из этого не вышло. Надерзила и все. Пустая, смазливенькая, вертлявая девчонка, закрутила голову. Отослать его надо — и все пройдет. — Наверно, никуда я его отсылать не буду, — подумав, сказал Ромашков. — Это уже ваше дело. Офицеры укоротили шаг и неловко замолчали. Каждый думал о своем: один уезжал, другой только что прибыл. В казарме проснулись солдаты. Где-то лязгал рукомойник, из столовой доносился дробный стук ложек и мисок. Облокотившись на подоконник, повар покуривал из коротенького мундштука сигаретку. За стеной дежурный крутил телефонный аппарат. Совсем близко запиликала гармошка. Вдруг в ущелье раздался выстрел. Эхо прогрохотало по взгорью протяжно и гулко. Повар застыл на подоконнике с дымящейся сигареткой. Офицеры остановились. Из казармы выскочил дежурный. Смолкла гармошка. Дежурный побежал было на звук выстрела, но начальник заставы остановил его. Повернувшись, офицеры пошли по направлению к вольеру. Но там было все спокойно и тихо. Только кустарники, словно встревоженные неожиданным выстрелом, мелко дрожали, царапая концами веток белую кирпичную стену конюшни. Ромашков и Земцов взглянули в распахнутые настежь двери. В это время из-за угла вывернулся младший сержант Нестеров с карабином в руках. Увидев офицеров, он резко остановился и неловко опустил карабин к ноге. — Это вы? — спросил капитан Земцов.
— Так точно, — глухо ответил Нестеров, не глядя на капитана. Пусть собашники обдирают. Разрешите идти? — взглянув на Ромашкова, спросил Нестеров.
С этой минуты Ромашков как-то сразу почувствовал себя хозяином заставы, ответственным за все, что здесь может произойти. Когда Нестеров скрылся в дверях конюшни, Ромашков, обратившись к Земцову, официальным тоном проговорил:
— Составляйте, товарищ капитан, акт приема и сдачи Я подпишу. А вы можете сегодня же уехать.
— Хорошо! — Земцов подкинул ладонь к козырьку фуражки и быстро зашагал в канцелярию.
Капитан Ромашков вошел в конюшню. Нестеров сидел в станке на разостланной попоне и протирал тряпкой разобранные части затвора. Увидев капитана, вскочил.
— Садитесь, сержант, и продолжайте чистить оружие, — спокойно сказал Михаил. Опустившись на колени, он прилег рядом на душистое сено.
— Извините, товарищ капитан, вы все время меня называете сержантом, а я младший сержант, да и то с изъянцем…
— Ничего. Будете и сержантом. Сегодня примете отделение. Придется вам поработать вместо заболевшего сержанта Ильина.
— Разве меня могут с такой аттестацией утвердить? — вытирая промасленной тряпкой руки, проговорил Нестеров.
— Будете хорошо работать — утвердят и звание сержанта присвоят. Ну, а с вашей девушкой я сам поговорю. Думаю, все будет в порядке.
— Да я, товарищ капитан, да мне…
Нестеров часто заморгал тяжелыми веками и громко щелкнул какой-то частью затвора.
— Но только имейте в виду: буду крепко спрашивать по службе. Ромашков дружески взглянул на Нестерова. — Хорошо здесь, даже уходить не хочется.
Ромашков поднялся, отряхнув брюки, зашел в станок, потрепал годовалого стригунка по шее и удалился, оставив сержанта в глубоком раздумье.
Нестеров вспомнил свое первое знакомство с Надей, когда они с Баландиным зашли в ее комнату, и он смутился от ее смеха, лукавых и веселых глаз. Баландин, подмигнув ему, шлепнул ладонью по донышку бутылки со сладким вином. Откуда появилась эта бутылка, Нестеров не знал. Он только видел смешливые Надины глаза, белую нетронутую загаром шею, спутанную паутину золотистых волос, полуголый овал плеча под лямкой цветного сарафанчика, фарфоровый блеск ровных и крепких зубов, пунцовые губы, которыми, без удержу хохоча, она пробовала желтоватое прозрачное вино. От волнения он тогда облил вином гимнастерку, и Надя, подзадоривая, говорила:
— И пить-то не умеешь!
Он не помнил, как очутился с ней рядом, обжигаясь своим упрямым подбородком о ее горячее белое плечо, говорил какие-то сбивчивые слова. Позднее, на гауптвахте, наказанный, сидел без ремня, обхватив колени, терзался от мучительного стыда, с отвращением слушая в темноте храп безмятежно спавшего Баландина. Потом это прошло и потянуло туда еще сильнее. Тогда и порешил покончить все разом и расписаться.
«Ведь срок-то надо отслужить честно, благородно… Муть у тебя, Иван, в башке, муть. Освежи-ка ее поскорее, а то плохо будет!» перекидывая вычищенный затвор с руки на руку, почти вслух говорил Нестеров.
В дверях раздались шаги. Шаркая тяжелыми сапогами, в конюшню вошел плечистый кареглазый рядовой Баландин.
Плюхнувшись на сено, он с нагловатой развязностью спросил:
— С кем это ты тут бормочешь?
— А тебе какое дело?
— Да, так… Подумал, часом, не Надька ли к тебе через забор сиганула.
— Перестань болтать.
— А что? — не придавая никакого значения резкому тону Нестерова, продолжал Баландин. — Да и сено помятое, может, вы тут с ней гнездышко вили? Почем я знаю!
Вертя в руках холодный затвор, Иван потянулся к стоявшему у стенки карабину. Баландин ничего этого не замечая, по-прежнему продолжал развязно вести себя.
— А кобылу-то все-таки ухлопал? Почему же сначала ломался? Сдался. Эх ты, хлюпик! Отрежь ноги-то от кобылы и отнеси своей Надьке на студень.
— А ну уйди отсюда! — Нестеров схватил карабин и рывком сунул затвор в казенную часть. — Уйди!
Баландин вскочил и, встретившись с разъяренными глазами Нестерова, в два прыжка вылетел за ворота и только оттуда, прижавшись к кирпичной стенке, крикнул:
— Да ты что… сдурел?
— Уйди, говорю! — сдержанно, и уже менее грозно крикнул Иван. Вспышка гнева так же быстро улетучилась, как и возникла. Даже смешно стало, что так трусливо улепетнул здоровяк Баландин.
— Ты что… совсем спятил, я тебя спрашиваю? Я от него конюшню принимать пришел, а он… Сейчас пойду и доложу старшине.
— Иди, докладывай. Хвали судьбу, а то я бы тебя, наглеца, к стенке пришил…
— Неужто убил бы? — выйдя из своего укрытия, спросил Баландин, с опаской посматривая на раскрасневшегося Нестерова.
— Нужен ты мне… Руки марать! Проверил тебя, труса. Ишь как подхватил, — Иван вскинул на плечо карабин, громко, на всю конюшню так захохотал, что кони перестали жевать сено и подняли головы.
— Выдумываешь ты все, — опять захорохорился Баландин. — Но по твоим бешеным глазам похоже, что ты убить можешь. Ей-богу…
— Вот что, Баландин, — серьезно и строго сказал Нестеров — То, что было меж нами до сего дня, считай прошло и не повторится. Теперь я возьму тебя в шоры, да еще в какие шоры!
— Ух ты, страсть какая! Неужто и Надьку свою решил побоку?
— Мое дело. А о ней, говорю тебе, больше не заикайся.
— Ладно. Не буду. Ступай, тебя старшина ждет.
— Это вы? — спросил капитан Земцов.
— Так точно, — глухо ответил Нестеров, не глядя на капитана. Пусть собашники обдирают. Разрешите идти? — взглянув на Ромашкова, спросил Нестеров.
С этой минуты Ромашков как-то сразу почувствовал себя хозяином заставы, ответственным за все, что здесь может произойти. Когда Нестеров скрылся в дверях конюшни, Ромашков, обратившись к Земцову, официальным тоном проговорил:
— Составляйте, товарищ капитан, акт приема и сдачи Я подпишу. А вы можете сегодня же уехать.
— Хорошо! — Земцов подкинул ладонь к козырьку фуражки и быстро зашагал в канцелярию.
Капитан Ромашков вошел в конюшню. Нестеров сидел в станке на разостланной попоне и протирал тряпкой разобранные части затвора. Увидев капитана, вскочил.
— Садитесь, сержант, и продолжайте чистить оружие, — спокойно сказал Михаил. Опустившись на колени, он прилег рядом на душистое сено.
— Извините, товарищ капитан, вы все время меня называете сержантом, а я младший сержант, да и то с изъянцем…
— Ничего. Будете и сержантом. Сегодня примете отделение. Придется вам поработать вместо заболевшего сержанта Ильина.
— Разве меня могут с такой аттестацией утвердить? — вытирая промасленной тряпкой руки, проговорил Нестеров.
— Будете хорошо работать — утвердят и звание сержанта присвоят. Ну, а с вашей девушкой я сам поговорю. Думаю, все будет в порядке.
— Да я, товарищ капитан, да мне…
Нестеров часто заморгал тяжелыми веками и громко щелкнул какой-то частью затвора.
— Но только имейте в виду: буду крепко спрашивать по службе. Ромашков дружески взглянул на Нестерова. — Хорошо здесь, даже уходить не хочется.
Ромашков поднялся, отряхнув брюки, зашел в станок, потрепал годовалого стригунка по шее и удалился, оставив сержанта в глубоком раздумье.
Нестеров вспомнил свое первое знакомство с Надей, когда они с Баландиным зашли в ее комнату, и он смутился от ее смеха, лукавых и веселых глаз. Баландин, подмигнув ему, шлепнул ладонью по донышку бутылки со сладким вином. Откуда появилась эта бутылка, Нестеров не знал. Он только видел смешливые Надины глаза, белую нетронутую загаром шею, спутанную паутину золотистых волос, полуголый овал плеча под лямкой цветного сарафанчика, фарфоровый блеск ровных и крепких зубов, пунцовые губы, которыми, без удержу хохоча, она пробовала желтоватое прозрачное вино. От волнения он тогда облил вином гимнастерку, и Надя, подзадоривая, говорила:
— И пить-то не умеешь!
Он не помнил, как очутился с ней рядом, обжигаясь своим упрямым подбородком о ее горячее белое плечо, говорил какие-то сбивчивые слова. Позднее, на гауптвахте, наказанный, сидел без ремня, обхватив колени, терзался от мучительного стыда, с отвращением слушая в темноте храп безмятежно спавшего Баландина. Потом это прошло и потянуло туда еще сильнее. Тогда и порешил покончить все разом и расписаться.
«Ведь срок-то надо отслужить честно, благородно… Муть у тебя, Иван, в башке, муть. Освежи-ка ее поскорее, а то плохо будет!» перекидывая вычищенный затвор с руки на руку, почти вслух говорил Нестеров.
В дверях раздались шаги. Шаркая тяжелыми сапогами, в конюшню вошел плечистый кареглазый рядовой Баландин.
Плюхнувшись на сено, он с нагловатой развязностью спросил:
— С кем это ты тут бормочешь?
— А тебе какое дело?
— Да, так… Подумал, часом, не Надька ли к тебе через забор сиганула.
— Перестань болтать.
— А что? — не придавая никакого значения резкому тону Нестерова, продолжал Баландин. — Да и сено помятое, может, вы тут с ней гнездышко вили? Почем я знаю!
Вертя в руках холодный затвор, Иван потянулся к стоявшему у стенки карабину. Баландин ничего этого не замечая, по-прежнему продолжал развязно вести себя.
— А кобылу-то все-таки ухлопал? Почему же сначала ломался? Сдался. Эх ты, хлюпик! Отрежь ноги-то от кобылы и отнеси своей Надьке на студень.
— А ну уйди отсюда! — Нестеров схватил карабин и рывком сунул затвор в казенную часть. — Уйди!
Баландин вскочил и, встретившись с разъяренными глазами Нестерова, в два прыжка вылетел за ворота и только оттуда, прижавшись к кирпичной стенке, крикнул:
— Да ты что… сдурел?
— Уйди, говорю! — сдержанно, и уже менее грозно крикнул Иван. Вспышка гнева так же быстро улетучилась, как и возникла. Даже смешно стало, что так трусливо улепетнул здоровяк Баландин.
— Ты что… совсем спятил, я тебя спрашиваю? Я от него конюшню принимать пришел, а он… Сейчас пойду и доложу старшине.
— Иди, докладывай. Хвали судьбу, а то я бы тебя, наглеца, к стенке пришил…
— Неужто убил бы? — выйдя из своего укрытия, спросил Баландин, с опаской посматривая на раскрасневшегося Нестерова.
— Нужен ты мне… Руки марать! Проверил тебя, труса. Ишь как подхватил, — Иван вскинул на плечо карабин, громко, на всю конюшню так захохотал, что кони перестали жевать сено и подняли головы.
— Выдумываешь ты все, — опять захорохорился Баландин. — Но по твоим бешеным глазам похоже, что ты убить можешь. Ей-богу…
— Вот что, Баландин, — серьезно и строго сказал Нестеров — То, что было меж нами до сего дня, считай прошло и не повторится. Теперь я возьму тебя в шоры, да еще в какие шоры!
— Ух ты, страсть какая! Неужто и Надьку свою решил побоку?
— Мое дело. А о ней, говорю тебе, больше не заикайся.
— Ладно. Не буду. Ступай, тебя старшина ждет.
Глава девятая
На другой день, проводив майора Рокотова и капитана Земцова, Ромашков оседлал коня и решил еще раз ознакомиться с участком границы. Возвращаясь обратно, он по пути завернул на рыбозавод с намерением увидеть невесту Нестерова и откровенно с ней поговорить. Подъехав к пристани, он слез с коня. Разыскать пекаря Надю было не трудно: еще у пограничной вышки часовой сказал, что девушки купаются возле пристани. Ромашков нашел их на причаленной к деревянной свае лодке. Опустив босые ноги в воду, они что-то напевали и беззаботно смеялись. Вторая девушка оказалась метеорологом Настей, с которой накануне случайно познакомился старший лейтенант Пыжиков. Вечером он сказал Ромашкову: — Любопытная особа, а самое главное — очень хорошенькая. Из местных, родилась в горах, в каком-то лесном поселке, который называется Дубовики. — Что-то уж слишком длинно объясняешь, — заметил Михаил, записывая очередные сведения в пограничный журнал. — Выяснил, так сказать, демографические данные, — улыбнувшись, ответил Петр. — Видел и вторую, ту самую… нестеровскую! — Ну и что? — Отвернулась и ушла. Видимо, испугалась, что я заговорю с ней. Подходящая дева, с этакой гордой осанкой. Мда-а… Сейчас, когда капитан Ромашков застучал по пирсу каблуками, девушки обернулись. Одна из них сидела на корме, другая поближе, на средней банке. — Здравствуйте, — приветствовал их Михаил. — Здравствуйте, если не шутите, — ответила ближняя, высокая и грудастая, с сильно развитыми, обожженными на солнце руками. На мокрую действительно гордо приподнятую голову, со спутанными, как у русалки, длинными волосами она небрежно набросила ярко-лиловой расцветки полотенце, концом которого вытирала влажную, чуть-чуть удлиненную шею. Ромашков без труда угадал в ней девушку, растревожившую сердце младшего сержанта, и нисколько этому не удивился. Несмотря на ее беспечный, заигрывающий тон, она произвела на Михаила приятное впечатление. Метеорологичку же Михаил разглядел не сразу. Она была закутана белой простынкой. Из-под нависшего на лоб уголка материи торчал аккуратненький шелушившийся нос. Она исподтишка, приоткрыв краешек простыни, измерила его глазами, лениво помешивая кофейного цвета ногой прозрачную воду, видимо, с наслаждением процеживая ее сквозь крохотные розовые пальчики. «Эта, наверное, умеет и пококетничать. Недаром Пыжиков, раз ее встретив, приступил к изучению биографии», — подумал Ромашков, а вслух, обращаясь к Наде, сказал: — Вы, кажется, мастерица хлебушко выпекать? — А вы что, кренделька захотели? — распрямляя полотенце, наигранно спросила она. — Предпочитаю черный хлеб. Вас, кажется, Надей зовут? — Допустим, что угадали. Дальше что? — Сватать вас приехал, — присаживаясь на корточки, всерьез проговорил Михаил. — Какой быстрый… Вы новый начальник, да? — Вроде этого. — Начальникам, конешно, можно и побыстрее… — Надя! Хватит тебе! — звонким, приятным голосом крикнула метеорологичка. — А что тут такого, правду говорю. Вы холостой? — Нет. Женатый, трижды, — отшутился Михаил. — Так и поверила! Не разыгрывайте. Мы про вас все уже знаем. Прибыло в нашем полку. Двумя женихами стало больше. — Надя закинула концы полотенца на спину и, лукаво подмигнув подруге, усмехнулась. — Вы что же и меня в женихи зачислили? — спросил Ромашков. — Немного, конешно, рановато, но в списочек занесли, товарищ капитан. — Она снова покосилась на подружку и озорно рассмеялась. — Мне, голубушка, про вас тоже кое-что известно, — не обращая внимания на ее смех, сказал Михаил. — Есть к вам секретный разговор. — Ко мне? — Да, да. Именно к вам. Идемте, поговорим, а то у меня времени мало. — Ромашков поднялся и посмотрел на часы. — Ничего не попишешь, придется вставать. — Надя закинула босые ноги в лодку, надела тапочки и поднялась во весь свой высокий, складный рост. Крашеный борт лодки беспокойно облизывала легкая волна. Над бухтой повизгивали белокрылые чайки, опустившись на воду, они покачивались пушистыми комочками. — Значит, секретный разговор? — переспросила Надя и начала торопливо укладывать и закалывать шпильками влажные волосы.
— Так точно, — суховато ответил Михаил.
— Интересно! Хоть и лень, а идти треба. Как-никак, новое пограничное начальство. Может, товарищ начальник, вы мне поможете? — насмешливо проговорила она и протянула ему широкую, не по-девичьи, ладонь.
Михаил подхватил ее за кисть прохладной руки и поднял на пирс, смущенную и еще более порозовевшую.
— Ой, какой вы сильный! — Она встряхнула занемевшей рукой, на которой был заметен след сдавивших ее пальцев, помахала подружке и пошла вперед.
— Неужели сильнее сержанта Нестерова? Вы знаете такого? — заходя сбоку, спросил Ромашков, решив приступить к делу без церемоний.
— Мало ли я кого знаю, — ответила она уклончиво.
— Ладно, Надя. Давайте будем говорить откровенно.
— Что ж… Давайте, товарищ капитан, ежели вы за этим приехали.
— Да. Именно. Сват из меня плохой. Не знаю, как начать.
— Начинайте так, как умеете, — тихо и покорно проговорила Надя.
— Он вам очень нравится?
Девушка чуть склонила голову и плотно прикрыла рот концом полотенца.
— Сколько вам лет?
— Девятнадцать, — ответила она сдавленным голосом.
— Ну, а ему чуть побольше. У вас вся жизнь впереди, а вы хотите ее испортить.
— Кто хочет испортить? — Надя вся вздрогнула, насторожилась.
— Лично вы!
— Что вы мне, товарищ капитан, говорите! Что вы мне такое приписываете? — Надя возбужденно отбросила от лица полотенце и, нахмурив неровные скошенные брови, гневно посмотрела на Ромашкова. — Что я такое сделала?
— А вы спокойно, не волнуйтесь. Я еще вам ничего не сказал и не приписал. Младший сержант Нестеров приходил к вам?
— Был, может, два или три раза. И вообще мы очень редко встречались.
— Значит, приходил. Вернее, самовольно отлучался с границы. Вы стали дружить, но не задумывались над тем, что ваш друг нарушает дисциплину, присягу. Вы же знаете, что пограничники постоянно на посту, можно сказать — на фронте. Вместо того чтобы посоветовать жениху лучше охранять границу, вы толкали его на преступление, угощали его вином, хотя хорошо знали, что это категорически запрещено. Его строго наказали один раз, другой. Если он, ваш жених, еще раз так поступит — судить будут!
— За что, товарищ капитан? Он только один раз выпил, да и то красного. Я не знала, что этого делать нельзя, — смущенно опуская голову, сказала Надежда. — Больше я ему ни разу не покупала…
— Не следовало и этого делать. Но не в этом суть. Вы же его не любите!
— Почему вы так думаете? Это неправда! — выкрикнула она с обидой и горечью. — Вы ничего не знаете!
— Может быть, я не все знаю. Я здесь человек новый. Но знаю, что к вам в гости и рыбак Ерофей ходит, какой-то лейтенант из ПВО, киномеханики. Какая же тут любовь? Вы извините, но это очень нехорошо.
— А что я с ними сделаю? Они сами пристают…
— Тут уж вы должны выбрать. Понимаете, он же ревнует.
— Глупый потому что… — скручивая жгутиком кисти полотенца, прошептала она чуть слышно.
— А знаете, что он рапорт подал? Жениться собрался?
— Он мне говорил.
— А зачем вам спешить? Он же еще не отслужил свой срок.
Надя промолчала.
— Может быть, есть другие причины? — допытывался Ромашков.
— Ну, знаете… Я лампу при нем не тушила, не такая… — Девушка покраснела и отвернулась.
— Извините меня. Я вам верю и вижу, что вы хорошая девушка. Да и Нестеров замечательный парень. Надо помочь ему отлично закончить службу. Ближе узнаете друг друга, тогда совет да любовь, как говорится!
— Значит, еще больше года ждать!
— А как же невесты и жены фронтовиков по четыре года, даже больше ждали? Подождете, еще крепче полюбите. Мне думается, что так нужно поступить.
— А вы откуда знаете, как надо любить? У всякого по-своему, Надя выразительно посмотрела на капитана и заставила его сильно смутиться. — Вы еще сам-то не женатый. Вот влюбитесь по-настоящему, тогда узнаете.
— Постараюсь, — улыбнулся Ромашков и, чувствуя на себе чей-то взгляд, невольно оглянулся. Шагах в пятнадцати за ними шла Настя в зеленых спортивных брюках, в сиреневой майке и тихонько напевала какой-то легкомысленный мотивчик.
— Ваш-то помощник вчера с ней познакомился и крутился, как петушок… Все люди — человеки и пограничники тоже, — вздохнула Надя.
— Да, да… конечно, — пробормотал Михаил. — Надеюсь, что весь разговор останется между нами?
— Не беспокойтесь. Я не болтлива. — Немного подумав, строго добавила: — А Ивана отпустите на час, я сама с ним потолкую. До свидания, товарищ капитан, бувайте здоровеньки.
Взмахнув рассыпавшимися на плечах косами, девушка повернулась и побежала навстречу Насте.
— Значит, секретный разговор? — переспросила Надя и начала торопливо укладывать и закалывать шпильками влажные волосы.
— Так точно, — суховато ответил Михаил.
— Интересно! Хоть и лень, а идти треба. Как-никак, новое пограничное начальство. Может, товарищ начальник, вы мне поможете? — насмешливо проговорила она и протянула ему широкую, не по-девичьи, ладонь.
Михаил подхватил ее за кисть прохладной руки и поднял на пирс, смущенную и еще более порозовевшую.
— Ой, какой вы сильный! — Она встряхнула занемевшей рукой, на которой был заметен след сдавивших ее пальцев, помахала подружке и пошла вперед.
— Неужели сильнее сержанта Нестерова? Вы знаете такого? — заходя сбоку, спросил Ромашков, решив приступить к делу без церемоний.
— Мало ли я кого знаю, — ответила она уклончиво.
— Ладно, Надя. Давайте будем говорить откровенно.
— Что ж… Давайте, товарищ капитан, ежели вы за этим приехали.
— Да. Именно. Сват из меня плохой. Не знаю, как начать.
— Начинайте так, как умеете, — тихо и покорно проговорила Надя.
— Он вам очень нравится?
Девушка чуть склонила голову и плотно прикрыла рот концом полотенца.
— Сколько вам лет?
— Девятнадцать, — ответила она сдавленным голосом.
— Ну, а ему чуть побольше. У вас вся жизнь впереди, а вы хотите ее испортить.
— Кто хочет испортить? — Надя вся вздрогнула, насторожилась.
— Лично вы!
— Что вы мне, товарищ капитан, говорите! Что вы мне такое приписываете? — Надя возбужденно отбросила от лица полотенце и, нахмурив неровные скошенные брови, гневно посмотрела на Ромашкова. — Что я такое сделала?
— А вы спокойно, не волнуйтесь. Я еще вам ничего не сказал и не приписал. Младший сержант Нестеров приходил к вам?
— Был, может, два или три раза. И вообще мы очень редко встречались.
— Значит, приходил. Вернее, самовольно отлучался с границы. Вы стали дружить, но не задумывались над тем, что ваш друг нарушает дисциплину, присягу. Вы же знаете, что пограничники постоянно на посту, можно сказать — на фронте. Вместо того чтобы посоветовать жениху лучше охранять границу, вы толкали его на преступление, угощали его вином, хотя хорошо знали, что это категорически запрещено. Его строго наказали один раз, другой. Если он, ваш жених, еще раз так поступит — судить будут!
— За что, товарищ капитан? Он только один раз выпил, да и то красного. Я не знала, что этого делать нельзя, — смущенно опуская голову, сказала Надежда. — Больше я ему ни разу не покупала…
— Не следовало и этого делать. Но не в этом суть. Вы же его не любите!
— Почему вы так думаете? Это неправда! — выкрикнула она с обидой и горечью. — Вы ничего не знаете!
— Может быть, я не все знаю. Я здесь человек новый. Но знаю, что к вам в гости и рыбак Ерофей ходит, какой-то лейтенант из ПВО, киномеханики. Какая же тут любовь? Вы извините, но это очень нехорошо.
— А что я с ними сделаю? Они сами пристают…
— Тут уж вы должны выбрать. Понимаете, он же ревнует.
— Глупый потому что… — скручивая жгутиком кисти полотенца, прошептала она чуть слышно.
— А знаете, что он рапорт подал? Жениться собрался?
— Он мне говорил.
— А зачем вам спешить? Он же еще не отслужил свой срок.
Надя промолчала.
— Может быть, есть другие причины? — допытывался Ромашков.
— Ну, знаете… Я лампу при нем не тушила, не такая… — Девушка покраснела и отвернулась.
— Извините меня. Я вам верю и вижу, что вы хорошая девушка. Да и Нестеров замечательный парень. Надо помочь ему отлично закончить службу. Ближе узнаете друг друга, тогда совет да любовь, как говорится!
— Значит, еще больше года ждать!
— А как же невесты и жены фронтовиков по четыре года, даже больше ждали? Подождете, еще крепче полюбите. Мне думается, что так нужно поступить.
— А вы откуда знаете, как надо любить? У всякого по-своему, Надя выразительно посмотрела на капитана и заставила его сильно смутиться. — Вы еще сам-то не женатый. Вот влюбитесь по-настоящему, тогда узнаете.
— Постараюсь, — улыбнулся Ромашков и, чувствуя на себе чей-то взгляд, невольно оглянулся. Шагах в пятнадцати за ними шла Настя в зеленых спортивных брюках, в сиреневой майке и тихонько напевала какой-то легкомысленный мотивчик.
— Ваш-то помощник вчера с ней познакомился и крутился, как петушок… Все люди — человеки и пограничники тоже, — вздохнула Надя.
— Да, да… конечно, — пробормотал Михаил. — Надеюсь, что весь разговор останется между нами?
— Не беспокойтесь. Я не болтлива. — Немного подумав, строго добавила: — А Ивана отпустите на час, я сама с ним потолкую. До свидания, товарищ капитан, бувайте здоровеньки.
Взмахнув рассыпавшимися на плечах косами, девушка повернулась и побежала навстречу Насте.
Глава десятая
Еще в детские годы Миша Ромашков тайно от родителей и школьных учителей завел себе дневник. Оставаясь наедине, он доставал из укромного местечка свои книжечки, просматривал и продолжал записывать все, что интересовало и тревожило его юношеское воображение. Со временем это вошло в привычку. Однако в последующие годы дневник велся неаккуратно. Вспомнил о заветных страничках во время службы на Курильских островах после трагического шторма. Несколько подмоченных записных книжек с расплывшимися на страничках буквами, когда он их бережно разгладил, высушил и перечитал, оказались самым дорогим воспоминанием о прошедшей юности. На этих страничках с выцветшими чернилами жил со своими несуразными фантазиями и Петя Пыжиков, тихонько таскавший у отца папироски и клятвенно жевавший хлебные крошки, и какая-то девчонка Райка с косичками, как пеньковые веревочки, за которые часто дергали озорные мальчишки. Михаил перечитал тогда все — от первой до последней строчки. На другой же день была заведена новая тетрадь — более объемистая, в твердом переплете, куда и стал Михаил записывать, правда не так регулярно, свои зрелые размышления. «Вот уже прошло несколько месяцев, как мы прибыли с Петром на новое место службы. Застава находится на берегу моря, в горле крутобокого скалистого ущелья дикой и первозданной красоты. Место глуховатое и не совсем обжитое. Пыжикову оно не нравится, а я в восторге от него и от людей, с которыми мне приходится охранять границу. Но жизнь — штука сложная и не всегда течет ровно и гладко. Историю с сержантом Нестеровым я уже подробно описал. Однако продолжаю за ним наблюдать. Вот уже почти пять месяцев он командует отделением. Его солдаты хорошо несут службу и занимают первое место по боевой подготовке. Как мы этого добились? Последовательных записей я, к сожалению, не вел. Некогда. Восстанавливаю отрывочно, по памяти. Мы много говорим о воспитании, но часто действуем по какому-то укоренившемуся шаблону, а главное, недостаточно изучаем своих людей и мало используем накопившийся опыт. Я недавно вспомнил одну лекцию, которую нам читал еще в училище подполковник А. Лектор был человек начитанный и не скучный. Мысли свои излагал он доходчиво и просто. Он говорил, что наука о воспитании человеческого характера является самой сложной и трудной из всех существующих в мире наук. Из этой лекции я тогда усвоил, что самое главное — это хорошо знать человеческий характер. Дело, конечно, не легкое, но именно с этого я начал свою офицерскую службу. До того, как приступать к воспитанию молодых, незнакомых мне солдат, я должен знать, что каждый из себя представляет и на что способен. Остальное уже зависит от моего подхода и метода, а главное, от накопленного опыта, которого у нас еще очень недостает. Первое столкновение с младшим сержантом Нестеровым в конюшне дало первый толчок моим мыслям. Я понял, что характер у парня крутой, сложный, но человек он прямой, честный и к тому же чувствительный. Вечером, беседуя с ним наедине, я выяснил, что он умеет плотничать и класть печи. Этому ремеслу он с детства научился от своего дедушки. До службы в армии с пятнадцати лет работал в колхозе. Он с гордостью рассказывал, какие он может делать печки. — А вот мы построим баню, а вы сложите печь, — сказал я ему, чувствуя, что руки его давно уже соскучились по такой работе. — Могу попробовать, — ответил он неопределенно. — Мы баню строим не для пробы, а хотим в ней мыться. — Понимаю, товарищ капитан. Постараюсь. — Это должна быть самая лучшая печь. Сделайте чертеж и посоветуйтесь с теткой Ефимьей. Это ее хозяйство. — Слушаюсь. Через несколько дней мы рассмотрели чертеж, обсудили, кое-что поправили и утвердили. Печь получилась на славу. Без навязчивости и мелкой опеки я постоянно заставлял Нестерова самостоятельно мыслить и видеть результаты своего труда. — Покажите, товарищ Нестеров, конспекты ваших занятий. Он подает тетрадь и смущенно краснеет. Тетрадь измята, записи сделаны небрежно. Торопливый, неразборчивый почерк. Я нарочно достаю свою, чистую, исписанную мелким, убористым почерком, и для наглядного сравнения кладу их рядом. Вижу, что сержант начинает ерзать на стуле. А я спокойно, будто ничего не произошло, перелистываю то одну, то другую. Делаю замечания только по существу написанного, вношу свои поправки, а об остальном ни единого слова. А через два дня я вхожу в комнату, где Нестеров проводит занятия, и вижу в его руках новую чистую тетрадь с четко написанным текстом. Так я постепенно убедился, что излишние и многословные наставления при воспитании людей не только не нужны, но и вредны. Они надоедают и превращаются в малодейственный шаблон. Авторитет офицера, начальника укрепляется только на личном примере, в постоянном напряженном труде. В памятный день нашего приезда на заставу здесь проходили занятия по боевой стрельбе. Разволнованный событиями дня, младший сержант Нестеров не выполнил задания. Плохо стрелял и секретарь комсомольской организации сержант Батурин. Да и вообще вся застава стреляла неважно. Пришлось и нам с Петром держать своеобразный экзамен. Я выполнил упражнение, а Пыжиков разгорячился и промазал. — Вот такие-то, товарищ капитан, дела, — когда окончились стрельбы, обращаясь ко мне, проговорил майор Рокотов и, распрощавшись, уехал, не сделав больше никаких замечаний. На другой день я вызвал сержанта Батурина и сказал, что личный состав нашей заставы состоит на девяносто процентов из комсомольцев, а он как секретарь бюро, видимо, умеет только произносить речи, но сам стреляет плохо. — Как это получается? — Раньше я хорошо стрелял, — попробовал он оправдаться. — Мне об этом неизвестно, — сказал я резко. — Всякое бывает, товарищ капитан, — ответил он с лукавинкой. — Что вы имеете в виду? — Старший лейтенант тоже не выполнил… Со всеми случается. — Он стрелял не зачетную, а так… в порядке тренировки, — пытался я выгородить офицера. — И притом мы только что с дороги. А кроме того, вам не следовало бы так говорить. Речь идет о вас. Вы — тоже командир. — Виноват. Я понимаю. Но вы тоже с дороги, а стрельнули отлично. — Для меня это совсем не важно. А вот для вас, да! Мне хотелось иметь деловой разговор, но я говорил неубедительно, резким и повышенным тоном. Где-то глубоко в сознании меня тревожила мысль, что, говоря о Пыжикове, сержант задевал и мою офицерскую честь. Над этим стоило подумать. Правда, Батурин понял, что кивком на старшего лейтенанта он ставит меня и себя в глупое положение, извинился и пообещал выправиться. Младшему сержанту Нестерову я никаких замечаний не сделал, полагая, что в тот первый день нашего знакомства он имел достаточно передряг со своим горьким рапортом и лошадью. Я был уверен, что все его причуды и промахи по службе идут от неправильной постановки воспитания. Однако мое молчание он понял совсем иначе, принял его ближе к сердцу, чем я думал. Спустя какое-то время, после основательной боевой подготовки, вся застава стреляла вновь и выполнила задание на «хорошо», а Нестеров и Батурин — на «отлично». После обеда наша замечательная тетка Ефимья принесла мне белье и «устное приказание» отправиться в баню. Я был «обходительный» и «свойский», как она говорила, тем более что с женой капитана Земцова тетка Ефимья имела свои чисто женские конфликты по банно-прачечным делам. Здесь же я должен сказать, что благодаря заботам тетки Ефимьи быт заставы заметно менялся в лучшую сторону. Стакими мыслями я вошел в раздевалку и услышал яростное шлепанье и какие-то блаженные выкрики. Открыл дверь, но тут же захлопнул ее. Мне так ошпарило лицо горячим воздухом, что я вынужден был зажмурить глаза. Я сам люблю похлестать себя веником, однако Нестеров парился истинно по-северному. Спустя несколько минут он выскочил в предбанник, похожий на вареного рака, и плюхнулся на деревянную скамью. Отдышавшись, сказал: — Извините, товарищ капитан, что задерживаю. Злой дух из себя вышибал маненько. — Какой это еще дух? — засмеялся я. — С паром вся смерда вылетает, а добро остается. Так у нас на Севере говорят. Хорошо веником себя постегать. Только со мной никто не спорок, вот я один и задержался. — Парься на здоровье! — Спасибо. Но я уже закончил. Ополоснусь — и шабаш. Банная обстановка всегда размягчает любую натуру, создает какое-то особое настроение и располагает к откровенности. Мы уже вымылись и оделись. Разговор завязался вокруг стрельбы. Нестеров, держа сапог за ушко, вспомнил свои прошлые неудачи и, между прочим, спросил: — Почему, товарищ капитан, вы тогда за мой промах ничего не сказали? — Полагал, что ты сильно волновался. День для тебя был нелегкий, Нестеров. — Шутка сказать! Я, грешным делом, считал, что вы подумали обо мне так: «Ну, что ему, чудаку, говорить? Он только самовольничать умеет да старых, уж никуда негодных кобыл жалеть…» — Отставив ногу, Нестеров сильно потянул голенище, надел сапог и пристукнул каблуком. — А я тогда лежу в окопчике, целюсь, а сам вместо мушки лошадиное ухо вижу с распоротым концом… Я тогда чуть пониже взял… Запомнилось же! Лезет мне в башку — думаю, что метку ей сделали, когда она еще махоньким жеребенком была, по полям скакала и, может быть, даже с колокольчиком. А в эти время команда: «Огонь!» Ну, и выпалил, а куда? Извините, товарищ капитан, разболтался я тут. Все это, конечно, забыть пора. — Надо забыть, Нестеров, — сказал я, потрясенный его тяжкой откровенностью. От нищенского крестьянского существования, от великих боевых конных походов живет в русском человеке эта неистребимая любовь к коню. Наверное, долго еще будет жить. Я поделился об этом с Нестеровым. Он поддакивал, кивал головой и в заключение нашей беседы, уже по дороге в казарму, сказал задумчиво: — Понимаю, что надо забыть, а вот не могу…»Глава одиннадцатая
«…Придя в контору, я прилег на кровать. Сопоставляя все три моих разговора по поводу неудачной стрельбы с совершенно разными по характеру людьми, крепко задумался. Разговор с Пыжиковым был самый неприятный. Если сержант Батурин огорчил меня тем, что пытался оправдать свой промах: де неважно стрелял и офицер, то Петр не только огорчил, но и глубоко расстроил. Размышляя с пером в руке над раскрытой тетрадью, я стараюсь записать то, о чем думаю. Я ведь здесь исповедуюсь и в то же время учусь. Мне хочется постигнуть сущность нашей офицерской работы, и я убежден, что академия, которую я мечтаю закончить, начинается именно здесь, на пограничной заставе. Все практические нити тянутся сюда — вот в такие далекие зеленые ущелья. Я не раз говорил об этом с майором Рокотовым, которого уважаю за прямоту, за спокойный характер и беспристрастие. Я хочу учиться у этого человека, а Петр не понимает его и не может понять, а проще говоря — не взлюбил. Когда майор Рокотов бывает на заставе, я чувствую, как он приглядывается к моему заместителю, словно прицеливается своим цепким, хитровато-прищуренным взглядом. Петр замечает это и злится. Иногда Рокотов берет пограничную книгу, перелистывая ее, спокойно задает какой-нибудь вопрос или делает замечание по поводу не совсем четкой записи. Петр вспыхивает. — А вы, товарищ старший лейтенант, очень чувствительны! — Извините, товарищ майор, какой уж есть, — хмуро отозвался Пыжиков. Но Рокотова трудно вывести из терпения. — Зачем извиняться, я ведь не барышня, — с прежней усмешкой отвечает майор. — Садитесь и исправьте.
— Слушаюсь, — буркнет Петр. — Может, разрешите потом?
— Сейчас сделайте, зачем откладывать.
Закончив дело, Рокотов уезжает. Пыжиков дает волю своему возмущению. Я сдерживаю его и по-дружески, не совсем вежливо, призываю к порядку.
— Он меня ненавидит!
— Из чего ты это заключил!
— Презирает за то, что я плохо стрелял и вообще…
— Вздор! Он даже ни разу не вспомнил. А ты из этого обязан сделать выводы.
— Ну, промазал! Винюсь! А у них и оружие черт знает как было пристреляно…
— Ты уверен в этом?
— Определенно.
— Но забыл, что мы с тобой стреляли из одного и того же карабина.
— Разве? Я что-то не помню. Сам знаешь, мы потом проверяли, пристреливали.
— Это наша обязанность.
— Не отрицаю. Ладно, товарищ капитан, постараюсь учесть на будущее. Давай точнее распределим наши обязанности и закончим на этом! — пытался Пыжиков уклониться от разговора.
Мне же хотелось говорить именно об этом случае. Останавливаться на полдороге — не в моем характере. Я не имею привычки прерывать начатого разговора, не люблю оставлять на завтра неоконченных дел. А дела наши только еще начинались и, к сожалению, очень неважно. Мы споткнулись на первых же шагах. От этого зависели наша дальнейшая трудная служба и наш авторитет. Так примерно я высказал ему свои соображения.
— Я, конечно, понимаю тебя, — нехотя продолжал разговор Пыжиков. — Тут и сержант Батурин меня подковырнул и майор Рокотов уехал молча, с застывшей на лице усмешечкой… Ну, допустим, я плохо стреляю, а дальше что? Обещаю тренироваться. Доволен? Честное слово, товарищ капитан, лучше переменим пластинку. Я уже взрослый…
— Понимаешь, Петр, какое дело, — старался отвечать я спокойно. — Мы с тобой сейчас не на фортепьяно играем, а говорим о серьезных делах. Офицер обязан хорошо стрелять. Но это еще не все. Самое трудное — воспитывать самого себя. Можно быть взрослым и сознательным, но надо же уметь сначала учиться, а потом уже учить… и на своем примере, мой дорогой! А чему мы можем научить, если сами не будем уметь хотя бы отлично стрелять?
Пыжиков долго молчал. Но молчание его мне казалось раздражительным, сбивчивым. Он со мной не спорил, видимо, понимал, что истина на моей стороне. Но я чувствовал, что его упорство, присущее ему с малых лет, сломить мне не удалось. Снова, как и тогда в приморской гостинице, я почуял образовавшуюся между нами трещинку. Тогда наспех мы кое-как залатали ее воспоминаниями о нашей детской дружбе, а теперь она снова начала расширяться. Я понял, что слишком разные у нас оказались характеры. Играли, учились вместе, а воспитывались врозь.
В тот вечер мы как будто бы все же поладили. Под конец нашего неприятного разговора разрешили целый ряд самых неотложных вопросов нашей работы. Договорились и о том, что я беру под свое наблюдение сержанта Нестерова, а он займется рядовым Баландиным. Остальной коллектив на заставе был здоровый и крепкий. Это меня радовало и придавало уверенность, что мы будем достойно выполнять возложенные на нас задачи. Вот только бы и Петр Пыжиков понял это!»
— Зачем извиняться, я ведь не барышня, — с прежней усмешкой отвечает майор. — Садитесь и исправьте.
— Слушаюсь, — буркнет Петр. — Может, разрешите потом?
— Сейчас сделайте, зачем откладывать.
Закончив дело, Рокотов уезжает. Пыжиков дает волю своему возмущению. Я сдерживаю его и по-дружески, не совсем вежливо, призываю к порядку.
— Он меня ненавидит!
— Из чего ты это заключил!
— Презирает за то, что я плохо стрелял и вообще…
— Вздор! Он даже ни разу не вспомнил. А ты из этого обязан сделать выводы.
— Ну, промазал! Винюсь! А у них и оружие черт знает как было пристреляно…
— Ты уверен в этом?
— Определенно.
— Но забыл, что мы с тобой стреляли из одного и того же карабина.
— Разве? Я что-то не помню. Сам знаешь, мы потом проверяли, пристреливали.
— Это наша обязанность.
— Не отрицаю. Ладно, товарищ капитан, постараюсь учесть на будущее. Давай точнее распределим наши обязанности и закончим на этом! — пытался Пыжиков уклониться от разговора.
Мне же хотелось говорить именно об этом случае. Останавливаться на полдороге — не в моем характере. Я не имею привычки прерывать начатого разговора, не люблю оставлять на завтра неоконченных дел. А дела наши только еще начинались и, к сожалению, очень неважно. Мы споткнулись на первых же шагах. От этого зависели наша дальнейшая трудная служба и наш авторитет. Так примерно я высказал ему свои соображения.
— Я, конечно, понимаю тебя, — нехотя продолжал разговор Пыжиков. — Тут и сержант Батурин меня подковырнул и майор Рокотов уехал молча, с застывшей на лице усмешечкой… Ну, допустим, я плохо стреляю, а дальше что? Обещаю тренироваться. Доволен? Честное слово, товарищ капитан, лучше переменим пластинку. Я уже взрослый…
— Понимаешь, Петр, какое дело, — старался отвечать я спокойно. — Мы с тобой сейчас не на фортепьяно играем, а говорим о серьезных делах. Офицер обязан хорошо стрелять. Но это еще не все. Самое трудное — воспитывать самого себя. Можно быть взрослым и сознательным, но надо же уметь сначала учиться, а потом уже учить… и на своем примере, мой дорогой! А чему мы можем научить, если сами не будем уметь хотя бы отлично стрелять?
Пыжиков долго молчал. Но молчание его мне казалось раздражительным, сбивчивым. Он со мной не спорил, видимо, понимал, что истина на моей стороне. Но я чувствовал, что его упорство, присущее ему с малых лет, сломить мне не удалось. Снова, как и тогда в приморской гостинице, я почуял образовавшуюся между нами трещинку. Тогда наспех мы кое-как залатали ее воспоминаниями о нашей детской дружбе, а теперь она снова начала расширяться. Я понял, что слишком разные у нас оказались характеры. Играли, учились вместе, а воспитывались врозь.
В тот вечер мы как будто бы все же поладили. Под конец нашего неприятного разговора разрешили целый ряд самых неотложных вопросов нашей работы. Договорились и о том, что я беру под свое наблюдение сержанта Нестерова, а он займется рядовым Баландиным. Остальной коллектив на заставе был здоровый и крепкий. Это меня радовало и придавало уверенность, что мы будем достойно выполнять возложенные на нас задачи. Вот только бы и Петр Пыжиков понял это!»
Глава двенадцатая
Дальше в дневнике капитана Ромашкова снова образовался большой пробел. Занятый служебными и всякими другими делами, он долго не заглядывал в свою заветную тетрадь и только спустя некоторое время сделал следующую запись: «Пыжиков сегодня признался мне по секрету, что он влюблен и в самом недалеком будущем намерен вступить в законный брак. Тут задумаешься! Еще совсем недавно пришлось улаживать дела с любовью сержанта Нестерова, а теперь появилась на нашей холостяцкой заставе любовь молодого офицера. По-моему, зря нет в уставе такого параграфа, который запрещал бы жениться офицерам пограничных застав. Я, видимо, ошибаюсь, смотрю на нашу жизнь чересчур строго, но сам я, пока служу на заставе, жениться не буду… Я, конечно, понимаю, что любовь к девушке, желание связать свою жизнь с любимой крепкими узами — чувство большое и достойное высокого уважения…» Ромашков в смущении положил ручку на край письменного стола, потом снова схватил ее, чтобы поправить восклицательный знак, и очерчивал его до тех пор, пока он не стал похож на продолговатую дулю. Подумав, вдруг решительно дописал: «Отставить! Тетрадь заведена для анализа офицерской работы, а не для рассуждений о любви… Отставить, отставить!» «Август месяц все еще продолжается. Денечки отсчитывают все тот же 195… год. Начинает поспевать виноград, рядовой Баландин успел уже попробовать на каком-то взгорье. Кислыми и горькими показались ему эти ягодки. Распекал его за это не я, а сержант Нестеров. Не вдаваясь в подробности, скажу: подействовало. Узнав об этом, Петр Тихонович Пыжиков смущенно пожал плечами. Он пребывает в странной меланхолии. Она расслабляет его, умиляет и покоряет душу. Эту метеорологию зовут Настенькой Богуновой. Она («Ох, Настасья!») сделала из моего эксцентричного друга лирика, пай-мальчика, который готов часами сидеть у ног своей возлюбленной и слушать ее арии. Упражняется она под Клавдию Шульженко. Пыжиков почти ежедневно ездит в рыболовецкий порт проверять посты. К сожалению, они у нас там есть. Приходится заглядывать туда — и нередко — мне самому… Он же рвется все время и рвется так, что хоть сажай его на цепь… Возвращаясь оттуда, он приходит ко мне и делится своими сердечными вздохами. Но больше всего меня возмущает поведение Насти. Она все время крутится около наших постов и как будто кого-то подстерегает. Получается такая петрушка: стоит приехать мне на завод по самому неожиданному и неотложному делу, показаться на пирсе около швартующегося сейнера, я непременно сталкиваюсь с этой девицей. Она смотрит на меня дерзкими, нахальными глазами и строит улыбочки. Я избегаю всяких разговоров, но она всегда начинает первой. — Здравствуйте, товарищ начальник. — Мое почтение. — По долгу вежливости, я беру под козырек. — Как поживаете? — Благодарю. Отлично. — Почему это, товарищ капитан, вы никогда не интересуетесь погодой? — Наоборот, очень интересуюсь. Получаю ваши сводки, — отвечаю я ей деликатно. После этого она обычно спускается с пирса на пляж, снимает свои зеленые спортивные штаны и, напевая, идет в море измерять температуру воды на разных глубинах. Всегда она ходит в этих зеленых штанах, других нарядов я никогда на ней не замечал. Иногда меня сопровождает Нестеров или кто-нибудь другой. Часто я задерживаюсь на судне дольше, чем это нужно. Ловлю себя на мысли, что она уже шлепает ладошками по воде где-нибудь далеко от берега. Я выхожу на палубу, не поднимая головы, прыгаю на пирс и, словно паром из трубы, меня обжигает певучий голосок: — Товарищ капитан, вы уже уходите? Молча стучу каблуками по деревянному настилу. Вслед слышу звонкий смех и всплеск воды. — Што это она так с вами, товарищ капитан, — удивленно и сочувственно спрашивает Нестеров. — В самом деле она не такая… — Видишь флюгер крутится? — спрашиваю я его. — Так точно. Это они его с Надей пристраивали. — Ты им помогал? — Было дело, товарищ капитан, — смущенно отвечает Нестеров и наклоняется к гриве коня. — Почему же флюгер крутится? — спрашиваю я снова. — Ветер потому что… — неопределенно отвечает он и сам тоже вертится в седле. — Вот и у этой девицы так же. Тоже ветерком продувает… Я пускаю коня в галоп. Щеки мои обжигает горячий встречный ветер. Конские подковы, наверное, выщелкивают из камней искры, но я их не вижу. Мне застилают глаза зелень Кавказских гор и большое синее море с одиноко купающейся на волнах чайкой. После этого я не был на пристани несколько дней. Посты и наряды за это время там проверял Петр. Готовлюсь к поездке в отряд. Меня вызывают туда на сборы. Мой заместитель остается один. Что из этого полечится — я не знаю. Петр свое безволье и слабость возводит чуть ли не в степень подвига. В его неуравновешенном характере мне открылась новая черта-безмерного самолюбия и самонадеянности. Моя же беда заключалась в том, что я нередко еще обращался с ним так, как в пору нашей юности, смотрел на него, как на маленького Петьку Пыжика, способного созорничать и покаяться, прихвастнуть и даже с кулаками доказывать, что нос может расти и на затылке… Раньше я этой его фантазии не придавал никакого значения. Сам был молод, глуп и наивен, как всякий обыкновенный мальчишка. Однако я ошибался. Оказывается, Петр себя никогда не считал рядовым, «обыкновенным». В спорах с ним рассеялись все мои иллюзии. Пылкому, не особенно-то приученному к труду Пыжикову всегда грезился этакий горбоносый профиль старозаветного, обиженного жизнью поручика, смахивающего на Вадима Рощина — героя романа «Хождение по мукам». Жизнь в военных училищах Петр считал самым прекрасным периодом своей юности, подготовительным трамплином для прыжка в большое будущее с кипучей разносторонней деятельностью. Многие из нас готовились к этому, готовятся и сейчас. Пыжикову хотелось миновать, перескочить многие ступени и ступеньки, где повседневный незаметный труд, проверка жизнью, испытания, первые успехи и неудачи — все, что создает прочную основу хорошего человека, нужного для границы офицера. Взгляды на жизнь у Пыжикова были неопределенные. Он хотел быть и хозяйственником, и политработником, и штабистом. Почему? Объяснить не мог. Но нигде не хотел брать на себя ответственность. Не оставлял Пыжиков и своей мечты о «карьере ученого». Его отец, крупный хирург, весной прилетал в наши края по служебным делам. Вызвал на пару дней Петра, сводил его в курортный ресторан и остался сыном весьма доволен. Да и что можно было усмотреть в нем плохого? Офицер-пограничник, границу охраняет, служит на заставе. Во всем этом и почета и чести много. Позднее к нему приезжала мать, привезла кучу сладеньких пончиков, печенья, конфеток. На меня она смотрела как на чужого. Ей показалось обидным, что я, а не ее сын капитан и начальник. — Способных людей всегда зажимают, — сказала она, вытирая глаза душистым платочком». «…Не записывал несколько дней. Сегодня ездил на пристань и снова встретился с этой девицей в зеленых штанах. Тихонькая, скромная удивительно! На этот раз к своему костюму она добавила белый берет, а глаза у нее, кажется, совсем синие. Мне показалось в них что-то похожее на тоску. Петр ходит мрачный и неприступный. Работает много. Это меня радует. Надя, встретив меня, угостила куском недозрелой дыни. Между прочим, она сказала, что у Насти с Петром разлад, и убежденно добавила, что у них вообще ничего не получится. Во мне шевельнулась вдруг какая-то нехорошая радость. Разве мне нужен их разлад? Завтра утром я уезжаю. Вечером сидели в канцелярии и зачищали хвостики недоделанного. Мы как будто примирились. Петр суров, подтянут, сосредоточен. Слушает внимательно и быстро записывает мои последние наставления. Я сказал, чтобы он постоянно помнил о стыке на левом фланге. Это самый отдаленный участок, и он является нашим камнем преткновения. В ненастную погоду туда трудно добираться и бывает, так, что наряды опаздывают. На этой злосчастной погрешности нас часто ловили поверяющие из комендатуры. Иногда майор Рокотов появлялся там раньше наряда и вырастал на берегу в остроконечном своем капюшоне, как сказочный дядька Черномор. Все это, будто на грех, случалось во время дежурства старшего лейтенанта Пыжикова. Разбор такого неприятного для нас инцидента потом происходил в канцелярии заставы. Облокотившись на стол, майор Рокотов чертил схему движения нарядов, высчитывал время, подчеркивал рубежи и, как бы между делом, спокойным голосом нас так отчитывал, что на лице Петра, как и на схеме, образовывались всякие узоры — и бледные и розовые. Он скрипел стулом, крутился, но никакого оправдания не находил. …Итак, я завтра еду. Несмотря на то, что мы примирились с Петром, на душе у меня неспокойно. Я считаю: что бы на заставе без меня ни произошло, ответственность лежит на мне. И заранее знаю, что, буду ли я в городском саду слушать духовой оркестр или смотреть новый кинофильм, я все равно не перестану думать о стыках на флангах, о солдатах на границе, о невидимых телефонных проводах и ночных разговорах дежурных, о молодом поваре, размешивающем в луженом котле солдатскую кашу, о младшем сержанте Нестерове, который заказал мне привести из города новый рубанок, о нашей прачке тетке Ефимье. Ей тоже надо какой-то платок привезти. Обо всем этом буду думать и помнить, где бы я ни находился, где бы я ни жил».Глава тринадцатая
Комендант пограничного участка, подполковник Маланьин, уходя в отпуск, решил оставить вместо себя майора Федора Федоровича Рокотова. Зная слабость Рокотова, подполковник Маланьин пригласил его выйти в субботу раненько утром в море и порыбачить. — Наверно, здорово берет ставрида! — загоревшись, воскликнул Федор Федорович. — Вчера инвалид Кандыба натаскал полную торбу, не меньше двадцати килограммов. — А не брехня? — усомнился вдруг майор. — Эта брехня сейчас на каждый крючок цепляется. По пять, по шесть штук вытаскивают сразу, — многозначительно взглянул на Рокотова комендант. — Даже курортники и те по целому ведру таскают. — Вот это да! — увлеченно подхватил Федор Федорович. — А как с насадкой? — У меня дружок в гости приехал. Ушли с сыном моим Вовкой за креветками. Будет насадка. — Добре! Утречком выгребемся часика на два — и точка, — согласился Федор Федорович и побежал налаживать снасти. Желая помочь Маланьину в ловле креветок, которые здесь считаются самой лучшей наживкой, Рокотов вечером спустился к портовой бухте. С комендантом они встретились на берегу. Тут же, около опрокинутой лодки, в коричневых трусиках, с изорванным сачком на тяжелом железном обруче, стоял гость Маланьина — детина ростом в добрую сажень, с могучей волосатой грудью. Он оказался бывшим пограничником-моряком, капитаном второго ранга в запасе. — Борис Руцак, — с достоинством отрекомендовался он хриплым баском и крепко стиснул пальцы Рокотову. — Ну, как рачки? — спросил Маланьин своего дружка. — Ни черта нема рачка! — мусоля во рту недокуренную папироску, ответил Руцак и, безнадежно махнув рукой, добавил: — Плавают кругом мальчишки, як галушки в сметане, все пораспугали. — Да, маловато, — показав на горсточку судорожно дрыгавшихся в ящике креветок, тяжко вздохнул Маланьин. — Это и все? — разочарованно спросил Рокотов. — Как видишь, — пожал плечами Маланьин. — Не может быть, чтобы всех распугали! — возмутился Федор Федорович! — Надо поглубже заходить, а вы и трусов не замочили. Пошли! Но лезть в глубину, да еще в липкие густые водоросли, где прятались креветки, никому не хотелось. После недолгих шутливых пререканий Рокотов взял у Руцака сачок, кое-как залатал его и, сбросив штаны, полез первым. До поздних сумерек, дрожа от холода, они по очереди лазали в воду, путаясь в водорослях, спотыкаясь о скользкие камни. — Да хватит, куда столько! — сипло басил Руцак. — Пока полный ящик не наловим, не уйдем. Давай, Борис Захарович, жми! — подгонял его неутомимый Рокотов. На другой день, в пять часов утра, вся эта компания была уже на берегу. Лодку опустили дружно и быстро. На весла сели Маланьин и Руцак. Пребывая в самом отличнейшем настроении, Рокотов пристроился на корме и сразу же завел разговор о предстоящей рыбалке. — А где будем кидать якорь? — спросил он. — Кидают гнилые яблоки на базаре, а якоря отдают, — едко заметил невыспавшийся и позевывающий на холодке Руцак. — Пусть будет так, — миролюбиво согласился Рокотов. — Я должен знать, где мы встанем? — У второй вехи, — ответил Маланьин. — Там самое ставрижье место. Так и вьется вокруг… — Уж ежели она там есть, возьмем. Это, братцы, зверь-рыба. И если цапнет, держи ее, не зевай! Вот ерш — это другое дело. Насади на крючок кусок тюльки, опусти на дно, сиди и закуривай. Наверняка проглотит и сам на крючок сядет. Окунь, например, или карась — те на проводочку. Закинь подальше и тяни, обязательно схватят наживку прямо на ходу. А вот ставридка — та берет отлично от всех! И должен вам сказать, что эту рыбку я умею подхватывать. — Не хвастай, — налегая на весло и тяжело отдуваясь, заметил комендант. — Оставь, брат, не люблю я этого. — А вот посмотрим… Я покажу, как надо ловить. — Посмотрим, увидим, — вставил слово Руцак. Греб он большими рывками и, шумно скрежеща уключиной, сбивал лодку с курса. Маланьин не выдержал и начал сдавать. — Левым, левым! — то и дело командовал Рокотов. — Да разве с ним, чертом, сладишь! — оправдывался Маланьин. — Налегай, налегай всем корпусом! — басовито похохатывал Руцак. Ночной сон с него сдуло свежим утренним ветерком, и он уже чувствовал себя сейчас в своей стихии. Кругом спокойной голубой чашей разлилось море. Далеко на горизонте медленно выплывало утреннее солнце. Теплые лучи ласково пригревали чуть запотевшую спину. Все предсказывало хорошую погоду и великолепный клев. Ледка меж тем приближалась уже к вехе, показывающей, где кончалась мель и начиналась морская глубь. Здесь и решено было ловить ставриду. Вдруг крепко дунул ветер, за кормой широко прошлась волнистая зыбь. Вскрикивая, летали чайки — бесстрашные, прожорливые птицы. Они ждали свою добычу, встречая каждую вышедшею в море байду. — Довольно! Суши весла! — крикнул Руцак. — Вот тут и отдадим якорь. Но якоря в лодке не было. Бухнули за борт на веревке пудовый камень и начали торопливо разматывать лески. Майор Рокотов пристроился на корме, Маланьин — на носу, а Руцак — на средней банке. Голубые глаза майора Рокотова расширились и заблестели от азарта.
Только истый рыбак поймет чародейский толчок клева на кончиках пальцев и трепет подсеченной рыбы. Рокотов артистически подсек еще невидимую рыбу и, ловко перехватывая руками, вытравил из двадцатиметровой глубины. На одном из стальных крючков вяло болтался несъедобный лаврет величиною с селедку. Плюнув от досады, Федор Федорович под хохот товарищей швырнул «добычу» за борт. Сидевшая на вехе чайка мгновенно спикировала, подхватила клювом рыбу и круто взвилась в небо.
Голубые глаза майора Рокотова расширились и заблестели от азарта.
Только истый рыбак поймет чародейский толчок клева на кончиках пальцев и трепет подсеченной рыбы. Рокотов артистически подсек еще невидимую рыбу и, ловко перехватывая руками, вытравил из двадцатиметровой глубины. На одном из стальных крючков вяло болтался несъедобный лаврет величиною с селедку. Плюнув от досады, Федор Федорович под хохот товарищей швырнул «добычу» за борт. Сидевшая на вехе чайка мгновенно спикировала, подхватила клювом рыбу и круто взвилась в небо.
 Маланьин вытащил еще две ставридки и, подмигнув незадачливому Рокотову, с удовольствием опустил их в висевший на уключине садок.
— Как ты ловишь? — не вытерпел Рокотов. — На какой глубине?
— Почти у самого дна. Вот так и потряхиваю… подергиваю. Смотри! Опять есть! — Маланьин задержал на весу крупную рыбу. Серебристо блеснув в лучах солнца, ставрида крутанула хвостом и упала в море.
— Сорвалась, окаянная! — Сейчас я ее выхвачу! — распалился Рокотов и далеко забросил свинцовое грузило. Но ему опять не везло. Не видел ни одной поклевки и Руцак, который, сняв майку, с удовольствием подставлял спину жарко пригревавшему солнцу. Вытянув волосатые ноги, он флегматично проговорил:
— Ни малявки! Сейчас буду купаться.
Такого беспечного, издевательского отношения к рыбалке Федор Федорович вынести не мог.
— Это уже черт знает что такое! — с яростью набросился он на гостя. — И не совестно вам, Боря!
— А ежели она жрет насадку и на крючок не садится! — сконфуженно оправдывался Руцак.
Ленивым движением пальцев он почесал могучее загорелое плечо и сделал попытку «подсечь», но леска не поддалась.
— Поймал? — ехидно спросил Рокотов.
— Тяжелую зацепил…
— Ну и тащи!
Оглядевшись, Маланьин сокрушенно сказал:
— А мы, братцы, дрейфуем.
— Определенно дрейфуем, — уныло поддержал Руцак и потащил леску. Она натянулась, как струна, и со звоном лопнула. На крупном загорелом лице Руцака выразилось недоумение.
Рокотов тронул веревку. Она свободно тащилась за лодкой. Всем стало ясно, что камень остался на дне. Это была настоящая беда. За якорем не нырнешь, а к берегу выгребать и привязывать новый камень — две добрых мили.
— Снимайтесь ко всем чертям! — тоном приказа проговорил Маланьин. — Всю снасть порвем!
Море начинало зыбить, лодку сильно несло. Поравнявшись с вехой, привязались. Дрейф прекратился. Задержанная веревкой лодка задирала нос все выше и выше. Комендант качался на носу и, к великой зависти Рокотова, таскал ставридок одну за другой. А Федор Федорович поймал пока что карасика величиной в пятак, морскую собаку и двух страшенных, как черти, большеротых ершей. Один из них, не желая сниматься с крючка, сильно дернулся и своим острым гребнем проколол майору палец.
Солнце уже поднималось к зениту и все чаще стало скрываться за набегавшими тучками. Яркие, горячие лучи переламывались и, скользя по голубой воде, тихо гасли. А рыба продолжала клевать. Вокруг остовой вехи сосредоточилась целая флотилия остроносых байд разной формы и расцветки.
И вдруг в самый разгар лова в центр этой мирной флотилии неожиданно, словно вынырнув из зыбучей морской волны, врезался быстроходный пограничный катер. Отыскав нужную ему лодку, моторист застопорил машину, легко пришвартовался и протянул коменданту пакет.
Маланьин вскрыл его. Прочтя донесение, комендант крепко сжал губы. Передав бумагу Рокотову, он начал торопливо сматывать леску.
— Ничего себе, порыбалили! — возвращая подполковнику записку, протяжно и таинственно сказал Рокотов. Посасывая уколотый палец, он добавил: — Как бы нам, товарищ подполковник, вот этих самых моих ершей не припомнили где-нибудь…
— Непременно припомнят! — убежденно ответил комендант и тряхнул за плечо Руцака. — Давай-ка, Боря, за весла да полным ходом к берегу.
Встречные волны нещадно били лодку в скулы, и рыбаки, часто взмахивая веслами, гребли до седьмого пота…
Маланьин вытащил еще две ставридки и, подмигнув незадачливому Рокотову, с удовольствием опустил их в висевший на уключине садок.
— Как ты ловишь? — не вытерпел Рокотов. — На какой глубине?
— Почти у самого дна. Вот так и потряхиваю… подергиваю. Смотри! Опять есть! — Маланьин задержал на весу крупную рыбу. Серебристо блеснув в лучах солнца, ставрида крутанула хвостом и упала в море.
— Сорвалась, окаянная! — Сейчас я ее выхвачу! — распалился Рокотов и далеко забросил свинцовое грузило. Но ему опять не везло. Не видел ни одной поклевки и Руцак, который, сняв майку, с удовольствием подставлял спину жарко пригревавшему солнцу. Вытянув волосатые ноги, он флегматично проговорил:
— Ни малявки! Сейчас буду купаться.
Такого беспечного, издевательского отношения к рыбалке Федор Федорович вынести не мог.
— Это уже черт знает что такое! — с яростью набросился он на гостя. — И не совестно вам, Боря!
— А ежели она жрет насадку и на крючок не садится! — сконфуженно оправдывался Руцак.
Ленивым движением пальцев он почесал могучее загорелое плечо и сделал попытку «подсечь», но леска не поддалась.
— Поймал? — ехидно спросил Рокотов.
— Тяжелую зацепил…
— Ну и тащи!
Оглядевшись, Маланьин сокрушенно сказал:
— А мы, братцы, дрейфуем.
— Определенно дрейфуем, — уныло поддержал Руцак и потащил леску. Она натянулась, как струна, и со звоном лопнула. На крупном загорелом лице Руцака выразилось недоумение.
Рокотов тронул веревку. Она свободно тащилась за лодкой. Всем стало ясно, что камень остался на дне. Это была настоящая беда. За якорем не нырнешь, а к берегу выгребать и привязывать новый камень — две добрых мили.
— Снимайтесь ко всем чертям! — тоном приказа проговорил Маланьин. — Всю снасть порвем!
Море начинало зыбить, лодку сильно несло. Поравнявшись с вехой, привязались. Дрейф прекратился. Задержанная веревкой лодка задирала нос все выше и выше. Комендант качался на носу и, к великой зависти Рокотова, таскал ставридок одну за другой. А Федор Федорович поймал пока что карасика величиной в пятак, морскую собаку и двух страшенных, как черти, большеротых ершей. Один из них, не желая сниматься с крючка, сильно дернулся и своим острым гребнем проколол майору палец.
Солнце уже поднималось к зениту и все чаще стало скрываться за набегавшими тучками. Яркие, горячие лучи переламывались и, скользя по голубой воде, тихо гасли. А рыба продолжала клевать. Вокруг остовой вехи сосредоточилась целая флотилия остроносых байд разной формы и расцветки.
И вдруг в самый разгар лова в центр этой мирной флотилии неожиданно, словно вынырнув из зыбучей морской волны, врезался быстроходный пограничный катер. Отыскав нужную ему лодку, моторист застопорил машину, легко пришвартовался и протянул коменданту пакет.
Маланьин вскрыл его. Прочтя донесение, комендант крепко сжал губы. Передав бумагу Рокотову, он начал торопливо сматывать леску.
— Ничего себе, порыбалили! — возвращая подполковнику записку, протяжно и таинственно сказал Рокотов. Посасывая уколотый палец, он добавил: — Как бы нам, товарищ подполковник, вот этих самых моих ершей не припомнили где-нибудь…
— Непременно припомнят! — убежденно ответил комендант и тряхнул за плечо Руцака. — Давай-ка, Боря, за весла да полным ходом к берегу.
Встречные волны нещадно били лодку в скулы, и рыбаки, часто взмахивая веслами, гребли до седьмого пота…
Глава четырнадцатая
Ранним утром два всадника возвращались на заставу. Четко постукивая копытами о прибрежные камни, размеренно шагали кони. Впереди на буром с белыми ногами дончаке покачивался в седле заместитель начальника заставы старший лейтенант Петр Пыжиков. Небрежно кренясь на левый бок, за ним ехал солдат Баландин. Серенький конек его, помахивая головой, пугливо косился на взъерошенное, в серых гребешках море. Узкая тропка сначала капризно виляла вдоль берега, а потом круто повернула и поползла в густо заросшую молодыми дубками и кизильником гору. Только так можно попасть на дорогу, ведущую к рыбозаводу, расположенному в трех километрах от пограничной заставы. Сама же застава находится в глубоком Кабаньем ущелье, отдаленная от ближайшего городка километров на шестьдесят. Место здесь глухое, безлюдное, тихое. Всадники поднялись на гору, выехали на узкую, как щель, трассу, закрытую сверху сплетенными зарослями, и, скользя по щебенке, опустились к морю. Отсюда хорошо был виден рыбозавод. — Заедем, товарищ старший лейтенант? — спросил Баландин, который хорошо усвоил привычки заместителя начальника заставы. Возвращаясь с утренней поверки нарядов, Пыжиков почти всегда останавливался у рыбозавода и, отдав коноводу поводья, заходил к метеорологу Насте выяснить погоду, А в это время Баландин, привязав коней, уходил на пирс. Если там бывал сейнер, то солдат наполнял брезентовое ведро свежей рыбой, потом на минутку забегал к знакомому рыбаку. Оставив у него часть рыбы, быстро выходил из барака. Торопливо вытирая губы, Баландин, как ни в чем не бывало, степенно направлялся к лошадям. — Заедем, товарищ старший лейтенант? — спросил Баландин. — К рыбаку, что ли? — в свою очередь, с хитринкой поинтересовался Пыжиков, Привычки Баландина ему тоже были хорошо известны. Не раз он отчитывал его за эти посещения рыбака и с Ромашковым имел неприятный разговор. Сейчас капитана на заставе не было. Он находился в отряде на сборах. Петр исполнял обязанности начальника. Прослужили они с Михаилом полгода, но отношения между ними оставались странными. Последнее время резкий, требовательный к себе и к людям капитан Ромашков раздражал Петра, как ему казалось, своей чрезмерной властностью и постоянными служебными нравоучениями, а главное, откровенными намеками на частые и ненужные поездки к метеорологу. — Уж лучше бы женился, а то вертишься около ее окошек, на коне гарцуешь, как лихой джигит. — Она через неделю сбежит из нашей дыры… — Почему же с завода не бежит? — Вот этого я и сам не понимаю. Чужую душу сразу не разглядишь. — Кстати, товарищ старший лейтенант, — резко меняя тон, продолжал Ромашков, — душа душой, а служба службой. Вчера старшина заглянул на конюшню и обнаружил спящего в станке Баландина. Ты знал, что он проспал дежурство, а скрыл. Как после такого случая будем заглядывать друг другу в душу? Знал ты об этом или нет? — Да, знал! — порывисто вскочив, ответил Пыжиков. — Но пять суток ареста, которые ты ему влепил, не та мера наказания. И, кроме того, я ему сделал товарищеское внушение, а этого вполне достаточно, чтобы человек понял. — Товарищеское внушение? — Именно! Меня учили этому, как и тебя. Но у нас с тобой разные мнения и разные методы воспитания. Командир прежде всего должен быть товарищем солдату, а не деспотом. — Крепко сказано! — Михаил положил локти на стол и потер щеки. Это был признак сильного волнения. — Вот что, старший лейтенант Петр Тихонович Пыжиков, скажу тебе начистоту: да, товарищ из тебя этому Баландину получится, а командир ты пока плохой. — Какой уж есть. Не годен — демобилизуйте. — Вот как! Значит, держишь в голове эту дрянную мыслишку! — Да. Держу и не хочу скрывать! Ты ее теперь воскресил. — Петр разволновался и наговорил Михаилу много неприятного, отстаивая право воспитывать солдат по своему методу, но сам же в душе понимал, что он во многом не прав. Сейчас он вспомнил об этом и покраснел. Хоть и говорил тогда искренне, горячо, однако недовольство собой не покидало его ни на один день. Чего-то недоставало ему в характере, а чего, он сам не знал. «Михаил круто завертывает и забывает, что так сломать можно. На одном дисциплинарном уставе далеко не уедешь», — думал Петр. И в то же время его бесило, что, несмотря на строгость и большую требовательность Ромашкова, солдаты больше уважали и любили капитана, чем его. Почему? Даже в игре в волейбол Петр считал себя лучшим игроком, но его команда всегда проигрывала той команде, где играл Михаил. Пробовали меняться местами — все равно снова проигрывал. Ромашков был упрям и напорист, умел весело, метко высмеивать «мазил». Солдаты в его команде загорались всегда и побеждали противника. Когда Пыжиков и Баландин подъезжали к длинному, чисто побеленному зданию — общежитию рабочих завода, — было раннее утро. Жены рыбаков только что проснулись и, гремя бадейками, шли к колодцу. Над крышей пекарни курился легкий сизый дымок. Пахло свежевыпеченным хлебом, рыбой и морем. Вдоль пирса застыл металлический транспортер. Рядом с ним двумя посеревшими от пыли горами возвышались бурты соли. На штабелях новых, приготовленных для засолки хамсы бочонках играли яркие солнечные лучи. В ожидании путины завод все еще стоял. Тихо было вокруг. Только море ворочалось у берега, беспокойно и грузно перекатывало звеневшую гальку. Метеоролог и радист завода Настя Богунова в своих зеленых спортивных брюках, в беленькой майке, в тапочках на босую ногу приклеивала на щит утреннюю сводку погоды. Петр подъехал, остановил коня и поздоровался. Девушка в одной руке держала банку с клеем, другой — приветливо помахала ему в ответ и поправила густо лежащие на плечах каштановые растрепанные волосы. Синеглазое, чуть продолговатое загорелое лицо ее с крохотной на щеке родинкой было еще заспано. На упругих щеках, словно на созревающих яблоках, цвел, наливался румянец то ли от жесткой подушки, то ли от неожиданного появления офицера на высоком белоногом коне. Несмотря на заспанный вид, запутанные в волосах перышки и стоптанные тапочки, Настя была очень хороша своей ранней, девичьей зрелостью. Петру казалось, что беленькая майка, туго обтягивающая ее высокую грудь, сейчас лопнет и обнажит коричневый загар, которым так гордилась Настя. — Как погодка? — доставая из кармана папиросы, спросил Пыжиков. — Отличная. Ветерок два бальчика, море двадцать три, как молочко парное. Сейчас побегу и с пирса вниз головой — бултых! Прелесть! Давайте вместе, а? Пыжиков, сильно затянувшись табачным дымом, закашлялся и склонился с седла набок. Настя — этот неукротимый, умный звереныш, приручить которого не было никакой возможности, — вдруг зовет купаться! Да, тут не только можно закашляться, но и захлебнуться! А она стоит, босоногая, косит прищуренными глазами на Баландина и улыбается, словно хочет сказать: «Отъезжай, солдатик, в сторонку, чего зенки-то вытаращил». Так и понял ее Баландин. Тихо тронув поводья, давая дорогу проходившему мимо стаду коров, он отъехал за маленький украинского типа домик. Сытые коровы двигались медленно, лениво помахивая хвостами. Далеко позади, щелкая кнутом, шел пастух Евсей Макаенко, у которого квартировала Настя. Макаенко был дружок ее отца. — Так не хотите купаться? — спросила Настя и тут же, насмешливо кивнув головой, добавила: — Боитесь? А капитан еще не вернулся? — Скоро приедет, — неопределенно ответил Пыжиков. — Как это, скоро? Через день, через два? — А вы, что… соскучились? — ревниво спросил Петр. — Вот еще новости! Буду я скучать, тоже скажете… Он у вас вообще такой воображала! — Но уж это вы зря, — возразил Пыжиков. — Ничего не зря. Сейнер рыбу привезет, так он весь трюм облазит, все осмотрит. Подумаешь, шпионов ищет… Ему, наверное, и во сне-то снятся одни шпионы. — Настя громко рассмеялась. — Я недавно заплыла с километр, так он шлюпку с солдатом выслал и давай меня отчитывать… Чуть не до вечера продержал у себя. И не проводил. — А, по-моему, вы ему даже немножко нравитесь, — шутливо сказал Петр. — А мне-то что! Подумаешь… Я с завтрашнего дня в отпуск иду, отправлюсь к маме. Проводите меня? А то я одна боюсь. — Кого же вы боитесь? — Шакалов и кабанов. Кабаны сейчас целыми стадами на кукурузные поля приходят. Ужас, что разделывают! Так проводите? — Как начальник вернется, я тоже в отпуск ухожу — и пойду с вами хоть на край света. — Не очень-то я вам верю. Даже искупаться со мной боитесь. Куда там! Скажут, офицер с метеорологичкой в море плавал. Ужас! Ну, всего, а то мой дед приближается, кнутом вытянуть может… Настя повернулась, перепрыгнув через транспортерную ленту, вбежала на дощатый настил пирса. Быстро раздевшись и вытянув вперед руки, она рыбкой скользнула в море. Вынырнув из-под ласковой волны, помахала растерявшемуся Петру рукой. Он вытащил из кармана платок и вытер взмокший от пота лоб. Стадо уже прошло. На дороге плавно оседала легкая пыль. Чернобородый, с коротко подстриженными усами Евсей, остановившись, погрозил купающейся Насте кнутом. — От же, бисова дивка! Ну, погоди… — За что вы ее браните, Евсей Егорыч? — поздоровавшись с пастухом, спросил Петр. — За то, що озорует шайтанка, плавает на две версты. — Евсей Егорыч повернулся и положил сыромятный кнут на плечо. На поясе у него висели широкий в кожаных ножнах кинжал и пара огромных орлиных лап со свежими следами крови. — А это у вас откуда? — рассматривая когтистые лапы, спросил Пыжиков. — Да зараз тут вышла одна история. И до вас тоже есть дельце. Хотел мальчишку со скотиной оставить да к вам на заставу шагать, а теперь кстати встретились. Сегодня рано утречком поднялся я на Орлиную скалу гнездо пошукать. Вчера этот самый чертяка у меня молодого баранчика утащил. Залез я аж на самый утес, нашел гнездо и косточки моего баранчика. Все я там позорил, а главному хищнику пришлось заряд влепить и лапы отрезать. Вот они, — потряхивая поясом, закончил Евсей. — Вы, Евсей Егорыч, молодец! А до нас какое дело? — спросил Пыжиков. — Есть. Подождите, я все расскажу по порядку. Значит, всадил я ему заряд и решил крылья отрезать, чтоб потом высушить и на стенке в хате повесить. Трофей богатый, размах почти два метра. Обработал я их и присел на скалу, зажег трубку и на бухту любуюсь. Такая, брат, красота! Утром море тихое, гладкое, кефаль прыгает, аж брызги летят. Смотрел, смотрел и вижу ялик затопленный. Всякий раз на этом месте сижу, не видел и вдруг заметил. А у меня, скажу вам, глаз еще острый. Добрый такой ялик. Зачем ему там быть? — А вы уверены, что раньше его там не было? — спросил Пыжиков. — Я ж вам говорю, что глаз у меня острый, дай боже всякому, подтвердил Евсей Егорыч. — Так. В каком же это месте? — В самой бухте, против высокой скалы. Мабуть, шагов сто от берега. Як раз там, где рыбачья тропа и спуск к морю. Да я могу с вами проехать и показать. — Спасибо, Евсей Егорыч. Я это место знаю. Мы проверим. До свидания. — Будьте здоровеньки. Петр пришпорил коня. Сначала поехал крупным шагом, а потом, перейдя на широкую рысь, быстро скрылся за заводскими постройками. Баландин едва за ним поспевал. Приехали на заставу: старший лейтенант соскочил с коня и сразу же связался по телефону с комендатурой. Дежурный по комендатуре офицер выслушал его внимательно и приказал срочно выехать на место, тщательно проверить и о результатах немедленно доложить. Когда Пыжиков вышел из казармы, коней еще не расседлали. Он кликнул Баландина и велел приготовиться к поездке. — Далеко поедем, товарищ старший лейтенант? — спросил Баландин. — К Орлиной скале. Веди быстрей! — поторопил Петр. — А может, сначала позавтракаете? — Вы же не кушали… Я за это время коней напоил бы, — услужливо и в то же время со скрытой настойчивостью проговорил Баландин. Он был голоден и ему не хотелось уезжать от солдатского завтрака. Достаточно было напомнить о еде, и Петру тоже захотелось есть. Но он отлично понимал, что надо срочно ехать. Приказ есть приказ, да и самому интересно было проверить, что за лодку обнаружил пастух Макаенко. — Давайте коней! Сколько раз еще повторять? — с раздражением сказал он Баландину. — Я же не о себе беспокоюсь… Баландин подвел лошадей. Петр проверил подпругу и, убедившись, что она достаточно подтянута, мешковато влез на коня. Через час они подъехали к Орлиной скале, которая горделиво поднималась над бухтой. С гор дул легкий утренний ветер. Море было лениво-спокойное и необыкновенно голубое. Разморенный ездой и ярким солнцем, начавшим основательно припекать, Пыжиков выехал на край крутого обрыва и с облегчением остановил коня. Не спеша он вынул из футляра бинокль, поднес к глазам и стал просматривать широкую бухту. — Что же вы там ищете, товарищ старший лейтенант? — спросил Баландин. — Пастух где-то тут обнаружил затопленную лодку, а я вижу старый катер, — ответил Пыжиков. — Его и я вижу, — Баландин разочарованно махнул рукой и, свертывая цигарку, продолжал: — Стоило из-за этого тащиться! Спросили бы меня. Этот катер нам давно глаза намозолил. Сколько было переполоху из-за этой посудины. Как молодые солдаты идут в наряд, заметят и доносят… — Это ничего. Старик просто не разобрался. Пыжиков был убежден, что Евсей Егорыч увидел именно этот катер, который был затоплен еще во время войны. — А что тут разбираться, товарищ старший лейтенант? Тут и ребенку яснее ясного, — ворчал проголодавшийся Баландин. — Ну что же, теперь обратно будем качаться? — Да, едем, — Петр решительно повернул коня. Ехали все время шагом. Над горами высоко поднялось солнце, стало припекать без всякой пощады. Покачиваясь в такт шагам коня, Пыжиков думал о Насте: «Девушка с фокусами, а тянет к ней, да как тянет… Сделать предложение, жениться? А вдруг она расхохочется и превратит все в злую шутку? Странная все-таки девушка! — думал Пыжиков, въезжая во двор заставы. — Странная… Да и как на это посмотрит мама?»Глава пятнадцатая
Возвращаясь из отряда, капитан Ромашков до комендатуры доехал попутной машиной. Зайдя в штаб, решил позвонить на заставу и вызвать коней. — От Пыжикова было тут одно донесение, — поздоровавшись с капитаном, сказал дежурный. — Какое? — встревоженно спросил Ромашков. Дежурный, поднявшись со стула и скрипя новыми сапогами, подошел к схеме участка. — Будто бы вот здесь у Орлиной скалы обнаружена затопленная лодка. — Кем обнаружена? — Вы знаете пастуха Макаенко? — Так точно. Хороший старик. А в чем дело? — Ромашков почему-то вдруг вспомнил его жиличку и покраснел. — Дело в том, что лодку эту будто бы обнаружил пастух Макаенко. Я Пыжикову приказал немедленно проверить. Он проверил и доложил, что это не лодка, а старый катер, о котором мы знаем. — Дежурный присел за стол и взял из папки мелко исписанный лист бумаги. — Я было составил шифровку, но задержал ее. Почему-то возникло сомнение… Как бы шуму зря не наделать. Собрался поехать и лично проверить, а вы тут подвернулись. Поезжайте и все обстоятельно выясните. — Слушаюсь, — сказал Ромашков. — Разрешите вызвать коней! — Не нужно. Берите нашу машину. Я распоряжусь. Ромашков встал и оправил аккуратно сидевшую на его плотной фигуре гимнастерку. Пока он дошел до гаража, шофер уже выехал и ждал во дворе. Михаил сел в машину и затянул брезентовую дверцу. — Можно, товарищ капитан, с ветерком? — нажимая на стартер, спросил краснощекий с усиками солдат. — Можно с ветерком, — согласился Ромашков. Мотор гулко задрожал, и машина рванулась с места. Когда выскочили за город, серая лента шоссейной дороги сразу же врезалась в зелень садов и виноградников. Под рубчатыми шинами захрустела разбитая, изжеванная колесами щебенка, над брезентовым кузовом загудел встречный ветер, а позади машины мутным клубком завихрилась пыль и, медленно оседая, густо ложилась на придорожные кусты и виноградники. Михаилу было жаль эти посеревшие от пыли листья и сизые гроздья винограда, покрытые слоем грязи. Неприятно было смотреть на это. Но он заметил, что пыльно было только около дороги, а чуть подальше от нее, на склоне гор, виноградники зеленели буйно и радостно. Сочные, омытые ночной росой листья шелестели на ветру, а под ними пил солнечные лучи, дозревал, наливался соками виноград. Долго, с пронзительным завыванием машина карабкалась на перевал, потом, выкручиваясь на откосах, лезла круто вверхпод сплетенными, как шатры, кустами и, наконец, прыгая на камнях, скатилась к морю и остановилась на окраине рыбачьего поселка. Разыскав Евсея Егорыча, Михаил присел с ним на завалинке и начал расспрашивать о затонувшей лодке. Чем дальше он его слушал, тем больше хмурился, словно злясь на шум моря, крики петухов и девичий голос, который мешал ему своей звучной мелодией, раздававшейся из открытого окна совсем некстати. — Вот же голосит! И день будет голосить и ночь, — не то с осуждением, не то с похвалой проговорил Евсей Егорыч. Он не спеша набил трубку и закурил. — Ваша жиличка? — спросил Ромашков, хотя отлично знал, что это она. Зачем спросил — он и сам не ответил бы. — Она, — ответил Евсей Егорыч. — Такая голосистая одна на весь поселок. Свой брехливый листок о погоде вывесит, а потом начнет в море кувыркаться да вашему лейтенанту голову кружить. — Приезжал? — прислушиваясь к веселой песенке, хмуро спросил Михаил. — А как же! Каждое утро, будто казак, на коне около дома гарцует. С сегодняшнего дня она в отпуске, к матери в горы собирается — аж туда, за перевал, в Дубовики. Учена, а пуста, як вон та из-под тюльки бочка. Языком тарахтит, с ребятишками по горам лазает. Взгальная и батько ее, Макар, такой же… — Он, кажется, сидел? — спросил Ромашков. — Было такое дело. — Куркуль, что ли? — Да який там куркуль! Так, брехун и больше ничего. От колгоспа отказался, председателя осрамил и даже поколотил трошки. Вот его взяли, подержали малость и выпустили. Теперь там, в горах, в леспромхозе. Он хоть и мой приятель, а характер буйный, в особенности, когда за щеку зальет, Я ему всегда бой даю. Жинка у него, Лукерья, баба добрая, гарная баба… А дочка вся в него, тоже буйная и озорная. Неожиданно песня умолкла. За забором мелькнула девичья головка с бантиком в волосах и тут же исчезла. Через минуту в деревянной калитке, как в рамке, выставилась Настина фигурка в белом атласном платье, с лиловым на груди цветочком. Синеватые, озорные, чуть-чуть прищуренные глаза беззаботно и весело улыбались. — Здравствуйте, товарищ капитан, — проговорила она певучим и протяжным голосом. — Давненько мы с вами не виделись. — Здравствуйте, — смущенно поприветствовал ее Ромашков и отвернулся. — Может, я помешала вашим государственным делам, то извините. Михаил не вытерпел и снова посмотрел на девушку. Настя, раскинув загорелые руки, держалась ими за стойки калитки и, будто напоказ, выставила зеленую на высоком каблучке туфлю, непринужденно и ловко покачивала стройной ножкой в темном, не отличимом от тела шелковом чулке. — Ведь знаешь, бесовка, что мешаешь, а лезешь! — Евсей вынул изо рта трубку и сердито сплюнул. — А может, у меня тоже дело есть! — Было дело, да шавка съела, — проворчал Евсей Егорыч. — Я в горы иду и боюсь, чтобы меня кабан не съел, — дерзко взглянув на старика, проговорила Настя. — В горы? Можно подумать, что вы собрались на танцы, — усмехнулся Ромашков. — А это так, примерила по случаю отпуска, — Настя взглянула на свое нарядное платье, вынула из-за пазухи розовый платочек и кокетливо обмахнулась им. Капитан Ромашков невольно залюбовался девушкой и не узнавал ее. Она продолжала улыбаться. Улыбалась такой улыбкой, от которой может растаять даже самая черствая душа. — Если дело, то говорите, а то я тороплюсь, — примирительно и сбивчиво сказал Ромашков и крепко сжал губастый рот. — Вы всегда торопитесь, — поймав его смятенный взгляд, усмехнулась Настя. — Наверное, опять шпионов ловите? Много их поймали? — Ты вот что: аль говори, аль тикай отсюда! — строго приказал Евсей Егорыч. — Нечего головы людям морочить! — Вы на меня не кричите, дядя Евсей. Я иду в горы. Меня обещал проводить старший лейтенант Петя Пыжиков. Вот я и хочу знать: можно ему меня проводить или товарищ капитан Ромашков не разрешит? От такой колкости, высказанной самым вежливым тоном, Ромашков даже встал, но ничего не сказал. — Уйди ты, бисова дочь! — прикрикнул Евсей и тоже поднялся. Но Настю, видимо, смутить было нелегко. Она с упрямой настойчивостью повторила: — Значит, нельзя ему? Выходит, что пусть меня задерет в лесу косолапый медведь, запорет клыкастый кабан, а вам всем наплевать, да? Ведь надо шагать лесом пятнадцать километров! Может, вы меня сами проводите? Вот сидите тут, на завалинке, и от нечего делать байки дяди Евсея слушаете. Ромашков свирепо блеснул глазами. Он злился на себя и на весь белый свет. Настя это отлично видела и, чтобы еще больше его разозлить, подпустила еще одну каверзу: — И почему вы, капитан Ромашков, меня не любите? А ведь вы вначале маленько нравились мне, честное слово! Я думала, что с таким человеком можно и на Эльбрус слазить. Мы бы там на самой вершине красный флажок поставили. Мне ведь тоже хочется какой-нибудь подвиг совершить. А разве с вами, таким, совершить? Заместитель ваш, Петя Пыжиков, только вздыхает, а вы черствый и злой человек! До свидания, капитан Ромашков, — Настя все это протараторила и нырнула в калитку. — Ну и штука! — озадаченно вздохнул Ромашков. — Я ж вам говорил, что взгальная. Вы ее батьку Макара послухайте, еще не то скажет… Значит, едем? — Да, едем, Евсей Егорыч. — Ромашков взглянул на часы. — Мы задержались… Капитан стащил с головы фуражку и растерянно пригладил курчавые волосы. В голову лезли самые несуразные мысли.Глава шестнадцатая
Ромашков шел к машине душевно напряженный и взъерошенный. Всю дорогу молчал, злился на себя и на эту взбалмошную девчонку. А в голове вертелась все та же самая «глупость», которая неожиданно посетила его после ухода Насти. «Для Пыжикова она совсем не подходит!» — не уходило из головы нелепое и досадное убеждение. А почему не подходит, он не мог ответить даже самому себе. До этого он встречал метеорологичку почти каждый день. Как только приходил сейнер или катер, она появлялась на пирсе со своими склянками и термометром. Ромашкова она окидывала, как ему казалось, вкрадчивым затаенным взглядом, словно подстерегала, как воробья, но всегда была тиха и молчалива. Эта тишайшая смиренность настораживала Михаила и даже отталкивала от девушки. Со слов Петра он знал, что она не такая уж паинька… А сегодня открылась, да так, что Ромашкову стало не по себе. Почему она так вольно разговаривала? Может, оттого, что всего две девушки на весь далекий рыбацкий поселок? Они знают, что на заставе только тетка Ефимья. За ней не поухаживаешь! Ее там мужчины даже побаивались. Если случалось, что в прачечную не вовремя подвозили воду или забывали наколоть дрова, Ефимья Пантелеевна шла не к начальству, а прямо к солдатам и смело брала права старшины. Тогда происходило примерно следующее: — Послушай, Архипушка, — сознательно путая имя своей жертвы, ласково начинала Ефимья. — Слушаю, тетя Феня, — рассеянно отвечал Нестеров. — Это чья на тебе гимнастерка-то? — Как чья? Моя, конечно, — удивлялся пограничник. — А у тебя, вроде, как другая была, поаккуратней и почище. Нет, это не твоя… Совсем другая, Архипушка. — После этого от хохота начинали дрожать стены. — Да я не Архип, а Иван! Что вы, тетя Феня! — Прости, имя перепутала, прости, товарищ Нестеров, — со скрытым коварством поправлялась Ефимья Пантелеевна. — Я ведь тебя знаю как самого первейшего отличника, другим в пример ставлю, а сейчас гляжу — гимнастерка загвазданная, будто ее наш заставский телок до утра жевал. Значит, твоя? — Да говорю же — моя! Солдатский смех усиливался, а у Нестерова начинала краснеть шея. Поправляя измятую гимнастерку, он виновато добавлял: — В наряде… дождик был, да и на занятиях ползали. — Все понимаю, милай, все… Поди, стирать принесешь? — Обязательно, тетя Феня! — Вот-вот, приноси. Я тебе отутюжу горяченьким… Недельки через две будет готова… — Как это, недельки через две? — удивленно спрашивал Нестеров. — А так. Воды у меня нет, не везут. Дров ни полена. Где ж, милай, я уголечков-то возьму? — Да я, тетя Феня, мигом. А ну-ка, ребята, давайте быстренько, — поторапливал Нестеров, и через минуту весело звенела пила, а через края бочки плескалась только что привезенная вода. К солдатской опрятности простодушная на вид Ефимья относилась с женской щепетильностью и беспощадностью. Ее незаметная на заставе роль прачки имела свое высокое назначение и помогала воспитанию людей. Солдаты как бы подтягивались и начинали тщательно следить за своей внешностью, проникаясь к этой ворчливой, работящей женщине глубоким уважением. Ромашков вспомнил Ефимью Пантелеевну и вздохнул. Она ухаживала за ним, как за сыном, — свой-то погиб во время войны. А он, капитан Ромашков, даже не успел купить ей в городе хотя бы маленький, скромный подарок, а ведь думал об этом все время. «Выходит, правду сказала Настя, что я черствый и злой человек. Вел себя сегодня глупо. Ой, как глупо!» От таких мыслей Михаил все больше мрачнел и злился. С того времени, как они выехали из рыбачьего поселка, прошло минут сорок. Оставалось метров двести самой плохой дороги. Машина шла по узкой тропе. Густо растущий кустарник царапал колючками по брезенту. Подпрыгивая на неровностях, машина выкатилась на взгорье и остановилась у высокого обрыва. Здесь берег был непроходим. Над полукруглой естественной бухтой гигантской серой громадой возвышались скалы, а к самому их подножью подступало море. Только с северной стороны рыбаки выдолбили в граните ступеньки, по которым можно было спуститься к небольшому пляжу. С моря к нему удобно подходить на ялике, укрыться от непогоды или же вскарабкаться наверх. Там начинались глухие лесные заросли, которые тянулись на огромном пространстве — до самых кавказских хребтов. Бухта Орлиные скалы, защищенная с трех сторон горами, была доступна лишь западным ветрам. Когда начинал дуть «моряк», она превращалась в огромный бурлящий котел. Море гневно клокотало, шумело буйно и гулко. Волны ворочали тяжелые подводные камни, подкатывали их к берегу и разбивали в щебенку о могучие угрюмые скалы. Шквальные порывы рождались где-то в просторах моря, свирепо налетали на берег и вдребезги разшибались о громаду гор. Рыбаки в шутку прозвали эти шквальные порывы «Встречный ветерок». Когда Ромашков и Евсей Егорыч подъехали к бухте, море было на редкость тихое. Оно ласково шевелилось, манило разноцветными бликами и томной прохладой. Казалось, что в золоте солнечных лучей синий горизонт был наполнен спокойствием и величием застывшей, но неукротимой силы. — Прикатили як раз, куда треба, — довольно сказал Евсей. — Значит, здесь? — напряженно спросил Ромашков. — А кто же ее знает, может, и уплыла. Была тут. Зараз побачим. Евсей Егорыч как-то сразу вдруг посуровел. Сузив желтые ястребиные глаза, он напряженно вглядывался в одну точку. «А вдруг ее уже действительно нет? — думал и волновался старик. — Скажут, сбрехал старый черт, зря всех взбулгачил». «Если лодка здесь, — не оставляла тревожная мысль Ромашкова, то все мы окажемся преступниками. Прошло два дня, а не удосужились детально проверить. Пыжиков с Настей кокетничает, а когда проверял, то, может, набрел на старый катер, — а ведь он лежит совсем не здесь». Вместе с тем перед глазами стояла озорная, с цветком на груди девица, — она так застряла в мозгах, что хоть голову отсекай напрочь. Вот так иногда прилипает к человеку какая-нибудь глупенькая поговорка или надоедливый мотив, что не вышибешь из памяти. Вспомнив в эту минуту Настю, Ромашков со злостью ударил носком сапога подвернувшийся под ноги камень и больно ушиб пальцы. К нему подошел черноусенький шофер и, беспечно покуривая цигарку, воскликнул: — Какая красота! — Что? — крепко сжав челюсти, спросил Михаил. — Бухта, говорю, очень красивая. — Вы тоже очень красивы… Бороду еще отпустите. Михаил вглядывался в море затуманенными от гнева глазами, но ничего не видел. Шофер усмехнулся и отошел в сторонку. Евсей Егорыч, стоя на корточках, прикрыл рыжие брови ладонью, шарил глазами по желтоватому у берегов морскому дну. Вдруг он медленно сел на камни и с облегчением вытянул ноги. Протерев слезящиеся глаза, полез в карман за кисетом. — Ну что, Евсей Егорыч? — подойдя к пастуху поближе, тревожным глухим голосом спросил Ромашков. Старик молча продолжал набивать трубку. — Здесь или нет? — нетерпеливо спросил капитан. — А вы сами тоже поищите… Глаза у вас молодые, зоркие. А то скажете, как Пыжиков, — «катер»! — Евсей Егорыч хмуро раскурил трубку. — На месте! — кинув на капитана тяжелый взгляд, ответил Евсей Егорыч. Приставив ладонь к козырьку фуражки, Ромашков то приседал, то поднимался, но видел только лениво покачивающееся море. В голове сумбурным клубком путались тревожные мысли. Силуэт лодки то возникал, то исчезал.
 Михаил почувствовал, как кровь горячо прилила к щекам, а на лбу выступили холодные капли и потекли к нахмуренным бровям, заливая раскаленные от волнения глаза. Он вытер лицо рукавом гимнастерки и растерянно оглянулся на пастуха.
Покуривая трубочку, тот спросил:
— Ну, есть что-нибудь? Или мне это привиделось?
— Вроде есть, — неуверенно сказал Ромашков. — Море рябит.
— А море, оно почти всегда рябит! — Евсей Егорыч взял Ромашкова за рукав. — Глядите в то место, где из воды торчат два камня, чуть левее.
Последних слов пастуха Ромашков не расслышал. Он уже увидел контур затонувшей лодки, вздрогнул и опустил руки. Сердце резко колотилось, сжималось от нехорошего предчувствия. Евсей Егорыч все понял и, поднявшись с камней, начал отряхиваться.
— Вот тут как лежала — так и лежит…
Тревожа лежащие на тропе мелкие камни, которые с грохотом покатились по скалам, Ромашков спустился к берегу. Пуговицы он расстегнул на ходу. Сняв гимнастерку, швырнул ее вместе с рубашкой на накатанную морской волной щебенку, потом стащил сапоги и, войдя в воду, быстро поплыл.
Лодка была затоплена примерно в семидесяти метрах от берега на малой глубине. Осмотр был недолгим. Капитан тут же вылез из воды. Ярко грело полуденное солнце, а Ромашков дрожал и не сразу попал ногой в штанину.
— Ну и как, товарищ начальник? — спросил тихо Евсей Егорыч.
Ромашков молчал. Говорить ему было трудно. Как он мог сказать, что лодка новенькая, с сильным на корме мотором иностранной марки. А под банкой вместе с баллонами для бензина лежал упакованный в непромокаемую бумагу второй такой же мотор — запасной. Хозяева лодки, видимо, были люди предусмотрительные.
— Когда вы ее, Евсей Егорыч, увидели? — торопливо застегивая воротник гимнастерки, спросил капитан.
— Позавчера утром. Тогда же и сказал вашему заместителю. Говорил ему: поедем вместе, а он один поехал и не туда.
— Это мне понятно! — Михаил решительно кивнул головой и как-то странно улыбнулся. Напрягая волю, он быстро и лихорадочно соображал, о чем будет докладывать в комендатуру и какие слова скажет Пыжикову. — Едем, Евсей Егорыч, — поторопил он старика и туго затянул ремень.
— А как с лодкой? — спросил Евсей.
— Ничего. Распорядимся. Поехали, — ответил он.
Когда сели в машину, шоферу он бросил лишь одно слово: «Жми!» Но так посмотрел на него, что тот поежился и, навалившись на баранку грудью, дал полный газ.
Михаил почувствовал, как кровь горячо прилила к щекам, а на лбу выступили холодные капли и потекли к нахмуренным бровям, заливая раскаленные от волнения глаза. Он вытер лицо рукавом гимнастерки и растерянно оглянулся на пастуха.
Покуривая трубочку, тот спросил:
— Ну, есть что-нибудь? Или мне это привиделось?
— Вроде есть, — неуверенно сказал Ромашков. — Море рябит.
— А море, оно почти всегда рябит! — Евсей Егорыч взял Ромашкова за рукав. — Глядите в то место, где из воды торчат два камня, чуть левее.
Последних слов пастуха Ромашков не расслышал. Он уже увидел контур затонувшей лодки, вздрогнул и опустил руки. Сердце резко колотилось, сжималось от нехорошего предчувствия. Евсей Егорыч все понял и, поднявшись с камней, начал отряхиваться.
— Вот тут как лежала — так и лежит…
Тревожа лежащие на тропе мелкие камни, которые с грохотом покатились по скалам, Ромашков спустился к берегу. Пуговицы он расстегнул на ходу. Сняв гимнастерку, швырнул ее вместе с рубашкой на накатанную морской волной щебенку, потом стащил сапоги и, войдя в воду, быстро поплыл.
Лодка была затоплена примерно в семидесяти метрах от берега на малой глубине. Осмотр был недолгим. Капитан тут же вылез из воды. Ярко грело полуденное солнце, а Ромашков дрожал и не сразу попал ногой в штанину.
— Ну и как, товарищ начальник? — спросил тихо Евсей Егорыч.
Ромашков молчал. Говорить ему было трудно. Как он мог сказать, что лодка новенькая, с сильным на корме мотором иностранной марки. А под банкой вместе с баллонами для бензина лежал упакованный в непромокаемую бумагу второй такой же мотор — запасной. Хозяева лодки, видимо, были люди предусмотрительные.
— Когда вы ее, Евсей Егорыч, увидели? — торопливо застегивая воротник гимнастерки, спросил капитан.
— Позавчера утром. Тогда же и сказал вашему заместителю. Говорил ему: поедем вместе, а он один поехал и не туда.
— Это мне понятно! — Михаил решительно кивнул головой и как-то странно улыбнулся. Напрягая волю, он быстро и лихорадочно соображал, о чем будет докладывать в комендатуру и какие слова скажет Пыжикову. — Едем, Евсей Егорыч, — поторопил он старика и туго затянул ремень.
— А как с лодкой? — спросил Евсей.
— Ничего. Распорядимся. Поехали, — ответил он.
Когда сели в машину, шоферу он бросил лишь одно слово: «Жми!» Но так посмотрел на него, что тот поежился и, навалившись на баранку грудью, дал полный газ.
Глава семнадцатая
Доехали скоро. Машина, бешено завывая, вкатилась во двор заставы и с лихим разворотом остановилась около открытых дверей казармы. Сержант Батурин, дежуривший по заставе, отчетливо и бойко отдал положенный рапорт. Не успел он договорить еще последние слова, как начальник заставы тихим, но властным голосом приказал: — Всех в ружье! Бегом! — В ружье! — крикнул ошеломленный дежурный и, повернувшись, исчез в дверях.
Ромашков быстрыми шагами вошел в свой кабинет и снял телефонную трубку.
В кабинете после ночной поверки нарядов, растянувшись на кровати под белоснежной простыней, отдыхал старший лейтенант Пыжиков. Когда Михаил, гремя телефонным аппаратом, вызывал комендатуру, Петр проснулся. Открыв глаза, он сладко зевнул и ворчливо проговорил:
— Ты что, милый друг, людям спать не даешь? Здравствуй, с прибытием! Отлично, что ты приехал. Я хочу сегодня проситься в отпуск. Вместе с Настей.
Но Ромашков даже не повернулся. Чуть скосив на Пыжикова застывшие глаза, он тотчас же отвел их и стал свирепо продувать зажатую в кулак трубку. Услышав голос дежурившего по комендатуре офицера, коротко, словно рубя каждое слово, начал докладывать:
— Ваше приказание выполнил. Осмотрел береговую кромку. Мной обнаружена лодка с двумя моторами, с запасом бензина. Да. Иностранной марки… Нарушители высадились, видимо, два дня назад, во время шторма, и ушли…
Старший лейтенант поднялся и опустил босые ноги на коврик. Глаза его дико расширились. Казалось, что он наступил голой подошвой не на мягкий пушистый ворс, а на живую холодную змею. Почувствовав во всем теле озноб, он убрал ноги под простыню, но тут же опустил их снова на коврик.
Ромашков, склонившись к аппарату, убийственно жестким голосом продолжал докладывать:
— Место осмотрено не было. Пастуха он не брал. Никак нет. Понятно. Слушаюсь… Понятно. Слушаюсь…
Петр тоже все понял, но, еще не веря своим ушам, спросил:
— Какая лодка? Где? Это же старый катер, я сам…
Поймав взгляд капитана, он тут же умолк. Горло перехватила удушливая спазма.
Ромашков повесил трубку, быстро открыл сейф, достал карту и стал вкладывать ее в планшетку. Вид Петра с босыми ногами на ковре его просто бесил и в то же время производил тяжелое впечатление.
— В отпуск собрался, — с сердитым, уничтожающим сарказмом проговорил он.
— Что ты говоришь? — ловя трясущимися руками пуговицу на рубахе, недоуменно спросил Петр.
— Почему ты пастуха не взял? — проверяя пистолетную обойму и с трудом сдерживая гнев, спросил Ромашков. — Ты понимаешь, что случилось, или нет?
— Я все слышал… Значит, лодка чужая. — Сжимая руками мосластые колени, Пыжиков только сейчас подумал о последствиях случившегося. «Нарушители высадились и ушли, углубились в огромный массив кавказских лесов. Попробуй-ка разыщи их там! Да они могли уже и уехать в любом направлении, с любой станции. И все это по его вине». — Пошевеливая бледными на ногах пальцами, не глядя на Ромашкова, Петр угрюмо проговорил: — Выходит, что я преступник и меня надо судить… Нет уж — лучше пулю в лоб, чем…
За стеной затихли дробный грохот сапог, лязг затворов, приглушенные команды сержантов. Солдаты, видимо, уже стояли в строю.
Ромашков уловил это и, круто повернувшись к Пыжикову, гневно крикнул:
— Встать!
Петр вздрогнул, но все же встал. Он поднял с глаз упавшие волосы и проговорил:
— Ты не кричи на меня…
— Я покажу тебе такую пулю! — Ромашков шагнул к нему и, остановившись, сжал кулак. — Одевайся, да живо! На заставе тревога, а ты в подштанниках, черт бы тебя побрал! Быстро, говорю!
Ромашков рывком натянул на сморщенный лоб фуражку и стремительно вышел из кабинета.
Петр, подпоясываясь на ходу, выбежал за ним вслед.
Солдаты заставы ожидали их в полном боевом снаряжении. Для одной группы у забора стояли подседланные кони, для другой была приготовлена трехтонная грузовая машина.
Ромашков принял от старшины рапорт и объявил боевой приказ.
— В ружье! — крикнул ошеломленный дежурный и, повернувшись, исчез в дверях.
Ромашков быстрыми шагами вошел в свой кабинет и снял телефонную трубку.
В кабинете после ночной поверки нарядов, растянувшись на кровати под белоснежной простыней, отдыхал старший лейтенант Пыжиков. Когда Михаил, гремя телефонным аппаратом, вызывал комендатуру, Петр проснулся. Открыв глаза, он сладко зевнул и ворчливо проговорил:
— Ты что, милый друг, людям спать не даешь? Здравствуй, с прибытием! Отлично, что ты приехал. Я хочу сегодня проситься в отпуск. Вместе с Настей.
Но Ромашков даже не повернулся. Чуть скосив на Пыжикова застывшие глаза, он тотчас же отвел их и стал свирепо продувать зажатую в кулак трубку. Услышав голос дежурившего по комендатуре офицера, коротко, словно рубя каждое слово, начал докладывать:
— Ваше приказание выполнил. Осмотрел береговую кромку. Мной обнаружена лодка с двумя моторами, с запасом бензина. Да. Иностранной марки… Нарушители высадились, видимо, два дня назад, во время шторма, и ушли…
Старший лейтенант поднялся и опустил босые ноги на коврик. Глаза его дико расширились. Казалось, что он наступил голой подошвой не на мягкий пушистый ворс, а на живую холодную змею. Почувствовав во всем теле озноб, он убрал ноги под простыню, но тут же опустил их снова на коврик.
Ромашков, склонившись к аппарату, убийственно жестким голосом продолжал докладывать:
— Место осмотрено не было. Пастуха он не брал. Никак нет. Понятно. Слушаюсь… Понятно. Слушаюсь…
Петр тоже все понял, но, еще не веря своим ушам, спросил:
— Какая лодка? Где? Это же старый катер, я сам…
Поймав взгляд капитана, он тут же умолк. Горло перехватила удушливая спазма.
Ромашков повесил трубку, быстро открыл сейф, достал карту и стал вкладывать ее в планшетку. Вид Петра с босыми ногами на ковре его просто бесил и в то же время производил тяжелое впечатление.
— В отпуск собрался, — с сердитым, уничтожающим сарказмом проговорил он.
— Что ты говоришь? — ловя трясущимися руками пуговицу на рубахе, недоуменно спросил Петр.
— Почему ты пастуха не взял? — проверяя пистолетную обойму и с трудом сдерживая гнев, спросил Ромашков. — Ты понимаешь, что случилось, или нет?
— Я все слышал… Значит, лодка чужая. — Сжимая руками мосластые колени, Пыжиков только сейчас подумал о последствиях случившегося. «Нарушители высадились и ушли, углубились в огромный массив кавказских лесов. Попробуй-ка разыщи их там! Да они могли уже и уехать в любом направлении, с любой станции. И все это по его вине». — Пошевеливая бледными на ногах пальцами, не глядя на Ромашкова, Петр угрюмо проговорил: — Выходит, что я преступник и меня надо судить… Нет уж — лучше пулю в лоб, чем…
За стеной затихли дробный грохот сапог, лязг затворов, приглушенные команды сержантов. Солдаты, видимо, уже стояли в строю.
Ромашков уловил это и, круто повернувшись к Пыжикову, гневно крикнул:
— Встать!
Петр вздрогнул, но все же встал. Он поднял с глаз упавшие волосы и проговорил:
— Ты не кричи на меня…
— Я покажу тебе такую пулю! — Ромашков шагнул к нему и, остановившись, сжал кулак. — Одевайся, да живо! На заставе тревога, а ты в подштанниках, черт бы тебя побрал! Быстро, говорю!
Ромашков рывком натянул на сморщенный лоб фуражку и стремительно вышел из кабинета.
Петр, подпоясываясь на ходу, выбежал за ним вслед.
Солдаты заставы ожидали их в полном боевом снаряжении. Для одной группы у забора стояли подседланные кони, для другой была приготовлена трехтонная грузовая машина.
Ромашков принял от старшины рапорт и объявил боевой приказ.

Часть вторая
Глава первая
Уже больше часа Настя идет по узенькой тропке. Она в легких тапочках и спортивных брюках, за плечами рюкзак. В правой руке у нее небольшой кизиловый посошок, а в левой — недозревшая гроздь винограда. Когда ей хочется пить, она откусывает несколько ягод и освежает рот кисловатым соком. В лесу жарко и душно. Подлески из рододендронов, дикой яблони, лещины, кизила и груши густо сплелись с плющом и виноградником и почти не пропускают воздуха. Над мелколесьем возвышаются гигантские дубы, загораживая своими мощными кронами горячее полуденное солнце. Сумрачно и угрюмо вокруг. Насте становится жутковато в этой безмолвной лесной чаще. Петя Пыжиков так и не пришел проводить, хотя бы до большого шоссе… Там, на развилке лесной дороги, она дождется попутного грузовика и километров восемь будет петлять по увалам, трястись в кузове до самых Дубовиков. Хорошо бы сесть в кабинку рядом с шофером, но на это надежды мало. Мягкое уютное местечко обычно занимают разные начальники.
Несколько раз Настю пугали шумно вылетавшие из темных кустов горные индейки — улары. Едва переводя дух, она с бьющимся сердцем замирала на месте. Потом, успокоившись, присаживалась на упавшее дерево и отдыхала. И во всем этом виноват был капитан Ромашков… Сам-то несколько дней в городе пропадал, — поди, каждый вечер в кино и парк ходил и, конечно, уж не один. Знаем мы таких строгих… А тут вот иди одна, да и оглядывай каждое дерево. Еще на косолапого налетишь!
Так, негодуя на бесчувственность хмурого начальника заставы, браня его на все лады, Настя, сама еще не зная как, решила наказать капитана Ромашкова. Наказать жестоко и страшно… С самой весны она расставляла перед ним всякие петельки, а он — ни одной улыбочки, ни одного ласкового словечка, будто не молодой человек, а сухая дубина.
Изредка поправляя рюкзак, Настя поднималась все выше и выше. У тропинки, видимо, был тоже несносный упрямый характер, как и у капитана Ромашкова. Вместо того чтобы обогнуть упавшее, в метр толщиной дерево, она, как змея, проползала под ним. Кругом же рос бородатый, колючий боярышник, терн, усыпанный сизыми ягодами, шиповник желтолистый, весь переплетенный и перепутанный ветвями ежевики. Попробуй-ка продерись через эти непроходимые заросли.
 Наконец часа через три она услышала гудки машин. Недалеко был большак. Тропинка вывела Настю на маленькую полянку, закрытую со всех сторон густолесьем, где под огромным кряжистым дубом сидели два человека и ели нарезанную ломтями дыню. Один, высоколобый, наголо выбритый, с широким добродушным лицом, с короткими мускулистыми руками, в белой шелковой тенниске, ел с ножа; другой, горбоносый, с черными вьющимися волосами, разламывал куски руками. Рядом с ними лежали два небольших чемоданчика: в таких курортники обычно носят полотенца и всякие приобретенные на пляже безделушки. Тут же в веревочной сетке на траве валялись две дыни и пестрый арбуз.
От неожиданности Настя растерянно остановилась, но спустя несколько секунд оправилась и решила пройти мимо. Однако сделать этого не удалось. Бритоголовый ее окликнул:
— Куда спешишь, красавица? Погоди.
— А я не спешу, — ответила Настя и остановилась. — Ну, и что вы хотите? — спросила она.
— Далеко отсюда станция Терская? Да вы не бойтесь, мы вас не съедим.
Бритоголовый мягко и покорно улыбнулся, как могут улыбаться сдержанные пожилые люди, много повидавшие на своем веку.
— А я не боюсь. — Настю расположила эта улыбка, ей стало немножко совестно за свой грубоватый вопрос. — Терская тут близко. Поднимите руку — и вас любой шофер довезет.
— Спасибо! Дыни, девушка, не хотите? Может, арбузика желаете?
— Хороший арбуз! Самый сахар! Такой только здесь родится, в этом богатый край, — с сильным кавказским акцентом проговорил горбоносый.
— Вы что… не здешние? — спросила Настя, облизывая сухие губы.
Наступила вторая половина дня, солнце палило нещадно. Ей очень хотелось попробовать арбуза, тем более впервые в этом году — они только что начинали созревать. Немного поколебавшись, Настя сняла рюкзак и присела к гостеприимным путникам. Они оказались курортниками без путевок, которых здесь почему-то зовут «дикими». Такие курортники заполняют летом все побережье. Они встречаются не только около большака, но и в любом захолустном уголке и на далеком пастбище, где можно попить молока и вдоволь насладиться целебным высокогорным воздухом.
Путешественники охотно рассказали о своем маршруте, который подходил уже к концу. Сейчас они были усталыми и решили на ближайшей же станции сесть на поезд, чтобы добраться до южного курортного городка.
Управившись с куском сочной дыни, а потом арбуза, Настя поблагодарила мужчин и отправилась дальше.
— Хорошая девушка! — сказал горбоносый, когда Настя скрылась. — На Кавказе много таких: свежая, как цветок, легкая, как горная лань.
— Ты здесь находишься не для того, чтобы на хорошеньких девиц заглядываться, — назидательно сказал бритоголовый.
— А зачем ты ее позвал? Пусть бы шла своей дорогой.
Горбоносый с остервенением обглодал арбузную кожуру и забросил ее в кусты.
— От приятной встречи уклоняется только глупый, — гласит мудрая поговорка. И еще говорят: встретил одинокого путника — узнай его намерения…
— Совет неплохой… Но что же мы будем делать дальше, Семион Власыч?
— Будем ждать бурную ночь. Будем ждать, когда подует встречный ветер.
— А сколько придется ждать?
— Сколько бог прикажет, — ответил бритоголовый и перекрестился двумя перстами, как русский старовер. — А сейчас пойдем на Терскую, к нашей старушке, закажем ей курочку и подождем хорошего норд-веста.
Они поднялись, взяли в руки свои курортные чемоданчики и пару желтых дынь в зеленой сетке.
В лесу по-прежнему было спокойно и тихо. Только где-то в далеком сумраке покрикивала желна да изредка стучал черный дятел. Взметнулась стайка дубоносов и с шумом рассыпалась по ветвям деревьев. А хохлатые воробьи, самые наглые из птиц, набросились на арбузную и дынную кожуру — и началась тут веселая потасовка… Им не было никакого дела до того, кто бросил сладкий кусок: друг ли, враг ли?
Наконец часа через три она услышала гудки машин. Недалеко был большак. Тропинка вывела Настю на маленькую полянку, закрытую со всех сторон густолесьем, где под огромным кряжистым дубом сидели два человека и ели нарезанную ломтями дыню. Один, высоколобый, наголо выбритый, с широким добродушным лицом, с короткими мускулистыми руками, в белой шелковой тенниске, ел с ножа; другой, горбоносый, с черными вьющимися волосами, разламывал куски руками. Рядом с ними лежали два небольших чемоданчика: в таких курортники обычно носят полотенца и всякие приобретенные на пляже безделушки. Тут же в веревочной сетке на траве валялись две дыни и пестрый арбуз.
От неожиданности Настя растерянно остановилась, но спустя несколько секунд оправилась и решила пройти мимо. Однако сделать этого не удалось. Бритоголовый ее окликнул:
— Куда спешишь, красавица? Погоди.
— А я не спешу, — ответила Настя и остановилась. — Ну, и что вы хотите? — спросила она.
— Далеко отсюда станция Терская? Да вы не бойтесь, мы вас не съедим.
Бритоголовый мягко и покорно улыбнулся, как могут улыбаться сдержанные пожилые люди, много повидавшие на своем веку.
— А я не боюсь. — Настю расположила эта улыбка, ей стало немножко совестно за свой грубоватый вопрос. — Терская тут близко. Поднимите руку — и вас любой шофер довезет.
— Спасибо! Дыни, девушка, не хотите? Может, арбузика желаете?
— Хороший арбуз! Самый сахар! Такой только здесь родится, в этом богатый край, — с сильным кавказским акцентом проговорил горбоносый.
— Вы что… не здешние? — спросила Настя, облизывая сухие губы.
Наступила вторая половина дня, солнце палило нещадно. Ей очень хотелось попробовать арбуза, тем более впервые в этом году — они только что начинали созревать. Немного поколебавшись, Настя сняла рюкзак и присела к гостеприимным путникам. Они оказались курортниками без путевок, которых здесь почему-то зовут «дикими». Такие курортники заполняют летом все побережье. Они встречаются не только около большака, но и в любом захолустном уголке и на далеком пастбище, где можно попить молока и вдоволь насладиться целебным высокогорным воздухом.
Путешественники охотно рассказали о своем маршруте, который подходил уже к концу. Сейчас они были усталыми и решили на ближайшей же станции сесть на поезд, чтобы добраться до южного курортного городка.
Управившись с куском сочной дыни, а потом арбуза, Настя поблагодарила мужчин и отправилась дальше.
— Хорошая девушка! — сказал горбоносый, когда Настя скрылась. — На Кавказе много таких: свежая, как цветок, легкая, как горная лань.
— Ты здесь находишься не для того, чтобы на хорошеньких девиц заглядываться, — назидательно сказал бритоголовый.
— А зачем ты ее позвал? Пусть бы шла своей дорогой.
Горбоносый с остервенением обглодал арбузную кожуру и забросил ее в кусты.
— От приятной встречи уклоняется только глупый, — гласит мудрая поговорка. И еще говорят: встретил одинокого путника — узнай его намерения…
— Совет неплохой… Но что же мы будем делать дальше, Семион Власыч?
— Будем ждать бурную ночь. Будем ждать, когда подует встречный ветер.
— А сколько придется ждать?
— Сколько бог прикажет, — ответил бритоголовый и перекрестился двумя перстами, как русский старовер. — А сейчас пойдем на Терскую, к нашей старушке, закажем ей курочку и подождем хорошего норд-веста.
Они поднялись, взяли в руки свои курортные чемоданчики и пару желтых дынь в зеленой сетке.
В лесу по-прежнему было спокойно и тихо. Только где-то в далеком сумраке покрикивала желна да изредка стучал черный дятел. Взметнулась стайка дубоносов и с шумом рассыпалась по ветвям деревьев. А хохлатые воробьи, самые наглые из птиц, набросились на арбузную и дынную кожуру — и началась тут веселая потасовка… Им не было никакого дела до того, кто бросил сладкий кусок: друг ли, враг ли?
Глава вторая
По приказу командования поиски прорвавшихся нарушителей границы начались по всему предгорью в широком масштабе. В течение одного дня пограничники и подразделения Советской Армии заблокировали ближайшие и дальние железнодорожные станции, перекрыли все автомагистрали и проселочные дороги. — Раз прозевали, теперь будем расплачиваться своим потом. Видно, прорвались таки молодчики… — невесело сказал Рокотов. Он сидел под кустом и с большим трудом стаскивал с ноги запыленный, изуродованный хромовый сапог. Майор как был на рыбалке в старых сапогах, так в них и выехал на границу. Рядом расположилась на короткую передышку группа пограничников, выполняющих под его командованием задачу поиска. — Надо же так сплоховать, — продолжал Федор Федорович, — из-за ставриды поехал в хромовых сапожках, а дома остались новенькие яловые. Недоставало еще парадную форму напялить… Наверно, скоро генерал Никитин нагрянет. Он устроит нам такой парад, что не дай боже! Майор Рокотов сопровождал свою речь веселыми словечками, вызывая на усталых лицах пограничников сочувственные улыбки. — От такого трущобного путешествия совсем босым останешься. А тут еще… — Вспомнив вчерашнюю рыбалку, Федор Федорович резко встряхнул портянку и глубоко вздохнул. — Угораздило же выбрать время! — первый раз в жизни Рокотов раскаялся, что согласился порыбачить на утренней зорьке. Почти целые сутки пограничники колесили по лесным чащобам, лазили по самым непроходимым горным отрогам. Колючие ветви ежевики, обвивающие кизильник, до крови царапали лицо и руки, в клочья рвали обмундирование. Такой уж достался Рокотову участок. А при прочесывании лесного массива надо проверять каждый куст, каждую подозрительную кочку. А пока все напрасно: даже самых малейших признаков следов нарушителей не обнаружено. Сейчас он получил приказание двигаться к Орлиной бухте. Туда прибыл генерал. Рокотов на этой границе с Никитиным еще не встречался, но хорошо знал его по Дальнему Востоку, где тот долго командовал пограничным округом, был хорошо известен офицерам боевыми делами и своей строгостью. Многие его тогда побаивались. Вспомнив лохматые с проседью брови генерала, круто свисающие к серым колючим глазам, Рокотов невольно крякнул и покачал головой. Уж лучше бы еще лазить в серых мрачных трущобах, карабкаться на острые, крутые скалы, но только бы не предстать в помятом, неприглядном виде перед этим человеком, не смотреть в его живые, пронзительные глаза. Никитин хотя и сам большой любитель рыбалки и охоты, но, очевидно, умеет выбирать для этого подходящее время. Рокотову не хотелось и думать о встрече с генералом. Что он ему может сказать в свое оправдание? «Проморгали, признаюсь?» А он спросит просто и прямо: «Где вы находились в это время, товарищ майор?» «На рыбалке, товарищ генерал!» Никогда еще Рокотов не попадал в такое глупое положение. Отказавшись от еды, он переобул свои старые сапоги, завернулся с головой в плащпалатку и лег под куст. Усталые пограничники присели в кружок, доставали из консервных банок тушеное мясо и ели его с большими ломтями черного хлеба. Ели они с аппетитом проголодавшихся людей и запивали из фляжек водой. Разговаривали мало. Все понимали, что произошло и что требуется от каждого из них. Хотя, может быть, в этом была виновата и одна застава, а может быть, и только один человек, но надо было общими силами ликвидировать прорыв, разыскать нарушителей. Сделать это в горной лесистой местности оказалось не легко. Выискивая удобное положение, Рокотов несколько раз перевернулся под палаткой, но заснуть не мог, да и не пришлось. Часовой заметил на тропе группу офицеров во главе с генералом и сообщил майору. Он быстро вскочил и, отбросив плащ-палатку, стал оправлять гимнастерку и снаряжение. Да, это был Никитин. Генерала сопровождали подполковник Маланьин, два незнакомых офицера и старший лейтенант Пыжиков. Никитин только что лично обследовал берег, где высадились нарушители, долго смотрел в бинокль на бухту, потребовал от коменданта, чтобы была составлена детальная схема движения поисковых групп, и пожелал видеть майора Рокотова и начальника заставы капитана Ромашкова. Больших свит генерал не любил и приехал в сопровождении офицера разведки и адъютанта. Начальнику отряда и офицерам штаба приказал заниматься своим непосредственным делом — охраной границы и поиском. Встретив генерала, майор Рокотов скомандовал «Смирно!», доложил о неутешительном результате поиска и сделал шаг влево. Никитин поздоровался с солдатами и легко пожал руку Рокотову. — Что это вы, старожил Чукотки, — сказал он, — приехали на юг, в курортный городок, совсем недавно и успели уже забыть армейские порядки! — Простите, товарищ генерал, не понимаю, — смущенно проговорил Рокотов. Правую ладонь он снова поднес к козырьку фуражки, а левую, перевязанную истрепанным, загрязненным бинтом, пытался спрятать за крышку полевой сумки. — Такой строевик — и вдруг забыл, перестал понимать… Люди отдыхают, едят, а вы их заставляете вскакивать по команде «смирно». В столовой же нельзя этого делать, так почему же здесь можно? Ведь вся разница только в том, что тут нет крыши над головой. — Виноват… — Почему рука перевязана — ранили, что ли? — Никак нет, уколол. — Шилом, наверно… Поди, хотел сапожки свои починить, поглядывая на разбитые головки хромовых сапог и поцарапанные голенища, тихим глуховатым голосом сказал генерал и чуть улыбнулся. — Никак нет! На рыбалке, товарищ генерал, этот самый… проклятый ерш, — ответил Рокотов и замялся. Украдкой взглянув на коменданта, он отвернулся и стал рассматривать то свою забинтованную руку, то свои страшные сапоги. Подполковник Маланьин стоял и тер жилистую шею ладонью, словно его кто стукнул по этому месту. — Ах да! — продолжал Никитин. — Я и забыл, что вы вчера забавлялись ершами… Сильно болит? — Не очень, — облизнув сухие губы, коротко ответил Рокотов, чувствуя, что Никитин теперь все из него вытянет. — А клевало, поди, здорово? — Не у всех, товарищ генерал. — Ну, а кто же все-таки больше поймал: комендант или его начальник штаба? Рокотов промолчал. Рябоватое лицо подполковника Маланьина передернула довольно-таки заметная судорога. Он отвернулся и взглянул на Пыжикова. Старший лейтенант смотрел на генерала и как-то странно, совсем некстати улыбнулся. «Ощерился, как дурак на луну», — подумал комендант. Он готов был растерзать этого беспечного молодого человека. Однако у Пыжикова сейчас были свои, чисто житейские мысли, предприимчивые, как сама молодость. Сначала он ходил за генералом в тяжелой подавленности и с мрачной озлобленностью ждал допроса. Но генерал ни о чем его не спрашивал и как будто не обращал на него ни малейшего внимания. Пыжиков с каким-то неприязненным чувством глядел на его сухие костлявые плечи, подмечал, как ему казалось, нарочитую привычку — ходить «по-генеральски», заложив руки за спину, смотреть исподлобья с этакой прокурорской пытливостью. А больше всего Пыжиков боялся его кустисто-лохматых бровей, которые топорщились, шевелились, то лезли куда-то вверх, то спадали вниз на узкие хитроватые глаза. О строгости Никитина некоторые досужие болтуны распространяли легенду, а он вдруг оказался не так уже страшен и после вопросов о рыбалке даже по-свойски прост. Таких в суворовском, а позже в офицерском училище Пыжиков не встречал. Очевидно, генерал заставит отвечать за этот прорыв и коменданта и штаб, а не только его одного, старшего лейтенанта Пыжикова. Петра вдруг потянуло к этому человеку. Хотелось рассказать ему всю горькую правду о себе. А Никитин все тем же глуховатым голосом задавал майору Рокотову едкие вопросы: — Значит, от морского ерша пострадали? Что и говорить, гребень у него ядовитый, колючий. Да, рыба эта беспощадная, хищная, всегда сидит в засаде под камнем, но и сама попадается, глупая, на приманку. Генерал достал из кармана пачку папирос и, постукивая о крышку коробки мундштуком, задумчиво продолжал: — А мы еще глупее: попались без всякой приманки, влипли, что называется, крепко. Это, товарищ майор, не пальчик уколоть на рыбалке… А еще называем себя доблестными защитниками границы. Шумим о достижениях, хвастаем, что у нас сто глаз и по семи звезд на лбу… Есть среди нас и такие, которые проповедуют на словах одно, а дома перелистывают отрывной календарь и подсчитывают, сколько служить осталось, чтобы потом на зорьке ершей ловить. Ведь охранять границу-это значит постоянно думать о Родине. Так, майор Рокотов, или нет? Рокотов вытянулся, но сказать ничего не мог. От стыда пересохло у него в горле. Резким движением Никитин поднял папиросу к губам и закурил. — Вам, поди, не очень-то приятно слушать то, что я говорю, продолжал он. — А мне тоже нелегко видеть беспечность и куриную слепоту у некоторых наших пограничников — стыдно и тяжко от этого становится. Генерал бросил погасшую спичку в кусты и, круто повернувшись, зашагал к видневшейся неподалеку скале. За ним устремился было адъютант, но Никитин махнул ему рукой, чтобы тот оставался на месте. Офицеры подавленно молчали. Слова генерала легли на сердце тяжким грузом. Чего греха таить — о домике с садиком, с хорошим набором рыболовецких снастей не раз подумывал и подполковник Маланьин, а может, и майор Рокотов. И старший лейтенант Пыжиков чувствовал себя сейчас будто выставленным напоказ в самом неприглядном виде и сознавал, что он заслужил это сам, своими необузданными, беспечными поступками… — Вот каковы дела! — покачал головой майор Рокотов. «Вот так бы сам себе по башке и стукнул, этим моим рваным сапогом, — может, стало бы легче…» — А мне просто провалиться сквозь землю хочется, — сказал Маланьин. — Неужели мы уже начинаем горбиться, стареть? — Ну, до старости расстояние черт меряет, который сидит в нас и крючки точит… Вот мы и попались на такой крючок, — громко сказал Рокотов. — Мы прозевали врагов, с нас и спрос. А теперь должны с честью сойти с этого крючка — найти этих лодочников. — О каком же, товарищ майор, вы говорите крючке? Я что-то не понимаю, — разрывая и комкая в руке сорванный кленовый листик, спросил Пыжиков. — На такие вопросы, товарищ старший лейтенант, можно отвечать только детям, потому что они маленькие, а вы взрослый. Давайте лучше помолчим. Смотрите, какая добрая погода. В такую погоду, наверно, можно отличить, ну, скажем, пароход от ялика… Пыжиков выпрямился и, казалось, стал еще длиннее и тоньше. Из его разжатых пальцев к запыленным сапогам посыпались клочья кленового листочка, которые он тут же растоптал.Глава третья
Долгий летний день заканчивался. Из-за темноватого пушистого облачка выскользнул солнечный луч и с размаху лег на пурпурные верхушки кавказского черноклена. Рядом рос молодой каштан с побуревшими от зноя листьями. Над ним, упираясь в небо, возвышалась серая скала с острым пиком. В ее выступах, притаившись в затишье, золотистыми грудками лежали вялые, упавшие листья. В бурные штормовые дни их загнал сюда свирепый норд-ост. Но когда подует встречный горный ветер, он крутым вихорьком взорвет, поднимет высохшие листья над скалистой грядой и сбросит в бушующее море. К каштану подошел генерал Никитин. Подтянувшись на носках, он сорвал несколько орешков и, разгрызая твердую, еще чуть-чуть недозревшую кожуру, вернулся к группе тихо беседующих офицеров. Остановившись, генерал отогнул цепкую ветку черноклена, свисавшую на погон майора Рокотова, и неожиданно спросил: — Какого это вы чертика с крючками вспоминали, майор? Поражаясь слуху генерала, Рокотов ответил не сразу. — Не хотите сказать, не нужно. Я ведь краем уха слышал. — Я сказал, товарищ генерал, — нерешительно начал Рокотов. — Я сказал, что черт крючки наточил и нам подсунул. Вот мы и клюнули… — Вы что в чертей верите? — Верю… в того, который во мне сидит. — Вот как! А может, ему дать отставку? — Придется, — улыбнулся Рокотов. — Хорошо. К этой философии мы еще вернемся позже. Вы скажите-ка мне вот что: у тех чертей, которых мы ищем, очевидно, была радиостанция. Как вы думаете? — Возможно. — Одна или две? — Трудно сказать, — пожимая плечами, ответил Рокотов. — Почему трудно? — с досадой в голосе спросил Никитин. — Надо всегда предполагать худшее. Безусловно, была рация и, наверное, не одна. К тому же в ночь высадки «гостей» в этом районе работал неизвестный передатчик. — Я таких сведений не имею, товарищ генерал, — сказал Рокотов. — Не важно. Надо думать не о черте, который в вас сидит, а о реальном противнике. Разве вы не знаете, как материально и технически обеспечены и как подготовлены теперешние нарушители границы? Это не то, что десять-пятнадцать лет назад. Надо искать и найти. — Ищем, товарищ генерал, — доложил Маланьин, чувствуя, что Никитин нарочито игнорирует коменданта, а все время адресуется к начальнику штаба. — Знаю, что ищете и не вы одни, — посмотрев на часы, сказал Никитин, думая о том, как ему поступить с подполковником, который до этого считался хорошим офицером. Разгрызая орехи, Никитин еще раз прошелся по тропе. Он думал о подчиненных ему людях, судьбы которых он должен постоянно поправлять и решать. Никитин взглянул на подполковника Маланьина. Этот человек, очевидно, засиделся на одном месте, пустил в курортном городе житейские корешки и не заметил, как они начали подгнивать. Слишком уютно живет, — как в парничке. Здесь и фруктов много, и вино отличное, и рыбалка. Ради самого же Маланьина, еще молодого офицера, надо сломать этот насиженный уют, вытащить подполковника на воздух, перебросить на другую работу. А что делать с Пыжиковым? О нем генерал думал пока мельком. Он почти совсем его не знал. Тут еще надо разобраться кропотливо и детально. Нелегкое дело — воспитать настоящего офицера, например такого, как капитан Ромашков, которого Никитин знал на Дальнем Востоке вначале солдатом, затем сержантом, а позже молодым офицером. Этот крутолобый, напористый, с широкими бровями парень всегда, на всех должностях был стойким и требовательным к себе. Да, разная молодость бывает у людей. Генерал представил, как на партийных собраниях поднимает руку и встает с места молодой офицер с новенькими золотыми погонами, с отличной выправкой и просит слова. В таких случаях зал всегда настороженно затихает. Молодой коммунист начинает говорить. Он смущается и краснеет, иногда не теми словами излагает свою мысль. Это смущение вызывает добрые, сочувственные улыбки. Слова его звучат горячо и торжественно, как вторая присяга. Он обещает товарищам по партии с достоинством выполнять свои обязанности, всеми силами продолжать великие традиции защитников Родины. Значит, не даром потрачен многолетний труд на его воспитание. Крепко потом стучат жесткими ладонями и присутствующие в зале седоусый полковник, бритоголовый генерал и подполковник с погонами врача. Именно таким, молодым коммунистом, больше всего запомнил генерал Никитин Ромашкова, запомнил с первого партийного собрания. Каков-то он теперь? — Товарищ подполковник, — спросил генерал Маланьина, — скоро прибудет капитан Ромашков? — Он уже должен быть здесь. Разрешите послать за ним связного? — Ну что ж, пошлите, — посмотрев на часы, ответил Никитин. Кстати, товарищ Маланьин, что вы решили делать со шлюпкой? — Жду распоряжений, товарищ генерал. — Каких и от кого? — От командования. — Вы комендант — единоначальник, какое вы сами приняли решение? — Я решил оставить ее пока на месте и усилить скрытое наблюдение. — Хорошо, — сказал Никитин. Маланьин, отозвав в сторонку связного, отдал ему приказание и объяснил, как разыскать начальника заставы капитана Ромашкова. Однако искать капитана не пришлось. За скалой послышались шаги. На тропе вскоре показался Ромашков с автоматом в руках, за ним шли сержант Нестеров и солдат Кудашев, вооруженные карабинами. По их грязной измятой одежде и потным раскрасневшимся лицам можно было сразу определить, что они очень спешили и, видимо, прошли немалое расстояние. Заметив генерала, капитан сбавил шаг, снял на ходу фуражку и притиснул ладонью спадавший на висок чуб. Заправив его под козырек, он надел фуражку и скорыми шагами подошел к Никитину. Здороваясь с генералом, Михаил четко и ловко бросил ладонь к вылезавшему из-под козырьканепокорному чубу. — Здравствуй, капитан, здравствуй, — сказал Никифор Владимирович, с улыбкой оглядывая плотную фигуру капитана и его обветренное усталое лицо. — Я ему свидание назначил, жду, — заметил Никитин, — а он опаздывает… — Виноват, так случилось. Пришлось немножко задержаться, запыхавшись от быстрого хода и нарастающего волнения, ответил Ромашков. — Что же случилось? Может, напал на след «гостей»? — Вроде этого, товарищ генерал, даже немножко страшновато докладывать. — Даже вот как! — усмехнулся Никитин. Он давно понял или, вернее, по долголетнему опыту почувствовал: офицер принес что-то радостное, ободряющее. Передалось это и подполковнику Маланьину и майору Рокотову. — Можно докладывать, товарищ генерал? — спросил Ромашков и взгляд его остановился на Пыжикове. Старший лейтенант смотрел на начальника заставы горящими глазами, с надеждой и тревожным ожиданием, комкая в пальцах незажженную папиросу. Тяжкая, жуткая волна страха подкатилась к самому сердцу. Петр ждал в эту раскаленную минуту, что вот сейчас генерал скажет: «Товарищ старший лейтенант, вам пора ехать в штаб отряда, а мы уж здесь как-нибудь без вас…» Другими словами, это прозвучало бы так: «Вы совершили преступление по службе и доверять вам больше нельзя…» Но вместо этого генерал сказал совсем иначе. Сказал быстро и престо, перекатывая на ладони каштановые орешки: — Так докладывайте же, капитан Ромашков, не тяните… — Старшим наряда сержантом Нестеровым и рядовым Кудашевым обнаружена радиостанция иностранной марки, — раздельно и даже торжественно доложил капитан Ромашков. Генерал Никитин, вскинув вверх клочкастые брови, резко поднял голову, зажимая в длинных сухих пальцах несколько орешков, он гулко крякнул и, пристально охватывая капитана цепким взглядом, медленно переспросил: — Обнаружена рация? — Так точно, товарищ генерал. — Где же она обнаружена? — Под скалами, недалеко от берега. Я могу показать на карте точно. Все отмечено. — Ромашков приподнял планшетку с видневшейся под целлулоидом картой. — Значит, они все-таки высадились? — тревожно, чужим голосом спросил Пыжиков. У него защемило сердце. Держа папиросу у дрожащего подбородка, он не спускал с Михаила глаз, словно видел его впервые. — Уж молчал бы, — процедил сквозь зубы Маланьин, чувствуя в этом нелепом вопросе то зло, которое все время удручало их, а теперь в самом неприглядном виде вышло наружу. Майор Рокотов, укоризненно посмотрев на старшего лейтенанта, от души пожалел его, понимая, что переживает сейчас этот молодой офицер. — Почему же он должен молчать? — спросил Никитин, строго взглянув па коменданта. — Все, что его интересует, пусть спрашивает. С него тоже спросят… Но сейчас дело не в этом. Наша задача — ликвидировать последствия прорыва, а в остальном разберемся потом. Радиостанцию, товарищ капитан Ромашков, подняли? Где она сейчас? — снова, с прежним напряжением в голосе спросил генерал. — Никак нет! Оставлена на месте, в той же маскировке. — Не трогать, — приказал Никитин и бережно положил в карман нагревшиеся от ладони орешки. — Слушаюсь, — коротко ответил Ромашков. Волевое напряжение передалось и ему. Усталости как не бывало. Подтянутый, собранный, с острым ощущением голода, — Михаил с утра ничего не ел, — он ждал от этого человека чего-то необыкновенного, каких-то особых распоряжений, которые помогли бы вывести заставу из тяжелого положения. Да и не только одну заставу! Ромашков понимал, какое имеет значение этот прорыв. С момента высадки прошло уже два дня. За это время прорвавшиеся враги могли совершить многое. Недалеко от границы, в тылу, находились фабрики и заводы, гигантские новостройки, на полях собирался обильный урожай. Страна трудилась в полную силу — и вдруг на одном участке границы именно его застава прозевала врагов.Глава четвертая
Генерал попросил у адъютанта карту, присел на выступ скалы и развернул раскрашенную в разные цвета полосу на коленях. Он хорошо изучил и знал этот участок границы. — Слушайте, комендант, внимательно. Теперь, с обнаружением рации, в какой-то степени заполнилась та мертвая пустота, в которой мы находились. Страшна была именно эта пустота. До этого у нас не было никаких фактов и доказательств. Горы, скалы и дремучий лес. Искать нарушителей в этих условиях все равно, что шарить в темноте заспанному человеку в поисках затерявшейся спички. Разумеется, искать придется долго, но найти нужно. Теперь можно предположить твердо, что, высадившись, они передали сообщение: «Все в порядке!» Рацию оставили здесь для того, чтобы она была ближе к лодке — на случай, если придется удрать в бурную ночь… — Разрешите, товарищ генерал, — заговорил Маланьин. — Да. — Вы думаете, они не предполагали, что лодка будет обнаружена? — спросил комендант. — Думаю, что так. — Но ведь мы ее все-таки обнаружили! — сказал Маланьин. — Наша заслуга здесь невелика. Лодку заметил пастух. Вы что забыли об этом? Уже лавры пожинать собираетесь! — Виноват, — смущенно проговорил комендант. — Вообще могло случиться так, что вы не обнаружили бы шлюпки. И не потому, что вы плохие пограничники — об этом будем судить позднее… Сейчас можно сказать одно: что наряды безответственно осматривали берег, воду. Необходимость этого офицеры плохо разъяснили солдатам. Осмотр береговой кромки должны регулярно делать офицеры, начиная с начальников застав, кончая офицерами комендатуры и комендантом. А вы, полагаю, уже с месяц не выходили на береговую кромку? Так? — Не совсем так. — Не совсем? — усмехнулся Никитин. — Значит, близко к истине? Но я сюда не дискутировать приехал, а разобраться и помочь. Этот проклятый ящик с мотором, конечно, нелегко было обнаружить. Он завален под водой камнями, замаскирован отлично. Значит, агенты матерые, опытные. Они знали, как это надо делать. Да и море тут неспокойное — кружат встречные потоки, на воде постоянно рябь и волны. Надо смотреть тут в сто глаз. Я убежден, что у нарушителей есть вторая рация, иначе они эту здесь не оставили бы. Будем искать вторую. Она должна быть, понимаете? — Может быть, — неопределенно проговорил Маланьин. — В чем сомневаетесь? — Почему мы ее должны искать именно здесь? Нарушители могли унести ее с собой! — Даже непременно унесли! Вопрос: куда? Мне думается, что далеко не потащат. Появляться на глаза людям с аппаратурой рискованно. Следовательно, они развернут ее в укромном месте, а нам надо его найти. Но я думаю, что они такого места еще не подыскали, не хватило времени. Они пока что выспались, передали первую шифровку, закопали аппаратуру и разгуливают по вашему участку. Маланьин, насупившись, молчал. На хмуром рябоватом лице его, в морщинах высокого лба выступили капельки пота. — Да, именно они рацию оставили в расчете на то, что искать ее в этом месте пограничники не будут. — Уж слишком наглый расчет, товарищ генерал, — заметил Маланьин, думая, что генерал, не пренебрегая мелочами, твердо идет к какой-то своей намеченной цели. — Вы правы. Это не только нагло, но и примитивно, на первый взгляд. Но я знаю по опыту: враги редко оставляют вещественные доказательства на месте своего преступления. Случайно оброненная вещица: окурок, клочок газеты, пуговица — все это бывает чаще всего в детективных романах. А тут оставлена целая рация и совсем не случайно. Значит, они рассчитывали вернуться сюда и на что-то надеялись. А на что? Вы можете мне ответить на этот вопрос? — Они рассчитывали на нашу беспечность! — с глухой болью, но искренно сказал Маланьин. — Стыдно говорить, однако это именно так. — Возможно, — вздохнул генерал и, помолчав, продолжал: — Но искать врагов надо всюду: под каждым кустом, под каждым камнем. Мне думается, что мы сейчас находимся уже близко у цели. Однако имейте в виду все то, что я вам здесь говорил, — это мои чисто психологические предположения, основанные на опыте и на фактах, о которых я обязан молчать. Вы же действуйте самостоятельно, творчески. Пусть будет больше самых худших предположений, больше затраченного труда, чтобы выигрыш был верным. Продолжайте поиск. Действуйте. И пришлите ко мне сержанта Нестерова. — Слушаюсь! — комендант энергично повернулся и вскоре скрылся за кустами черноклена.Глава пятая
Никитин, аккуратно свернув карту, полез в карман за папиросами и нащупал там гладкую кожу каштановых орешков. Они приятно ласкали жесткие пальцы. Отдыхая от напряженного разговора, Никифор Владимирович взял вместо папиросы орех, разгрыз его и кинул молочное зернышко в рот. Зерно было сладковатое, теплое. «Сколько еще у нас пропадает такого добра, — подумал Никитин. — Сколько в этих лесных предгорьях диких яблок, груш, орехов, ягод разных?» Но мысли его о богатстве края прервал сержант Нестеров. Он подошел твердым, как на параде, шагом и, лихо взяв под козырек, громко доложил: — Товарищ генерал, сержант Нестеров по вашему приказанию прибыл! Генерал почему-то вдруг решил, что Нестеров парень застенчивый, скромный и что с ним можно говорить только с глазу на глаз. Но Никитину захотелось проверить свою догадку и выслушать сержанта на людях. — Вижу, что прибыли. Садитесь вон на какой-нибудь камень. А впрочем, нет. Сейчас пойдем вместе. Я уж засиделся тут, а камень-то, брат, очень жесткий попался, — поднимаясь, проговорил Никифор Владимирович. — Мягких камней, товарищ генерал, не бывает, — смело глядя в лицо Никитина, сказал Нестеров. — А вы уверены в этом? — отряхивая пыль с брюк, спросил Никифор Владимирович. — «Нет, не застенчивый. Ошибся, пожалуй, я», — подумал генерал. Он больше всего любил людей смелых. Застенчивость, по его мнению, пригодна только для девушек, а для настоящего пограничника нужны смелость, находчивость, лихость. Смущенный своим замечанием и вопросом генерала, Нестеров молчал. — Уверены, что мягких камней не бывает? — переспросил Никитин. — Так точно! — твердо ответил Нестеров. — Вот и неправда, брат, — с грубоватой простотой возразил Никитин. Когда человек начинал ему нравиться, Никифор Владимирович сразу же переходил на «ты» и меньше всего деликатничал. — А вот есть, брат, меловые камни, они как раз очень мягкие. На них сколько хочешь сиди в полное удовольствие. Побелишь штаны — вот и все. А теперь, сержант Нестеров, веди меня к твоему отделению. Где оно и что делает? — Шесть человек несут службу по охране государственной границы. Остальные здесь, в группе поиска. Сейчас почистили оружие, запылилось за сутки, товарищ генерал, — быстро ответил Нестеров. — Как действуют новые карабины? — Отлично, товарищ генерал! — Сам откуда родом? — Из Няндомы, товарищ генерал. — С Севера? — Так точно, Архангельской области. — Значит, попал на курорт? — Никак нет, товарищ генерал. Несем службу! — Ишь ты какой! Нравится здесь? — Так точно, красивый край, но у нас тоже не хуже. — Да? — Само собой, — уверенно отвечал Нестеров. — У нас леса-то почище этих — корабельные, прямые, как свечи. Здесь, конечно, курорт, фруктов вдосталь, море теплое… — Загораете на песочке-то? — Купаемся. Тут привольно! — Да. Ты прав. Здесь и нарушителям привольно. Они к вам в гости на шлюпках приезжают, с радиостанциями высаживаются… Они вам тут концерты не давали? Не приглашали заграничные фокстротики послушать? — Что вы, товарищ генерал! Мы… — Прошляпили нарушителей-то? До сержанта только сейчас дошла вся ядовитая, насмешливая сущность последних вопросов. Лицо Нестерова вспыхнуло так, что исчезли на нежно-розовых щеках красные точки веснушек. — Это правильно, товарищ генерал, — со вздохом согласился Нестеров. — Однако мой наряд в ту ночь находился на другом участке. — За прорыв на любом из участков границы отвечают все — от солдата до генерала. Вам говорили об этом? — Так точно! Капитан наш объясняет постоянно. Но только он про нашу заставу говорил, а про генералов не упоминал. — А тебе, я вижу, палец в рот не клади, северянин! Усмехнувшись, Никитин погрозил сержанту пальцем и тут же спросил: — А сам-то как думаешь про генералов: отвечают они или нет? — Само собой… Потому что командование… Я же за свое отделение несу ответственность! — Молодец, сержант Нестеров! Ну что ж, идем, покажи мне своих героев, а потом расскажешь, как нашел радиостанцию. — Не один я, товарищ генерал. Все вместе. С нами был и начальник заставы капитан Ромашков и рядовой Кудашев. — Хорошо, хорошо, там и расскажешь, — подбодрил смутившегося сержанта Никитин. Простодушием и смелостью ответов Нестеров пришелся генералу Никитину по душе. Сержант не лукавил и не терялся, а говорил, что думал. Прямота — хорошее человеческое качество. Значит, и в трудный момент не растеряется, не подведет никогда. Идти было недалеко — каких-то пятьдесят метров. Раздвигая кусты, Нестеров продирался вперед, показывая генералу узкую тропку. Тишина стояла вокруг. Несмотря на присутствие большого количества людей, расположившихся в разных местах почти по всему лесному предгорью, не слышно было ни единого звука. По кустам все еще продолжали прыгать солнечные лучи, перемещались, бродили длинные вечерние тени. От перевала, с вершин, дул теплый, легкий ветерок — ласка морского побережья. На горные хребты, казалось, упал и плотно прижался к зелени лесов край голубого неба, вымытого чистым воздухом и освещенного заходящим солнцем. В эти последние минуты умирающего дня солнечные лучи разгуливали по вершинам гор, создавая сказочную панораму быстрым смещением света и теней. Никифор Владимирович снял фуражку, пригладил на крупной лысеющей голове седые волосы и улыбнулся хорошей, доброй улыбкой. «В этот вечерний час, — подумал он, — сидеть бы где-нибудь на веранде, заросшей виноградником, за стаканом крепкого чая и слушать музыку». Подошел Нестеров со своими солдатами, генерал тут же приказал им садиться в кружок и разрешил курить. Пограничники в отделении Нестерова, как на подбор, все были рослые, крепкие, в серых выгоревших гимнастерках, со светлыми, вытертыми от постоянного прикосновения рук ложами автоматов и карабинов. У солдата границы оружие всегда в его твердых, натруженных руках — и ночью и днем он на посту. — Что же это вы, братцы, границу-то плохо охранять стали? — так начал Никитин разговор с солдатами. Ответом было молчание. Ни вздоха, ни робкого шепота, ни движения. Цигарки уже дымили у всех курильщиков, а после слов генерала задымили еще гуще. Только некурящий сержант Нестеров осторожно кашлянул в кулак, отвел глаза, потом стал придирчиво осматривать солдатскую амуницию, желая предупредить даже самый пустяковый непорядок. Но все было заправлено крепко, добротно. Синеватым светом в вечерних лучах поблескивали вороненые стволы карабинов. Нестеров гордится в душе, что именно его отделение обнаружило рацию, что к ним, а не к другим пришел генерал. Ведь генералы — не частые на их заставе гости. — Все считали вашу заставу передовой, а что же на деле вышло? — продолжал Никитин. — На деле получилось, что вы пропустили лазутчиков на моторной лодке, с радиостанцией. Высадились они у вас под самым носом и ушли. Вот мы сидим здесь, курим, разговариваем, а вдруг где-нибудь на воздух взлетит завод или плотина, погибнет труд людей, а может быть, и погибнут наши, советские люди… Как же так, братцы? Молчите? Позор ведь на всю округу. Из-за двух ротозеев приходится нам тратить теперь столько сил и средств. Упустишь врага — трудно его искать и ловить… Бывают такие минуты крайнего напряжения, когда хочется не молчать, а громко крикнуть от боли душевной. Именно в таком напряжении находились сейчас солдаты. Всему коллективу заставы приходилось принимать позор за беспечность двух или трех человек, Никитин видел это по выражению солдатских лиц и знал, что они понимают все до конца. Он круто изменил речь и повернул течение своих мыслей в другое русло. — Я ведь не хочу сказать, что все вы виноваты, — продолжал он глуховатым спокойным голосом. — Вы много сделали, нашли рацию. Это уже большое дело. Сержант Нестеров, расскажите, как вы обнаружили радиостанцию? — Слушаюсь! Я уже докладывал, что там был я не один. Рядовой Кудашев тоже участвовал. — Расскажите все подробно, а другие пусть послушают, — попросил Никитин. — Пришлось ползать чуть не на коленках. Сам капитан тоже вместе с нами рассматривал каждый камушек… — Сколько же времени вам пришлось ползать? — поинтересовался Никитин. — С самого того часу, как сюда прибыли. Рано утром. Вдоль берега шли я и мой напарник рядовой Кудашев. Другие обследовали скалы. — Сразу же начали искать рацию? — Имели такое предположение. — Кто же это имел такое предположение? — Начальник заставы поставил задачу: произвести тщательный осмотр местности с миноискателем. Однако миноискатель пришлось оставить. — Почему? — Жужжит все время без толку. На берегу металла, осколков много. Капитан рассказывал, что тут сильные в Отечественную войну бои шли. Начали мы осматривать — каждый свое. Участок мне достался подходящий. — В каком смысле? — перебил генерал. — Камней разных много. Все пришлось переворочать. Сверху нависла скала, во время штормов камни с нее обсыпались, вот и образовались такие груды, на копешки похожие. Кроме того, когда наряды проходят, тоже обсыпают ногами, ну щебенка и течет по ложбинке, как по трубе. Вижу — одна кучка немного разворошена. В том месте наряды по берегу не ходили — там дальше обрыв, прохода нет. Осмотрел я эту копешку, заметил, что рядом с развороченным краем слишком аккуратно выложены камешки. И такими рядочками лежат, вроде как тут ребятишки играли и крестик на песке соорудили. — А, может быть, тебе просто померещилось? — Никак нет, товарищ генерал. Правда, сразу разглядеть трудно. Камни разложены не часто, друг от дружки на расстоянии. Тут соображать надо, — увлеченно продолжал Нестеров. — Вы можете посмотреть. Мы оставили все, как было. Так приказал капитан. Раз, наверное, десять крутился я вокруг этого места и сначала ничего не заметил. Уйду и опять назад вернусь. — Почему же так получалось? — допытывался Никитин. — Сам не знаю. Еще раз проверяю и возвращаюсь. Как магнитом к этому месту притягивало. А потом, когда в последний раз подошел, пригляделся — и все мне открылось. Чую, что в точку угодил. Упал на колени и начал камни расшвыривать. Сбросил несколько, мелочь пошла, стал руками разгребать. Гляжу, ящик, рядом второй. Все стало ясно, аж у меня сердце захолонуло… Потом позвал капитана. Вот и все. Никифор Владимирович улыбнулся, приподнял с запотевшего лба фуражку. Сердце застучало радостными толчками. Чтобы успокоиться, он сунул руки в карман и, нащупав там несколько орешков, подумал: «Видно, стареть начинаю и сентиментальничать. Рановато еще в полсотню-то лет… А сержант — золотой парень. Что-то с ним надо сделать… Подойду и обниму крепко… Расцелуемся, как на свадьбе». Но Никитин отогнал эти мысли и тут же подумал снова: «А почему мы боимся проявить свои искренние человеческие чувства, зачем их сдерживаем? Мы бываем подчас щедры торжественным пустословием в поощрительном приказе, краснобайством и фразерством, сочиненным штабным писарем, а не видим живого человека, стыдимся по-отцовски обнять его, пожать ему крепко руку, а ведь это куда сердечней и лучше». Думая так, генерал Никитин внимательно приглядывался к стоявшему рядом Нестерову. Он до глубины души был тронут его искренним, умным рассказом. Да мало ли он на границе видел таких парней с Севера, с Урала, из Сибири? Никифор Владимирович вдруг выхватил руку из кармана и протянул Нестерову сухонький, крепко сжатый костлявый кулак. Сержант ничего не понимал. Он стоял и недоуменно смотрел на руку Никитина. — Да бери же! — нетерпеливо, но весело сказал генерал, пересыпая в ладонь сержанта каштановые орешки. Все это произошло быстро и не для всех заметно. Одним из первых увидел Баландин, недавно переведенный в отделение Нестерова. Никитин, пожелав солдатам успеха, быстро зашагал к группе поджидавших его офицеров. — Чем же это, товарищ сержант, вас угостило начальство? — когда генерал ушел, спросил шепотком Баландин. — Глядите-ка, орехов он мне дал, — Нестеров разжал ладонь и показал. — У-у! — разочарованно протянул Баландин. — А я-то думал… Может, награду какую… А то орешки, гы-гы… Их тут, этих орешков, хоть лопатой греби. Слова Баландина, его хрипловатый смешок обожгли сердце Нестерова. Его рука с раскрытой ладонью так и осталась висеть в воздухе. Спохватившись, он медленно сжал пальцы в кулак и, оглядевшись по сторонам, шагнул к Баландину. Тот, заметив его сузившиеся глаза, попятился назад. Пробуя улыбнуться, в замешательстве спросил: — Вы что, товарищ командир? — Идите и становитесь в строй, быстро! — сдержав клокотавший в груди гнев, прошипел ему в лицо Нестеров.Глава шестая
Плавно покачиваясь на поворотах, большая, синего цвета легковая машина шла по гладкому асфальту на средней скорости. За окном сквозь пышные кусты лавровишни, за строем высоких пирамидальных тополей в сумерках просвечивало спокойное море. Изредка с проходящего неподалеку от берега парохода падали на воду золотистые полосы электрического света. Сильные фары автомашины обливали двумя огненными лучами круто изгибающуюся ленту шоссе, словно нарочно выискивая притаившиеся у обочины белые платьица или светлые пиджаки. В этот летний тихий вечер все дышало и жило той веселой жизнью морского курорта, от которого приятно кружится голова и хочется петь песни. Но Петру Пыжикову было не до песен. Генерал Никитин везет его в штаб комендатуры. Что с ним будет? Неизвестность тяжела и мучительна. Поглядывая на жилистый генеральский затылок и малиновый околыш фуражки, Петр хотел спросить, зачем его везут да еще в такой комфортабельной машине? Но он знал, что вопрос этот глупый, ненужный. Ясно одно: оформят материал и в трибунал! Генерал Никитин обо всем уже расспросил, покачал головой и вежливо пригласил в машину, как будто бы старший лейтенант Пыжиков, совершивший преступление по службе, не мог приехать в комендатуру с каким-нибудь попутным грузовиком? Мягкое сиденье казалось сейчас Пыжикову хуже всякого деревянного кузова. Вспомнилась веселая, озорная Настя, которую не удалось проводить и которая, наверное, уже блаженствует в своих Дубовиках. «Может, больше никогда и не увижу ее?» — подумал Пыжиков, и эта мысль жгучей болью отозвалась в сердце. Стараясь избавиться от горьких раздумий, старший лейтенант попросил у генерала разрешения задать вопрос. — Да! — коротко ответил Никитин усталым, безучастным голосом. Это испугало Пыжикова, но в то же время придало ему смелости. — Какое, товарищ генерал, по отношению ко мне, — четко спросил он, — вы намерены принять решение?
— Вы это о чем, голубчик? — оторванный от своих мыслей, спросил Никитин.
— Я хотел бы знать…
— Что вы хотели бы знать?
— Я хотел бы знать, как со мной поступят…
Вместо ответа Никитин попросил шофера сбавить газ и ехать медленнее. Повернувшись к Пыжикову, генерал положил локоть на откидную спинку, в упор спросил:
— А вы уверены, что именно я должен принять какое-то о вас решение?
— Да, конечно.
— Ошибаетесь. Решение должен принять начальник отряда. Как он поступит и что с вами будет — я этого не знаю.
— Очевидно, отдаст под суд, — с трудом выговаривая слова, сказал Пыжиков.
— Возможно, — протяжно, с раздумьем ответил Никитин, потирая ладонью скуластую щеку, и тут же твердо добавил: — Да, да… Наверное, будут судить.
— Это и ваше мнение, товарищ генерал? — стараясь сдержать в голосе дрожь, спросил Петр.
— Вы, молодой человек, слишком много хотите знать.
— Но прежде вы мне сказали, что сами не знаете, как поступит начальник отряда. Значит, теперь…
— Это значит, что вы стараетесь поймать меня на слове. Я сказал в другом смысле, в человеческом. Что с вами будет? Был советский офицер, пограничник, — и нет его… А вот что станет с человеком не знаю.
— Выходит, я уже конченый? — Петр расстегнул ворот гимнастерки.
Темнота сгущалась. С высоких гор быстро спускалась теплая южная ночь.
— Как офицер, да! — посматривая вперед на мелькавших за радиатором бабочек, ответил Никитин. — Ничего другого, голубчик мой, я вам сказать пока не могу. Мне только жаль, что я не встретил вас раньше, именно во время вашего бессмысленного кочевья.
— Что же бы тогда было, товарищ генерал? — тихо спросил Петр. Проскользнувшая в словах генерала нотка жалости чуть-чуть окрылила его. На минуту вздохнулось легче.
— Что было? Думаю, что никогда бы этого не случилось. Вы хотите знать почему? Я вам отвечу. Гонять недисциплинированного офицера, да еще с изъянцем в характере, с места на место — бессмысленно и глупо. Вас надо было какому-нибудь строгому человеку держать около себя и ждать, пока не научитесь по земле ходить… А то часто нос расшибаете. Вот я имею привычку…
— Значит, я человек конченый? — снова переспросил Пыжиков.
— Вот видите, у меня одна привычка, а у вас другая. Вы перебиваете старших, не дослушивая их до конца.
— Виноват, товарищ генерал.
— Я, например, хороших солдат и офицеров держу при себе, но и самых плохих, самых последних разгильдяев тоже никому не отдаю. Почему? Потому что хорошие люди мне нужны самому, а сбывать негодных — бесчестно. Мало того, что расписываешься в своей слабости, наносишь вред товарищу по службе, вред общему делу, которому мы все служим. А вот с вами поступили именно таким образом. В вашем поступке, вернее, в вашем преступлении есть своя неумолимая логика. Есть свои причины.
— В эти дни я многое понял. Но я не понимаю одного. — Извините, товарищ генерал, может быть, я какой-нибудь сумбур скажу, но от сердца… Не понимаю, зачем меня держали в войсках? Я несколько раз подавал рапорты, хотел демобилизоваться, поступить в институт, а мне отказывали и давали нагоняй… Правильно ли это? Военная служба не по мне. В этих условиях я испытываю подавление своей личности… Простите, что я сказал несколько резко, — низко опуская голову, закончил Пыжиков.
— Встречал таких… Мозг вроде здоровый, а философия гнилая, с этаким скверным анархистским душком. «Подавление личности»… Слова-то какие научились вывертывать. А почетный долг гражданина, служение Родине? Забыли? По-вашему, выходит, что об этом должны помнить только сержанты Нестеровы и солдаты Кудашевы? Может быть, вам, окончившему два училища, прочитать еще курс политической грамоты? А вы забыли, что была и гражданская война и Великая Отечественная?… Да как вам не стыдно говорить мне такие слова? И еще спрашиваете меня, как я с вами поступлю.
Никитин замолчал и отвернулся к окну. На машину наплывал сверкающий огнями город. На шоссе стало светлее и оживленнее. Пыжиков видел насупившееся лицо генерала и с волнением ждал самого главного. Он решился на все — будь что будет. Его интересовало, как поступит с ним этот суровый и, видимо, очень справедливый человек.
— Вы, товарищ генерал, не закончили своей мысли, — напряженно, с упорной настойчивостью проговорил Пыжиков.
— Поступят с вами по справедливости. Что заслужили, то и получите, — сухо ответил Никитин. — Но только скажу вам как командир и пожилой человек: вы в неоплатном долгу у Родины и своего народа.
Генерал, взглянув на шофера, попросил остановить машину.
Шофер затормозил и притерся к обочине. С удивлением посматривая на генерала, он хотел что-то спросить, но Никитин его опередил.
— Довезите старшего лейтенанта до комендатуры и поезжайте в гараж.
— А вы, товарищ генерал? — спросил шофер.
— Пройдусь пешком. На курортников посмотрю, зайду на контрольно-пропускной пункт. Мне торопиться некуда. А вот товарищу старшему лейтенанту нужно спешить. Его ждет начальник штаба отряда. Пусть доложит, подскажет, как искать скрывшихся нарушителей…
Откинувшись на сиденье, Пыжиков растерянно молчал.
— Какое, товарищ генерал, по отношению ко мне, — четко спросил он, — вы намерены принять решение?
— Вы это о чем, голубчик? — оторванный от своих мыслей, спросил Никитин.
— Я хотел бы знать…
— Что вы хотели бы знать?
— Я хотел бы знать, как со мной поступят…
Вместо ответа Никитин попросил шофера сбавить газ и ехать медленнее. Повернувшись к Пыжикову, генерал положил локоть на откидную спинку, в упор спросил:
— А вы уверены, что именно я должен принять какое-то о вас решение?
— Да, конечно.
— Ошибаетесь. Решение должен принять начальник отряда. Как он поступит и что с вами будет — я этого не знаю.
— Очевидно, отдаст под суд, — с трудом выговаривая слова, сказал Пыжиков.
— Возможно, — протяжно, с раздумьем ответил Никитин, потирая ладонью скуластую щеку, и тут же твердо добавил: — Да, да… Наверное, будут судить.
— Это и ваше мнение, товарищ генерал? — стараясь сдержать в голосе дрожь, спросил Петр.
— Вы, молодой человек, слишком много хотите знать.
— Но прежде вы мне сказали, что сами не знаете, как поступит начальник отряда. Значит, теперь…
— Это значит, что вы стараетесь поймать меня на слове. Я сказал в другом смысле, в человеческом. Что с вами будет? Был советский офицер, пограничник, — и нет его… А вот что станет с человеком не знаю.
— Выходит, я уже конченый? — Петр расстегнул ворот гимнастерки.
Темнота сгущалась. С высоких гор быстро спускалась теплая южная ночь.
— Как офицер, да! — посматривая вперед на мелькавших за радиатором бабочек, ответил Никитин. — Ничего другого, голубчик мой, я вам сказать пока не могу. Мне только жаль, что я не встретил вас раньше, именно во время вашего бессмысленного кочевья.
— Что же бы тогда было, товарищ генерал? — тихо спросил Петр. Проскользнувшая в словах генерала нотка жалости чуть-чуть окрылила его. На минуту вздохнулось легче.
— Что было? Думаю, что никогда бы этого не случилось. Вы хотите знать почему? Я вам отвечу. Гонять недисциплинированного офицера, да еще с изъянцем в характере, с места на место — бессмысленно и глупо. Вас надо было какому-нибудь строгому человеку держать около себя и ждать, пока не научитесь по земле ходить… А то часто нос расшибаете. Вот я имею привычку…
— Значит, я человек конченый? — снова переспросил Пыжиков.
— Вот видите, у меня одна привычка, а у вас другая. Вы перебиваете старших, не дослушивая их до конца.
— Виноват, товарищ генерал.
— Я, например, хороших солдат и офицеров держу при себе, но и самых плохих, самых последних разгильдяев тоже никому не отдаю. Почему? Потому что хорошие люди мне нужны самому, а сбывать негодных — бесчестно. Мало того, что расписываешься в своей слабости, наносишь вред товарищу по службе, вред общему делу, которому мы все служим. А вот с вами поступили именно таким образом. В вашем поступке, вернее, в вашем преступлении есть своя неумолимая логика. Есть свои причины.
— В эти дни я многое понял. Но я не понимаю одного. — Извините, товарищ генерал, может быть, я какой-нибудь сумбур скажу, но от сердца… Не понимаю, зачем меня держали в войсках? Я несколько раз подавал рапорты, хотел демобилизоваться, поступить в институт, а мне отказывали и давали нагоняй… Правильно ли это? Военная служба не по мне. В этих условиях я испытываю подавление своей личности… Простите, что я сказал несколько резко, — низко опуская голову, закончил Пыжиков.
— Встречал таких… Мозг вроде здоровый, а философия гнилая, с этаким скверным анархистским душком. «Подавление личности»… Слова-то какие научились вывертывать. А почетный долг гражданина, служение Родине? Забыли? По-вашему, выходит, что об этом должны помнить только сержанты Нестеровы и солдаты Кудашевы? Может быть, вам, окончившему два училища, прочитать еще курс политической грамоты? А вы забыли, что была и гражданская война и Великая Отечественная?… Да как вам не стыдно говорить мне такие слова? И еще спрашиваете меня, как я с вами поступлю.
Никитин замолчал и отвернулся к окну. На машину наплывал сверкающий огнями город. На шоссе стало светлее и оживленнее. Пыжиков видел насупившееся лицо генерала и с волнением ждал самого главного. Он решился на все — будь что будет. Его интересовало, как поступит с ним этот суровый и, видимо, очень справедливый человек.
— Вы, товарищ генерал, не закончили своей мысли, — напряженно, с упорной настойчивостью проговорил Пыжиков.
— Поступят с вами по справедливости. Что заслужили, то и получите, — сухо ответил Никитин. — Но только скажу вам как командир и пожилой человек: вы в неоплатном долгу у Родины и своего народа.
Генерал, взглянув на шофера, попросил остановить машину.
Шофер затормозил и притерся к обочине. С удивлением посматривая на генерала, он хотел что-то спросить, но Никитин его опередил.
— Довезите старшего лейтенанта до комендатуры и поезжайте в гараж.
— А вы, товарищ генерал? — спросил шофер.
— Пройдусь пешком. На курортников посмотрю, зайду на контрольно-пропускной пункт. Мне торопиться некуда. А вот товарищу старшему лейтенанту нужно спешить. Его ждет начальник штаба отряда. Пусть доложит, подскажет, как искать скрывшихся нарушителей…
Откинувшись на сиденье, Пыжиков растерянно молчал.
Глава седьмая
Начальника штаба отряда в комендатуре не оказалось. С группой пограничников, прибывших из школы сержантского состава, он выехал куда-то в горы. В штабе комендатуры Пыжиков встретил майора Рокотова, который прибыл сюда раньше его, чтобы организовать поиски теперь уже в более широком масштабе. У здания стояли крытые брезентом машины, слышались приглушенные голоса солдат. Из кабинки выглядывала розыскная собака. — Вам необходимо написать объяснение, товарищ старший лейтенант, — на ходу бросил Рокотов и, обернувшись, добавил: — Потом зайдете в кабинет коменданта. Рокотов успел уже переодеться и побриться. Поскрипывая крепкими из яловой кожи сапогами, он быстро ушел в комнату материального обеспечения выписывать патроны и ракеты, как потом узнал Петр. Рокотов был удивительно спокоен и до приторности, как показалось Пыжикову, тактичен и вежлив. Такой признак внимания к его персоне ничего хорошего старшему лейтенанту не сулил. Пыжиков поздно вечером возвращался из комендатуры на квартиру, где решил после тяжелого и утомительного разговора с начальником штаба отдохнуть и отоспаться. Пришлось писать длинное, на несколько страниц, объяснение. Писалось тяжело, трудно, то с признанием собственных грехов, то с настойчивым оправданием себя. — А вот об этом вы зря так пишете, — читая написанное, замечал Рокотов. — Это не объяснение, а приговор самому себе. Тут вы снова ударились в крайность. Все, что вы написали, оставьте на память, а для штаба напишите только о сути дела, покороче, не больше чем на одной странице. — Пусть останется так! — мрачно настаивал Пыжиков. — Нет. Такое сочинение я принять не могу. Напишите, как я вам говорю, — уже требовал Рокотов. — А то, что вы написали, годится для дневника, в назидание самому себе. Зачем же вашу душу подшивать вместе со штабными документами? — Мне, товарищ майор, безразлично: дыроколом проткнут или… — Опять фразы? Оставьте, Пыжиков. У нас с вами деловой разговор. Напишите так, как нужно. А выводы сделают другие — в данном случае командование. — Генерал Никитин сказал, что меня, наверно, будут судить, — бойко сказал Пыжиков, раскуривая папиросу. — Я не знаю, что вам сказал генерал Никитин, но мне он только что звонил и приказал взять вас на розыск нарушителей. Пыжиков качнулся на стуле и выронил из рук горящую спичку. Наклонившись, поднял ее и положил в пепельницу. — Я только что ехал с ним вместе, в его машине, он… — Старший лейтенант, протянув руку, мял над пепельницей скомканный окурок и не находил слов. — Странное решение… — наконец выговорил он. — Ничего странного. Группа сержанта Нестерова обнаружила вторую радиостанцию. Там же нашли большое количество советской и иностранной валюты, запасное оружие, драгоценности, в том числе тридцать золотых часов. Вся прилегающая к морю местность теперь окружена еще более плотным кольцом. Операция принимает большой размах. Нужны люди. Ответственность ложится на всех. Выедем вместе рано утром. Быстро перепишите объяснение и ступайте отдыхать. Скажите дежурному, где вы будете находиться: за вами утром заедет машина. — Слушаюсь! — недоуменно и радостно вскочил Пыжиков. Рокотов снял трубку и стал куда-то звонить. Старший лейтенант зашел в комнату дежурного. Он уже немного успокоился и за полчаса написал новое, деловое объяснение.* * *
…Весной в приморский городок приезжала мать Петра и снимала комнату у вдовы Марии Дмитриевны Селиховой, которую рекомендовала московская знакомая. Встречаясь здесь со своей добрейшей мамашей, Петр проводил время в свое полное удовольствие: ел жареных курочек, разные сдобные кулебяки, попивал отличное сухое вино из погребка Марии Дмитриевны. Хозяйка и мать крепко подружились. На прежнюю дачную квартиру и направился теперь Петр. Там можно было после суровых передряг найти у Марии Дмитриевны покой и немного отдохнуть. Петр шел узким глухим переулком, ведущим к берегу моря. В темной зелени садов мерцали огоньки, где-то в фальшивом визге скрипок с заигранной пластинки стонал и выл саксофон. Звуки его нагоняли тоску. Весной по этой улочке Петр шел с матерью, провожая ее на вокзал. Она вытирала надушенным платочком полные дряблые щеки и плакала, как казалось ему, без всякой причины. Вот сегодня ей было бы над чем поплакать! Пыжикову хотелось застонать, взвыть, как тот хрипатый под тупой иголкой саксофон. Хотелось говорить кому-нибудь самые сердечные слова, полные откровенности, искренности, жгучей обиды за то, что он, не окрепнув, сломался, не расцветя, завял на далекой заставе, около пропахшего рыбой заводишка. Завянет там бесплодным пустоцветом и Настя, если ее не вытащить на яркий свет, в Москву или Ленинград, если не показать людям ее озорную, броскую красоту бойкой казачки. Здесь, в одиночестве, в глухом темном переулке, резко изменилось настроение у Пыжикова после разговора с Рокотовым, когда вся обстановка в штабе напоминала, что ты офицер, и заставляла подтягиваться. «Кончилось бы уж все это поскорее, пусть выгонят — сам давно добиваюсь, чтобы уволили. Женюсь тогда и вытащу отсюда Настю…» С такими мыслями Пыжиков подошел к калитке. Над садами нависла черная южная ночь, мрачно перемигиваясь желтоватыми, точно кошачьи глаза, звездами. Где-то близко, в мутной темноте притихших деревьев, беспокойно шумел морской прибой. С заросшей виноградником веранды почему-то лился тусклый синий свет. Он мягко падал на садовую зелень, едва освещая приютившийся здесь одноэтажный домик. За стеклом, сквозь марлевые занавески, Петр увидел силуэты людей. Открыв дверцу калитки, он подошел ближе и разглядел двух сидящих за столом мужчин. Постукивая вилками, они ужинали. Значит, комнаты были сданы. Да и мог ли он в этом сомневаться? Курортный сезон был в самом разгаре, и, конечно, предприимчивая домовладелица Мария Дмитриевна не упускала случая, чтобы заработать. Не только комнаты, но и сараишки, кладовые занимались «дикими» курортниками нарасхват, шли по самой высокой цене. Петр в нерешительности остановился. Нехорошо было беспокоить людей, тем более, когда они так по-домашнему мирно беседуют, даже слов не слышно, и аппетитно, очевидно после купания, ужинают… Только бы увидеть Марию Дмитриевну. Она-то уж устроит его как полагается. Петр бесшумно прошел в кухню, но там, как и в других комнатах, было темно. Вернувшись к веранде и постояв у крыльца, он, наконец, решился постучать. Разговор сразу же смолк, но дверь пока никто не открывал. После короткой паузы и едва слышного шепота кто-то грубоватым голосом спросил: — Кто там? — Мне нужна хозяйка дома, Мария Дмитриевна, — ответил Пыжиков. — Ее нет дома, — раздался прежний, с кавказским акцентом голос. — А где же она? — с огорчением спросил Петр. — Вышла куда-то. Должно быть, к соседям. Что ей передать? — явно желая отвязаться от пришедшего некстати гостя, спросил тот же голос. — Спасибо. Я ее подожду, — ответил Петр. Его начал раздражать неприветливый голос мужчины и полумрак на веранде, таинственный и приглушенный за стеклом шепот. «При таком свете можно подавиться костью или проглотить муху, — зло подумал Пыжиков. — Почему я должен тут стоять? Не только не приглашают войти, а даже не желают взглянуть, кто пришел…» — Разрешите войти?- подумав обо всем этом, спросил он настойчиво и не очень вежливо. Его решительный тон сразу подействовал. — Да, да. Пожалуйста! — медленно открывая дверь, далеко не радушным тоном встретил его мужчина с крупным горбатым носом и с широкими темными бровями. Увидев офицерские погоны и фуражку под цвет окружающей веранду зелени, мужчина на секунду замер. Правая его рука крепко держала дверь, словно намереваясь захлопнуть ее перед самым носом Пыжикова, левая была занесена назад, к бедру. Если бы Петр был внимательней, он бы заметил, как пальцы лежащей на бедре руки скрючивались и дрожали.
 Второй мужчина, в белой тенниске, почему-то быстро вскочил и скинул с абажура лампы полотенце. Ярко брызнул электрический свет и заиграл на стенках, выкрашенных в голубой цвет, на оконных фрамугах, на столе, где лежали в веревочной сетке две дыни и рядом с ними поджаренная курица. Под абажуром вихорьком закружились ночные бабочки.
— Эти ночные гости опять налетели, — глядя на бабочек и поглаживая гладко выбритую, с высоким лбом голову, спокойно проговорил мужчина в белой тенниске. — Милости просим, товарищ офицер, к столу. Скоро хозяйка придет. Вы что, ее родственник?
— Просто знакомый. Недавно мать здесь комнату снимала.
— Мы тоже курортные, порхаем, как эти бабочки… Смотрите, сколько всяких букашек полно на огонек летит, вроде нашей мошкары на Урале.
Высоколобый оказался более приветливым и радушным, чем большеносый кавказец. Засунув руки в карманы, он исподлобья наблюдал большими круглыми мутно блестевшими, как у свирепого быка, глазами. По его взгляду было видно, что он сердит и недоволен. Визит офицера смутил их обоих, явно нарушив вечернюю задушевную беседу.
— А вы тоже с Урала? — улыбаясь, спросил Петр у горбоносого.
— Нет. Мы здесь, в горах, живем.
Высоколобый снова засуетился, настойчиво предлагая придвинуться к столу и закусить. При этом он все время улыбался поджатыми губами, стянутыми у подбородка морщинами.
— Дыньки не хотите? Великолепнейшее творение природы, сорт знаменитый, наша матушка «колхозница». А какой аромат! Прелесть! У нас дома этого пока нет.
— Почему же? На Урале растут и арбузы и дыни, — возразил Петр.
— Извините, это на Южном, а на Северном мало, да и еще рано сейчас, не вызрели. Когда же я оттуда уехал? — потирая висок, многозначительно задумался высоколобый. — Да уж десятый день. Не заметишь, как и отпуск пролетит…
— Значит, с Урала? — словно желая заглянуть в душу этого суетливого, чересчур словоохотливого курортника, снова спросил Петр.
— Коренной тагилец. Все-таки разрешите угостить вас дыней! Вот той, что побольше да поспелее.
— Спасибо, я не хочу. Извините, что побеспокоил…
— Ну, что там! Чем же вас тогда угостить? Вина предложить не осмеливаюсь. Знаю, что служба у вас строгая.
Горбоносый подошел к столу и выкатил из сетки дыню. Подержав ее в смуглой большущей руке, положил на тарелку. Косясь на офицера угрюмым взглядом, он медленно, с расстановкой проговорил:
— Слушай, друг, пачему не хочешь? Хароший дына.
Пыжиков вновь поблагодарил и отказался. Ему почему-то неприятна была встреча с этими людьми и противна суетливая назойливость высоколобого. «Забавная компания, — усмехнулся Петр. — Два сапога на одну ногу!»
Разговор как-то иссяк и прекратился. Все трое чувствовали себя напряженно и неловко. Пыжиков сидел как на иголках и злился, что испортил людям ужин. Хотелось встать и уйти, но уходить было поздно и некуда.
В другой раз посидел бы, поговорил с людьми, о многом основательно расспросил, а сейчас и самому говорить и слушать не хотелось. Да и высоколобый курортник, с неприятно поджатыми губами, своей приторной вежливостью и подобострастными репликами совсем не располагал к себе, а наоборот, отталкивал. Горбоносый не мог скрыть своей неприязни к непрошенному гостю в зеленой фуражке. Постояв у стола и уже больше не предлагая угощения, покопавшись в чемоданчике, он взял полотенце и вышел во двор.
Это вынужденное знакомство прервалось возвращением хозяйки дома. Петр с облегчением вздохнул.
Как и следовало ожидать, Мария Дмитриевна встретила Петра с обычным радушием. Она провела его в большую» с выходящим на веранду окном комнату и, усадив на диван, сразу же затопила его словесным потоком пустяковых воспоминаний о матери. Однако Петр вежливо сослался на усталость и попросил приготовить ему постель.
— Извините, дорогая Мария Дмитриевна. Совсем измотался, только бы добраться до подушки, — расстегивая воротник гимнастерки, сказал Пыжиков.
— Что же это вы, голубчик? — заахала Селихова.
— Служба такая… Уже двенадцать, — посмотрев на часы, ответил Петр. — Скоро должна прибыть за мной машина с солдатами.
— Ах, боже мой! Да вы хоть скушайте что-нибудь.
— Немного, пожалуй, можно, — согласился Петр, вспомнив, что он с утра ничего не ел.
Мария Дмитриевна вскочила и побежала на кухню готовить ужин.
Петр слышал, как курортники, гремя топчанами, которые, как в общежитии, всегда приготовлены расчетливыми хозяевами для многочисленных гостей, укладывались спать и тихо, но, видимо очень горячо, о чем-то меж собой спорили. Петра они уже не интересовали.
— Нам надо быстро уходить, Семион, — склонившись к своему партнеру, шептал горбоносый. — Ты слышал, что он сказал хозяйке?
— Да, — соглашался высоколобый, держа в руках термос с длинным наплечным ремнем и опустив на пол ноги в желтых на толстой подошве ботинках.
— Он говорит, что скоро будет машина и солдаты… Что это значит? Это значит, что он хитрый человек, играет с нами, как кошка с мышками…
— Молчи! — схватив горбоносого за руку, просипел Семион. — Ты ведешь себя, как настоящий болван. Почему ты с этим офицером разговаривал по-хамски?
— Дед мой — дагестанский князь, отец — тоже, я — гордый человек, нанимаешь? Я ненавижу их, пусть будет это мальчишка или офицер. Надо уходить, Семион. Он все узнал.
— Посмотрим. У нас еще есть время. Есть и термос. Вот швырну его и от этой хатки ничего не останется.
— Тогда мы тоже сдохнем…
— Нет. Я умею бросать лучше, чем ты думаешь. Послушаем, подождем, что будет дальше. Только без паники. Я бывал не в таких переплетах… Тихонько подойди к окну и взгляни, что делает этот юноша.
Подвижный и верткий кавказец кошачьими шажками, на цыпочках подкрался к окну и осторожно отодвинул край занавески.
Съев без всякого аппетита кусок жареной курицы с помидором, Петр сидел за столом. Запустив пальцы в спутанные волосы, раздумывал над словами генерала Никитина. «Я дурак, пытался еще над ним куражиться… А как вначале разговаривал с майоромРокотовым! И какую написал объяснительную записку… Хотел всем доказать, что мне теперь все равно, безразлично. Пустая, глупая бравада!»
Тряхнув гудевшей головой, словно избавившись от невеселых раздумий, Петр встал и подошел к окну. На веранде метнулось какое-то черное пятно и скрылось в саду. Пыжикову стало вдруг жутко. «Кому это вздумалось за мной подглядывать? А может быть, это нервы шалят?»
На душе стало еще тяжелее. В комнате было душно, как в бане. Над садом сгущались темные тучи. Голова тяжелела, будто наливалась свинцом, но спать уже не хотелось.
С неожиданной резкостью скрипнула ржавыми петлями дверь. Петр вздрогнул и оглянулся. На пороге в длинном цветастом халате стояла Мария Дмитриевна.
— Это я, Петр Тихонович. Вы почему, голубчик, не спите?
— Не спится что-то, Мария Дмитриевна. О службе, о жизни вот думаю…
— И-и, милый мой! В ваши-то годы… Не надо много думать. Вся жизнь еще впереди.
— Серенькая моя жизнь, Мария Дмитриевна, как пыль вьется вокруг, глаза порошит. Ничего пока хорошего в ней не вижу, — с болезненной откровенностью признался Петр. Ему хотелось говорить, поделиться с пожилой женщиной своими невзгодами.
— А вы потише, голубчик, а то мои постояльцы еще не улеглись, — подняв палец и переходя на шепот, предупредила хозяйка.
— Они всегда так долго не спят? — покосившись на веранду, спросил Петр.
— Когда как. Только на днях им сдала. Сняли всю площадь и сразу поставили условия, что им нужен абсолютный покой. А сами комнатами почти не пользуются, на веранде и спят и едят. Ездили на экскурсии, возвращались поздно. Вчера приехали, заперлись и долго о чем-то спорили. Этот гололобый-то, вроде как ученый, все в горы ходит, а второй за проводника. Водит его по горам и все показывает!
— Что же они изучают? Камни или траву какую приносят?
— А этого я уж не знаю. Но люди, как видно, хорошие. На счет водочки ни-ни. С женщинами тоже не якшаются. Да и, видать, состоятельные. Сколько запросила, столько и дали. Даже не стали торговаться.
— Не понравились они мне почему-то, Мария Дмитриевна.
— Что вы, Петр Тихонович! Вам надо, голубчик, просто отдохнуть и выспаться. Вот утром я всем вам такой завтрак сварганю — пальчики оближете.
Хозяйка ушла, но Пыжиков долго еще метался в горячей постели, вспоминая сложные события дня. Нервы у него действительно расшалились основательно.
А на веранде в это время горбоносый толкает Семиона локтем в бок и сипло говорит:
— Крышка нам, конец, если не будем уходить или резать двоих…
— Молчи! — стиснул Семион руку горбоносого и толкнул его от себя.
— Уй, аллах! Все равно я их резать буду… Как только услышу машину — зарежу. Я горец и нэ буду в руках русских коммунистов, нэ буду!
— Перестань! — задыхаясь не то от страха, не то от гнева, хрипит Семион. — Трус!
— Я — потомок храбрых горцев — могу быть трусом? Нэт! Я должен первым брать кровь врага… Хочешь, я сейчас, как барс, прыгну на нэго и все кончаю… Мы уйдем в горы. А там опять будем у наших друзей.
— Тише, болван! — зло, сквозь зубы шепчет Семион. Он видит при бледном свете выкатившиеся из орбит глаза горбоносого, темные изогнутые брови. «Страшный это человек, дикий, — боязливо косится Семион. Но на него можно положиться во всем. Живым он себя в руки не даст. Знает здесь все тропинки, горные ущелья, обычаи кавказских народов. Знает и дело — не один год учился в тайной школе».
— Подождем немножко, — успокаивает горбоносого Семион.
Приближался рассвет. С моря потянул ветер, тряхнул верхушки деревьев.
Пыжиков встал, оделся, присел на стул и задумался. В эти минуты ему казалось, что он самый несчастный человек на земле, что жизнь начинает швырять его, как море утлую лодочку. Нервы сдали… Усталость взяла верх. Склонившись над столом, Петр крепко уснул. Он не слышал, как зашумел в саду тугой северо-восточный ветер. Закачались высокие пирамидальные тополи, зашелестели листьями старые яблони, гулко роняя на сухую землю перезревшие плоды.
Семион и дагестанский князь Сапангос торопливо сложили вещи в небольшие чемоданы и на зорьке покинули уютный домик Марии Дмитриевны. Они уходили из города глухими переулками, где одиноко и свирепо бушевал ветер, заметал следы густой, застилающей все вокруг пылью. Над горами нависли темные тучи.
Спать Пыжикову пришлось мало. Вскоре к дому подошла грузовая с полным кузовом солдат машина и разбудила его громким протяжным гудком.
Второй мужчина, в белой тенниске, почему-то быстро вскочил и скинул с абажура лампы полотенце. Ярко брызнул электрический свет и заиграл на стенках, выкрашенных в голубой цвет, на оконных фрамугах, на столе, где лежали в веревочной сетке две дыни и рядом с ними поджаренная курица. Под абажуром вихорьком закружились ночные бабочки.
— Эти ночные гости опять налетели, — глядя на бабочек и поглаживая гладко выбритую, с высоким лбом голову, спокойно проговорил мужчина в белой тенниске. — Милости просим, товарищ офицер, к столу. Скоро хозяйка придет. Вы что, ее родственник?
— Просто знакомый. Недавно мать здесь комнату снимала.
— Мы тоже курортные, порхаем, как эти бабочки… Смотрите, сколько всяких букашек полно на огонек летит, вроде нашей мошкары на Урале.
Высоколобый оказался более приветливым и радушным, чем большеносый кавказец. Засунув руки в карманы, он исподлобья наблюдал большими круглыми мутно блестевшими, как у свирепого быка, глазами. По его взгляду было видно, что он сердит и недоволен. Визит офицера смутил их обоих, явно нарушив вечернюю задушевную беседу.
— А вы тоже с Урала? — улыбаясь, спросил Петр у горбоносого.
— Нет. Мы здесь, в горах, живем.
Высоколобый снова засуетился, настойчиво предлагая придвинуться к столу и закусить. При этом он все время улыбался поджатыми губами, стянутыми у подбородка морщинами.
— Дыньки не хотите? Великолепнейшее творение природы, сорт знаменитый, наша матушка «колхозница». А какой аромат! Прелесть! У нас дома этого пока нет.
— Почему же? На Урале растут и арбузы и дыни, — возразил Петр.
— Извините, это на Южном, а на Северном мало, да и еще рано сейчас, не вызрели. Когда же я оттуда уехал? — потирая висок, многозначительно задумался высоколобый. — Да уж десятый день. Не заметишь, как и отпуск пролетит…
— Значит, с Урала? — словно желая заглянуть в душу этого суетливого, чересчур словоохотливого курортника, снова спросил Петр.
— Коренной тагилец. Все-таки разрешите угостить вас дыней! Вот той, что побольше да поспелее.
— Спасибо, я не хочу. Извините, что побеспокоил…
— Ну, что там! Чем же вас тогда угостить? Вина предложить не осмеливаюсь. Знаю, что служба у вас строгая.
Горбоносый подошел к столу и выкатил из сетки дыню. Подержав ее в смуглой большущей руке, положил на тарелку. Косясь на офицера угрюмым взглядом, он медленно, с расстановкой проговорил:
— Слушай, друг, пачему не хочешь? Хароший дына.
Пыжиков вновь поблагодарил и отказался. Ему почему-то неприятна была встреча с этими людьми и противна суетливая назойливость высоколобого. «Забавная компания, — усмехнулся Петр. — Два сапога на одну ногу!»
Разговор как-то иссяк и прекратился. Все трое чувствовали себя напряженно и неловко. Пыжиков сидел как на иголках и злился, что испортил людям ужин. Хотелось встать и уйти, но уходить было поздно и некуда.
В другой раз посидел бы, поговорил с людьми, о многом основательно расспросил, а сейчас и самому говорить и слушать не хотелось. Да и высоколобый курортник, с неприятно поджатыми губами, своей приторной вежливостью и подобострастными репликами совсем не располагал к себе, а наоборот, отталкивал. Горбоносый не мог скрыть своей неприязни к непрошенному гостю в зеленой фуражке. Постояв у стола и уже больше не предлагая угощения, покопавшись в чемоданчике, он взял полотенце и вышел во двор.
Это вынужденное знакомство прервалось возвращением хозяйки дома. Петр с облегчением вздохнул.
Как и следовало ожидать, Мария Дмитриевна встретила Петра с обычным радушием. Она провела его в большую» с выходящим на веранду окном комнату и, усадив на диван, сразу же затопила его словесным потоком пустяковых воспоминаний о матери. Однако Петр вежливо сослался на усталость и попросил приготовить ему постель.
— Извините, дорогая Мария Дмитриевна. Совсем измотался, только бы добраться до подушки, — расстегивая воротник гимнастерки, сказал Пыжиков.
— Что же это вы, голубчик? — заахала Селихова.
— Служба такая… Уже двенадцать, — посмотрев на часы, ответил Петр. — Скоро должна прибыть за мной машина с солдатами.
— Ах, боже мой! Да вы хоть скушайте что-нибудь.
— Немного, пожалуй, можно, — согласился Петр, вспомнив, что он с утра ничего не ел.
Мария Дмитриевна вскочила и побежала на кухню готовить ужин.
Петр слышал, как курортники, гремя топчанами, которые, как в общежитии, всегда приготовлены расчетливыми хозяевами для многочисленных гостей, укладывались спать и тихо, но, видимо очень горячо, о чем-то меж собой спорили. Петра они уже не интересовали.
— Нам надо быстро уходить, Семион, — склонившись к своему партнеру, шептал горбоносый. — Ты слышал, что он сказал хозяйке?
— Да, — соглашался высоколобый, держа в руках термос с длинным наплечным ремнем и опустив на пол ноги в желтых на толстой подошве ботинках.
— Он говорит, что скоро будет машина и солдаты… Что это значит? Это значит, что он хитрый человек, играет с нами, как кошка с мышками…
— Молчи! — схватив горбоносого за руку, просипел Семион. — Ты ведешь себя, как настоящий болван. Почему ты с этим офицером разговаривал по-хамски?
— Дед мой — дагестанский князь, отец — тоже, я — гордый человек, нанимаешь? Я ненавижу их, пусть будет это мальчишка или офицер. Надо уходить, Семион. Он все узнал.
— Посмотрим. У нас еще есть время. Есть и термос. Вот швырну его и от этой хатки ничего не останется.
— Тогда мы тоже сдохнем…
— Нет. Я умею бросать лучше, чем ты думаешь. Послушаем, подождем, что будет дальше. Только без паники. Я бывал не в таких переплетах… Тихонько подойди к окну и взгляни, что делает этот юноша.
Подвижный и верткий кавказец кошачьими шажками, на цыпочках подкрался к окну и осторожно отодвинул край занавески.
Съев без всякого аппетита кусок жареной курицы с помидором, Петр сидел за столом. Запустив пальцы в спутанные волосы, раздумывал над словами генерала Никитина. «Я дурак, пытался еще над ним куражиться… А как вначале разговаривал с майоромРокотовым! И какую написал объяснительную записку… Хотел всем доказать, что мне теперь все равно, безразлично. Пустая, глупая бравада!»
Тряхнув гудевшей головой, словно избавившись от невеселых раздумий, Петр встал и подошел к окну. На веранде метнулось какое-то черное пятно и скрылось в саду. Пыжикову стало вдруг жутко. «Кому это вздумалось за мной подглядывать? А может быть, это нервы шалят?»
На душе стало еще тяжелее. В комнате было душно, как в бане. Над садом сгущались темные тучи. Голова тяжелела, будто наливалась свинцом, но спать уже не хотелось.
С неожиданной резкостью скрипнула ржавыми петлями дверь. Петр вздрогнул и оглянулся. На пороге в длинном цветастом халате стояла Мария Дмитриевна.
— Это я, Петр Тихонович. Вы почему, голубчик, не спите?
— Не спится что-то, Мария Дмитриевна. О службе, о жизни вот думаю…
— И-и, милый мой! В ваши-то годы… Не надо много думать. Вся жизнь еще впереди.
— Серенькая моя жизнь, Мария Дмитриевна, как пыль вьется вокруг, глаза порошит. Ничего пока хорошего в ней не вижу, — с болезненной откровенностью признался Петр. Ему хотелось говорить, поделиться с пожилой женщиной своими невзгодами.
— А вы потише, голубчик, а то мои постояльцы еще не улеглись, — подняв палец и переходя на шепот, предупредила хозяйка.
— Они всегда так долго не спят? — покосившись на веранду, спросил Петр.
— Когда как. Только на днях им сдала. Сняли всю площадь и сразу поставили условия, что им нужен абсолютный покой. А сами комнатами почти не пользуются, на веранде и спят и едят. Ездили на экскурсии, возвращались поздно. Вчера приехали, заперлись и долго о чем-то спорили. Этот гололобый-то, вроде как ученый, все в горы ходит, а второй за проводника. Водит его по горам и все показывает!
— Что же они изучают? Камни или траву какую приносят?
— А этого я уж не знаю. Но люди, как видно, хорошие. На счет водочки ни-ни. С женщинами тоже не якшаются. Да и, видать, состоятельные. Сколько запросила, столько и дали. Даже не стали торговаться.
— Не понравились они мне почему-то, Мария Дмитриевна.
— Что вы, Петр Тихонович! Вам надо, голубчик, просто отдохнуть и выспаться. Вот утром я всем вам такой завтрак сварганю — пальчики оближете.
Хозяйка ушла, но Пыжиков долго еще метался в горячей постели, вспоминая сложные события дня. Нервы у него действительно расшалились основательно.
А на веранде в это время горбоносый толкает Семиона локтем в бок и сипло говорит:
— Крышка нам, конец, если не будем уходить или резать двоих…
— Молчи! — стиснул Семион руку горбоносого и толкнул его от себя.
— Уй, аллах! Все равно я их резать буду… Как только услышу машину — зарежу. Я горец и нэ буду в руках русских коммунистов, нэ буду!
— Перестань! — задыхаясь не то от страха, не то от гнева, хрипит Семион. — Трус!
— Я — потомок храбрых горцев — могу быть трусом? Нэт! Я должен первым брать кровь врага… Хочешь, я сейчас, как барс, прыгну на нэго и все кончаю… Мы уйдем в горы. А там опять будем у наших друзей.
— Тише, болван! — зло, сквозь зубы шепчет Семион. Он видит при бледном свете выкатившиеся из орбит глаза горбоносого, темные изогнутые брови. «Страшный это человек, дикий, — боязливо косится Семион. Но на него можно положиться во всем. Живым он себя в руки не даст. Знает здесь все тропинки, горные ущелья, обычаи кавказских народов. Знает и дело — не один год учился в тайной школе».
— Подождем немножко, — успокаивает горбоносого Семион.
Приближался рассвет. С моря потянул ветер, тряхнул верхушки деревьев.
Пыжиков встал, оделся, присел на стул и задумался. В эти минуты ему казалось, что он самый несчастный человек на земле, что жизнь начинает швырять его, как море утлую лодочку. Нервы сдали… Усталость взяла верх. Склонившись над столом, Петр крепко уснул. Он не слышал, как зашумел в саду тугой северо-восточный ветер. Закачались высокие пирамидальные тополи, зашелестели листьями старые яблони, гулко роняя на сухую землю перезревшие плоды.
Семион и дагестанский князь Сапангос торопливо сложили вещи в небольшие чемоданы и на зорьке покинули уютный домик Марии Дмитриевны. Они уходили из города глухими переулками, где одиноко и свирепо бушевал ветер, заметал следы густой, застилающей все вокруг пылью. Над горами нависли темные тучи.
Спать Пыжикову пришлось мало. Вскоре к дому подошла грузовая с полным кузовом солдат машина и разбудила его громким протяжным гудком.
Глава восьмая
Вот уже третьи сутки пограничники сидят в засаде, скрытые густой зеленью леса. Над горными хребтами надоедливо гудит нестихающий ветер. В Орлиной бухте шумно ворочаются вспененные волны, земля вздрагивает и доносит однообразные утомляющие звуки. Хочется встать, расправить затекшие мускулы, вскарабкаться на самую вершину скалы и крикнуть взбесившемуся ветру: «Уймись, дьявол!» Но тут-то как раз все решает терпение и выдержка. Вскакивать нельзя, говорить можно только шепотом. Пограничники, затаившись, терпеливо лежат и ждут. Иногда слышится протяжный вздох солдата Баландина и его сладкий зевок. Глаза слипаются, всем телом овладевает истома. Баландин, словно нарочно, продолжает зевать, что приводит сержанта Нестерова в яростный гнев. — Ты можешь потише и аккуратней раскрывать свой чемодан? — Выходит, и зевнуть уж нельзя? — тихо и недовольно ворчит Баландин. — Ты и лодку так прозевал! — вставляет Батурин. — При чем тут я? Со мной офицер был. Я там службу не нес, только лейтенантова коня держал. — Прекратить разговоры, — властно приказывает Нестеров. Продолжать наблюдение и чтобы ни звука… — Ты, Баландин, когда зеваешь, то хоть не труби, как пастуший рожок. Моя Гойда и то спокойней ведет себя, — поглаживая лежавшую рядом кавказскую овчарку, говорит сержант Батурин. От этой заботливой ласки Гойда вытягивается и плотно прижимает голову к передним лапам. Снова молчание. Перед глазами рябит зелень кустарника, ветер срывает с кизильника отмирающие листья и, закручивая в вихре, уносит их к подножью гор. Вечереет. Об Орлиные скалы гулко разбиваются соленые волны, шумно, со скрежетом перекатываются у берега камни. Там, за скалами, словно в глубине земли, яростно гудит море. После заката кусты быстро наполняются непроглядной мутью, словно на них сплошь натянули черные покрывала. На западе гаснет багровая, похожая на разлитую кровь полоса и наступает темная, предосенняя ночь. Северо-восточный ветер не стихает и ночью. Вокруг живыми призраками шевелятся, шуршат кусты. Ночь вызывает у солдат и офицеров предельное напряжение. Кажется, что всюду кто-то крадется, выжидает, когда утомятся наблюдать и слушать пограничники. В темноте неслышно появляется капитан Ромашков, Сообщив пароль, он, согнувшись, подходит ближе, ложится рядом и шепотом спрашивает:
— Ну, как дела?
— Пока в порядке, товарищ капитан, — отвечает Нестеров. Тишина…
— Какая же тишина, когда дует все время.
— Может, чего-нибудь и надует, — с надеждой замечает Батурин.
— Например?
— Дождя или гостей каких…
— Я все время слышу у вас здесь шум, возню. Прекратите, — замечает капитан Ромашков. — И разговоры…
— Да мы ничего, товарищ капитан. Вот только Баландин…
— Что Баландин?
— Зевает все время. Начнет, а за ним и другие. Я уж ему говорил. И так сон одолевает, а он как назло делает.
— Я не нарочно, — смущенно оправдывается Баландин.
— Зевать и кашлять можно в пилотку, — тихо говорит Ромашков.
— Слушаюсь, — отзывается Баландин.
— Скоро смена придет, отдохнете, а сейчас смотрите во все глаза…
Минут пять полежав с солдатами, капитан осторожно встает и быстро исчезает в темноте, словно проваливается куда-то. Ему надо проверить и другие наряды. Они разбросаны в разных местах. Лежат, не шелохнувшись, в терпеливом ожидании врага.
С наступлением темноты наряды приближаются к месту, где закопана радиостанция, почти вплотную. С рассветом они уползают, втягиваются в лес и маскируются в кустах. Так целыми сутками пограничники под открытым небом. Здесь они едят и коротко отдыхают — чуть-чуть вздремнут — и снова служба. Сколько придется караулить и напряженно ждать врагов, когда они вздумают наведаться сюда, чтобы воспользоваться радиостанцией, деньгами, оружием и драгоценностями? А вдруг засады и секреты ими обнаружены и все ожидания впустую? Сколько утомительных бессонных ночей! Об этом думает каждый солдат и офицер. Все зависит от тщательной маскировки, от поведения людей, от степени их воинского воспитания и боевого мастерства. Думает об этом и солдат Баландин. Он чувствует себя виноватым перед своими товарищами. Немало ему пришлось выслушать справедливых упреков, и он твердо решил загладить свои проступки, искупить вину. «Вы еще узнаете, что я тоже не лыком шит, — думает Баландин. — Вот первым замечу врага и первым кинусь на него. Только бы заметить — тогда от меня никакой враг не ускользнет».
После короткой передышки Баландин лег подальше от других солдат и немного выдвинулся вперед.
— Только смотрите не засните, — показывая ему сектор наблюдения, сказал Нестеров.
— Будьте покойны, — на этот раз как-то особенно твердо ответил Баландин, продолжая размышлять о том, как бы ему первому увидеть врага.
В темноте неслышно появляется капитан Ромашков, Сообщив пароль, он, согнувшись, подходит ближе, ложится рядом и шепотом спрашивает:
— Ну, как дела?
— Пока в порядке, товарищ капитан, — отвечает Нестеров. Тишина…
— Какая же тишина, когда дует все время.
— Может, чего-нибудь и надует, — с надеждой замечает Батурин.
— Например?
— Дождя или гостей каких…
— Я все время слышу у вас здесь шум, возню. Прекратите, — замечает капитан Ромашков. — И разговоры…
— Да мы ничего, товарищ капитан. Вот только Баландин…
— Что Баландин?
— Зевает все время. Начнет, а за ним и другие. Я уж ему говорил. И так сон одолевает, а он как назло делает.
— Я не нарочно, — смущенно оправдывается Баландин.
— Зевать и кашлять можно в пилотку, — тихо говорит Ромашков.
— Слушаюсь, — отзывается Баландин.
— Скоро смена придет, отдохнете, а сейчас смотрите во все глаза…
Минут пять полежав с солдатами, капитан осторожно встает и быстро исчезает в темноте, словно проваливается куда-то. Ему надо проверить и другие наряды. Они разбросаны в разных местах. Лежат, не шелохнувшись, в терпеливом ожидании врага.
С наступлением темноты наряды приближаются к месту, где закопана радиостанция, почти вплотную. С рассветом они уползают, втягиваются в лес и маскируются в кустах. Так целыми сутками пограничники под открытым небом. Здесь они едят и коротко отдыхают — чуть-чуть вздремнут — и снова служба. Сколько придется караулить и напряженно ждать врагов, когда они вздумают наведаться сюда, чтобы воспользоваться радиостанцией, деньгами, оружием и драгоценностями? А вдруг засады и секреты ими обнаружены и все ожидания впустую? Сколько утомительных бессонных ночей! Об этом думает каждый солдат и офицер. Все зависит от тщательной маскировки, от поведения людей, от степени их воинского воспитания и боевого мастерства. Думает об этом и солдат Баландин. Он чувствует себя виноватым перед своими товарищами. Немало ему пришлось выслушать справедливых упреков, и он твердо решил загладить свои проступки, искупить вину. «Вы еще узнаете, что я тоже не лыком шит, — думает Баландин. — Вот первым замечу врага и первым кинусь на него. Только бы заметить — тогда от меня никакой враг не ускользнет».
После короткой передышки Баландин лег подальше от других солдат и немного выдвинулся вперед.
— Только смотрите не засните, — показывая ему сектор наблюдения, сказал Нестеров.
— Будьте покойны, — на этот раз как-то особенно твердо ответил Баландин, продолжая размышлять о том, как бы ему первому увидеть врага.
Глава девятая
Ветер не стихает. Он качает кусты, хлещет ветками по серым обнаженным скалам. У дуба, под которым, притаившись, сидят два человека, мощно дрожит верхушка, поскрипывает высохший треснутый сук. Маленькие птички дубоносы вспархивают и пытаются взвиться в небо, но сильный порыв ветра косо гонит птиц в сторону и давит к кустам. Дуб стоит в ущелье над крутым обрывом, он широко раскинул толстые корявые ветви и, как старый дед, оброс вокруг густой крепкой порослью молодого потомства. На дне ущелья булькает в каменистом русле горный ручеек. Там, внизу, мрачно и тихо. Дуб покачивается, скрипит, словно на кого-то ворчит, сердится… На противоположном склоне ущелья, в непрерывном шуме леса тают последние солнечные лучи. — Так что же будем делать? — спрашивает Сапангос. — Я думаю, надо идти сейчас, пока светло, — давя спиной ствол дуба, отвечает Семион. — Когда светло, там ходить нельзя, — возражает Сапангос. — Увидят, пропадать будем. — Ночь темная, ориентироваться трудно, налетим на пограничный наряд, да и место-то не сразу найдешь. — Я найду, хоть на ощупь, хорошие заметки сделал. Найду, — упрямо твердит Сапангос. — В этих чертовых скалах заблудиться можно, — возражает Семион. — До сумерек надо взять вещи и местность разведать — надо все рассмотреть. — Мы и так хорошо местность тут знаем. — А как же иначе? Сейчас подойдем туда и понаблюдаем еще раз. Если все в порядке, то я сначала пойду один… — Почему один? — Вдвоем нельзя… В случае провала ты останешься и уйдешь на явку. Я же плохо знаю местность, а ты тут, как дома… — Ты, Семион, храбрый человек. Ладно, делай как хочешь, я тебе подчиняюсь. — Уговор наш помнишь? — дернув поджатой губой, спросил Семион. — Ты о чем говоришь? — Я говорю о том, чтобы одна пуля всегда оставалась… — Сделаем, — вздохнув, ответил Сапангос. — Живыми мы попадаться не должны, понимаешь? — Как не понимать! — Я тебе верю, как брату. Идем… — Идем. Семион набросил на плечо ремень с пристегнутым термосом, с которым он никогда не расставался, и взял в руки чемоданчик. На ветках засуетились, запрыгали витютни, взвизгнула желна, мерным стуком дятел выдалбливал из коры неподатливого червячка. Вечером, когда солнце утонуло в море, на тропинке около Орлиной скалы показался человек в белой тенниске с чемоданчиком в руках и с висевшим через плечо на ремне термосом. Он возник перед глазами Баландина так неожиданно, словно вынырнул из земли. Остановившись, он огляделся вокруг, поправил серую широкополую, свисавшую на уши панаму. Постояв немного, круто свернул с тропы и присел под кустом черноклена, как раз там, где почти на чистом месте была закопана радиостанция. Здесь была крошечная, густо окруженная кустарником плешинка, на ее краю рос второй приземистый ветвистый черноклен. Дальше шли сплошные заросли. Не спеша, будто присев отдохнуть, человек в панаме снял с плеча термос, поставил его рядом с чемоданчиком, взглянул на ручные часы, закурил. Затянувшись несколько раз подряд, он бросил недокуренную сигаретку в кусты, торопливо прочистил мундштук, еще раз воровато огляделся и тихо вскрикнул голосом птицы. Через минуту в стороне раздался ответный крик-звонкий и резкий. Он сразу же замер в шелестящем порыве ветра. Крепко натянув на лоб панаму, человек вдруг встал на колени и начал снимать под кустом верхний слой дерна. Беспорядочно раскидав землю, он вытащил из ямы ящик с аппаратурой, небольшой чемодан и поставил их рядом с термосом. Наблюдая за действиями нарушителя, пограничники замерли в ожидании приказа. Где-то совсем близко вскрикнула сова и, тяжело взмахивая крыльями, пролетела над головой Баландина. Он лежал под приземистым чернокленом впереди всех и видел, как нарушитель копался в земле и вынимал какие-то ящики. Пролетевшая сова своими шумными крыльями вывела его из оцепенения, он не выдержал и, не дождавшись приказа, сам с яростью в голосе скомандовал: — Руки вверх!
Подстегнутый неожиданным вскриком, нарушитель вскочил, резким и гибким движением схватил термос.
— Руки! — громче прежнего повторил Баландин и нажал спусковой крючок карабина.
Грохнул выстрел.
Еще не успел замереть раскатистый звук, как нарушитель, взмахнув термосом, швырнул его в кусты. Гулкий, тяжелый, ошеломительный взрыв качнул деревья. Вырванный с корнями черноклен, с дымной кучей земли, вместе с телом Баландина отбросило на тропу. Неподалеку в клубящейся пыли застонал Нестеров и еще кто-то. Тут же, в изуродованных кустах, корчилась, выла закиданная землей Гойда.
Лежа в вырытой им ямке, нарушитель хлестко бил по кустам. На предложение Ромашкова бросить оружие ответил выстрелами из автоматического пистолета.
Очередями из автоматов пограничники прижали его к земле. Им было приказано взять врага живым.
Пограничники подползали все ближе и ближе Нарушитель, видя, как все плотнее и плотнее сжимается вокруг него смертельный круг, понял, что его хотят схватить живым. Стреляя наугад, он то вскакивал, то вновь ложился, продолжая бить из пистолета. Второй гранаты у него не оказалось. Вдруг после нескольких выстрелов он затих…
Видя безвыходность положения, нарушитель выстрелил себе в рот. Пользуясь завязавшейся перестрелкой, Сапангос сумел ускользнуть. Опытный, дерзкий, хорошо знающий местность, он, как змея, прополз через несколько цепей и, только в последней натолкнувшись на зазевавшегося молодого солдата, убил его в упор и ушел в горы.
Взрывом гранаты, замаскированной под термос, был убит Баландин. Сержант Нестеров и еще двое солдат оказались контуженными.
Вскоре на место стычки прибыл находившийся неподалеку генерал Никитин.
— Как же это все получилось? — выслушав доклад Маланьина, спросил Никитин.
— Выявили себя раньше времени, товарищ генерал.
— Кто это сделал?
— Говорят, что солдат Баландин не выдержал, крикнул и выстрелил. Он сам и погиб…
— Ну что ж, на мертвых вину валить не будем, — задумчиво проговорил Никитин. — Подполковник Маланьин, распорядитесь насчет похорон солдата. Он погиб на боевом посту. А то, что не выдержал, виноваты и мы — плохо учили. А этого, — показав на труп диверсанта, продолжал Никитин, — сфотографировать, как в таких случаях положено, пленку быстро проявить и доставить мне. Вещи его доставить в штаб.
— Руки вверх!
Подстегнутый неожиданным вскриком, нарушитель вскочил, резким и гибким движением схватил термос.
— Руки! — громче прежнего повторил Баландин и нажал спусковой крючок карабина.
Грохнул выстрел.
Еще не успел замереть раскатистый звук, как нарушитель, взмахнув термосом, швырнул его в кусты. Гулкий, тяжелый, ошеломительный взрыв качнул деревья. Вырванный с корнями черноклен, с дымной кучей земли, вместе с телом Баландина отбросило на тропу. Неподалеку в клубящейся пыли застонал Нестеров и еще кто-то. Тут же, в изуродованных кустах, корчилась, выла закиданная землей Гойда.
Лежа в вырытой им ямке, нарушитель хлестко бил по кустам. На предложение Ромашкова бросить оружие ответил выстрелами из автоматического пистолета.
Очередями из автоматов пограничники прижали его к земле. Им было приказано взять врага живым.
Пограничники подползали все ближе и ближе Нарушитель, видя, как все плотнее и плотнее сжимается вокруг него смертельный круг, понял, что его хотят схватить живым. Стреляя наугад, он то вскакивал, то вновь ложился, продолжая бить из пистолета. Второй гранаты у него не оказалось. Вдруг после нескольких выстрелов он затих…
Видя безвыходность положения, нарушитель выстрелил себе в рот. Пользуясь завязавшейся перестрелкой, Сапангос сумел ускользнуть. Опытный, дерзкий, хорошо знающий местность, он, как змея, прополз через несколько цепей и, только в последней натолкнувшись на зазевавшегося молодого солдата, убил его в упор и ушел в горы.
Взрывом гранаты, замаскированной под термос, был убит Баландин. Сержант Нестеров и еще двое солдат оказались контуженными.
Вскоре на место стычки прибыл находившийся неподалеку генерал Никитин.
— Как же это все получилось? — выслушав доклад Маланьина, спросил Никитин.
— Выявили себя раньше времени, товарищ генерал.
— Кто это сделал?
— Говорят, что солдат Баландин не выдержал, крикнул и выстрелил. Он сам и погиб…
— Ну что ж, на мертвых вину валить не будем, — задумчиво проговорил Никитин. — Подполковник Маланьин, распорядитесь насчет похорон солдата. Он погиб на боевом посту. А то, что не выдержал, виноваты и мы — плохо учили. А этого, — показав на труп диверсанта, продолжал Никитин, — сфотографировать, как в таких случаях положено, пленку быстро проявить и доставить мне. Вещи его доставить в штаб.
Глава десятая
Настя прожила в Дубовиках одиннадцать дней. Отпуск заканчивался. Все это время она сильно скучала и даже несколько раз втихомолку всплакнула. И всему виной был капитан Ромашков. При той последней встрече она решила, что капитан считает ее просто глупенькой, легкомысленной девчонкой, способной строить глазки и лейтенанту Пыжикову и чубатому рыбаку Васе. Но ведь для них она никогда не наряжалась в самые лучшие платья, не пела им своих задушевных песен, не прикалывала голубеньких бантиков, а просто ходила в зеленых спортивных брюках, со склянками в руках, смеялась с ними, шутила, а перед ним так только играла словами, на самом же деле всегда робко опускала глаза. А он на нее никакого внимания. Почему? Это больно задевало и тревожило девушку. Вспоминая последнюю встречу, Настя вспыхивала и краснела. Выставилась тогда в окошко, как дурочка, бантики нацепила, а разговаривала как? Трещала, требовала, чтобы ее проводили. Вот же глупая! Петя, тот, конечно, пошел бы, а что толку? Если бы этот строгий нахмуренный капитан мог понять, что у нее на сердце, догадался бы, сколько она о нем думает! Что бы такое придумать, чтобы заставить его хоть немножко потосковать, как она тосковала эти дни в своих Дубовиках? Но теперь ее вдруг потянуло назад, к морю, поближе к заставе. «Приеду, обязательно встречусь в первый же день. Позвоню на заставу, там на заводе у коменданта есть отводная трубка, позвоню и спрошу, например, погоду… Сверю сводки. Они получают свои…» А что будет дальше — она и сама еще не знала. Накануне отъезда весь долгий день Настя не находила себе места, слонялась по хате из угла в угол. Пробовала заниматься с сестренкой Валей арифметикой, но была так рассеянна, что не могла вспомнить самые простые правила. Валя задумчиво грызла карандашик и поначалу терпеливо ждала, когда домашний педагог перелистает весь задачник. Девочке это надоело. Закрыв тетрадь, она взяла из рук сестры свой учебник и решительно заявила: — Я больше с тобой никогда не буду заниматься. Листаешь задачник и не видишь, що там написано… Только воображаешь, що можешь учить. За целый час мы только одну задачку прошли. И вообще ты стала, как кисель. — Почему кисель? — насильно улыбнувшись, спросила Настя. — Скучная какая-то. Вялая вся, аж сморщилась. Давай лучше пойдем за грибами. А? Последний раз… Хочешь? — Мне, Валечка, что-то ничего не хочется. — И за грибами даже? — И за грибами даже… — А вот я знаю, чего ты хочешь! — обрадовалась сестренка. — Ничего ты не знаешь, ничего ты не разумеешь, — со вздохом ответила Настя. — Тебе от нас уезжать не хочется. Да? Тебе вон его жалко… — Кого? — А вот его, Миколу нашего, — показала она на зыбку, где, посапывая носом, спал маленький братишка. — Нет, дочка, у ней не та думка на уме, — сказала неслышно вошедшая Лукерья Филипповна, высокая, еще не старая, миловидная женщина, со смуглым, загорелым лицом. Как всякая мать, она гордилась своей старшей, закончившей в городе техникум дочкой, любила ее и по-матерински чувствовала происходившую в ней душевную перемену. Пробовала откровенно с ней поговорить, но Настя только смущенно краснела, отмалчивалась, закрывалась, как улитка в коробочку, уходила и пела грустные песни. — Какая же у меня думка, мама? — многозначительно спросила Настя. — Наверное, замуж тебе хочется, вот и вся думка, — шутливо ответила мать. — Ой, мама, скажешь тоже! — вспыхнула Настя. — А то я не вижу? — Что же вы такое видите? — Вижу, ходишь сумная, будто у тебя зуб вырвали… А раз сумная, значит замуж пора. — Ну, что вы говорите, мама? — Я знаю, что говорю. — Замуж? — с удивлением протянула Валя и тут же деловитым тоном заметила: — Да у ней и жениха-то нет… — А ты почем знаешь? — спросила Лукерья Филипповна. — Э-э! Был бы, так она б мне сказала. Она мне все говорит, переплетая косичку, ответила Валя. — Так и все? — лукаво прищурив глаз, спросила мать. — А как же? Мы же с ней обе невесты, — не моргнув, ответила Валя. — Ты только глянь на нее, на эту птаху! Про какие дела она толковать начинает, — засмеялась Лукерья Филипповна. — Ты поди-ка лучше да приведи из огорода телка, я скоро корову доить буду. Тоже мне невеста! — Женщины все бывают невестами, — с самым серьезным видом сказала Валя и, тряхнув косичками, выбежала. — Ты только подумай, яка скаженна растет девка? — всплеснув руками, проговорила Лукерья Филипповна. — Это, наверное, ты ее просвещаешь? — Что вы, мама! Она такая смышленая, все своим носиком чует, возразила Настя. — Хорошая у меня сестричка, да и братик тоже… В люльке заворочался и проснулся ребенок. Сначала покряхтел, а потом заплакал. Настя подошла к люльке и взяла на руки крупного и румяного после сна братишку. Он замолчал, огляделся; заметив мать, протянул ей пухлые ручонки. — Сыночку моему и поспать не дали. — Лукерья Филипповна приняла его и, боком присев на кровать, дала ребенку грудь. Чмокая губами, Миколка лукаво, улыбчивым взглядом косился на сестру, которая вертелась за спиной матери и строила ему из пальцев рожки. — Значит, завтра ты нас покидаешь? — задумчиво спросила мать и вздохнула. — Да, мама, отпуск мой кончается, пора на работу. — Придется встать пораньше… — Вечером все приготовим, да и что там готовить, — махнула смуглой рукой Настя. — Ну, как же! Сложить все. Я тебе там коржиков напекла. — Спасибо, мама. — Настя встала с кровати, размазав по щеке набежавшую слезу, отошла к окну. — Может быть, ты мне все-таки скажешь? — снова спросила Лукерья Филипповна. От зоркого взгляда матери ничего не укрылось. — Ну, что ж я тебе скажу? — не оборачиваясь, ответила Настя. — Скажи, что у тебя на сердце? Ты последнее время чего-то скрываешь… А от матери ничего скрывать нельзя, дочка. — Не знаю, мама… Ничего еще я не знаю… — Э-э! Раз так отвечаешь, то все знаешь. Оторвавшись от груди, повеселевший Миколка, подражая матери, тоже повторил: — Э-э… — Вот и сама правда! — целуя сынишку, проговорила Лукерья Филипповна. — Какая же, мама, правда? — смущенно спросила Настя. — А ты, дочка, голову мне не крути, я же все давно вижу. Думаешь, не понимаю? Прищемил кто-то твое сердечко, оно и болит… Так или нет? Склонив голову, Настя теребила край кофточки и не отвечала. — Ну, что молчишь? Я же не враг тебе. Кто он такой будет? — Да там, у нас… есть один… — чуть слышно проговорила Настя. — Из рыбаков, что ли? — Нет. — Тогда кто же? Да говори ты мне сразу. Сколько тебя пытать? — Он, мама, офицер. — Ну, и что же у вас получилось? — с волнением в голосе спросила Лукерья Филипповна. — А покамест ничего… Он даже и не знает об этом. — Вон какие дела! — облегченно вздохнула Лукерья Филипповна. Знаешь, дочка, что я тебе скажу? — Что, мама? — Все это, детка моя, чепуха. Ничего и в самом деле нет, все ты выдумала. Так, дымок… — Пока не проходит, мама, — ответила Настя и в глазах ее блеснули слезы. — Нет, дочка, то бывает не так… Ты слушай меня. Все мы, бабы, когда начинаем волосы на голове мыть, водицы в тазик нальем и до разу пальчик сунем, пробуем, щоб не обжечься. — А ты захватила двумя горстями и ошпарилась. Зараз тебе крепко подумать надо и отступиться, а то сгоришь сердцем и все попусту. Часом он, тот твой офицер, знать ничего не знает, ведать не ведает, что у тебя на сердце, а ты сохнешь. Даже с лица сменилась, похудела. — Не очень-то я сохну. Больно мне нужно сохнуть, — с некоторым упреком возразила Настя. — Лучше дайте-ка мне Миколочку, я его на прощанье искупаю. Водичка тепленькая есть, я как раз приготовила себе голову помыть. Иди до меня, Миколочка, братик мой черноглазенький! Братишка протянул ручонки и крепко обхватил Настю за шею. От прикосновения теплых детских рук и от добрых слов матери у нее легче стало на душе, сердце наполнила радость, пропитанная тайной неутолимой жаждой любви и материнства. После ухода Лукерьи Филипповны Настя налила в таз воды и посадила туда ребенка. Плескаясь и брызгая водой, Миколка смеялся и повизгивал. Смывая с его маленькой розовой спины мыльную пену, Настя приговаривала: — Ой да, Миколочка! Как он любит купаться! А я, братик, и сама люблю в море поплавать. Завтра, как только приду, и с пирса вниз головой — бух! — Бу-ух! — шлепая по воде руками, звонко повторял Миколка. — Потом приду домой в свою каморочку, надену самое лучшее платье, где-нибудь подкараулю этого буку-капитана и скажу ему такие слова, такие слова!… Уж я его растревожу, заставлю раскрыть те строгие очи, которые не хотят меня замечать! Эх ты, Миколочка, маленький тепленький карасик. Был бы у меня такой, я его каждый день мыла бы, кашкой кормила, да тетешкала… Над Дубовиками, замирая, томится в притихшей зелени лесов ласковый, знойный вечер. В комнату прокрадывается солнечный луч и вместе с Миколкой полощется в медном тазике, скользит по стеклышкам мыльных пузырей, и в каждом таком пузырике, как в маленьком зеркальце, блестят озорные Настины глаза. А Миколка радостно пищит, плещется, как настоящий карасик, и брызжет водой на новую Настину кофточку, такую же густо-синюю, как и вечернее небо. Пришлось кофту снять. Миколка бултыхался до тех пор, пока не остыла вода и на его розовом тельце не выступила «гусиная кожа», однако вылезать не хотел, смеясь и озоруя, уклонялся от рук сестры. Сестра все же ухватила его, положила на разостланную на кровати простыню и стала надевать беленькую рубашонку. В это время в сенцах громко залаяла собака. Настя оглянулась. Смущенный и растерянный неожиданной встречей, на пороге стоял капитан Ромашков…Глава одиннадцатая
Прорвавшийся нарушитель обнаружен еще не был. После двух стычек он уже знал, что его ищут, поэтому был крайне осторожен, увертлив и, видимо, отлично знал местность. Какое он взял направление, куда пошел, — высказывались разные предположения. Одни говорили, что нарушитель непременно пойдет на плоскогорье, где расположены пастбища, там он найдет себе пропитание. Другие думали, что он будет пытаться преодолеть Черные горы и уйти за главный хребет. Но Черные горы дики и труднопроходимы. Местные жители, взятые в проводники, помогли солдатам пройти глубоко в тыл и перекрыть самые дальние тропы. Командование решило взять под наблюдение не только дороги и тропы, но и населенные пункты. За десять дней группа пограничников, во главе с майором Рокотовым и капитаном Ромашковым, в тяжелых условиях, по малопроходимым тропам, поднялась до границы старого лесного заповедника, форсировала несколько горных рек и речушек. На одиннадцатый день поисков пограничники, усталые, изнуренные большими переходами, спустились в район угодий Дубовицкого леспромхоза. Надо бы дать людям отдых, привести в порядок снаряжение и в первую очередь разбитую обувь. В этой группе находился и старший лейтенант Пыжиков. Узнав от майора Рокотова, что группа подходит к Дубовикам, Петр обрадовался. Он подсчитал, что по времени Настя должна находиться там. Хотелось повидать ее, многое сказать, заполнить свою душевную пустоту встречей с девушкой, которая, может быть, станет ему самым близким человеком… Он вспомнил, как еще недавно почти каждое утро, возвращаясь после проверки нарядов, он встречал ее у пирса — всегда веселую, бодрую, распевающую чудесные девичьи песни. Ведь и в тот день она просила проводить ее. Но на его голову свалилось это ужасное происшествие и придавило, как свинцовой плитой. Тяжко ему сейчас глядеть пограничникам в глаза. Они ни о чем не напоминают, но он чувствует, что у каждого из них на уме. Из-за какой-то упрямой внутренней гордости Петр явно избегал Михаила и уклонялся от всякого с ним разговора. Ромашков же с усиленной разведкой всегда находился где-то впереди. При встречах Михаил старался заговорить первым, но Пыжиков отделывался короткими фразами, отворачивался и уходил. Еще на заставе, во время откровенных дружеских бесед, Петр не раз говорил — и верил в это искренно, — что он в жизни совершит что-нибудь необыкновенное и удивительное. И вот «совершил». Совестно было за сказанные тогда слова. Перед Дубовиками Пыжиков оживился и повеселел. Как-то подтянулся, заулыбался чаще, поблескивая строгими глазами, и капитан Ромашков. На это были свои причины. После утомительного и тяжкого перехода воспоминания о девушке и белом платье с голубеньким бантиком казались особенно приятными и дорогими. — Метеорологичка-то с рыбозавода, кажется, тут живет, в этих самых Дубовиках, — сидя на привале у костра, как бы между прочим, вспомнил Михаил. — Да, вроде, здесь… А что? — поинтересовался Петр. — Просто так… Встретить знакомую девушку да еще в такой глуши — ведь это хорошо? — Кому как… — хмуро отозвался Петр. — Я говорю про себя, — признался Михаил. — А при чем тут ты? — Мы с ней недавно очень мило беседовали, — улыбнувшись, ответил Михаил. — Когда это было? — В тот самый день, как ты обещался проводить ее в горы. — Откуда тебе известно, что я обещался ее проводить? — начиная мрачнеть и волноваться, спросил Петр. — Она сама мне рассказала. — Не думаю… — Ты же мне не говорил этого? — Не помню. — Вместе к ней зайдем, навестим ее. — Можешь сходить. — А ты не собираешься? — Нет. Не знаю… — А я хочу разыскать ее. Да и расспросить надо кое о чем. Она ведь здешняя. У них, наверное, и молока можно добыть. У родителей, поди, корова есть. Как ты думаешь? — Не спрашивал, не интересовался, — бросая в костер щепочки, ответил Петр. — Что это тебя на молочко вдруг потянуло? — Консервы так надоели, что смотреть не могу. С удовольствием выпил бы сейчас целую крынку молока да еще из рук такой хорошенькой девушки, как Настя. — Давно ты заметил, что она хорошенькая? — У меня есть глаза. Пыжикову и в голову не приходило, чтобы черствый оказенившийся начальник заставы Ромашков, каким считал его Петр, мог заглядываться на девушку, которую он, Петр, наметил себе в жены. «Если и есть у тебя глаза, милый друг, то ты все проглядел!», — рассудил про себя Петр.Глава двенадцатая
К Дубовикам подошли перед вечером. В порядке разведки Ромашков прошелся по проселку и решил заглянуть в крайнюю огороженную свежим частоколом хату. Адреса Насти ни у кого не спрашивал, а просто завернул потому, что увидел коровник. В этой недавно срубленной избушке он и решил заказать для солдат молока. Михаил открыл калитку и, шагая дальше по садовой дорожке, отмахнулся от яростно лаявшей дворняжки и вошел в распахнутые настежь двери сеней. Осторожно переступив порог, он попал в кухню и остановился перед занавеской. Дальше была вторая комната, откуда доносился знакомый певучий голос. Не узнать его было нельзя, да и занавеска была отдернута, около кровати виднелись стройные загорелые женские ноги. Услышав свирепый лай Косматого, Настя решила посмотреть, кто там пришел. Оставив братишку на кроватке, она быстро повернулась. Рядом за занавеской стоял капитан Ромашков. Словно желая защититься от неожиданного гостя, Настя подхватила Миколку на руки. Ребенок, обняв ее смуглую шею, прижался к горячему плечу, закрывая своим маленьким тельцем высокую, затянутую розовым лифчиком грудь. От волнения Настя забыла, что она не в кофточке, а Михаил не вспомнил, что надо поздороваться. Он стоял в дверях, как вкопанный в землю идол, и широко раскрытыми строгими глазами смотрел на рассыпавшиеся по плечам волосы, на крепкую фигуру девушки в короткой юбке с чистеньким милым ребенком на руках. — Извините, — в замешательстве пролепетал капитан Ромашков, не двигаясь с места. — Я, честное слово, совсем не знал.
— Ну, что там! Проходите, — перекладывая мальчика с руки на руку, ответила Настя и, косясь на братишку, добавила: — Вы нас извините, мы никого не ожидали, мылись и ничего не прибрали.
Большие синие глаза девушки светились радостью. До этого их осветил счастьем любимый Миколка, а сейчас… широкобровый, как мальчишка, растерявшийся офицер в запыленной выгоревшей гимнастерке, в потертых ремнях.
— Да проходите же! Садитесь, Михаил… Не знаю, как вас по батьке-то…
— Спасибо, успею… Вы пока оденьтесь, я выйду и там подожду, — пятясь к двери, ответил Михаил.
— Ох, маменька родная! — засмеялась Настя. — Вы на меня уж не смотрите, — она покраснела и отвернулась. — Возьмите и лучше подержите вот этого маленького, он у нас мужчин очень любит.
Настя сунула ему на руки мальчика, который уже давно смотрел пытливыми, любопытными глазенками на блестевшие пуговицы и погоны, и, охотно перейдя к смущенному Михаилу на руки, тут же начал трогать их пальчиками. Парнишка, как и все здоровые деревенские дети, был застенчивым и спокойным.
Настя быстро накинула на плечи лимонного цвета блузку, торопливо застегивая на груди пуговицы, и, словно оправдываясь, говорила:
— Это все Миколка забрызгал меня. Хоть целый день будет сидеть и плескаться в тазике. Такой карасик!
— Он и похож на карасика. Какой толстячок! — оправившись от смущения и ловко держа на руках мальчика, сказал Михаил. Он привык нянчиться с сестренками с самого раннего детства. — Чей же это такой хлопчик?
— А вы как думаете? — лукаво посматривая на гостя, в свою очередь, спросила Настя.
— Может быть, ваш…
— Конечно, мой! А чей же? — не дав ему договорить, опередила Настя.
— Ваш еще на березке растет, — пошутил Михаил.
— Это почему? Почему у меня не может быть такого хлопчика? — смело играя глазами, спросила Настя.
— Мало ли что… — смутился Ромашков, пытаясь разгадать смысл ее ответа. «На самом деле, а почему не быть у нее этакому голопятому богатырю?»
— Раз не верите, то давайте его сюда. Иди, Миколочка, ко мне. Ты ведь мой, да?
Мальчик гугукнул что-то свое, протянул ручонки. Настя с привычной женской умелостью взяла его и прижала к груди. Она целовала его пухлые щечки, глаза, а Миколка всей пятерней хватал ее за нос и звонко смеялся.
— А вы садитесь! — бросив на Михаила мимолетный, но значительный взгляд, проговорила Настя.
— Спасибо.
Ромашков устало присел на стул и снял с головы фуражку. Умиленный этой простой житейской картинкой, он немножко размяк, расчувствовался и на какие-то минуты забыл о своей трудной работе. Ему сейчас приятно было глядеть на девушку, чувствовать ее радостное волнение, которое передалось и ему.
В окно был виден молодой, образцово разделанный сад. Вечернее солнце освещало в листьях крупные румяные яблоки и сизые сливы. Над грядками круто склонились тяжелые шляпы подсолнухов, которые, покачиваясь, словно кивали и заглядывали на круглые пестрые арбузы и золотом отливающие зрелые дыни. Все вокруг здесь было необычайно добротным и свежим. В саду ласково шелестящая зелень, фрукты и овощи, в горнице только что выкупанный Миколка с румяными, как яблоко, щеками, чистая скатерть на столе, самотканые половички, аккуратно сложенная посуда в новом буфете. А смастеренная чьими-то умелыми руками люлька с детской подушечкой казалась особенно уютной и милой. Но самым дорогим для Михаила была притихшая, баюкающая ребенка Настя.
— Как это вы у нас очутились? — спросила девушка, покачивая в люльке ребенка.
— Случай такой выпал… Вот я и решил зайти и на вас посмотреть… — Михаил любил говорить правду сразу. Слова вырвались сами и прозвучали как признание.
— А теперь я ни за что не поверю. Как это вдруг… — Настя отвернулась и опустила глаза.
— Поверьте. Я все время думал о вас. После той встречи у Евсея Егоровича… Вы меня должны извинить… Я тогда нехорошо с вами разговаривал.
— Но я тоже не лучше, — не поднимая головы, ответила Настя. Мне потом стыдно было.
— На мою грубость вы просто ответили хорошей насмешкой, перекладывая на столе с места на место фуражку, проговорил Ромашков.
— Глупо, очень глупо вышло! Но я на самом деле тогда очень боялась… Сейчас везде кабаны да медведи бродят. Я тогда встретила двух людей, так перепугалась, — чуть преувеличивая свой страх, говорила Настя.
— А что за люди?
— Да так, курортники какие-то… Угостили меня дыней… Хотите арбуза или дыни?
— Благодарю. Сегодня на бахче караульщики угощали.
— Чем же вас тогда угощать? — посматривая на него ожидающим взглядом, спросила Настя.
— Мне сейчас ничего не нужно. Я рад, что встретил вас…
— Это правда? — тихо спросила Настя. — Вы только за этим сюда к нам в Дубовики и пришли?
— Нет. Не только за этим… Еще есть одно дело. По службе я уже почти две недели в лесах.
— А-а! — разочарованно протянула Настя. — Опять, значит, кого-то ищете. А я думала…
— Что вы, Настя, думали? — продолжая тормошить на столе фуражку, спросил Михаил.
— Просто так…
— Просто так ничего не бывает, — озабоченно проговорил Ромашков, чувствуя, что Настя в домашней обстановке разительно переменилась. Исчезло ее внешнее, наигранное мальчишеское озорство, слетела с лица и та радость, с какой она встретила его.
— Подумала: что же у вас за дело в наших Дубовиках? Неужто шпионов ловить и сюда приехали?
— Почти что так, — ответил Михаил.
— Чего недоговариваете, мы уже все и так знаем. Тут столько ваших побывало в зеленых фуражках, — просто сказала Настя. — Сюда шпионы не пойдут. Все мы тут друг друга знаем и шпиону деться некуда. Так что зря вы сюда забрались.
— Вы так полагаете?
— Смешно даже! Как там поживает Петя Пыжиков? — с желанием кольнуть Ромашкова перевела разговор Настя.
— Он тоже здесь.
— Здесь? Ой, боже! — всплеснула руками Настя не то от огорчения, не то от радости.
— Может быть, желаете его повидать?
Девушка неопределенно пожала плечами и, сердито взглянув на Ромашкова, с нарочитой в голосе издевкой проговорила:
— Вы что же, приехали сюда с заместителями и адъютантами?
— Дорога к вам дальняя. Вот мы и поехали все, чтоб веселее было, — хитровато улыбнулся Михаил.
— Ну, и напрасно тропу мяли. Если тут шпионы появятся, то наши лесорубы их быстро топориками застукают… Так что они не пойдут тут, а где-нибудь сторонкой, густым лесом!
— Мы и в лесок заглядываем, — опять улыбнулся Ромашков, любуясь ее горячим задором.
— Это уж ваше дело… Ну, что же мы сидим так? — сказала она с досадой.
— А что мы должны делать? — задумчиво прикусив губу, спросил Михаил.
— Говорите еще какие-нибудь слова. Вы же, по-моему, не все сказали?- с утомлением положив на колени руки, тихо спросила Настя.
Крохотная капля надежды не покидала ее. Хотелось все покончить разом, а он сидит за столом, крутит фуражку, как блин. Настя взяла фуражку из его рук, протерла пальчиком кокарду и отложила в сторону.
— Так все вы сказали или нет? — повторила она.
— Нет, не все…
— Говорите же!
— У кого бы здесь для солдат молока добыть? — едва пересиливая себя, спросил Михаил.
Настя трубочкой сложила губы. Михаил заметил, что рот у нее маленький, а губы по-детски пухлые, свежие и вряд ли к ним кто-либо прикасался…
— А вы тоже молочка хотите? — опустив руки вниз, спросила она.
— Не откажусь.
Ребенок давно уже уснул и спокойно посапывал носом. С минуту Настя сидела у стола не шелохнувшись, потом быстро вскочила и почти бегом выбежала вон. Когда она скрылась за дверью, Ромашков встал в каком-то неопределенном, тоскливом настроении и надел фуражку. Он подошел к стене и посмотрел в зеркало. «Ну что я за неисправный болван, — с тоскою подумал он. — И морда-то, как у голодного кота, явно молочка просит… Побрился, чистенький воротничок прицепил, зря еще не напудрился… Надо, пока никто не видит, дать ходу. Такого жениха, который только молочком интересуется, выгонят в шею».
Но тут же вернулась Настя и поставила на стол, рядом с чистым стаканом, крынку молока. Присев на скамью, вкрадчиво, сквозь зубы спросила:
— Значит, и Петенька Пыжиков тут? Выпейте, товарищ капитан, холодненького молочка, полезно.
— Вы меня извините. — Я, конечно… — запинаясь, хотел оправдаться Михаил, чувствуя, как блестят его глаза, а к щекам приливает кровь. Но затем он решительно подошел к столу, налил в стакан молока и нарочно сел рядом с ней. Отступать было нельзя: — Простите, Настя, вы меня о чем-то спрашивали?
— О Пете Пыжикове. Вы совсем невнимательный…
— Бывает… Да, Петр Тихонович тут с нами. Жив, здоров…
— А повидать его можно? — с усмешкой спросила Настя.
— Разумеется, можно. Отчего же нельзя, — неопределенно ответил Ромашков.
— Я обязательно хочу его видеть. Я давно с ним не встречалась и соскучилась. Он славный парень. Много знает стихов и, кажется, сам пишет! — в один дух выпалила Настя.
— Да, он начитанный, — пораженный таким оборотом дела, подтвердил Михаил. Он выпил молока и напомнил: — Но вы тогда говорили о нем другое…
— Мало ли что я могла говорить… Я тогда наговорила вам всяких глупостей. Стоит ли обращать внимание? С Петей мы друзья. Сколько раз вместе по горам лазали, в море купались. Помню, один раз дождик нас застал, пришлось под кустик сховаться… — колко продолжала наговаривать на себя Настя.
— Вот как, — удивился Михаил, принимая ее слова за чистую монету.
Чуткое ухо девушки уловило тон, в котором слышалось недовольство и скрытая ревность. «Признался бы сразу во всем начистоту, а то пришел, молочко попивает — и ни то и ни се», — с обидой и гневом думала она.
— Хотели мы с Петей вместе отпуск провести, — не унималась Настя, — да вот не пришлось. А когда его можно и где встретить? Вы далеко расположились? У вас там лагерь или как? Надо к нему сходить или написать записочку… Вы передадите ему? — теребя в руках скомканный платочек и повернув лицо к Михаилу, ласково и настойчиво спросила Настя.
Ошарашенный ее вопросами, Ромашков отодвинул недопитый стакан и сделал руками какой-то неопределенный жест. В обращениях с женщинами он был не искушен и наивен. Переписка, а потом встреча в Москве с Наташей оставили в душе нехороший след. Все как-то вышло грубо и пошленько. После было мучительно стыдно. А сейчас он по-настоящему страдал, не знал, как подавить разбуженную ревность.
— Вот и добре, — продолжала Настя. — Я сейчас напишу записочку и приглашу его к нам в гости. Он, наверно, бедненький, устал. Попрошу маму, чтобы баню вытопила, пусть Петенькапомоется. Вы ему разрешите у нас погостить? Можно, да?
— Не знаю…
— А кто же знает? Разве это запрещено? У нас недавно был ваш полковник и просил дружить с пограничниками. С мамой нашей беседовал…
— Да разве в этом заключается дружба? Бани топить и молочком угощать? Что вы, милая Настя!
— Но вы же пришли и молочко попиваете… А почему нельзя Пете Пыжикову? Может, я за него хочу выйти замуж… не знаете? Настя поджала губы и отвернулась.
— Нет. За него вы, Настя, никогда не выйдете, — с неожиданным упорством и твердостью в голосе проговорил Ромашков.
— Это почему же?
— Потому что… — Михаил взглянул на нее в упор. — Потому что я сам на вас женюсь.
От напряжения Ромашков покраснел, как перец на грядке, опустил голову.
— Как вы сказали? А ну-ка, повторите! — почти выкрикнула Настя.
— Что сказал, то вы и слышали, — ответил Михаил, поражаясь в душе своему упрямству. В эту секунду он был уверен, что именно так и должно случиться. Теперь, после сказанного, он был способен на все.
— Замуж? За вас?
— Да, Настя. За меня, и ни за кого больше…
— Да какой же вы жених! — Настя громко рассмеялась. — А мне думается, что вы меня боитесь. Еще сбежите от невесты в день свадьбы.
Плохо соображая, Михаил, как в тумане, взмахнул руками, обнял ее за шею и несколько раз невпопад поцеловал в губы и широко открытые удивленные глаза. А потом, схватив фуражку, бросился к двери. Обернувшись у порога, задыхаясь, напряженно сказал:
— Уж если я решил, так решил! И прошу больше ни о ком не думать.
Настя осталась сидеть с опущенными руками и ничего не могла сразу понять.
Вошла Лукерья Филипповна. Остановившись в дверях, строго поглядела на дочь, спросила:
— Уж не этот ли твой офицер?
Зажав горящие щеки ладонями, Настя молчала. Она еще не опомнилась и не пришла в себя.
— Чего это он выскочил, будто его здесь кипятком ошпарили?… Чуть меня не сбил с ног… А ты что, язык откусила? Что у вас тут вышло?
— Ой, не знаю, мама! — покачивая головой, прошептала Настя.
— Кто же знает? Доколе ты мне будешь морочить голову! Зачем он тут был?
— Значит, нужно…
— Говори толком. Чего щеки прижала?
— Мамочка моя родная! — глубоко, с тревожной радостью вздохнула Настя.
— Ну что?
Лукерья Филипповна присела рядом и потрясла дочь за плечо:
— Сколько еще тебя пытать?
— Пытай, мама, пытай…
— Ты, сдается мне, сошла с ума.
— Нет еще… Скоро сойду… Я замуж выхожу, мама…
Настя подняла на мать наполненные слезами глаза и чего-то ждала.
— Час от часу не легче!
— За то мне легче, улететь хочется… — Настя обняла мать и прижалась к ее щеке.
— Улететь-то можно, вот где сесть, — задумчиво проговорила Лукерья Филипповна. — Так это тот самый?
— Он, мамочка…
— И давно ты его знаешь?
— Сейчас это уже не имеет значения. Может, всю жизнь.
— Твоя жизнь еще коротенька, но только раньше времени не шуми. Не обманись.
— Я еще ничего не знаю, мама.
Обе они притихли и замолчали. Комнату наполнили вечерние сумерки, хотя на горных вершинах лежали еще солнечные лучи. Лукерья Филипповна выглянула в окно.
— Туча поднялась, дождь будет. Надо Миколку разбудить, а то потом уснет до полночи. Гляди ж ты, какая туча!
— Пусть будет туча, пусть гром гремит, а у нас, мамочка, что будет? — подняв голову, спросила Настя.
— Вот этого, дочка, я и сама не знаю, — ответила мать и нагнулась к люльке.
Над высокогорьем клубилась черная туча. Ветер рванул стройные пихты, они качнулись, словно кланяясь заходящему солнышку, и замерли в трепетном ожидании.
— Извините, — в замешательстве пролепетал капитан Ромашков, не двигаясь с места. — Я, честное слово, совсем не знал.
— Ну, что там! Проходите, — перекладывая мальчика с руки на руку, ответила Настя и, косясь на братишку, добавила: — Вы нас извините, мы никого не ожидали, мылись и ничего не прибрали.
Большие синие глаза девушки светились радостью. До этого их осветил счастьем любимый Миколка, а сейчас… широкобровый, как мальчишка, растерявшийся офицер в запыленной выгоревшей гимнастерке, в потертых ремнях.
— Да проходите же! Садитесь, Михаил… Не знаю, как вас по батьке-то…
— Спасибо, успею… Вы пока оденьтесь, я выйду и там подожду, — пятясь к двери, ответил Михаил.
— Ох, маменька родная! — засмеялась Настя. — Вы на меня уж не смотрите, — она покраснела и отвернулась. — Возьмите и лучше подержите вот этого маленького, он у нас мужчин очень любит.
Настя сунула ему на руки мальчика, который уже давно смотрел пытливыми, любопытными глазенками на блестевшие пуговицы и погоны, и, охотно перейдя к смущенному Михаилу на руки, тут же начал трогать их пальчиками. Парнишка, как и все здоровые деревенские дети, был застенчивым и спокойным.
Настя быстро накинула на плечи лимонного цвета блузку, торопливо застегивая на груди пуговицы, и, словно оправдываясь, говорила:
— Это все Миколка забрызгал меня. Хоть целый день будет сидеть и плескаться в тазике. Такой карасик!
— Он и похож на карасика. Какой толстячок! — оправившись от смущения и ловко держа на руках мальчика, сказал Михаил. Он привык нянчиться с сестренками с самого раннего детства. — Чей же это такой хлопчик?
— А вы как думаете? — лукаво посматривая на гостя, в свою очередь, спросила Настя.
— Может быть, ваш…
— Конечно, мой! А чей же? — не дав ему договорить, опередила Настя.
— Ваш еще на березке растет, — пошутил Михаил.
— Это почему? Почему у меня не может быть такого хлопчика? — смело играя глазами, спросила Настя.
— Мало ли что… — смутился Ромашков, пытаясь разгадать смысл ее ответа. «На самом деле, а почему не быть у нее этакому голопятому богатырю?»
— Раз не верите, то давайте его сюда. Иди, Миколочка, ко мне. Ты ведь мой, да?
Мальчик гугукнул что-то свое, протянул ручонки. Настя с привычной женской умелостью взяла его и прижала к груди. Она целовала его пухлые щечки, глаза, а Миколка всей пятерней хватал ее за нос и звонко смеялся.
— А вы садитесь! — бросив на Михаила мимолетный, но значительный взгляд, проговорила Настя.
— Спасибо.
Ромашков устало присел на стул и снял с головы фуражку. Умиленный этой простой житейской картинкой, он немножко размяк, расчувствовался и на какие-то минуты забыл о своей трудной работе. Ему сейчас приятно было глядеть на девушку, чувствовать ее радостное волнение, которое передалось и ему.
В окно был виден молодой, образцово разделанный сад. Вечернее солнце освещало в листьях крупные румяные яблоки и сизые сливы. Над грядками круто склонились тяжелые шляпы подсолнухов, которые, покачиваясь, словно кивали и заглядывали на круглые пестрые арбузы и золотом отливающие зрелые дыни. Все вокруг здесь было необычайно добротным и свежим. В саду ласково шелестящая зелень, фрукты и овощи, в горнице только что выкупанный Миколка с румяными, как яблоко, щеками, чистая скатерть на столе, самотканые половички, аккуратно сложенная посуда в новом буфете. А смастеренная чьими-то умелыми руками люлька с детской подушечкой казалась особенно уютной и милой. Но самым дорогим для Михаила была притихшая, баюкающая ребенка Настя.
— Как это вы у нас очутились? — спросила девушка, покачивая в люльке ребенка.
— Случай такой выпал… Вот я и решил зайти и на вас посмотреть… — Михаил любил говорить правду сразу. Слова вырвались сами и прозвучали как признание.
— А теперь я ни за что не поверю. Как это вдруг… — Настя отвернулась и опустила глаза.
— Поверьте. Я все время думал о вас. После той встречи у Евсея Егоровича… Вы меня должны извинить… Я тогда нехорошо с вами разговаривал.
— Но я тоже не лучше, — не поднимая головы, ответила Настя. Мне потом стыдно было.
— На мою грубость вы просто ответили хорошей насмешкой, перекладывая на столе с места на место фуражку, проговорил Ромашков.
— Глупо, очень глупо вышло! Но я на самом деле тогда очень боялась… Сейчас везде кабаны да медведи бродят. Я тогда встретила двух людей, так перепугалась, — чуть преувеличивая свой страх, говорила Настя.
— А что за люди?
— Да так, курортники какие-то… Угостили меня дыней… Хотите арбуза или дыни?
— Благодарю. Сегодня на бахче караульщики угощали.
— Чем же вас тогда угощать? — посматривая на него ожидающим взглядом, спросила Настя.
— Мне сейчас ничего не нужно. Я рад, что встретил вас…
— Это правда? — тихо спросила Настя. — Вы только за этим сюда к нам в Дубовики и пришли?
— Нет. Не только за этим… Еще есть одно дело. По службе я уже почти две недели в лесах.
— А-а! — разочарованно протянула Настя. — Опять, значит, кого-то ищете. А я думала…
— Что вы, Настя, думали? — продолжая тормошить на столе фуражку, спросил Михаил.
— Просто так…
— Просто так ничего не бывает, — озабоченно проговорил Ромашков, чувствуя, что Настя в домашней обстановке разительно переменилась. Исчезло ее внешнее, наигранное мальчишеское озорство, слетела с лица и та радость, с какой она встретила его.
— Подумала: что же у вас за дело в наших Дубовиках? Неужто шпионов ловить и сюда приехали?
— Почти что так, — ответил Михаил.
— Чего недоговариваете, мы уже все и так знаем. Тут столько ваших побывало в зеленых фуражках, — просто сказала Настя. — Сюда шпионы не пойдут. Все мы тут друг друга знаем и шпиону деться некуда. Так что зря вы сюда забрались.
— Вы так полагаете?
— Смешно даже! Как там поживает Петя Пыжиков? — с желанием кольнуть Ромашкова перевела разговор Настя.
— Он тоже здесь.
— Здесь? Ой, боже! — всплеснула руками Настя не то от огорчения, не то от радости.
— Может быть, желаете его повидать?
Девушка неопределенно пожала плечами и, сердито взглянув на Ромашкова, с нарочитой в голосе издевкой проговорила:
— Вы что же, приехали сюда с заместителями и адъютантами?
— Дорога к вам дальняя. Вот мы и поехали все, чтоб веселее было, — хитровато улыбнулся Михаил.
— Ну, и напрасно тропу мяли. Если тут шпионы появятся, то наши лесорубы их быстро топориками застукают… Так что они не пойдут тут, а где-нибудь сторонкой, густым лесом!
— Мы и в лесок заглядываем, — опять улыбнулся Ромашков, любуясь ее горячим задором.
— Это уж ваше дело… Ну, что же мы сидим так? — сказала она с досадой.
— А что мы должны делать? — задумчиво прикусив губу, спросил Михаил.
— Говорите еще какие-нибудь слова. Вы же, по-моему, не все сказали?- с утомлением положив на колени руки, тихо спросила Настя.
Крохотная капля надежды не покидала ее. Хотелось все покончить разом, а он сидит за столом, крутит фуражку, как блин. Настя взяла фуражку из его рук, протерла пальчиком кокарду и отложила в сторону.
— Так все вы сказали или нет? — повторила она.
— Нет, не все…
— Говорите же!
— У кого бы здесь для солдат молока добыть? — едва пересиливая себя, спросил Михаил.
Настя трубочкой сложила губы. Михаил заметил, что рот у нее маленький, а губы по-детски пухлые, свежие и вряд ли к ним кто-либо прикасался…
— А вы тоже молочка хотите? — опустив руки вниз, спросила она.
— Не откажусь.
Ребенок давно уже уснул и спокойно посапывал носом. С минуту Настя сидела у стола не шелохнувшись, потом быстро вскочила и почти бегом выбежала вон. Когда она скрылась за дверью, Ромашков встал в каком-то неопределенном, тоскливом настроении и надел фуражку. Он подошел к стене и посмотрел в зеркало. «Ну что я за неисправный болван, — с тоскою подумал он. — И морда-то, как у голодного кота, явно молочка просит… Побрился, чистенький воротничок прицепил, зря еще не напудрился… Надо, пока никто не видит, дать ходу. Такого жениха, который только молочком интересуется, выгонят в шею».
Но тут же вернулась Настя и поставила на стол, рядом с чистым стаканом, крынку молока. Присев на скамью, вкрадчиво, сквозь зубы спросила:
— Значит, и Петенька Пыжиков тут? Выпейте, товарищ капитан, холодненького молочка, полезно.
— Вы меня извините. — Я, конечно… — запинаясь, хотел оправдаться Михаил, чувствуя, как блестят его глаза, а к щекам приливает кровь. Но затем он решительно подошел к столу, налил в стакан молока и нарочно сел рядом с ней. Отступать было нельзя: — Простите, Настя, вы меня о чем-то спрашивали?
— О Пете Пыжикове. Вы совсем невнимательный…
— Бывает… Да, Петр Тихонович тут с нами. Жив, здоров…
— А повидать его можно? — с усмешкой спросила Настя.
— Разумеется, можно. Отчего же нельзя, — неопределенно ответил Ромашков.
— Я обязательно хочу его видеть. Я давно с ним не встречалась и соскучилась. Он славный парень. Много знает стихов и, кажется, сам пишет! — в один дух выпалила Настя.
— Да, он начитанный, — пораженный таким оборотом дела, подтвердил Михаил. Он выпил молока и напомнил: — Но вы тогда говорили о нем другое…
— Мало ли что я могла говорить… Я тогда наговорила вам всяких глупостей. Стоит ли обращать внимание? С Петей мы друзья. Сколько раз вместе по горам лазали, в море купались. Помню, один раз дождик нас застал, пришлось под кустик сховаться… — колко продолжала наговаривать на себя Настя.
— Вот как, — удивился Михаил, принимая ее слова за чистую монету.
Чуткое ухо девушки уловило тон, в котором слышалось недовольство и скрытая ревность. «Признался бы сразу во всем начистоту, а то пришел, молочко попивает — и ни то и ни се», — с обидой и гневом думала она.
— Хотели мы с Петей вместе отпуск провести, — не унималась Настя, — да вот не пришлось. А когда его можно и где встретить? Вы далеко расположились? У вас там лагерь или как? Надо к нему сходить или написать записочку… Вы передадите ему? — теребя в руках скомканный платочек и повернув лицо к Михаилу, ласково и настойчиво спросила Настя.
Ошарашенный ее вопросами, Ромашков отодвинул недопитый стакан и сделал руками какой-то неопределенный жест. В обращениях с женщинами он был не искушен и наивен. Переписка, а потом встреча в Москве с Наташей оставили в душе нехороший след. Все как-то вышло грубо и пошленько. После было мучительно стыдно. А сейчас он по-настоящему страдал, не знал, как подавить разбуженную ревность.
— Вот и добре, — продолжала Настя. — Я сейчас напишу записочку и приглашу его к нам в гости. Он, наверно, бедненький, устал. Попрошу маму, чтобы баню вытопила, пусть Петенькапомоется. Вы ему разрешите у нас погостить? Можно, да?
— Не знаю…
— А кто же знает? Разве это запрещено? У нас недавно был ваш полковник и просил дружить с пограничниками. С мамой нашей беседовал…
— Да разве в этом заключается дружба? Бани топить и молочком угощать? Что вы, милая Настя!
— Но вы же пришли и молочко попиваете… А почему нельзя Пете Пыжикову? Может, я за него хочу выйти замуж… не знаете? Настя поджала губы и отвернулась.
— Нет. За него вы, Настя, никогда не выйдете, — с неожиданным упорством и твердостью в голосе проговорил Ромашков.
— Это почему же?
— Потому что… — Михаил взглянул на нее в упор. — Потому что я сам на вас женюсь.
От напряжения Ромашков покраснел, как перец на грядке, опустил голову.
— Как вы сказали? А ну-ка, повторите! — почти выкрикнула Настя.
— Что сказал, то вы и слышали, — ответил Михаил, поражаясь в душе своему упрямству. В эту секунду он был уверен, что именно так и должно случиться. Теперь, после сказанного, он был способен на все.
— Замуж? За вас?
— Да, Настя. За меня, и ни за кого больше…
— Да какой же вы жених! — Настя громко рассмеялась. — А мне думается, что вы меня боитесь. Еще сбежите от невесты в день свадьбы.
Плохо соображая, Михаил, как в тумане, взмахнул руками, обнял ее за шею и несколько раз невпопад поцеловал в губы и широко открытые удивленные глаза. А потом, схватив фуражку, бросился к двери. Обернувшись у порога, задыхаясь, напряженно сказал:
— Уж если я решил, так решил! И прошу больше ни о ком не думать.
Настя осталась сидеть с опущенными руками и ничего не могла сразу понять.
Вошла Лукерья Филипповна. Остановившись в дверях, строго поглядела на дочь, спросила:
— Уж не этот ли твой офицер?
Зажав горящие щеки ладонями, Настя молчала. Она еще не опомнилась и не пришла в себя.
— Чего это он выскочил, будто его здесь кипятком ошпарили?… Чуть меня не сбил с ног… А ты что, язык откусила? Что у вас тут вышло?
— Ой, не знаю, мама! — покачивая головой, прошептала Настя.
— Кто же знает? Доколе ты мне будешь морочить голову! Зачем он тут был?
— Значит, нужно…
— Говори толком. Чего щеки прижала?
— Мамочка моя родная! — глубоко, с тревожной радостью вздохнула Настя.
— Ну что?
Лукерья Филипповна присела рядом и потрясла дочь за плечо:
— Сколько еще тебя пытать?
— Пытай, мама, пытай…
— Ты, сдается мне, сошла с ума.
— Нет еще… Скоро сойду… Я замуж выхожу, мама…
Настя подняла на мать наполненные слезами глаза и чего-то ждала.
— Час от часу не легче!
— За то мне легче, улететь хочется… — Настя обняла мать и прижалась к ее щеке.
— Улететь-то можно, вот где сесть, — задумчиво проговорила Лукерья Филипповна. — Так это тот самый?
— Он, мамочка…
— И давно ты его знаешь?
— Сейчас это уже не имеет значения. Может, всю жизнь.
— Твоя жизнь еще коротенька, но только раньше времени не шуми. Не обманись.
— Я еще ничего не знаю, мама.
Обе они притихли и замолчали. Комнату наполнили вечерние сумерки, хотя на горных вершинах лежали еще солнечные лучи. Лукерья Филипповна выглянула в окно.
— Туча поднялась, дождь будет. Надо Миколку разбудить, а то потом уснет до полночи. Гляди ж ты, какая туча!
— Пусть будет туча, пусть гром гремит, а у нас, мамочка, что будет? — подняв голову, спросила Настя.
— Вот этого, дочка, я и сама не знаю, — ответила мать и нагнулась к люльке.
Над высокогорьем клубилась черная туча. Ветер рванул стройные пихты, они качнулись, словно кланяясь заходящему солнышку, и замерли в трепетном ожидании.
Глава тринадцатая
Еще не успело стемнеть, как в горах хлынул ливень. Ливни здесь бывают неожиданные и бурные. Крутобокие лощины с протекающими на дне ключами начинают тогда взбухать, наполняться темной от грязи водой, которая смывает все, что попадается на ее пути. Пограничникам пришлось быстро свернуть свой лесной лагерь, перебазироваться в Дубовики и занять помещение сельского Совета. Отдаленный поселок был расположен на южном склоне высокогорного перевала, окруженный мощными дубами, стройными и прямыми, как свечи, пихтами, старыми кряжистыми буками — давними старожилами этих мест. Дубовицкий леспромхоз заготовлял и разрабатывал ценную древесину, снабжал ею мебельную промышленность края. Дождь лил беспрерывно. Над горными вершинами гуляла гроза. Освещенные вспышками молнии, ворочались сизые, лохматые тучи с вспененными, как седые гривы, краями. Еще недавно мертвый, притихший под солнечным зноем лес вдруг буйно зашумел и закачался от налетевшего ветра зеленой океанской волной. Укрылись, спрятались под густо растущим плющом лесные звери, в гнезда забились птицы, в норы залезли гадюки и прочие твари. Пестрая рысь, притаившись на корявом дубовом суку, зорко следила остекленевшими глазами за человеком, который, склонив голову, неподвижно сидел под деревом темным бесформенным комом. Отбушевала гроза, затих ливень. Человек поднялся, стряхнул с одежды воду, поднял размокший под дождем гриб и стал жадно есть. Продолговатое пожелтевшее лицо его с горбатым носом сузилось и заросло черной щетиной. Когда он, чавкая губами, озирался по сторонам, темные впадины его глаз блестели зрачками так же свирепо и дико, как и у притаившейся на дереве рыси. Доев гриб, он, тряско вздрагивая от холодной лесной сырости, медленно зашагал по едва заметной, густой, заросшей плющом тропе.
Отбушевала гроза, затих ливень. Человек поднялся, стряхнул с одежды воду, поднял размокший под дождем гриб и стал жадно есть. Продолговатое пожелтевшее лицо его с горбатым носом сузилось и заросло черной щетиной. Когда он, чавкая губами, озирался по сторонам, темные впадины его глаз блестели зрачками так же свирепо и дико, как и у притаившейся на дереве рыси. Доев гриб, он, тряско вздрагивая от холодной лесной сырости, медленно зашагал по едва заметной, густой, заросшей плющом тропе.
* * *
…Уставшие, промокшие солдаты нанесли в сени соломы, расстелили плащи и, наскоро поужинав, легли отдыхать. В этот день они совершили большой, утомительный переход. Передав в штаб отряда шифровку, майор Рокотов пристроился в канцелярии на широкой дубовой скамье. Капитан Ромашков заступил на дежурство. Сидя за столом председателя сельского Совета, он что-то чертил на листе бумаги. Насупив широкие брови, он то хмурился, шевеля густыми короткими ресницами, а то вдруг встряхивал курчавой шевелюрой, начинал самозабвенно, по-мальчишески улыбаться. Все это Пыжиков заметил и очень удивился. «Кажется, радоваться пока нечему», — удивленно подумал Петр. Выполнить задачу, взять скрывшегося нарушителя пока не было явных шансов. За эти одиннадцать дней тяжелого, мучительного поиска все устали, измотались. А по существу все впустую. Диверсант мог уже быть на Дальнем Востоке, а его ищут здесь. Что будет дальше, Пыжиков не представлял себе. Он знал только одно, что с окончанием этой затянувшейся операции должна решиться и его судьба. Петр понимал, что если его и не будут судить, то и в войсках не оставят. За последнее время он много передумал и чувствовал себя в среде пограничников как-то отчужденно, сожалея, что попал в группу майора Рокотова да еще вместе с Ромашковым, которого он начинал люто ненавидеть. Да, круто разошлись их дороги! Михаилу предстоит учеба в академии, а ему, Петру, увольнение из войск… «Ну, черт с ними! Останусь вот в этих самых Дубовиках и начну стихи писать в районную газету, женюсь, поросенка заведу», — сбивчиво и зло думал Пыжиков. Сейчас ему хотелось одного: во что бы то ни стало повидать Настю. Прежде всего нужно было окончательно решить с ней. Но как это сделать, он еще не придумал. Чтобы отлучиться, надо спросить у майора Рокотова, но это как-то неловко, да и не ко времени. Отпрашиваться у Ромашкова — ни за что на свете! За открытым окном сельсовета стоит темная тихая ночь. С высокого тополя дробно падают капли дождевой воды. При свете электрической лампочки видно, как они скатываются по широким листьям и чистым, как слеза, хрусталем дрожат на зубчатом кончике, а потом, качнувшись, с тихим звоном летят в темноту. Звучно и однотонно перекликаются цикады. Где-то широко разливается под баян девичья песня. В сенцах храпят солдаты. За столом улыбается Ромашков. Это становится невыносимым. Петр встает, снимает с гвоздя фуражку и надевает на растрепавшиеся волосы. — Пойти наряды, что ли, проверить… — По боевому расчету вам положено в три ноль-ноль, — вытягиваясь на скамье и не открывая глаз, заметил майор Рокотов. — Ложитесь и отдыхайте. Когда будет нужно, капитан разбудит или я сам, когда сменю его. — Я, товарищ майор, не устал, — возразил Пыжиков. — Тогда идите к девчатам на вечерку. Может быть, приглянется какая-нибудь казачка… Вон как они поют — заслушаешься… — Что ж, я не против… Пусть будет казачка, — задумчиво ответил на шутку Пыжиков. — В моем положении надо, чтобы приглянулась. Глядишь, и передачку когда-нибудь принесет. Вот такие дела… — Насчет передачи, товарищ старший лейтенант, вы напрасно беспокоитесь. Там пайком обеспечивают в полной мере. А вообще разговор этот пока ни к чему. Лучше поспите хорошенько. Есть приказ — дать людям отдых и ждать распоряжений. Завтра старшина продукты привезет и сапожника. Вам сапоги починить не требуется? — спросил Рокотов. — Мне жизнь надо чинить… — Лучше ложитесь-ка… Сегодня мы отмахали порядочно. Слушайте, как девчата поют, и уснете. — А туда можно сходить, товарищ майор? — полушутливо спросил Петр. Рокотов открыл глаза и ничего не ответил. — Надо действительно пойти прогуляться, — поворачиваясь к двери, проговорил Петр. Ромашков продолжал молча писать. Он боялся обнаружить свое душевное состояние. Склонившись над столом, Михаил закрывал глаза, до сих пор ощущал запах свежевымытого ребенка, которого как будто только сейчас держал в руках, чувствовал теплоту его мягкой и нежной щеки. А остальное?… При этом воспоминании все казалось радостным, ярким, неожиданным. Оправив поясной ремень, Петр постоял немного и решительно шагнул через порог. Посмотрев ему вслед, Михаил вскочил и через освещенные маленькой электролампочкой сени, — где вповалку спали солдаты, — вышел во двор и догнал Петра у калитки. — Ты далеко собрался? — тронул его за рукав Ромашков. — А тебе какое дело? — грубоватым тоном ответил Пыжиков. — Так просто. Я все-таки дежурный. — Знаю, что ты дежурный, но я на гауптвахте еще не сижу. Не дергай меня за рукав! — сдерживая вспыхнувшее бешенство, сказал Пыжиков. — Виноват. Но ты обязан сказать, куда идешь. — Может быть, еще разрешения спрашивать у вашей милости? — Если нужно, спросишь. — Я, кажется, в ваших заместителях больше не состою, товарищ капитан. — Перестань рисоваться! — резко сказал Михаил. — Ты мне, Ромашков, порядком надоел. В наставники ты не годишься, да и вообще наставления мне ничьи не нужны, в особенности в данную минуту. — Послушай, Петр! Что ты ершишься? Я хочу откровенно с тобой поговорить. Ты хочешь повидать Настю? Так и скажи! — Не твоя забота. Я сам знаю, что мне делать… — Плохо знаешь, прямо тебе скажу. — Оставь! — Добре… — кивнул Михаил. — Настя живет вон в той крайней хате. — Ты уже наведывался… Говорил обо мне? — приблизив к Ромашкову лицо, глухо спросил Пыжиков. — Говорил. — Что ты ей сказал? Пыжиков чиркал в темноте одну спичку за другой и не мог закурить. — Сказал, что ты здесь. — А еще что ты ей говорил? — Случилось, понимаешь ли, такое дело… Ты послушай… — Все ясно! Больше не требуется. Теперь я знаю, какой ты друг. Представляю, что ты ей наговорил. — Ты послушай… — Можешь не оправдываться! Пыжиков повернулся к Ромашкову спиной, сильно толкнул калитку и, шлепая сапогами по грязи, пошел вдоль улицы. — Петр! — крикнул Ромашков. Но тот даже не оглянулся. В конце поселка, куда шел Пыжиков, в горном ущелье, гулко шумела река. Неприглядно и смутно было у Петра на душе. В недвижимой высоте ночного неба стыли далекие звезды. Тишина ночи придавала доносившимся из ущелья звукам зловещий тон.
Глава четырнадцатая
Настя, лежа рядом с сестренкой в сарае, слышала монотонный гул горных потоков и все ближе и крепче прижималась к дремавшей девочке. Сарай был наполнен сеном. Здесь приятно пахло сухими травами и спелыми дынями. В саду с листьев все еще капала вода. Где-то близко одиноко и безрадостно вскрикнула желна. Рядом возились на насесте куры. — Да не жмись ты ко мне! Совсем задавила, — тоненько полусонным голосом просила Валя. — Ты какая-то горячая… — Очень, Валя! — Может, захворала? — Захворала, Валя… Ой, как занедужила — со счастливым смехом и стыдливым порывом к откровенности зашептала Настя. — Тогда иди в хату на печку. Я тут одна буду спать. — А не забоишься? — Вот еще! — свернувшись, словно котенок, протестующе заговорила Валя. — Я вчера за грушами аж на самую вершину лазала и платье порвала. — Как же это так? — Да за сук зацепилась и повисла, как кошка. — Ужас какой! — Ладно мама не видела… А платье я сама зашила. — Ты же у нас молодчина! — Настя обняла сестренку и начала горячо целовать. — Да не лезь же ты до меня! Пусти! Вот же какая! Ну разве с такой озорухой уснешь? — Я же завтра уезжаю, — с тихой грустью проговорила Настя. — Это я знаю, — вздохнула Валя. — Уеду и выйду замуж. — Будет врать-то… — У меня, Валечка, и жених уже есть. Погладив сестренку по голове, Настя повернулась на спину и закинула руки на затылок. — У тебя есть жених? — Валя быстро вскочила и облокотилась на подушку. — Я ж тебе сказала. — Ну да? Ты, наверное, обманываешь? — Нет, Валечка милая, не обманываю, — ответила Настя с глубоким вздохом. — А мама с батей знают? — Мама знает, а батя еще нет. — А чего же ты мне раньше не сказала? Он очень красивый, да? — Он хороший, Валя. — Кто он такой? Рыбак? — Нет. Офицер, Валя, пограничник. Он сегодня к нам приходил. — Приходил? А чего ж ты мне его не показала? — Я не знала, где ты была. Ты еще увидишь его. — Значит, офицер, пограничник… Это, которые в зеленых картузах, да? — Не в картузах, а в фуражках. — Вот это здорово! — не обращая внимания на замечание сестры, продолжала Валя. — А ты знаешь, какие пограничники герои? Ой-ей-ей! Я про Карацупу читала. Они разных бандюков и шпиенов ловят. Да так ловко! Ты знаешь? Ой! Не находя слов, Валя легла поперек постели, уткнувшись подбородком в теплый живот сестры и, гладя ее сильную, тугую руку, тихо спросила: — Ну, и как же ты теперь будешь? — А пока никак, Валя. — Ты станешь скоро жена… А когда свадьба? — Не знаю, Валя. — Настя ворошила в темноте мягкие Валины волосы… Вдруг во дворе залаяла собака. Сестры вздрогнули и крепче прижались друг к другу. Настю охватило тревожное чувство. Пес лаял каждую ночь, чаще всего попусту, но сегодня, как это бывает со счастливыми и впечатлительными людьми, Настя испугалась. Она боялась теперь всего, что могло омрачить ее неожиданную радость. — Косматый на кого-то лает, — прошептала Валя. — Ну и пусть брешет… — Там кто-то пришел, — сказала Валя. — Я сейчас посмотрю, — проговорила Настя, пытаясь подняться с постели. — Не ходи! — запротестовала девочка и вцепилась в Настю. — Погоди. Я только в щелочку погляжу. Настя легонько отстранила сестренку и подползла к двери. Из-за тесной горной вершины всплывала луна. По двору разливался ее бледноватый свет и озарял изгородь. По ту сторону, у калитки, виднелась какая-то фигура в фуражке с высоким околышем. В отблесках луны светились на плечах погоны. — Это он, Валя, — дрожащим голосом проговорила Настя и, схватив платье, стала торопливо надевать его. — Кто это? — испуганно спросила девочка. — Пришел все-таки, — как в забытьи ответила Настя. — Я тебя никуда не пущу, — запротестовала Валя. — Ну что ты, глупенькая! Это же Миша, жених мой. Понимаешь? — А может, это не он, — вздрагивая всем телом, шептала Валя. — Я тебе говорю, что он. Ложись в постель… — Нет, я не лягу. Чего он ходит ночью? Мог бы днем. Я тоже на него посмотреть хочу. — Завтра посмотришь. Он хороший. Миколке значок подарил. А ты молчи. Можешь в дырочку поглядеть… Только маме ни слова, чуешь? — Да, чую… Настя тихонько открыла скрипнувшую дверь, чувствуя, как трясутся у нее и подкашиваются колени. После разговора с матерью она не переставала думать о Михаиле ни одной минуты и не сомневалась, что это он. Смело подойдя к калитке, Настя отдернула задвижку и подняла глаза. Сердце дрогнуло и замерло. Перед ней стоял Петя Пыжиков. — Это вы? — проговорила Настя одними губами. — Я, Настя. Пришел… Не ждали? Здравствуйте! — ловя ее руку и горячо дыша в лицо, проговорил Петр. Он не рассчитывал, что ему удастся встретиться с Настей в такое позднее время. Прежде чем подойти к калитке, он долго бродил по улице и около дома. Сейчас ему показалось, что девушка сама учуяла его приход и, очевидно, ждала. Ведь Ромашков предупредил ее, что Петр здесь. Выходит, зря он его обидел. — Вы знали, что я приду? — переспросил Пыжиков, беря Настю за повисшую кисть руки. Рука была теплая, но вялая, словно не живая. — Я ждала… Я думала… — шептала Настя вымученным голосом. — Я знал, что вы будете меня ждать, — уверенно сказал Петр. Ее заметное волнение он принял на свой счет и попытался неловко обнять девушку. Она испуганно отстранилась. Рука ее вдруг сделалась жесткой и упругой. Она настойчиво высвобождала ее, а он не хотел отпускать. Там, у моря, однажды при прощании он поцеловал ее. Настя тогда засмеялась, погрозила ему пальцем и убежала. Казалось, повод для более интимных отношений был, и Петр перешел на «ты». — А что ты думала? — Я думала, что… — Думала, не приду? Я бы всю ночь, Настенька, простоял у калитки! Ходил бы под окнами до самого утра… Ты знаешь, что я тебя люблю и мне многое надо рассказать. Пойдем где-нибудь присядем. — Кет. Я никуда не пойду. — Настя покачала головой и почувствовала, что начинает вся дрожать. В воздухе было прохладно и сыро. Но Петр ничего не замечал. — У вас, наверное, в саду скамейка есть. Идем, мне очень нужно поговорить. Я пришел сказать тебе… — Говорите здесь. В саду мокро. — Все это пустяки! Важно, что мы встретились. Здесь, в этом далеком лесном углу, скрестились наши дороги, и мне кажется навсегда… Это я и хотел тебе сказать. Я многое передумал, Настя. Нет слов, как я рад, что вижу тебя. А как ты?… Почему ты молчишь? — Мне нечего сказать, Петр Тихонович. — Странно вы отвечаете… — опять официально и настороженно проговорил Пыжиков. — Вы же меня ожидали, знали, что я приду? — Нет, Петр Тихонович, я вас не ждала. — Вот как! Это правда? — Зачем мне обманывать вас? — Но вы так быстро вышли… — Мне показалось… Я думала… Я решила, что это не вы, а… — кутаясь в шаль, Настя отвернулась и смущенно взялась за ручку калитки, словно намереваясь ее закрыть. — Значит, вы ждали кого-то другого? — осененный догадкой, спросил Петр. — Да, — твердо ответила Настя. — Кого же? — Я думала, что это… капитан Ромашков. — Ромашков?! — от его голоса, казалось, дрогнула калитка и закачалась на своих колышках невысокая изгородь. — Не кричите. Услышат… — Ромашков? — повторил Петр. — А зачем ему тут быть? — Затем, что он мой жених. — Настю тяготила эта совсем ненужная встреча и она решила прервать ее. — Вы просто смеетесь надо мной. Это шутка! — не верил Петр. — Нет, Петр Тихонович, такими вещами не шутят. Прощайте и не обижайтесь… Так случилось… — Не верю! Не верю! — Не шумите. Мама проснется. Настя захлопнула калитку и стремительно побежала к сараю. Ухватившись за изгородь, Петр смотрел ей вслед и видел, как мелькнула за скрипнувшей дверью темная шаль и белые при луне икры ног. Он знал, что у Насти великолепные, точеные ноги. Не раз видел, как она, нырнув с пирса, стригла ими прозрачную морскую воду. Он вспомнил ее веселую задорную улыбку, милые лукавые глаза и только теперь вдруг понял, как дорога ему эта смелая девушка, выросшая здесь, в далеких Дубовиках. Пошатываясь, Петр пошел от калитки прочь, растаптывая сапогами липкую грязь и выщербленную луну, блестевшую в круглых лужах. «Когда же он успел стать женихом?» — мучительно думал Петр. Боль и обида терзали его. «Ведь никогда он там не встречался? Знал, что я встречаюсь с ней, сам же предлагал жениться, и вдруг такая подлость! Все выскажу, что я о нем думаю, — и конец…» Так, плывя в хаотическом потоке несуразных мыслей, Петр тяжелой походкой прошел улицу из конца в конец. Растрепанный и грязный, он ввалился в сельсовет и, тяжело топнув, остановился около сидевшего за столом Ромашкова. Глядя на него усталыми, поблекшими глазами, он в упор проговорил: — Выйдем на минуту. Мне с тобой поговорить надо. — Что-нибудь случилось? — Да. Выйдем! — требовательно повторил Пыжиков. Ромашков взглянул на него и понял все. — Хорошо. Давай выйдем. Поднявшись со стула, Михаил вышел первым. Петр последовал за ним. Поглядывая на его сильную широкую спину, снова злобно подумал: «Не прощу! Нет!» Притаптывая мокрую землю, вдоль забора ходил часовой, задевая сырыми полами плаща жухлый бурьян. Над плечом часового, покачиваясь, торчал конец ножевидного штыка, будто собираясь проколоть висевшую над ним луну. Солдат прошагал дальше, а раскосый небесный глаз, окруженный мигающими звездами, спокойно плыл в далекое холодное пространство. Выбрав сухое место, Ромашков присел на верхней ступеньке крыльца. Но Пыжиков снова заартачился и стал возражать. — Ты, брат, какой-то шальной. Садись и говори, — настаивал Михаил. — Придумал ночное объяснение. — Я тебе сегодня все объясню… — с угрозой в голосе ответил Пыжиков. — Послушаю. — Здесь нельзя. Хочешь, чтобы все солдаты знали? — Пройдем дальше. Довод был основательный, Михаил возражать не стал. Они прошли через калитку на улицу и сели на скамье. Время уже было за полночь. Где-то далеко прокричал петух. — Тебе скоро наряды проверять. Давай, быстрее и покороче, — сказал Михаил. — Не торопись, — зажигая спичку, ответил Петр. Поколесив по улицам, он немного успокоился и сейчас не знал, с чего начать. — Долго я ждать не буду. — Скажи: ты честный человек? — приглушенно, с хрипотой в голосе спросил Петр. — Дальше что? — в какой-то степени чувствуя себя виноватым, Ромашков нашелся не сразу. — Ты мне сначала ответь на вопрос, а потом я буду говорить дальше. — Предположим, что да. Продолжайте, товарищ старший лейтенант. — По-моему, ты плут и двоедушник! — Знаешь что, Пыжиков… — сердито, но сдержанно сказал Ромашков, — в другой обстановке ты бы сейчас растянулся в этой грязи со свернутой набок скулой… — Ударь! Но я всем буду говорить, что ты плут! — Глупый. Хоть научился бы не шуметь, людей зря не тревожить. Ко всему прочему ты еще и жалок, как тот ночной безголосый петух. Покричал зря и умолк… — Не ожидал я от тебя такой подлости! — Пыжиков замотал головой, словно его щелкнули по носу. — Истерики только не закатывай. Хочешь говорить начистоту, говори толком, а не то я уйду. — Я тебе скажу… Все скажу! Ты поступил мерзко и подло! Девушку, которую я любил, ты опутал, оплел… Воспользовался тем, что я попал в беду, присватался. Разве это не подло? Все ей, конечно, обо мне рассказал и взамен себя в лучшем свете нарисовал… — Послушай, Петр! — Ромашков встал, вцепившись руками в поясной ремень, снова сел. — Ты подумал, что ты сказал? — Я всегда говорю то, что думаю… — Знаю я тебя, знаю! Как ты можешь без всякого разбора приписывать мне разные мерзости! — стуча кулаком по колену, возмущался Ромашков. — Да ведь это так? — несколько примирительно проговорил Пыжиков. — Эх ты! За то, что оскорбил меня, ее и дружбу нашу облил грязью, следовало бы тебя… Ну, уж ладно! О твоих делах Настя ничего не знает. Тебя я перед ней ничем не опорочил. Служба касается только нас, а остальное… — Короче. Мне уже все равно… — махнул рукой Пыжиков и мрачно спросил: — Давно это у вас началось? — Кто ж его знает? — Давненько, значит. — Да разве в этом дело! Я тебе скажу так: что у вас там с ней было раньше, не знаю, но кончилось тем, что она любит меня, а я ее. Теперь, как хочешь, так и суди. Ты виделся с ней, говорил? — напористо спросил Михаил. — Да. Сама сказала, что она твоя невеста. Они замолчали. Из горных ущелий надвигался туман. Протяжно вздохнув, Петр, глотнув сырости, громко кашлянул, поднялся и молча шагнул в калитку. Михаил потер жесткой ладонью разгоряченный лоб и, отогнув рукав гимнастерки, посмотрел на часы. Наступило время проверять наряды. Войдя в помещение, он приказал помощнику дежурного разбудить сержанта Батурина, надел плащ и взял со стола автомат. Майор Рокотов открыл полусонные глаза и, увидев одевшегося капитана, спросил: — Сколько времени? — Два ноль-ноль, — ответил Ромашков. — Где бродили? — кивнув на улегшегося на скамейку Пыжикова, спросил майор. — Так, на завалинке посидели и друг другу сказки рассказывали, — невесело усмехнулся Ромашков и вышел во двор. Там, держа на поводке крупную кавказскую овчарку, ожидал его Батурин. — Пошли, — пристраивая на плече автомат, тихо сказал Ромашков. — Слушаюсь! — отозвался Батурин. Вскоре они скрылись в белесом тумане.Глава пятнадцатая
Сквозь щели тесовых стен узкими полосками в сеновал пробивается утренний свет. Давно уже уснула маленькая Валя, а Настя все ворочается с боку на бок, шуршит сухим сеном и не может сомкнуть глаз. В ней, как хмель, бродит тревожная сила молодости. То печально, то радостно что-то шепчут ей голоса души и сердца. Что принесет новый день — грозу или теплое сияние солнца? Как хочется, чтобы завтра был ясный солнечный день, без единого на небе облачка. Как приятно было на душе, когда она укладывалась с сестренкой спать: хотелось петь, задорно смеяться и всем рассказывать про свою любовь… Но вот пришел лейтенант Пыжиков и спугнул веселое самозабвенное чувство радости. А все-таки Петра жалко немножко… Натянув одеяло до подбородка, Настя пошарила у изголовья рукой и нащупала в сене широкий завядший листочек. Покусывая его зубами, ощущая терпкий и горьковатый вкус, продолжала думать: «Он шел ко мне и на что-то надеялся… А я ему прямо: «Я выхожу замуж…» Грубо. Нехорошо! А там, на море, разрешила поцеловать себя, только пальчиком погрозила. Тоже нехорошо… Наверное, надо рассказать об этом Михаилу, да не очень приятно говорить такие вещи… Скорее бы взошло солнце». Настя услышала, как хлопнула сенная дверь и звонко загремело стукнувшее о косяк ведро. Значит, мать уже встала и пойдет сейчас доить корову. Потом затопит печь и начнет готовить завтрак, а когда он будет готов, придет на сеновал и стащит с них одеяла. Так бывало каждый день, но завтра уже этого не будет. Грустно покидать родной уголок, а сегодня в особенности. Скоро они встанут. Маленькая Валя, покушав, положит в сумку горячий завтрак, поставит туда завязанный в тряпку горлач с молоком и понесет отцу. Он валит лес и приходит домой не каждый день. Настя начнет собираться в дорогу. Ей; пора на работу. Там ведь не знают, что она думает выйти замуж. Метеорологической службе нет до этого никакого дела… А он, наверное, заглянет и, может быть, немножко проводит — хоть до Медвежьей балки. Проникнутая чувством тревоги, Настя начинает чего-то бояться. Во дворе, как и ночью, вдруг громко залаял Косматый. Послышался голос матери. Она с кем-то разговаривает. У Насти часто и горячо забилось сердце. Неужели так рано пришел Михаил? Это и удивило ее и обрадовало. Возможно, ходил проверять своих солдат, не вытерпел и заглянул. Накинув на голые плечи одеяло, Настя подошла к двери и, присев на корточки, посмотрела в дверную щель. Перед матерью стоял горбоносый мужчина с желтым худым лицом, густо заросшим черными волосами. Большие темные ввалившиеся глаза его зорко рыскали по сторонам. Протянув волосатую руку, он что-то совал матери и быстро произносил какие-то слова, которых Настя не могла разобрать. Но глаза и нос этого человека ей показались очень знакомыми, напоминали о чем-то и его резкие жесты. Он то протягивал руки, то прикладывал их к груди. Мать растерянно пожимала плечами и отрицательно качала головой. А он, настойчиво что-то спрашивая, подходил все ближе и ближе, пугая Лукерью Филипповну своим жалким растерзанным видом. Рубаха на нем была порвана, сквозь дыры виднелось смуглое тело с засохшими ссадинами. Продолжая оглядываться, он упорно чего-то добивался от матери. Лукерья Филипповна, беспомощно озираясь, пятилась к сеновалу и, не выдержав, крикнула:
— Настя! Проснись, дочка, и выдь на минуточку!
— Я тут, мама, — откликнулась Настя, зябко вздрагивая.
Вид мужчины, его жесткие знакомые глаза пугали ее. Тревожно вороша память, она старалась припомнить: где она все-таки видела этого горбоносого человека?
— Я сейчас, мама, — снова отозвалась Настя, стараясь побыстрее надеть платье. — А что ему, мама, нужно? Откуда он взялся?
Лукерья Филипповна сама подошла к двери и сообщила, что этот человек голоден и просит хлеба. Он говорит, что вышел до сроку из лагерей. Сейчас ему надо пройти через перевал и попасть в город. Там у него друзья. Он хочет есть. Говорит, что захворал, плохо себя чувствует.
— Я ему сказала, что у нас хлеба нет. Он дал мне денег и просит купить хлеба. Ты слышишь, Настя? — говорила, почти выкрикивала это Лукерья Филипповна.
— Да, да, мама.
— Я пообещала подоить корову и дать ему молока. Зараз я покличу его в хату, а ты сбегай до тетки Параски и купи два кило хлеба, целую буханку. Вот возьми его гроши и беги скорее. Швыдко, дочка, а то я его боюсь…
— Ничего, мама, я скоро.
Лукерья Филипповна просунула в щель деньги. Скомканная бумажка упала к ногам удивленной и растерянной Насти. Почему мать не хочет дать ему своего, хлеба, а посылает куда-то к Параске, которая покупает булки в продуктовом ларьке! А мать вчера выпекла пять или шесть буханок, настряпала сдобных подорожников для нее и с вечера уложила в рюкзак. Неужели ей жалко куска хлеба? А Параска живет около сельского Совета и, наверное, еще спит, да и какой у нее хлеб?
— Поспеши, дочка, ждет он, — нетерпеливо проговорила мать.
Только тут Настя поняла, что мать не доверяет незнакомцу и бежать нужно не к Параске, а в сельский Совет, где расположились пограничники. Она снова посмотрела в щелочку, стараясь вспомнить, где она видела этого пришельца? Не похож ли он на одного из тех курортников, которые угощали ее тогда дыней?
— Пойдемте до хаты, — слышался за дверью голос матери. — Там отдохнете, дочка быстро сбегает, а я принесу молока, Но прохожий почему-то колебался и не двигался с места.
— Я хочу отдыхать там, — проговорил он, показывая на сарай. Можно?
— Нет. Туда нельзя, — решительно заявила Лукерья Филипповна. Там дети спят. — Да вы не бойтесь. Идите до хаты. Я, братец мой, все вижу и понимаю…
— Как вы можете меня понимать? Я же ведь из лагеря.
— А что тут такого? У меня тоже мужик сидел и только недавно освободился. Мало ли теперь таких…
— Ваш хозяин был в тюрьме? — возбужденно спросил прохожий.
— Три месяца.
— За что?
— Одному начальнику по шее стукнул.
— Почему же он так мало сидел? — уже в сенцах спросил горбоносый, сразу же интересуясь биографией мужа хозяйки.
— Да он стукнул-то его один разочек.
— Плохой был начальник?
— Уж хорошего не тронул бы. Садись. Ноги вон о половичок оботри, только сапогами не стучи. Потише…
— А что в селе есть милиция? — пронизывая Лукерью Филипповну выпуклыми глазами, допытывался он.
— Какая тут в горах милиция? Наезжают раз в месяц. Здесь вон ребенок спит. Не надо будить.
Мать покрыла разбросавшегося, сладко спавшего в люльке Миколку, который и не предполагал, что сегодня он тоже станет героем событий.
Плотно прикрыв за собой дверь, гремя подойником, Лукерья Филипповна ушла.
Горбоносый метнулся к окошку и проследил, пока она не вошла в коровник. Немного успокоившись, он стал пристально наблюдать за калиткой в надежде увидеть хозяйскую дочь, которая должна пойти за хлебом. Но она почему-то долго не показывалась. В горнице посветлело. В окно было видно, как в ущелье рассеивался, испарялся туман. Прохожий понимал, что ему надо быстро уходить из села. Но хлебный запах теплой крестьянской избы усиливал мучительное чувство голода. Оно было страшным и непреодолимым. Все эти дни он питался дикими ягодами. Многое бы он сейчас отдал за маленький кусочек хлеба. Голод и сырая после ливня, холодная ночь загнали его в этот дом на окраине лесного села. Оглядев комнату, он прошел в кухню, ища воспаленными глазами что-нибудь съестное, но ничего не находил. Чутьем одичавшей собаки он ощущал запах хлеба и пирогов, но ничего не видел. Рюкзак с румяно зажаренными коржиками висел на стене, почти рядом с его головой, равнодушно поблескивая пряжками. Наконец Сапангос заметил у печки ведро с приготовленным для коровы пойлом, а в нем плавающие сверху, разбухшие куски хлеба. Он, не задумываясь, бросился к ведру, выловил куски хлеба и стал с жадностью есть.
Тем временем, прыгая через грядки моркови и свеклы, Настя бежала к виднеющейся вдали изгороди. Она нарочно не пошла через калитку, боясь, что прохожий узнает в ней ту самую путешественницу, которую они тогда вдвоем с бритоголовым угощали в лесу дыней, и догадается о ее намерениях. Она решила бежать к сельскому Совету и немедленно сообщить о посетившем их дом госте пограничникам.
С трудом преодолев высокий из кольев забор, она очутилась у перелеска, который почти вплотную подступал к их огороду. Остановившись, Настя поглядела ушибленное колено и увидела на пальцах кровь. Около самой чашечки колено было сильно поцарапано о сучок. Из небольшой, но глубокой ранки обильно сочилась кровь. Настя сорвала какой-то мокрый листочек и приложила к ранке. Тут-то ее тихо и неожиданно окликнули.
— Ушиблась, а? — раздался из кустов голос сержанта Батурина.
Настя охнула и, как подкошенная, села на траву.
Первое, что она увидела и запомнила на всю жизнь, — это были клыкастая пасть с розовым языком и глаза огромной собаки, смотревшие на нее с затаенно выжидающей настороженностью. Рядом сидел, укрывшись листьями клена, солдат в зеленом, едва различимом от листьев плаще. Он глядел на девушку и хитро улыбался.
— Больно? — повторил он шепотом и пригласил: — Сюда идите.
Испуганно косясь на овчарку, Настя поднялась и, прихрамывая, бочком направилась к кусту.
— Вы ее не бойтесь, — кивая на овчарку, проговорил Батурин по-прежнему тихо. — Не тронет. А вы здорово прыгаете!
— Ой, как вы меня напугали, — стараясь унять дрожь, сказала Настя.
— Бывает и хуже… Куда вы так спешили, разрешите узнать?
— К вам бежала.
— Это ко мне, что ли?
— К пограничникам, а не к вам…
— А я и есть пограничник, — обрадованно улыбнулся Батурин.
— А вы знаете, зачем я бегу?
— Не могу знать, зачем и куда. Чуть свет девчата не бегают. Может, уж кому свидушку назначили?
— Да. Назначила. Вашему начальнику — капитану Ромашкову назначила. Может быть, вы разрешите мне сбегать к нему?
— Не могу. Присядьте и не маячьте, — со строгостью в голосе проговорил Батурин.
— А ежели я не сяду, а пойду, куда мне надо, вы что, стрелять будете?
— Нет. У меня подружка есть, — сержант дернул за поводок. Собака, возбужденно подняв уши, ощерила страшные острые клыки.
— Мне нужно рассказать… — покорно присаживаясь на мокрую траву, начала было Настя.
Но Батурин ее перебил:
— Расскажете там, где надо, — он прилег на бок и негромко свистнул.
Из ближайшего куста осторожно выглянул солдат.
— Проводите ее к капитану Ромашкову, — приказал Батурин.
— Идем, девушка, — сказал солдат. — Вот сюда идите, впереди меня.
— Куда вы меня ведете? — спросила Настя. — Мне в сельский Совет нужно. Там есть какой-нибудь начальник?
— Найдется.
— А кто?
— Идите и молчите.
— Мне нужен капитан Ромашков, понимаете?
— Не положено отвечать.
— Почему не положено?
— Разговаривать с задержанными не положено.
— Я говорю, что к нам пришел какой-то страшный человек.
— Ну, и что?
— Хлеба просит, хочет через перевал пройти.
— Никуда он не уйдет. Там дороги нет. Давайте, гражданка, помолчим.
— У вас все такие молчуны? — вызывающе спросила Настя.
— Лучше помолчим, девушка, — строго сказал Кудашев.
А они шли по той самой тропинке, где Настя часто ходила с Валей в лес за грибами. Лес здесь сохранился от топора порубщиков, рос буйно и мощно. Широкими зелеными шатрами поднялись старые дубы. Темными свечами в небо устремились высокие пихты. Под ближайшей из них, с автоматом поверх плаща, стоял капитан Ромашков. Увидев Настю, он скорыми шагами пошел к ней навстречу.
— Настенька, почему вы здесь? — взяв ее за руку и отведя в сторонку, спросил Михаил.
— Я бежала к вам…
— К нам? Зачем?
— Меня мама послала. К нам пришел чужой человек… Я так бежала, что коленку оцарапала. — Настя подняла край юбки и показала залитую кровью ногу.
— Сейчас перевяжем. Хорошо, что пришла… Мы его уже давно проследили с собакой. Тебе больно? — натягивая бинт, спросил Ромашков.
— Не очень.
— Сейчас ваш дом окружают. Останься пока здесь.
— Он стрелять будет?
— Очевидно, да. А возможно, и нет…
— Если начнут стрелять, то как же наши. Мама, Миколка, Валя… — с беспокойством проговорила Настя.
— Постараемся взять его без шума Я не туго затянул?
— Спасибо. Все хорошо.
— Не очень-то. Нога распухла.
— Пройдет. А ты знаешь, я этого человека видала, встречалась с ним.
— Где ты могла его видеть?
— В тот самый день, когда мы… когда ты… приезжал к Евсею Егоровичу.
Настя покраснела и умолкла. Подавив смущение, она рассказала, как шла одна в лесу и встретила двух незнакомых людей, которые угостили ее дыней.
— Я сразу не могла вспомнить, а потом узнала его, припомнила глаза, нос… А другой был постарше, плешивый.
— Может быть, ты ошибаешься? — наклонясь к ее лицу, спросил Ромашков.
— Нет. Это же было совсем недавно. Тот был такой вежливый, внимательный, — наивно продолжала Настя.
— Вежливый, внимательный, — расстегивая полевую сумку и роясь в ней, повторял Ромашков.
— Да, да! Ты не смейся! — настойчиво твердила она. — У него такая улыбка…
— А ну, взгляни, — протягивая фотографическую карточку, попросил Ромашков. — Может быть, он?
Настя посмотрела на фотографию и удивленно вскрикнула:
— Правда, он! Его уже поймали, да?
— Да… Этот вежливый кого угодно отправит на тот свет. Солдата одного убил.
Настя вздрогнула и выронила из рук фотографию.
Подошел солдат с автоматом в руках. Покосившись на девушку, он отозвал капитана в сторону. Сообщив ему что-то, быстро ушел и скрылся в кустах.
— Ты меня извини, Настенька. Начальство вызывает. Посиди здесь, отдохни.
— Я чего-то боюсь… Дрожу вся, — тихо проговорила Настя.
— Все будет в порядке.
Михаил снял свой плащ и накинул ей на плечи. Оглянувшись, хотел поцеловать, но, зная, что за ними наблюдают несколько пар любопытных солдатских глаз, не решился. Ободряюще помахав Насте рукой, ушел вслед за связным.
Поправив плащ, Настя прислонилась к пихте спиной. Она задумалась о Миколке, матери, сестренке Вале, оставшейся на сеновале. На глазах Насти показались слезы.
Продолжая оглядываться, он упорно чего-то добивался от матери. Лукерья Филипповна, беспомощно озираясь, пятилась к сеновалу и, не выдержав, крикнула:
— Настя! Проснись, дочка, и выдь на минуточку!
— Я тут, мама, — откликнулась Настя, зябко вздрагивая.
Вид мужчины, его жесткие знакомые глаза пугали ее. Тревожно вороша память, она старалась припомнить: где она все-таки видела этого горбоносого человека?
— Я сейчас, мама, — снова отозвалась Настя, стараясь побыстрее надеть платье. — А что ему, мама, нужно? Откуда он взялся?
Лукерья Филипповна сама подошла к двери и сообщила, что этот человек голоден и просит хлеба. Он говорит, что вышел до сроку из лагерей. Сейчас ему надо пройти через перевал и попасть в город. Там у него друзья. Он хочет есть. Говорит, что захворал, плохо себя чувствует.
— Я ему сказала, что у нас хлеба нет. Он дал мне денег и просит купить хлеба. Ты слышишь, Настя? — говорила, почти выкрикивала это Лукерья Филипповна.
— Да, да, мама.
— Я пообещала подоить корову и дать ему молока. Зараз я покличу его в хату, а ты сбегай до тетки Параски и купи два кило хлеба, целую буханку. Вот возьми его гроши и беги скорее. Швыдко, дочка, а то я его боюсь…
— Ничего, мама, я скоро.
Лукерья Филипповна просунула в щель деньги. Скомканная бумажка упала к ногам удивленной и растерянной Насти. Почему мать не хочет дать ему своего, хлеба, а посылает куда-то к Параске, которая покупает булки в продуктовом ларьке! А мать вчера выпекла пять или шесть буханок, настряпала сдобных подорожников для нее и с вечера уложила в рюкзак. Неужели ей жалко куска хлеба? А Параска живет около сельского Совета и, наверное, еще спит, да и какой у нее хлеб?
— Поспеши, дочка, ждет он, — нетерпеливо проговорила мать.
Только тут Настя поняла, что мать не доверяет незнакомцу и бежать нужно не к Параске, а в сельский Совет, где расположились пограничники. Она снова посмотрела в щелочку, стараясь вспомнить, где она видела этого пришельца? Не похож ли он на одного из тех курортников, которые угощали ее тогда дыней?
— Пойдемте до хаты, — слышался за дверью голос матери. — Там отдохнете, дочка быстро сбегает, а я принесу молока, Но прохожий почему-то колебался и не двигался с места.
— Я хочу отдыхать там, — проговорил он, показывая на сарай. Можно?
— Нет. Туда нельзя, — решительно заявила Лукерья Филипповна. Там дети спят. — Да вы не бойтесь. Идите до хаты. Я, братец мой, все вижу и понимаю…
— Как вы можете меня понимать? Я же ведь из лагеря.
— А что тут такого? У меня тоже мужик сидел и только недавно освободился. Мало ли теперь таких…
— Ваш хозяин был в тюрьме? — возбужденно спросил прохожий.
— Три месяца.
— За что?
— Одному начальнику по шее стукнул.
— Почему же он так мало сидел? — уже в сенцах спросил горбоносый, сразу же интересуясь биографией мужа хозяйки.
— Да он стукнул-то его один разочек.
— Плохой был начальник?
— Уж хорошего не тронул бы. Садись. Ноги вон о половичок оботри, только сапогами не стучи. Потише…
— А что в селе есть милиция? — пронизывая Лукерью Филипповну выпуклыми глазами, допытывался он.
— Какая тут в горах милиция? Наезжают раз в месяц. Здесь вон ребенок спит. Не надо будить.
Мать покрыла разбросавшегося, сладко спавшего в люльке Миколку, который и не предполагал, что сегодня он тоже станет героем событий.
Плотно прикрыв за собой дверь, гремя подойником, Лукерья Филипповна ушла.
Горбоносый метнулся к окошку и проследил, пока она не вошла в коровник. Немного успокоившись, он стал пристально наблюдать за калиткой в надежде увидеть хозяйскую дочь, которая должна пойти за хлебом. Но она почему-то долго не показывалась. В горнице посветлело. В окно было видно, как в ущелье рассеивался, испарялся туман. Прохожий понимал, что ему надо быстро уходить из села. Но хлебный запах теплой крестьянской избы усиливал мучительное чувство голода. Оно было страшным и непреодолимым. Все эти дни он питался дикими ягодами. Многое бы он сейчас отдал за маленький кусочек хлеба. Голод и сырая после ливня, холодная ночь загнали его в этот дом на окраине лесного села. Оглядев комнату, он прошел в кухню, ища воспаленными глазами что-нибудь съестное, но ничего не находил. Чутьем одичавшей собаки он ощущал запах хлеба и пирогов, но ничего не видел. Рюкзак с румяно зажаренными коржиками висел на стене, почти рядом с его головой, равнодушно поблескивая пряжками. Наконец Сапангос заметил у печки ведро с приготовленным для коровы пойлом, а в нем плавающие сверху, разбухшие куски хлеба. Он, не задумываясь, бросился к ведру, выловил куски хлеба и стал с жадностью есть.
Тем временем, прыгая через грядки моркови и свеклы, Настя бежала к виднеющейся вдали изгороди. Она нарочно не пошла через калитку, боясь, что прохожий узнает в ней ту самую путешественницу, которую они тогда вдвоем с бритоголовым угощали в лесу дыней, и догадается о ее намерениях. Она решила бежать к сельскому Совету и немедленно сообщить о посетившем их дом госте пограничникам.
С трудом преодолев высокий из кольев забор, она очутилась у перелеска, который почти вплотную подступал к их огороду. Остановившись, Настя поглядела ушибленное колено и увидела на пальцах кровь. Около самой чашечки колено было сильно поцарапано о сучок. Из небольшой, но глубокой ранки обильно сочилась кровь. Настя сорвала какой-то мокрый листочек и приложила к ранке. Тут-то ее тихо и неожиданно окликнули.
— Ушиблась, а? — раздался из кустов голос сержанта Батурина.
Настя охнула и, как подкошенная, села на траву.
Первое, что она увидела и запомнила на всю жизнь, — это были клыкастая пасть с розовым языком и глаза огромной собаки, смотревшие на нее с затаенно выжидающей настороженностью. Рядом сидел, укрывшись листьями клена, солдат в зеленом, едва различимом от листьев плаще. Он глядел на девушку и хитро улыбался.
— Больно? — повторил он шепотом и пригласил: — Сюда идите.
Испуганно косясь на овчарку, Настя поднялась и, прихрамывая, бочком направилась к кусту.
— Вы ее не бойтесь, — кивая на овчарку, проговорил Батурин по-прежнему тихо. — Не тронет. А вы здорово прыгаете!
— Ой, как вы меня напугали, — стараясь унять дрожь, сказала Настя.
— Бывает и хуже… Куда вы так спешили, разрешите узнать?
— К вам бежала.
— Это ко мне, что ли?
— К пограничникам, а не к вам…
— А я и есть пограничник, — обрадованно улыбнулся Батурин.
— А вы знаете, зачем я бегу?
— Не могу знать, зачем и куда. Чуть свет девчата не бегают. Может, уж кому свидушку назначили?
— Да. Назначила. Вашему начальнику — капитану Ромашкову назначила. Может быть, вы разрешите мне сбегать к нему?
— Не могу. Присядьте и не маячьте, — со строгостью в голосе проговорил Батурин.
— А ежели я не сяду, а пойду, куда мне надо, вы что, стрелять будете?
— Нет. У меня подружка есть, — сержант дернул за поводок. Собака, возбужденно подняв уши, ощерила страшные острые клыки.
— Мне нужно рассказать… — покорно присаживаясь на мокрую траву, начала было Настя.
Но Батурин ее перебил:
— Расскажете там, где надо, — он прилег на бок и негромко свистнул.
Из ближайшего куста осторожно выглянул солдат.
— Проводите ее к капитану Ромашкову, — приказал Батурин.
— Идем, девушка, — сказал солдат. — Вот сюда идите, впереди меня.
— Куда вы меня ведете? — спросила Настя. — Мне в сельский Совет нужно. Там есть какой-нибудь начальник?
— Найдется.
— А кто?
— Идите и молчите.
— Мне нужен капитан Ромашков, понимаете?
— Не положено отвечать.
— Почему не положено?
— Разговаривать с задержанными не положено.
— Я говорю, что к нам пришел какой-то страшный человек.
— Ну, и что?
— Хлеба просит, хочет через перевал пройти.
— Никуда он не уйдет. Там дороги нет. Давайте, гражданка, помолчим.
— У вас все такие молчуны? — вызывающе спросила Настя.
— Лучше помолчим, девушка, — строго сказал Кудашев.
А они шли по той самой тропинке, где Настя часто ходила с Валей в лес за грибами. Лес здесь сохранился от топора порубщиков, рос буйно и мощно. Широкими зелеными шатрами поднялись старые дубы. Темными свечами в небо устремились высокие пихты. Под ближайшей из них, с автоматом поверх плаща, стоял капитан Ромашков. Увидев Настю, он скорыми шагами пошел к ней навстречу.
— Настенька, почему вы здесь? — взяв ее за руку и отведя в сторонку, спросил Михаил.
— Я бежала к вам…
— К нам? Зачем?
— Меня мама послала. К нам пришел чужой человек… Я так бежала, что коленку оцарапала. — Настя подняла край юбки и показала залитую кровью ногу.
— Сейчас перевяжем. Хорошо, что пришла… Мы его уже давно проследили с собакой. Тебе больно? — натягивая бинт, спросил Ромашков.
— Не очень.
— Сейчас ваш дом окружают. Останься пока здесь.
— Он стрелять будет?
— Очевидно, да. А возможно, и нет…
— Если начнут стрелять, то как же наши. Мама, Миколка, Валя… — с беспокойством проговорила Настя.
— Постараемся взять его без шума Я не туго затянул?
— Спасибо. Все хорошо.
— Не очень-то. Нога распухла.
— Пройдет. А ты знаешь, я этого человека видала, встречалась с ним.
— Где ты могла его видеть?
— В тот самый день, когда мы… когда ты… приезжал к Евсею Егоровичу.
Настя покраснела и умолкла. Подавив смущение, она рассказала, как шла одна в лесу и встретила двух незнакомых людей, которые угостили ее дыней.
— Я сразу не могла вспомнить, а потом узнала его, припомнила глаза, нос… А другой был постарше, плешивый.
— Может быть, ты ошибаешься? — наклонясь к ее лицу, спросил Ромашков.
— Нет. Это же было совсем недавно. Тот был такой вежливый, внимательный, — наивно продолжала Настя.
— Вежливый, внимательный, — расстегивая полевую сумку и роясь в ней, повторял Ромашков.
— Да, да! Ты не смейся! — настойчиво твердила она. — У него такая улыбка…
— А ну, взгляни, — протягивая фотографическую карточку, попросил Ромашков. — Может быть, он?
Настя посмотрела на фотографию и удивленно вскрикнула:
— Правда, он! Его уже поймали, да?
— Да… Этот вежливый кого угодно отправит на тот свет. Солдата одного убил.
Настя вздрогнула и выронила из рук фотографию.
Подошел солдат с автоматом в руках. Покосившись на девушку, он отозвал капитана в сторону. Сообщив ему что-то, быстро ушел и скрылся в кустах.
— Ты меня извини, Настенька. Начальство вызывает. Посиди здесь, отдохни.
— Я чего-то боюсь… Дрожу вся, — тихо проговорила Настя.
— Все будет в порядке.
Михаил снял свой плащ и накинул ей на плечи. Оглянувшись, хотел поцеловать, но, зная, что за ними наблюдают несколько пар любопытных солдатских глаз, не решился. Ободряюще помахав Насте рукой, ушел вслед за связным.
Поправив плащ, Настя прислонилась к пихте спиной. Она задумалась о Миколке, матери, сестренке Вале, оставшейся на сеновале. На глазах Насти показались слезы.
Глава шестнадцатая
В хате звонко гудели мухи. В люльке сладко похрапывал Миколка. Во дворе тревожно и заливисто лаял Косматый. На разные голоса орали петухи. Немного утолив голод размокшими в ведре кусками хлеба и помятой картошкой, Сапангос подошел к окну. Посматривая во двор, он часто оглядывался и на дверь. По его расчету, хозяйской дочери пора уже было вернуться, но она не приходила. Да и корову, как ему казалось, слишком долго выдаивали. После жадно проглоченной пищи ему захотелось пить. Пройдя в кухню, он выпил ковш воды и снова вернулся в горницу и встал у окна. Склонив свои тяжелые шляпы, в саду недвижно стояли подсолнухи. На одном из них сидел взъерошенный, хохлатый воробей-воришка и, вытягивая шейку, выклевывал семечки. Вдоль палочной изгороди кралась серая кошка. Выгнув спину, она вдруг шарахнулась в сторону и скрылась за огуречной грядкой. Воробей, испуганно пискнув, взлетел и, сделав круг, присел на ветку яблони, дразняще покачиваясь на самом высоком сучке. Над верхушками ближайших от хаты деревьев беспокойно кружились лесные птицы. Прижавшись к окну оттопыренным, по-звериному чутким ухом, Сапангос все время прислушивался и зорко наблюдал за садом. Его беспокоил беспечно порхавший с ветки на ветку воробей, кравший из подсолнуха семечки, угнетала и чего-то испугавшаяся кошка, которая так и не настигла вороватого воробья, тревожил и высокий забор в углу, густо заросший виноградником. Ему казалось, что широкие зубчатые листья трепещут, шевелятся. С ведром в руках, накрытым чистым полотенцем, вошла хозяйка дома и осторожно заперла за собой визгливо скрипнувшую дверь. Оторвавшись от косяка, Сапангос круто повернулся, спросил: — Хлеб есть? — Нет еще. Скоро придет, — не поднимая головы, ответила Лукерья Филипповна. — Разве это далеко? — вытягивая вперед шею, напряженно спросил гость. — На том краю, — вынимая из печки горлачи, спокойно ответила хозяйка. — Очень долго! — вздохнул Сапангос. — Потерпите немного. — Кушать надо. Немножко молока дайте, — показывая на горшки, проговорил он требовательно. — Сейчас процежу и налью. Лукерья Филипповна сняла со стены цедилку и, дробно стуча о край горшка, неторопливо положила ее на горловину. Налив посудину почти до краев, она поставила ее на стол. Схватив горшок, он жадно припал к нему губами. Пил не отрываясь, а сам все время глядел выпуклыми, сведенными к переносице глазами на хозяйку. Лицо ее со строго поджатыми губами было нахмурено и неподвижно. Казалось, что оно навсегда застыло в одном непроницаемом выражении. Лукерья Филипповна стояла боком и разливала молоко по горшкам. Сапангос, окончив пить, вытер губы рукавомрубахи, но крошки хлеба так и остались на его черном лице. «Чего же это он так наелся?» — подумала Лукерья Филипповна и, взяв ведро с коровьим пойлом, направилась к двери. — Один минута! — окликнул ее Сапангос. — А? Какая еще минута? Мне корову надо кормить, — недовольным тоном проговорила Лукерья Филипповна. — Я давно, хозяйка, не курил: нет ли у вас немного табаку или сигарет? Очень хочу курить. Я деньги дам. — Ничего нет, любезный. У нас в доме никто не курит, Я схожу к соседу и попрошу. Подождите. — Нет, к соседям ходить не надо… Хлеба надо. — Принесет скоро. — Долго нет, долго! — резко взмахнув грязными руками, проговорил он и нетерпеливо поглядел в окно. — Придет, никуда не денется. Лукерья Филипповна вернулась в горницу, поправила сползающее из люльки одеяло и, не глядя на этого страшноватого гостя, прислушалась к частому стуку своего сердца, а затем не спеша вышла в сени. Ей хотелось, чтобы все это скорее кончилось. Слишком неприятен был вид горбоносого оборванца с прилипшими к щетине крошками. Она догадалась, что он выловил куски хлеба из ведра с помоями и съел их. Жутко и тягостно было у нее на душе. Она прошла в сарай, поставила корове пойло и с тревогой стала ожидать старшую дочь. Сапангос же, оставшись в хате с посапывающим Миколкой, снова подошел к окну. В саду по-прежнему было сонно и безмятежно тихо. Под молодым спокойным тополем желтели вымытые дождем созревающие помидоры, в приоткрытую створку вливался запах яблок и укропа. На изгороди, обвитой зеленой плетью, повисла белая продолговатая тыква с большим, сучкастым, похожим на рога, отростком. Тыквенные плети, как и виноград, оплели изгородь буйно и густо. Вдруг за широкими, как лопухи, листьями мелькнула зеленая пограничная фуражка и тут же исчезла. Сапангос отскочил от окна и, прижавшись к стене, торопливо вытащил из рваного кармана пистолет, сжал его в длинных с грязными ногтями пальцах. По раздавшемуся лаю собаки, беспокойному перелету птиц и промелькнувшей фуражке он понял, что угодил в ловушку. Секунду постояв в простенке, он кинулся в кухню, к двери и набросил на петлю легонький крючок, но вскоре сообразил, что этот самодельный крестьянский запор слишком ненадежен. Вбежав в горницу, он захлопнул окно, потом, схватив стол, потащил его в кухню и забаррикадировал дверь. Но этого оказалось недостаточно. С лихорадочной быстротой он нагромождал у входной двери длинные дубовые скамьи, стулья, туда же полетели все подушки и перина. А когда он волочил по полу спинку железной кровати, то зацепил люльку. Она так качнулась, что вылетевший Миколка шлепнулся на пол и громко, надсадно заревел. — Уй, аллах! — полушепотом воскликнул Сапангос. — Как кричит! Подскочив к стене, он прижался к оконной фрамуге и приготовил пистолет. Услышав истошный плач сынишки, Лукерья Филипповна распахнула дверь сарая, намереваясь побежать в хату. В это время из-за стены выскочил пограничник с офицерскими погонами и толкнул ее в сарай. Это был старший лейтенант Пыжиков. Из хаты загрохотали выстрелы. Расщепляя дощатую дверь сарая, пули впивались в бревенчатую стену. Петр, удерживая Лукерью Филипповну, почти силой заставил ее лечь за кормушкой на солому. — У меня же там мальчик, сын! — в страхе шептала она. — Лежите, мамаша. Не будет же он стрелять в ребенка, — успокаивал ее Пыжиков. С пистолетом в руке он стоял у дверного косяка и смотрел в узкую щель. Однако нарушитель не показывался, а только изредка бил по коровнику. В углу причитала и стонала на соломе Лукерья Филипповна. Голос плачущего ребенка доносился все сильнее и сильнее. — Боже мой! Я пойду туда! — выкрикивала она. — Нельзя, — строго говорил Петр, — убьет вас… — Страшный человек! Я сразу поняла это, — шептала Лукерья Филипповна. — Почему вы стоите? Он и вас убить может. — Я вижу, куда он стреляет, — успокоил ее Пыжиков. — Ничего, мы его возьмем! Нарушитель стрелять перестал. Ему никто не отвечал. Сапангос был уверен, что убил офицера, который удержал хозяйку и втолкнул в сарай. В чистом безоблачном утре заросшие лесом горы поглотили раскатистые звуки выстрелов и, казалось, замерли в ожидании чего-то сурового и страшного. Но пограничников тревожил не свист бандитских пуль, не грохот выстрелов, а непрерывный, захлебывающийся плач ребенка, который научился пока говорить единственное слово «мама» и сейчас протяжно, бесконечно повторял: — Ма-ааа! Ма-ааа! …Валю разбудили выстрелы. Протирая глазенки и ничего не соображая, она вскочила и села на смятую постель. Насти рядом не было. Из хаты доносился рев братишки, а потом громко, пугающе вскрикнула мать. Голос ее взвился и оборвался резкими, оглушительными пистолетными хлопками. Как ни испугалась Валя, она поняла, что где-то близко стреляют и с матерью что-то случилось. Полураздетая, в длинной ночной рубашонке, Валя выскочила из сеновала и с криком бросилась к сеням. Но добежать до двери она не успела… Часто люди громко, от чистого сердца говорят, что мир создан для счастья детей. Нас волнует и радует первый крик, первая в жизни ребенка улыбка, первое осмысленное слово и робкие, неуверенные шаги по нетвердой, качающейся земле. Мы оберегаем детскую душу и тело от всяких невзгод. Болезненный крик ребенка, его беспомощный стон приносят нам глубокое и тяжкое страдание. Это большое, высокое чувство рождено вместе с человеческой жизнью. Об этом чувстве написаны миллионы книг и песен, которых, очевидно, никогда не слышал и не читал бывший князь Сапангос, часто взывающий к своему господу богу. А кто его бог? Может быть, сработанный по последнему слову техники автоматический пистолет, из которого он дважды выстрелил в кричащую девочку, Она, как большая белая птица, взмахнув ручонками, тоненько вскрикнув, сначала присела, а потом, перевалившись с боку на бок, затихла около стены. Все это произошло мгновенно и на глазах окружавших хату солдат и офицеров. В эту минуту было трудно сдержать закипевшее чувство гнева. В кухне раздался звон разбитого стекла. Кто-то вышиб оконный переплет очередью из автомата. Находясь в горнице, где ползал по полу плачущий Миколка, бандит резко повернул голову, оглянулся и увидел прыгнувшего в окно пограничника, который, мелькнув зеленой фуражкой, скрылся за массивной русской печкой. Короткая, но хлесткая очередь вывела на потолке расщепленный узор. Яркая вспышка из вздрагивающего ствола автомата ослепила бандита. Выстрелив наугад, он попал в край печки и попятился назад, а там ловко выпрыгнул через окно во двор. Прижавшись за угловой выступ сруба, он продолжал стрелять. На предложение сдаться беспорядочно бил в ту сторону, откуда слышался голос. Но голоса уже раздавались и спереди от сарая и сбоку от изгороди, где плотной цепочкой лежали пограничники, и из хаты, которую уже заняли прыгнувшие в окно солдаты. А сержант Нестеров, пробравшись на четвереньках в горницу, подхватил на руки испуганного Миколку и укрылся с ним за печкой. Унимая всхлипывающего мальчика, сержант ласково говорил: — Ну, что ж ты, парнишечка, ревешь-то, хватит, браток. Ты же солдат будущий… Подрастешь, тогда сам защищаться научишься. Миколка успокоился и притих. — Убили сынку моего, уже не кричит! Боже мой! — пытаясь выйти из сарая, плакала Лукерья Филипповна. Но старший лейтенант Пыжиков ее не отпускал. Она и не подозревала, что маленькая Валя, свернувшись клубочком, лежит возле сеней. — Успокойтесь, мамаша. В доме уже наши. Помогут, — говорил Петр. — А откуда ж стреляет тот бандюк? — с трудом сдерживая дрожащие губы, спрашивала Лукерья Филипповна. — Здесь стоит, бьет из-за угла. Потерпите, мамаша, немножко. Мы его сейчас… «Пришла пора, пришла пора ответить», — мысленно повторял Петр. Он распахнул дверь сарая и выскочил во двор. Перед глазами притаившегося за углом Сапангоса, на расстоянии каких-нибудь пятнадцати шагов, вдруг выросла фигура офицера с пистолетом в руке. На какую-то долю секунды Сапангос растерялся. — Бросай оружие! А ну, гад! — громко и ожесточенно выкрикнул Пыжиков. В ответ на его слова звучно щелкнул выстрел. Петр почувствовал, как рвануло и обожгло левое ухо и что-то теплое потекло за воротник гимнастерки. — Оружие, бандит! — резко метнувшись в сторону, повторил Пыжиков еще громче и нажал на спусковой крючок пистолета. Выстрелы грохотали один за одним. Помня приказ, Петр стрелял врагу под ноги. Сапангос же с быстротой фокусника перезарядил пистолет. Он, видимо, догадывался, что его хотят взять живым, и старался держаться до конца. Но все же, пока он вкладывал новую обойму, Петр успел укрыться за другой угол хаты. Пули Сапангоса прошли мимо. Время исчислялось минутами. Капитан Ромашков, окружив дом и сад, едва успел выдвинуться с сержантом Батуриным к сараю. Увидев, что Пыжиков выскочил из дверей и открыл стрельбу, Ромашков приказал Батурину пустить овчарку. Но она закапризничала и сразу не пошла. Только после ласковых уговоров, уже с третьей попытки собака бросилась на врага. Она сшибла горбоносого с ног и покатилась с ним в грозно урчащем клубке. Сержант Батурин еле оттащил рассвирепевшую овчарку от ошеломленного бандита, а подоспевшие солдаты схватили его в свои крепкие руки. Капитан Ромашков и майор Рокотов осторожно подняли Валю и отнесли в хату. У нее в двух местах было прострелено плечо. Ее быстро перевязали и отправили в поселковый медпункт в бессознательном состоянии. Настя все время не отходила от матери, стараясь привести ее в чувство.
С забинтованной головой и шеей, Петр сидел на крыльце и неподвижно смотрел на залепленные грязью сапоги. Надо было их протереть, почистить, но не хватало сил.
— Это ты, Михаил? — узнав вышедшего из сеней Ромашкова по звуку шагов, не оборачиваясь, спросил Петр.
— Да, — присаживаясь рядом, ответил Ромашков. — Тебя сильно задело? — спросил он после тягостной паузы.
— Нет, пустяки… Девочка будет жива?
— Да, конечно. Пробита мягкая ткань, заживет быстро.
— Вот у меня уже никогда не заживет, никогда!
— Сам же говоришь, что пустяки?
— Клочок уха не в счет. Совесть… Если бы не овчарка…
— Брось ныть!
— Вы что, товарищи дорогие, опять, как вчера, сказки рассказываете? — строго проговорил подошедший майор Рокотов.
Он только что обыскал захваченного диверсанта и приказал готовить его к отправке.
— Сказка у нас, видно, долгая, — невесело усмехнулся Петр.
— А вы, старший лейтенант, действовали молодцом! Только рисковать-то зря не надо. Это уже было ни к чему, — сказал Рокотов. — Но все обошлось хорошо — и зверь схвачен опасный…
Шум и выстрелы разбудили и привлекли к хате Богуновых много людей. Здесь были лесорубы, женщины, дети. Они с затаенным любопытством смотрели на солдат в зеленых фуражках и тихо переговаривались. Родственников и знакомых, по просьбе Насти, пограничники пропустили в дом. Женщины, всплескивая руками, вздыхали и сокрушенно покачивали головами. Мальчишки вертелись около солдат и выпрашивали стреляные гильзы.
— А на бандюка можно посмотреть? — спрашивал у Нестерова сероглазый пацан, лет десяти, в смятой солдатской пилотке, с самодельным деревянным револьвером в руке. — Он очень страшный, да?
— С рогами и хвостом, как метелка, — отшучивался Нестеров. — За этот хвост мы его и схватили.
— Ну да! Его Настя Богунова в сарай заперла и до вас побигла… Так или не так?
— Немножко не так.
— Ей орден дадут?
— Обязательно дадут, — подтвердил Нестеров. — Ты давай, дружок, потише. А то машешь своим пистолетом, мало ли что может случиться… Подстрелишь еще кого-нибудь.
— Так нет, — успокаивающе и разочарованно ответил мальчишка, это же игрушка, я из полена его выстругал. Вот у тебя — это да! с завистью посмотрев на автомат сержанта, он отошел к своим товарищам, которые ползали вдоль изгороди и разыскивали стреляные гильзы.
— Вот так я и выпустил их, — говорил Петр Рокотову и Ромашкову. — Ночевал с ними под одной крышей, сидел за одним столом, думал только о своей беде, а она была рядом со мной. Так я утерял бдительность, а может быть, не имел ее никогда? — Петр замолчал и низко опустил укутанную бинтами голову.
Хмуро молчал майор Рокотов. Ни слова не проронил и капитан Ромашков.
А вокруг было свежее чистое утро. Над горами поднималось солнце. Ветер качал обрумяненные плоды яблони. Вдоль изгороди шуршали своими лопухами перепутанные плети тыкв, к горячим солнечным лучам поднимали круглые шляпы подсолнухи. Поваленный кем-то, пригнутый вниз молодой тополь вдруг стройно выпрямился и стряхнул с зеленых, израненных листьев мутные, загрязненные капли дождевой воды. Обновленный дыханием жизни, он еще робко и трепетно дрожал, осторожно пошевеливая гибкими изуродованными ветвями. Наступили новый грядущий день и новая жизнь.
А Пыжиков знал, что теперь уже его в войсках не оставят, если бы он даже захотел остаться.
Капитан Ромашков и майор Рокотов осторожно подняли Валю и отнесли в хату. У нее в двух местах было прострелено плечо. Ее быстро перевязали и отправили в поселковый медпункт в бессознательном состоянии. Настя все время не отходила от матери, стараясь привести ее в чувство.
С забинтованной головой и шеей, Петр сидел на крыльце и неподвижно смотрел на залепленные грязью сапоги. Надо было их протереть, почистить, но не хватало сил.
— Это ты, Михаил? — узнав вышедшего из сеней Ромашкова по звуку шагов, не оборачиваясь, спросил Петр.
— Да, — присаживаясь рядом, ответил Ромашков. — Тебя сильно задело? — спросил он после тягостной паузы.
— Нет, пустяки… Девочка будет жива?
— Да, конечно. Пробита мягкая ткань, заживет быстро.
— Вот у меня уже никогда не заживет, никогда!
— Сам же говоришь, что пустяки?
— Клочок уха не в счет. Совесть… Если бы не овчарка…
— Брось ныть!
— Вы что, товарищи дорогие, опять, как вчера, сказки рассказываете? — строго проговорил подошедший майор Рокотов.
Он только что обыскал захваченного диверсанта и приказал готовить его к отправке.
— Сказка у нас, видно, долгая, — невесело усмехнулся Петр.
— А вы, старший лейтенант, действовали молодцом! Только рисковать-то зря не надо. Это уже было ни к чему, — сказал Рокотов. — Но все обошлось хорошо — и зверь схвачен опасный…
Шум и выстрелы разбудили и привлекли к хате Богуновых много людей. Здесь были лесорубы, женщины, дети. Они с затаенным любопытством смотрели на солдат в зеленых фуражках и тихо переговаривались. Родственников и знакомых, по просьбе Насти, пограничники пропустили в дом. Женщины, всплескивая руками, вздыхали и сокрушенно покачивали головами. Мальчишки вертелись около солдат и выпрашивали стреляные гильзы.
— А на бандюка можно посмотреть? — спрашивал у Нестерова сероглазый пацан, лет десяти, в смятой солдатской пилотке, с самодельным деревянным револьвером в руке. — Он очень страшный, да?
— С рогами и хвостом, как метелка, — отшучивался Нестеров. — За этот хвост мы его и схватили.
— Ну да! Его Настя Богунова в сарай заперла и до вас побигла… Так или не так?
— Немножко не так.
— Ей орден дадут?
— Обязательно дадут, — подтвердил Нестеров. — Ты давай, дружок, потише. А то машешь своим пистолетом, мало ли что может случиться… Подстрелишь еще кого-нибудь.
— Так нет, — успокаивающе и разочарованно ответил мальчишка, это же игрушка, я из полена его выстругал. Вот у тебя — это да! с завистью посмотрев на автомат сержанта, он отошел к своим товарищам, которые ползали вдоль изгороди и разыскивали стреляные гильзы.
— Вот так я и выпустил их, — говорил Петр Рокотову и Ромашкову. — Ночевал с ними под одной крышей, сидел за одним столом, думал только о своей беде, а она была рядом со мной. Так я утерял бдительность, а может быть, не имел ее никогда? — Петр замолчал и низко опустил укутанную бинтами голову.
Хмуро молчал майор Рокотов. Ни слова не проронил и капитан Ромашков.
А вокруг было свежее чистое утро. Над горами поднималось солнце. Ветер качал обрумяненные плоды яблони. Вдоль изгороди шуршали своими лопухами перепутанные плети тыкв, к горячим солнечным лучам поднимали круглые шляпы подсолнухи. Поваленный кем-то, пригнутый вниз молодой тополь вдруг стройно выпрямился и стряхнул с зеленых, израненных листьев мутные, загрязненные капли дождевой воды. Обновленный дыханием жизни, он еще робко и трепетно дрожал, осторожно пошевеливая гибкими изуродованными ветвями. Наступили новый грядущий день и новая жизнь.
А Пыжиков знал, что теперь уже его в войсках не оставят, если бы он даже захотел остаться.
* * *
Спустя два месяца, вручая Лукерье Филипповне медаль «За отличие в охране государственной границы СССР», генерал Никитин крепко пожимал ей руку и сказал: — Носите с честью. Спасибо вам за то, что вы воспитали таких замечательных дочерей. Взволнованные и смущенные Настя и Валя ожидали своей очереди. Они тоже были награждены такой же высокой и почетной наградой. — Это, товарищ генерал, Родине нашей спасибо. Я их грудью своей кормила, вырастила, а Родина их уму-разуму научила… Пусть ей и служат, пусть почитают ее, как мать свою, — ответила Лукерья Филипповна и по крестьянскому обычаю поклонилась, тронув рукой теплую, нагретую солнцем землю. — Еще раз спасибо вам за хорошие слова ваши, — сказал генерал и тоже склонил свою седовласую голову. Потом, встряхнув ею, прищурив заблестевшие глаза, улыбнувшись, добавил: — А к ним, мать, я обязательно приеду на свадьбу. — Такому гостю, как вы, почет и место. Милости просим, проговорила Лукерья Филипповна. — А свадьба скоренько будет. Все уже решено, — лукаво поглядывая на зардевшуюся Настю, — продолжала она. — Решила моя Настенька связать свою жизнь с пограничниками крепким червонным матузочком, так говорят на Украине, — доброй, значит, веревочкой… — Кто же жених? — Нашелся такой… Капитан Михайло Ромашков. — Это, Лукерья Филипповна, мой крестник. — Вот и добре! Будете его хлопцев крестить, только не у попа в кадушке, а в люльке на подушке да за богатым столом, за доброй чаркой горилки. — Принимаю, Лукерья Филипповна, и благодарю от всего сердца! После того когда отзвучали последние слова приветственных речей, Лукерья Филипповна еще раз подошла к генералу Никитину и, теребя кисти белого пухового платка, смущенно спросила: — Вы не можете мне сказать, товарищ генерал, про одного человека? — А что это за человек? — Ваш офицер. Тот что меня тогда в сарае запер. Петром его звать. — Знаю такого, знаю, — подчеркивая последнее слово, ответил Никитин. — Он нужен вам? — Да. Повидать бы его. — Он уехал домой. — Когда вернется, передайте ему поклон мой. — Он, Лукерья Филипповна, уехал совсем, — задумчиво ответил Никитин.
* * *
Уже в машине Никитин еще раз перечитал письмо Петра Пыжикова. Вот что тот писал генералу: «…Я сам толком не знаю, что меня больше всего огорчает. Проваленные экзамены в институт или сытый домашний обед, приготовленный на заработанные отцом деньги. Мне раньше казалось, что я умнее других, талантливее, грамотнее. Теперь со всей неумолимой очевидностью обнаружилось, что плохо я учился и многое позабыл из того, что знал. Я понял, что человек в наше время должен все время учиться и доучиваться, если он и работает у станка или носит офицерский китель. А я, не усвоив азы, не сделав в жизни ничего полезного, мечтал о профессорской кафедре, добивался, чтобы уйти с заставы, о которой я тоскую теперь каждый час, каждую минуту. Я завидую каждому проходящему мимо меня солдату и офицеру. А вечерами, тайком от родителей, надеваю мундир с погонами и выхожу на Невский проспект, отдаю честь старшим офицерам, приветствую защитников моей Родины. Вот до чего я дошел, товарищ генерал! Сейчас, когда я пишу эти строки, перед моими глазами стоит далекая приморская застава или высотная горная. Я служил на той и на другой. Я вижу низенький белый домик, красный трепещущий на крыше флаг, слышу голос начальника заставы, тихий и твердый, как у моего друга капитана Ромашкова, отдающего боевой приказ на охрану государственной границы. После этого у меня начинает темнеть в глазах. Вспоминая майора Рокотова, над которым я подло в душе и даже въявь издевался, я готов поцеловать край его зеленого плаща. Это — неутомимый в труде, влюбленный в границу человек. Жаль, что я поздно его понял. Когда я иду вечером по улице, встречаю шествующих надменно холодных гордецов в залихватских костюмчиках с галстуками пестрой расцветки, я презираю их «демоническую» напыщенность, презираю и самого себя. Она прилипала в ранней моей юности и ко мне, прилипала, как мало видимый паразитический микроб, с которым беспощадно боролись мой друг Михаил Ромашков и майор Рокотов. Вы, товарищ генерал, сказали мне в глаза всю горькую правду. Считаю, что я демобилизован правильно. Но тяжесть вины только сейчас начинает сказываться в моем сердце. Я готов начать службу с самой почетной и важной должности — с солдатской. После долгих и нелегких раздумий я чувствую, что готов и хочу охранять нашу родную границу, о чем и прошу Вашего разрешения. Все зависит от…» Не дочитав несколько строк, Никитин свернул письмо, аккуратно подравнял края. С минуту подержав в руках, он бережно положил письмо в карман. Когда и что он ответил на него, пока не известно.

Последние комментарии
23 минут 11 секунд назад
16 часов 27 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 12 часов назад