
А. А. ХРШАНОВСКИЙ (Биографическая справка)
Андрей Александрович Хршановский родился в 1915 году в Одессе. Отец его был военным врачом, мать — артисткой. Трудовая деятельность А. А. Хршановского началась рано. Юношей он уехал на строительство Турксиба. Потом работал токарем на ленинградском заводе «Электросила» и одновременно учился сначала на рабфаке Лесотехнической академии, а затем в университете. Но окончить университет не пришлось — ушел в армию. Великая Отечественная война началась для А. А. Хршановского с первых минут. Батарея, в которой он служил, стояла на границе с Восточной Пруссией и первой встретила немецкие самолеты. В жарких боях с врагом А. А. Хршановский не раз проявлял мужество и смелость, за что был удостоен высоких наград. «Из восьми моих орденов и медалей, — вспоминал Андрей Александрович, — больше всего ценю медаль „За отвагу“, полученную в тяжелом для нашей Родины 1942 году…» Литературная деятельность А. А. Хршановского началась в 1938 году, но как литератор он стал известен после войны. В 1948 году в Детгизе вышли его брошюрки для ребят, интересующихся путешествиями, а в 1950 году в издательстве «Молодая гвардия» появилась на свет книжка «У походного костра». Журналы «Пионер» и «Костер» охотно печатали его рассказы о сильных и смелых людях. В 1954 году вышла книга «Синие горы». Это было уже произведение зрелого мастера, талантливого прозаика. А. А. Хршановский много сил отдавал работе в издательствах Ленинграда. Ребятам будет небезынтересно узнать, что Андрей Александрович несколько лет работал главным редактором Ленинградского отделения Детгиза. С 1958 года и до конца своей жизни он возглавлял отдел прозы журнала «Звезда». За какое бы дело ни брался А. А. Хршановский, он отдавал этому делу всю душу, все свои способности и огромную энергию. Он написал ряд статей на военные темы. Он создал цикл публицистических очерков, посвященных проблемам лесного и сельского хозяйства. Андрей Александрович любил спорт, особенно альпинизм и туризм. Во главе туристских групп он проложил много новых сложных маршрутов и написал несколько работ по туризму и альпинизму. Многие молодые писатели обязаны А. А. Хршановскому как своему первому наставнику на литературном пути, а маститые литераторы дорожили его редакторскими советами. Скоропостижная смерть оборвала плодотворную деятельность А. А. Хршановского в расцвете творческих сил. Умер он 6 мая 1964 года.НОВИЧКИ

Павлуша
Темнеет не по-северному быстро. В вагоне зажигается свет, и вдоль полотна мчатся светлые пятна окон, а чуть дальше — темным-темно. Откуда-то прилетел особенно свежий и вольный ветер, и кажется, что поезд идет уже не степью, а приближается к горам. Обидно, что подъезжаешь к ним ночью и не видишь их еще издали. С грохотом пролетают фермы моста. Раз-два-три-четыре-пять… На мгновение под колесами возникает река. Она мчится под мост почти с такой же скоростью, как поезд. «Горные реки камни ворочают…» — вспоминает Павлуша прочитанные перед отъездом книги о горах. (Надо же знать, куда едешь!) Огни появились сперва с одной стороны, а потом — с другой. Станция. Здесь пересадка. Павлуша тихо, стараясь не разбудить спящих соседей, стащил свой рюкзак с полки и пошел к выходу. Есть что-то волнующее в том, чтобы среди ночи выйти на незнакомой станции, в особенности если это происходит во время первого в жизни дальнего путешествия и рассчитывать приходится только на самого себя. Проводник помог надеть лямку рюкзака. — В горы? — понимающе спросил он. — Да, — счастливо улыбнулся Павлуша, — в горы… — Значит, альпинист? — Угу… — как можно неопределеннее ответил Павлуша и почувствовал, что краснеет, потому что альпинистом он еще не был и в горы отправлялся впервые. — Серьезное занятие, — с уважением сказал проводник и сочувственно покачал головой, глядя вслед Павлуше. Пол в зале ожидания был все-таки грязный, а рюкзак новый, и пачкать его не хотелось, поэтому Павлуша стоял согнувшись под его тяжестью — так удобнее — и рассматривал расписание. Какая-то девушка с чемоданом, в лыжных брюках и красном шерстяном жакете, такая свежая, как будто сейчас не ночь, а утро, очутилась рядом. Как показалось Павлуше, она хотела что-то спросить, но, взглянув на его новый рюкзак, передумала и углубилась в расписание сама. Это рассердило его. «Девушка как девушка, — подумал он. — Чистюля!» Он решительно снял с плеч рюкзак, поставил его на пол у стенки и сел дожидаться. Девушка исчезла. Хотелось спать, был второй час ночи… Когда подали поезд, с разных сторон появилось еще много народу с рюкзаками. Та девушка, в красном жакете, пронесла свой чемодан к первым вагонам. Павлуша, назло ей, направился к последнему. Верхние полки успели занять, и он сел к окну, положив рюкзак на колени. И, несмотря на то, что в плохо притворенное окно задувал свежий ночной ветер, а старый вагон жестко потряхивало на стыках, Павлуша быстро заснул… Проводница выкрикивала названия каких-то станций, входили и выходили люди, хлопая дверьми, на верхних полках кто-то разговаривал — Павлуша ничего не слышал. Он проснулся и увидел горы. Поезд стоял. Прямо перед окном поднимался склон, покрытый кустарником и прорезаемый кое-где самыми обыкновенными сухими оврагами. Густой предутренний туман стелился по склону, клубился по оврагам. Сон как рукой сняло: «Вот они, горы!» Но какие это были горы! Мало-помалу поднимающееся солнце растопило туман, и оказалось, что поезд бежит мимо зелено-рыжих холмов. Вскоре они остались позади, а вокруг опять раскинулась степь. Вдалеке, справа и слева, за уходящими к горизонту полями пшеницы, молодого подсолнуха, кукурузы виднелись гряды зеленых, без единого деревца, сглаженных холмов. Местами темнели в степи пятна садов, из которых выглядывали сверкающие на солнце белые стены зданий. Впереди линия холмов замыкалась. Что-то неопределенное, похожее на тучи, синело над ними. «Едем долиной, — понял Павлуша, — и это не горы, а предгорье…»Лина
Городок только просыпался. На теневой стороне пустынных улиц еще не просохла роса, и земля там была темная, влажная. Но вдалеке, поднимая на солнце пыль, одна за другой прошли несколько автомашин. Где-то заработал движок: пых-пых-пых… Хлопнув, открылось окно в белом домике, потом в другом… Косые тени еще лежали на улицах, но наверху над садами и над степью уже царило южное солнце. Начался день, который остался в памяти Павлуши и его спутников надолго. Из городка в лагерь надо было добираться на машине. На перевалочной базе, откуда эта машина уходила, Павлуша познакомился с курчавым пареньком Юрой Мухиным и с Линой, той самой девушкой в красном жакете. Она, оказывается, тоже приехала в лагерь. Юра Мухин был человеком энергичным и предприимчивым. — Вот что, — сказал он, — это только разговоры, что поедем в шесть тридцать. Пока шофер будет завтракать, потом собираться, машину заправлять… Эге!.. Пошли на базар! Черешни купим на дорогу. В лагере ее нет. Там снег, скалы и прочие неровности местности. Базар должен быть близко. Я знаю… Но базар оказался не близко. Черешен, правда, были горы. Лина купила еще широкополую сванскую шляпу, легкую и красивую, сделанную из белоснежной и мягкой овечьей шерсти. Когда они с липкими от сладкого сока руками и остатками черешен в бумажных кульках вернулись на базу, рюкзаки и чемодан лежали на месте, а машины не было. Она ушла. — Нн-да-а… — протянул Юра. — Приобрели шляпу. — При чем здесь шляпа? — вспыхнула Лина. — Молчал бы уж, — сказал Павлуша. — Все-то ты знаешь… Конечно, можно было остаться в городке и уехать завтра, но лагерная смена коротка, и терять хотя бы один день не хотелось. Надо было куда-то идти, что-то предпринимать. — Подождите, — сказал Мухин и пошел к домику базы. Павлуша и Лина успели поговорить и о начертательной геометрии и о Лермонтове. Он ведь здесь бывал. — Пошли, — решительно сказал Юра, надевая рюкзак и подхватив Линин чемодан. — Куда? — Я знаю. — И, поняв, что ему теперь уже не так безоговорочно верят, сердито добавил: — К ученым. Вот куда… И на этот раз они чуть не опоздали. Машина горного лагеря ученых уже выезжала. В кузове вплотную сидели люди. — Стой! — отчаянно закричал Юра. Машина остановилась. — Вы чьи? — спросил худощавый парень в ковбойке и фетровой шляпе. — Ученые? — Конечно. Что за вопрос! — торопливо ответил Юра и поднял чемодан. Несколько рук помогли втащить его в кузов. — Как ученые? — удивился подбежавший Павлуша. — Мы же «буревестники»! Юра так зло посмотрел на Павлушу, что в кузове засмеялись. — Ах, буревестники! — разочарованно протянул худощавый. Он взглянул на Лину. Круглые черные глаза ее смотрели из-под большой белой шляпы умоляюще. — Девушку, — сказал он, — возьмем, а ребятам места нет… Садитесь, девушка. — Давайте чемодан, — рассердилась Лина, — без вас обойдемся… Подумаешь!.. — Ого! — сказал кто-то в кузове. — Вот так дивчина!.. А может, потеснимся? — Стыдно, ребята. Они наших подвозят. — Ладно, — сдался худощавый. — Садись, буревестники. Полетим.Дорога
Позади, в клубах пыли, остались тихие улицы городка. Машина вылетела в степь, и гряды холмов с каждым километром стали сближаться. Ветер беспощадно трепал волосы и одежду. Павлуша захлебывался теплым стремительным воздухом, несущимся навстречу. Быстро сменяющиеся впечатления последних дней почти полностью стерли в памяти Павлуши все то, что происходило когда-то давно, до отъезда. Город, институт, дом — все казалось чем-то далеким, давно прошедшим. У Павлуши сейчас было одно желание, которое иногда он испытывал и раньше: вот так, упрямо нагнув голову, идти, плыть, лететь вперед, наперекор ветру. Как-то неожиданно рядом оказалась река. Сильная, сверкающая на солнце, она неслась навстречу в глубоко прорезанном ею провале. Было видно, как на поворотах буйные воды с размаху бьют в нависающий скалистый берег, подмывая его. Придет время — громадные плиты известняка обрушатся в воду. Река их обгложет, обмоет, потом понемногу разрушит, превратит в гальку, унесет вниз и аккуратно отложит в светлые косы отмелей. Все вокруг куда-то стремится: поворачиваясь, остаются позади поля пшеницы; мимо пролетают спрятанные в зелени садов степные поселки; медленно и величаво наплывают, окружая машину, горы. Казалось, только что останавливались у нарзана, а вкус холодной, кипящей пузырьками газа воды уже забыт, и сама башенка из побеленных камней, заботливо укрывающая источник, осталась за поворотом. Машина влетает в ущелье, и песня, которой невпопад дирижирует Юра Мухин, должна бы зазвенеть, отражаясь в скалах, громче, но ее звуки сливаются с усилившимся ревом реки, и каждый слышит только себя. Скалы расступаются. Дорога снова бежит вдоль берега реки долиной. Но все уже изменилось. В долине тесно. Горы встают над головой. На крутых склонах чудом держатся громадные камни. Непонятно, почему они не скатываются на дорогу. Здесь, должно быть, опасное место. — На честном слове!.. — кричит Юра, наклоняясь к Лине, и весело сверкает глазами. — Зимой бывают завалы… — с трудом разобрал Павлуша слова худощавого. «Почему зимой? — думает Павлуша, но потом соображает: — Вместе со снегом». Красные скалы, как башни старинных замков, взлетают к небу. Скалы покрыты каким-то густым темно-зеленым мохом. Или кустарником?.. Да это лес! Павлуше стыдно: не сразу разглядел. Он не знает, что каждый, кто первый раз попадает в горы, ошибается. Вот, наконец, первые ручейки впадают в реку. Раньше их не было. Здесь, у дороги, они ворчат, торопятся, бурлят в камнях, а высоко над лесом видны на отвесных скалах белые прямые нити. Они только кажутся неподвижными. Вода там стремительно падает с уступа на уступ, разбивается в радужную пыль и звенит. «Значит, там, между зубьями скал, — понял Павлуша, — еще сохранился снег. Иначе откуда же ручьям взяться?»Худяков
У дороги на камне сидел человек с седой непокрытой головой. Его защитного цвета одежда сливалась с серо-зеленым склоном. Он не поднимал руки, не выходил на дорогу, загораживая путь, а машина остановилась. «Кто это?» — подумал Павлуша. Худощавый альпинист в фетровой шляпе, который не хотел брать Павлушу и Юрия, спрыгнул на обочину. Из кабины вышел шофер. Еще кто-то выскочил из машины. Человека окружили, и Павлуша услышал, как, здороваясь, его назвали Николаем Александровичем. Юра Мухин сразу же узнал и рассказал Павлуше и Лине, что это Худяков, научный сотрудник заповедника. Он всю жизнь прожил в горах, а во время войны был здесь партизаном. Вдвоем, еще с одним альпинистом-партизаном, они поймали Цвангера… — А кто такой Цвангер? — спросила Лина. — А я знаю? — честно сознался Юра. — Какой-нибудь гитлеровец. — Это и без тебя понятно, — сказал Павлуша. — Значит, фашисты здесь были? — удивилась Лина. Павлуша отозвался не сразу. — Значит, были… — Ему стало горько, как это уже бывало не раз, что во время войны он лишь учился в школе. Худяков забрался в кузов, придерживая перекинутые через плечо бинокль и фотоаппарат. Павлуша совсем близко увидел его темно-коричневое лицо, прорезанное морщинами, серые глаза и потеснился на скамейке, освобождая место. То же самое сделала Лина. Худощавый, приподнявшись со своего места на передней скамейке, сказал: — Пролезайте сюда, Николай Александрович. Но Худяков сел рядом с Павлушей, почти на борт. — Сидите, сидите, мне скоро сходить. Машина тронулась, и снова с каждым поворотом дороги все стало изменяться. Ближние склоны, поросшие лесом, заслоняли долину, и временами казалось, что дорога сейчас упрется в тупик. Вдалеке виднелись синие контуры еще более высоких и крутых гор да, замыкая долину, будто парили в воздухе чистые снега. Впереди на желтой голой скале, нависающей над дорогой, недвижно, как изваяние, стояло какое-то животное с гордо поднятой к солнцу головой и круто загнутыми рогами. — Ой, что это? — воскликнула Лина. — Тур, — спокойно ответил Худяков. — Там за камнем соленый источник. Пришел попить соленой водички. Скала стояла, как палец, поднятый кверху. Совершенно непонятно было, зачем забрался туда тур. — И как он туда залез? — нагнулся к Павлуше Юра Мухин, торопливо открывая крышку фотоаппарата. — Сейчас. Каков будет снимочек! А? — У них такой характер, — продолжал Николай Александрович. — Обязательно наверх заберутся. Видел однажды под вечер — идут: сперва на осыпь, потом на снег, со снега на ледник, все выше и выше… Солнце садится, а они поднимаются. С ледника — на гребень, а там не всякий альпинист пройдет, и — на вершину. Стоят, смотрят. Сперва не понял, потом сообразил. Это они солнце провожают. Внизу, в долине, уже ночь наступает, а они наверху с днем прощаются… Лина повернулась к Николаю Александровичу и что-то порывалась спросить. Но в это время показались белые здания Курорта. Вдоль дороги выстроились высокие тенистые чинары с серыми стволами и широкими листьями. — Постучите, пожалуйста, — сказал Худяков. — Я сойду… Машина затормозила около дорожки, уходящей в парк. — А кто такой Цвангер? — вдруг, покраснев, торопливо спросила Лина. — Лет двадцать тому назад, — ответил Николай Александрович, перенося ногу за борт, — был гостем. Потом снова пожаловал: оказалось, — фашист… До свидания, товарищи! Спасибо. Я еще у вас в лагере побываю… Расскажу… Павлуша отметил про себя удивительную легкость его походки. Такая походка бывает у людей, которые много ходят. У всех горцев.Поляна Зубров
У слияния реки Бешеной с Голубым ручьем горы расступились и образовали широкую поляну. Слава о ней разнеслась далеко за пределы гор. Когда-то давно на этой поляне действительно жили зубры. Если привыкнуть к неумолчному реву воды, — здесь тихо. Разбросанные среди высокой сочной травы цветут дикие груши и яблони. На черемухах не видно листьев, — белая душистая пена склоняется над буйной рекой. Водяная пыль оседает в цветах и сверкает миллионами маленьких солнц. Из ущелий, с зеленовато-белых ледников и от реки тянет прохладой. Горячее солнце стоит над головой. Воздух, напоенный запахами цветов и пихтового леса, такой ласкающий и привольный, что кажется, приведи сюда самого отъявленного меланхолика, — вылечится. На поляне весна, а внизу, в степи, уже пожелтела трава. Зной. Лето. Ученые приехали. Палатки их лагеря видны за рекой. На развилке расстались. Худощавый помог Лине вытащить из-под скамейки ее чемодан. — Как же вы, девушка, с чемоданом? Тут, правда, недалеко, километров шесть, но в гору. Ребята, — скомандовал он Павлуше и Юре, — вы поможете… — Шесть километров — не расстояние, — пренебрежительно тряхнул курчавой головой Юра. — А как идти? — крикнул Павлуша вслед машине. Сразу несколько человек показали руками вверх. — По дороге-е!.. По тропинке!.. — Так как же все-таки? По дороге или по тропинке? Ты как думаешь, Юра? — спросил Павлуша. — По дороге вернее… — Но по тропинке, наверное, короче. — Лина подняла чемодан. — Пошли? А где эта тропинка? Было жарко, как бывает после полудня, когда земля, деревья — все нагрето солнцем. Дотронешься до камня на солнцепеке — горячий!.. Не найдя вблизи тропинки, они двинулись по дороге и вскоре встретили человека в ковбойке и коротких альпинистских штанах. Он остановился, пропуская их. По лицу его было видно, что он понял: перед ним новички. Лина прошла с чемоданом немного, но уже несколько раз ставила его на землю и бралась другой рукой. Очень это неудобно — ходить с чемоданом. Она обрадовалась остановке. — Вы бы хоть помогли девушке, — сказал человек в ковбойке Павлуше и Юре. — В «Буревестник»? — В «Буревестник», — ответил Юра. — А что? — Дорога здесь идет серпантином. — Человек в ковбойке показал рукой, что такое серпантин, и, увидев, что его не поняли, добавил: — Ну, зигзагами. Идите прямо по тропинке — вот она здесь начинается. Так короче, А потом выйдете на дорогу. Юра свернул на тропинку, еле видную в густой траве. Лина, проходя мимо, сказала: — Спасибо. — Пожалуйста, пожалуйста, — улыбнулся человек в ковбойке. — Смотрите не запутайтесь. — А вот! — Павлуша показал компас. Человек в ковбойке сказал им вслед что-то вроде того, что в горах напрямую по компасу не ходят, но Павлуша не расслышал. «Запутаться здесь смешно, — подумал он, — иди вдоль реки — и все». Они поднялись на пригорок и вступили в лес. Отсюда сквозь деревья еще виднелся лагерь ученых; дальше открылось ущелье Голубого ручья. Было видно, как там падала с камней и кипела вода. Поляна Зубров расстилалась под ногами.Шесть километров — не расстояние
— Вступили в лес, — многозначительно сказал Юра, останавливаясь. — Закусим? — Выйдем на дорогу, — предложил Павлуша. Лина его поддержала. Дорога была рядом за кустами. Она оказалась грязной. Из глубокой колеи, наполненной водой, выглядывали камни, какие-то измочаленные палки, замызганный пихтовый лапник. — Никогда не думал, что в горах имеются болота, — удивился Павлуша. — Здесь и присесть негде. Юра перепрыгнул на другую сторону. — Ребята! — закричал он оттуда. — Тропа идет дальше. Сухая! Юра был человеком, увлекающимся собственными идеями, которые сменялись в его голове довольно часто. Только что он говорил, что по дороге идти вернее. А сейчас, после того как все поели, устроившись на камнях, он горячо отстаивал необходимость плюнуть на «такую дорогу» и идти дальше по тропе. Павлуша посмотрел на компас и согласился. Лагерь был на западе, а дорога шла на юго-запад и даже как будто спускалась вниз вместо того, чтобы подниматься. Тропа же почти точно имела направление на запад. Никто из них не подозревал, что в этом месте дорога отклонялась в обход скал снизу, а тропа, хотя и имела верное направление, поднимаясь над скалами, потом сворачивала и уходила вверх, к травянистым склонам. Юра с трудом привязал чемодан к своему рюкзаку и, навьючив все это сооружение на спину, крякнул и двинулся вперед. — Напрасно тропы не протаптывают. Она еще выведет нас на дорогу. Вперед, Лина! — сказал он из-под чемодана. — Кто выведет? — спросила Лина. — Я? Никто не успел ей ответить. Лина бросилась к какому-то кустику с узкими листьями и большими желтыми цветами, похожими на садовые лилии. — Это что за цветы? Как пахнут! — Не знаю, — сознался Павлуша. — И я не знаю. Лина сорвала несколько веток с цветами и с наслаждением вдыхала их пряный, резкий аромат. А потом приколола к своей белой шляпе. Лес стал глуше. Обомшелые пихты стояли тесно, закрывая солнце. На земле росла редкая бледная трава — ей не хватало света. Корни деревьев, как щупальца, протягивались по склону под слоем опавшей хвои, но там, где проходила тропа, они обнажались, и надо было все время смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Тропа, обогнув громадный камень, вдруг резко пошла на подъем. — Где же эта чертова дорога? — бурчал Юра, осторожно переступая камни. Взглянуть наверх он не мог. Чемодан не позволял поднять голову. Кровь стучала в висках… Стало так круто, что можно было свободно упираться в склон рукой. «Не туда мы идем», — тревожно думал Павлуша, но впереди виднелся просвет; казалось, что именно там проходит дорога, и он успокаивался. Подходили, и оказывалось, что это просто уступ, за которым снова следовал крутой подъем. Лес изменился. Пихты остались внизу. Вокруг тесно росли молодые буки. Их серые стволы были как-то странно одинаково изогнуты и напоминали громадные рыболовные крючки, воткнутые в землю. «Почему они так растут?» — подумал Павлуша. — Смотрите, березка! — хрипло закричала Лина. Березке обрадовались, как старой знакомой. Ее свежие клейкие листочки, по-видимому, только что распустились. Дальше пошел низкорослый, перекрученный березняк, на котором еще и почки не все раскрылись. Лес кончился. Тропа вывела на заболоченную поляну с низкой мокрой травой и исчезла. Впереди виднелись темно-серые скалы, закрывшие горизонт. — Так и есть, — мрачно сказал Юра, осторожно опускаясь на камень. — Черт знает куда забрались. — Он достал платок, вытер разгоряченное лицо да так и застыл с платком, поднесенным ко лбу. Напротив, через ущелье, вставал перед ними главный хребет. Вот они, снежные горы!.. Павлуша и Юра молча стояли, пораженные суровым и величественным нагромождением снега и острых скалистых вершин, свободно и гордо взлетавших в небо. Лина безучастно сидела на камне, опустив голову. — Что с тобой, Лина? — тревожно спросил Павлуша. — Знаешь, Павлуша, очень болит голова и тошнит. У меня, наверное, горная болезнь, — смущенно произнесла Лина. Цветы, прикрепленные к ее шляпе, поникли так же, как сама девушка, но по-прежнему испускали резкий, дурманящий аромат. — Странно, — сказал Мухин. — Какая здесь высота? Не должно быть горняшки. А ты полежи. Лина сняла шляпу и легла. Прохладный ветер обвевал ее горячее лицо. Стало как будто легче. Юноши вдвоем обсуждали сложившееся положение. Было совершенно ясно, что они сбились с правильного пути еще там, где переходили дорогу. Павлуша не напоминал о том, что они сюда забрались по настоянию Мухина. К чему? Не все ли теперь равно? — Так что, назад? — спросил Юра. Павлуша помолчал. — Видишь, — сказал он, показывая рукой, в которой был компас, — долина кончается. Ледник видишь, границу леса?.. — Ну? — Лагерь там. Близко, правда? — Близко, — согласился Юра. — Теперь смотри, — продолжал Павел. — Если пройти здесь по склону и там, у серого камня, спуститься в лес, мы попадем прямо в лагерь. Высоты не потеряем. Ведь если мы спустимся, то это не только дальше. Еще и по дороге снова подниматься придется. Юра недоверчиво покачал головой. — Так-то оно так. Только еще куда-нибудь заберемся и не вылезти будет. — Он помолчал и зло добавил: — С этим проклятым чемоданом. — Ну, спускайся, — холодно сказал Павлуша. — Как спускаться? — удивился Юра. — Одному? — Как хочешь. — Я тебе скажу, это черт знает что такое. — Глаза Мухина зажглись гневом. — А кто нас сюда тянул? — не удержался Павлуша. — Кто? — Так я ошибся и сознаюсь. Павлуша вдруг понял, что наговорил лишнее, но расставаться со своей идеей ему не хотелось. Он уже два раза водил туристов. Да, не в горах, но ведь сейчас путь совершенно ясный. Просто Мухин боится. Павлуша где-то читал, что в критических положениях начальник должен быть твердым и не отступать от принятого решения. Правда, его начальником еще никто не избрал. Но ведь Мухин уже осрамился? — Пойдем спросим Лину. Как она? — сдерживая себя, предложил Мухин. Павлуша сказал Лине, стараясь быть объективным: — Лина, мы заблудились. — Девушка села. — Надо или идти обратно, терять высоту и время… — Не нажимай, — перебил его Юра. — … или пройти склоном. Это ближе. Ты как, сможешь здесь идти? Вопрос был рассчитан на самолюбие. — Могу, — сказала Лина. В самом деле, что она, уж такая слабая, что ли? Просто голова болит. — Один — ноль в твою пользу, — сказал Юра и пошел к своему рюкзаку. — Чемодан-то ты мне отдай, — потребовал Павлуша. — Не дам. — Нет, отдай! Павлуша теперь шел впереди. Они обогнули скалы, на которых красной и черной краской были нарисованы какие-то стрелы. «Странные знаки», — подумал Павлуша. Юра, видимо, тоже заметил их и сказал: — Это, наверное, здесь скальные занятия проводят. Вот куда мы попали. Павлуша улыбнулся. То, что Юра с ним заговорил, можно было считать примирением. Сперва шли хорошо. Идти вдоль склона — это не то что лезть наверх. Но вскоре начали уставать ноги в голеностопных суставах. Почему-то трудно было выдерживать направление, тянуло или вверх или вниз. Надо было огибать травянистые выступы — контрфорсы; обходить глубокие выемки, спускаться в промытые водой расщелины и вылезать оттуда. Это только издали все казалось ровным. Над хребтом появились облака и заклубились в вершинах. Сверху потянул холодный ветер. Павлуше стало тревожно, и он, будто невзначай, стал спускаться ближе к границе леса. Теперь только он понял, какая ответственность лежит на нем. Надо скорее выбираться на тропу, на дорогу, в жилые места, к людям. Он прибавил шагу, насколько это позволял громоздкий чемодан, неустойчиво пристроенный над рюкзаком. Лина шла стиснув зубы. «Только бы не отстать! Только бы не отстать!» — думала она. Почему-то запах цветов, свешивавшихся со шляпы, раздражал ее. На ходу она протянула руку и, не глядя, сорвала и выбросила их. Только один цветок, прикрепленный булавкой, остался. Лина этого не заметила. Павлуша попытался спуститься в лес, но там, где кончался травянистый склон к лесу, обрывались скалы. Верхушки буков торчали под ногами. Нечего было и думать здесь спускаться. Надо было идти дальше. Солнце скрылось. По чемодану застучали первые капли дождя. Горы, да и все вокруг изменилось и выглядело теперь неприветливым, суровым, даже злобным. Облака зловеще крутились почти над головой, спускаясь все ниже и ниже. Оттуда, где раньше виднелся ледник, с запада, прямо на путников неслась пепельно-серая лохматая стена тумана… Дождь пошел вовсю. Как ни старался Павлуша идти быстрее, пришлось убавить шаг. Уже по нескольку раз они падали, начиная скользить вниз. Цепляясь за мокрую траву, за подвернувшиеся выступы, останавливались и с трудом поднимались. Павлуша больно ударился о камень и шел теперь прихрамывая. Чемодан пришлось отвязать и нести в руке. Это было очень трудно и неудобно. Надо было найти место поровнее — отдохнуть. Но впереди ничего не было видно. Около часу они шли молча и упрямо, почти не выбирая пути. Дождь налетал шквалами. То моросит, то вдруг будто просыплются откуда-то крупные холодные капли и сразу потекут за шиворот по горячему телу. Брр!.. Темнело… И наконец нашлось ровное место. Но какое! Просто болото. В разных направлениях сквозь высокую сочную траву здесь текли невидимые ручьи. Нога проваливалась в жидкое месиво по щиколотку. На сравнительно сухом небольшом пригорке остановились. Павел молча развернул плащ, и, укрывшись им, они сели на чемодан, прижавшись друг к другу. Юра порылся в рюкзаке и вытащил размокшую булку с сыром. — Нате, — сказал он, — надо есть. А то совсем издохнешь. — А вы знаете, — обрадованно заговорила Лина, — у меня голова не болит! — Это, конечно, хорошо, — философски заметил Юра, проглотив, почти не жуя, огромный кусок, — но вот, если пойдет вместо дождя снег, тогда держись… Лина, стукни меня скорее по спине. Застряло… Под плащом было даже уютно, пока сохранялось тепло в разогретых ходьбой телах. Но скоро стало холодно; все, как по команде, стали дрожать мелкой дрожью. И все же усталость была сильнее холода. Куда идти? Здесь хоть сидеть можно. Павлуша понимал, что в положении, в котором они находились, виноват он. Но ничего придумать не мог. Придется ночевать. — Что ж, — сказал он, стараясь придать бодрость своему голосу. — Пересидим. Бывает хуже… С альпинистами. — Редко, — заметил Юра. — Что редко? — Редко, говорю, бывает хуже. Вот что. Какие мы альпинисты? — А я не согласна, — вдруг резко сказала Лина. Она встала, откинула плащ. — Чего мы сидим? Пошли. — Куда, Лина? — безнадежно махнул рукой Юра. — Как куда? В лес. Костер разведем. — И Лина решительно спустилась с пригорка. — Зачем издыхать?.. — Стой! — закричал Павлуша. — Разобьешься! Они оба вскочили и бросились за Линой. Было совсем темно. Где-то журчал ручей. Черный громадный камень торчал в нескольких шагах. Лина исчезла. — Ребята! — вдруг послышался ее звонкий радостный голос. — Тропа!.. В самом деле, тропа проходила совсем рядом. За камнем. По лесу спускались в полной темноте. Тропа была крутая. Дождь превратил ее в русло ручья. Грязные потоки бежали по ней. Разве можно было сосчитать, сколько раз проехался каждый на спине, цепляясь за кустики, чтобы остановиться? Разве можно было предвидеть, во что превратится одежда, рюкзаки, чемодан? Но какое это имело значение, если внизу сквозь деревья уже светились огни лагеря и слышался приближающийся шум реки! Какая это радость — ночью, мокрому, измученному и голодному, приближаться к жилому месту, к теплу, к людям!* * *
Мало сказать, что дежурный по лагерю инструктор Саша Веселов был удивлен. — Откуда? Что с вами? Кто вы? — Новички, — смущенно ответил Павлуша, доставая из заляпанного грязью кармана размокшую альпинистскую путевку. — Как же вы попали? Где шли? — Мы, — смущенно сказал Юра, — через горы. Думали, — короче. — Я вижу, что короче, — рассмеялся дежурный. Он посмотрел на Лину и спросил: — У вас голова болит, девушка? — А как вы узнали? Веселов шагнул к ней, оторвал от обвисшей, мокрой, некогда красивой шляпы оставшийся там желтый цветок и выкинул его в окно. — Это же азалия. Она ядовитая…* * *
Когда они шлепали к душевому павильону, Лина взяла Павлушу и Юру за рукава мокрых и грязных рубашек. — Будем проситься в одно отделение? — Обязательно, — сказал Юра. — Конечно, — подтвердил Павлуша и добавил: — Я просто не верю, что мы уже в лагере.
ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ
 С трех сторон лагерь обступают горы, и поляна, на которой он расположен, имеет в ширину немногим более пятидесяти метров. Дощатые домики инструкторского состава стоят над самой рекой, и надо иметь укоренившуюся привычку, чтобы так безмятежно спать под неумолчный рев беснующейся воды, как это удается инструкторам. Дорога, по которой в хорошую погоду сравнительно легко ходят машины, в лагере кончается. Через лес, к альпийским лугам, или, как их называют альпинисты, к травянистым склонам, ведут зигзагами крутые тропы. Там они как-то вдруг исчезают, и дальше путь надо выбирать самому. Но сегодня второй день смены, и только разрядники да значкисты поднимаются на скальные занятия выше зоны альпийских лугов.
Новички, а их много, на панорамном пункте. Это уже сложившаяся традиция: тех, кто впервые попадает в лагерь, знакомят с районом будущих восхождений с места, откуда главный хребет виден во всем своем величии.
Черно-белая стена — снег, скалы, снег — взлетает к небу. Ветер несет легкие облачка. Они скользят в вершинных скалах, на мгновенье их закрывая, и тогда тени ложатся на снежные поля.
И всегда кажется, что не облака плывут, цепляясь за вершины, а сами горы пробивают себе дорогу в небе и куда-то стремятся сурово и настойчиво, вперед и вперед…
Новичкам трудно поверить, что там, куда они сейчас смотрят, может пройти человек. Чего скрывать! Страшно даже представить, что ты карабкаешься по мрачным, кажущимся отвесными, скалам или пробираешься среди лабиринта трещин разорванного ледника. Ведь глубина этих трещин исчисляется десятками метров. Только упади…
А вот и та зачетная вершина, на которую они должны подняться к концу своей смены. Она считается легкой, хотя с нее тоже спадает изрезанный трещинами ледник. Снежный, сверкающий на солнце гребень ведет от перевала к скалам вершины.
— Дальше к западу, — говорит командир отряда, старший инструктор Прохоров, показывая ледорубом, — самые сложные для восхождения вершины района: Зубр и Аман-Кая.
Зубр в серо-синих тучах, и вершины его не видно. Черный скальный массив горы нависает над ущельем километровой отвесной стеной, действительно напоминающей сильную крутую грудь зубра. Снега на Зубре почти нет. Он скатывается — скалы слишком отвесны.
— Один из маршрутов восхождений идет по этой стене, — продолжает Прохоров, — и требует от штурмующих высокой техники, предельного мужества и сплоченности. Впрочем, — инструктор оборачивается и смотрит на новичков, — этими качествами должны обладать все альпинисты. Слабым духом, плохим товарищам и героям-одиночкам горы не сдаются.
Между Зубром и Аман-Каей, как в чаше, лежит ледник. Необычайно круто падают к нему с гребня Аман-Каи снежные поля. Они разграфлены сверху донизу какими-то странными правильными линиями. Это следы лавин. Они сходят с Аман-Каи постоянно. Гребень острый и зазубренный, как пила. Но другого пути к Аман-Кае нет.
— Недаром ее так и назвали, — говорит Прохоров, — Аман-Кая — Плохая гора…
С панорамного пункта виден не только главный хребет, но и лагерь. Он далеко внизу, в расступившейся зелени темных пихт. На белой дороге среди деревьев мелькает, приближаясь к лагерю, легковая машина.
— Смотрите, машина!
— Начальство приехало…
— Просто лагерь посмотреть. Гости…
— Мухин, это вы здесь мокли под дождем?
— Ну, здесь.
— И с чемоданом?
— Отстань.
— Товарищ старший инструктор, можно за рододендроном слазать? Девушки просят.
— Нет, нельзя.
— Ладно, здесь и так цветов хватает. Сейчас…
— Лина, ты вся обгорела. Надень штормовку.
— Хорошо, Павлуша. А где она?
— А что легче: спускаться или подниматься?
— И то и другое не сладко.
— Вот чудак! Что же ты поехал в лагерь?
— А я не люблю сладкого…
— Во-он, видите, разрядники спускаются? По осыпи на снежник вышли…
Юра Мухин, размахивая цветами, фальшиво запел:
С трех сторон лагерь обступают горы, и поляна, на которой он расположен, имеет в ширину немногим более пятидесяти метров. Дощатые домики инструкторского состава стоят над самой рекой, и надо иметь укоренившуюся привычку, чтобы так безмятежно спать под неумолчный рев беснующейся воды, как это удается инструкторам. Дорога, по которой в хорошую погоду сравнительно легко ходят машины, в лагере кончается. Через лес, к альпийским лугам, или, как их называют альпинисты, к травянистым склонам, ведут зигзагами крутые тропы. Там они как-то вдруг исчезают, и дальше путь надо выбирать самому. Но сегодня второй день смены, и только разрядники да значкисты поднимаются на скальные занятия выше зоны альпийских лугов.
Новички, а их много, на панорамном пункте. Это уже сложившаяся традиция: тех, кто впервые попадает в лагерь, знакомят с районом будущих восхождений с места, откуда главный хребет виден во всем своем величии.
Черно-белая стена — снег, скалы, снег — взлетает к небу. Ветер несет легкие облачка. Они скользят в вершинных скалах, на мгновенье их закрывая, и тогда тени ложатся на снежные поля.
И всегда кажется, что не облака плывут, цепляясь за вершины, а сами горы пробивают себе дорогу в небе и куда-то стремятся сурово и настойчиво, вперед и вперед…
Новичкам трудно поверить, что там, куда они сейчас смотрят, может пройти человек. Чего скрывать! Страшно даже представить, что ты карабкаешься по мрачным, кажущимся отвесными, скалам или пробираешься среди лабиринта трещин разорванного ледника. Ведь глубина этих трещин исчисляется десятками метров. Только упади…
А вот и та зачетная вершина, на которую они должны подняться к концу своей смены. Она считается легкой, хотя с нее тоже спадает изрезанный трещинами ледник. Снежный, сверкающий на солнце гребень ведет от перевала к скалам вершины.
— Дальше к западу, — говорит командир отряда, старший инструктор Прохоров, показывая ледорубом, — самые сложные для восхождения вершины района: Зубр и Аман-Кая.
Зубр в серо-синих тучах, и вершины его не видно. Черный скальный массив горы нависает над ущельем километровой отвесной стеной, действительно напоминающей сильную крутую грудь зубра. Снега на Зубре почти нет. Он скатывается — скалы слишком отвесны.
— Один из маршрутов восхождений идет по этой стене, — продолжает Прохоров, — и требует от штурмующих высокой техники, предельного мужества и сплоченности. Впрочем, — инструктор оборачивается и смотрит на новичков, — этими качествами должны обладать все альпинисты. Слабым духом, плохим товарищам и героям-одиночкам горы не сдаются.
Между Зубром и Аман-Каей, как в чаше, лежит ледник. Необычайно круто падают к нему с гребня Аман-Каи снежные поля. Они разграфлены сверху донизу какими-то странными правильными линиями. Это следы лавин. Они сходят с Аман-Каи постоянно. Гребень острый и зазубренный, как пила. Но другого пути к Аман-Кае нет.
— Недаром ее так и назвали, — говорит Прохоров, — Аман-Кая — Плохая гора…
С панорамного пункта виден не только главный хребет, но и лагерь. Он далеко внизу, в расступившейся зелени темных пихт. На белой дороге среди деревьев мелькает, приближаясь к лагерю, легковая машина.
— Смотрите, машина!
— Начальство приехало…
— Просто лагерь посмотреть. Гости…
— Мухин, это вы здесь мокли под дождем?
— Ну, здесь.
— И с чемоданом?
— Отстань.
— Товарищ старший инструктор, можно за рододендроном слазать? Девушки просят.
— Нет, нельзя.
— Ладно, здесь и так цветов хватает. Сейчас…
— Лина, ты вся обгорела. Надень штормовку.
— Хорошо, Павлуша. А где она?
— А что легче: спускаться или подниматься?
— И то и другое не сладко.
— Вот чудак! Что же ты поехал в лагерь?
— А я не люблю сладкого…
— Во-он, видите, разрядники спускаются? По осыпи на снежник вышли…
Юра Мухин, размахивая цветами, фальшиво запел:
Кто бывал в экспедиции,
Тот поет этот гимн.
И его по традиции…
Мы считаем сво-им…
Потому что мы народ горячий,
Потому что нам нельзя иначе,
Потому что нам нельзя без песен,
Чтобы в сердце не закралась плесень…
* * *
Из «победы» вылез статный парень и вытянул за собой рюкзак. — Благодарю вас, Арсений Петрович. Всего хорошего, Клавдия Ивановна! До свидания, Зоя! — Как здесь хорошо!.. Я бы осталась. Это можно? Юноша замялся. — Знаю, знаю, что нельзя. Но вы говорили, что в будущем году мне поможете. Да?.. Обязательно. Пишите мне, Игорь: Курорт, до востребования. Правда, мама? Я буду все время помнить… об этих горах… Дежурный по лагерю все видел. Он приготовился встретить по меньшей мере инспектора, а теперь, разочаровавшись, сурово посмотрел на вновь прибывшего. Он не любил тех, кто опаздывает; ему не нравились одиночки. Все приехали как люди, вместе, дружно, а этот как-то по-особенному. — Ваша путевка? — официально сказал он, когда парень, улыбаясь, подошел к нему и поздоровался. — Что же вы опаздываете, товарищ Ту́рчин? Смена началась. Новичок? — Турчи́н, — поправил Игорь и, продолжая улыбаться, молча протянул классификационный билет. — Значит, разрядник. — Дежурный соображал, куда его определить. В палатках разрядников все места были заняты. Как часто бывает с хорошими людьми, он уже раскаивался в том, что так сухо встретил этого Турчина. Еще раз оглядев его рослую стройную фигуру и встретив открытый веселый взгляд, дежурный подумал: «А ведь, наверное, хороший парень. Что я на него накинулся? Может быть, и ходить вместе придется». — Машина-то собственная? — неожиданно спросил он Турчина. — Нет, — еще веселее улыбнулся Игорь. — Подвезли. Какой-то профессор с женой и дочкой… Курортники. В этих словах сквозило пренебрежение к курортникам. Но уловить его было трудно. — Хорошо, — переходя на «ты», сказал дежурный, — сдай путевку и паспорт в бухгалтерию. Получай белье и снаряжение. Жить будешь со мной. Вон в том дворце. Не закрыто. — А зовут? — спросил Игорь. — Меня? — Да… — Веселов, Александр. Ну, мне в столовую… — Подбери мне местечко за столом, Саша. — Ладно, подберу. Пока устраивайся. Саша посмотрел вслед Турчину. «Ну что ж, хороший парень», — еще раз подумал он. Такое же впечатление Игорь произвел на бухгалтера, на кладовщицу, выдававшую ему постельные принадлежности, и даже на Матвея Ивановича, у которого все безрезультатно выпрашивали снаряжение, полагающееся инструкторам. Игорь сумел получить все то, что Матвей Иванович выдавал по списку номер один. Новички возвращались с занятий загоревшие, усталые и уже как-то возмужавшие. В лесу их догнали разрядники. К удивлению новичков, они спускались по травянистым склонам бегом, держа ледорубы наизготовку. Оказывается, так меньше устают колени. Теперь все стояли в строю на линейке голодные, как волки. Сейчас командиры отрядов доложат о проведенных занятиях. Потом мыться — и обедать. В столовой ветер шевелил полотняные занавеси и было пока тихо…* * *
— Товарищи! — громко сказал Саша, входя в столовую. — Объявление! Но где там, такой шум стоял в столовой!.. — Внимание! — Саша поднял руку с повязкой. — Товарищи! Передние столы притихли, но в глубине по-прежнему гудели голоса. Саша побагровел: — Тихо, черти! — вдруг зло гаркнул он, и сразу все стихло. Даже подавальщицы застыли с подносами в руках. Кто-то засмеялся… — Объявление! — смущенно повторил Саша. — В восемнадцать ноль-ноль на волейбольной площадке тренировочные игры. Комплектование сборной команды лагеря. В клубе — отборочные игры по настольному теннису. Пловцы собираются у бассейна. Всё… Столовая снова загудела. Кто-то что-то ему кричал, но расслышать было невозможно. Он махнул рукой и стал пробиваться к своему столу, где уже сидел Игорь. — А ты в волейбол играешь? — спросил его Турчин. — Какой из меня игрок! — мрачно ответил Саша, придвигая тарелку с супом. — Ростом не вышел. Суп сначала показался невкусным. Саша злился на себя. «Не мог сдержаться, — думал он. — Инструктор… Воспитатель». Девушка за соседним столом лукаво посмотрела на Сашу. Игорь перехватил ее взгляд и понимающе улыбнулся. — Это что за девушка? — спросил он, не поднимая головы от тарелки. — Где? — Рядом. — А-а… Нина Ткаченко. Разрядница. — А как зовут нашу подавальщицу? — Катя. — Катя, — мягко остановил ее Игорь. — Я голоден. Вы принесете мне еще одно второе?.. Совершенно запарившаяся Катя посмотрела на него невидящими глазами и хотела было пройти мимо, но потом передумала: «Какие у него большие руки! Ему много надо…» — Хорошо, принесу. Нина сказала: — Завидный аппетит у этого юноши. Коля Петров, ее сосед по столу, вздохнул и назидательно заметил: — На отсутствие такового здесь никто не жалуется. Как и предполагал Саша, у выхода из столовой его остановил замполит лагеря. — А без чертей можно было, дежурный? — Николай Иванович, но… — Саша поглядел в глаза замполиту. — Наверное, можно, — твердо ответил он. — Вот видишь… — Николай Иванович, — спросил Саша. — А вы никогда этих чертей не употребляли? — Нет, почему же. Употреблял. Но отказался. — Ну и я откажусь. — Откажись.* * *
Двух-трех ударов по мячу достаточно, чтобы понять, каков игрок. Турчин играл сильно. — Становитесь к нам, Нина, — весело сказал он, небрежно отбивая низкий мяч тыльной стороной руки. — Мы этим значкистам сейчас намажем. «Откуда он знает, как меня зовут?» — подумала Нина. Выиграть у значкистов оказалось не просто. Их команда была ровная и очень дружная, а у разрядников выделялся Игорь. Сначала он легко пробивал сильными ударами с обеих рук защиту значкистов, но потом они стали вытаскивать безнадежные мячи, точно блокировать Игоря, и разрядники проиграли подряд несколько очков. Все-таки, когда Турчин выходил на линию нападения, игра становилась напряженнее. Нина подкидывала мяч над сеткой, и в тот же миг Игорь взвивался в воздух. На стороне значкистов вырастал лес рук. Но Игорю удавалось бить поверх блока. — Ии-хек… — вырывался у него какой-то странный звук, похожий на кряканье дровосека, разрубающего полено. Мяч молнией летел на площадку противника, и там уже валились значкисты, пытаясь, падая, принять удар. — Очко, — бесстрастно отсчитывал судья. — Браво, разрядники!.. Значкистов на мыло! — кричали зрители. Но вот Игорю не удается пробить защиту, и мяч мягко опускается на сторону разрядников. — Браво, значкисты! Турчина́ на мыло!.. — Это вы добыли нампобеду, — галантно говорит Игорь Нине. — Почему же я? Вся команда. Игорь ждет, что Нина скажет о нем. Но она не торопится. Ей нравится коллективная игра. Он, конечно, играет хорошо… — Вы бы поучили других, — уже мягче говорит она. — Обязательно, — соглашается Игорь. Только что зашло солнце, и снег на вершинах еще светится в его лучах, и в лагере уже очень холодно. Это к хорошей погоде. Заработал движок. Засветились огни в клубе, столовой, бухгалтерии. Блестит вода в бассейне. Горы постепенно сливаются с темнеющим небом. В методкабинете полно новичков. Они учатся вязать узлы, рассматривают плакаты, на которых все ясно: как двигаться на кошках по льду, как рубить ступени и страховать товарища, лезть по отвесным скалам и переправляться через горные реки. На плакатах-то просто… Замполит, старый альпинист, объясняет, показывает, иногда что-нибудь расскажет о сложных восхождениях. Вокруг него мало-помалу собираются все.* * *
«Дворец» номер три невелик. Две койки, две тумбочки и стул. Цветы в банке из-под консервов стоят на узеньком подоконнике. Внизу ревет и грохочет река, и временами кажется, что домик дрожит от этого грохота. В открытое окно залетает водяная пыль. Но Саше Веселову это не мешает. Завтра он проводит со своим отделением скальные занятия и сейчас составляет конспект, Игоря нет. Над его койкой висят два рюкзака: один — лагерный, еще крепкий, но потрепанный, и свой — новый, удобный, сшитый, должно быть, по заказу. «Вот чудак! — думает Саша. — Зачем ему два рюкзака? Мог бы со своим ходить». Закончив составление конспекта, он уходит в палатку к ребятам — проверить, как у них подготовлено снаряжение. Когда он возвращается, Игорь сидит на койке и разбирает свой рюкзак. Книги, конверты — в тумбочку. Свитер, теплую куртку — на стенку. Потом он вынимает блестящий, очень ловко сделанный маленький примус и показывает его Саше. — Видал? Какого альпиниста не заинтересует новый образец снаряжения? Саша внимательно рассматривает примус. Ножки у него складываются. Горелка не торчит, как у обычных примусов, а вделана внутрь. Весь этот прибор в сложенном виде можно положить в карман. — Хорош! — Дядька из Германии привез. — Почему это у нас не могут? — задумчиво говорит Саша. — Машины всякие сложные делаем. Даже за границу отправляем. А этой чепухи — нет. Трикони[1] к ботинкам захочешь купить — наплачешься. Ледоруба — не достанешь. Я, знаешь, который год хочу после лагеря собрать группу, поискать новый перевал там, западнее, — Саша махнул рукой в сторону запада, — и выйти к морю. Не могу. Надо снаряжение. Хотя бы ботинки и ледорубы. А где их взять? Все лагерное. На, возьми, — сказал он, протягивая Игорю примус. — Скоро отбой. Пойду дежурство сдавать.* * *
Есть такое понятие — «схоженность». Оно означает, что группа альпинистов, подготавливая себя к штурму сложных вершин, делает одно, а иногда два восхождения легких, тренировочных. В таких восхождениях альпинисты как бы проверяют друг друга, привыкают к своим товарищам по связке, сплачиваются. Лагерное начальство и маршрутная комиссия соглашаются: «Группа имеет схоженность». Тогда можно разрабатывать трудные маршруты. И вот, в таком тренировочном, и по существу легком, восхождении Нина чувствовала себя неважно. Ведь она была не новичок в горах, имела на своем счету куда более сложные и трудные вершины, но сегодня шла тяжело. Может быть, вчера перегрелась на солнце? В горах оно особенно коварно. Во всяком случае, группа шла в хорошем темпе, и он был Нине не под силу. Кроме того, начальник спасательной службы — начспас — заставил взять с собой палатки и на два дня продуктов. — Иначе не выпущу, — неумолимо сказал он. — Вы в горах, а не на даче. Погода изменится, и тогда другое запоете. Группа собиралась вернуться к обеду, поэтому палатки и продукты казались ненужным грузом. И хотя каждый понимал, что начспас прав, все-таки на него злились. — Идем, как ишаки! — бурчал Коля Петров. — Сбегали бы налегке. — Ну беги. Что ж ты не бежишь? — язвительно сказал начальник группы. — Так я же иносказательно говорю, — обиделся Коля. Пока шли лесом, солнце поднялось уже высоко и теперь на травянистых склонах жгло немилосердно. Нина думала только об одном: как бы выдержать темп; что, в самом деле, она новичок, что ли? Идти по травянистому склону вверх, пожалуй, тяжелее всего. Нога не имеет твердой опоры. Трава пружинит. Быстро устает голеностопный сустав. И жара… Сердце у Нины бешено колотилось. Она видела перед собой тяжелые, окованные ботинки Коли Петрова, методически переступающие все выше и выше, да то место на склоне, на которое она сама сейчас поставит ногу. Перекинутая через плечо веревка — часть общественного груза — больно давила на ключицу и натирала шею, но, чтобы поправить ее, надо остановиться, а остановиться — значит отстать, сбиться с темпа, задержать всю группу. Нет! Должен же быть отдых. Вон, вероятно, у той осыпи. Но осыпь еще ой-ой как далеко!.. Игорь шел сзади и слышал тяжелое дыхание Нины. — Петро, — хрипло сказал он начальнику группы. — Придержи немного. Чертова жара… Петро обернулся и удивленно поглядел на Игоря. «Такой здоровый парень!» — Ага, хорошо, — понял он. На осыпи, у снежника, рядом с которым росли последние желтые цветочки (выше увидишь только мох на камнях), сделали привал. Поели. Нине мучительно хотелось пить, но вода сочилась под снежником, уходила в камни и, должно быть, где-то ниже выходила на поверхность. Нина положила на плоский, нагретый солнцем камень несколько горстей снега и смотрела, как он на глазах тает, превращаясь в лужицу воды. — Нина, — осторожно сказал Игорь, — не стоило бы! Нина и сама знала, что пить снежную воду не стоит. Все равно не напьешься. — Я только горло прополощу. Можно? Петро и Коля, задрав головы, обсуждали путь подъема. Нина стала перематывать веревку. — Давайте я, — попросил Игорь. — У меня это здорово получается. А когда встали, веревка оказалась притороченной к его рюкзаку. — Отдайте, — тихо потребовала Нина. — Но ведь мне теперь все развязывать. И потом она скоро понадобится. — Игорь похлопал по веревке рукой. — Пошли, Нина. Я здоровый. По крупной каменной осыпи, а потом по крутому снежнику вышли на скальный гребень. Связались и Нину поставили в середину связки. Это ее задело. У нее была мягкость и точность движений, умение выбирать путь, и раньше она на скалах ходила первой. «Ну что ж, — с горечью подумала она. — Сама виновата». На гребне стало прохладнее, — солнце уже не было таким убийственно жарким. Двигались медленно, осторожно, страхуя друг друга через выступы скал. Дыхание налаживалось, а усталость сама по себе куда-то исчезла. Нина чувствовала, как Игорь помогал ей в опасных местах, чуть натягивая веревку. «Не надо, — хотела она сказать, но промолчала и подумала: — Хороший товарищ». Хотя эта вершина была и легкая, но все-таки вершина. Легкий ветер приятно обдувал разгоряченные лица. На востоке и юге толпились, вырастая одна над другой, грозные горы главного хребта; на север уходили, все понижаясь, отроги. Внизу, в долинах, извивались белые ленты рек и далеко-далеко виднелись игрушечные белые здания Курорта. «Привет, Зоя!» — улыбнулся своим мыслям Игорь. — Хорошо, правда? — спросила Нина. — Хорошо!..* * *
Первый, кто увидит возвращающихся с восхождения, должен бежать к лагерному гонгу. Первым увидел разрядников Юра Мухин. «Бамм, бамм, бамм, бамм…» — разнеслось по лагерю. Все, кто бы где ни был, бросали свои дела и бежали на линейку, под флаг. Цветы заготавливаются заранее и лежат в специальном цинковом ящике с водой. Разрядники, с трудом сохраняя в этой суматохе серьезные лица, твердо шагают через лагерь. Дежурный принимает рапорт. Начспасу вручается записка, снятая с вершины. Дежурный торжественно командует: — Победителям первой вершины в смене физкульт!.. — Урра! — грохочет лагерь. — Физкульт!.. — Урра! — Физкульт!.. — Урра, ура, ура!.. Совершенно еще незнакомые девушки с радостными и немного смущенными лицами дарят тебе цветы. Трудно разобрать, кто пожимает тебе руки…* * *
Новички составляют в лагере самый многочисленный отряд. Посмотришь, как они длинной-длинной цепочкой неторопливо и ритмически поднимаются на занятия, повторяя линией своего строя все неровности склона, — целое войско. Впрочем, они теперь не новички, хотя будут так называться до тех пор, пока не побывают на зачетном восхождении, сдадут экзамены и получат значок. В их движениях появилась уверенность; ледоруб они носят как опытные альпинисты. Нога на скалах и на каменных осыпях ставится точно и твердо, а случись упасть на крутом снежном склоне и покатиться вниз, любой из них мгновенно перевернется на живот, вонзит клюв ледоруба в снег, навалится грудью на древко — и готово, остановился. Новичков любят. Именно они создают в лагере атмосферу жизнерадостной деловитости. Всегда что-то учат, показывают друг другу приемы страховки, смазывают ботинки, подгоняют кошки, сушат на солнце веревки и штормовые костюмы, больше всех беспокоятся о том, какая будет завтра погода и выпустит ли начспас на восхождение группу значкистов. Они самые горластые и самозабвенные певцы, страстные игроки, заядлые болельщики. Шуму в столовой или в клубе тоже больше всего от новичков. Они же и самые последовательные носители лагерных традиций. Кто первый замечает возвращающуюся с восхождения группу? Кто подготовит цветы победителям? Кто разработает программу самодеятельности на лагерном костре и отстоит честь лагеря в спортивных соревнованиях? И сейчас, когда новички ушли в свой первый перевальный маршрут, в лагере тихо. В столовой и клубе пустынно.* * *
Там, где ходят альпинисты, чтобы сварить суп или приготовить какао, костра не зажжешь: не из чего. Никакой растительности — скалы да снег. А если и захватишь с собой сухих лучин — не горят. На большой высоте в воздухе мало кислорода. Поэтому в снаряжении альпиниста примус значит многое. Когда группа останавливается на ночлег, уложив камни и с трудом подготовив площадку для палатки, он создает даже какой-то уют. Шумит… В котелке тает снег — воду удается найти не всегда; очередной повар открывает банки с консервами, и редко кто не предложит свои услуги: — Подкачать?.. Ночь наступает быстро. Снизу, из ущелий, поднимается туман и заволакивает все кругом. Едят в темноте, но с таким аппетитом, что его в шутку называют «горной болезнью». Новички и значкисты забрали у Матвея Ивановича все исправные примусы. Остались одни испорченные: с забитой горелкой, сломанным поршнем, без ножек. Разрядникам выходить завтра на рассвете, и Коля Петров уже который раз ходит с примусом в руках от палатки к складу снаряжения… Нет, не годится… В один из таких рейсов Веселов, оставшийся в лагере, чтобы найти и подготовить участок для соревнований по скалолазанию, остановил его: — Что ты один примус двадцать раз туда и обратно таскаешь? — Я не один, — говорит Коля, — разные. Все перепробовал. Не горят. — У Матвея Ивановича нет исправного примуса? — недоверчиво спрашивает Веселов. — Что-то ты придумываешь. — Значит, нет, — обижается Коля. — Матвей Иванович говорит, что за нами чинить не успеваешь. Вообще-то верно. Ломают… — Вот какое дело, — задумчиво говорит Саша. — Турчин идет с вами? — Идет. А что? — Найди. У него есть свой… Игорь и Нина сидели рядом в пустом клубе и готовили выходные документы группы. Турчин составлял описание маршрута, а Нина рисовала перспективное изображение вершины, отмечая цветным карандашом путь восхождения и места ночевок. — Что случилось, Коля? — Нина подняла голову. Темные глаза ее еще светились смехом. Вероятно, Игорь рассказывал что-то веселое. — Здесь не метбытремонт, — сухо сказал Игорь. — Не ставь на стол, документы запачкаешь. «Правда, зачем я его сюда принес? — подумал Коля, но его обозлил тон Турчина. — Чего он собачится? Общее дело». — Понимаешь, все ломаные. Ведь начспас не выпустит. У тебя, говорят, свой есть? — Кто тебе сказал? — удивленно спросил Игорь. — Нас обязаны обеспечить полностью. Коля окончательно разозлился: — «Обязаны, обязаны»… Ты-то пойдешь или нет? При чем тут «обязаны», если нет? Нина посмотрела на обоих: — Чего вы ссоритесь? — Ладно, — сказал Игорь, поднимаясь. — Сейчас… Он вышел, и Коля стал читать описание маршрута. Нина перелистывала ему документы, потому что руки у него были в копоти и керосине и он держал их за спиной. — Закончишь, приходи к нам в палатку. Петро будет груз распределять. — Приду…* * *
Игоря долго не было. — Думает, — язвительно сказал Коля. В палатку пришел Саша Веселов и спросил, кто пойдет начальником группы. — Я, — сказал Петро Кабанец. — Когда будете выходить с ледника на гребень, восточный склон не траверсируйте[2], хотя там легче. Идите в лоб, — говорил Веселов. — Дай, Нина, схему. Я покажу. Там, понимаете, все время сходят лавины и камни сыплют с гребня. Вот здесь, — Саша показал карандашом, — есть полочка. По ней выйдете. Поработать, конечно, придется… К палатке подошел Игорь с примусом в руках. — Вот, — сказал он. — Кто понесет? — Видишь, — обрадовалась Нина и дернула Колю Петрова за рукав штормовки. Он смутился. — Теперь все в порядке? — А вин, того… дэйствуе? — басом спросил Петро. — Вполне. — Ну, добре… Саша Веселов удивленно поглядел на примус, а потом на Турчина, но промолчал. Уже за ужином он спросил: — Где ты его достал? Ведь это не твой. — Э… — небрежно махнул рукой Игорь. — В спасательном фонде. Там их три, а полагается по списку два. Пошел к начальнику лагеря… — Распечатали фонд?! — удивился Саша. — Распечатали и запечатали… Катя, — сказал Игорь, — налейте мне еще компоту. — Да-а… — протянул Саша. Непонятно, как Турчину удалось добиться, чтобы распечатали спасательный фонд, который вскрывают обычно только тогда, когда случается авария и из лагеря в горы выходит спасательный отряд. «А ведь знает, где что лежит. И сколько полагается… — подумал Саша. — Почему он просто не принес свой? Что ему, жалко?..» Какой-то неприятный осадок остался у Саши от этого случая, но отношения с Турчиным не успели испортиться, потому что на рассвете он ушел на восхождение. Потом вернулись новички, пришли значкисты, в лагере снова стало шумно и весело. А когда спустились в лагерь и разрядники, Саша первый горячо поздравил с победой Турчина, обросшего светлой бородой, обгоревшего на горном солнце так, что на носу и шее шелушилась кожа, а на губах вздулись волдыри. Вершина, на которой они были, считалась нелегкой. На соревнованиях по скалолазанию Игорь занял третье место после старшего инструктора Прохорова и Саши Веселова. Повар соорудил в честь победителей громадный торт. Он имел форму Аман-Каи. С шоколадного гребня спускались снежинки из крема, посыпанного сахарной пудрой. По кулуарам сбегали ручьи, разбиваясь в пену из взбитых белков. Голубели, как настоящие, трещины ледников. Такой торт и есть-то было жалко. Форма торта была выдумана не случайно. Одна из спортивных задач лагеря состояла в том, чтобы взять эту сложную вершину. — Пока что мы ее съели, — вздохнул Коля Петров. — Не тэ, щоб це діло було важко, — добродушно заметил Кабанец.* * *
Вечером в клубе были танцы. Новичок Юра Мухин стоял у дверей и вежливо говорил: — В триконях пустить не могу. — Да у меня уже все сорваны. Видишь? — Павлуша Сомов поднял ногу и мельком показал ботинок. Трикони на нем были. — Не могу… — Идол ты… Вот кто. У меня тапочки развалились. — Павел, — строго сказал Мухин. — Хоть мы с тобой и друзья… — Подожди, Лина. Я сейчас… — И Павлуша, грохоча окованными ботинками, сбегает с веранды. — Иди потанцуй. Что ты будешь здесь стоять?.. — говорит Мухин. На Лине свежее, будто сейчас отглаженное платье, поверх которого надета штормовая куртка. У некоторых девушек на загорелых ногах даже туфли. В зале уже танцуют, и музыка, вырываясь из дверей клуба, разносится над лагерем, сплетаясь с шумом реки. В столовой девушки-подавальщицы торопятся убрать после ужина, чтобы освободиться на часок. В зале уже жарко. Штормовые куртки лежат на подоконниках, на столах, сдвинутых к стенам, висят на спинках стульев. Танцующих много. Даже замполит, человек пожилой, с седеющими волосами, кружится с какой-то девушкой из отряда новичков и что-то ей говорит. Она смеется, сверкая белыми зубами. — Очень люблю этот вальс, — говорит Нина и смотрит в глаза Игорю. Танцевать с ним легко и как-то свободно. Он умело ведет Нину, мягко оберегая ее от столкновений с другими парами, и вдруг закружит на свободном месте, да так, что сразу почувствуется скрытое в вальсе ощущение полета. Ноги Нины тогда еле касаются пола. И в самом деле кажется, что они сейчас куда-то летят. — Когда вы выходите? — спрашивает она. Игоря включили в состав спортивной группы, которая пойдет на Аман-Каю. Нина понимает, что это очень сложное и опасное восхождение. Конечно, нет оснований беспокоиться, если погода будет хорошей. Но Нина беспокоится, потому что она-то сама остается в лагере. А они пойдут… Раз-два-три… Раз-два-три… — Когда вы выходите? — Послезавтра. А что? — Игорь смотрит на нее вопросительно и ласково. — Ничего. Я так. Пойдем подышим?.. Они пробрались к двери и вышли на веранду. Она обращена на восток, и прямо перед ней спускается вниз ущелье. Луна уже поднялась высоко и ярко светит. Блестят крыши столовой и инструкторских домиков, покрытые росой. Смутно белеют палатки в тени деревьев. Воздух над ущельем и над горами дымно-голубой. Темные синие тени лежат на ледниках. На снегу и на скалах местами что-то вспыхивает холодным ярким светом. Это луч луны попал на чистый лед или на мокрые камни. Небо ясное, но воздух влажный, и звезды над головой чуть мерцают. Горы спят. Облокотившись на перила, Нина задумалась. Игорь молчал. Сзади в окнах снова закружились пары. Донеслась музыка… Очень тихо Игорь запел: «В небесах торжественно и чу-удно… — Нина вздрогнула. — Спит земля в сиянье голубом…» Голос у него мягкий, густой, берущий за сердце. Нина выпрямилась. Как он узнал, что она вспомнила сейчас именно эти строки? Как?.. Она посмотрела на его лицо, теряющееся в темноте, на большие руки, лежащие на перилах. Кто-то невидимый прошел мимо, скрипя триконями по гальке. И вдруг сердце у Нины сжалось и к горлу подступили слезы. «Как же это?.. Все так хорошо — и плакать?.. — подумала она. — Почему?» «Жду ль чего? — поет Игорь. — Жалею ли о чем?..» «Жду ль чего? Жалею ли о чем?..»* * *
Группа в утвержденном составе побывала на тренировочном восхождении и получила схоженность. Вышли, когда небо только светлело на востоке и звезды еще не угасли. По утреннему холодку идти легче. Начальник спасательной службы придирчиво, как у новичков, проверил снаряжение и продукты и, подобрев, пожал всем руки: — Ну, желаю… Он, поеживаясь, посмотрел им вслед, потом на небо. День обещает быть приличным. По радио тоже была принята благоприятная сводка. Но начспас по опыту знал, как изменчива бывает в горах погода, и недаром метеостанции длительного прогноза не дают. Так, на день-два, не больше. Нина откинула полу своей палатки и тоже смотрела вслед уходящим. Она хотела, чтобы Игорь обернулся. Нет, не оборачивается. «Правильно, — успокоила она себя, — он же просил не провожать». — Что, Ткаченко, не спится? — спросил начспас. — Жарко что-то, — смутилась Нина. — Утро такое хорошее! — Жарко? — удивился начспас. — Мне так холодно… Вчера вечером шел дождь. Трава и деревья были еще мокрые, воздух — сырой, влажный. Пока шли по тропе до Голубого ручья, вымокли по пояс. Липкие, холодные брюки приставали к телу. Вода в Голубом ручье действительно с синевой, но заметить это можно только в «ваннах» между камнями, где она не разбивается в пену. Подстилающие породы здесь крепкие — диабазы и базальты; вода не мутится и имеет окраску льда, из которого родилась. Вверх по тесному ущелью Голубого ручья тропа идет недолго. Черно-зеленые мокрые базальтовые скалы местами стискивают ручей, и тогда он, прорезав в них щель, падает водопадом. Такие места приходится обходить, залезая на скалы, а потом спускаясь с них. Здесь все мрачно и сыро. Даже солнце кажется не таким ярким. Кончается лес, кончается и тропа; начинаются осыпи и старые морены, поросшие редкой и низенькой высокогорной травой. Когда-то ледник доходил досюда. Со всех успело сойти три пота, но вот перед глазами, засыпанный черными обломками скал, встает язык ледника, а за ним и сам ледник, изорванный сотнями трещин. Кое-где из-под ледника выглядывают сглаженные льдом скалы — «бараньи лбы». По ним можно проследить направление уступа, на котором ледник разорвался. Здесь лед «падает». Такие места и называют: ледопад. Справа и слева встают отвесные черные скалы. Выйти по ним на гребень невозможно. Высоко над ледопадом, как нос корабля в воду, врезается в ледник отрог гребня. У его подножия видна небольшая полочка. — Там заночуем, — говорит Прохоров. — Воды, правда, не будет. Ну, Саша… Пойдешь первым. Путь запомнишь, — улыбается он. — Надеть кошки… В первой связке Саша Веселов и Турчин, во второй — Прохоров, Коля Петров и Кабанец. В лабиринте трещин группа движется медленно. Не везде пройдешь и на кошках. Вдруг вырастает гладкая ледяная стена. Надо рубить ступени, чтобы перебраться на острую ледяную перемычку и по ней двигаться дальше. Далеко внизу под ногами темная спокойная вода. Упадешь — сомкнется, и все будет, как было. Саша Веселов забивает ледовый крюк и пристегивает к нему через карабин[3] веревку. Потом вырубает во льду карман-зацепку для руки и только после этого рубит ступень. Это тяжелая работа. Лед крепкий, рука быстро устает. Осколки льда с шорохом падают по трещине и звонко шлепаются в воду. Одна за другой ступени опоясывают ледяную стену. Тот, кто идет сзади, углубляет их, выравнивает. Когда Саша останавливается передохнуть, он слышит, как у него в висках стучит кровь. На солнце тает лед, и капли падают — кап-кап-кап, — сливаясь в маленький ручеек. Он бежит по льду и, соединившись с десятками таких же, приобретает силу и, вдруг просверлив лед, уходит вниз. «Урр…» — ворчит вода в широкой воронке. Дна не видно. У поверхности воронки лед голубой, дальше — ярко-синий, а там, в глубине, — страшная чернота. Поток промчится подо льдом и вырвется на свет уже рекой. К скалам подошли под вечер. Только успели поставить палатки, — спустилась ночь. Игорь за один день осунулся и жаловался на головную боль. — Ничего, пройдет, — сказал Прохоров, но освободил его от работ по устройству лагеря. Коля Петров внешне был слабее всех. Тонкий, худой, порывистый, он тратил энергии всегда больше, чем следовало. Когда Коля первый раз попал в лагерь, ему трудно было приноровиться к сложившейся альпинистской манере двигаться неторопливо, мягко, размеренно. Его все любили за честность, прямоту, ясный, всегда немного удивленный взгляд, ничем не истребимую жизнерадостность и оптимизм. В таком переплете, как сегодня, он так же, как Игорь и Кабанец, был впервые и устал, но ощущение победы окрыляло его. — Завтра пораньше на вершину — и в лагерь, — весело говорил он, склонившись над примусом. — Игорь, протяни соль. — Не кажи гоп… — спокойно заметил Кабанец. — Посмотрим… — улыбаясь, сказал Прохоров. — Как пойдем… — Да, — покачал головой Коля, — тут, конечно, не побежишь. — Он посмотрел вниз, туда, где в сумерках еще виднелся ледопад. Ел Игорь с аппетитом, и Прохоров, который уже думал: «А не оставить ли его с Колей Петровым здесь?» — успокоился. — Прошла голова? — спросил он Турчина. — Да, как будто, — ответил Игорь, запуская ложку в котелок. Саша Веселов подложил на его место в палатке кое-что из своих теплых вещей, чтобы Игорю было помягче. Все забрались в палатки. Некоторое время еще было слышно, как Николай Григорьевич что-то говорил Кабанцу, потом они затихли. Приплыло вечернее облако и укрыло туманом скалы, ледник и две маленькие, какие-то очень одинокие палатки. Усталым спится хорошо, но Игорь заснул не сразу. Он вспомнил Нину в тот вечер на веранде, Зою, потом своего дядьку, который баловал его в детстве, да и теперь. С закрытыми глазами он видел лед, лед, черные трещины; вода пропадала в синей воронке… «Завтра будет еще труднее, — неспокойно подумал он, засыпая. — Я-то мог бы и не ходить. Сам напросился».* * *
По давно сложившейся привычке Прохоров просыпался в горах еще до восхода солнца. Он откинул полу палатки и выглянул. Облака опустились, и палатки теперь были над ними. Сквозь разрывы внизу чернела долина. Там была еще ночь. А над горами и над облаками занималась ярко-алая холодная заря. «Будет ветер», — тревожно подумал Прохоров. Из второй палатки показалась голова Саши Веселова. Он тоже смотрел на небо. — К ветру, Николай Григорьевич. Оба знали, что такое ветер, когда придется идти по такому опасному гребню, какой ведет к Аман-Кае. Прохоров молчал. — Но цирусов еще нет, — не то спрашивая, не то успокаивая, сказал Саша. — Нет, — после паузы отозвался Николай Григорьевич. Он рассчитывал. Цирусов — легких перистых облачков — еще нет. Значит, погода изменится не скоро: может быть, к середине дня. До вершины можно дойти в четыре, ну в пять часов. Обратно три. Всего восемь. Сейчас четыре утра. «В крайнем случае, — думал Прохоров, — возьмем вершину и переждем на желтых скалах на спуске. Там две палатки встанут». Сидеть же здесь и ждать — значит потерять время и отказаться от попытки взять Аман-Каю. «Благоприятную погоду предсказывали на два дня», — вспомнил Прохоров. — Ты как думаешь? — спросил он Веселова. Саша, видимо, рассчитал так же. — Надо идти; по-моему, успеем. В крайнем случае, — как будто угадывая мысли Прохорова, сказал Саша, — возьмем вершину и отсидимся. Контрольный срок у нас — завтра в восемь вечера. — Тогда подъем… — сказал Прохоров, вылезая из палатки. — И быстро.* * *
Зуб на зуб не попадает, когда вылезешь из теплого спального мешка перед восходом солнца и примешься за свертывание лагеря. Но зато идти, пока солнце не растопило фирн[4] и он еще скован ночным морозом, гораздо легче. — Рюкзаки оставим? — спросил Игорь, торопливо дожевывая бутерброд с икрой. — Нет, — коротко ответил Веселов. — Почему? — Посмотри, — Саша головой показал на восток. — А-а… — понял Игорь, и опять ему стало тревожно, как и вчера вечером. Шли быстро и разогрелись. Светлело, и Аман-Кая отчетливо вырисовывалась на фоне розового неба. На восток и юг падает отвесная пятисотметровая стена, а с севера к вершине подходит гребень — путь подъема. Снежник становился все круче и круче. Снег рыхлее и глубже. Видимо, опасаясь вызвать лавину, Прохоров вел прямо в лоб. Ледоруб втыкается перед собой — раз, правая нога вколачивается в склон — два, левая — три… Снова ледоруб, снова правая нога… Левая… Раз-два-три… Раз-два-три… Внизу под снежником трещина. Но вниз никто не смотрит. Время от времени дается минутный отдых, чтобы привести в порядок дыхание. Опираясь на ледоруб, наклонив голову, с рюкзаком, который лежит на горизонтальной спине, все глубоко дышат. Солнце вышло и начинает припекать. Отражаясь от снега, оно обжигает даже подбородки. В защитных дымчатых очках — без них ослепнешь — мир кажется помрачневшим, а небо, если на него взглянешь, — желто-зеленым. Гребень, который еще где-то вверху, впереди, кажется сейчас необычайно легким путем. Пусть опасным… Но возникло непредвиденное препятствие, которое задержало группу надолго. Растопленная на гребне вода не ушла под снег, а шла поверху, застывая по ночам. День за днем, слой за слоем образовался натечный лед. Он крепок, как камень. Кошки на нем почти не держат. Ледоруб откалывает крошечные кусочки. Упадешь — не задержишься. Отступать поздно. Прохоров уходит вперед, мучительно медленно выдалбливая маленькие ступеньки. Удивительно, как он держится на крутом ледяном склоне, да еще рубит и рубит… — Веревка уся! — негромко кричит Кабанец. Прохоров с трудом забивает ледовый крюк. — Пошел! — командует он, выбирая веревку по мере того, как Кабанец к нему приближается. Кабанец идет, углубляя ступени. Потом, когда он подойдет к Прохорову, наступит очередь Коли Петрова, и он тоже будет долбить лед, продвигаясь вперед. Саше Веселову понятно, какую нечеловеческую работу выполняет Николай Григорьевич, и ему смертельно хочется сменить Прохорова, но ни о какой смене сейчас речи быть не может. Игорь вступает на лед последним. Чувствуя на себе взгляд Веселова, он, сдерживая неприятную дрожь в коленях, идет внешне спокойно. — Молодцом, — говорит Саша и озорно улыбается. — Все равно мы эту Плохую гору обуздаем!.. Игорь тяжело дышит и тоже пытается улыбнуться. На этом участке потеряли часа два. По гребню пошли быстрее, хотя пришлось в лоб брать два жандарма[5], и к одиннадцати часам впереди увидели Желтые скалы, а за ними башню вершины. К скалам вел опасный, длиной метров в сто, участок гребня. В обе стороны очень круто падали снежные склоны, изборожденные следами лавин. Над восточной стороной нависал навитый вьюгами многотонный карниз, вот-вот готовый обрушиться. На карнизе снег лежал плоско, но идти там нельзя. Вступишь и полетишь вниз вместе с карнизом. Приходится идти по западному склону. Кабанец, страхуя Николая Григорьевича, забирается выше, к основанию карниза. «В случае чего, — думает он, — обрушу карниз. Повиснем на веревке».* * *
Первый порыв ветра застал группу на середине этого участка. Коля Петров пошатнулся, но, быстро опершись на ледоруб, сохранил равновесие. Разорванные лохматые облака появились над западными вершинами, окутывая их. Ветер дул с северо-запада. Солнце еще несколько минут освещало гребень. Но потом его затянуло передовыми лохмотьями облаков, и оно зловеще просвечивало сквозь них. Николай Григорьевич оглянулся и посмотрел каждому в лицо. Сейчас как никогда от них потребуются все силы. Сдаст один — погибнуть могут все. Коля Петров твердо встретил взгляд Прохорова. «Чепуха! Пробьемся, дойдем…» Игорь сказал Веселову: — Может быть, назад? — Но ветер скомкал его слова и отнес в сторону. Веселов все-таки догадался и отрицательно покачал головой. Он понял, что Прохоров решил добраться до Желтых скал и там отсидеться. Идти назад было бы самоубийством. Будешь перелезать жандармы — буря сбросит с гребня. Каждый шаг давался ценой невероятных усилий. Ветер пробивал штормовые костюмы, леденил тело. Особенно трудно было сохранить равновесие, когда нога поднималась для шага. Буря толкала в это время на склон. Но только прижмись к нему — и немедленно потеряешь устойчивость, ноги соскользнут со снежных ступеней — и вниз. А что там, внизу, уже не видно. Не видно ничего и впереди. Желтые скалы давно скрылись. Острая ледяная крупа несется горизонтально. Сечет лица, стучит по намокшим штормовым костюмам, будто пригоршнями швыряет ее кто-то со злобой: «Свалю-уу… сброшу-уу… убью-ууу… ууу…» Непонятно, как находит путь Прохоров. Все, кто идут сзади, различают только следы, в которые сразу же осыпается срываемый ветром снег. Пятьдесят метров — это, оказывается, страшное расстояние. Представление о времени теряется. Никто ни о чем не думает, только когда наступает его очередь, со стиснутыми зубами, вопреки всему, делает шаг… другой… третий, пока не увидит сквозь обмерзшие ресницы темную фигуру страхующего товарища, склонившегося над забитым в снег ледорубом. Потом он идет, а ты страхуешь. В этом сила… Все заодно… Гребень вдруг стал шире. Над восточным склоном уже не висит карниз. Там внизу, за гребнем, метрах в трех видна даже как будто ровная площадка, чернеет скала. Но на этой площадке встанет лишь одна палатка. Прохоров проходит мимо. Игорь останавливается и дергает за веревку. Веселов быстро оборачивается и видит, как Турчин головой показывает вниз. Не может быть, чтобы он не понимал, что там все не поместятся. — Пошел к черту! — вскипает Саша и радуется, что Игорь его не слышит. Турчин с трудом вытаскивает свои большие ноги из снега. Желтые скалы — это дом!.. Ветер свистит между камнями, завивает снег, с размаху бросая его в лицо. Но здесь сравнительно безопасно. В скалы можно забить крючья, установить палатки. Коля Петров, повернувшись лицом к ветру и захлебываясь им, торжествующе кричит: — Что?.. На-ка! — И показывает буре кукиш. Но рука в перчатке, и кажется, что он грозит кулаком. — Милый ты мой хлопец!.. — целует его Кабанец в залепленное снегом лицо.* * *
Лежать и ждать — больше ничего не придумаешь. Одежда, носки, штормовые костюмы, ботинки — все мокрое. В палатке сыро. Ветер трясет ее, стараясь сорвать с крючьев, засыпает мокрым снегом. Постучишь по потолку, он нехотя сползает. Очень хочется горячего. Но примус не разожжешь: он гаснет и чадит. Все лежат в спальных мешках и сушат на голом животе мокрые холодные носки. Поели, но очень хочется пить. За кружку горячего чаю или кофе отдал бы многое. Ничего не поделаешь. Зачерпнешь снегу, не вылезая из палатки, и спрячешь туда же, на живот. Снег тает от тепла тела. Полная кружка снега — на донышке воды. Разболтаешь сгущенного кофе (много кофе — мало воды) — прекрасный напиток. Очень жаль, что холодный. Из сгущенного молока со снегом получается мороженое. Но его не хочется. И так холодно. Под вечер приполз с пустым рюкзаком Прохоров, протиснул засыпанную снегом голову в палатку и сказал: — Давайте продукты. Неизвестно, сколько просидим. Все метет… Игорь отдал продукты, которые он нес, и вывернул рюкзак, показывая, что он пуст. — Это ты к чему?.. — удивился Николай Григорьевич.* * *
За ночь несколько раз приходилось подтягивать ослабевающие оттяжки. К утру ничего не изменилось. Ветер не ослаб, и в белесых сумерках рассвета по-прежнему неслись хлопья снега. Николай Григорьевич выдал по большому ломтю хлеба с колбасой, мясные консервы, несколько кусочков сахару, банку сгущенки на двоих. — На сутки, — сказал он. Хлеб, колбасу и консервы Игорь и Веселов съели сразу. Сгущенку разлили по кружкам и, замесив снегом, спрятали в мешки таять. Конечно, после такой работы, как вчера, этого было мало. «Ничего, — думал Саша, — жить можно. В лагере наверстаем». И сразу ему представился лагерь, столовая, знакомые лица, потом мысли перенеслись домой, в институт… Саша заснул. Он проснулся уже в сумерках и лежал не двигаясь. Пахло колбасой. «Что за чепуха! — подумал он. — Откуда колбаса? С голоду, что ли, мерещится?» Игорь почему-то перевернулся ногами к выходу и что-то делал в глубине палатки. Саша пошевелился в мешке. Игорь замер. Смутно о чем-то догадываясь, Саша нашарил в мешке фонарик: — Что ты делаешь?! Игорь молчал. Луч света осветил его жалкое лицо. Рот был набит непрожеванной колбасой, щеки оттопыривались, жирно блестели губы. Это не могла быть та колбаса, которую выдал Прохоров. Саша видел, как Турчин всю ее съел. «Значит, утаил?.. Спрятал?..» — На мгновение Саша испугался своей догадки. — Ах ты… — прохрипел он и швырнул кружку. Коричневые капли кофе, перемешанного с нерастаявшим снегом, медленно сползали с неподвижного лица Игоря. — Не говори… Не говори… Прошу, — зашептал Турчин. — Зам-молчи! Замолчи сейчас же!.. Тяжелая тишина наступила в палатке. Долго не могло успокоиться сердце у Саши. «Уууу… ууу…» — завывал ветер.* * *
В начале восьмого, за час до наступления контрольного срока, начальник спасательной службы пришел к начальнику лагеря: — Выхожу. — Выходи. — Прохоров — альпинист опытный. Должно быть, отсиживаются… — Все равно. Надо идти. — Конечно… Набросив штормовки на голову, шлепали по лужам из палатки в палатку новички. Павлуша Сомов, Мухин и другие уже ходили и просились в спасательный отряд. Не взяли. Нина Ткаченко сказала начспасу: — Я очень прошу… — Глаза ее были такими тревожными, что он отвернулся. — Хорошо. Собирайтесь. По тропе, с факелами, шли быстро и молча. Слышно было только, как трикони звенели по камням. В красноватом свете факелов блестела мокрая листва деревьев, тревожными казались сосредоточенные лица. «Не пришли к контрольному сроку. Авария… Авария в горах». Там, где тропа кончилась, на мокрых холодных камнях остановились. Идти дальше, даже с факелами, нельзя. Надо ждать рассвета. Факелы потушили, и в чернильно-мрачной темноте слышно было, как начспас односложно отвечал кому-то на вопросы. Нина сидела молча. Мелкий дождь скатывался по волосам, выбившимся из-под капюшона штормовки. Капли падали на колени. «Почему же он?.. Может быть, кто-нибудь другой? — думала она. Потом ей становилось стыдно: — Не все ли равно кто?.. Нет, не все равно… Скорей бы рассвело!..»* * *
Ветер немного стих, дул порывами. Снег иногда падал, как полагается, вниз, а не летел куда-то горизонтально. К утру он перестал совсем. Пора… — Пойдем вниз, — сказал Прохоров. — Нас уже вышли искать. Никто с ним не спорил. Вершина была близка, но товарищи, которые сейчас идут к ним, торопятся, не думают об опасности. Надо скорее спускаться. — Я с этим… — сказал Саша, — не пойду. Все молчали. Не хотелось смотреть в глаза друг другу. Было такое ощущение, что и они в чем-то виноваты, как-то запачканы. — Пойдешь!.. — сурово сказал Прохоров. Саша наклонил голову и стал разматывать веревку. — Ну, пойду… — Он пусть идет первым, — Прохоров не сказал, кто должен идти первым, но все поняли. На спусках первым ставят наименее сильного участника. Идущий сзади опытный, сильный альпинист сможет удержать его в случае срыва. Игорь не был слабым в группе, но сейчас он был самым слабым. Прохоров это знал. «Может быть, еще станет человеком», — думал он. Свежий, рыхлый снег лежал на гребне. Ледоруб свободно уходил в него до головки, и страховка была ненадежной. Сейчас на спуске от всех требовались внимание и осторожность. А Игорь шел безучастно: вытаскивал ногу, втыкал ледоруб, поднимал другую ногу. Что не передумал он за это время! Как-то сами собой всколыхнулись все те некрасивые мелочи, которые он старался спрятать на дне своей памяти. «Жить раньше было легко, просто, приятно… Как-то все удавалось…» В этот момент Игорь сорвался. Если бы он немного быстрее перевернулся на живот и зарубился не клювом ледоруба, а лопаткой, может быть, ему удалось бы задержаться. Но он сделал это как-то вяло, безразлично, и его большое тело заскользило вниз. Саша увидел искаженное от ужаса лицо Турчина и мгновенно, сделав шаг назад, перекинул веревку через плечо. «Не удержу, — пронеслось у него в голове. — Надо прыгать!» Но и прыгать было нельзя. Веревка не выдержит свободного падения двух тел. Лопнет… Саша сделал еще шаг на карниз и сильнее стиснул убегающую сквозь руки веревку. Прорезав рукавицы, веревка впилась в кожу ладоней и сорвала ее. Скрипнув зубами от страшной боли и уже чувствуя, что ему не удержать Турчина, Саша упал назад, на карниз, и с радостью почувствовал, как снег под ним подался. Карниз обвалился, и Саша полетел вниз. Снежная глыба догнала его и ударила по голове. Теряя сознание, он все сжимал веревку, чтобы смягчить рывок. Веревка впивалась в ладони… Он скоро пришел в себя и попытался зарубиться ледорубом, висевшим на руке, но взять его не смог. Из ладоней сочилась кровь, и Саша прижал их к снегу, стараясь холодом успокоить боль. Но все это ничего не значило по сравнению с тем, что веревка выдержала и, значит, этот Турчин тоже висит по другую сторону гребня. Наверху чернели головы товарищей.* * *
Первым увидел группу Прохорова начспас. Уже немолодой, спокойный человек, бывалый альпинист, он секунду напряженно вглядывался в пятерку людей, спускающихся с гребня по снежнику, и, не выдержав, закричал: — Урра!.. Пятеро!.. Товарищи!.. Нина рванулась вперед: — Хорошо!.. Очень хорошо. Очень, очень хорошо… — шептала она, и по лицу у нее текли слезы. Но, пока они подходили друг к другу, стало ясно, что не всё в порядке в группе Прохорова. Пятеро спустились с гребня, вышли на снежное плато, развязались, и сразу их стало не пятеро. Четыре и один. Кто этот один?.. Наконец сблизились. Было видно, что Веселов идет, осторожно неся перед собой забинтованные руки. Уже Прохоров обнимается с начальником спасательной службы и потом что-то говорит ему. Солнце вырвалось из облаков, и сразу на леднике стало тепло и ослепительно ярко. Последним медленно, опустив голову, подходил Игорь Турчин. Нина бросилась к нему, но вдруг все поняла и остановилась. Он тоже остановился, снял рюкзак и сел на него, глядя куда-то в сторону. Десять товарищей было на леднике. И еще один человек… — Это пройдет, — мягко сказал Прохоров, подходя к Нине. Было непонятно, к кому относятся эти слова. Может быть, к Игорю. Но Нина сказала: — Конечно, — и попыталась улыбнуться.
ПОРАЖЕНИЕ ЦВАНГЕРА
 Сто человек в течение двух-трех часов собирали в лесу хворост, тащили целые деревья, когда-то поваленные лавиной или бурей, корчевали смолистые пни; причем делали это с удовольствием, смеясь, подтрунивая друг над другом. Можно себе представить, сколько было топлива!
Костер зажгли после ужина, когда стемнело и стало холодно. За вершиной, которая называлась Замком, вставала луна. Острые зубчатые башни Замка таинственно и нелюдимо чернели в небе, освещаемые сзади холодным лунным заревом. Остальные горы исчезли во мраке. Иногда вдруг прокатывался гулкий рокот. Опытные альпинисты по звуку узнавали — это на ледопаде куски льда откололись от медленно движущегося ледника и покатились по «бараньим лбам». Горы были невидимыми, но давали о себе знать. Мол, не забывайте, мы — здесь…
От реки на поляну, где разгорался костер, потянуло сыростью. Костер горел ярко, громко трещали дрова. Пихта и елка всегда горят шумно. Пламя стало таким нестерпимо ярким и жарким, что понемногу все отодвигались и скоро вокругкостра образовалось широкое кольцо — как сцена. Начальник учебной части, мастер спорта Павлов, говорил о нужных и важных вещах, но, честно говоря, слушали его рассеянно. Смотреть на взлетающее к самому небу пламя костра, набросить свою штормовку на плечи девушке, стоящей рядом, чтобы у нее не мерзла спина, переброситься шуткой с товарищами — было интереснее.
Зато «горный бокс», в котором боксируют с завязанными глазами и с помощью скатанных спальных мешков в чехлах, никого не оставил равнодушным и пользовался шумным успехом.
Неожиданно оказалось такое количество талантов, что выступить всем не было возможности. Поэтому когда, наконец, из-за Замка вылезла луна, запели альпинистские песни. В них рассказывалось о бесконечном количестве напастей, подстерегающих альпинистов в горах. И было непонятно, почему же всем так весело и почему всех этих певцов никаким калачом не заманишь проводить свой отпуск на даче или в доме отдыха.
Всему бывает конец. Перепели все песни, и у костра стало тихо. Груда пышущих жаром углей снизу освещала молодые лица. Еще все были объединены только что умолкнувшей песней, но каждый, глядя в огонь, думал о чем-то своем.
Немолодой народ: замполит, Прохоров, начальник лагеря и другие инструкторы, уже десятки раз побывавшие в горах, — сидели вместе и вспоминали восхождения, в которых они бывали, товарищей, с которыми ходили. Вокруг них собиралась молодежь.
— Ты ведь Андрея Тонкого знал? — спросил замполит у Прохорова.
— Это мой друг, — ответил Прохоров. — Вместе ходили.
— Вот рассказал бы молодежи, как вы баварским орлам, этому Цвангеру, в тридцать шестом году нос утерли, — сказал начспас.
Лина встрепенулась.
— Павлуша… — горячо зашептала она, оборачиваясь в темноту. — Где ты?.. Иди. Про Цвангера…
Луна освещала горы. Они появились из темноты и нависли над поляной. Вдалеке смутно поблескивала над перевалом черная километровая стена Зубра.
Сто человек в течение двух-трех часов собирали в лесу хворост, тащили целые деревья, когда-то поваленные лавиной или бурей, корчевали смолистые пни; причем делали это с удовольствием, смеясь, подтрунивая друг над другом. Можно себе представить, сколько было топлива!
Костер зажгли после ужина, когда стемнело и стало холодно. За вершиной, которая называлась Замком, вставала луна. Острые зубчатые башни Замка таинственно и нелюдимо чернели в небе, освещаемые сзади холодным лунным заревом. Остальные горы исчезли во мраке. Иногда вдруг прокатывался гулкий рокот. Опытные альпинисты по звуку узнавали — это на ледопаде куски льда откололись от медленно движущегося ледника и покатились по «бараньим лбам». Горы были невидимыми, но давали о себе знать. Мол, не забывайте, мы — здесь…
От реки на поляну, где разгорался костер, потянуло сыростью. Костер горел ярко, громко трещали дрова. Пихта и елка всегда горят шумно. Пламя стало таким нестерпимо ярким и жарким, что понемногу все отодвигались и скоро вокругкостра образовалось широкое кольцо — как сцена. Начальник учебной части, мастер спорта Павлов, говорил о нужных и важных вещах, но, честно говоря, слушали его рассеянно. Смотреть на взлетающее к самому небу пламя костра, набросить свою штормовку на плечи девушке, стоящей рядом, чтобы у нее не мерзла спина, переброситься шуткой с товарищами — было интереснее.
Зато «горный бокс», в котором боксируют с завязанными глазами и с помощью скатанных спальных мешков в чехлах, никого не оставил равнодушным и пользовался шумным успехом.
Неожиданно оказалось такое количество талантов, что выступить всем не было возможности. Поэтому когда, наконец, из-за Замка вылезла луна, запели альпинистские песни. В них рассказывалось о бесконечном количестве напастей, подстерегающих альпинистов в горах. И было непонятно, почему же всем так весело и почему всех этих певцов никаким калачом не заманишь проводить свой отпуск на даче или в доме отдыха.
Всему бывает конец. Перепели все песни, и у костра стало тихо. Груда пышущих жаром углей снизу освещала молодые лица. Еще все были объединены только что умолкнувшей песней, но каждый, глядя в огонь, думал о чем-то своем.
Немолодой народ: замполит, Прохоров, начальник лагеря и другие инструкторы, уже десятки раз побывавшие в горах, — сидели вместе и вспоминали восхождения, в которых они бывали, товарищей, с которыми ходили. Вокруг них собиралась молодежь.
— Ты ведь Андрея Тонкого знал? — спросил замполит у Прохорова.
— Это мой друг, — ответил Прохоров. — Вместе ходили.
— Вот рассказал бы молодежи, как вы баварским орлам, этому Цвангеру, в тридцать шестом году нос утерли, — сказал начспас.
Лина встрепенулась.
— Павлуша… — горячо зашептала она, оборачиваясь в темноту. — Где ты?.. Иди. Про Цвангера…
Луна освещала горы. Они появились из темноты и нависли над поляной. Вдалеке смутно поблескивала над перевалом черная километровая стена Зубра.
* * *
— Мы с Андреем спустились с Опоясанной уже поздно, — сказал Прохоров, — и до тропы дойти не успели. Контрольный срок кончался на другой день, и, чтобы не продираться сквозь заросли в темноте, решили переночевать на границе леса. Поставили палатку, сварили манную кашу с черносливом, наелись, легли. Когда знаешь, что завтра не надо идти вверх, что путь предстоит легкий, — не торопишься. Я и проспал. Открываю глаза — солнце бьет в палатку. Смотреть невозможно. Андрея нет. Но волноваться нечего. Он человек опытный, к тому же я его характер знал. Он любил восход встречать. И действительно: у палатки горит костерчик в камнях, что-то варится, а Андрей сидит на солнышке и любуется на горы. Воздух чистый, свежий, солнце еще не жаркое. Ручей бормочет внизу. Ни ветерка. Тихо. «Погодка установилась, — подумал я, — только ходи». Вижу, Андрей что-то в бинокль разглядывает на той стороне ручья. Помолчал он и говорит: — Баварские орлы по осыпи лезут. А надо сказать, примерно неделю тому назад приехала к нам на поляну Зубров экспедиция клуба баварских альпинистов. Клуб назывался «Адлерберг» — «Горный орел». Начальником экспедиции был такой рыжий гладкий баварец Цвангер. Они приехали специально для того, чтобы взять Зубр, Аман-Каю и другие еще не взятые нами вершины и, таким образом, показать превосходство немецких альпинистов. Надо отдать справедливость, ходили они хорошо, а снаряжение у них было и того лучше. Самое главное для них было забраться на Зубр. Они все фотографировали его во всякую погоду с разных мест и приговаривали: — Маттергорн, Маттергорн… Это значило, что наш Зубр походил на одну из самых трудных и красивых вершин Альп — Маттергорн. Баварцы поравнялись с нашей палаткой по высоте, остановились и стали доставать веревки. — Тренироваться пришли, — сказал Андрей. — Давай кашки поедим, а то что на голодный желудок за ними наблюдать! Мы ели из котелка кашу и смотрели, как баварцы тремя связками приступили к тренировке. Один, должно быть, Цвангер, стоял внизу и что-то покрикивал, но разобрать его слова было невозможно. — Это они к Зубру готовятся, — сказал я Андрею. — А что, — говорит он, — если мы с тобой хотя бы подходы посмотрим? К первому жандарму сходим, а? — Это, конечно, можно, — отвечаю я, — но у нас ведь контрольный срок в восемнадцать ноль-ноль кончается. Можем не успеть. — Пустое, — говорит Андрей. — Я схожу в лагерь. Получу разрешение. — Так пойдем вместе. — Зачем? Ты пока тут на них поближе посмотри, — Андрей показал головой в сторону баварцев и таким безразличным тоном добавил: — Узнай, когда они на Зубр выходят. Ты ведь по-немецки немного понимаешь? — Ну, понимаю. Только ты побыстрее, — сказал я, — а то просидишь где-нибудь на красивом месте. Цветочки будешь собирать. Андрей рассердился: — Черт с тобой. Не буду. — Но потом улыбнулся, взял зачем-то рюкзак и ушел. Я перебрался через ручей и пошел к баварцам. — Здравствуйт, — сказал Цвангер по-русски. — Учийтся? Ну что ж, я согласился. Можно, думаю, поучиться, если есть чему. — А когда выходите? — спросил я. — Через завтра — утром, — сказал Цвангер. Баварцы лезли по совершенно отвесной, даже кое-где нависающей с отрицательным уклоном гладкой скальной стене. Первый забивал над головой крюк и, зацепив карабин, пропускал через него веревку, обвязанную вокруг груди. Нижний подтягивал за эту веревку первого до уровня груди и закреплял ее. Первый, вися на веревке, долго искал в гладкой скале щель, наконец находил ее, вбивал второй крюк и пропускал через карабин второй конец веревки, тоже идущей от груди. Нижний снова подтягивал, а первый вбивал следующий крюк. — Это есть прием высшей техника альпиниста, — говорил Цвангер. — Называется «зальцуг». Мы знали этот прием, но прибегали к нему в крайних случаях. Для идущего первым это очень тяжело и больно. Веревка давит грудь. Дышать почти невозможно. Чаще всего можно найти другой способ подъема. Баварцы лезли все выше и выше. И вдруг один из них сорвался. Верхний крюк, наверное, плохо забитый или попавший в мягкую породу, не выдержал, и баварец полетел вниз. Нижний успел протравить веревку, и на следующем крюке падающий задержался, но рывок все-таки был так силен, что баварец дико закричал от боли. Цвангер вскинул к глазам фотоаппарат, и щелкнул спуском. Я бросился к скале. У сорвавшегося было сломано ребро. Его отнесли в сторону. Цвангер не прекратил занятия… Я ушел к своей палатке не простившись. Ну их к черту! В самоубийцы они, что ли, готовятся, эти орлы? Андрей пришел с туго набитым рюкзаком, весь мокрый. Он шел в самую жару. — Ну? — спросил он, сбрасывая рюкзак. — Когда они выходят? — Послезавтра. — Зер гут. Очень карашо, — весело сказал Андрей и стал выкладывать из рюкзака хлеб, консервы, колбасу, сахар. Я начал кое-что понимать, но не верил еще своей догадке. — Ты куда это собрался? — Во-первых, не я, а мы. А во-вторых, если они, — Андрей кивнул головой в сторону баварцев, — орлы, то мы что, курицы? Попробуем. Скажи пожалуйста, приехали наши вершины брать. Потом, поди, напишут: в Советском Союзе альпинизма нет. Русские альпинистами быть не могут и так далее… А ты что, — Андрей выпрямился, — возражаешь? — Ну что ж, — сказал я, — попытаемся… Но на рожон лезть не будем. — Я тоже не дурак голову ломать… Еще пригодится, — проворчал Андрей. — Как же ты уломал Сорокина? — спросил я, зная осторожный характер уполномоченного по району, дававшего в ту пору разрешения на сложные восхождения. — Значит, уломал… С вечера мы поднялись повыше и устроились на ночлег почти под самым северным гребнем, ведущим к вершине. В наступающих сумерках гребень казался непроходимым. Во всяком случае, путь на вершину не просматривался. Андрей долго сидел на камне, обхватив колени руками, всматриваясь в гребень. — Да, — сказал он, залезая в мешок, — завтра поработать придется. Ночью был мороз. Вода в котелке замерзла. Иней покрывал палатку, когда мы до рассвета стали сворачивать лагерь. «Это к хорошей погоде», — радовались мы, дрожа от холода. Пока лезли по обжигающе холодным скалам на гребень, коченели руки, теряли чувствительность пальцы и не находили зацепок. Это было опасно, но что поделаешь? Надо было как можно раньше выбраться на северное ребро. Неизвестно, что́ ждало нас там. Еще никто не был на вершине, но считалось, что путь по северному ребру единственно возможный. Баварцы долго изучали фотографии и тоже остановились на этом же варианте. Мы с Андреем видели путь подъема с Опоясанной, и он казался нам нелегким. Но мы знали, что издали всегда кажется страшно, а подойдешь — и ничего, пройти можно. Как и рассчитывали, мы вылезли на гребень к восходу солнца. На Зубре оно, правда, уже давно появилось и освещало утреннее облачко, ночевавшее на вершине. Но все остальное было еще в тени, и ручьи-водопады на мрачных стенах Зубра были скованы морозом. Внизу, под нами, лежали верхние фирновые поля, круто спадающие к леднику Зубра, а прямо на юго-востоке был виден восточный гребень. Под самой стеной вершины восточное ребро разрезала впадина Чертова перевала, выводившего на южные склоны хребта. Перевал был даже удобный, но никто им не пользовался, потому что в снежный кулуар[6], выводивший к перевальной точке, всегда сыпались лавины со стен Зубра. Иногда, когда на вершине не дежурили облака, был виден громадный нависающий снежный карниз. С него и сыпало. А с другой стороны кулуар ограничивали черные, сильно выветренные скалы. Иной раз их почти до середины захлестывала лавина, срывавшаяся с Зубра. Этот кулуар тоже называли Чертовым. Солнце вставало над восточным ребром, и Чертов перевал был виден отчетливо в розовато-золотистом сиянии, исходившем откуда-то из-за него. Что говорить, было красиво; и Андрей как уселся на гребне, засунув замерзшие руки под штормовку, так и сидел, не сводя глаз с восточного ребра. Ну что ж… Когда вышло солнце и немного согрело скалы, мы двинулись вверх. За первым жандармом, который удалось обойти справа, над аманкайским ледником, встал второй. Его пришлось штурмовать в лоб. Андрей пошел первым, забивая крюки. Я страховал его снизу. Порода попалась тяжелая. Гладкие, наклонно лежащие плиты не имели зацепок. Андрей с трудом находил щели для крючьев. Он прижимался к плитам всем телом, но угол их наклона был велик, и я видел, как его тело вдруг начинало съезжать вниз. Я поддерживал Андрея, натягивая веревку. Кое-как закрепившись, он оборачивался, улыбался со стиснутыми зубами, подмигивал мне обоими глазами и упрямо лез дальше. Перед самой вершиной жандарма стенка стала отвесной. Я видел снизу, как Андрей ощупывал скалу справа, слева, вверху, насколько доставали руки. Щелей не было. Крюк не забьешь. Он попробовал обойти этот участок справа. Не вышло. Зацепки, на которых он держался, были маленькие, еле заметные, и я прекрасно понимал, как напряжены были мышцы ног и рук Андрея. Долго выдержать такое напряжение нельзя. — Спускайся! — крикнул я. — Бес с ним, с этим жандармом. Поищем другого пути. Андрей висел распластавшись на скале и, не поворачивая ко мне головы (это могло нарушить равновесие), ответил: — Выдай веревку, пойду без крюка… В случае… Протрави больше, задержусь на нижнем. Пошел… — И, не дав мне что-нибудь сказать, Андрей мягко выжался на правой ноге, нашел какой-то ничтожный упор для левой, перехватился правой рукой… Я видел, как она съезжала с гладкой опоры… Сердце у меня забилось о ребра. Уже сейчас, если он сорвется, то пролетит не меньше полутора метров до нижнего крюка. А там, хорошо — веревка выдержит, иначе… Андрей, конечно, ни о чем не думал. Когда лезешь, некогда раздумывать. В общем, он вылез. Трудно сказать как. Не в этом дело. Он забрался на жандарм и исчез. Веревки не просил — значит, не двигался, но и мне не командовал: «Пошел!» Я догадался. Он просматривает путь дальше. Наконец его голова показалась над жандармом. — Спускаюсь! — крикнул он; и я понял, что дальше по гребню не пройти. Он спустился и мрачно предложил: — Давай закусим. Мы молча поели. — Пройти-то можно, — наконец заговорил Андрей. — Но,— он показал головой на жандарм, — так же. Дня два проползешь. Солнце пригревало. Облачко на Зубре растаяло, и снежный купол вершины вовсю сверкал в голубом небе. Было похоже, что эта проклятая вершина посмеивается над нами. — Знаешь что? — спросил Андрей, вставая. — Пойдем там. Он не назвал Чертова перевала, но я прекрасно его понял. — Это авантюра. — Нет, — задумчиво сказал Андрей, — это не авантюра. Я уже давно наблюдаю. В ясные дни сыплет там примерно с двенадцати дня до трех и потом ночью. А сейчас, — Андрей посмотрел на часы, — семь. Если мы к одиннадцати выскочим на перевал, — все в порядке. Дальше путь ясен. Риск, конечно, есть… Несмотря на все расчеты Андрея, идти Чертовым кулуаром было жутко. Солнце сюда не попадало. Здесь было дико и мрачно. Со стены Зубра с гулким шипением и шлепанцем спадали ручьи. Иногда они отрывались от скалы и летели в воздухе. Снег в кулуаре, смешанный с обломками скал, будто перепахал какой-то сказочный гигант. Мы шли на полной веревке и волокли за собой красные лавинные шнуры. Если засыплет, чтобы можно было найти. Никогда раньше я не чувствовал себя таким маленьким и ничтожным по сравнению с этим воистину дьявольским нагромождением скал, снега. Тишина, царившая в кулуаре, была угрожающей, коварной. И мы невольно шли быстро и молча. Говорить не хотелось. На перевал вышли в начале одиннадцатого; и, когда уже лезли по восточному гребню к вершине, в кулуаре началось… Мы видели, как наверху от карниза отделилась глыба чистого бело-голубого снега и медленно начала скользить по склону. Потом, набирая скорость, летела вниз, рассыпалась в лавину, подхватывала с выступов камни и неслась в кулуар. Над кулуаром клубились облака снежной пыли; там все клокотало и ухало. Будто кипел этот холодный адский котел. — Да, — серьезно сказал Андрей, — помогли бы нам с тобой лавинные шнуры. Как же!.. Путь по восточному ребру тоже был не ровной дорогой, но около часу дня мы уже приближались к вершине. Начинала сказываться высота. Слегка шумело в голове, появилась тяжелая усталость. Резкие движения заставляли болезненно биться сердце. Особенно трудными показались последние метры. Надо сказать, мы взяли с Андреем не один десяток вершин, но никогда так не радовались. Обнявшись мы целовали друг друга, как подруги, встретившиеся после долгой разлуки. — Ты орел! — хлопал меня по плечу Андрей. — Нет, ты орел! — хлопал я его по плечу. Андрей начал дурачиться. — Что мне орлы, — говорил он. — Я над орлами смеялся. Если б меня понесли, я б еще выше забрался. С Зубра было видно все. Мы узнавали вершины, на которых побывали раньше. Они казались отсюда, сверху, какими-то маленькими и легкими. Все перевалы, весь хребет, насколько можно охватить взором, вставал перед нами вздыбленным морем снега и скал. Долины рек виднелись отчетливо, как на топографической карте. А на юге сине-голубым миражем лежало море. Сквозь дымку улавливались очертания чужого, далекого и, должно быть, знойного берега. Турция!.. — Мерзнешь, мокнешь, лезешь — только посматривай, чтоб не свалиться, — философски говорил Андрей, — а заберешься — тут тебе и награда. И какая… Я тебе скажу, Николай. Люблю стихии. Горы, море, тайгу, степь… Но горы, конечно, больше… — спохватился он. Мы соорудили тур. Опорожнили банку сгущенки и положили в нее записку. Мол, были. Погода хорошая. Привет следующим. И пошли вниз… Нельзя не сознаться: мы радовались, что утерли нос этому гладкому баварцу Цвангеру. Каково-то будет у него выражение лица, когда он обнаружит наш тур? Совершенно измученные, добрались мы до леса и даже не имели сил, чтобы сварить ужин. Поели сухарей с шоколадом, запили водичкой из ручья и забрались в мешки. На рассвете мимо нас прошли баварцы, но мы спали как убитые. В лагере нам не поверили. То есть все соглашались, что мы были на вершине, но высказывали сомнения: на Зубре ли? Андрей обозлился, нагрубил уполномоченному, который недвусмысленно сказал: — Не верю, что Зубр можно сделать за один день! Не верю!.. — Ну и дьявол с тобой. Не верь, — сказал Андрей. — А мы сделали… Весь день мы просидели на горячих валунах у речки. Стирали носки, нежились на солнце, слушали, как шумит вода, а иногда видели, как светлой тенью мелькала в реке форель. Баварцы вернулись через два дня. Молча, строем, как солдаты, они прошли к своим палаткам, а Цвангер и еще один пришли в наш лагерь. — О, — сказал он уполномоченному, — мы поздравляйт русские альпинисты. Вот записка. — Цвангер протянул нашу записку уполномоченному, у которого от изумления округлились глаза. — Разрешите пожать ваши руки, — продолжал Цвангер. Он заученно улыбнулся и двумя своими руками взял ладонь Андрея. — Я приятно удивлен. Оказывается, в России есть карошие альпинисты. Андрей вытащил свою руку и сказал: — В Баварии тоже… К нашему удивлению, Цвангер не казался расстроенным. Это было непонятно. Ведь цель его экспедиции была именно в том, чтобы взять Зубр первым. Второй баварец поздравлял нас кисло, и в глазах у него горела злоба не злоба, но раздражение. Когда они вышли, Цвангер сказал ему по-немецки: — Что ты злишься, Ганс? Мы свое дело сделали, — и довольно улыбнулся. Тогда я не понял смысла этой фразы… Прохоров замолчал. Костер уже совсем потух. Лишь под слоем пепла теплился огонь. Было холодно. — А потом? Потом поняли? — торопливо спросила Лина. — Андрей с Худяковым через несколько лет с ним опять встретились… — Расскажите, пожалуйста. — Нет, ребята, — сказал Прохоров, поднимаясь. — В другой раз. Сейчас уже отбой. Спокойной ночи. Угли в костре залили, и все разошлись по палаткам. Скоро над лагерем и над горами осталась бодрствовать только луна. Да река бушевала в темноте…
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КАТЯ!

Стирка
Немного выше лагеря от реки отделяется блуждающая протока. Она течет в тени среди кустарника, под корнями пихт или прячется в высокой траве. Характер у нее непостоянный. Неделю-другую ее торопливые воды бегут по одному руслу, а потом вдруг исчезнут и появятся там, где их вовсе не ждали. Протока — родное дитя горной реки: она также устилает свои многочисленные ложа камнями и, рассердившись после дождей, ворочает их и волочит вниз; здесь тоже есть водопады и кипящие пеной водовороты, но маленькие и не страшные — вода здесь не ревет, а звенит, булькает, журчит на разные голоса, сливающиеся в дремотное добродушное бормотание… Каждый имеет право использовать свободное время по-своему. Павлуша и Лина отправились смотреть, как устраивается на поляне Трех буков приехавшая киноэкспедиция, а Юра Мухин скрепя сердце занялся генеральной стиркой. У него есть принцип: все надо уметь делать самому. Павлуша — тот подсунул свои грязные майки и бобочку девушкам. «Посмотрим, — злорадно думает Юра, — как этот географ будет выкручиваться, если попадет в серьезную экспедицию, а женщин там не будет». Устроившись, Юра намыливает по очереди свои вещи и кладет в протоку, прижимая камнями. Течение само их полощет. У протоки тихо, прохладно и хорошо. Сквозь просветы в густой хвое пихт к Юре заглядывает солнце, виден склон Кара-баши, на котором чудом держатся громадные черные камни Большой осыпи. Понемногу грусть улетучивается из сердца Юры, и он начинает думать о Лине и о себе в благородно-героическом плане. «Весьма возможно, — считает он, — что эти черные камни могут сорваться со склона. Они же там, на поляне Трех буков, ничего не заметят, — начинает тревожиться Юра. — Рассматривают какие-нибудь бутафорские киноштучки». Он неодобрительно качает головой и вдруг совершенно явственно представляет себе, что, неизвестно по какой причине, Большая осыпь начинает сползать со склона, все увеличивая скорость. Никто еще не знает о страшной опасности. Только Юра о ней знает. Он бросает свою стирку и мчится к поляне Трех буков. «Лина! — кричит он ужасным голосом и, ничего не объясняя, потому что некогда, тащит ее под защиту прочной красной скалы, где они учились скалолазанию. — Павел! Ты не видишь?!» Камни уже скачут по склону, с грохотом летят вниз. Киношники тоже куда-то бегут. Ухх!.. Мухин растерянно смотрит на свои руки, в которых зажата мокрая майка… По-прежнему тихо бормочет вода в протоке. Большая осыпь недвижно висит на своем месте на склоне. Юра улыбается. Он знает, откуда у него такие безумные мысли. Последняя лагерная новость была тревожной. Довольно далеко от них, в Центральном участке хребта, альпинистский лагерь «Узеньги» несколько дней тому назад был уничтожен сползшим со склона грязекаменным потоком — силем. Силь сошел после недели проливных дождей, ночью, когда все в лагере спали. Ровный и глухой рокот не сразу разбудил альпинистов. Лишь когда вблизи лагеря силь начал с треском крушить лес, все повыскакивали из спальных мешков. Метровые в поперечнике пихты ломались, как спички. В предрассветном тумане грязекаменная масса с зловещим урчаньем подобралась к домику бухгалтерии, нажала на него и опрокинула вместе с дебетом-кредитом, квартальной отчетностью и денежным ящиком. Люди в «Узеньги» не пострадали. Силь течет медленно, и все успели убежать. Но деньги, паспорта, корешки путевок хранились в денежном ящике, а в каком месте застывшего на дне долины громадного грязевого блина он находился, — кто скажет? Тем более, что подобные истории случаются раз в сотню лет, а может быть, и того реже; и опыта в отыскании даже самых необходимых предметов, унесенных силем, ни у кого не было. Оставалось махнуть рукой, и после первых горячих попыток что-нибудь отыскать большинство так и сделало. Но вот нашлись ребята, которые решили найти денежный ящик во что бы то ни стало. Над ними все смеялись, а они упрямо копались в полузастывшей грязи, отворачивали громадные каменюки — и нашли. Стальной ящик сплющило, но деньги и документы в нем были целы. «Вот что значит упорство в достижении поставленной цели, — сформулировал Юра. — Это — ребята!..» Он задумчиво шваркнул намыленной майкой и вдруг вскочил. Выстиранные трусики вырвались из-под камня и, подхваченные быстрой струей, промелькнули мимо Юры. Прыгать за ними по скользким камням было не просто. Когда Юра уже настигал трусики, они ныряли в водопадик и на мгновенье исчезали из глаз. А когда выныривали, — все начиналось сначала. Возможно, что трусики таким образом исчезли бы навсегда, но случилось иначе: чья-то громадная нога наступила на них, такая же рука вытащила из воды. Перед Юрой стоял великан. Юра — человек среднего роста — приходился ему едва по грудь. На великане были короткие штаны-тирольки, — значит, он альпинист. Но Юра никогда его в лагере не видел. — Это ваша вещь, мистер? — спросил великан, подняв двумя пальцами над головой Юры его трусики. — Да, — твердо сказал Юра, — моя. Спасибо. — Фермер, ты что там поймал? Юра обернулся. С берега, из-под пихты, к ним спускался человек нормального роста, с острым носом и странной прической. Черные его волосы были зачесаны назад, но не лежали на голове, как обычно, а возвышались бугром и падали на шею, напоминая одновременно и гриву льва и хохолок у чибиса. — Ничего съедобного, Миллионер. Так, принадлежность мужского туалета. Она ничем не может нам помочь. Остроносый молча оглядел Юру с головы до ног. — Ты не деловой человек, Фермер. Человечество давно изобрело обмен. Всякая материальная вещь может быть превращена в другую. В данном случае трусики — в хлеб. Мы, — сказал он, поворачиваясь к Юре, — выловили ваши трусики, вы принесите нам хлеба. Услуга за услугу. Мы голодны. Ням-ням, — прибавил Миллионер, показывая жестами, что хочет есть, как будто он разговаривал с дикарем. Юра вспыхнул и, вероятно, обрезал бы остроносого, так как не терпел над собой насмешек. Но Фермер сказал: — Как вас зовут, мистер? — Юра. — Берите ваши трусики, Юра. Я не согласен с твоей теорией, Миллионер. — Ты болван, Фермер! Ведь я о тебе беспокоюсь. Ты быка слопаешь. — Ничего, — вздохнул Фермер, — я еще потерплю часок-другой. Приедет же этот чертов бухгалтер. — Хэлло, мальчики! Что здесь происходит? На берегу стояли еще двое. Очень красивая, как решил Юра, девушка с такой же прической, как и у остроносого, и молодой парень, пониже Фермера, но стройный и мускулистый. Оба тоже были в тирольках. — Ничего особенного, Роззи, — сказал Фермер. — Я поймал трусики этого молодого человека. Великан показал глазами на Юру, который молча смотрел на девушку, забыв о Лине. — Джон, — пожаловался Миллионер. — Эта сельскохозяйственная дубина испортила мне бизнес. — Выбирай выражения, Миллионер, — спокойно заметил стройный парень. — Хорошо, — решительно сказал Юра, — я принесу вам хлеба… Сейчас! — крикнул он уже с противоположного берега, обернувшись, чтобы еще раз посмотреть на девушку и на всех. На бегу Юра назадавал себе десятки вопросов: кто они? Может быть, «дикие» альпинисты. Но тогда почему остались без продуктов? Почему говорят как герои английских романов? Почему: Джон, Фермер, Миллионер, наконец Роззи? Ведь они русские — это ясно. А может быть, не русские?.. Было предобеденное время. Тощий днепропетровец Женя Птицын, который дежурил в столовой, расставлял по столам тарелки с хлебом. — Дай-ка сюда, — сказал Мухин и высыпал нарезанный хлеб с тарелки за пазуху. Оглянувшись, он взял следующую тарелку. — Колоссально, — пролепетал обалдевший Птицын. — Может, тебе борща дать? — Нет, — ответил Юра, — борща не надо, не во что взять, а вот не можешь ли ты достать котлеты? — Котлеты? — как эхо повторил Птицын. — Да, котлеты. — Сколько? — Сколько можешь. Четыре, нет, восемь. — Постараюсь. А зачем? — Об этом, Женя, потом. Ладно? — Ну ладно, — разочарованно сказал Птицын. Он исчез на кухне, но сразу же появился. — Только не забудь. — Что не забудь? — удивился занятый своими мыслями Юра. — Рассказать. — Ага… Конечно… Эти «джоны», как их мысленно окрестил Юра, находились на прежнем месте, под пихтой на берегу блуждающей протоки. Увидев Юру, Фермер улыбнулся. Роззи тоже обрадовалась, но скорчила полупрезрительную гримасу. Ее правилом было никогда не показывать своих истинных чувств. Джон деловито осведомился: — Что у вас за пазухой? — Котлеты, — ответил Юра. — И хлеб. Миллионер втянул острым носом воздух. — Блеск, — сказал он. — Юноша, подходите ближе. — Мальчики, — попросила Роззи, — я не могу есть всухомятку. Кто принесет мне воды? — Я, — поспешно откликнулся Юра. — Пожалуйста, — разрешила Роззи. — Вот кружка. Пока они ели, Юра все выяснил. Это были те самые ребята, которые спасли денежный ящик. Джон показал Юре записку. Начальник бывшего лагеря «Узеньги» писал здешнему: «Прошу нижепоименованных альпинистов принять до конца смены как отличившихся во время аварийной работы, т. е. стихийного бедствия…» Но сегодня воскресенье, начальник лагеря и бухгалтер Иван Павлович уехали по семейным делам в Светлую поляну, и поэтому записка не имела никакой цены. Некому было положить резолюцию: «Бухг. оформить», — некому было и произвести процесс оформления, без которого, как известно, человек не может быть зачислен ни на один из видов довольствия. Вот почему «джоны» голодали с утра на берегу блуждающей протоки. То, что Юра помог этим ребятам, наполняло его сердце гордостью. Они понравились ему. Людям вообще нравятся те, кому они помогают в тяжелую минуту. Кроме того, Юра понимал, что «джоны» настоящие альпинисты, хотя и со странностями, не новички, как он. Об этом можно было догадаться и по тому, как ладно сидела на их крепких фигурах одежда, и по тому, какие точные и уверенные, а вместе с тем слегка небрежные движения были у них, когда они прыгали с камня на камень вслед за Юрой к лагерному душу. Юра твердо обещал им «устроить» горячую воду, но совсем не был уверен в том, что это удастся. Наличие горячей воды в душе от него не зависело. Когда они выбрались из кустарника на большую плоскую скалу, с которой во всем своем великолепии были видны Зубр и Аман-Кая, Юра остановился. Как всякий хозяин, он хотел похвастаться своими горами. — Как называются эти холмики? — спросил Джон подчеркнуто пренебрежительно. — Холмики?! — Так назвать самые сложные и большие вершины района? Юра растерялся. — Конечно, холмики, милый чечако, — ласково сказала Роззи. «Чечако?.. Что такое чечако?» — старался вспомнить Юра. Где-то он слышал это слово. Ага. У Джека Лондона. Оно означает: новичок. Юра покраснел. — Да, новичок, — решительно сказал он и с вызовом посмотрел на Роззи. — И что же? — Ничего, мистер, не огорчайтесь. Это бывает, — процедил Миллионер. — Он читал старого Джека? — притворно удивилась Роззи. — Всеобщее среднее образование, — съязвил Миллионер, — делает доступным чтение мировой литературы. — Брось, — сморщился Джон. — Навалились на парня. К счастью, в душе оказалась горячая вода. Юра облегченно вздохнул и вдруг со всех ног бросился обратно к протоке. Там, прижатые камнями, полоскались в воде его вещи. Полоскались ли?Пари
Нарочитая, изысканная вежливость и то, что многие принимали за сдержанную мужественность, медленно и незаметно, как ржавчина, распространялись по лагерю. Не так отчаянно звенел гонг, когда значкисты или новички возвращались с ледовых занятий. Рукопожатия стали суше, поцелуи менее горячими. Да особенно и не расцелуешься, поздравляя подругу с успешным возвращением в лагерь, если невдалеке стоят Джон, Роззи и в особенности Миллионер, который смотрит на тебя холодными глазами так, как будто хочет сказать: «Целуются, поздравляют. А с чем?.. Зола». Нашлись и последователи. Женя Птицын придумал для себя кличку — Долговязый Ев — и стал называть всех мужчин мистерами, а девушек — леди. Кличка, выдуманная Женей, не прижилась, но как-то само собой сложилась другая. Его стали звать: мистер Птичкин. — Леди, — говорил мистер Птичкин, — ваши ботинки собрали между триконями половину почвенного покрова Большого Кавказа. Я буду рад сопровождать вас к месту, где вы сможете привести их в порядок и смазать несравненной мазью для горной обуви фирмы «Солидол, тавот и компания». «Леди» церемонно приседала, разводя в сторону обе штанины своих лыжных брюк. — Вы оказали мне честь, мистер. Я никогда не забуду вашей заботы обо мне. Еще дольше я буду вас помнить, если вы сами почистите мои ботинки и смажете их вышеуказанной мазью. Леди, как вам, надеюсь, известно, не может пачкать свои руки о почвенный покров даже Большого Кавказа. Вот, берите… — Э-э… — бормотал мистер Птичкин упавшим голосом. — Я счастлив, что могу заслужить вашу благодарность. — И отправлялся чистить чужие ботинки. А что ему оставалось делать? Юра Мухин тоже изменился. Все свободное время он проводил около «джонов». Или они уединялись с Миллионером, который ему объяснял разницу между индиана-вуги и буги-вуги, или издали следил за Роззи в надежде, что ей понадобится какая-нибудь услуга. Лина как-то ему сказала: — Увлекаешься этими «джонами»? Было ясно, что главным образом она имеет в виду Роззи. — А ты киноискусством? — отпарировал Юра. Лина вспыхнула. Она понимала, что Юра намекает на ее прогулки по лагерю киноэкспедиции с известным киноартистом, который рассказывал ей о «кухне кино» и, между прочим, считал, что у нее, у Лины, несомненно есть данные. — Это глупо! — Вот и я говорю. — Ну, знаешь!.. — Лина тряхнула головой. — Все-таки лучше, чем твои припадочные танцы. Ты думаешь, никто не видит, как вы с Миллионером дрыгаете ногами у протоки? Смутиться пришла очередь Юре. — Организм требует танцев, — неуверенно сказал он. — И современных, а не доисторических. Серость… Мысли и даже сами выражения принадлежали Миллионеру, и Юра с ними полностью не был согласен. В глубине души он понимал, что буги-вуги скорее походил на танец пещерных людей, чем на вальс, например тот, который он танцевал когда-то с Линой. Но раз пошел такой разговор… Дело могло кончиться полным разрывом. К счастью, площадка перед клубом, где они ссорились, стала наполняться людьми. Отсюда был виден тот очень крутой снежник Кара-баши, который при спусках обходят по скалам, а на занятиях показывают как теоретически недоступный ни для подъема, ни для спуска. По снежнику с бешеной скоростью мчались вниз четыре черные точки. У Юры сжалось сердце. Ведь «джоны» ушли сегодня на Кара-баши. У них восхождение на схоженность. Это они! — Падают! — закричал кто-то. Новички уже знали, что врезаться с такой скоростью в скалы, окаймляющие внизу снежник, — смерть. — Начспаса, скорей! Где Прохоров? А Прохоров стоял здесь же и спокойно смотрел в бинокль. — Так не падают, — сказал он не отрываясь. — Видите, как они ровно держат дистанцию. Поворачивают… Они глиссируют. — Ребята! — заорал мистер Птичкин, размахивая руками. — Это боги! — Что он сказал? — Он сказал — боги, но это техника! — Видишь, Лина? — Ну, вижу. — Это тебе не бутафорские скалы из фанеры и ваты с нафталином у твоих киношников. Ползают там, как тараканы. А потом будем смотреть в кино и восхищаться — смелые люди! Тьфу!.. Прохоров неторопливо передал бинокль замполиту и сказал: — Что-то мне кажется, они без рюкзаков. Посмотри. — Ты думаешь? — Могут, — задумчиво ответил Прохоров. — С них станет. — Не видать. Ты, пожалуй, неправ. Что ж, они не понимают? А вдруг погода испортится, задержатся?.. Тогда как? Как будто вернулись прежние дни. Не с ленцой и скептическими улыбочками, а бегом, в считанные секунды, собрался лагерь на линейку. Такое воодушевление охватило новичков, какое бывает разве лишь при встрече группы, вернувшейся с рекордного восхождения. Роззи, легко шагая, провела мимо палаток своих мальчиков, небрежно отрапортовала начспасу и вручила записку, снятую с Кара-баши. Обычно на эту вершину ходили из лагеря за четырнадцать — шестнадцать часов. Им потребовалось всего десять. — С рюкзаками ходили? — в упор спросил Прохоров. — А это что? — Миллионер с издевательской улыбкой похлопал по рюкзаку, лежащему у его ног. — Мираж? Видение? — Я не у вас спрашиваю, — обрезал его начспас. Роззи молчала. Фермер отвернулся. Солнце било в глаза и мешало ему смотреть прямо. — Так как?.. Джон сказал: — С рюкзаками. А какое это имеет значение? — Вам не ясно? — Нет, не ясно. — Он у меня попомнит, этот мистер, — прошипел Миллионер на ухо Роззи. Она поморщилась: — В самом деле?.. У Роззи вдруг куда-то исчезла ее непроницаемая холодность. Сейчас, под взглядами двух сотен восторженных глаз, она была действительно очень красива. Ее лицо освещала добрая, немного смущенная улыбка. Совсем другой была эта девушка. Юра смотрел на нее и чувствовал, как у него растет и растет та самая зубная боль в сердце, о которой когда-то писал Гейне. Этот вечер был необыкновенным. Удаль и мастерство «джонов» воодушевили всех. В палатке с откинутой полой, у бассейна, вокруг бильярдного стола опытные альпинисты рассказывали случаи из своих восхождений, в которых они, что греха таить, нарушали формальные положения, но все, слава богу, обходилось благополучно. Новички жадно слушали, как в сплошном тумане, при сумасшедшем ветре, в таких условиях, когда ходить категорически запрещается и надо отсиживаться, группа значкистов второго года вместо одной вершины взяла три. — Вернулись в лагерь, докладываем, подаем записку. Начспас говорит ледяным голосом: «Не там были». Мы — вторую записку, а у него глаза на лоб: «Это что же такое?!» Мы — третью… Все засмеялись, представляя, какое выражение лица было у начспаса. Джон сидел на перилах веранды за стулом, на котором расположилась Роззи. Уже стемнело. На западе взошла луна. По лагерю кое-где вспыхивали огоньки папирос, слышались взрывы смеха. На ступеньках веранды и вблизи в тени деревьев сидели и стояли, напряженно вслушиваясь, новички и значкисты. Джон рассказывал о вершинах Центрального участка. Кое-кто из разрядников и инструкторов там бывал и время от времени, из законного желания об этом напомнить, вставлял несколько слов: — Я знаю это место. Его и на кошках с трудом пройдешь. Лед там натечный. Кошки не держат. Мы полдня мучились. Джон усмехнулся: — Такие места надо брать ходом. Если будешь организовывать страховку, — и день пройдет. Мы шли час. Ты не дашь мне соврать, Роззи? — Не дам, Джон. — Спасибо, — сказал Джон. — Мы в «Узеньги» за полсмены «сделали» семь вершин, и каких. А здесь за четыре дня на один пуп слазали. — А это, — спросил Коля Петров, показывая на Опоясанную, которая суровой грозной стеной нависла над лагерем, — это не вершина? — Мы ее, — посмеиваясь, сказал Миллионер, — в тирольках сделаем. — В тирольках? Да вы знаете, как там прихватить может? У нас не Центральный участок. — Пари? — спросил Миллионер вызывающе. Петров обозлился. — Идет. — Вы с ума сошли? — сказал Саша Веселов. — Какое тут, к черту, может быть пари! Тоже мне, англичане прошлого века! — А вы, сэр, собираетесь доложить начальству? — ядовито осведомился Миллионер. — Очень мне нужно! — вспылил Веселов. — Если захочешь голову ломать, это можно сделать ближе. Незачем тащиться на Опоясанную. — Веселов отвернулся и вдруг сказал: — Смотрите, она смеется!.. Освещенная луной, вершина Опоясанной светилась. Действительно казалось, что она улыбается доброй, снисходительной улыбкой. Мол, расшалились ребята. Прозвучал гонг на ужин. На веранде зашевелились. Спор спором, а ужин ужином. — И что же, мистер? Каково ваше решение? — спросил Миллионер у Петрова, спускаясь с веранды. — Согласен. — Только смотри, — жестко сказал Миллионер, — потребуем все, что захотим. — Не пугай. После ужина Джон и Роззи ушли гулять по залитой лунным светом дороге к поляне Зубров. Фермер, сложив свои громадные руки на коленях, чего-то ждал, сидя на камне, откуда была видна эта дорога. Организм Миллионера снова потребовал танцев, и он вместе с Юрой долго отбирал пластинки, которые позволяют хоть что-нибудь «изобразить». Вскоре над лагерем заскрежетали звуки, которые заставили Фермера вздрогнуть. Когда, уже после отбоя, на дороге показались темные фигуры Роззи и Джона, Фермер встал, ушел в палатку и с трудом залез в спальный мешок, накинув на плечи свитер. В лагере не было мешка ему по росту. Джон, раздеваясь, сказал: — Выходим в пять. Погода как будто ничего. Слышишь, Фермер?.. Фермер молчал.Кабаре
Они не вышли. Ночью с моря приползли туманы и залегли в горах. Утреннее солнце не могло пробиться на землю. Водяная пыль сыпалась с низкого неба. В сыром воздухе глухо шумела река, да и другие звуки, возникая, быстро гасли, будто их кто-то прикрывал подушкой. Ветра не было. С деревьев лениво падали крупные капли. Освобожденные листья вздрагивали и снова склонялись под тяжестью накапливающейся влаги. Юра проснулся до подъема, вышел из палатки в трусиках и ботинках на босу ногу, осмотрелся и понял: восхождения отменили, Роззи провожать не надо, скальные занятия не состоятся и вообще все плохо. Бр-р! Его передернуло от сырости и огорчения. Из-под веранды навстречу Юре вылез лопоухий щенок Жандарм, с надеждой во взоре. Жандарм не без оснований рассматривал каждого альпиниста как косвенное средство утоления своего неистребимого голода. Он встречал возвращавшиеся с восхождений группы на подходах к лагерю и, как страус, глотал все, что ему давали: корки хлеба и остатки масла, томатную пасту и сахар, лук и даже маринованный болгарский перец. Размышлять было некогда: в лагере существовали и другие собаки. Кроме того, этот щенок был пустобрехом. Он лаял с одинаковым усердием на занимающихся физзарядкой альпинистов, в том числе и на тех, кто его кормил, на движок, который по вечерам начинал работать, и просто так, когда ему что-нибудь мерещилось. В свободное от этих занятий время Жандарм спал на поляне перед клубом или под верандой, в зависимости от метеорологических условий. Юра вернулся в палатку. Спальный мешок еще сохранял соблазнительное тепло. Но Юра не поддался искушению. Он взял ножницы, нитки, сапожную иглу и свои единственные брюки, в которых он приехал в лагерь, и отправился в бытовую палатку. Жандарм выбрался из своего укрытия, болтая ушами, затруси́л за ним. В бытовой палатке не было стула, но это не имело никакого значения. Юра, что-то примеривая, приложил свои брюки к ногам и потом залез на стол, устроился поудобнее и взял ножницы. За приоткрытой полой палатки виднелись бассейн с вышкой, лагерный флаг, безвольно облепивший мачту, мокрая драночная крыша столовой. Из трубы шел дым. В лагере было тихо. Юра не подозревал, что только за полчаса до того, как он проснулся, «джоны» переругались с начспасом, потому что он не разрешил им выход. Джон доказывал, что туман, окутавший горы, — это препятствие для слабонервных и что, пока они дойдут до ледопада, облачность разойдется. Роззи сказала, что Прохоров был бы неплохим воспитателем в детских яслях. Миллионер заявил, что здесь не лагерь, а пансион для лиц престарелого возраста. Прохоров все это выслушал, повернулся и ушел в свой домик. Сперва Юра отрезал повыше колена одну брючину, потом вторую. Когда одна из них упала на пол, Жандарм рванулся вперед. — Дурак, куда в тебя лезет? — удивился Юра, торопливо слезая со стола, чтобы успеть вовремя схватить брючину. — Иди на кухню. Может, что-нибудь и перепадет. Хапуга. Новички и значкисты строились на завтрак, и Женя Птицын потрогал Юрины тирольки. — Шикарная вещь… — Мистер Птичкин пошевелил пальцами, как ножницами. — Сам?.. — Сам. — Колоссально, — с уважением заметил Женя. Помолчав, он вдруг спохватился: — А в чем домой поедешь? Когда наступают на мозоль, это редко кому нравится. Юра сердито ответил: — Отстань! Тебе какое дело? Часам к одиннадцати, как и предсказывал Джон, в облачности появились просветы. На несколько минут выглянуло солнце. Жандарм с раздутым брюхом развалился на подсохшей траве у спуска к бассейну и блаженно спал. На баскетбольной площадке появилсянарод. Четверо классных баскетболистов безжалостно обыгрывали начинающих. Счет рос катастрофически. Фермер вместе с другими зрителями смеялся над неумелыми попытками начинающих защитить свою корзину. Потом он помрачнел, встал и вышел на площадку. — А ну давай, — сказал он начинающим. Теперь положение изменилось. Фермер, используя свой рост, легко перехватывал мячи у своего щита и командовал: — Вперед! Он не стремился атаковать сам. Это было бы слишком просто. Он мог, получив мяч, пройти с ним через всю площадку и положить его в корзину. Но Фермер выводил под щит кого-нибудь из своей команды. Его доверие воодушевило начинающих. Борьба стала равной и острой. Команда Фермера медленно набирала очки. Зрители орали «брра-во!», классные баскетболисты нервничали и грубили. В это время подошла Роззи. Она обвела устало-ироническим взглядом площадку и неторопливо сказала: — Фермер, ты мне нужен. — Сейчас, Роззи. Мы сравняем счет. Роззи помолчала. Потом тряхнула мальчишеской головой и требовательно повторила: — Я жду… Фермер развел руками, как бы извиняясь перед своей командой, и вышел из игры. Его проводили разочарованными взглядами. — Что случилось, Роззи? — Ничего. Мне скучно. Наслаждаясь своей властью, Роззи положила руку на согнутую руку Фермера и повела его к палаткам. — Странно, — насмешливо и безжалостно сказала Роззи. — Почему твоя мускулатура стала такой деревянной? Можешь расслабиться. Фермер не нашел ответа. Он не умел отвечать быстро. Он был совсем другим человеком. А Миллионер вместе с Юрой стоял у палаток, смотрел на спящего Жандарма и что-то соображал. На его остроносом лице застыла мстительная улыбка. — Довольно бездействовать, — сказал он. — Сейчас мы кабаре устроим. — Кабаре? — переспросил Юра. — Беби, — Миллионер презрительно скривился. — Это такое мероприятие: сидишь и пьешь коктейль, а перед тобой джаз, герлс, световые эффекты — феерия! Умеют жить! Железно! Миллионер вздохнул. Ясно было, о чем он вздыхает. У Юры было другое мнение. Он пробормотал: — Не вижу ничего железного. — Можешь не видеть, — зло сказал Миллионер. — Тащи краску. Нельзя сказать, что Юра не понимал существа того самодеятельного спектакля, который они собирались разыграть. То, что затеял Миллионер, было оскорбительным для Николая Григорьевича Прохорова, а Юра его уважал. Но ведь погода в самом деле стала лучше. Выходит, Прохоров перестраховался? Юра побрел к хозяйственному складу, надеясь на пути встретить Павлушу или, в крайнем случае, Лину, — посоветоваться. Он заглянул в клуб — нету. Юра махнул рукой. В конце концов с бюрократизмом и перестраховкой в альпинизме надо бороться, невзирая на лица. Сколько групп могло сегодня уйти на восхождения, если бы не Прохоров? Краску удалось достать масляную, и она плохо приставала к влажному боку Жандарма. Миллионер нетерпеливо выглядывал из-за палатки. Наконец Юра кивнул: «Готово!» И «джоны» вышли на площадку перед клубом, связанные веревкой, с ледорубами в руках, в штормовых костюмах с поднятыми капюшонами. За спинами у них висели чудовищные рюкзаки. Они шагали преувеличенно осторожно. Идущий впереди Миллионер время от времени останавливался, жестом просил его страховать и на ровном месте «рубил ступеньку». Только после этого он осторожно ставил ногу, оборачивался и командовал следующему: «Пошел!» Юра сидел на траве около Жандарма и видел, как из разных концов лагеря собирались привлеченные пантомимой альпинисты. Смысл ее был ясен: группа отправлялась на восхождение, взяв все необходимое и страхуясь даже там, где страховаться не надо. Миллионер обнаружил незаурядные мимические способности. Он забил в воображаемую скалу крюк и начал было спускаться, соблюдая классическое правило «трех точек опор», но, решив, что этот путь небезопасен, вернулся и, почесав в затылке, стал искать другой. Среди альпинистов послышался смех. Юра тоже засмеялся. Преодолев со «страшным напряжением» расстояние в пять метров, которое отделяло «джонов» от бетонной лесенки, Миллионер остановился перед ней в раздумье. Он заглядывал с высоты первой ступеньки вниз с таким выражением, будто под ним был обрыв в несколько сотен метров. Народ прибывал. — Давай, давай. Не бойся! — закричал Женя Птицын. Но Миллионер подозвал к себе остальных членов группы, и, обменявшись несколькими жестами, они стали готовиться к спуску способом «сидя на веревке» так, как действительно спускаются с отвеса. Настало время. Юра щелкнул щенка по носу. Жандарм вскочил и, увидев перед собой столпившихся у лесенки «джонов», бросился на них с визгливым лаем. Все увидели на его боку надпись: «Начспас». Жандарм как будто категорически запрещал дальнейшее движение. Взрыв хохота прокатился над толпой зрителей. Миллионер торопливо полез в карман штормовки за выходными документами, показал рукой на солнце, сквозь разрывы облаков освещавшее лагерь и ближайшие вершины, оправдываясь, похлопал по своему переполненному рюкзаку, — ничего не помогало. Жандарм остервенялся еще больше. Его нелепая злость, воинственно поднятый прутик хвоста, болтающиеся глупые уши действительно были комичны. На веранде столовой смеялись подавальщицы, выбежавшие взглянуть на то, что происходит. Юра, забыв все на свете, катался по траве. Сдержанно улыбался обвешанный крючьями и обвязанный веревкой Фермер, открыто и заразительно смеялись Джон и Роззи. Даже на лице Миллионера появилась на мгновенье торжествующая улыбка. Он умолял Жандарма «разрешить» продолжать движение, но щенок вошел в раж, и остановить его теперь было невозможно. И вдруг все стихло. Миллионер изумленно взглянул на альпинистов. На их лицах еще теплились улыбки, но уже какие-то сконфуженные, стыдливые. Они смотрели на домик начспаса. На пороге, опершись рукой о косяк, стоял Прохоров и наблюдал пантомиму. На сердце у него было горько. Он пытался оправдать молодежь. Едва ли они понимают, что делают. Им ли знать, что для его поколения не было слова оскорбительнее слова «жандарм»? Как быстро все забывается! «Может быть, я и в самом деле перестраховщик? — думал Прохоров. — Разве стали бы они так дружно смеяться, если бы в этом представлении не было хоть зернышка правды? В чем же моя ошибка?» Миллионер продолжал паясничать. Жандарм рычал. Но Фермер, опустив голову, собирал веревку в кольца, а зрители молча расходились. Юра глубоко страдал. Впервые за все время, пока он был в лагере, ему захотелось быть подальше отсюда. Очень кстати подошла тучка. Закрапал дождь, Жандарм убежал под веранду. Вскоре на территории лагеря стало пустынно, только из палаток доносилось гуденье — там обсуждалось «кабаре». Юра намочил тряпку в керосине и пошел искать Жандарма. Ловить пришлось долго. Жандарм не давался. Он не любил запаха керосина. — Подлец, — шептал Юра сквозь зубы, ползая в темноте под верандой с котлетой в одной руке и тряпкой в другой. — Подлец!Я люблю тебя, Катя!
Многие были удивлены, когда перед отбоем стало известно, что Прохоров подписал «джонам» выходные документы. — Подействовало, — хихикнул кто-то, но на него цыкнули. Он замолк. Замполит долго сидел в домике начспаса, рассматривая кроки маршрута, списки снаряжения и продуктов, проверяя подписи членов маршрутной комиссии. — Ты не ошибаешься, Николай? — спросил он, перевернув последнюю страницу. — Видишь ли, мне кажется, что они кое в чем правы. Сильная, спаянная группа может пройти везде и при любых условиях. Почему мы взяли за правило не доверять молодежи? Не отталкиваем ли мы ее от себя? Я вот думаю о другом: надо нам чаще ходить вместе. А то группы создаются сами по себе, по принципу — приятель к приятелю. Интересы, скажешь, общие? Да, но и грехи общие, общие возрасту. В смешанных группах они должны исчезать быстрее — приходится считаться и с чужими взглядами. И потом, у меня нет оснований их задерживать. Вот сводка. Ураганов не предвидится. — Дело не в ураганах. — Замполит встал. — У меня что-то вот здесь неспокойно. — Он приложил руку к сердцу. — Не могу я их понять: что это за народ? Просто трепачи или похуже? Прохоров молчал. — А ты думаешь, у меня спокойно? Мне все кажется, что они без рюкзаков ходят. Уж очень быстро у них это получается: раз-два — и на вершине. Впрочем, крепкие ребята… — Ты их предупреди. С горами не шутят. — Конечно. — Прохоров улыбнулся. — Нравится мне этот великан… — Но ведь не он идет начальником группы? — Нет, не он.* * *
Они вышли рано и шли быстро, освещая тропу фонариком. Рассвет застал их у ледопада. Никто не приходил сюда в такое время. Лед, скованный ночным морозом, был крепок. Не звенели капли, не булькала, не ворчала вода в трещинах и воронках. Горы еще спали. Предутренний ветер только начинал шевелить окутывающие вершины облака, и они медленно, неохотно трогались с места. Восхождением руководил Джон. Напускная лень и нарочитая небрежность у него исчезли. К работе «наверху» он относился серьезно. И сам он и его группа были отлично тренированы, понимали друг друга без слов. В их восхождениях все было подчинено одному — скорости. Они не отвлекались для того, чтобы улыбнуться, увидев далеко внизу, сквозь просветы в облаках, белые палатки лагеря. Некогда им было полюбоваться панорамой хребтов, подернутых синей дымкой. Фотографировалось только то, что было необходимо для доказательства: «Я был на этой вершине». Они походили на хорошо работающий, слаженный механизм для восхождений. Желание взять вершину и вернуться в лагерь на час, на два, на сутки раньше, чем это удавалось всем предыдущим группам, не оставляло времени для того, чтобы вглядеться в красоту гор, понять ее и испытать от этого радость. Они радовались внизу, в лагере, когда слышали вокруг восторженный шепот: «Эти ребята железно ходят!» Радовались, но не показывали виду: «Зола!» Движение по ледопаду требовало времени. Надо было часами искать путь в лабиринте ледовых стен и трещин, по одному, на охранении, переползать хрупкие снежные мостики и в результате продвинуться вперед на 200–300 метров. Джон выбрал другой путь. Он повел группу по скальной стене, нависающей над ледником. Никто, даже Фермер, не упрекнул его в том, что этот путь маршрутной комиссией не утверждался. В монолитных плитах стены некуда было забить крючья для страховки, а внизу чернела подгорная трещина. Вряд ли удастся достать оттуда тело того, кто упадет. Но они уверены в себе. Они не собираются падать. Когда, обойдя ледопад, группа вышла на верхнюю часть ледника, Джон не замедлил шага, не обернулся. Он знал, что Роззи идет за ним. А раз идет она, — должны поспевать другие. В этом было особое молодечество — не останавливаться тогда, когда хочется отдохнуть. Все складывалось прекрасно. Ветер разогнал облачность, небо очистилось, лишь на Зубре по-прежнему стояла туча. Чистейшие снега верхних фирновых полей сияли на солнце тем ослепительным светом, который издали придает горам их ни с чем не сравнимое очарование. Вблизи этот свет страшен. Он обесцвечивает волосы, слепит глаза, обжигает кожу, покрывает волдырями губы. Они надели очки и поднялись на небольшое снежное плато над гребнем. У едва виднеющихся из-под фирна плоских камней остановились завтракать. Это был первый отдых за семь часов беспрерывного движения. Железные люди… Отсюда был виден весь путь к вершине. На гребень выводило несколько кулуаров, но только один, сравнительно безопасный, не отмеченный следами лавин, был утвержден как путь восхождения. Зубчатый гребень заканчивался башней вершины, опоясанной тремя белыми кварцевыми поясами. Считалось, что эти пояса и есть самые сложные участки маршрута. Миллионер снял штормовые брюки и надел тирольки. Джон и Роззи тоже переоделись. Фермер спросил: — Зачем? — А пари? — быстро обернулся к нему Миллионер. — По-моему, напрасно, Роззи. Я не понимаю смысла этой затеи. Миллионер всегда что-нибудь придумает. Только иногда выдумки кончаются плохо… Фермер, конечно, вспомнил вчерашнюю пантомиму. — Он не понимает, — мгновенно окрысился Миллионер. — Если ты еще ничего не понимаешь, тебе надо ходить в детский сад, носить вышитый передничек и петь: «В лесу родилась елочка». Ты как думаешь, Джон? — Я не думаю, — пережевывая кусок колбасы, откликнулся Джон. — Я ем. А впрочем, пусть поет. Интересно послушать. — Может быть, ты боишься простудиться? — иронически спросила Роззи. — Хорошо, Роззи. Я переоденусь, — сказал Фермер. — Пари так пари… Палатку, спальные мешки, теплую одежду и продукты оставили на месте привала. Освободили рюкзак Фермера и сложили туда крючья, скальный молоток, немного хлеба, сыру, сахару и пачку печенья. Взгляд Миллионера случайно задержался на Зубре. Плотное сизое облако торчало на вершине, как привязанное. Секунду подумав, Миллионер что-то достал из своего рюкзака и незаметно сунул в карман того, который брали с собой. Джон рассчитывал сходить на вершину и вернуться к месту привала часов за пять. Если это удастся, а удаться должно, они успеют до темноты пройти ледопад, сегодня же будут в лагере и поставят рекорд. На Опоясанную ходили два дня, ночуя на снежном плато или на аварийной ночевке под башней вершины. Во всяком случае, не было еще группы, которая ушла бы на гребень без рюкзаков. Опоясанная пользовалась дурной славой. Не раз, застигнутые непогодой, под башней отлеживались в палатке альпинисты, прислушиваясь к порывам ветра и дожидаясь возможности уйти из плена Опоясанной. Джон, Роззи, Миллионер и Фермер об этом знали. Но, двигаясь без рюкзаков, они выигрывали по крайней мере два часа. Джон смеялся: «Мы выигрываем всегда те самые часы, когда происходят бури и туманы, которыми нас пугают начспасы». И кулуар, и пилу гребня, и даже кварцевые пояса прошли легко и быстро. Сегодня все удавалось, Фермер добродушно сознался Роззи на вершине: — Ты была права. В тирольках идти приятнее — не жарко. Джон и Миллионер разбирали тур, доставали записку. Но уши у Миллионера были устроены так, что он свободно мог слышать и то, что говорили у него за спиной. — Гипертрофированный младенец, — сказал он. — Теперь ты понимаешь, что в воспитании необходимо применять меры принуждения в интересах самого беби? Фермер, как обычно, не нашел ответа. — Ты тюлень, Фермер, — сказала Роззи. — Почему ты ему не ответишь? — Не умею, — виновато улыбнулся он. Легкая победа, уверенность в том, что новый триумф ждет их в лагере, вскружили им головы. Джон разлегся около тура на камнях, нагретых солнцем, и тихо говорил с Роззи. Фермер сидел в стороне и смотрел, как, вынесенная потоком нагретого воздуха над перевалом, горная галка торопливо махала крыльями — спешила вернуться вниз, к старой морене, где она жила. Миллионер что-то бормотал и выкрикивал, — это он пел «Сквозняк в пустыне» («Сделано в США, штат Колумбия»). В такт этому странному произведению, не имеющему ни мотива, ни мелодии, он тряс коленкой. По всему было видно, что Миллионер доволен. В таком настроении они начали спускаться. На втором кварцевом поясе Миллионер успел побледнеть. — Эй ты, — спокойно сказал Джон, — полегче!.. Облако на Зубре зашевелилось. Должно быть, переменился ветер и погнал его в сторону Опоясанной. При спуске с башни оно их накрыло. Просвечиваемые солнцем волокна тумана обдавали разгоряченные тела приятной прохладой. Голоса зазвучали глуше. Горы скрылись. Внизу исчез ледник, а вскоре в серой мути пропало и небо. Скалы гребня стали сырыми и скользкими. Пришлось сбавить темп движения. Им не раз приходилось ходить в туманах, но этот был какой-то особенный: в двух шагах фигура впереди идущего расплывалась, а в трех — исчезала за пепельно-мутной завесой. Ветер упал. Облако надолго завладело Опоясанной. Вот, наконец, спуск в кулуар. Джону он показался круче, чем тот, по которому они поднимались. Но кто же не знает, что в тумане все представления о расстояниях и крутизне меняются? Сыро и холодно было в кулуаре. Тревожно скрежетали трикони, когда чья-нибудь нога проскальзывала на слишком крутом склоне. — Джон! — глухо позвал Фермер. — Это не тот кулуар! — Вижу, — коротко ответил Джон. — Не возвращаться же… Но возвращаться пришлось. Стены кулуара сдвинулись. Он превращался в узкий обледеневший желоб, отполированный скатывающимися камнями. Подъем на гребень отнял много времени, но хуже всего было то, что они теперь не знали, где находятся. Куда идти по гребню? Направо, налево?.. Где искать спуск к леднику? Там рюкзаки. Можно поесть, поставить палатку и переночевать. Ведь в лагерь сегодня все равно не прийти. Джон повел группу по гребню осторожно, медленно, вглядываясь в каждый камень. Если бы хоть на минуту разошелся туман! Нет, мокрые черные скалы так же отвесно уходили вниз и в двух метрах растворялись в сером мраке. Темнело. Лениво, крупными хлопьями пошел снег, и это уничтожило надежду пересидеть ночь на гребне — замерзнешь. Во время короткой остановки Фермер достал остатки печенья и разделил его. Они были голодны, но ели без удовольствия. Снег падал на голые ноги и таял. В телах, еще сохранявших тепло, разливалась усталость. Напрасно они садились… Было очень тихо в тумане. Роззи столкнула камень. Прокатившись немного, он исчез. Все прислушивались. Звук будто растаял. Через несколько секунд томительного ожидания снизу донесся рокот. Камень упал в подгорную трещину. Фермер покачал головой. Миллионер вздрогнул. — Ну, довольно, — сказал Джон, поднимаясь. — Раскисли. — Кто раскис, я? — А ты, должно быть, можешь раскиснуть, — задумчиво проговорила Роззи. Миллионер пожал плечами. Джон нашел спуск. Не тот безопасный, по которому они днем шли на вершину, — другой. Но выбора не было. Сантиметр за сантиметром сползали они по узкой каменной щели. Снег валил не переставая. Скалы покрылись мокрой кашицей. Джон шел первым, собирал ее на себя и промок насквозь. Зато Роззи, наверное, было немного легче. Ноги скользили. Шли наугад, — никто не гнал, есть ли внизу выход на ледник, не ждет ли их под скалами подгорная трещина, та, в которой исчез камень, спущенный Роззи. На средине пути попался уступ. Здесь могла бы встать палатка, если бы она была; здесь можно было бы отсидеться до утра. Им еще раз повезло. Щель соединялась с ледником снежным мостом. Где-то недалеко лежали их рюкзаки, одежда, спальные мешки. Джон и Роззи пошли искать вниз по склону, Фермер и Миллионер — вверх. Через два часа бесполезных блужданий по глубокому вязкому снегу они сошлись. Может быть, рюкзаки лежат под снегом где-то рядом. Но где?.. Искать дальше они не могли. Устали. И в темноте так просто не заметить трещины, занесенной предательским снегом. Развязались. Фермер собрал веревку в бухту и положил перед Роззи. Она села. Джон протоптал в снегу замкнутую тропу, подошел к Роззи и мягко сказал: — Пойдем… Надо ходить. Роззи поднялась. — Конечно. Пошли… Круг за кругом. Круг за кругом… Тропа становилась глубже, снег под ногами уплотнялся. Они знали секрет, как побеждать усталость. Надо идти механически: раз-два, раз-два… Не оступаться, не тратить лишних сил, не изменять темпа, не думать о том, что можно сесть и отдохнуть, и не ждать того, что скоро наступит утро. Не так просто было их сломить. Сейчас у этих жалких, измученных и замерзающих людей, совсем не похожих на тех самоуверенных «джонов», которые утром «бежали» на вершину, можно было учиться упорству и мужеству. Не тому, показному, которое они искали в своих кличках. «Геннадий? Что такое Геннадий? — говорила когда-то Роззи. — Это длинно и невыразительно. Федя?.. Это коротко, но сентиментально. Джон — вот это энергично и мужественно. Как удар: Джон! Слышите?» «Смелые ребята», — говорили о них, когда они прислали в факультетскую стенгазету фотографию, где обросшие бородами, грязные «бродяги», потрясая ледорубами, на вершине кричали «ура» в честь начала учебного года. Какая же это смелость? Скорее фанфаронство или просто наглость. Но кому удалось доказать им, что между мужеством и бравадой проходит граница? Разве они кого-нибудь слушали? «Это зола», — говорил Миллионер. «Пропаганда и агитация, — вторил ему Джон. — Надо быть хорошим. Это мы знаем». А Роззи просто улыбалась. Поднялся ветер. Снегопад прекратился. Из белесого мрака выступили темными пятнами скалы. В очистившемся небе появились контуры Опоясанной. Справа и слева возникали в свете Млечного Пути другие вершины. Маленькие черные фигурки упрямо брели по огромному леднику. Туман рассеялся. Начало подмораживать. Далеко внизу, в черной ночной долине рядами засветились огни. Но на глазах они гасли. Был двенадцатый час — в лагере ложились спать. Они остановились и молча смотрели на лагерь. Не насмешливо, а как-то по-другому. — Миллионер, — сказал Фермер, — достань фонарик. Дадим сигнал. Скорее! — Не смей! — вскрикнула Роззи. — Ты струсил, да? Струсил! У тебя не хватает сил продержаться до утра? У меня хватит, а у тебя нет? — Роззи, — попросил ее Джон. — Он прав. — Молчите! Какие вы мужчины? Вы — тряпки! — Тряпки?! — вдруг заорал Миллионер. — Пускай тряпки! Ты хочешь умирать? Я не хочу! Роззи повернулась к нему. — Я всегда думала, Миллионер, что ты самый трусливый из нас, самый ничтожный. Заткни ему рот, Фермер. Я прошу… Она зашагала по тропинке. Джон двинулся вслед за ней. Фермер смотрел вниз. Лишь один огонек горел на краю лагеря. «Это у Прохорова, — понял Фермер. — Он не спит». Некоторое время шли молча. Погас огонь и в домике начспаса. Роззи дрожала. Джон с Фермером сняли свои куртки и уговорили ее надеть их. Это помогало плохо. Все было мокрое и не грело. Миллионер остановил Фермера и достал из кармана его рюкзака то, что он положил туда утром. Это были его легкие тренировочные брюки. Фермер их увидел. — Ты молодец, — сказал он тихо. — Давай. Видишь, она замерзает. — Убирайся, дубина! — дико заорал Миллионер. — Это мое. Видишь, метка? Я должен из-за нее издыхать?! Ты скажи, — должен? Фермер удивленно посмотрел на него и молча отвернулся. Роззи сказала Джону: — А ты думаешь, что я это надену? Миллионер давно мучился. Пока он верил, что им удастся выбраться из этого переплета, как всегда целыми и невредимыми, он не хотел выдавать себя. Теперь — другое дело. Теперь настало такое время, когда рассчитывать можно только на себя. На свою предусмотрительность, на свой ум. Он вдруг сорвался с места и побежал. Ноги плохо слушались его. Остановившись у трещины, он вытащил фонарь. Зажигая и гася его, шептал: — Раз… два… Три… Четыре… Пять… Шесть… Шесть сигналов в минуту — это сигнал бедствия. Но лагерь спал. Никто не видел сигналов. Миллионер притащился обратно, шел и, плача, выкрикивал: — Сволочи… Коллектив… Помощь! «У нас не оставят человека в беде!» — кого-то передразнивал он. — Каждый думает о своей шкуре! Все врут, всё врут… А-а-а!.. Фермер вырвал из его рук фонарь. Тяжело шагая, он пошел на то же место, куда бегал Миллионер. Он стоял там долго. Закончив передачу сигнала, повторял его снова и снова. За его спиной шагали по кругу Джон и Роззи. Миллионер, скорчившись в снегу, надевал свои штаны. Фермер обрадовался, но не удивился, когда в домике начспаса загорелся огонь. Он просигналил еще раз. Ему ответили тремя вспышками. Сигнал был принят. В лагере зажглось еще несколько огней. Там люди выскакивали из спальных мешков, бежали к спасательному фонду, укладывали рюкзаки… Нет, они не думали о своей шкуре! Хорошие ребята, прекрасный народ!.. Фермер вернулся, подождал, пока Миллионер подойдет, и ударил его в лицо. — За что?! — злобно рыдал Миллионер, валяясь в снегу. — Джон, за что он меня ударил?! Джон затрясся от гнева. — Пошел к черту! Какой я тебе Джон! — Он хорек, — прошептала Роззи. — Просто вонючий хорек. От лагеря отделилась цепочка красных огней — спасательный отряд вышел с факелами. Люди шли очень быстро, но время тянулось медленно. Роззи давно не чувствовала пальцев на ногах. Пробовала шевелить ими и не понимала, шевелятся ли они. Она не могла справиться с дрожью, сотрясавшей ее как-то вдруг одеревеневшее тело. Она кусала губы и злилась. Ей казалось, что у нее есть силы для куда более тяжелых испытаний. «Не надо было сдаваться, не надо было сдаваться! — убеждала она себя. — Поэтому так трудно теперь идти. Конечно поэтому… Я знаю». Как это бывает с теряющими сознание людьми, ей показалось, что падают и куда-то исчезают горы, звезды, издалека слышатся чьи-то голоса… Она еще копошилась в снегу, стараясь встать на четвереньки, и не могла. — Федя! — тихо позвала она Фермера. — Федя же! Гена!.. Она не видела, что они оба склонились над ней, не чувствовала, что ее растирают, тормошат. Геннадий попытался взять ее на руки. Но обмороженные руки не слушались его, он не мог ее удержать. Тогда Фермер обхватил Роззи, поднялся и осторожно пошел к ледопаду, навстречу людям. В ледопаде горели огни. Красные отсветы метались по стенам трещин. Люди спешили вверх. Федя прижимал девушку к себе, стараясь ее согреть, и спрашивал у нее: — Ты слышишь, Катя?! Очнись! Ты слышишь? Я люблю тебя, Катя… Геннадий шел сзади. Один Миллионер, спотыкаясь, как пьяный, бегал по кругу. Он понимал: по протоптанной тропке ходить легче. Он продержится. Он не замерзнет. Его тоже спасут…
КОНЕЦ ЦВАНГЕРА
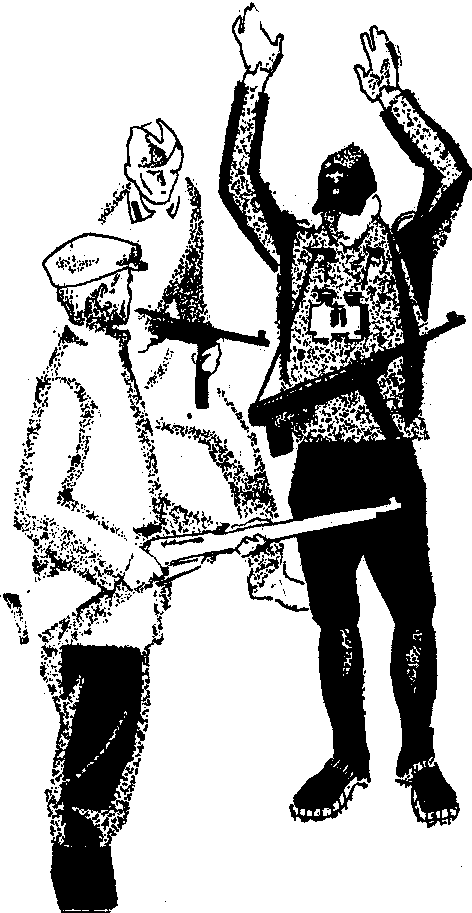 Худяков сдержал обещание. Он приехал в лагерь и рассказал о том, как был пойман Цвангер…
Вот как все это происходило летом и осенью 1942 года.
… Над степями стоял горький дым пополам с пылью и закрывал солнце. Горела пшеница.
А здесь, в Светлой поляне, было тихо, но тревожно. Смутный гул боев доносился сюда, и все напряженно прислушивались к нему. Наверху по-прежнему сияли снега. Клубясь, медленно нарастали башнеподобные облака; тень от них набегала на склоны, и казалось, горы тоже прислушиваются к чему-то и хмурятся.
После полудня, в самую жару, через поселок прошли к перевалу студенты какого-то института. Старенького профессора несли на носилках.
И сразу за ними появился прощелыга и вор — Мирза Мирзоев, в новой черной бурке, на горячем тонконогом коне. Мирзоев прогарцевал к заповеднику.
— Видишь? — спросил он у Худякова, который, открывая вольеры, выгонял на волю подопытных животных.
— Вижу. Где украл?
— О! Минэ теперь еще много ест. Как у мой дедушки-княз.
— Тоже грабил, — презрительно сказал Худяков.
— A-а, собака! — остервенился Мирзоев. — Всех ре́жим скора. На, получай!
Выхватив нагайку, Мирзоев хлестнул Худякова по лицу, круто вздыбил коня и ускакал, трусливо пригнувшись к луке.
Худяков вытер ладонью кровь с рассеченного лица. Глаза его были сухими и горячими. Не Мирзоев страшен. Страшны те, кто ползут и ползут, как саранча, там, по степи, со своими танками.
К вечеру в поселок пришла рота красноармейцев. В ней было не больше тридцати человек, с почерневшими лицами и потрескавшимися от жары губами.
Они уже видели смерть, и поэтому здесь, в Светлой поляне, где было еще так тихо и мирно, их воспаленные глаза смотрели как-то недоумевающе. В короткие часы отдыха, которые остались им, наверное, до утра, они занялись солдатским делом — стиркой портянок и пропотевших нательных рубах. Но вскоре все это перешло в руки светлополянских женщин, а красноармейцы, кроме тех, кто стоял на постах, разлеглись на траве в тени под чинарами и сразу заснули.
В одном из спящих кое-кто из светлополянцев узнал известного альпиниста Андрея Тонкого, но будить не стали. Пусть спит.
Худяков сдержал обещание. Он приехал в лагерь и рассказал о том, как был пойман Цвангер…
Вот как все это происходило летом и осенью 1942 года.
… Над степями стоял горький дым пополам с пылью и закрывал солнце. Горела пшеница.
А здесь, в Светлой поляне, было тихо, но тревожно. Смутный гул боев доносился сюда, и все напряженно прислушивались к нему. Наверху по-прежнему сияли снега. Клубясь, медленно нарастали башнеподобные облака; тень от них набегала на склоны, и казалось, горы тоже прислушиваются к чему-то и хмурятся.
После полудня, в самую жару, через поселок прошли к перевалу студенты какого-то института. Старенького профессора несли на носилках.
И сразу за ними появился прощелыга и вор — Мирза Мирзоев, в новой черной бурке, на горячем тонконогом коне. Мирзоев прогарцевал к заповеднику.
— Видишь? — спросил он у Худякова, который, открывая вольеры, выгонял на волю подопытных животных.
— Вижу. Где украл?
— О! Минэ теперь еще много ест. Как у мой дедушки-княз.
— Тоже грабил, — презрительно сказал Худяков.
— A-а, собака! — остервенился Мирзоев. — Всех ре́жим скора. На, получай!
Выхватив нагайку, Мирзоев хлестнул Худякова по лицу, круто вздыбил коня и ускакал, трусливо пригнувшись к луке.
Худяков вытер ладонью кровь с рассеченного лица. Глаза его были сухими и горячими. Не Мирзоев страшен. Страшны те, кто ползут и ползут, как саранча, там, по степи, со своими танками.
К вечеру в поселок пришла рота красноармейцев. В ней было не больше тридцати человек, с почерневшими лицами и потрескавшимися от жары губами.
Они уже видели смерть, и поэтому здесь, в Светлой поляне, где было еще так тихо и мирно, их воспаленные глаза смотрели как-то недоумевающе. В короткие часы отдыха, которые остались им, наверное, до утра, они занялись солдатским делом — стиркой портянок и пропотевших нательных рубах. Но вскоре все это перешло в руки светлополянских женщин, а красноармейцы, кроме тех, кто стоял на постах, разлеглись на траве в тени под чинарами и сразу заснули.
В одном из спящих кое-кто из светлополянцев узнал известного альпиниста Андрея Тонкого, но будить не стали. Пусть спит.
* * *
Утром появились уже хорошо знакомые своими зловещими очертаниями самолеты и, покружившись над Лысой горой, высыпали десант. Было видно, как падал он вдалеке большими белыми хлопьями, как снег с ясного утреннего неба; и от этого поганого «снега» щемило сердце и сжимались кулаки. Идти уничтожать десант было бессмысленно: десантников впятеро больше; кроме того, склоны Лысой горы поросли густым лесом, и где десантники спустятся в долину, — угадать было невозможно. Оставалось ждать врага у моста. Дорога выводила только сюда. Но проходили часы, а десантники не появлялись. По дороге к мосту время от времени подходили и подъезжали на повозках усталые, запыленные люди, и их молча пропускали в сторону перевала. Солнце поднялось высоко и ослепительно сияло в безоблачном небе. От реки веяло прохладой. В прозрачной зеленоватой воде, за камнями, смутно виднелись тени форелей. Тихо шелестели листвой чинары. Неумолчный шум реки успокаивал, усыплял. Но все напряженно смотрели на Лысую гору и прислушивались. Куда девался десант? Часа в два к командиру роты прибежал задыхающийся, с широко раскрытыми глазами десятилетний пионер Виктор. — Они, — прохрипел Виктор, — там… — Он показал вверх по реке. — У Красных… скал… Стро… — Виктор шумно вдохнул воздух, — …ют переправу. У командира роты, бывшего учителя, на секунду сжалось сердце. Нет, не от страха. Трудно даже сказать отчего. Оттого, может быть, что в этом мальчугане он увидел вдруг всех своих учеников, с которыми было подчас нелегко в той прошлой, довоенной жизни. — Спасибо, — серьезно, как взрослому, сказал командир роты, вставая. — На вот тебе. — Он посмотрел вокруг; взгляд его остановился на планшетке. Командир роты вынул оттуда карту и документы. — Бери, бери. Это на память… И, не дожидаясь, пока мальчуган уйдет, он вызвал сержанта Тонкого. — Вот что, сержант. Они переправляются здесь. — Командир роты показал на карту. — Хотят отрезать. Рота пойдет туда. Надо помешать им переправиться. Ваша задача — охранять мост. Если мы, — командир роты подумал, — если мы не удержим, взрывайте мост. Он заминирован. Сами отходите к перевалу. Вы ведь альпинист, — невесело улыбнулся он. — Дорогу найдете. Они помолчали, разглядывая карту. — Сколько людей я могу взять? — спросил Андрей. — Одного. — Можно выбрать? — Выбирайте. — Пулемет? — Да. Ручной. — Разрешите идти? — Погоди, — мягко сказал командир роты. — Давай простимся. Оба понимали, что как у Андрея, так и у роты мало надежды пробиться к перевалу. И, вероятно, они уже никогда не увидятся. А связывало их после страшных дней в степи многое. — Давай. Андрей выбрал Рустама Калоева, смуглого подвижного азербайджанца. — Нефти хатят. Панимаешь? — зло говорил он Андрею, кивая в сторону степи, когда они устраивались на берегу за камнями, выбирая лучший сектор обстрела. — Вот, пуля получат. — Калоев похлопал по стволу пулемета. Андрей посмотрел на Лысую гору, на гребень, ведущий к Красным скалам, и вдруг подумал, что кто-то, хорошо знающий местность, руководил десантниками. Иначе они спустились бы к дороге, а не прошли с виду неприступным гребнем. Но кто? И вдруг он обозлился: «Кто, кто? Не все ли равно?.. Предатель!» Послышался одинокий выстрел, а потом — словно прорвало плотину — тарахтенье пулеметов и трескотня винтовочных выстрелов у переправы наполнили долину. Там начался бой. На санаторной стороне тоже захлопали выстрелы, и вдруг из-за поворота вылетела к мосту повозка, на которой лежало несколько женщин, прикрывая своими телами ребят. Свесив ноги, на задке повозки сидел седобородый старик в нижней рубахе и в казачьей дореволюционной фуражке с красным околышем. Он время от времени вскидывал к плечу винтовку и, прицеливаясь во что-то, стрелял. Повозка прогрохотала по мосту, и тотчас между стволами сосен на том берегу замелькали темно-зеленые фигуры. — А-а-та-та-та-та, — повторял вслед за пулеметом Рустам, — а-а-та-та-та-та. Падаешь?! Нэ нравится!? Вот тебе нефть, вот тебе земля, вот тебе хлеб-лаваш! Все накалилось. Солнце жгло спину и головы, от ствола пулемета веяло жаром; во рту пересохло, а вода неслась рядом. Пули с того берега с визгом щелкали по камням, булькали в воде, со свистом проносились над головой. Перед мостом было пусто. Никто уже не пытался подобраться к нему. Стало тихо и очень мирно. Рустам повернул потное радостное лицо к Андрею: — Видал? Падают, понимаешь! Ты тоже хорошо стреляешь. Я… В это время над головами послышалось зловещее пение мин. Сразу же совсем рядом на камнях заплясали красно-дымные огни разрывов, и Рустам, не договорив, уткнулся головой в пулемет. — Рустам! — закричал Андрей. Мельком он увидел, что на том берегу зеленые фигурки снова отделились от сосен и побежали к мосту. Андрей привстал, поднимая тело Рустама, чтобы освободить место у пулемета, и вдруг почувствовал, как что-то горячее толкнуло его в спину. Он схватил с земли провода, чтоб сомкнуть их и взорвать мост, но нога подвернулась на камне. Он выпустил провода и упал в реку. Вода подхватила его, закружила и понесла. Стрелял Мирзоев. Он еще долго прятался в зарослях колючей ожины, над тем местом, где лежал мертвый Рустам. Чего Мирзоев боялся, — неизвестно, но он появился в поселке лишь вечером, когда в салоне санатория «Горное ущелье» уже поселился командир десантников.* * *
Ледяная вода вернула Андрею сознание. И он мгновенно понял, что вот сейчас бешеная река ударит его о камни, размозжит, измочалит. Ему удалось, делая резкие движения руками, вынырнуть на поверхность и судорожно вдохнуть воздух, который вошел в легкие с острой болью. Невероятных усилий стоило ему продвинуться на метр в сторону от стрежня. Раза два его перевернуло, ударило о камни и понесло в боковой рукав. Здесь он зацепился за выступавшую над рекой острую кромку камня, но вода уносила ноги, и он беспомощно висел на руках, приплюснутый к камню клокочущими струями. Свисавшие над головой ветви кустарника были ненадежны. Но другого выхода не было. Сплевывая кровь, наполнявшую рот при каждом выдохе, он подтянулся и ухватился одной, а потом другой рукой за ветку, медленно, сантиметр за сантиметром, вытянул свое тело из воды. Что-то хрипело и хлюпало в груди, временами вдруг охватывала страшная слабость. Он закрывал глаза и останавливался. Казалось, так просто разжать руки. Наконец ноги нашли опору. Он сделал несколько шагов, шатаясь поднялся на берег, но тут силы покинули его, он потерял сознание и упал ничком. Кровь пробилась сквозь гимнастерку и расплылась по мокрой спине темным, медленно увеличивающимся пятном. Ночь опускалась на Светлую поляну. Туман окутал горы. Со стороны поселка доносились резкие, чужие крики. Дома там стояли с мертвыми, черными окнами. Молча и тихо чего-то ждали деревья, не шелестела даже листва осинника. И все же какое-то движение чудилось всюду. Вдруг глухо звякнет камень; нагнется, выпрямится и опять затихнет ветка, примнется трава, но вот уже и распрямится. Многие этой ночью уходили в горы. Худяков вел коня вдоль реки. На той стороне, в Медвежьей балке, в глухом лесу был участок, где он высадил привезенные с Дальнего Востока семена женьшеня. Нежное растение требовало постоянного ухода, и на участке выстроили сторожку. Знали об этом участке он да директор заповедника. Но директор в первые дни ушел в армию. «Место глухое, — думал Худяков, — подожду. Должны партизаны объявиться». Конь мягко стучал обмотанными тряпьем копытами. Хуржумы[7] на боках коня раздвигали кустарник, и он тотчас снова смыкался. Уже совсем стемнело, и Худяков шел медленно, ориентируясь на блеск воды в реке в просветах кустарника. У места, где река разделяется на два рукава, была переправа. Худяков вышел на берег и увидел распластанное неподвижное тело. Конь остановился, прядя ушами. «Река выбросила, — подумал Худяков. — Нет, погоди, как же так высоко?» — прошептал он. Наклонившись, Худяков понял: наш. Он перевернул тело на спину. Слабый свет от реки не позволил разглядеть лицо. Худяков расстегнул гимнастерку и приложил ухо к липкой от крови груди. Жив! Трясущимися от волнения руками Худяков перевязал раненого, потом с трудом взвалил его поперек седла и сел сам. Конь подошел к реке и осторожно вступил в черную, бешено мчавшуюся воду.* * *
Андрей лежал на нарах, а Худяков спал рядом на полу. Сторожка была такая маленькая, что голова старика помещалась под столом, а ноги почти упирались в порог. Днем дверь была открыта настежь и сторожка наполнялась лесными шелестами и шорохами. Гигантские буки обступали поляну, смыкаясь высоко над головой своими кронами. Солнце не могло пробиться на землю, и у подножия деревьев всегда царил полумрак, под ногами шуршал многолетний слой опавшей листвы. Женьшень не любит солнца, растет в тени, в теплых и влажных местах, и здесь ему было привольно. Но растет он медленно. Пошел второй год, как Худяков посадил триста шестьдесят семян, но еще не из всех проклюнулись нежные пятипалые листики. «Не скоро наберет силу», — думал Худяков с горечью. Андрей потерял много крови и был очень слаб. Он неподвижно лежал на койке с закрытыми глазами. Дышал с трудом, а временами побелевшие губы окрашивались кровью. Она потом так и засыхала в уголках рта. Худяков обтирал Андрею лицо чистой тряпочкой, смоченной в теплой воде, потом осторожно приподнимал его и с ложечки, как маленькому, вливал в рот какое-то зеленое снадобье, а потом жидкую манную кашу, сваренную на сгущенном молоке. Каша подогревалась на солнце, так как Худяков зажигал камелек, сложенный из камней, только ночью. Днем в Светлой поляне могли увидеть дым над лесом. Гитлеровцы могли увидеть, Мирза Мирзоев… Когда Андрей засыпал, Худяков уходил. Мягкой, бесшумной походкой жителя гор он уверенно пробирался по крутому лесистому склону к Красным скалам. Худяков искал оружие. Ему посчастливилось на том месте, где десантники пытались переправиться, подобрать немецкий автомат, патроны, одну гранату с длинной деревянной ручкой. А на другом берегу он нашел нашу, русскую винтовку с расколотым пулей прикладом, но вполне пригодную. Однажды Худяков, покормив Андрея, поставил на пол (там прохладнее) котелок с оставшейся кашей и ушел. Андрей лежал в полузабытьи. Временами он открывал глаза и прислушивался. Все было тихо, и он снова погружался в дремоту. Обрывки каких-то далеких воспоминаний возникали у него в мозгу. Губы то складывались в легкую улыбку, то сурово сжимались, и тогда лицо Андрея становилось каменным, безжалостным. Какой-то неясный звук заставил его вздрогнув. Прошелестела листва в лесу, но сразу все стихло. Вдруг чьи-то копытца застучали по крыльцу. Андрей поднял веки. На пороге стоял тур. В его больших коричневых глазах с черными поперечными щелями зрачков светились и любопытство и страх. Он долго стоял неподвижно, прислушиваясь и осматриваясь. Но Андрей не шевелился. Осмелев, тур пожевал свесившийся с койки рукав куртки Худякова, а потом, уже как хозяин, протопал по полу к котелку и сразу засунул туда морду. Не отрываясь от каши, тур приподнял короткий хвостик и просыпал на пол несколько горошков. — Ах, невежа! — беззвучно прошептал Андрей, давясь от смеха. В груди у него что-то очень тихо засвистело. Тур услышал. Он резко вскинул голову, увенчанную гордо изогнутыми рогами. На какое-то мгновение их глаза встретились. Скользя копытами, тур стремительно рванулся к двери и исчез, будто его и не было. Когда пришел Худяков, на бледном лице Андрея еще блуждала улыбка. — Тут один бандит приходил, — весело прошептал он. — Следы оставил. Кашу мою сожрал. Худяков посмотрел на пол: — Левый рог подпилен? — Подпилен, — изумился Андрей. — Это Жорка, из заповедника, — сказал улыбаясь Худяков. — Привык к человеку, теперь к жилью льнет. Наверно, еще явится. Напакостил, подлец, на мою кровать. С этого дня дело пошло на поправку, и вскоре Андрей начал вставать с койки и выходить в лес. Мучительна была неизвестность. Иногда от перевала доносились звуки боя. Андрей узнавал тарахтенье нашего «Максима» и бухающие звуки вражеского крупнокалиберного пулемета. — Держатся, — говорил он Худякову, — это хорошо. Но как-то днем над поляной прошли в сторону перевала тяжело груженные «юнкерсы». Андрей и Худяков молча смотрели им вслед. Через несколько томительных минут от перевала донеслись звуки тяжелых разрывов: «ах-ах-ах!» и снова — «ах-ах-ах!». Земля сотрясалась. Сразу же в грохот бомбежки вплелась трескотня перестрелки, а потом все это потонуло в зловещем, все разрастающемся рокоте. — Лавины… — прохрипел Андрей. — Понимаешь? Он лихорадочно вспоминал, на какой стороне хребта — на той, нашей, или на этой, северной — больше лавиноопасных склонов. Куда пошли лавины? Худяков, видимо, думал о том же. — Сюда, — сказал он. — Сюда больше. Хоть бы их всех смело к чертовой матери, сволочей! На другой день перестрелка у перевала не возобновлялась. Потом прошло еще несколько дней — все было тихо. Или немцам удалось взять перевал и они спустились на юг, или они отказались от попыток штурмовать перевал? Что же? Утром, когда Андрей проснулся, Худяков сидел на крыльце и сбривал начисто свои седые усы. — Думаешь, не узнают? — спросил Андрей, поднимаясь с койки. — Узнать, может, и узнают, да не сразу, — ответил Худяков. — Пожалуй, я пойду, — проговорил Андрей. — Нет уж. Твое дело там, — Худяков махнул рукой с бритвой в сторону главного хребта. — А здесь мне каждый камень знаком. Худяков встал. — А хорошие усы были, — сказал он со вздохом. — Может, конечно, вырастут, а может, того… и не вырастут… Оружия он не взял. Прийти обещал к вечеру. Но вечер наступил, а его не было. Стояла та напряженная тишина, которая в лесу и в горах предшествует ночи. Сверху с буков время от времени падали на землю круглые колючие орехи. Приближалась осень. Андрей сидел на крыльце прислушиваясь. Внизу глухо шумела река, будто там, за лесом, шел поезд и никак не мог пройти. На мгновение он очень ясно представил себе такой вечер у себя дома, в Смоленске, а потом вспомнил знойную степь, клубы черного дыма, рогатые каски, мелькающие на путях станции, которую обороняла его рота. — Иэхх! — проскрежетал он зубами. Вдруг что-то взорвалось внизу, в Светлой поляне. Андрей вскочил. Перекатившись эхом по горам, грохот умолк — и снова наступила тишина. Худяков не шел. Не пришел он и на другой день. Под вечер Андрей взял автомат, проверил затвор и вышел из сторожки. Где и как будет искать Худякова, он не знал. Ноги плохо слушались. Он отвык ходить. Временами кружилась голова, но он упрямо спускался к реке. Стемнело. Чуть заметная и днем, тропа исчезла. Река шумела совсемблизко, за деревьями. Какая-то тень мелькнула впереди и скрылась за буком. Андрей вскинул автомат и сделал шаг вперед. — Ну тебя к дьяволу! Еще застрелишь, — послышался из-за дерева голос Худякова. Обнимая старика, Андрей спросил: — Как же ты в такой темноте меня узнал? — А кто может здесь по ночам шататься? Ты да Мирзоев. Он за мной целый день бегает, как собака. Партизан хочет выследить. Выслуживается. Узнал меня сегодня, сволочь, и без усов. — Так ведь он и мог быть? — Он-то вперед не шагнул бы. Трус.* * *
Худяков был голоден. Андрей зажег огонь в камельке и поставил котелок. Красноватый трепещущий свет падал на усталое лицо Худякова. За приоткрытой дверью клубился ночной туман. Все потонуло в нем: лес, горы, сторожка. Казалось, шагни за порог — и растворишься в густом черно-сером облаке. — В Светлой поляне Цвангер, — глухо сказал Худяков. — Кто? — Цвангер, говорю. Ты-то его знаешь. Андрей вспомнил лето тридцать седьмого года, гладкого баварского альпиниста, начальника экспедиции мюнхенского клуба «Горный орел». Теперь все становилось понятно. И то, почему Цвангер тогда усиленно интересовался Зубром: с этой вершины все видно как на ладони; и то, почему десант быстро и точно вышел к Красным скалам. Цвангер в то лето шатался и здесь. Вот опять судьба сталкивает их. Снова пришел сюда этот «гость». — Перевал они не взяли, — продолжал Худяков. — Кишка тонка. Он приподнял крышку котелка — и сторожка сразу наполнилась клубами пара. — Ты сиди, Николай Александрович, я сейчас заправлю. — Андрей в темноте вытащил из-под койки мешочек с вермишелью. — Взрыв слышал? — спросил Худяков, опуская крышку. — Слышал. — Мост кто-то взорвал. Они пушки к перевалу тащили. Не вышло. Только как он подобрался? Мост-то охраняли. Один путь был — по реке. — По реке? — изумился Андрей. — Больше никак. Худякову удалось узнать многое. Уже хлебая суп, он рассказал, что в Светлой поляне организовано акционерное общество. В Оленьей балке рубят заповедный бук. Цвангер — один из учредителей общества. Или пай имеет. Черт его знает. — Но вот зачем он послал на ишаках груз к Голубому ручью? Не пойму. Какой-то особый отряд собран. Должно быть, тоже туда пойдет. Зачем? — спросил Худяков. — Ведь там не пройдешь! Андрей встал, подошел к двери и постоял на крыльце, будто что-то пытаясь разглядеть в тумане. Потом вернулся и тяжело сел на койку. — Пройти можно, — хрипло сказал он. — Есть там перевал. Он его знает. С Зубра видел. Понимаешь, Николай Александрович, в чем теперь наша задача?..* * *
Задача состояла в том, чтобы успеть прийти на Чертов перевал раньше Цвангера и попытаться предупредить своих. Неизвестно, когда выйдут к Голубому ручью немцы. Может быть, уже вышли. Надо спешить. Андрей и Худяков собрались еще затемно. К утру туман опустился ниже и лежал теперь под ними такой плотной пеленой, что, казалось, можно было перейти по ней на ту сторону долины. Звездное небо чуть зеленело на востоке. Черными расплывчатыми тенями стояли деревья. Было холодно и сыро. Худяков подвел коня, похлопал его по шее и перекинул связанные рюкзаки через седло. — До скал дойдет, — сказал Худяков Андрею. — Потом придется отпустить. Они поднимались молча. Изредка подковы звенели о камень. Когда подошли к скалам, Худяков снял уздечку, поцеловал коня в лоб. — Спасибо, брат. Ступай. Вскинув рюкзаки, они полезли на скалы. Конь попытался идти за ними, да не смог… Боковой, сравнительно невысокий, хребет, по которому двигались Андрей и Худяков, выводил к поляне Зубров, к тому месту, где Голубой ручей сливался с речкой Бешеной. Туда же вела дорога от Светлой поляны. Может быть, сейчас там внизу по дороге ехал Цвангер со своим отрядом? Взошло солнце и понемногу растопило туман в долине. Надо было спускаться с гребня. На фоне неба снизу их могли заметить. А ниже идти было гораздо труднее. Лишь к вечеру они увидели поляну Зубров. В расступившейся зелени виднелись дальше внизу постройки альпинистского лагеря, а напротив, через долину, возносилась к небу черная с белыми пятнами висячих ледников стена Зубра. Было тихо. От перевала не доносилось звуков выстрелов. На Зубре, как и всегда, к вечеру собиралось облачко, окутывая вершину. Косые длинные тени скал падали на Аманкайский ледник, изрезанный трещинами. Все было так же, как и раньше. Надо было спускаться и выходить к ущелью Голубого ручья. Андрей посмотрел на серое от усталости лицо Худякова. Он полулежал на камнях, откинувшись спиной на рюкзак и зажав между коленами винтовку с расщепленным прикладом. — Еще день ходу, — осторожно сказал Андрей. — Где заночуем? Худяков с трудом приподнял голову и хрипло ответил: — Надо уже там, у Голубого ручья. Он полежал еще несколько секунд и тяжело поднялся: — Пошли. И все-таки они опоздали. Отряд Цвангера пришел раньше и уже расположился лагерем в верховьях Голубого ручья, закрыв путь к Чертову перевалу. Палатки были разбросаны по обеим сторонам ущелья. Отвесные гладкие стены, хорошо знакомые Андрею, поднимались справа и слева, — не обойдешь. Когда-то на одной из этих скальных стен Цвангер тренировал своих баварских «орлов». Худяков и Андрей лежали за камнями на границе леса в низкорослом березняке, чуть тронутом осенью. Солнце село, и зеленые фигурки гитлеровцев, сновавшие между палатками, превращались в черные тени. Оба молчали. Отчаяние заползало в их сердца. Тяжелый путь лежал позади. И напрасно! Худяков медленно развязал рюкзак, достал сухари и не доеденную днем банку консервов. — Будешь? — Остается одно, — шепотом ответил Андрей, взяв сухарь, — обойти ночью. Худяков долго не отвечал. — Сейчас? — вдруг спросил он подавленно. — Сейчас не могу. — Нет, — сказал Андрей. — Отдохнем. Лезть ночью по скалам, которые и днем можно было пройти только с надежной страховкой на крючьях, — на это можно было решиться только в самом крайнем случае. Но ведь этот крайний случай и наступил. Спустилась ночь. В лагере все затихло. Худяков лежал неподвижно. Наверное, уснул. Андрей напряженно вспоминал. Как-то с Прохоровым они, возвращаясь с Аман-Каи, спускались по этим скалам. Надо было найти тот путь. Он все-таки знакомый. Около полуночи Андрей разбудил Худякова. Было холодно. На востоке из-за гор поднимался тонкий серп ущербной луны. Слабо поблескивали мокрые скалы. Лагеря не было видно. Они поели в темноте, дрожа от холода, связались и вышли. Андрей помнил, как он однажды, до войны, отчитывал младшего инструктора за то, что он в темноте, застигшей группу при подходе к лагерю, не остановился и продолжал движение. «Мало ли что могло случиться», — говорил тогда Андрей. «Да мало ли что и теперь может случиться?» — подумал он. Веревка имела в условиях ночи для Андрея чисто символическое значение. Если он сорвется, Худякову его не удержать. Скальных крючьев у них нет, да в темноте их и не забьешь. Но зато Худякову веревка могла помочь. Андрей сможет застраховать его сверху. Осторожно, ощупывая камни руками, подходили они по крупной каменной осыпи к скалам. Путь, который днем занял бы 10–15 минут, отнял теперь час. Серп луны поднялся выше. Контуры палаток лагеря Цвангера выступали из темноты. Оказывается, лагерь был близко. Они подошли к скалам, и Андрей молча, не останавливаясь, полез вверх. Выбирать путь в темноте все равно было невозможно. Страшно медленно тянулось время для Худякова, пока он ждал сигнала веревкой от Андрея: «Пошел!». Иногда Андрей опускался, переводил дух и уходил куда-то в сторону. Несильно дергалась веревка, и Худяков, ощупывая мокрые холодные скалы, отыскивал зацепки. На середине пути к гребню из-под рук Андрея сорвался камень, и, невидимый, с грохотом полетел вниз, сталкивая другие. Худяков прижался к скале. Камни пронеслись мимо, но в лагере всполошились. Часовой выстрелил наугад в темноту. Пуля щелкнула невдалеке о камень. Андрей и Худяков замерли. От палаток доносились голоса. Потом все стихло. Перед самым гребнем Андрей сорвался. Уставшие руки не удержались на крохотном мокром зацепе. Он заскользил вниз… «Конец, — пронеслось у него в голове, — обоим…» И все же, обдирая пальцы, он цеплялся за скалу, прижимаясь к ней всем телом. Выступ попался под руку. Андрей задержался и долго висел на руках, нашаривая ногами опору. Прошло несколько минут, пока успокоилось сердце и он снова полез вверх. — Что у тебя? — услыхал он снизу шепот Худякова. — Ничего. В порядке. Иду дальше, — ответил Андрей тихо. Через час они вступили на плотный, смерзшийся фирн ледника. Черная безмолвная стена Зубра мрачно стояла над ними. Ручьи-водопады, которые с шипением падали здесь днем (Андрей это помнил), замерзли. В кулуаре, выводящем к перевалу, спаянные ночным морозом громоздились остатки вчерашней лавины. Склон стал круче. Андрей с трудом вбивал ботинки в плотный снег. Что-то вдруг кольнуло его в грудь. Он закашлялся долго и натруженно и сплюнул. Снег под ногами стал черным. «Кровь! — понял он. — Рана открылась». Он нагнулся. Тяжело дыша, медленно переставляя ноги, подошел Худяков. Андрей, отковыривая носком ботинка снег, собирал его в карман. — Следы! Понимаешь? — сконфуженно говорил он. — Они пойдут, увидят. Надо убрать. Теперь они шли очень медленно. Небо уже начинало светлеть, когда они вышли на перевал и тяжело опустились на камни. В груди Андрея опять заклокотало. Время от времени он поворачивался на бок и сплевывал в щель между камнями. — Ничего, — хрипел он с натугой. — Отлежусь. Только, Николай Александрович, слышишь, Худяков?! Известить-то мы не успеем… — Будем стоять на этом перевале! — тихо и торжественно ответил Худяков.* * *
Цвангер был опытный альпинист и понимал, что место, через которое он проведет свой отряд в тыл русским, лавиноопасное. Лавины сходят, когда поднимается солнце. Это он тоже знал. Его злило, что отряд двигается медленно. Перевал надо проскочить, пока ночной мороз сковывает снег на вершине. Он собрал унтер-офицеров. — Отделение, которое первым возьмет этот перевал, — Цвангер показал рукой, — получит право на две внеочередных посылки и отпуск на две недели. Ступайте. И все-таки было не рано, когда первое отделение вступило на фирн ледника и Худяков осторожно потрогал голову Андрея. — Идут… Слышишь, идут! Солнце уже грело. На перевале было тепло и клонило ко сну. Андрей с трудом открыл глаза и пополз к обрыву. — Десять… двенадцать, — шептал он, — восемьдесят два… А сколько сейчас времени? — спросил он Худякова. Худяков вынул часы. — Девять часов десять минут. Андрей поднял голову, посмотрел на чудовищный снежный карниз, нависающий над кулуаром. — Еще час, — сказал он, — и пойдут лавины. Должны пойти. Первая связка прошла кулуар и, выбивая в крутом снежном склоне ступени, быстро приближалась к перевалу. Уже были видны красные лица гитлеровцев, слышны отрывистые слова чужой речи. — Стрелять? — спросил Худяков. Андрей подумал. — Нет, — сказал он, подползая к Худякову, — погоди, патронов мало. Мы по-другому… Цвангеру, который шел во второй связке, не показалось странным, что с перевального гребня сорвался камень. Эти болваны не успели поднять веревку, и камень их сдернул. Первая связка пролетела вниз мимо Цвангера. Все четверо, как на учении, перевернулись на животы и вонзили клювы ледорубов в снег. Но склон был очень крут, и сразу задержаться им не удалось. Цвангер вел свою связку уверенно. Новые швейцарские альпийские ботинки легко вбивались в фирн, оставляя широкие ровные ступени. Мирзоев шел вторым, как по лестнице. Но ему было страшно. Он опасливо поглядывал вверх, где над головой нависали глыбы освещенного солнцем плотного снега. Они дошли до того места, где сорвалась первая связка, и Андрей увидел Цвангера. То же холеное лицо. Та же наглая уверенность в своем превосходстве, с которой он когда-то поздравлял Андрея и Прохорова, взявших Зубр за сутки до баварских «орлов». Андрей прицелился. Цвангер мерно шагал вверх. Андрей опустил автомат. — Худяков, — позвал он тихо. — Пусть поднимутся. Стреляй во второго, я — в третьего. Цвангера возьмем живым. На перевал первым вступил Цвангер. Он освободился от веревки и поднес к глазам бинокль, высматривая путь спуска на юг. Тяжело дыша, собирая в кольца веревку, вышел Мирзоев. За ним появилась голова третьего гитлеровца. Выстрелы последовали один за другим. Взмахнув руками, третий гитлеровец упал навзничь и покатился вниз, стаскивая за собой Мирзоева. Цвангер, не снимая с груди автомата, резко повернулся и выпустил очередь по камню, за которым лежал Андрей. — Руки вверх, сволочь! — заорал Худяков сзади. Андрей выскочил из-за камня. Цвангер медленно поднимал руки. Худяков держал винтовку наперевес, и по его коричневому морщинистому лицу текли слезы. Цвангера связал Худяков. Андрей бросился к гребню. Гитлеровцы лезли, прижимаясь к скалам кулуара. Резко и гулко трещали пулеметы. Пули с визгом отлетали от камней, высекая огонь. Андрей бил одиночными выстрелами на выбор. Но он не успевал. Весь снежник перед перевалом и кулуар были полны гитлеровцами, упорно поднимающимися вверх. Андрей слышал, как открыл огонь Худяков, но в это время отказал его автомат. Андрей бросился к автомату Цвангера, но споткнулся и упал. Поднимаясь, он увидел, как от карниза на Зубре медленно отделилась глыба голубоватого снега и ринулась вниз. Кулуар скрылся в клубах снежной пыли. Клокотал и ревел этот адский котел. И когда через полчаса все затихло, Андрей и Худяков увидели внизу несколько убегающих по леднику фигурок.
ВСТРЕТИМСЯ ЗДЕСЬ ЖЕ

Нарзан на меду
Новички спускались с зачетной вершины. Да разве это теперь новички? Посмотрите, как уверенно скользят они на ногах, будто на лыжах, по крутому снежнику, — глиссируют. Как легко и точно прыгают с камня на камень по осыпи. Как бегут, именно бегут, вниз по травянистому склону короткими шажками, с ледорубами на изготовку! Они, конечно, еще не мастера; сегодня закончилась только первая ступень образования альпиниста, совершено первое зачетное восхождение, но если бы загорелых, обветренных, возмужавших ребят поставить рядом с теми, которые двадцать дней назад приехали сюда и восторженными глазами, с замирающим сердцем, смотрели на горы, — едва ли можно было бы их узнать. Люди покоряют горы, но и горы воспитывают своих покорителей. Конечно, сегодня выдающийся день. Впечатление от первой взятой вершины останется в памяти навсегда. Останется в памяти и то особое чувство простора, вольности, сознания своей силы, которое они испытали на вершине, когда орали там «ура», фотографировались в десятках положений, ощущали разгоряченными щеками особый, вершинный ветерок и пожирали глазами раскинувшееся под ногами сурово прекрасное царство гор. Что значили теперь литры пролитого пота, натруженные лямками рюкзака плечи, губы, потрескавшиеся и покрывшиеся волдырями от горного солнца и ледяной воды! Но странное дело. Оказывается, медленно лезть по скальному гребню или вбивать тяжеленные окованные ботинки в крутую стену слежавшегося фирна, — лезть вверх легче, чем идти последние километры до лагеря по проезжей дороге. Вот где обычно сказывается усталость… И жара. Горное солнце беспощадно. Чтобы понять, как хочется пить, надо самому оказаться в таком положении. Река рокочет далеко внизу — не напьешься, а кажется, что и кровь в тебе загустела. И вдруг картон. На картоне надпись: «Нарзан на меду» — и стрелка, указывающая в землю. Это настолько поразительно, что не сразу доходит до сознания. Лишь инструктор Саша Веселов, лукаво улыбаясь, снимает рюкзак и командует: «Достать кружки!» — и все инструкторы отходят в сторону, тоже улыбаясь друг другу. Саша Веселов раздвигает высокую траву. Груда камней. Щепочка торчит будто случайно. И по этой щепочке течет жидкость. Холодная, кисловато-сладкая. То есть такая, какая нужна в жару, когда пересохло горло, когда кажется, что сию минуту умрешь, если не выпьешь воды. — П-позвольте, — удивленно говорит Юра Мухин, в числе первых пробившийся к источнику, — это компот! — Какой компот?! — Дайте мне. Ребята, раздайся! — Погоди, разольешь! — Правда! — Что правда? — Компот!! — Вот черти! Кто это придумал? — А здорово. И вот перед Линой вырастают почти одновременно Юра и Павлуша с кружками. — Нарзан на меду, — говорит смеясь Юра. — Пей, Лина, — вторит ему Павлуша. У Лины отчего-то першит в горле, и, выпив залпом почти всю кружку, другую она разливает и отдает ребятам: — Это ваше… Губы у нее влажные, глаза смеются, в горле уже не першит. И любит она этих двух ребят, любит… Только которого сильнее, этого никто не знает. Вскоре на придорожных громадных камнях появляются надписи: Первая: «Рюкзак тяжел, устали ноги, но ты альпинист и трудности тебе нипочем». Вторая: «Отныне мужество — твой спутник в жизни». Третья: «Привет новому отряду советских альпинистов!» Четвертая: «Душ. Обед. Ужин. Письма. Телеграммы. Поздравления. Танцы и другие культурные развлечения. Спокойный сон в комфортабельной палатке и пр., и пр., и пр…» И стрелка, указывающая дорогу к этим удовольствиям. А оценить их полностью может только тот, кто хоть однажды, усталый, спускался с гор. Наконец недалеко от лагеря щит. На нем написано:«Ввиду малиноопасности лагерь перенесен к Холодному озеру. Имейте это в виду, товарищи альпинисты. Вперед! Начспас Камнепадов».— В самом деле, вперед! — кричит Юра. — Долой малиноопасность! Спасибо старику Камнепадову. — Ха-ха-ха!.. — О-ох-хо-хо!.. Куда же девалась усталость? Да разве ей здесь место? Конечно, ребята выяснили, что в груде камней была спрятана бочка с компотом. Осталось неясным только, кто открыл кран. Вероятно, Саша Веселов. Он ведь первый подошел к источнику. И объявление на щите оказалось чистейшей мистификацией. Лагерь был на месте. Но это объявление имело целью проверить, а хватит ли сил и выдержки пройти, если потребуется, еще три километра? И вот головное отделение выходит на линейку, выстраиваясь в затылок; рядом строится другое, третье, четвертое, пятое… На линейке начальник лагеря, начальник учебной части — все начальство. Рапорт. Новички не шелохнувшись слушают, как докладывает командир отряда Николай Григорьевич Прохоров. Потом приветствия, цветы, смех и команда: — Разойдись! Мыться, бриться, прихорашиваться! Лагерный флаг колышется в небе. В душевом павильоне дым коромыслом. В столовой накрыты столы. Цветы стоят в вазах. В лагере оживление. Новички вернулись значкистами.
Перед отъездом
Вот и все. Смена закончила свою работу. Больше нет занятий. Маршрутную комиссию, в которой заседают такие заслуженные альпинисты, что, кажется, знают каждый камень и каждую трещину по пути к любой вершине, — не беспокоят. Врач отправился собирать малину, а раньше он не имел времени, чтобы вылезти из своей медицинской мансарды над клубом. Вчера в торжественной обстановке выдали значки. Вечером устроили бал и Павлуша танцевал с Линой. А сегодня после завтрака Лина сидит с Юрой на солнцепеке у бассейна. Они загорают и о чем-то говорят. О чем?.. Вообще последний день в лагере — день грустный. А ведь солнце сияет с утра и вершины по-прежнему гордо возносятся к синему небу, и среди них та, снежная, на которой они позавчера были. Но уже нет того постоянного волнения, которое испытывал каждый альпинист в лагере: какая завтра будет погода, разрешит ли врач идти с почти зажившей мозолью, утвердит ли маршрут восхождения маршрутная комиссия, а главное — выпустит ли еще после всего этого начспас. Теперь готовиться не к чему. Все уже за спиной. В прошлом. И от этого, очевидно, грустно. Павлуша устроился у входа в палатку — готовит снаряжение к сдаче. Этим же делом заняты и другие бывшие новички, кроме тех, кто сдал свое снаряжение еще вчера и завтра на рассвете уходит на перевал, к морю. Кто расстилает на солнце для просушки походные палатки и сослужившие службу штормовые костюмы, кто развешивает между деревьями капроновую веревку, а худой и высокий Женя Птицын из Днепропетровска ходит по лагерю: — А нет ли у кого, ребята, лишнего ледоруба? Куда-то задевался, понимаешь? Павлуша скальным крюком ожесточенно выковыривает грязь, застрявшую между триконями ботинок. Действительно, обстоятельства сложились глупо. То есть двадцать дней все было прекрасно. Женя Птицын вчера за ужином сформулировал это так: — Нет, ребята, горы, лагерь и прочее — это колоссально! Уезжать жалко. А? — И попросил у Кати добавку: — Больше уж не буду, — печально сказал он. А вот Павлуша один раз слукавил, и все полетело вверх тормашками. Дело в том, что Юра Мухин придумал после лагеря пройти через перевал и дней пять побыть на море. Конечно, кто с этим не согласится! Но Лина сказала, что она не может. Надо домой. И Павлуша тоже решительно заявил — некогда. До Харькова ему с Линой было по пути. Но сегодня ночью девушки из Лининой палатки уговорили ее, и она согласилась идти с ними. Спрашивается: что делать Павлуше? Конечно, можно сказать, что он тоже передумал. И сразу, Павлуша это понимал, начнутся улыбочки, шуточки, ему будут подчеркнуто предупредительно уступать место около Лины. И вообще… Павлуша махнул рукой. По радио объявили, что через пять минут начнутся методические занятия стажеров, и Павлуша с грустью подумал, что их отделение уже не будет заниматься. Перед ним вырос, заслонив солнце, Женя Птицын с ледорубом в руках. — Нашел, понимаешь, под палаткой. Как он туда попал? Пойдем искупаемся напоследок. Шестнадцать градусов. А? — Женя кивнул головой в сторону бассейна. Павлуша на мгновенье поднял голову, подумал, потом поставил очищенные ботинки и решительно встал: — Пошли… Лина поднялась ему навстречу. — Павлуша, вот хорошо! У тебя есть деньги? Если через перевал, — мне не хватит… Павлуша посмотрел на нее и вспомнил: ведь это она плакала, когда во всем лагере не нашлось ей ботинок по ноге и она не могла идти на первые скальные занятия; и потом Матвей Иванович куда-то ездил специально их доставать. Это было давно. Теперь и не верилось, что Лина могла плакать. — Конечно, есть, Лина. Только они на хранении. Я сейчас сбегаю в бухгалтерию. Тебе сколько? — Рублей пять… Или десять. Можешь? — Могу, могу, — торопливо сказал Павлуша и почувствовал, как рушатся последние надежды. Ему-то теперь во всяком случае не идти к морю… По дороге в бухгалтерию на него чуть не наскочил стажер-инструктор, мчавшийся откуда-то на занятия. «Ага, — подумал Павлуша, — опаздываешь. Теперь тебя макнут». У стажеров был заведен порядок: если кто-нибудь опаздывал на занятия больше десяти минут или набирал эти роковые десять минут, опоздав несколько раз, несчастного опускали во всей одежде в реку, обеспечив, конечно, безопасность, и при этом говорили: — Р-раз… дв-ва… тр-ри… Не опаздывай! Это называлось — «макнуть». Впрочем, «макали» редко. Опозданий у стажеров почти не было. В бухгалтерии набилось много народа. Получали паспорта, корешки путевок, билеты, деньги, выписывали продукты на дорогу. Бухгалтер Иван Павлович, привычный ко всему, одновременно выписывал накладные и путевые листы, щелкая на счетах, но не отвечал ни на какие вопросы. Иногда только он поднимал очки на лоб, удивленным взглядом окидывал окружавших стол альпинистов и говорил: — По оч-череди… — Очки у него при этом падали на нос. И как бы ставили точку после сказанного. — Иван Павлович, — протиснулся Павлуша к столу, — мне надо десять рублей. Срочно. — Зачем? — Ну как зачем? Надо. — Сегодня уезжаешь? — Нет. — По оч-череди, — сказал Иван Павлович. Наконец Павлуша получил десятирублевую бумажку и побежал искать Лину. Он нашел ее в клубе у почтового шкафа с разложенными по буквам письмами и телеграммами. — Вот, — сказал он Лине, — возьми. — Нет, Павлуша, не надо. Я получила телеграмму. Поеду домой. Павлуша облегченно вздохнул. Лина посмотрела на него удивленно. Он смутился. Как это трудно бывает иногда объяснить. Ведь не потому же он обрадовался, что теперь не надо отдавать деньги…Мужской разговор
В последний вечер в клубе было очень много народу. В первой комнате толпились у прощальной стенгазеты. Она была посвящена зачетному восхождению. Какая-то девушка переписывала в тетрадь стихи Жени Птицына и страдала оттого, что ее толкали. В одном конце зала, где вчера были танцы, а позавчера заседала комиссия по приему норм на значок, Саша Веселов играл с Колей Петровым в настольный теннис. Оба они волновались. Играли «на мусор»: проигравший выбывает. Человек пятнадцать сидели в очереди, поворачивая головы вправо-влево, вслед за мячом, и страстно желали, чтобы кто-нибудь скорее проиграл. В другом конце болельщики обступили бильярд. Игроки ходили вокруг с киями, выбирая шар поудобнее. Несколько команд играло в балду. Павлуша, передавая под столом в руку Лины гривенник и наклоняясь к ней, говорил: — Ты, Лина, в будущем году… — Р-руки на стол! — кричал капитан команды противника. — И-и-и… хоп! — командовал Женя Птицын, и десять ладоней с грохотом опускались на стол, — с грохотом для того, чтобы заглушить звяканье гривенника. Команда противника должна была угадать, под которой ладонью из десяти он находится. Пять пар глаз сверлили Павлушины руки. Где монета? Дело серьезное. Не отгадаешь — придется всей команде пролезть под столом, под хохот зрителей и выигравшей команды. — Ты в будущем году при… — снова начинал Павлуша. — И-и-и… хоп! — командовал Птицын. Трах! Гремели ладони. Лина посмотрела в глаза капитану команды противника, а потом на мгновение покосилась в сторону Павлуши и наклонила голову: — Да, конечно, приеду. — Здесь монета! — заорал капитан. — Павел, поднимай руку! Павлуша поднял. Пусто… — Под стол, — засмеялась Лина, — под стол! До отбоя оставалось минут пятнадцать. Из палаток доносились приглушенные голоса. Луна отражалась в бассейне, как в море, серебряной дорожкой. Вниз уходило ущелье. За ближними черными склонами вставали другие, а там, далеко, всё сливалось в дымчато-голубом лунном свете, и горы и небо. Лишь снежные шапки вершин будто висели в воздухе, как видение. Было по-ночному тихо и торжественно… Павлуша хотел предложить Лине пойти погулять. Он даже представил себе, как они идут по тропе сквозь ночной лес, пронизанный пятнами лунного света, к поляне Трех буков и оттуда будут смотреть на ледник, черные башни Замка, спящие горы и говорить о чем-то хорошем. Но он посмотрел на Лину, и ему показалось, что она вся съежилась от ночного холода. «Какой я эгоист! — подумал Павлуша. — Она спать хочет». — Спокойной ночи, Лина. — Он решительно пошел к своей палатке. Лина сказала ему вслед: — Уже спать?.. Павлуша стоял не оборачиваясь и думал. Что это такое новое прозвучало в голосе Лины? Секунды шли за секундами. Надо было что-то делать. Может быть, вернуться? Но что сказать?.. Она ушла, Павлуша, приподнимая полу палатки, вдруг ясно понял: надо было остаться. «Какой я дурак! Ах, какой я дурак!» В палатке было тесно. Юра готовил группу. Они выходят на рассвете к перевалу, а там — до моря. Шло распределение груза. — Это тебе, — говорил Юра, — это тебе. Имей в виду, банки стеклянные. Павлуша переступил через разложенную на бумаге колбасу, пробрался к своей койке, разделся и влез в холодный спальный мешок. Некоторое время он прислушивался к разговору, потом согрелся и заснул. Проспал он недолго. Его разбудил Юра. В палатке еще горел свет, но продуктов уже не было. На двух других койках спали, забравшись в мешки с головой, Женя Птицын и Антон Светлов. — Павел, — сказал Юра, — я ухожу рано. Попрощаемся? — Что ты среди ночи людей будишь! — обозлился Павлушка. — Я же встану тебя провожать. — Ну что ты шипишь, как змея? А вдруг проспишь? — Не просплю, — сердито отозвался Павлуша и повернулся к стенке палатки. Юра молчал. Должно быть, о чем-то думал. — Павел, — решительно проговорил он, — ты можешь встать? Есть разговор… Что-то в голосе Юры было такое, что заставило Павлушу сесть. — Серьезный? — Серьезный. — Тогда могу. — Надо выйти, — тихо проговорил Юра. — Ты оденься. Здесь могут услышать. Птицын только что лег. — Хорошо… Они вышли. Лагерь спал. Оттого ли, что Павлуша только что вылез из теплого спального мешка, или оттого, что он волновался, смутно догадываясь, о чем будет разговор, его охватила какая-то нервная дрожь, которую он стремился подавить усилием воли. Стоять и разговаривать здесь, у палаток, было нельзя. Кто-нибудь заметит. — Куда пойдем? — спросил Юра. — К поляне Трех буков — неожиданно для себя сказал Павлуша. — Это близко, — беспокоясь, что Юра может не согласиться, добавил он. — Ладно. Шли молча. Все было почти так, как представлял себе Павлуша. Лучи лунного света ложились на лицо Юры, становившееся от этого неестественно бледным, на каменистую тропу, перевитую могучими корнями, протянувшимися из темноты, на серые стволы пихт, превращавшиеся в колонны сказочного храма. В тени тропа пропадала, и они разыскивали ее, нащупывая ногами. Поляна Трех буков была залита светом. Высокая, мокрая от росы трава блестела. Три бука росли из одного корня. Они были узловатыми, погнутыми зимними ветрами, не стройными, но крепкими. Днем отсюда хорошо виден Главный ледник и спрятанное в моренах Холодное озеро. Сейчас ледник выглядит по-другому, а Холодное озеро будто исчезло в черно-синей тени от нависающей над ним скалы. Зато куски льда в ледопаде мерцают, как драгоценные камни, и весь ледник светится нелюдимым холодным сиянием. Горы и ночью прекрасны, но призрачны и угрюмы. — Ты ее любишь? — вдруг спросил Юра. Павлуша медлил. Конечно, можно было выиграть время, спросить: «Кого?» Но вопрос был поставлен прямо. Надо иметь мужество отвечать так же. — Да. — Я тоже, — вздохнул Юра. Теперь все было ясно. Но разве только в этом дело? Не для того же они пришли сюда, чтобы сказать то, о чем оба уже догадывались. Конечно, это важно, что нет недомолвок. А дальше? — Ты теперь… — медленно и напряженно заговорил Юра, с трудом выбирая слова, — ты теперь в лучшем положении… Поедешь с ней… Павлуша вспыхнул. — Но ведь еще утром ты был в лучшем положении?! — А я, — задумчиво проговорил Юра, и было видно: то, что он сейчас скажет, будет главным, — между прочим, сказал ей, что, пожалуй, не смогу идти. Мол, денег не хватит. Подумал, что, раз ты не пойдешь, как-то не так получится… — Это тогда, у бассейна? — волнуясь, спросил Павлуша. — Да, у бассейна. — Значит, это она для тебя деньги просила? — Значит, для меня. — И не взяла? — Я ей сказал, что уже достал. Но не в этом дело, Павел; я хочу, чтобы ты меня правильно понял. Ты читал Чернышевского «Что делать?»? Ясно, читал. Но я не к тому, — сбиваясь, торопливо заговорил Юра. — Я не такой. Исчезать я не буду. Но пусть она сама выбирает. Ты меня понимаешь, Павел? Дело в том, чтобы не казаться ей лучше, чем мы есть на самом деле, чтобы не использовать… чтобы не использовать этого лучшего положения, что ли. Пусть сама… Понимаешь? — Да. — Согласен?.. ……………………. Да. Они молча шагнули навстречу друг другу и крепко, по-мужски сжали руки. Уже в палатке, пока еще не успели залезть в мешки, Юра, что-то вспомнив, порылся под подушкой и сказал Павлуше: — Вот. Передай ей шляпу. Она просила вычистить, я ведь химик. Мы уходим рано. Она, может быть, не встанет. — Хорошо, — ответил Павлуша. Он аккуратно сложил шляпу и сунул ее в карман. Она заняла там немного места. — А как ты чистил? — Очень просто. Выстираю — и на солнышко, снова выстираю — и опять на солнышко… — Действительно химик, — улыбнулся Павлуша, снимая штормовку.До свидания, горы
Юра уходил со своей группой на рассвете. Павлуша и Лина вылезли из палаток его провожать, заспанные, дрожащие от утреннего холода. Простились без сентиментальностей. Юра ушел; и хотя до подъема еще было время, Павлуша с Линой не пошли досыпать, а сели рядом на ступеньках веранды клуба и смотрели на восток, где над горами занималась заря. Некоторое время в лесу слышались голоса ребят из Юриной группы, потом все стихло, только привычно шумела река. Ночной туман, окутывающий горы, понемногу приходил в движение, и из него начали выступать очертания знакомых вершин. — Вон, видишь, наша показывается? — тихо сказала Лина. — Тебе холодно? — спросил Павлуша и, не дождавшись ответа, плотнее прикрыл ее плечи штормовкой, но, вспомнив ночной разговор, отдернул руку, будто обжегся о Линино плечо. — Теперь нет, — улыбнулась Лина. — Спасибо. Они сидели молча, думая каждый о своем. Павлуша порывался что-то сказать, но не решался. Шли минуты. Из-за дальних вершин показалось солнце, снег наверху зарозовел — и начался день… Машина подкатила к домику бухгалтерии. Надо было собираться. Из палаток один за другим вылезали отъезжающие. Пока Павлуша ходил прощаться со своим инструктором Сашей Веселовым и забегал в кладовую к Матвею Ивановичу, с которым у него как-то сама собой завязалась дружба, машина была уже полна. Но только он подошел к ней со своим рюкзаком, кто-то поднялся, кто-то подвинулся, и оказалось свободное место рядом с Линой. Удивительно как чутки бывают люди, когда на их глазах зарождается хорошее чувство. В небе ни облачка. Воздух спокоен и свеж. Как будто напоследок горы решили показаться во всей красе. Так чисты и ослепительны снега, так прозрачны хрустальные брызги в ручьях и водопадах. Даже мрачные, обычно темные скалы и те в лучах солнца кажутся приветливыми. Альпинистов в такие дни тянет вверх. Горы зовут. Машина переваливается по ухабам каменистой дороги. Натужно воет мотор на подъемах. Ветви деревьев лезут в кузов, обдавая свежей росой. Мелькая, ложатся на лица, на одежду солнечные пятна. От этого кажется, что все смеются. Впрочем, это так и есть. Легкая грусть прощания с лагерем уже исчезла. Поляна Зубров вся в цветах. Из высокой травы выглядывают белые палатки. Кто-то из ученых машет рукой. — До свидания! Павлуша осторожно берет Лину за локоть. — Видишь, где мы шли? — Да, на тех «бараньих лбах» ночевали. Павлуша вдруг как-то ясно ощущает, что горы изменились. Они не кажутся уже такими суровыми и даже страшными, как это было двадцать дней тому назад. По привычке, которая теперь останется на всю жизнь, он смотрит на скальные гребни, разорванный ледник, крутые снежники и мысленно выбирает путь подъема. И тут же его поражает мысль: «Это не горы изменились, это я стал другим». И оттого, что он это понимает, от ясного, чистого утра, изумительно бодрящего горного воздуха и оттого, что рядом сидит Лина и тоже смотрит вверх, и, вероятно, думает о том же, у Павлуши возникает ни с чем не сравнимое чувство ликования. — Нет, — говорит он Лине, приближая свои губы к ее уху, — честное слово, есть такие дни в жизни, которые никогда не забудутся. — Не забудутся… — соглашается Лина. У Курорта они встретили машину, битком набитую разношерстной публикой. Сразу было видно, что эта молодежь впервые попала в горы, — так широко были раскрыты их глаза, так часто они поворачивали головы направо и налево. — Привет новичкам! — дружно крикнули Павлушины спутники. — Здравствуйте!.. Добрый день! — нестройно ответили новички и сами засмеялись. — Ничего, научитесь, — добродушно сказал кто-то. — Узнаете, почем фунт лиха. — Не пугай, — улыбнулся Павлуша. — Не бойтесь! — крикнул он вслед. Чем ниже по долине спускалась машина, тем становилось жарче. Горы расходились в стороны. Наконец выехали в знойную степь, и только далеко сзади синели леса и виднелись в дрожащем мареве белые шапки снегов, похожие на неподвижные облака. Синие горы!..Встретимся здесь же
Поезд Лины уходил раньше. Павлуша провожал. Он сам взял билет для нее и потом сказал, что в один поезд не было. Народ суетился вокруг, кто-то из знакомых ребят подходил прощаться, и тогда его оттирали в сторону. Но Лина искала его глазами: — Павлуша, ты здесь?! — Здесь, здесь. За минуту до отхода они, наконец, остались вдвоем, но Павлуша начал говорить про Юру Мухина, что он, наверное, сейчас к перевалу подходит и какой у него порядок в группе. Они поспорили с Линой, хороший ли из него получится командир. Павлуша говорил, что хороший, и поезд тронулся. Павлуша махал рукой, и Лина махала рукой. Вагон уходил все дальше и дальше. Павлуша опустил руку в карман за платком и нащупал Линину шляпу. Он рванулся вперед и побежал по перрону, расталкивая каких-то людей. Они кричали ему вслед что-то сердитое, но он бежал, зажав в руке шляпу так, как будто от того, догонит ли он Линин вагон, зависит его и ее жизнь и вообще существование этого мира. — Лина, — прерывающимся голосом крикнул он, когда понял, что догнать не сможет. — Адрес?! Скажи адрес? Шляпа! Вот… Пришлю… Но поезд уже набрал скорость, и, когда Павлуша, чуть не свалившись, остановился на краю платформы, ему послышалось, что Лина крикнула: — Оставь у себя!.. Встретимся здесь же!..
ЗИМОЙ
 Осень в горах наступает внезапно.
Еще вчера возвращались с восхождений усталые, но возбужденные своими победами альпинисты. Их встречали на линейке цветами. Девушки обнимали подруг, обменивались рукопожатиями юноши. Звенели песни, сверкало солнце, гулко ухал мяч на волейбольной площадке. В столовой, к огорчению дежурного, было всегда очень шумно.
А сегодня утром все погрузились на машины и уехали. Долго еще, отражаясь в скалах, то затухая, то вдруг снова вспыхивая, летела над долиной песня. Но и она умолкла вдали.
В наступившей тишине отчетливо стал слышен грозный рев реки. Первые желтые листья упали в холодную стремительную воду и понеслись, кружась и ныряя, вниз, в долину, вслед за машинами.
Лагерь опустел…
Вырастая над снегами и черными скалами, клубятся плотные молочно-белые облака и надвигаются на солнце. Впереди них в светло-синем небе скользят легкие, почти прозрачные перистые облачка — цирусы. В долине пока тихо. Лишь наверху злобно хозяйничает ветер, срывая с вершин снег. Горы дымятся белыми факелами. На гребне сейчас не устоять. Надо скорее спускаться, искать место для палатки, надежно крепить ее крюками к скалам и терпеливо ждать. Идет непогода…
Осень в горах наступает внезапно.
Еще вчера возвращались с восхождений усталые, но возбужденные своими победами альпинисты. Их встречали на линейке цветами. Девушки обнимали подруг, обменивались рукопожатиями юноши. Звенели песни, сверкало солнце, гулко ухал мяч на волейбольной площадке. В столовой, к огорчению дежурного, было всегда очень шумно.
А сегодня утром все погрузились на машины и уехали. Долго еще, отражаясь в скалах, то затухая, то вдруг снова вспыхивая, летела над долиной песня. Но и она умолкла вдали.
В наступившей тишине отчетливо стал слышен грозный рев реки. Первые желтые листья упали в холодную стремительную воду и понеслись, кружась и ныряя, вниз, в долину, вслед за машинами.
Лагерь опустел…
Вырастая над снегами и черными скалами, клубятся плотные молочно-белые облака и надвигаются на солнце. Впереди них в светло-синем небе скользят легкие, почти прозрачные перистые облачка — цирусы. В долине пока тихо. Лишь наверху злобно хозяйничает ветер, срывая с вершин снег. Горы дымятся белыми факелами. На гребне сейчас не устоять. Надо скорее спускаться, искать место для палатки, надежно крепить ее крюками к скалам и терпеливо ждать. Идет непогода…
* * *
Несколько дней неистовствовали дождь и ветер. По тропам, протоптанным альпинистами на ближних склонах, неслись потоки. Шумели деревья, шумела река. Где-то наверху, в горах, время от времени прокатывался грозный рокот. Это ветер столкнет с гребня камень, и он, падая, зацепит другой, потом еще и еще, и все вместе они ринутся вниз, подскакивая на выступах, обгоняя друг друга, сметая все, что можно смести на пути, — лавина!.. Почерневшие от дождя лагерные здания стоят заколоченные, молчаливые. На веранде клуба, на лагерной линейке, на дорожках валяются сучья и ветки, сорванные с деревьев ветром. Лишь в домике бывшей бухгалтерии лагеря по вечерам зажигается свет и желтым пятном падает на мокрую, унылую траву под окном. В домике живут добровольно оставшиеся на зимовку завскладом снаряжения Матвей Иванович и радист Коля Плечко… Задача их как будто несложная: охранять лагерь да вести, по просьбе метеостанции заповедника, кое-какие наблюдения. С этой задачей справился бы и один человек, но с одним-то человеком в горах мало ли что может случиться. Кроме того, дорогу к лагерю скоро занесет снегом, и единственная связь с внешним миром будет радио. У Матвея Ивановича три зверя: молодой пес Кулуар, кабанчик английской породы Джи и кокетливая, красивая кошка Брыська. Они тоже остаются на зимовку. Кулуар — сын горной овчарки. Матвей Иванович получил его в подарок от своего друга чабана маленьким косолапым щенком, толстым и лохматым, похожим на медвежонка. Сейчас Кулуар вырос. Ростом, широкой грудью, крепкими мускулами он обещает быть посильнее своей матери, которая однажды в единоборстве с волками, напавшими на стадо, задушила двух серых разбойников.* * *
После ненастья вернулись ясные дни. Облака, перевалив через боковые хребты, ушли куда-то на север. Но все изменилось. Солнце стало не таким жарким, как прежде, небо — не таким синим. В особенно прозрачном осеннем воздухе отчетливо виднелись дальние вершины, которые летом за знойным маревом лишь угадывались. Дождь, ливший в долине, наверху, в горах, выпал снегом, и черные скалы и жандармы на предвершинных гребнях стали неузнаваемы. Этот первый снег на скалах еще растает, но он коварен. Днем на солнце он, подтаивая, сочится тысячами ручейков, а ночью сковывается морозом. Скалы обледеневают, и случись идти по ним — нет труднее и опаснее пути… Буки тихо роняют пожелтевшие широкие листья. Матвей Иванович выносит на солнце для просушки перед длительным хранением альпинистское снаряжение: палатки, штормовые костюмы, спальные мешки, окованные горные ботинки, сплетенные из эластичных капроновых волокон веревки. Плечко тянет провод антенны, установленной на самом высоком здании в лагере, к домику, выбранному для зимовки. Работая, он напевает сквозь зубы. Кулуар помогает Матвею Ивановичу. Получив в складе тяжелый горный ботинок, он спускается по крутой лестнице и несет его к указанному месту. Пес увлечен своей работой и делает ее с удовольствием. Поставив ботинок в ряд с другими, он возвращается за следующим. И снова бежит обратно. Но вдруг на полпути замечает какое-то легкое движение в кустах и, повернув голову, мгновенно застывает как изваяние. Влажный нос Кулуара втягивает воздух. Еще секунда и… Впрочем, Кулуар играет. Ему отлично известно, что в кустах бродит ненасытный Джи, подбирающий буковые орешки и зачем-то подковыривающий носом довольно тяжелые камни. Джи занят своим делом с утра. Его судьба, конечно, предопределена, но он об этом не знает и время от времени удовлетворенно хрюкает и чавкает, часто моргая подслеповатыми глазами с белыми ресницами. Таким образом, все работают. Лишь Брыська в грациозной позе развалилась на солнце и бездельничает.* * *
Лист за листом обнажаются деревья, в ледниках и снегах замерзают на весу не успевшие упасть капли. В реке все меньше и меньше становится воды. Она течет теперь прозрачно-голубая, тяжелая и уж не мечется и не ревет, как прежде, а глухо бормочет, будто ворчливо рассказывает длинную-длинную сказку. Дни проходят за днями… По вечерам Плечко учит Матвея Ивановича работать на рации. — Вот это питание, — говорит он, — включаем… Видишь, лампы нагреваются. Здесь антенна, это земля. Включаем прием. Раз… И настраиваемся на длинных… Москву? — спрашивает он. Матвей Иванович кивает, не выпуская изо рта самодельной трубки. В приемнике что-то оглушительно трещит. Плечко быстро вращает рукоятку обратной связи. Брыська, уютно устроившаяся на теплых кирпичах печки, подняла голову и навострила уши: «Что такое? Какой безобразный шум!» В Москве концерт. О чем-то задушевно поет скрипка. Рояль вторит ей, и обоим — Матвею Ивановичу и Плечко — кажется, что это рокочет их река. Плечко сидит задумчиво, обхватив колени руками. Молодое его лицо серьезно и светло. Не выдержав, на крыльце завозился Кулуар. Его душу терзают эти звуки, так и подмывает заскулить, но он знает, — нельзя! Потом Матвей Иванович уходит с фонарем записать метеонаблюдения — температуру воздуха и земли, скорость и направление ветра, облачность… Уже лежа в спальных мешках, они слушают сводку погоды, стараясь не пропустить тех нескольких слов, которые скажут об их районе, и удивляясь тому, что в Оймяконе уже пятьдесят градусов мороза, а в Ашхабаде еще 18 градусов тепла. Бьют часы Кремлевской башни… Печка, на которой квартирует изнеженная Брыська, одной стороной выходит в пустую переднюю комнату, где живет Джи и стоят обеденные приборы: у кабанчика большое деревянное корытце, у Кулуара старая эмалированная кастрюля и Брыськина алюминиевая миска. Входная дверь на пружине. Изнутри ее могут открыть и кабанчик и Брыська, а снаружи умеет это делать только Кулуар. Но и Джи, и Брыська редко выходят на улицу, — холодно. Кулуар же холода не боится и ночует на крыльце, забираясь в переднюю только в тех случаях, когда идет дождь или дует очень сильный ветер. Если выйти ночью на крыльцо, Кулуар поднимает голову: «В чем дело?», — а потом приподнимает уши и пристальным взглядом смотрит на темный лес: «Не прозевал ли я какой-нибудь опасности?» Густые темно-синие тени лежат на леднике. Жестоким холодом веет от сверкающих пустынных снегов. Каково-то сейчас там оказаться человеку? И вдруг видишь: высоко-высоко, перед самым гребнем, по леднику поднимаются две черные фигурки. Кто?.. Куда?.. Безумцы! Там не пройдешь. Надо их остановить! Но как?.. Да нет — это наваждение… Фигурки никуда не движутся. Это камни, сорвавшиеся с гребня и вмерзшие в лед. К середине ночи из-за перевала натянуло облаков и пошел снег. Все понемногу белеет, лишь река остается черной, холодной.* * *
Снег, снег, снег — на крышах, на перилах веранды клуба, на оконных переплетах, на стволах буков, на лапах пихт. По утрам трудно бывает открыть дверь, — столько его навалит за ночь. Даже через реку перекинулись широкие снежные мосты. После завтрака, проверив рацию, Плечко надевает широкие лыжи, берет ружье и уходит искать следы волков. Он их горячо ненавидит, упорно ставит капканы, каждый раз все с большим искусством их маскирует, но волки так же упорно не попадаются. Матвей Иванович забрался по лесенке на столб, который увенчан белым ведром, и измеряет количество осадков. — Я пошел! — кричит ему Плечко. — Кулуар со мной. Можно? — Можно, — доносится в ответ. — Только выше леса не забирайся! Снегу много… Лавина-а! — Ясно, — бормочет Коля, — лавина, лавина… Кулуар, марш! Они возвращаются под вечер усталые и голодные. Пока Плечко снимает лыжи и чистит их от снега, Кулуар успевает обследовать свою кастрюлю. Она пуста. Моментально облизав ее, он направляется к Брыськиной миске и гремит ею по полу так, что Джи вскакивает в своем углу с подстилки и тоже начинает шарить в своем корытце, торопливо доедая оставшееся от завтрака и обиженно хрюкая — мало! Брыська тоже забеспокоилась. Она сидела в комнате и нежилась у топившейся печки, где готовился обед, но, услышав суматоху, поднятую Кулуаром в «столовой», задрав хвост трубой, подбежала к двери. Вошел Плечко, снял шапку и рукавицы, достал из шкафика сухарь, вынес Кулуару. Брыська, путаясь в ногах, выскочила за ним, обнюхала свою миску и обиженно замяукала. — Ладно, — сказал Плечко, — ты, барыня, подождешь. Вашей похлебке еще надо остынуть. Матвей Иванович куда-то ушел. Судя по тому, что в углу на табурете не было ведер, — на реку. Плечко накрыл на стол, съел суп и положил себе каши, сдобрив ее мясными консервами. Он доедал уже добавку, когда появился Матвей Иванович. — Что, охотник, проголодался? — улыбнулся он. — Как волки? — Не идут, понимаешь, в капканы. Почему, — кто их знает? Туров вот видел! Играют на леднике, как на стадионе. Прыгают, бегают — будто дети… А один сторожит, от волков, наверно. Садись, Матвей Иванович, я сейчас зверей покормлю. Вечером Плечко поташнивало. Он не стал ужинать и рано лег. — Это со мной бывает, — сказал он, зябко натягивая на плечи спальный мешок. — Ничего, пройдет. Ночью Матвей Иванович слышал, как Плечко много и жадно пил, а потом, тяжело дыша, долго забирался в мешок. Под утро, когда за окнами брезжил рассвет, Матвей Иванович проснулся, будто кто-то его толкнул. Плечко сидел на кровати, и в синеватом полумраке было видно его бледное лицо. — Что с тобой, Коля? Плечко ничего не ответил и осторожно опустился на подушку. — Плохо… — выдохнул он. Матвей Иванович быстро оделся и подошел к его кровати; лоб был сухой и горячий. — Что болит? — встревоженно спросил он. Плечко долго молчал. Видно было, что говорить ему трудно. — Живот… — Он провел рукой по всей правой части живота. Потом рука его бессильно упала. С трудом раскрыв рот, Плечко облизал языком запекшиеся губы и проговорил: — Сейчас ничего… Вот ночью… Рассвело. За стенкой хрюкнул проснувшийся Джи. Матвей Иванович разбирал в аптечке лекарства и тревожно думал о том, что Плечко заболел серьезно. Надо врача, а дорога завалена снегом. Он заставил Плечко принять порошок дисульфана, поставил градусник. Температура была тридцать девять и три… Долго не удавалось связаться с районом. Наконец далекий голос ответил: — Здоро́во, Плечко. Сообщи о лавинах. Сообщи о лавинах. Как с волками? Подари на шубу. Прием, прием… Матвей Иванович включил передатчик: — Лавина сошла у Голубого ручья… Плечко болен. Болен. Прошу врача. Срочно. Срочно. Прием… Далекий голос стал серьезным: — Я вас понял. Я вас понял. Вызову через сорок минут. Через сорок минут… Плечко спал. «Может, и обойдется», — подумал с надеждой Матвей Иванович. Он сходил к приборам, записал наблюдения, покормил поросенка, Кулуара и Брыську. Кулуар встретил хозяина радостно, но, заметив, что он неразговорчив, присмирел. Когда Матвей Иванович вернулся в комнату и за ним с виноватым видом протиснулся Кулуар, Плечко лежал открыв глаза и глядя куда-то в потолок неподвижным взглядом. Видно было, что он боролся со страшной болью. Матвей Иванович опустился на стул у кровати и нежно погладил волосы Плечко. Кулуар ткнулся своим холодным носом в его горячую руку. — Ох, Матвей Иванович, забрало!.. — прошептал Плечко.* * *
— Пенициллин в таблетках, пенициллин, — слушал Матвей Иванович по радио советы врача. — Полный покой. Никакой еды. Очевидно, у вашего радиста аппендицит. На живот холодный компресс. Выходим к вам на тракторе до Светлой поляны, — дальше на лыжах. Постарайтесь одеть больного к нашему приходу. Только осторожнее. Возьмем в больницу… Ну, держитесь, — прибавил врач тепло. — Мы скоро. Матвей Иванович рассчитал: от города до Светлой поляны сорок километров. На тракторе по глубокому снегу — это три с половиной часа; от Светлой поляны до лагеря по целине, в гору — не меньше шести. Да обратно. Будет уже темно. Нет, в горах ночью, да еще зимой, не ходят. В рации что-то зашуршало. — Матвей Иванович, — тихо позвал Плечко и, когда Матвей Иванович наклонился над ним, прошептал: — Выключи рацию… Из лыж Плечко Матвей Иванович сделал сани и пристроил к ним постромки. Свои лыжи он обвязал веревкой, — иначе они будут скользить назад и сани не сдвинешь с места. Самым трудным было одеть больного. Врач сказал, — полный покой. В конце концов он решил везти Плечко не одевая, в спальном мешке. Сани Матвей Иванович втащил в комнату и поставил рядом с кроватью. Плечко бредил. На воздухе он открыл глаза, посмотрел на свинцовое небо, на горы, понял, что его везут, должно быть, в больницу, и сказал: — Матвей Иванович… Я там… капкан… поставил… У панорамного пункта. Ты посмотри… — Посмотрю, посмотрю. Лежи… — ответил Матвей Иванович, проверяя, не давят ли живот веревки, которыми он привязал Плечко к саням. В последнюю минуту Матвей Иванович вспомнил о Кулуаре. — Пойди сюда. Так. Подними лапу. Другую. Только пойдешь тихо. Понял? Не дергать. Охотник-то наш заболел. Так-то, брат. Кулуар, казалось, все понимал. Матвей Иванович помог ему стронуть сани с места, и Кулуар, увязая в глубоком снегу, потянул их. Медленно, осторожно… До ущелья Голубого ручья дошли довольно быстро. Но здесь начинался крутой спуск, и Матвею Ивановичу приходилось спускаться боком к склону — лесенкой, обвязав веревку вокруг туловища, выдерживая всю тяжесть саней. Кулуар ничем помочь не мог. Проваливаясь в рыхлый снег по брюхо, он шел рядом с санями, не понимая, почему ему не доверяют на таком легком участке. Внезапно налетел ветер, сметая снежные шапки с угрюмо зашумевших пихт. Матвей Иванович тревожно посмотрел вверх. Горы исчезли в густой плотной завесе несущегося снега. Но в лесу было еще терпимо. Там же, где дорога выходила на открытый участок склона, творилось такое… У границы леса Матвей Иванович остановился передохнуть. Впереди, в бешено крутящейся белесой мгле, не было видно дороги. Она исчезла, выходя из леса, будто и не было ее никогда. Очень крутой ровный склон уходил вниз, к скалам, нависающим над рекой. Нечего было и думать пытаться пройти здесь с санями. Матвей Иванович хорошо знал этот участок дороги. Он был вырублен в таком крутом скалистом откосе, что даже летом, когда здесь проходили машины, людей высаживали — они шли пешком. Должно быть, тут недавно пронеслась лавина и все сровняла. Пути не было… Матвей Иванович наклонился над Плечко. Горячее, неровное дыхание словно обожгло его. Он закутал больного поверх спального мешка своей штормовкой. «Эх, растяпа! — подумал Матвей Иванович. — Ни лопаты, ни ледоруба…» — Он подошел к месту, где дорога пропадала под снегом, и снял правую лыжу. Это тоже лопата, тоже ледоруб. Но без лыжи нога проваливалась. Снова надев лыжу, он отломил две густые пихтовые ветви и бросил их на снег. Нога держалась на поверхности. План сложился. Надо действовать. Удар лыжей подрубает снег сверху. Потом он отгребается. Еще удар — и снова отгрести. Теперь сани встанут. Только надо осторожнее. Матвей Иванович посмотрел вниз и медленно втянул сани на вырубленную в склоне тропку. Кулуар поднялся и пошел вслед за санями. С размаху налетел ветер. Снег залепляет ресницы, больно сечет лицо, шею. Ничего не видно не только наверху, но и внизу, и впереди. Открытый склон тянется метров на пятьсот. «Ну и что ж, что пятьсот…» — Ох!.. — доносится до Матвея Ивановича приглушенный стон. — Ох! — Сейчас, сейчас… — шепчет Матвей Иванович, не останавливаясь и ожесточенно врубаясь в снег. — Сейчас… И так метр за метром… Ни сзади, ни впереди не видно леса. Крутится, крутится снежное месиво. Наверху, справа, слева, внизу под ногами — всюду снег. Сани стали совсем белые, и Кулуар, который лежит, свернувшись, за ними, — снежный бугор. Сам Матвей Иванович весь залеплен снегом. Только на разгоряченном лице и на шее он тает. Временами Матвею Ивановичу чудится, что вот так все это уже когда-то было: снег, сани, ветер, снег… Он устал. Но в вое ветра ему слышатся стоны. «Ох!..» — явственно доносится до него, и он, как автомат, поднимает лыжу и опускает ее, перекидывает ветки, подтягивает сани и шепчет, с трудом переводя дыхание: — Сей-час… сей-час… Стемнело, когда Матвей Иванович понял, что сил у него больше нет. В глазах кружилась белая карусель. Руки дрожали и не могли поднять лыжу. «Как же это?» — подумал он. Но потом ему стало все безразлично. Какой-то холодный покой заползал в сердце. «Надо отдохнуть… Отдохну», — вяло подумал он и тяжело опустился в снег… Метель покружилась над ним и укрыла белым одеялом… Он очнулся оттого, что почувствовал на лице что-то горячее и влажное. Это взволнованный Кулуар без стеснения облизывал лицо хозяина. «Вставай, нельзя спать… Вставай». Ветер утих. Снег продолжал валиться крупными мягкими хлопьями. Кулуар вдруг громко и радостно залаял. Матвей Иванович приподнялся. Сквозь завесу снега метрах в пятидесяти темнела опушка леса, а по склону к ним бежали люди на лыжах… … Ночь Матвей Иванович провел в лесу у костра, подкрепляясь горячим чаем с шоколадом и разговаривая с приятелем из Светлой поляны, который остался с ним почаевничать в лесу. Плечко увезли вечером, и теперь он, наверное, был в больнице. Утром Матвей Иванович отправился в лагерь. За километр было слышно, как визжал голодный Джи. Брыська, выгнув спину дугой и задрав хвост, описала восьмерку вокруг ног хозяина. Кулуар наелся, отправился на привычное место на крыльцо и разлегся там как ни в чем не бывало. Прошло несколько дней. Матвей Иванович старался не оставаться без дела. Было все-таки тоскливо. Он знал (об этом сообщили по радио), что операцию сделали и что хотя случай был тяжелый, но Плечко ничего не угрожает. Он передавал привет и спрашивал, — не попался ли волк? Матвей Иванович отправился осматривать капканы без всякой надежды на то, что найдется такой глупый волк, который попадется в ловушку. Но волк попался. Прежде чем Матвей Иванович успел это заметить, Кулуар молча, с ощетинившейся на загривке шерстью бросился вперед. Волк, до того как Матвей Иванович его прикончил, успел разорвать Кулуару ухо. — Вот болван, — сказал Матвей Иванович Кулуару, который все не мог успокоиться, — так тебе и надо! Молод еще с такими матерыми разбойниками драться… Если бы не этот волк, Матвей Иванович, может быть, и не ушел бы из лагеря. Но желание порадовать Плечко, показать ему первую добытую волчью шкуру растопило последние сомнения. «В два-то дня я, пожалуй, и управлюсь, — подумал Матвей Иванович. — Повидаю, и обратно. А Кулуар здесь останется. Сторож хороший. Да кто сюда в такое время придет?» — успокаивал он себя. Вечером Матвей Иванович долго возился в кладовой, выбирая при свете фонаря, что бы снести Плечко повкусней. И, уже сложив в рюкзак банку вишневого варенья, масло, икру, сгущенное молоко, засомневался: «Могут не разрешить…» — Ты как думаешь? — спросил Матвей Иванович у Кулуара, который, просунув голову в дверь, наблюдал за хозяином. — Не разрешат ведь, а?.. Уловив укоризненную интонацию в голосе Матвея Ивановича, Кулуар сконфузился, отвел глаза в сторону и отступил в тамбур кладовки. Дверь тихонько закрылась за ним. Матвей Иванович улыбнулся… Выходить надо было рано, и еду для своих зверей Матвей Иванович варил ночью. Согнанная с плиты Брыська попробовала было устроиться на полке с книгами, но опрокинула там бутылочку с чернилами, за что ей немедленно попало. Смертельно обиженная, она забралась под койку Плечко и больше оттуда не появлялась. Кулуар понимал, что Матвей Иванович куда-то собирается, но не знал, возьмет ли он его с собой. Несколько раз пес открывал наружную дверь, и тогда в комнате было слышно, как в передней цокали по полу его когти, а Джи начинал возиться и недовольно кряхтел от напущенного Кулуаром холода. Еда была сварена. Матвей Иванович сложил все по-походному, пристегнув под клапан рюкзака свернутую волчью шкуру, и сел на койку починить крепление у лыжи. Склонившись, он провозился над лыжей долго. Совсем потухла печка, перестал петь чайник, в комнате было тихо. И вдруг Матвею Ивановичу показалось, что кто-то смотрит в окно. Подняв голову, он увидел Кулуара. Положив передние лапы на наличник и растопив своим дыханием лед на полузамерзшем стекле, Кулуар внимательно следил за хозяином тревожным и преданным взглядом… К утру вызвездило. Было темно, когда Матвей Иванович вынес на крыльцо намазанные лыжи. Потом он ушел в комнату, вернулся с большой кастрюлей и разлил всем еду. Оскорбленная Брыська не хотела вылезать из-под кровати, и пришлось добывать ее оттуда лыжной палкой. Подождав, когда звери наедятся, Матвей Иванович долил снова, а около посудины Кулуара положил на пол оставшуюся гущу. — Ну вот что, вы тут сразу все не лопайте. С умом надо… Ты куда?! — грозно спросил он Джи и оттащил за ухо от корытца. — Вот прорва ненасытная!.. Пошли-ка на улицу. Погуляйте. Брыська, пожалуйте… За снежными вершинами вставало солнце. Небо на востоке из светло-зеленого стало розовато-желтым. Горы будто светились в поднимающемся из-за них ослепительном сиянии. Там, на восточных склонах, начинался день, а на западных еще лежали синие ночные тени и было, наверное, очень холодно. Матвей Иванович надел лыжи и вскинул на плечи рюкзак. Кулуар двинулся за ним. Они дошли вместе до спуска, начинавшегося сразу за лагерем. Матвей Иванович воткнул палки в снег и сказал: — Ты здесь за старшего остаешься. Понятно? Ну, прощай! — Он прижал голову Кулуара к себе и поворошил ему шерсть на загривке. Пес замер от непривычной ласки. Когда же Кулуар попытался и дальше идти за хозяином, Матвей Иванович обернулся и спокойно, но сурово сказал: — Домой!.. Кулуар остановился и не двигаясь долго смотрел, как фигура Матвея Ивановича мелькала внизу между деревьями, потом совсем пропала за поворотом. Солнце вышло из-за гор, а пес все стоял, напряженно вглядываясь в то место, где последний раз показался Матвей Иванович. Что-то зашуршало в лесу. Это снег осыпался с пихты. Кулуар равнодушно посмотрел туда, повернулся и неторопливо затрусил к дому. Не взглянув на окоченевшего Джи, который трясся всем телом и, жалобно взвизгивая, пытался открыть дверь, Кулуар улегся на крыльце, вытянув передние лапы. Брыська тоже страдала от холода и мрачно сидела рядом с Кулуаром, подобрав хвост и втянув голову. Она вспоминала нанесенные ей обиды. Поднимаясь все выше и выше, начало пригревать солнце, и Джи сразу повеселел. Он принялся даже что-то разыскивать в снегу. В лагере, да и во всем этом ослепительно ярком мире — светло-голубом небе, сверкающих снегами безмолвных горах — было тихо. Чуть доносилось лишь бормотание реки, да время от времени с крыши падали в снег растопленные солнцем капли. Кап… Кап-кап… Обманутая тишиной, вылезла из-под снега мышь полевка. Быстро прокатившись по искрящемуся насту, она юркнула в другую дырку и исчезла. Брыська, которая это видела, вся напружинилась. Но где там!.. Опять бормочет река, легкий теплый ветер тянет снизу из долины и еле слышно шумит в деревьях. Капли падают с крыши. Стоит, вытянув к солнцу морду и прикрыв глаза белыми ресницами, согревшийся Джи; дремлют на крыльце Кулуар и Брыська. Тихо… После полудня где-то вдалеке родился негромкий гул. Все разрастаясь и разрастаясь, он заполнил долину. Что-то рушилось, грохотало, тряслась земля. Кулуар вскочил. Брыська, Джи и он долго смотрели в ту сторону, откуда доносился непонятный и грозный шум. Над перевалом через боковой хребет поднялось облако снежной пыли. Там, за хребтом, сошла лавина. Когда все затихло, на крыльце делать было нечего. Кулуар открыл дверь, за ним моментально протиснулись Джи и Брыська, и все направились к своим обеденным приборам. Меньше чем в полчаса все было кончено. Кое-что осталось только в Брыськиной миске, но Кулуар подошел к ней и в два глотка уничтожил то, что там было, хотя Брыська при этом отчаянно шипела. Потоптавшись в своем углу над пустым корытцем, Джи завалился на подстилку и лежал с раздутым животом, время от времени блаженно похрюкивая. Скоро он заснул. Да и что, собственно, оставалось делать? Предостережение Матвея Ивановича было оставлено без внимания.* * *
Последствия сказались на следующий день. С утра было еще терпимо, но к полудню все проголодались. Обследовав по привычке Брыськину миску и убедившись, что она так же пуста, как и его собственная, Кулуар решительно выбежал на улицу. За ним потянулись Брыська и поросенок. День был солнечный, но это никого не радовало. Кулуар направился к кладовке, постоял у закрытых дверей, вдыхая запахи съестного, и вдруг, словно что-то сообразив, побежал к занесенной снегом столовой. Найдя место, где обычно для него и других собак лагеря повар оставлял кости, он начал разрывать снег. Сперва дело двигалось быстро, но потом снег пошел плотнее и отрывать его стало нелегко. Не удивительно, что Кулуару было жарко. Когда он, тяжело и часто дыша, останавливался передохнуть, красный трепещущий язык его сам вываливался изо рта. Капли растаявшего снега сверкали на морде, а снежная пыль, набившаяся в нос, заставляла чихать. В одну из таких передышек Кулуар увидел, что над ним у края ямы стоят, чего-то дожидаясь, Брыська и Джи. Из затеи Кулуара ничего не получилось, потому что, как только он зарывался поглубже, стенки ямы обваливались и все надо было начинать сначала. Усталый, он прекратил свою бессмысленную работу, улегся на крыльце и попытался уснуть. Но и это ему не удалось. Во-первых, от голода, а во-вторых, потому, что случилась неприятность с Джи. Возвращаясь от столовой к дому, он завяз в рыхлом, растопленном солнцем снегу. Острые его копытца судорожно месили снег, по грузное туловище оставалось на месте. Барахтаясь в снежной ванне, Джи орал так, как будто его резали. Кулуар некоторое время с интересом следил за поросенком, потом встал, прошел через весь лагерь и начал подниматься по склону к тому месту, где они с Плечко ставили капканы на волков. Душераздирающие вопли Джи доносились сквозь чащу леса все глуше и глуше. Кулуар вспомнил, что вблизи от того капкана, в который попался волк, разорвавший ему ухо, было место в низкорослом, перекрученном ветрами березнячке, где кормились горные индейки. Зарываясь в снег, осторожно, как волк, Кулуар подполз к кустам на запах. Но когда вдруг увидел индеек и бросился вперед, — было поздно. Вся стая с треском поднялась в воздух. Разочарованным и немного удивленным взглядом он проводил улетающих индеек. Вечерело. Слегка подмораживало. Джи одиноко жался к дверям. Брыськи вблизи не было. Цепочка ее следов протянулась от веранды столовой к душевому павильону, затем к зданию клуба. Здесь ей удалось по крыше, через неприкрытую форточку, влезть в мансардное помещение, где находился летом медпункт лагеря. В медпункте приятно пахло когда-то разлитой валерьянкой, к запаху которой примешивались другие медицинские ароматы. Брыське повезло. На полу, за пустым аптечным шкафом, она нашла корочку сыра, давно превратившуюся в камень. Брыська попыталась разжевать, но это не удалось, и она проглотила ее почти целиком. Обшарив все углы и не найдя больше ничего, она спустилась вниз и, брезгливо отряхивая лапы от налипавшего снега, направилась к норе мыши полевки. Совершенно не похожая на прежнюю ленивую Брыську, она просидела здесь до вечера, терпеливая, настороженная, готовая к прыжку. Но полевка так и не показалась… Кулуару было тоскливо. Какое-то непонятное беспокойство овладело им. Он сбегал к тому месту, где расставался с Матвеем Ивановичем. Еле видимый, оплывший след лыж уходил вниз по склону, и от него уже ничем не пахло. Вернувшись, Кулуар поднялся на задние лапы и заглянул в окно комнаты. Там было темно и тихо. Смутно белели подушки на койках, да белая печка выступала из мрака. Ночь наступила. Темный лес, сбегая со склонов, будто приблизился к лагерю, обступив его со всех сторон. Голодно и одиноко было Кулуару. И вдруг он сел, вытянул морду к луне, и из его горла вырвались странные жалобные звуки: «Уа-уу… Уау-а!..» — лишь отдаленно напоминающие лай. Потом он долго возился на крыльце — все не мог успокоиться. Вставал, к чему-то прислушивался и снова ложился. В конце концов замерз и, открыв дверь, отправился в переднюю к Джи и Брыське. Они тоже не спали. Печка давно остыла, и в передней было немногим теплее, чем на крыльце. Джи стонал и время от времени зачем-то грохотал своим корытцем. Брыська забралась на стол, и в темноте ее глаза светились оттуда зеленым голодным блеском. Когда Кулуар, повертевшись, устроился, к нему подошел окоченевший Джи и лег рядом. Кулуар хотел было зарычать, но потом передумал, и, согрев друг друга, они заснули. Среди ночи затрещали кусты и из леса стремительно выбежал тур. Не останавливаясь, мимо засыпанного снегом бассейна, мимо душевого павильона он промчался к реке, и вслед за ним на лагерной площадке появились волки. Они гнались за туром, рассыпавшись лавой, и поэтому их легкие хищные тела замелькали сразу по всему лагерю, то отчетливо вырисовываясь на освещенных луной местах, то вдруг пропадая в тени построек или деревьев. Тур не стал выбирать места для переправы и перемахнул через реку на незамерзшем участке. Волков тоже не остановило это препятствие. Часть стаи переправилась справа и слева по широким снежным мостам, часть — перескакивая с камня на камень там же, где тур; и скоро звуки погони стали затихать вдали. Но двое из стаи отстали. Первой была старая волчица, вторым — ее сын, молодой полуторагодовалый волк-переярок. Волчица с разбегу прыгнула на обледеневший камень, но сорвалась. Место за камнем было довольно глубокое и быстрое, и ее сразу потащило под снежный мост. Напрягая все свои силы, она все же выбралась на берег. Ледяная вода стекала с нее ручьями. Волчица злобно оскалилась на подвернувшегося переярка, потом встряхнулась и собралась было уже бежать на поиски более удобной переправы, но вдруг насторожилась и принюхалась. Пахло человеческим жильем, псиной и… поросенком. Неподалеку от домика волчица села. Сел и переярок. Вздрагивая всем телом, волчица ждала. Вот выйдет человек, и надо будет бежать. Но человек не выходил. Осмелев, она сделала еще несколько шагов и снова остановилась. В лагере было тихо. Под нахлобученными по самые окна тяжелыми снеговыми шапками, казалось, мирно спали все лагерные здания. Таинственно поблескивали стекла, нелюдимо сверкали в лунном свете пустынные снега над лесами. Но все-таки что-то угрожающее было в домике, откуда пахло поросенком… Переярок не выдержал и тихо, как собака, заскулил. Волчица повернула к нему голову и щелкнула зубами. Кулуар все это видел… Он проснулся, почуяв приближение опасности, и вскочил. Глупый Джи недовольно хрюкнул. Брыська открыла глаза, но сидела на своем столе тихо, не двигаясь. Шерсть на загривке у Кулуара поднялась. Медленно он подошел к двери, приоткрыл ее и застыл на пороге дома. Мимо к реке пронесся тур. Но не в нем было дело. Вскоре исчезли и волки. Все стихло, и мускулы Кулуара на мгновение ослабли, но вот появилась волчица, и они снова напряглись. Он глухо и грозно, но очень тихо зарычал. Джи тревожно затопал копытцами за его спиной и затих. Кулуар видел, как волки сели на снег и, вытянув морды, стали принюхиваться. Он видел, как волчица повернулась к заскулившему переярку. Кулуар все это видел и сделал шаг вперед. И вдруг, царапая когтями крыльцо, молча бросился на волчицу в смертельный бой — защищать то, что было поручено его охране.* * *
Матвей Иванович добрался до больницы вечером, и к Плечко его не пустили. Дежурный врач терпеливо объяснил ему, что больным нужен покой и что же это будет такое, если посетители начнут ходить по ночам. — Да ведь какая же ночь?.. — убеждал Матвей Иванович. — Никакого порядка не будет… Да! — перебил его врач. — И на больных это сказывается отрицательно… Да! А это самое главное. — И он поднял кверху свой указательный палец. — Да!.. Матвею Ивановичу пришлось заночевать в районе, хотя он на это и не рассчитывал. К Плечко он попал только к одиннадцати часам утра, уже после врачебного обхода и завтрака. Варенье, икру и масло у него отобрали, сказав, что отдадут больному, когда разрешит врач. С волчьей шкурой тоже дело было плохо. Суровая молодая сестра сказала, что это невиданно — чтобы в больницу приносили какие-то шкуры, которые представляют собой рассадник инфекции. Вконец огорченный, подавленный строгими больничными порядками, Матвей Иванович надел на себя белоснежный халат, который невозможно было завязать, потому что завязки были сзади, и робко, стараясь не стучать тяжелыми лыжными ботинками, пошел в хирургическое отделение. Плечко очень обрадовался. Похудевшее бледное лицо его порозовело и как-то даже засветилось. — Эх, Матвей Иванович! Вот хорошо! На лыжах? — От Светлой-то поляны на машине. Ну как? — спросил Матвей Иванович, пожимая слабую руку больного. — Да ничего, теперь в порядке… Это очень хорошо, что ты пришел, — повторял Плечко. — Садись, садись. Возьми вон табуретку. Здесь, знаешь, хорошо, но строго. Лежи, не шевелись. — Это точно, что строго, — заметил Матвей Иванович и поспешно встал, увидев, что в палату вошла сердитая сестра. — Сидите, сидите, что вы! — ласково сказала она и улыбнулась. — Только больного не утомляйте. — Ну, ну… — покачал головой Матвей Иванович,— никак ее подменили? — Он лукаво взглянул на Плечко, и тот сконфузился. Из-за шкуры они поспорили. Плечко говорил, что раз Матвей Иванович убил волка, — значит, и шкура ему, но Матвей Иванович рассердился и спросил: — А капкан кто ставил? Согласились они на том, что следующая шкура будет Матвея Ивановича, а эта — Плечко. Дело ведь идет на поправку. Через неделю-другую Плечко будет в лагере и тогда капканов наставит… Матвею Ивановичу посчастливилось. Как только он вышел из больницы, ему подвернулась попутная машина. Но все-таки в Светлую поляну он приехал только около четырех часов. Нечего было и думать попасть сегодня в лагерь. Это его тревожило… «Голодные там звери-то. Все, поди, вчера съели», — думал он. На метеостанции заповедника, куда он зашел к старому приятелю, его расспрашивали о Плечко, о лавинах — снегу нынче очень много! — о волках, которые в этом году, право, обнаглели — на улицы по ночам забегают. Новый сотрудник, совсем молоденький паренек, Виктор все просился у начальника сходить с Матвеем Ивановичем на зимовку. Виктор никогда еще не был зимой так высоко в горах. Когда ему, наконец, разрешили, он побежал куда-то за широкими лыжами и застрял. Матвей Иванович начал уже сердиться, как прибежал запыхавшийся Виктор; они встали на лыжи и пошли. Солнце садилось. Дотемна Матвей Иванович решил пройти километров десять — пятнадцать, чтобы завтра быть в лагере пораньше. Дорога почти до самого Голубого ручья была без больших подъемов и не очень опасная — идти можно. Виктор все время чувствовал, что он виноват в задержке, и пытался хоть чем-нибудь загладить свою вину. То он порывался топтать лыжню, но делал это с такой энергией, что быстро уставал, то храбро просил у Матвея Ивановича понести его рюкзак, битком набитый газетами. — Ты не суетись, — говорил Матвей Иванович, — иди ровнее. Горы спешки не любят. Подмораживало. Лыжи скользили по насту, не проваливаясь. Некоторое время путники шли молча, и тогда слышен был лишь характерный скрип лыжных палок: «вжиг, вжиг…» В наступающих сумерках нависавшие над долиной горы медленно теряли свои четкие очертания. Высоченные пихты все теснее обступали узкую дорогу. Она вилась по склону, забирая все выше и выше, и вдруг лес расступался, и далеко внизу, под обрывом, виднелись черные пятна быстрин, которые не смог сковать мороз и засыпать снегом. Виктор останавливался, поднимал руку с висевшей на ней лыжной палкой и восхищенно говорил: — Хорошо-то! А? — и, заглянув вниз, добавлял: — Туда только упади — конец! Верно?.. — Зачем же падать, — улыбался Матвей Иванович, — так пройдем. Не падая… Когда они остановились на ночлег, у Виктора что-то никак не зажигался костер. Он встал, посмотрел вокруг и сказал: — Отчего это, Матвей Иванович, когда луна всходит, как-то одиноко становится? Жутко. Отчего? Матвей Иванович промолчал. «Что-то там в лагере?» — подумал он.* * *
Волчица успела отскочить в сторону, и Кулуар оказался в невыгодном положении. Он резко затормозил, зарывшись лапами в снег, и в тот же миг оба волка бросились на него. Переярок промахнулся, а волчица сбила Кулуара с ног, и, сцепившись, они покатились по снегу. Кулуару пришлось туго. Летела клочьями его густая шерсть, из раны около правого глаза текла кровь. В этой схватке не на жизнь, а на смерть все преимущества, казалось, были на стороне волков. Но Кулуар был все-таки сильнее каждого из них в отдельности. Ему удалось подмять под себя волчицу, но в это время переярок вцепился ему в шею около лопатки. Кулуар, зарычав от боли, попытался сбросить волка, но не смог. Волчица воспользовалась секундной передышкой и уже было вывернулась из-под Кулуара, но на какое-то мгновение оставила незащищенным горло. Инстинктивно восприняв волчью повадку и забыв о переярке, Кулуар вонзил свои клыки в податливую глотку волчицы и сразу же ощутил во рту вкус крови. Волчица захрипела и задергалась всем телом. Ее задние лапы судорожно царапали брюхо Кулуара, но он лишь сильнее стиснул челюсти. И вдруг Кулуар отпустил горло волчицы, с трудом поднялся и сделал несколько шагов в сторону, волоча за собой переярка. Туман застилал глаза Кулуара. Собрав все свои силы, он яростно ринулся всем телом и, оставив в зубах переярка сорванную кожу, освободился. Из раны, стекая по шерсти на снег, хлынула кровь, но Кулуар не стал дожидаться нового нападения волка и сам двинулся вперед. Оскаленная пасть Кулуара была страшной. Он был крупнее молодого волка и сильнее его, а теперь и опытнее. Пес сделал один шаг, потом второй… И волк не выдержал. Повернувшись, он бросился бежать. Кулуар погнался за ним. Впервые над местом схватки прозвучал его хриплый, победный лай, от которого вздрогнули Джи и Брыська в своей темной передней. Переярка Кулуар не догнал. Но, когда он вернулся в лагерь, то и волчицы не было. Кровавый след вел к реке. В Кулуаре вновь закипела ненависть. Он бросился по следу и в чаще кустарника увидел лежащую волчицу. Она была мертва…* * *
Кулуар не мог зализать свои раны. Кровь долго сочилась из них. Наконец он задремал, время от времени жалобно взвизгивая во сне. Утром Кулуара разбудил визг отчаянно голодного Джи, который не понимал, где же их хозяин и почему он его не кормит столько дней. Пес сам был голоден. Воспаленными глазами он поглядел на поросенка, и тот немедленно замолчал. Брыська спрыгнула со стола и отправилась на охоту. Кулуар обнюхал место ночного сражения, сбегал к реке и порычал на мертвую волчицу. Вернувшись, он увидел Джи, который что-то отыскал в снегу у крыльца и, торопливо чавкая, помахивал закрученным хвостиком. Кулуар опять поглядел на поросенка, и кто его знает, что могло бы случиться, но в это время ветер снизу, из долины, донес запах, заставивший Кулуара вздрогнуть. Он секунду постоял, принюхиваясь, и вдруг бросился к дороге с радостным звонким лаем…* * *
Вышли рано, до свету. Виктор первое время зябко поеживался. Мерзли колени. Резкий предутренний ветер пробивал одежду. Но шли быстро и вскоре разогрелись. Понемногу светлело, розовели горы, и стало видно, что на гребнях над головой висят на головокружительной высоте многотонные снежные карнизы и причудливые навивы, вот-вот готовые ринуться вниз и смести все, что попадается на пути. Виктору было страшновато, и в таких местах он невольно ускорял движение. Тропа у Голубого ручья, которую в свое время вырубил в склоне Матвей Иванович, оплыла на вчерашнем солнце и покрылась крепким ледяным настом, чуть припорошенным ночным снежком. Едва вступили на нее, как правая лыжа у Виктора соскользнула, и он чуть не покатился к чернеющему над рекой обрыву. Раскрасневшееся лицо его побелело. Матвей Иванович достал из рюкзака веревку, и этот участок они прошли, сняв лыжи и поочередно охраняя друг друга, перекинув веревку через лыжную палку, воткнутую в снег. Вихрем перелетев по снежному мосту на другую сторону ущелья, Виктор затормозил, оглянулся и не поверил: — Ведь мы вон где прошли, Матвей Иванович! — Ну что ж, прошли. Надо, так везде пройдешь. Да ты погоди, привыкнешь… Не доходя километра до лагеря, они услышали радостный лай Кулуара. — Ах он, разбойник, — ласково проговорил Матвей Иванович, — радуется… Они вышли из леса и на прямом участке дороги, поднимающемся к лагерю, увидели Кулуара. Не переставая звонко лаять, он громадными прыжками приближался к ним. И, когда Кулуар был уже рядом, на дороге показались еще две ныряющие в снегу точки. Это Брыська, задрав хвост и жалобно мяукая, торопилась навстречу хозяину. А сзади, прорывая в снегу траншею, с визгом упорно пробивался вперед поросенок. Кулуар положил передние лапы на грудь хозяину и настойчиво пытался облизать ему лицо. — Подожди, подожди, — отбивался Матвей Иванович, — что у тебя на шее? С кем это ты подрался? Ах вы, бедные мои звери! Пошли, пошли скорее! Поедим чего-нибудь… Кулуар, не мешай! Матвей Иванович поднял мяукавшую Брыську и, спрятав ее за пазуху, сказал Виктору: — Подхвати поросенка, а то он, глупый, в снегу увязнет. Кулуар, марш домой!.. Из облаков прорвалось солнце и затопило своим светом дорогу, лес, вершины и склоны гор, всю долину. Высоко-высоко, под самым гребнем нависающей над Голубым ручьем вершины, куда-то пробиралась цепочка туров. — Ведь они, подлецы, — сказал Матвей Иванович, — пласт подрежут и лавину вызовут. Куда только их нелегкая не носит!.. Ну, Виктор, видишь крышу? Вот мы и дома…
ЛЕС ИДЕТ
 Красивое, но мрачное и тесное ущелье ведет в глубь гор.
Дорога, разбежавшись в жаркой безлесой степи, теперь то карабкается по скалам, нависшим над бешеной рекой, то, спускаясь, проскальзывает у их подножия. Навстречу мчатся клокочущие зеленоватые воды рожденной в ледниках реки и с размаху бьют о берег, подмывая его. Сверху одно за другим несутся телесно-желтые окоренные бревна, с глухим звоном наскакивая друг на друга или стукаясь о камни: «бомм… бомм…»
За рекой дремлет тысячелетний монастырь. В его узких окнах-бойницах растут молодые деревца. Ветры и дожди обточили его стены, но, сложенный из огромных камней искусными мастерами, он простоит еще долго, серый и крепкий, как скала.
Дорога, петляя, забирает выше и выводит к теснине. Полукилометровые красные скалы сжали в этом месте реку: она бушует под ногами в провале, а дорога лепится над ней, идет по бревенчатому настилу, пристроенному на подпорах к скале.
Внизу вода разбивается в пену о черно-ржавую громаду фашистского танка.
Он лежит там, мертвый, с замурованной навечно командой, как напоминание — горы не любят непрошеных пришельцев.
От танка вверх по реке тянется самый опасный участок сплава — пикет номер пять. Вода здесь кипит, мечется между каменными стенами и галечными отмелями, беспрерывно меняя направление. Бревна не успевают поворачиваться. Река, как норовистый конь, расшвыривает их по берегам или заклинивает с размаху между зубьями торчащих из пены камней, будто не желая нести навязанную ей ношу.
На пикеты назначают по двое.
Опытный сплавщик Семен Коркин работает с молодым напарником Пашкой.
С утра они начали обход пикета, сталкивая ро́чагами[8]застрявшие бревна. Спустить на воду прибитый к берегу лес для сплавщика просто. Но если река забросит бревна на камни посредине, — это работа!.. В такое дело Пашку Семен еще не пускает. Постояв на берегу и прикинув, как лучше действовать там, на камнях, Коркин лезет в воду. Неширокая протока отделяет камни от берега. Но, как только Семен в нее вступает, вода закипает вокруг него. Там, где глубина всего по колено, она, встречая преграду, поднимается почти по пояс, а где чуть глубже, — захлестывает еще выше.
Течение волочит по дну крупные булыжники. Они глухо рокочут, перекатываясь, и бьют по ногам. Надо еще посматривать, чтобы выскочившее из-за поворота бревно не сбило с ног. Тогда — конец.
Добравшись до камней, Семен быстро и точно работает рочагом. Освобожденные бревна одно за другим подхватывает и уносит река.
Пашка, спустившись вниз, перекинул свой рочаг с берега на торчащий из воды камень, устроив что-то вроде моста. Если Семена понесет, — он ухватится…
В ледяной воде долго работать невозможно. Холод забирается все выше и, наконец, подкатывается к сердцу. Семен, упираясь рочагом со стороны течения — иначе свалит, — возвращается обратно.
— Зашлись! — кричит он подбежавшему Пашке и пританцовывает на месте, чувствуя, как понемногу отходят онемевшие ноги.
Солнце, забравшееся в зенит, заглядывает в ущелье, и мрачная, грозная река становится сверкающей, радостной. Мокрая галька отмели просыхает на глазах. Время обедать.
Пока Пашка возится вокруг костра, помешивая в закопченном котелке, Коркин лежит на камне под горячим солнцем и сушится. Тепло разливается по телу.
Легкие облака плывут над ущельем. Привычно шумит река. Над головой сплавщиков по настилу осторожно пробирается машина.
— Того и гляди свалишься оттуда — и крышка! — восхищенно говорит Пашка, отхлебывая из котелка горячий суп. — Верно, Семен Петрович?
— А ты ведь, — улыбается Коркин, — сам на шофера учиться хочешь.
Проглотив кусок хлеба, Пашка отвечает:
— Ну что ж… и выучусь.
Машина скрывается, обогнув скалу.
Сплавщики встают и берутся за рочаги…
Красивое, но мрачное и тесное ущелье ведет в глубь гор.
Дорога, разбежавшись в жаркой безлесой степи, теперь то карабкается по скалам, нависшим над бешеной рекой, то, спускаясь, проскальзывает у их подножия. Навстречу мчатся клокочущие зеленоватые воды рожденной в ледниках реки и с размаху бьют о берег, подмывая его. Сверху одно за другим несутся телесно-желтые окоренные бревна, с глухим звоном наскакивая друг на друга или стукаясь о камни: «бомм… бомм…»
За рекой дремлет тысячелетний монастырь. В его узких окнах-бойницах растут молодые деревца. Ветры и дожди обточили его стены, но, сложенный из огромных камней искусными мастерами, он простоит еще долго, серый и крепкий, как скала.
Дорога, петляя, забирает выше и выводит к теснине. Полукилометровые красные скалы сжали в этом месте реку: она бушует под ногами в провале, а дорога лепится над ней, идет по бревенчатому настилу, пристроенному на подпорах к скале.
Внизу вода разбивается в пену о черно-ржавую громаду фашистского танка.
Он лежит там, мертвый, с замурованной навечно командой, как напоминание — горы не любят непрошеных пришельцев.
От танка вверх по реке тянется самый опасный участок сплава — пикет номер пять. Вода здесь кипит, мечется между каменными стенами и галечными отмелями, беспрерывно меняя направление. Бревна не успевают поворачиваться. Река, как норовистый конь, расшвыривает их по берегам или заклинивает с размаху между зубьями торчащих из пены камней, будто не желая нести навязанную ей ношу.
На пикеты назначают по двое.
Опытный сплавщик Семен Коркин работает с молодым напарником Пашкой.
С утра они начали обход пикета, сталкивая ро́чагами[8]застрявшие бревна. Спустить на воду прибитый к берегу лес для сплавщика просто. Но если река забросит бревна на камни посредине, — это работа!.. В такое дело Пашку Семен еще не пускает. Постояв на берегу и прикинув, как лучше действовать там, на камнях, Коркин лезет в воду. Неширокая протока отделяет камни от берега. Но, как только Семен в нее вступает, вода закипает вокруг него. Там, где глубина всего по колено, она, встречая преграду, поднимается почти по пояс, а где чуть глубже, — захлестывает еще выше.
Течение волочит по дну крупные булыжники. Они глухо рокочут, перекатываясь, и бьют по ногам. Надо еще посматривать, чтобы выскочившее из-за поворота бревно не сбило с ног. Тогда — конец.
Добравшись до камней, Семен быстро и точно работает рочагом. Освобожденные бревна одно за другим подхватывает и уносит река.
Пашка, спустившись вниз, перекинул свой рочаг с берега на торчащий из воды камень, устроив что-то вроде моста. Если Семена понесет, — он ухватится…
В ледяной воде долго работать невозможно. Холод забирается все выше и, наконец, подкатывается к сердцу. Семен, упираясь рочагом со стороны течения — иначе свалит, — возвращается обратно.
— Зашлись! — кричит он подбежавшему Пашке и пританцовывает на месте, чувствуя, как понемногу отходят онемевшие ноги.
Солнце, забравшееся в зенит, заглядывает в ущелье, и мрачная, грозная река становится сверкающей, радостной. Мокрая галька отмели просыхает на глазах. Время обедать.
Пока Пашка возится вокруг костра, помешивая в закопченном котелке, Коркин лежит на камне под горячим солнцем и сушится. Тепло разливается по телу.
Легкие облака плывут над ущельем. Привычно шумит река. Над головой сплавщиков по настилу осторожно пробирается машина.
— Того и гляди свалишься оттуда — и крышка! — восхищенно говорит Пашка, отхлебывая из котелка горячий суп. — Верно, Семен Петрович?
— А ты ведь, — улыбается Коркин, — сам на шофера учиться хочешь.
Проглотив кусок хлеба, Пашка отвечает:
— Ну что ж… и выучусь.
Машина скрывается, обогнув скалу.
Сплавщики встают и берутся за рочаги…
* * *
Еще некоторое время дорога вьется под скалами, и вдруг крутые склоны расступаются, образуя широкую, ровную, залитую солнцем поляну. Белые домики разбросаны под могучими соснами. Это Архыз — поселок лесорубов. Тихо и пустынно в будние дни на улицах поселка, по которым с гор текут-журчат ручьи и важно путешествуют гуси. Лишь ребятишки, устроив из камней запруды, купаются в чуть нагретой солнцем снеговой воде и визжат, как нанятые. Их голосаподхватывает невидимый ветер и уносит, слегка пошумев в соснах, вместе с запахом хвои и горных трав вниз, в ущелье. В конторе лесопункта, в магазине, в клубе и даже на почте тоже пустынно. У моста через реку над водопадом притаились в камнях неподвижные фигуры поселковых мальчишек. Они ловят в сверкающей буйной воде хитрую горную рыбу форель. И кажется: где-то внизу, в душной степи, осталась кипучая жизнь, работа, движение, а здесь все замерло, дремлет под горячим солнцем, обдуваемое прохладным ветерком с гор.* * *
Пока телега грохотала по бревенчатому мосту, говорить было невозможно — язык откусишь. Но, как только она остановилась у почты, Степан Мохов опустил поджатые ноги на землю, встал во весь свой огромный рост и наклонился над телегой. Сунув в нос старику Порхунову, по прозванию Шатун, кулак величиной с двухпудовую гирю, он сказал: — Видал?.. На вот твоему Фомичеву. Начхать мне на бригадирство, не жалко. А лес, значит, так и будем рубить, который потоньше? — Мохов огляделся вокруг, как будто хотел найти и показать им, какой они лес будут рубить — прутики! У почты стояла девушка, видимо городская, в брюках, ковбойке и широкополой белоснежной шляпе. Она изумленно и чуть насмешливо смотрела на Степана. — Вот, — продолжал он, мельком взглянув на нее, — барышнешек понаехало. Берите их в помогу. Будете хворост собирать. Лесорубы… Тьфу!.. Бывайте! — зло добавил он после паузы, приподнял над головой фуражку и крупным шагом пошел в гору. Дед Шатун наконец заговорил, распаляясь все больше, поскольку Мохов отошел уже далеко. — А ты кто такой мне угрожать? Видывали мы таких. А если затор от твоего самоуправства образуется?! Сплав станет?! Тогда как?.. — Дед Шатун обернулся к лесорубам, ища поддержки. — Ишь рассовался своими кулачищами! Да я… — Ты бы дал ему, дед, раза… — ехидно предложил кто-то. А что? — горячился старик, не понимая подвоха. — Ежели приставать будет, дам. Несмотря что я низкорослый. Лесорубы расхохотались. — Пойдем-ка, Иван Афанасьевич, лучше попаримся. А Мохов, он не на тебя злой. Ты не серчай, — сказал, обняв Шатуна за плечи, моторист Шухов. Лесорубы возвращаются с делянок и лесосек по субботам. На улицах, в магазине, на почте — везде народ, но больше всего — в бане. Она стоит на берегу реки и с утра дымит, как пароход перед отплытием. Внутри жара, почти как в мартеновской печи, плеск воды, стук деревянных шаек, гул голосов. Смывая недельный пот, пильщики, обрубщики, сплавщики, мотористы обсуждают события последних дней. В поселок приехала геологическая партия и нанимает рабочих. Платят хорошо: чуть не в полтора раза больше, чем можно заработать на лесосеке. — А кто к ним пойдет? — говорит сплавщик Коркин. Он ожесточенно скребет намыленную голову. Мыло течет по лицу. Глаза у него закрыты. Он разводит руками. — Я вот говорю, — кто к ним пойдет? — А ты бы не пошел? Платят подходяще, — отзывается окутанный паром Шухов. — Как же, пойду! Три месяца поработаешь, а потом они уедут — и топай вспять на делянку. Примите, мол, дезертира. Как без меня со сплавом управились? Не затерло ли? А мне скажут: «Нет, что вы, Семен Петрович, управиться-то управились, но мы со всем удовольствием… Обратно вас примем и премию выпишем…»… — Премию-то, поди, не выпишут… — Вот то-то. Потри-ка мне спину, Пашка. Да подюжей. На, возьми мочалку… Заговорили о Мохове: правильно или нет сняли его с бригадиров. Кто говорил — за дело, кто — мол, напрасно. Поднялся шум. Но пришел сам Мохов, и все смолкли. Зачем бередить человека?.. Старик Порхунов вышел из бани последним. Уже стемнело. Ночной ветер приятно освежал разгоряченное лицо старика. Он остановился, придерживая большими, плохо гнущимися пальцами расползающийся сверток с бельем, и поднял голову, вглядываясь в темные, но такие знакомые ему очертания гор. Слева — перевал Чигордалы. Он, Шатун, когда немцы заняли этот перевал, нашел обход и провел там партизан. Так и зовут с тех пор их путь Партизанской тропой. Вон ущелье Псыша. Там, почти на вершине Аман-Каи, лежат каменные деревья, облепленные каменными же раковинами. Шатун водил туда московского профессора. Очень он восхищался. А там, над делянкой, поднимаются сейчас черные, а днем пятнистые скалы. Странные это скалы. На луне или на солнце не заблестят, а в пасмурные дни иногда будто засветятся радужным светом. Лес обступил их кольцом, а на скалах — ни деревца, хотя в других местах деревья растут чуть ли не прямо из камня. Снега на них зимой не бывает. То ли тает, то ли не держится. И то сказать, — они отвесны. Это, пожалуй, единственное место в окрестных горах, где Порхунов не был. Лет тридцать тому назад его друг черкес Чекмезов сказал: «Старики говорят, — там горные духи живут. Человеку туда нельзя». Порхунов не послушал. Вскинул мешок, взял ружье и пошел. Недаром ведь его и прозвали Шатуном. У подножия Пятнистых скал откуда-то свалился камень и ударил по ноге. Кость не перешиб, но Порхунов насилу приполз домой. Старик так ясно себе представил и жаркий день, когда он лез по каменному ступенчатому ложу ручья, и то место у подножия скал, покрытое оранжево-красными камнями с черными пятнами, как будто он вчера только вернулся оттуда. И вдруг ему нестерпимо захотелось снова вскинуть на плечи мешок с припасом и пойти ранним утром посмотреть-повидать знакомые места. «Геологи, они походят, — подумал Шатун. — Но пути-то им не знакомы… — Шатун развеселился. — Не знакомы, куда там!..» Девочка лет тринадцати потянула Шатуна за рукав. — Дед, а дед, пойдем домой! Мать ужинать собрала. Тебя ждем. — Пойдем, Верунька, пойдем. Шатун хотел погладить внучку по голове, но она увернулась. Старшая сестра сделала ей прическу — в клубе вечер, — а дед мог испортить… За воскресенье Степан Мохов не исправил своего служебного положения. Он ходил объясняться к начальнику лесопункта Фомичеву, там вспылил, стукнул легонько по столу кулаком и сломал столешницу. — Я починю. На мой счет, — пробормотал он сконфуженно и ушел. Ночью Степан спал плохо. Злость, которая бушевала в нем в субботу и вчера у Фомичева, куда-то улетучилась. Было совестно: напугал старика, обидел девушку, стол разбил. — Э-эх-х!.. — тяжело вздыхал он, ворочаясь в постели. За полночь не выдержал — поднялся, надел сапоги, отыскал в темноте мешок с недельным припасом и вышел. Луна уже зашла за гребни гор на западе, но звезды светили ярко, отражаясь в ручейке. Вода сонно булькала, переливаясь через ребячью плотину. В маленькой заводи вздрагивал колеблемый течением полузатопленный бумажный кораблик. Еще ни в одном доме не горел огонь, еще лесопунктовские кони додремывали последние часы, прежде чем они потянут по трудным дорогам брички, развозя лесорубов на делянки. Мохов не хотел сегодня ехать со всеми, не хотел встречаться с Коркиным, которого временно назначили бригадиром. Не хотел ни сочувствия, ни осуждения. В полной темноте, царившей в лесу, изредка спотыкаясь о корни, он прошел половину пути и вышел к реке, к броду, который вел на покосы. Начинало светать. В эти предрассветные минуты мягче и глуше ворчала река, недвижно стояли выступающие из темноты серыми стволами огромные пихты, покорно склонялась тяжелая от обильной росы, высокая на открытом месте трава. Еще молчали птицы. На противоположном берегу, на галечной отмели, покрытой высоким кустарником, смутно белели сквозь серый туман палатки геологов. «Ишь где устроились, — подумал Мохов. — Красивое место. Только как бы не подмыло их, если дожди пойдут». Он собрался было перейти на другой берег, предупредить, но решил: «Пусть спят, днем скажем». На снежные вершины, замыкающие ущелье, упали первые лучи солнца. Полоса света протянулась по ущелью, над рекой. На делянке ничего не изменилось. Так же, как в субботу, высятся на берегу штабели бревен, принятых к сплаву. Безмолвный трактор возвышается над временными, сбитыми из дранок, вроде игрушечными, домиками, где живут лесорубы. Под навесом котел над очагом из камней. Дед Шатун варит в нем артельный обед. В сторонке — движок на деревянных салазках, соединенный с генератором. К нему подключают кабель электропил. Сейчас, пока еще никого нет, все это выглядит каким-то притихшим, покинутым. Мохов медленно поднялся на делянку, присел на бревно и взглянул на лесосеку. Среди пней и хлыстов, так называют лесорубы поваленные деревья, группами и в одиночку стоят могучие красавицы пихты. Высотой они метров тридцать — сорок, в обхвате — вдвоем не обнять. В этом-то и дело. Лесорубы их обходят. Сплаву запрещено принимать бревна больше сорока сантиметров в поперечнике — мол, река не поднимет. И простоят эти пихты, пока не омертвеют на корню, а потом свалятся и догниют без пользы. Мохов вздохнул. Он на прошлой неделе сказал лесорубам: «Валите, приму. Под мою ответственность». Теперь стоят на сплавной площадке штабели толстенных бревен, а бригадирство — ау! Вот как, Степан Ларионович! Фомичев кричал на него при всех: «Золотые твои бревна будут, Мохов! По одному возить станем на конях. Так, что ли? Да еще провезем ли, вот в чем вопрос!» — «Дожди пойдут — и не надо возить, водой уйдут», — отвечал Мохов. «Ну и дожидайся своих дождей». — «И дождусь». — «Дожидайся! А пока сдавай бригадирство…» Вот как было дело. Нашла, как говорится, коса на камень. Кто же прав? Фомичев или он, Мохов? Конечно, ему надо было сперва попробовать спустить одно-два бревна, проверить, где их заклинит. Может быть, какой камень взорвать, а потом принимать валом. Теперь эти бревна будут числиться за сплавом. Назовут их моховскими. Это точно. А сплавить не позволят. Фомичев скажет: «Мне выговоры получать неохота», — «А мне, стало быть, охота?» — криво усмехнулся Мохов. Он встал, подошел к штабелю принятых им бревен и на обоих концах одного из них сделал топором зарубки-отметины. Потом взял рочаг, прикинул его на руке и отбросил в сторону. Легок. Нашел другой, потяжелее, влез на штабель. Утром воды в реке меньше. Таяние снегов, скованных ночью морозом, только началось. «Спущу, — упрямо подумал Мохов, поддевая рочагом отмеченное бревно. — Пойду на пикеты. Если застрянет, волоком протащу…» Он налег на рочаг. Бревно подалось не сразу. Обычно их сваливают вдвоем. Наконец оно повернулось, покатилось по скатам к реке и со звоном шлепнулось в воду. Покачавшись у берега, оно медленно развернулось, конец попал в стрежень. Степан напряженно следил. Если бревно выбросит на отмель или прибьет к берегу, — полбеды. Но если его развернет поперек стрежня и заклинит между камнями, где-то внизу, когда начнут сплав, — будет затор. Тогда — стой, сплав! Тогда — отвечай, Степан Мохов. Покачиваясь и вздрагивая на пенистых бурунах, бревно скрылось за поворотом. «Должно пройти», — проводил его взглядом Степан. К делянке подкатили брички с лесорубами. Мохов пошел навстречу Коркину. — Слышь, бригадир? Наряди меня на пикеты. — Не могу, Степан. На пикеты я по дороге назначил. — Значит, не можешь?! — зло спросил Мохов. — Не могу. Здесь сваливать некому будет. — А если я сам пойду? Без назначения? — Иди, — спокойно ответил Коркин. — Ты и так все сам делаешь. Смотри, один останешься. Мохов оглянулся. Лесорубы стояли молча. Никто не одобрял его. Он скрипнул зубами и пошел обратно к штабелям. Лесорубы привезли новость: дед Шатун подался к геологам. — Ты его разобидел в субботу, Степан Ларионович, вот он и убег. — За деньгами побег, а не от обиды. Нажиться хочет. — Ну, это ты не скажи. Он здесь все горы облазал. Кто ему платил? Зуд у него в ногах, вот что. — А я говорю, за деньгами, — упрямо сказал Мохов. Делянка оживилась. Почихав, заработал движок, зарокотал трактор. Электропильщики, разматывая кабель, двинулись вверх по склону. Работа на лесосеке напоминает бой. Впереди идет авангард — лесорубы-пильщики. Наметив место, куда должен упасть хлыст, они подрубают с той стороны ствол. Пила врезается в дерево с другой. Струями бьют опилки, резко пахнет смолой. Вздрогнув вершиной, пихта кланяется родным горам и ясному небу и с шумом, напоминающим гул ветра, падает на землю. Эй, не зевай! У-ух-х… Пильщики распрямляют спины. К упавшему хлысту подходят обрубщики и очищают ствол от сучьев. Трактор цепью стягивает тело пихты со склона. Распиловщики режут ее на четырехметровые бревна. Окоровщики снимают кору, делают фаску[9] на торцах, чтобы при сплаве бревно не кололось при ударе о камни. Окоренное бревно рочагами подкатывают к сплаву. Жужжание пил, стук топоров, тарахтенье движка и рокочущее урчанье трактора сливаются с ревом реки. Лишь время от времени все покрывает гулкое уханье рухнувшего дерева и треск лопающихся сучьев. Солнце печет голову, плечи, спину. Бревна истекают свежей смолой. Нагретый камень склонов пышет зноем. Пот обильно смачивает рубашки лесорубов и высыхает, оставляя белые пятна. Как и у солдат, у лесорубов рубашки всегда просоленные. Мохов работал молча. Он ждал, что вот сейчас кто-нибудь прибежит с пикета с известием — затор! Но пока все было в порядке. Несколько раз поднимали ляду — щит в плотине, собирающий воду выше делянки. Волна, вырывающаяся из-под ляды, проносится по реке и, поднимая застрявший лес, несет его дальше. То бревно или ушло далеко, или прочно сидит где-нибудь между камнями. Но в полдень с третьего пикета пришел Пашка: да, затор! Мохов вздрогнул. — Спла-ав, стой!.. — скомандовал Семен Коркин. — А может, ляду подымем? — с тревогой спросил он сплавщика. — Воду спустим?.. Поможет, ты как думаешь? — Навряд. Крепко село. Мы не сразу заметили. Теперь наволокло лесу, сам черт не растащит. — Пошли, — коротко сказал Коркин.* * *
Стукнувшись одним концом о подводный камень, бревно развернулось поперек стрежня и село на второй камень. Вода закипела и перехлестнула через него. Следующее бревно ударилось о преграду и прижалось рядом. Другое поднырнуло под них и застряло. Третье встало торчком. Бревна лезли, будто какие-то тупорылые, обезумевшие животные. Река швыряла их друг на друга. Вода прорывалась сквозь щели между бревнами. Вздыбленная масса навороченного леса дрожала под ее напором. Все было ясно. Затор надо растаскивать по бревнышку. Этой работы хватит на несколько суток. Сплавщики молча стояли на берегу. Наконец Коркин сказал, сбрасывая с плеча захваченную на делянке веревку: — Надо коней, багры, еще веревки — одной ничего не сделаешь. Мохов, пристально разглядывавший затор, обернулся. — Нет ли, ребята, рочага подлиннее? Вот твой, вроде, годится, дай-ка сюда… — Ты что, Мохов, рехнулся? — проговорил сплавщик, неохотно отдавая свой рочаг. — На затор лезть хочешь? Не пустим! — Мое бревно, — тихо сказал Мохов. — Я утром его спустил — попробовал. Понимаешь, нет?.. Он резко повернулся и пошел к реке. У воды его догнал Коркин и молча обвязал сзади вокруг груди веревочную петлю. Они встретились взглядами. Мохов понял, — Коркин поступил бы так же. Степан перепрыгнул на камень и с него полез на завал. Внизу клокотала вода. Оступишься — утащит. Бревно сидело плотно, но, если его перевалить через камень, — пройдет весь лес. Степан попробовал поддеть его, но рочаг соскальзывал. Бревно не двигалось. Тогда он решил подвести его под концы других бревен. Они должны его хоть немного приподнять. Но и это долго не удавалось. От напряжения на лбу и шее Степана вздулись вены. С берега ему что-то кричали, но сквозь рев реки он не слышал. Дернулась веревка. Степан обернулся и увидел на берегу Фомичева, который жестами приказывал ему вернуться. Мохов зло махнул рукой — отвяжитесь! Наконец ему удалось утопить концы трех бревен под поперечное. Между камнем и бревном под водой теперь образовалась щель. Можно было завести рочаг. Степан завел его и нажал. Бревно поддавалось. И вдруг он понял: как только конец бревна перевалит через выступ камня и освободится, вся масса завала ринется в проход и сметет его, Степана Мохова, раздавит, перемелет… Степан выпрямился. Так что, обратно?.. Он огляделся. Такая привычная для него река показалась чужой. Какие-то незнакомые кусты полоскались в воде, неизвестные камни торчали из пены. А не той ли дорогой, что лепится по берегу, он шел сегодня утром? А вот бревно. Не его ли он скатывал сегодня со штабеля? Правда, и оно показалось ему каким-то другим. То было как будто толще, Степан налег всем телом на рочаг. «Значит, смерть!» — подумал он и, когда бревно медленно вылезло наверх и остановилось, увидел торец. Отметины на нем не было. Удерживая на весу тяжесть бревна, Мохов лихорадочно думал. Еще не поздно отпустить его на место. Еще можно спокойно вернуться на берег. Ведь не виноват он, Мохов, в этом заторе. — «Нет, черта с два, — прохрипел он. — Виноват!» — Он сделал последний толчок и почувствовал, как уже сам, под напором воды, пошел вперед освобожденный конец бревна. Степан мгновенно выдернул рочаг, перебросил его на соседний камень, уперся и взлетел на воздух. В тот же миг за его спиной в открывшийся проход с грохотом ринулся лес. Несколько тонких бревен лопнуло. Будто выстрелы прокатились над рекой. Степан упал в воду у берега. Вылетевшее из боковой протоки бревно ударило его под колено и сбило с ног, но веревка с берега натянулась, и сплавщики подтащили Мохова к отмели… Он с трудом поднялся, выбрался на берег и оглянулся. Затора не было. — Спасибо, временный, — хрипло сказал он Коркину. — Рисковый ты человек, Степан. Тяжело дыша, Мохов посмотрел Коркину в глаза. — Я так считаю: напаскудил — исправляй!.. А бревно, — тихо добавил он, — не мое. Другое бревно. — Это мало что не твое, — ответил Коркин. — Должно-то было твое затереть. — Это я понял, — проговорил Мохов. Мохов не смог пробираться на делянку по этому берегу. Нога болела, а надо было прыгать с камня на камень, кое-где идти водой. Он пошел к лагерю геологов, чтобы выйти на дорогу. Через брод переходил осторожно, медленно упираясь в дно рочагом. Мышцы на ушибленной ноге ослабли. Было бы глупо, если бы вода свалила его здесь. Поднимаясь на берег, он столкнулся с той самой девушкой в белой шляпе. Она была верхом, видимо, возвращалась в лагерь из поселка. Девушка холодно посмотрела на Степана. — Здесь вода не сильная. Не бойтесь — не унесет, — сказала она сухо. — Можно и без этой палки перейти, — она показала глазами на рочаг. Это было чудовищно несправедливо и жестоко. Степан вспыхнул, потом медленно, чтобы скрыть свою злость, сказал: — Вы… это… Лагерь-то перенесите. Дожди пойдут — смоет вас. Я это верно говорю. — Вы, я вижу, всех пугаете, — обронила девушка, очевидно напоминая субботнюю сцену у почты, и тронула поводья. — Нет, — хмуро ответил Степан. — Я вот только что сам испугался. Девушка удивленно посмотрела на него, обернувшись в седле, а он поднялся на дорогу и заковылял к делянке, припадая на больную ногу.* * *
На другой день с утра парило. Так же тарахтел движок, жужжали электропилы, падали на землю пихты, но работать было тяжело. Одолевала испарина. Чаще, чем обычно, люди спускались к реке обмыть в холодной воде потное лицо. Воздух был неподвижен. Даже с ледника не тянул, как всегда, прохладный ветерок. Ранним утром над ущельем высоко в небе прошли тонкие перистые облачка — собиралась гроза. Сваливая бревна, Мохов поглядывал на небо. И однажды на гребне над делянкой у Пятнистых скал заметил какое-то движение. Приглядевшись, он увидел крохотные фигурки людей, карабкающихся по отвесным скалам. Фигурки время от времени останавливались, а потом лезли все выше и выше. И вдруг Степан различил знакомую белую шляпу… — Смотрите, ребята, — показал он сплавщикам рукой, — отчаянный народ эти геологи. Все оставили на время работу и смотрели на Пятнистые скалы. Мужество всегда вызывает уважение. — И кашевар наш беглый, поди, там, — прокричал кто-то, — дед Шатун! А?.. — Где ж ему быть? Конечно, там, — отозвался Коркин. — Наши поселковые деды бедовые, — добавил он насмешливо, но с гордостью. Никто и не знал, что дед Шатун довел геологов только до подножия скал. Дальше идти у него не хватило сил. — Душа-то хочет, а ноги не могут, — виновато оправдывался он. Его утешили, как могли, и отправили в лагерь… В полдень глухо зарокотало вдали. Из-за Главного хребта медленно надвигалась иссиня-черная стена облаков. Вершины хребта ярко сверкали снегами, резко выделяясь на черном фоне. Но вот они начали исчезать в пепельно-серых клочьях. Солнце еще светило, и в ущелье было по-прежнему тихо. Но там, в горах, уже началось… — Надо бы им слезать оттуда, — сказал Коркин Степану. — Геологам-то. — Степан молча кивнул головой. — Догадаются, я думаю. Не маленькие, — задумчиво ответил сам себе бригадир. Лохмотья облаков затянули солнце, но оно еще просвечивало сквозь них, а потом скрылось. Стало темно. Яркая молния вспыхнула над ущельем и погасла. После тягостной секунды тишины рявкнул гром. Эхо грохотом прокатилось по горам. И сразу же с черно-серого неба, которое, казалось, можно было достать рукой, полились косые струи воды и захлестали по бревнам, по траве, застучали по драночным крышам домиков. Под таким ливнем не работа. Но сплавщики остались на местах. С минуты на минуту с гор пойдет дождевая вода — самое время для сплава. Только сваливай! И вдруг Мохов вспомнил про геологов. «Промокнут — это ничто. А вот лагерь… Девушка-то, видать, с норовом», — подумал он. — Эй, Пашка! Куда ты скрылся?.. Из-под нависающих бревен штабеля, где он прятался от дождя, вылез мокрый Пашка с рочагом в руках. — Вот что, — хмуро сказал Мохов, — ты эту штуку брось. — Он показал глазами на рочаг. — Без тебя управимся. Лагерь геологов знаешь? — Знаю, — ответил ничего не понимающий Пашка. Обида загорелась у него в глазах. Как это справятся, когда сейчас самая пойдет работа? — Вода пойдет, — сказал Мохов, — смоет лагерь, — понял? Сыпь туда. Справишься? Обида исчезла из глаз Пашки. — Справлюсь, Степан Ларионович. — Ну, так чего стоишь?! Беги! Да опасайся! — крикнул ему вдогонку Мохов. — Особо не риску-уй! Пашка, торопливо перескакивая с камня на камень, побежал вниз по реке. Он понимал, что, если бежать к лагерю геологов по другой стороне, дорогой, — не успеешь перейти брод. Пойдет большая вода — какой там к черту брод! Вода неслась еще чистая. Значит, дождевые потоки не успели добраться до реки. Надо было использовать это время. Пашка бежал вперед, уклоняясь на ходу от встречных кустов. Несколько раз он оступался на мокрых камнях и падал в воду. По склонам уже мчались пенистые мутные потоки, волоча с собой сухие ветви, мусор, мелкие камни, и вливались в реку. Она вздувалась. Рев ее ощутимо усиливался. Последний участок Пашка прополз по скалам, нависающим над водой, цепляясь за скользкие кусты. Внизу прохода больше не было. От большой отмели, на которой стоял лагерь геологов, остался маленький остров. Неширокая пока протока отрезала его от берега. Пашка перебежал ее и выскочил к лагерю. Палатки, брезент, какие-то деревянные ящики, мешки с продовольствием валялись на земле. Дед Шатун копошился около них, взваливая себе на плечи огромный узел. — Стой, дед! Помогу… — Пашка взвалил старику на плечи тюк и подтолкнул к протоке. — Иди скорей! Вода прибывает. Давай, давай!.. Дед Шатун даже не удивился — откуда взялся в лагере Пашка. Некогда было удивляться. Пашка, оглядевшись, сорвал одну из палаток с оттяжек и стал заталкивать в нее все, что попадалось под руку. С трудом подняв узел и взвалив его на плечи, он перешел протоку и сбросил ношу на склон. — Держи, еще свалится! — крикнул он Шатуну и побежал обратно. Когда Пашка шел с последним узлом, вода в протоке чуть не сбила его с ног. — Все, — вздохнул он, садясь на землю под пихтой. — Как же ты, дед, не сообразил, а?.. — укоризненно сказал он Шатуну. — Я только пришел, — ответил старик, вытирая лицо мокрым рукавом. — Вчера говорил — не послушали. Говорят: «Отмель высокая, старая. Мол, деревья даже растут — не зальет». Вот те и не залило. Оно, правда, такой грозы я давно не видывал. А тебе, Пашка, спасибо. Всей бы нашей амуниции — аминь, крышка! Вон оно, что делается. Там, где была отмель, неслись мутные волны взбешенной реки, а поверху мотались мокрые ветви согнутых напором воды кустов.* * *
Дотемна шла работа на сплаве. Штабеля моховских бревен таяли. — Ого-го! — радостно кричит мокрый, с непокрытой головой, в растерзанной рубашке, Мохов. — Свалива-ай!.. Одно за другим плюхаются в воду метровые в поперечнике бревна. Река их подхватывает и стремительно мчит вниз. По-прежнему хлещет дождь, гром перекатывается в невидимых горах над головой, по скалам бегут мутные потоки и врываются в реку. Сплавщики ворочают рочагами. Лес идет… К ночи ливень стих, перешел в ровный затяжной дождь. Шатун расположился на новом месте. Поставил на косогоре палатку, а сам сидит под пихтой и ждет. Вокруг льется вода, но под пихтой сухо. Густые ее лапы не протекают. Шатун даже развел костер. «Придут — обсушатся», — думает он. Пар идет от его ног, от одежды. Реку не видать, но она тут, рядом, — ревет грозно и неумолчно. В темноте проносятся бревна, стукаясь о камни: «бомм… бомм…» — Простое дело — бревно, — разговаривает сам с собой Шатун, складывая в костер пихтовые сучья, — а сколько в нем трудности: свали, окоруй, разрежь, сплавь. — Он прислушался: — Кажись, геологи идут… — И поднялся навстречу.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЧАБАНА
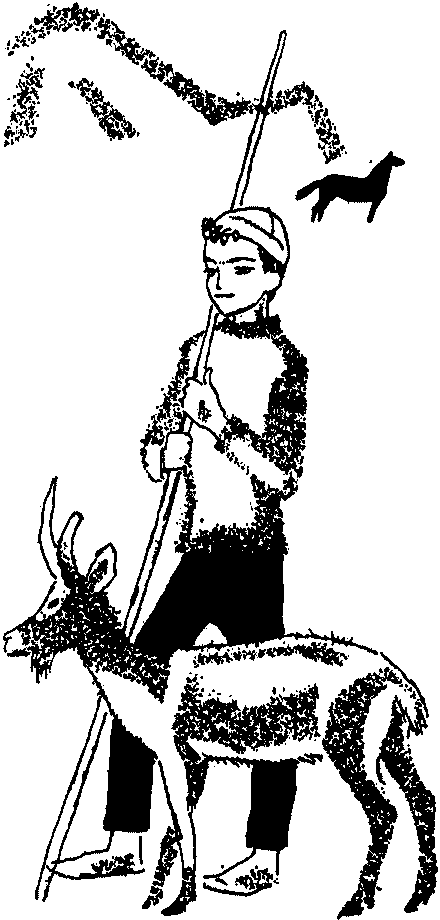
Три рубля
Кроме красивых и, что говорить, чересчур пышных и шумных курортов, на Черноморском побережье Кавказа есть и тихие уголки. Это или рыбачьи поселки у моря, где вдоль галечного берега всегда растянуты на просушку сети, а домики прячутся в непроходимых чащах гигантской кукурузы, или древние селения в устьях горных рек с узкими улочками и сложенными из камня заборами, над которыми щедро свешиваются ветви отягощенных плодами фруктовых деревьев. В одном из таких селений я и познакомился с Виссарионом-младшим. Он был единственным и любимым сыном моей хозяйки и отъявленным девятилетним разбойником. Виссарион-старший, отец Виссариона-младшего, погиб в Венгрии, у озера Балатон, и его увеличенный в самой лучшей фотографии Сухуми портрет в ореховой рамке висел в парадной комнате. Когда я въехал в эту комнату на правах постояльца, Виссарион-младший ходил за мной и смотрел, как я устраиваюсь в их доме. Его внимание привлекли ледоруб, горные окованные ботинки и главным образом небольшая складная подзорная труба, которую я беру с собой в горы, чтобы просматривать подступы к вершинам или наблюдать издалека за турами. — Эт-та замечательна, — говорил Виссарион, рассматривая в перевернутую трубу знакомые ему предметы, ставшие необычайно далекими. А когда я остановился перед портретом Виссариона-старшего, в лице которого мне почудилось что-то знакомое, — может быть, и встречались где-нибудь на войне, — мальчик встал рядом. — Хороший у тебя был отец, — тихо проговорил я. Виссарион гордо сверкнул заблестевшими глазами и торопливо вышел из комнаты. Кровать была высокая, с огромным количеством перин и подушек, которых я, из-за привычки спать на твердой земле, не люблю. Мне приходилось каждый вечер в несколько приемов перетаскивать их на стол, а утром водружать на место. Зато прямо с кровати я видел в окно верхушки деревьев (дом стоял на горе), белую кайму прибоя, небо и море, в безветренные дни до того одинаково синие, что различить, где кончается одно и начинается другое, было трудно. На рассвете меня разбудили какие-то странные звуки. Кто-то царапался под открытым окном. Оберегаясь от сырости, дома в здешних местах строят на высоких кирпичных столбах-подпорах, и забраться с земли к окнам жилого этажа невозможно. По узкому карнизу, идущему вокруг здания на трехметровой высоте, бродят иногда только кошки. Я и подумал, что это вышел на свою утреннюю прогулку хозяйский кот. Но ошибся. В окне появилась маленькая коричневая рука и уцепилась за подоконник, затем вторая… Прошла минута, наконец снизу осторожно поднялась взлохмаченная голова Виссариона-младшего. В его черных глазах было выражение тревоги и отчаянной решимости. — Курыца хочишь? — спросил он громким шепотом, убедившись, что я не сплю. — Три рубля. Хароший курыца. Хочишь?.. Я понял, что Виссарион предлагает мне участвовать в какой-то незаконной торговой операции. Слишком необычны и таинственны были время и способ, к которому он прибегнул; слишком невероятна была разница между действительной стоимостью курицы и теми деньгами, которые он у меня требовал. Кроме того, я подозревал, что своих кур у Виссариона не было. Значит… Все время, пока я об этом, спросонья, раздумывал, Виссарион напряженно смотрел мне в рот, ожидая ответа. Вероятно, его ноги не доставали до карниза, потому что голова постепенно опускалась, но он делал судорожные усилия и, упираясь пальцами ног в дощатую обшивку, снова приподнимался над подоконником. — Хочишь?.. — Нет, Виссарион, — твердо ответил я. — Не хочу. И вдруг я сообразил, что этот негодный мальчишка может сорваться. — Подожди, — сказал я и поспешно встал с кровати, собираясь втащить его в комнату. Виссарион презрительно посмотрел на меня; голова его опустилась, и руки одна за другой исчезли с подоконника. Я подошел к окну. На карнизе никого не было. Только утреннее солнце щедро разливало свой золотой свет на пустынные еще улицы поселка, на верхушки деревьев, на остатки смутно розовеющего над морем ночного тумана — на всю землю. Одевшись, я спустился в сад. Мать Виссариона хлопотала у летней печурки во дворе. Из трубы прямо в небо поднимался сизый дым. Точно такие же столбы дыма вырастали и над соседними садами. Куры разгуливали по дорожкам, склевывали опавшую алычу и не подозревали, какую участь готовил Виссарион по крайней мере одной из них. Я вышел на улицу, осмотрелся и увидел Виссариона. Он мрачно сидел на каменном заборе, обхватив руками колени. Над ним свешивались широкие трехпалые листья и дымчато-синие плоды инжира. — Для чего же тебе надо три рубля? — спросил я. Виссарион молчал. Он даже не шевельнулся и не повернул глаз в мою сторону. Я чувствовал себя неловко. — Тебе эти деньги очень нужны? Виссарион поднял нос к небу и вздохнул: — Канэчна. — Так возьми, — обрадовался я, полез в карман, достал деньги и протянул ему. Он гордо посмотрел на меня с высоты забора. — Нет. Я растерянно стоял с протянутой рукой, а Виссарион невозмутимо возвышался надо мной, будто не он, а я хотел продать ему чужую курицу, будто не ему, а мне нужны были эти три рубля. Наконец я сообразил, в чем дело. — Хорошо. А ты поможешь мне собирать камни на пляже? Будешь работать. Согласен? — Почему нет? — оживился Виссарион. — Согласен. Мать ушла в колхозные сады на работу, а мы с Виссарионом отправились на пляж. У меня есть давняя привычка привозить домой с гор и с моря красивые или редкие камни. Я объяснил Виссариону, какого цвета, с каким рисунком и какой формы гальки мне нужны, и он принялся за работу. Вскоре он натаскал такую гору галек, что мне пришлось, отсортировывая, многие из них выбрасывать. Виссарион огорчался: — Зачем бросаешь? Оч-чень интересный камень. Сматры… Потом мы купались. Виссарион прекрасно плавал и нырял, доставая со дна раков-отшельников и, наконец, получив свои честно заработанные три рубля, убежал. На другой день Виссарион исчез с утра и не явился к обеду. Вечерний ветер навел на море муаровую рябь. Солнце опускалось за дальний мыс. Очень медленно тянулось время. В доме было тихо. Сквозь закрытую дверь из соседней комнаты пробивались звуки тикающих ходиков. Я знал, что мать Виссариона сидит там, положив руки на колени, и прислушивается: не стукнет ли калитка. Надо было что-то делать, — но что? Наконец она не выдержала и вошла ко мне. — Виссариона нет. Много раз обед согрела. Совсем холодный снова. Вы, конечно, деньги ему не дали? Я смутился. — Дал. Три рубля. Но, понимаете… — Это очень плоха, — сурово сказала она. «Так-так, так-так», — говорили ходики. — Пойду, — пробормотал я. — Буду искать… — Э, — она махнула рукой. — Где искать? Близко был, кушать пришел бы. Она заглянула в окно, и вдруг в ее глазах появилось выражение ужаса. В узенькую калитку протискивалось несколько человек. Двое мужчин кого-то несли на руках. Ох, как быстро сбежала немолодая женщина по крутой лестнице навстречу! Как обхватила она мокрое тельце Виссариона и прижалась к нему! А когда убедилась, что он жив, какими поцелуями покрыла его лицо! Что скрывать, и у меня защемило в горле… Именно три рубля необходимы были Виссариону, чтобы внести последний взнос за снасть для ловли лососей, которые заходили в реку из моря. Заполучив ее вчера вечером, он на рассвете ушел на промысел. Целый день Виссарион забрасывал блесну так же, как это делал однорукий Жаца — известный рыбак. Ничего. Наконец ушел домой и Жаца, который поймал одну рыбину. Виссарион перебрался с берега на тот камень, где ловил знаменитый рыбак, и, так же как он, замаскировал себя ветвями: хитрая рыба — все видит. Виссарион был голоден. Он смотрел на исчезающую в бурном потоке лесу и шептал: «Ай, лосось, ай, лосось, кушай, серебряная рыбка!» — а сам думал: «Мать харчо сварила. Сердиться будет. Ай-яй, Виссарион. Это никуда не годится». Вода уносилась к морю и шумела, шумела… Виссарион задумался. Рывок был таким неожиданным, что он упал в воду. У камня было еще мелко, и Виссарион вскочил на ноги. Сердце у него забилось: — Нэ уйдешь, нэ уйдешь… Но, прежде чем он успел встать, новый толчок сбил его. Течение подхватило Виссариона и поволокло на глубокое место. Здесь вода неслась, как во всех горных реках, с бешеной скоростью. Виссарион плавал хорошо, но на одной руке у него была намотана леса, и он не собирался с ней расставаться. Где-то на другом ее конце сидела крупная рыба. Очень крупная рыба… Виссарион еще надеялся подобраться к берегу. Он перевернулся на спину, чтобы отдохнуть, но река — не море. Виссариона потянуло вниз, и он, прежде чем вынырнуть, нахлебался воды. Короткие волны захлестывали лицо. Он испугался и распустил лесу. Но было поздно. Близкий берег стал далеким и чужим, незнакомым, небо вдруг повернулось и оказалось рядом. Потом оно совсем исчезло. Его сменил зеленый полумрак, а где-то сбоку сквозь пелену сверкнули ослепительные искры солнца. Виссарион вынырнул еще раз, закричал: — Мама!.. Мам… — И потерял сознание. Его увидели и вытащили колхозные конюхи, которые у берега мыли лошадей. С трудом им удалось привести его в чувство. Несколько дней Виссарион болел. Он лежал в постели тихий и бледный, оживляясь только тогда, когда на улице раздавался условный свист. Это его друзья сгорали от нетерпения: им хотелось узнать, как он ловил лосося. Если матери Виссариона надо было куда-нибудь отлучиться, ее место у постели мальчишки занимал я. Он требовал, чтобы я рассказывал ему про снежные горы, про Москву и особенно про войну. Когда в рассказе дело доходило до танков, лицо его становилось и гордым и печальным: — Мой отец был танкист. Понимаешь?.. Однажды он спросил у меня: — У тебя дети есть? Как я?.. Я сказал, что жена и дочка, такая, как он, погибли в Ленинграде во время войны. Виссарион замолчал и долго о чем-то думал. Потом он приподнялся на локте и заглянул в мою комнату, где в открытую дверь был виден на стене портрет Виссариона-старшего. — Зачем война? — спросил он наконец, глядя мне в глаза. Что я мог ему ответить? Действительно — зачем?..* * *
Я уезжал. Машина, которая должна меня подвезти к вокзалу, приедет к девяти часам вечера, а в восемь я уже сходил выкупаться на прощанье, упаковал свой рюкзак и вынес его в сад. Мать Виссариона приготовила для меня плетеную корзиночку с инжиром и грушами. Я знал: от подарка отказаться нельзя. Это тяжелая обида для хозяина. В саду было темно. Свет уличного фонаря пробивался сквозь густые деревья и узорами разрисовывал землю. Внизу, за садами, шумело море. В кустах звенели цикады. Поразительно, что их звон слышишь только в день приезда и когда уезжаешь. Неслышными шагами подошел Виссарион-младший и молча сел рядом. — Посоветоваться хочу, — наконец сказал он. — Зимой, конечно, буду в школу ходить. А летом, понимаешь, коровы, лошади в горы пойдут, траву кушать. Мне в колхозе предлагают работу: тоже в горы пойти. Заместителем чабана. Ты как думаешь? — Что ж, если мать отпустит, надо соглашаться, — сказал я. — Правильно, соглашусь… — Виссарион замолчал и тихонько прижался к моему боку. — Ты письмо напиши, — вдруг добавил он строго. — Как живешь… — а потом ласково и лукаво спросил: — Скучать без меня будешь, нет?..Священное озеро
Вот уже два дня, как мы жили на Священном озере, потому что мой спутник, Николай Петрович Гром, не желал уходить отсюда. В первый день нашего путешествия я каялся, что позволил себя уговорить и взял его с собой. Он отправился в горы в белых полотняных брюках и в сандалиях, обуреваемый желанием запечатлеть на своих этюдах альпийские луга, горные потоки и вечные снега. Гром был совершенно беспомощным. Его сандалии скользили, как хорошо смазанные лыжи, и на подъемах и при спусках. Он падал с грохотом: в его деревянном этюднике тюбики с краской и кисти не были закреплены. Поднимаясь, художник прежде всего ощупывал этот этюдник, потом себя. Смущенно улыбаясь, он торопливо пускался догонять меня и обычно снова падал. Гром украдкой пил из каждого ручья, хотя я объяснил ему, что этого делать не следует. В середине дня я уже подумывал, не время ли нам возвратиться, пока не поздно. Но Николай Петрович подкупал меня мужественным упорством, с которым переносил свои мучения. Окончательно вопрос разрешился на первом ночлеге. Гром дотащился до места привала совершенно разбитый. Он сбросил с себя рюкзак и злополучный этюдник и сказал: «Ухх!..» Но не растянулся на земле, как это сделали бы многие на его месте, а, пошатываясь, осторожно подошел к бушующей реке и умылся ледяной водой. Потом с трудом разогнул спину, вернулся ко мне и хрипло проговорил: — А хорошо, черт побери! Что я должен делать? Варить кашу? Собирать дрова?.. Я знал, что у него болят все мышцы, что каждое движение дается ему усилием воли. Но он не жаловался и собирался еще работать. Было ясно: у него нет опыта и не хватает умения, но не характера. Я освободил его от обязанностей по устройству ночлега и приготовления ужина. Он настолько устал, что засыпал в промежутках между двумя ложками каши. У него не было спального мешка, я отдал ему свой и, пока он укладывался, достал запасные резиновые тапки и шерстяные носки. Завтра он их наденет вместо своих дурацких сандалий. Художник заснул мгновенно. Я по опыту знал, что он видит во сне крутую каменистую тропу, быстро несущуюся воду горной реки. Я устроился у костра и долго не спал. Черные лапы пихт протянулись над головой, и сквозь них просвечивали далекие звезды. Серые стволы буков, освещенные красноватым светом костра, будто придвинулись к нашему лагерю из темноты. По-ночному мягко шумела невидимая река, потрескивали сучья в костре, но было очень тихо. Воздух стал холоднее. Наступала ночь… Мы спали крепко, вставали на рассвете. Под пихтами еще пряталась ночная темнота, долины и ущелья дремали в предутренней серой мгле, но уже голубело небо, на вершины падали первые лучи солнца и там все загоралось яркими красками: бело-розовые пятна снегов, коричневые скалы, зеленые луга, а ниже — красные стволы сосен и белые нити падающих потоков. Николай не забывал и походных обязанностей. Иногда он вставал раньше меня, а однажды даже сварил какао — на крепком нарзане, потому что принял источник за обыкновенный родник. Какао имело своеобразный вкус, но для питья не годилось. Впрочем, это была одна из его последних оплошностей. Он изменился, загорел и чувствовал себя в пути гораздо увереннее. До выхода в горы мы были просто знакомыми, а теперь, поспав бок о бок, стали друзьями. Он не без ехидства называл меня горным козлом; а я его — жертвой искусства. Что касается его брюк, то они перестали раздражать меня своим белым цветом, так как сплошь покрылись грязно-серыми пятнами.* * *
Озеро почему-то не значилось на моей довольно подробной карте. Мы и не подозревали о его существовании, пока взбирались к белым скалам горы Аутки по уходящей из-под ног мелкой каменной осыпи. Я рассчитывал повидать здесь туров. Они любят глухие места. Тяжело дыша, мы поднялись на очередной уступ, и прямо перед нами встала отвесная стена вершины, на которой чудом держались висячие снежники. Под стеной в правильном цирке лежало круглое озеро. С боков его стискивали покрытые кое-где темно-зеленым мхом скалы. Они круто, как бастионы неприступной крепости, падали в густо-синюю воду и смутно белели, исчезая в глубине. Здесь было необычайно тихо и пустынно. Даже ветер не мог пробраться в это защищенное со всех сторон скалами место и зарябить холодную, неподвижную гладь озера. Только если облачко набегало на солнце, вода в нем темнела и становилась сумрачной. — Сердится, — тихо и очень серьезно сказал Николай, как будто перед ним было живое существо. — Сердится, — откликнулось в скалах эхо. — Видишь? — шепотом спросил Николай. «Видишь?..» — еле слышно прошелестело над водой. Художник покачал головой и, устроившись на камне, осторожно прикрепил чистый картон к этюднику. — Это священное озеро, — убежденно сказал он. Я не знаю, считалось ли это озеро когда-нибудь священным, но тишина, царившая здесь, подействовала на нас. Мы говорили вполголоса, двигались медленно и осторожно, прислушиваясь, как с тающих снежников падали на камни и скатывались в озеро прозрачные капли. Ночью долго не могли заснуть. Небо так отчетливо отражалось в озере, что временами казалось, будто настоящие звезды мерцают где-то у нас под ногами. Иногда с вершинных скал скатывался камешек. Рокочущий звук, многократно повторенный эхом, замирал не скоро. Чудилось, что кто-то ходит вокруг нас в темноте неслышными шагами и вздыхает. — Местечко… — задумчиво сказал Николай. На другой день я лазал по скалам, окружающим озеро. Мне хотелось найти выход на гребень Аутки, с тем чтобы перевалить в соседнюю долину, невозвращаясь на тропу, ведущую к перевалу. Но пути не было. Аутка стояла стеной. Внизу, у озера, я видел неподвижную фигурку работающего Николая. Еще ниже — крутые зеленовато-серые склоны, темный лес, прорезанный каменными щелями, по которым срывались в долину ручьи-водопады, а дальше, на севере и востоке, теснились, вырастая одна над другой, вершины Главного хребта. Солнце светило ярко, но синяя дымка покрывала дальние горы. К непогоде… Надо спускаться. Перепрыгивая с камня на камень, я приблизился к Николаю. Он встал из-за этюдника навстречу, но широко открытыми глазами смотрел мимо меня, вверх, на гребень Аутки. — Тур!.. — драматическим шепотом сказал он. — Смотри! Я оглянулся. По острому гребню, ведущему от перевала к вершине, осторожно, но уверенно пробиралось рогатое существо. — Какой же это тур? — улыбнулся я. — Это домашнее животное. Понимаешь? Козел. Вероятно, на той стороне стадо пасется. А этот, подлец, наелся, и его вверх потянуло. Отчаянный, должно быть, козел. Видишь, у него один рог сломан? — Но что ему там нужно? Он ведь сорвется! — Может быть. Козел между тем подобрался к жандарму на гребне, приподнял передние копытца и примерился. Его силуэт четко вырисовывался на фоне синего неба, по которому с юга надвигалась на Аутку пепельно-серая по краям грозовая туча. — Давай-ка собираться, — сказал я. — Гроза идет. Но в это время на гребне вслед за козлом показалась фигурка маленького человека, и это заставило нас забыть о своих наполовину собранных рюкзаках. Я прекрасно понимал, что значит идти одному без страховки по такому острому гребню, который, вероятно, и на другую сторону падает отвесно. — Назад! — закричал я. — Убирайся назад! Но на гребне, вероятно, был сильный ветер, относил звуки, и человечек ничего не слышал, потому что сделал еще несколько шагов вперед. Он протянул руку таким жестом, которым подзывают собаку: «На, на…» Козел повернул голову и застыл, видимо размышляя. Потом отрицательно мотнул бородой и ловко, в несколько скачков взобрался на жандарм. Фигурка на гребне с минуту была неподвижной. Но вот она погрозила козлу кулачком и, балансируя руками, двинулась вслед за ним. Мы не кричали больше: если человечек нас услышит, это отвлечет его внимание, он оглянется, потеряет равновесие и упадет. Козел нагло посматривал вниз с вершины жандарма. Николай сжал кулаки. — Скотина! — сказал он, глядя на него с ненавистью. — Слушай, — Гром повернулся ко мне, — мы должны помочь: ведь он убьется, мальчишка! Что делать? А?.. Что делать? А что можно было сделать? Не было никакой надежды забраться на гребень в лоб. Я молчал. — Эх ты, — презрительно и гневно сказал Николай, — альпинист!.. Я пойду, пусти!.. Я схватил его за руку. — С ума сошел! Тут никто не влезет. И потом… все равно будет поздно! Мальчик уже подошел к жандарму. Он ощупал скалу вытянутыми вверх руками, отыскивая зацепки, и полез. Это было поразительно, но он забрался. Туча захватила вершину Аутки, и над жандармом, опускаясь все ниже, клубились ее зловещие черно-серые лохмотья. Стало очень тревожно. Озеро почернело. На наших глазах мальчик поймал своего козла за рог и колотил его рукой по бокам. Козел, приседая на задние ноги, соскользнул с жандарма обратно на гребень и остановился там, дожидаясь хозяина. Мы видели, как мальчик осторожно, распластавшись, начал спускаться (а это в лазании по скалам самое трудное и опасное). Мы видели, что на середине пути нога его не нашла опоры и все тело поползло вниз. Мы все это видели и ничем не могли помочь… А туча, колыхаясь, опустилась еще ниже и, как занавес, скрыла и жандарм, и мальчика, и козла, и весь гребень. Первые тяжелые капли упали нам на лица, и с низкого неба струями ринулась вода. Она разбивалась о камни, пузырилась в озере, текла по щекам Николая. Он стоял неподвижно, вглядываясь в то место, где недавно было синее небо, белые скалы гребня и этот мальчик. — Погиб?.. — сухо и как-то деревянно спросил он. — Пойдем, — сказал я, сдувая с губ воду. — Только скорее. Может быть, он еще жив, если ему удалось задержаться на том склоне. Сюда он не падал. Мы вскинули мокрые рюкзаки. Я взял у Николая этюдник. Чтобы сократить путь, мы, не спускаясь вниз, траверсировали склоны, перелезали через скользкие скалы, перепрыгивали вздувшиеся ревущие ручьи. Но удивительное дело: Николай ни разу не упал, не оступился. Мы шли наугад, потому что сплошная серая завеса дождя не позволяла видеть ничего дальше нескольких метров. Ветвистые молнии опоясывали низкое небо, мгновенно от страшных взрывов грома содрогались горы. Я не подозревал, что у такого непривычного к невзгодам человека, как Николай, окажется столько энергии. Когда я ненадолго останавливался, выбирая путь, он торопил меня. Наконец мы вышли на тропу и, хотя по ней неслись нам навстречу мутные потоки, идти стало легче. У перевала дождь ослабел. Гроза уходила на север. Я достал веревку, и мы, связавшись, вступили на гребень Аутки. По мокрым скалам идти надо было очень осторожно. Дождь совсем прекратился, но мы вошли в облако, окутывающее Аутку. Шаг за шагом, с трудом различая лишь место, куда ставить ногу, шли мы по острому гребню. На последнем, особенно опасном участке я остановил Николая. Он мог упасть сам и сорвать с гребня меня. Я еще раньше объяснял ему принципы страховки, а теперь повторил их, перекинул веревку через выступ скалы и сказал: — Иду. — Иди, — ответил мне Николай. Жандарм возник из тумана так неожиданно, что я чуть не уткнулся в него. На гребне и на жандарме никого не было. Я попробовал немного спуститься на южный склон. Нога моя нашла опору. В полутора метрах от гребня была узкая полочка, а дальше скала обрывалась вниз так же круто, как и к озеру. Полка тоже была пуста. Как я ни вглядывался, я не мог различить следы крови. Впрочем, их мог смыть дождь. В южную долину Николай спускался тяжело. Нервное напряжение покинуло его, он спотыкался. Мы насквозь промокли, а становилось холодно. Надо было скорее добраться до леса, развести костер и обогреться. Тучи понемногу разошлись. Выглянуло вечернее солнце. Оно садилось за горы и уже не грело. Обрывки облаков ползли над лесом, цепляясь за верхушки пихт. Ушло облако и с Аутки. Она теперь была красной от заходящего солнца. Под перевалом, у слияния рек, мы увидели серую драночную крышу и дымок над ней. Это был балаган — так называют здесь временные летние постройки, где живут пастухи. — Дойдешь? — спросил я у Николая. — Там и обсушимся. — Дойду, — безразлично сказал он.В балагане
Поднималась ночь. В горах она именно поднимается из ущелий к вершинам, которые первыми встречают солнце и последними с ним прощаются. Сквозь щели в стенах балагана просвечивали лучи красноватого пламени, отчего он казался сказочным и воздушным: вот-вот улетит куда-то. Мокрая одежда прилипала к телу. Холодный ночной ветерок потянул откуда-то сверху и зашевелил темные лапы пихт. Николай шел из последних сил. Я видел, что он уже и не пытается унять дрожь, которая порывами сотрясала его тело. «Но сейчас все кончится, — думали мы, — постучимся у дверей, попросим приюта». Я забыл, что в горах пришельца всегда встречают собаки. И на этот раз нам навстречу поднялись две черные овчарки величиною с молодого льва, только повыше ростом. Они тихо и поэтому особенно грозно зарычали. Я сообразил, чем это может кончиться, и уже собирался вместе с художником становиться на четвереньки, — таков единственный верный способ озадачить псов и избавиться от их нападения, — но дверь балагана отворилась, и на пороге появился однорукий человек. Он, по-видимому, сразу все понял, — и то, что мы устали, и то, что промокли во время недавней грозы. — Ачх! — негромко крикнул он собакам, и те виновато, но недовольно отвернули свои страшные морды в сторону. — Здравствуйте, товарищ! — сказал нам однорукий. — Заходи, гостем будешь. Устал, конечно, горы ходить. В балагане жарко горел костер. Три девушки, обнявшись, сидели на лежанке. В глубине на такой же лежанке кто-то спал, укрытый с головой черной буркой. На стене висело ружье, слева в углу поблескивали молочные бидоны. Старик абхазец с горбатым носом, повязанный башлыком, дремал у огня, сидя на пихтовом чурбане. Чабаны знают, что усталым людям не до разговоров. Никто ни о чем нас не расспрашивал. Человек лет пятидесяти, давно небритый, понимающе посмотрел на нас, молча подгреб под железный таганок угли, достал сковородку и вытащил из-под ближайшей лежанки таз со свежей форелью. Позже мы узнали, что небритого зовут дядя Ваня. Пока форель жарилась, одна из девушек налила нам в миски кислого молока — мацони, отрезала полкруга овечьего сыра. — Кушайте, пожалуйста, — приветливо улыбнулась она. Мы поели и легли. Я слышал, как шлепнулась на рюкзак мокрая одежда Николая. Он повозился под буркой, которую ему дали вместо одеяла, повздыхал и затих. Меня устроили на широкой постели дяди Вани. Она стояла в углу у стены, и лежа я видел весь балаган. Девушки снова собрались вместе и начали о чем-то перешептываться. Однорукий ловко подкатил к огню бидон с молоком. Огромная тень заметалась по стенам и нарам. «Сыр будет делать», — подумал я. От костра веяло теплом. Приятная истома разливалась по согревшемуся телу. Пряно пахли пучки чабреца и каких-то других трав, развешанных по стене надо мной. Оказывается, дядя Ваня был ветеринаром и собирал эти травы. Я закрывал глаза, и их запахи вызывали в воображении солнечный день, пышущие жаром склоны альпийских лугов. Несколько минут я спал, потом просыпался и видел того же дремлющего старика, тот же дым, уносящийся к отверстиям в крыше, однорукого, склонившегося над бидоном. Он спрашивал у дяди Вани: — Скажи, пожалуйста, почему ты решил бороду растить? — Внуки пошли, — отвечал дядя Ваня улыбаясь. — Подросли и говорят: «У всех деды как деды, а у тебя и бороды нет. Какой ты дед?» Вот, Жаца. Теперь отпускаю. Понял? — Эге, — рассмеялся однорукий, — в твоей семье критика оч-чень сильна развита… — Да, уж развита, это точно. Веки у меня слипались. Последние слова я слышал сквозь сон. Перед глазами вставала стена Аутки с колыхающейся над ней грозовой тучей… «Жаца, Жаца, — вспоминал я. — Почему это имя мне знакомо?» Среди ночи меня разбудил крик. «Аа-лял-ля-ля-ляаа!» — отчаянно кричал кто-то возле балагана. Голос был звонкий, но в нем слышалась угроза. Я приподнялся на нарах и прислушался. Все стихло. Никто не пошевелился в балагане. Костер давно потух, лишь сквозь золу и пепел кое-где просвечивали красные огоньки углей. В щели пробивался яркий лунный свет и ложился полосами на нары вдоль стены. «Луна стоит высоко, — значит, поздно», — подумал я. То, что никто, кроме меня, не проснулся, было удивительным. А может быть, крика и не было? Может быть, он мне почудился? Я прилег на локоть, чтобы снова забраться под теплую бурку, но вдруг крик повторился, а следом за ним бухнул выстрел. Уже ни о чем не раздумывая, я сунул босые ноги в свои мокрые ботинки, схватил ледоруб и выбежал из балагана. Тихо… Трава блестит от росы. Темные пихты спокойно стоят, залитые лунным светом. Вниз уходит черное ущелье, исчезая вдали в синем ночном тумане… Грустно и шумно вздохнула одна из коров и удивленно повернула ко мне голову. Мол, что случилось, зачем так быстро куда-то бежать? Я завернул за угол балагана и столкнулся нос к носу с мальчиком. Он держал в руках ружье. — Это ты?.. — сурово начал я, но остановился. Уж очень знакомым было это лукавое лицо и точно такая же лохматая голова, какой я ее видел два года назад. — Виссарион?! — Э, — улыбнулся Виссарион, — здравствуй. Два года одно письмо писал? Нехарашо. Это была правда. Я смутился. — Но ты, Виссарион, тоже написал мне только одно письмо. — А ты сколько раз быстрей меня пишешь? — спросил он. — Ну ладно, — сознался я, — виноват. А зачем ты кричал и стрелял? — Медведи ходят, — таинственно сказал Виссарион. — Кругом ходят, теленка кушать хотят. Мы каждый ночь кричим, медведя пугаем. — Виссарион погладил ружье и вздохнул. — Стреляем редко. Патронов мало. Но сегодня медведь близко ходил. Сучья трещали. Совсем рядом. Ты слышал? Я ничего не слышал, но молча согласился. Если очень хочешь выстрелить, — медведь всегда кажется гораздо ближе, чем на самом деле. Мы вместе вернулись в балаган. Виссарион вежливо пропустил меня вперед, как старшего и гостя. Забираясь на свое ложе рядом с дядей Ваней, я сообразил, что Виссарион-то и мог быть тем самым мальчишкой на Аутке. — Виссарион, — спросил я в темноте, — ты спишь? Молчание было мне ответом. Мы с Николаем проснулись рано, но в балагане уже никого не было. Художник заглядывал по очереди под все лежанки. — Понимаешь, — смущенно сказал он, — штанов нет. — Как это нет? — изумился я. — Так, нету — и всё. — Не может быть. Кому нужны твои штаны? Ищи как следует. Мы обшарили весь балаган, но штанов действительно не было. Это смутило и меня. — Ладно, — сказал я, — пойдем умоемся. Потом спросим. Старик-абхазец сидел на солнцепеке у входа и топором выдалбливал из букового чурбана кадушку для масла. Вдалеке Нюся, Муся и Нина в белых халатах доили коров. — Здравствуй, отец, — сказал я. — Вот штаны у товарища пропали. Старик поднял голову, и в его выцветших глазах мне почудилась усмешка. — Нехорошо. Человеку без штанов нельзя. — А вы их не видели? — с надеждой спросил Николай. — Нет. Николай вздохнул и безнадежно махнул рукой… Нападение было совершено, когда мы, согнувшись, умывались рядом в сверкающем белой пеной холодном ручье. Удар пришелся Николаю с тыла, и он, не удержавшись, распластался в воде, окатив меня брызгами. Он яростно вскочил, выхватил из ручья увесистый булыжник. Но враг тоже не собирался отступать. Согнув рогатую голову, он выжидающе застыл на берегу, готовый к следующей атаке. Я видел, как на лице Николая мгновенно сменились выражения гнева, удивления и радости. Да, радости. Один рог у козла был сломан. Значит, это тот самый козел! Его мы вчера видели на гребне Аутки. А Виссарион, бегущий к нам на помощь с палкой в руке, — тот самый мальчик, которого мы считали погибшим. — Ачх, ачх, ачх!.. Будешь? Будешь?.. Эта козел называется Авушта, по-русски — черт, дьявол, — объяснил нам Виссарион, когда Авуште удалось, наконец, вырваться и галопом взлететь на огромный камень, где он, по-видимому, почувствовал себя вне опасности. — Паршивое животное, — сказал Гром. — Он поступал неправильно, — уклончиво согласился Виссарион, взглянув на художника. — Гостя обидел. А вообще, конечно, это хороший козел. Все козы выполняют его распоряжения. Авушта — мой заместитель. Понимаешь? Виссарион взглядом просил моего сочувствия. Как-никак я был его старым знакомым. Теперь, когда все разъяснилось, Николай повеселел, несмотря на то, что у него побаливало ушибленное место. — Ты погляди, какое сочетание красок, — говорил он, пока мы приближались к балагану. — Синее небо и белые снега. Темные пихты и ручей. Ты видишь? А воздух?! А коровы на зелени?!. И сам балаган с этим столетним мудрым стариком. А мальчик?! Ты чувствуешь, как это здорово?.. — Подожди, — сказал я, останавливаясь. — Вот твои штаны, висят на дереве. Только твои ли? Уж больно чистые. Штаны были еще сырые, но Гром надел их, виновато улыбаясь. Ему было стыдно, что он заподозрил, будто их могли присвоить. — Ведь я даже не просил никого. Кто их выстирал?.. Виссарион отказался с нами завтракать — он уже поел с чабанами, — но не отказался от слипшихся конфет, которые нашлись в кармане моего рюкзака. Набив ими рот, Виссарион вертел ручку сепаратора. В один бидон лилась тонкая струйка желтых сливок, в другой — синеватая струя снятого молока. Видимо, какая-то мысль мучила Виссариона. — Ты много ходишь, — наконец проговорил он. — Все видишь. Книжки много читал. Скажи: скоро нам балаган электричество сделают? — Что, ручку вертеть надоело? — спросил Гром. — Конечно, — невозмутимо ответил Виссарион. — Будущий год коров будет много, еще год — еще больше. Три сепаратора надо. Кто будет ручки крутить? Кто будет коров пасти? Электричество есть — включил, повернул — вжж… — готово. Получай сливки, делай масло. Ручки крутить машина может, — заключил он. — Это трудно, — ответил я, представляя себе, как поведут сюда по кручам линию передачи. И тут же подумал, что не первый десяток лет хожу по горам, но в первый раз слышу, чтобы на верхних пастбищах, где, казалось, жизнь и работа чабанов идет так, как она шла сотни лет тому назад, вдруг появилась мысль об электричестве. — Знаешь, Виссарион, раз это нужно, — будет и у вас электричество. Мы должны были идти к Алмазному водопаду, о котором Гром мечтал еще в начале нашего путешествия. После Священного озера у художника оставался один-единственный чистый картон, на котором он и собирался изобразить водопад. Я остался в балагане и принялся перезаряжать фотоаппарат. Гром выбрался наружу — приводить в порядок промокшее содержимое своего этюдника. Виссарион тоже исчез. Было спокойно, как бывает в доме, из которого все ушли на работу. Слышалось легкое тюканье топора. Это старик по-прежнему долбил свою кадушку. В приоткрытую дверь вливалось солнце и задувал ветерок, поднимая пепел в погасшем костре. Я провозился долго, и, когда вышел, ни художника, ни Виссариона вблизи не было. Я присел возле старика и молча наблюдал за его работой. Глядя на его сухие коричневые руки со вздувшимися венами и крючковатыми пальцами, я понял: этот человек, работавший всю свою долгую жизнь, не может не работать и сейчас. Виссарион мне сказал, что дедушка Анхо был знаменитым чабаном. Он лучше всех знает, где надо пасти коров, где — овец или лошадей, и каждый раз весной уходит со всеми в горы, хотя дети, внуки и правнуки и просят его остаться дома. Ведь путь в горы нелегкий. — Скажи, отец, — спросил я, — мальчик один пасет стадо, — это хорошо? Старик поднял голову и посмотрел на противоположный склон ручья, где я разглядел белые штаны художника и черную фигуру Виссариона. — Храбрый мальчик, горы знает — хорошо! — Но ведь он мог погибнуть! И я рассказал дедушке Анхо то, что мы видели вчера. — Есть в горах один закон, — медленно, с раздумьем, будто вспоминая что-то, сказал старик. — Трусом быть — лучше погибнуть. Мы говорили со стариком еще довольно долго. Солнце начало припекать — близился полдень. Я встал и пошел к художнику. Он рисовал. Удерживая около себя Авушту, Виссарион позировал. Эту задачу он, очевидно, понимал по-своему. Грудь его была выпячена, глаза вытаращены, и смотрел он ими не мигая, прямо перед собой. Зато Авушта не придавал значения важности происходящего и все время порывался освободиться. Стараясь не изменять выражения своего окаменевшего лица, Виссарион ругался: — Эа!.. Глупая животная! Стой смирно, как солдат на карауле. Картину испортишь. Я заглянул в этюдник. Среди еще неопределенных белых, серых и зеленых пятен выделялось живое и лукавое лицо Виссариона. Я поразился: тот Виссарион, который стоял сейчас перед нами, гораздо меньше походил на себя, чем созданный художником. Когда сеанс кончился, Виссарион отпустил Авушту, подошел к нам и долго стоял перед этюдником. Гром ждал приговора своему произведению. Наконец Виссарион сокрушенно сказал: — Сколько тысяч раз надо кистью мазать, чтобы такая картина получилась — ай-яй-яй! Обиженный художник озадаченно посмотрел на меня и буркнул: — Дело не в количестве. — Конечно, — вежливо согласился Виссарион. — Ты сколько лет учился? — Много, — ответил Гром. — Всю жизнь. — Это я понимаю. Оч-чень сложная работа. Правильно? Машина не сделает? Художник кивнул головой. Я сказал Николаю: — Это ведь твой последний картон. А как же водопад? — «Водопад, водопад»! — рассердился он. — Человек все-таки лучше. После обеда мы попрощались со всеми обитателями балагана и Авуштой и вышли в путь. Виссарион нас провожал. Через плечо у него висел на ремне мой подарок — подзорная труба. Время от времени он останавливался, чтобы посмотреть в нее, но уже не перевертывал, как раньше. — Смотри, — кричал он мне. — Жаца молоко балаган несет! А тут посмотри: Аутка — рукой достать можно! Но вот у кладки через речку наступила минута прощанья, и Виссарион присмирел. — Опять писать не будешь? — печально спросил он. — Ну что ты, Виссарион, — смутился я, — конечно, буду. — Смотри… Он отвернулся, должно быть для того, чтобы скрыть слезу, но вдруг резко и повелительно сказал: — Сахар-р давай! Брови у Николая поднялись. Я тоже опешил от такого категорического распоряжения, но, подчиняясь, быстро достал из кармана рюкзака несколько кусков сахара. Виссарион схватил их и что есть духу побежал по склону. Наперерез ему спускался к балагану табун лошадей. Вольность и сдерживаемая сила чувствовались в их легкой побежке, гордо изогнутых шеях, распущенных по ветру гривах и хвостах. Они не шли, а будто летели, едва касаясь земли копытами. — Ах, черт побери! — восхищенно сказал Николай. — Ну и кони! Когда Виссарион подбежал к табуну, его сразу же обступили длинноногие жеребята. — Пойдем, — проговорил Николай. — Ему теперь не до нас. Минут пятнадцать мы спускались буковым лесом, но потом тропа вышла на открытую скалистую площадку, нависающую над рекой. С нее мы снова увидели далеко вверху серую крышу и стены балагана. Маленькая фигурка стояла на камне и смотрела в нашу сторону, приложив к глазам подзорную трубу.

Последние комментарии
1 день 14 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 29 минут назад