Луноцвет
СМОТРЮ ВОЙНУ
* * *
Смотрю войну.
Опять смотрю войну.
И не одну,
а много, много серий.
И виденному верю и не верю.
И за неверие себя кляну.
Неужто это мы? Неужто так?
С такою простотой? С безмолвностью такою?
С бессмысленным безумием атак
И мертвенною детскостью покоя?..
НОЧНЫЕ ПТИЦЫ Повесть
Глава первая
1
По ночам летели над линией фронта птицы, давно уже ощутившие неубывающий мертвенный холод предзимья. Глядели птицы с высоты на изрытую воронками землю, едва освещенную трепещущими вспышками ракет, на блескучую канитель автоматной и пулеметной перестрелки, на летящие сериями снаряды эрэс — птицы при виде их даже пугливо подлетывали повыше, потому что на земле, тоже сериями, вдруг вставали огнистые шапки разрывов. Рассматривали птицы сверху посеченные артиллерийскими обстрелами леса, изрытые по опушкам окопами, глядели на виселицы, на пустынные пепелища, оставшиеся от деревень, на холодные, тусклые петли рек в изодранных бомбами берегах. Все это они оставляли без грусти. Впереди их ожидало много света и много тепла, а главное, много корма на полях и болотах Европы и солнечной, знойной Африки, где, наверное, и сейчас царит живая зеленая тишина в отличие от этой — притаившейся, смертно-холодной. И птицы летели — то стаей, то клином, а то в одиночку. Внизу, по дорогам, навстречу движению птиц шли войска. Пехота с тяжелыми противотанковыми ружьями, с «дегтярями», с плитами батальонных минометов на спинах — взвод за взводом и рота за ротой; нескончаемые обозы — скрипучие фурманки перегружены до предела, так что кони едва тянут; сотни разного рода машин — облупленные полуторки и трехтонки, могучие «студебеккеры», или, как их называют водители, — «студы», короткие «доджи», «виллисы», повидавшие виды бензовозы и ремлетучки, машины почтовые, штабные, госпитальные, типографские; тут же рядом, под сетками, пушки на тракторной тяге, тяжелые минометы, зенитки. Особенно грозны выдавливающие в дернине маслянистые глыбы земли камуфлированные, со слоновьими хоботами пушек САУ и тяжелые танки ИС, КВ, здесь же мчатся гремучие тридцатьчетверки — их броня тускло светится под дождем, а от грохочущих, с лязгом наматывающихся на катки гусениц во все стороны летят жидкие комья грязи. И всюду, где только можно, подобно зеленым ракушкам, к ледяному железу войны присасываются, пристывают телами солдаты: связисты, саперы, автоматчики, артиллеристы дремотно покачиваются в такт движению на орудийных передках, на зарядных ящиках, на танковой броне, на крыльях вездеходов, на крышах кабин, мокнут в длинных колоннах в ночной темноте, в шевелении мелких капель дождя, опадающих с листьев деревьев. И в скрипе колес, в тупом, мерном чавканье сотен ног, в скрежещущем вое перегретых моторов солдатам не было слышно ни шуршания птичьих крыл в вышине, ни гусиного гоготанья, ни короткого гортанного переклика журавлей, отлетающих в чужие края. Однако в сердцах бойцов все же зрела какая-то дума, рожденная расставанием с летом, с теплом, с вереницами птиц, покидающими этот лес, эти пашни, луга и кочкарники. Ощущение немоты и глухой безысходности ночи, словно где-то вверху замыкалось в огромное ледяное ничто, не давало свободней вздохнуть, распрямиться, расправить затекшие грудь и плечи. Дивизии двигались днем и ночью. Торопились, спешили…2
Когда Федор Четвериков ввалился в штабную землянку, там был только один писарь. Писарь налил разведчику из термоса полную кружку водки — на таком ветру и после всего пережитого подобная кружка водки не значила ничего, — и Четвериков единым духом ее осушил. Закусить было нечем. Он пошарил глазами по грубо сколоченному столу, по бумагам, увидел обломок сухаря, молча взял его, не спросясь, молча схрупал — и пошел к себе в роту, в землянку, с единственным желанием уснуть. Но как только Четвериков улегся на нарах, как только дотронулся головой до подушки из листьев, так сразу же понял, что нет, не уснет. Потому что во всем его теле, как в какой-нибудь непогожий день в телеграфном столбе, сейчас слышалось слитно-густое, напряженное злое гудение, даже ворчание, — словно в каждой артерии поселилось по толстому, сытому, огненнокрылому шмелю, и теперь они бились упругими воющими толчками в висках, в пальцах рук, в самом сердце — да, в сердце, пожалуй, сильнее всего. И в этих толчках, в огненнокрылом порхании этого гуда Четверикову сперва не расслышалось ничего. Он как будто на время оглох. Но тут снова прорезался звук лязгнувших о проволоку ножниц, он услышал шорох потревоженной локтями нападавшей свежей листвы — от нее шел слегка бражный дух, — опять, как тогда, увидел извилистую тропу от бункера к бункеру, на которой лежал, и себя самого, с автоматом в руках, возле комля березы. По плану захвата «языка». Федор должен был охранять ушедших вперед. И он положил автомат поудобнее и вгляделся во тьму, даже несколько успокоился. И вдруг позади него кто-то громко зевнул. От звука зевка волосы Четверикова, слежавшиеся под пилоткой, неожиданно утолщились и встали, как проволока, торчком. А сам он чуть-чуть не всхлипнул от ужаса. Однако собрался, дыхание задержал и, пересилив себя, оглянулся. Прямо на Четверикова шел немец в очках, в пилотке, с небрежно прижатым к бедру автоматом. Тыльной стороной левой руки немец вытер толстые губы — наверное, только поужинал, — потом полез в карман брюк и вытащил сигарету. Четвериков все заметил: и то, что он в одной пилотке, без каски, и что носит очки, отметил и эту особенность, что все делает левой рукой: «Налетел-таки на левшу». И, заранее ощутив во рту вкус железа, пружинисто вымахнул из-за комля березы и саперной лопаткой ударил врага прямо в горло, а когда тот со вздохом упал, ребром той же лопатки наотмашь секанул еще для страховки по черепу. Ночь вокруг лежала беззвездная, сырая, где-то тихо сочились и падали на траву скопившиеся на листьях капли дождя. Четвериков с вниманием прислушался к этим звукам и снова лег на холодную влажную землю. Минутою позже он опять настороженно глядел в ту сторону, куда ушли разведчики, и даже в подробностях представил себе, как жутко сейчас его товарищам: как они осторожно подползают к землянке, как слегка приоткрыли дверь в омерзительно пахнущее чужим потом и чужим табаком надышанное тепло и как шарят по живым, еще сонным, но уже по-мертвецки ненужным телам, с гадливостью натыкаясь на мягкие животы, на расслабленные в тепле волосатые руки и ноги, как выискивают среди груды вещей штабные донесения, карты и документы и увязывают в плащ-палатку полуобморочного «языка», затыкают ему кляпом рот. Четвериков, лежа на нарах, даже и теперь невольно содрогнулся, хотя водка уже сделала свое дело: она отодвинула от души этот ужас и странно смягчила и долгое ожидание, и удар, и тот главный, единственный звук — звук железа, коловшего череп, словно спелый орех, который запомнился больше всех остальных. Теперь уже стали не такими нестерпимыми и вздох немца, не грудью, а горлом, взахлеб, с коротеньким бульканьем, и сползание обмякшего грузного его тела по ноге Четверикова, и движение вялой, угасшей рукой к тому месту, где, наверное, разрывалось и прыгало скользкой, кровавой лягушкой очумевшее сердце. Все это сейчас, после водки, начинало казаться Четверикову делом будничным, очень простым, может, даже обыкновеннейшим делом солдата на фронте. Федор не торопясь закурил и долго лежал, посасывая чуть теплившуюся цигарку: она отвлекала от воспоминаний. Он хотел уже было заснуть и уже повернулся на правый бок, умащиваясь таким образом, чтобы не слышать биение собственного сердца, отдающееся в ухе усиленным, как в микрофоне, увеличенным звуком, но тут кто-то пробежал мимо землянки, стуча сапогами, вот уже удалился и вдруг повернул назад, громко крикнул через занавешенную мешковиной дверь: — Рота-а-а! В ружье! Тревога! Бойцы, только что спавшие рядом с Четвериковым, нашаривали в полутьме автоматы, соскакивали с нар, булгача ногами натекшую за ночь ледяную подпочвенную воду, отряхивались, оправляясь, затягивали ремни. Ощущая разбитость и немоту во всем теле, потянул за собой лежавшие рядом на нарах вещмешок и оружие и Федор Четвериков. Ему почему-то и в голову не пришло, что истинным виновником этой тревоги является он, ходивший с разведчиками, он, простой пехотинец, умеющий видеть, и слышать, и запоминать в незнакомом лесу любую тропинку и любую травинку. Потому что без него разведчики, наверное, просто не сумели бы выйти на штабной бункер и не взяли бы живого ходячего «языка» с документами, а потом, заметая и путая собственные следы, не прошли бы зловонным и топким болотом. А без этого штабника с документами, без тех сведений, которые они принесли, наверное, не было бы и приказа. Теперь Четвериков стоял на размокшей осенней дороге, ежась от сырого, холодного воздуха осени, и вместе со всеми ждал команды строиться. Только он один по-охотничьи и расслышал вверху, над лесами, над линией фронта, прощальное гоготанье гусей и подумал: «А что же… Пора! Теперь скоро выпадет и снежок… Всему свое время».3
В батальоне майора Евдокимова бойцы шагают в колонне угрюмо. Полы шинелей у солдат подоткнуты под ремни, отвороты пилоток опущены на уши. Белесые ручейки дождя сбегают со лба, с носа, со щек, затекают за воротник. Влажно все — и сам воздух, и листва на деревьях, и трава. На плитах батальонных минометов, на стволах автоматов и «дегтярей» — лоснящиеся капли дождя. Дорога под ногами у солдат — как широкая, черная борозда, налившаяся водой, — разворочена, вся в колдобинах и воронках. На отвалах разбитые снарядные ящики, расщепленные бревна гатей, груды грязного, измочаленного хвороста, тряпок и всякого фронтового гнилья. Колеса орудий и обозных повозок увязают на этой дороге по ступицы. Все молчат. Очень близко на фланге перекатами, то размеренно, то разбойно-отрывисто, бьет вражеская артиллерия. Однако ни майор Евдокимов, ни его командиры рот, ни солдаты не вслушиваются в сперва отдаленное, но теперь все более и более настойчиво приближающееся рокотание. Потому что привыкли. Единственно, кто растерянно ловит звуки заполошного, самовозгорающегося боя, это новый батальонный военфельдшер, молоденькая Аня Худякова. Невысокая, тонкая, даже, скорее, тощая в своей не подогнанной по фигуре шинели, она изредка с осторожностью оглядывается на солдат, пытаясь понять, почему им не страшно. Это Ане кажется чем-то вроде загадки, на которую нет ответа. Но она улыбается. Ане хочется есть, она очень устала. Сейчас хорошо было бы взгромоздиться на подводу, нагруженную батальонным имуществом, дать отдых ногам. Но никто не обращает на нее внимания, ни один человек не предложил ей помочь, не посочувствовал. И новенькая поглядывает на окружающих исподлобья, начиная догадываться, что в батальоне ее невзлюбили с первой же минуты, и не только за то, что чужая — чужой человек, он всегда чем-то странен, пока не привыкнешь к нему, — а за то, что стеснительна, неуклюжа. Что идет по обочине дороги, то и дело счищая с каблуков налипшую слоями грязь, и от этого у нее словно бы развратная, вихляющая походка. А скорее всего, наверное, за то, что приехала вместо Дуси Парфеновой. Вероятно, у каждого перед глазами все еще маячит оторванная осколком белокурая Дусина голова и все еще дергается, шевелится, извергая фонтанами кровь, обрубленное, измятое взрывом такое красивое, юное Дусино тело… Аня смотрит вперед на низкие тучи, на лес в желтизне, на кочкарники, на воронки от бомб и настолько задумывается, что, словно слепая, натыкается на стоящего на обочине человека в плащ-палатке, с надвинутым на глаза капюшоном. Человек, положив на колено планшет и сгорбившись над ним, рассматривал карту, расчерченную красными и синими карандашами, и, видимо, что-то быстро высчитывал в уме. От Аниного толчка он едва не упал, однако сумел удержаться и даже переступил на шаг в сторону. Оглянувшись на Аню, он сердито заметил: — А-а-а… Вы?! На ходу, что ли, заснули? Это сам командир батальона майор Евдокимов. Он захлопывает планшет, с силой защелкивает кнопки, однако, встретившись взглядом с глазами Ани, почему-то теряется и глядит удивленно. Даже сложил губы в подобие улыбки, сделал шаг к ней, но Аня отшатывается от него с такой нескрываемой ненавистью, даже презрением, что Евдокимов в недоумении остается стоять посредине дороги. — Нет, вы что это?! Почему? — бормочет комбат, не понимая. Однако Аня не удостаивает его ответом. С независимым, гордым видом она огибает его и шагает по дороге тяжело, как солдат, с явно видной натугой переступая большими, тяжелыми сапогами. Почему-то она идет не там, где посуше, а по самой грязи, в раздавленной колее, превратившейся уже в зыбучее нескончаемое болото, которое бежит и бежит двумя параллельными линиями к горизонту, на северо-запад и дальше — на север. Ане так тяжело, что она в душе даже немного завидует Дусе, для которой все кончилось — и холодная морось, и грязь, и страх смерти. И усталые, посиневшие лица солдат. И зависимость от окружающих. И размеренное, в непосильных для женщины тяготах неизбежное приближение к фронту. Аня думает о неискренней, вроде бы доброй улыбке комбата. Вчера вечером, когда она разыскала на ночлеге свой новый батальон, было что-то постыдное в том, как майор Евдокимов, принимая ее документы, оглядел Аню всю, с ног до головы. Да, именно в этом порядке: сперва обшарпанные кирзовые сапоги с побелевшими носками. Потом длинную, неушитую юбку. Потом гимнастерку с оттопыренными карманами: в них Аня хранила трофейное зеркальце, комсомольский билет, расческу, письма с фронта от отца, фотографию умершей матери. И все эти драгоценные для нее предметы, оказывается, неуклюже топорщились: Аня только под взглядом комбата заметила это. А майор Евдокимов, завершив наконец свой оскорбительно долгий осмотр, только хмыкнул. — Мда-а-а, — протянул он задумчиво. И какое-то время сидел, подперев подбородок рукой. — Явление номер восемь… И опять замолчал. Аня даже устала стоять перед ним. Потом он поднялся из-за стола, заваленного бумагами, большой, загорелый до черноты, с рыжеватыми вьющимися бакенбардами на толстых щеках, и прошелся по штабу, звеня орденами. Орденов у майора было много, они шли в два ряда и справа и слева по застиранной до белесости гимнастерке, сливаясь в единое целое, как броня. Чуть посмеиваясь и поглядывая на Аню серовато-зелеными, в длинных темных ресницах глазами, майор Евдокимов вдруг встал перед ней и, почесав указательным пальцем кончик носа, что, наверное, означало большое усилие мысли, долго думал, потом вытянул руку и дотронулся до единственной Аниной медальки, поблескивающей у нее на груди, и спросил: — В документах написано, что вы работали в тыловых частях… А медаль — боевая. За что? Аня вскинула голову. — Разве там не написано? За оборону столовой… Все, кто находился в штабе, покатились от хохота. Аня только теперь заметила, что в избе было много народа: командиры рот и взводов, связисты, автоматчики. Рядом с нею сидел, например, кудрявый молоденький старший лейтенант, стройный, легкий, с девической талией — его называли «Суворов», — потом лысый расплывшийся капитан с длинным бабьим лицом: заместитель командира батальона по строевой Язько — его Аня уже знала, вместе шли из штаба полка, — потом замполит, а вокруг него тоже какие-то люди. Не могла же она при всех рассказать, что действительно обороняла столовую. Уж так получилось: во время дежурства по кухне застукала госпитального интендантика на большом воровстве. Носом ткнула при людях. Но медаль не за это. Медаль за другое. А за это ее просто-напросто поперли из госпиталя «на передок». Интендантик-то оказался жох, дошлый парень, сумел вывернуться и доказать, что ни в чем не виновен. И вот Аня уже поработала и при штабе дивизии, и в полку, а теперь докатилась до стрелкового батальона. Дальше некуда выгонять: дальше нет таких должностей, которые соответствовали бы ее званию. Для того чтобы выгнать Аню отсюда, сперва ее нужно разжаловать в рядовые, а тогда уже рота. Да и рота притом не стрелковая, а штрафная… Пока майор Евдокимов изучал ее документы и покашливал, читая в них записи и сверяя их с сопроводительным письмом, Аня мысленно распрощалась и с ним. Конечно, он ей не говорил иронически, как в штабе дивизии: «Это уж как вам будет угодно», «Нет, пожалуйста, не беспокойтесь», «Не осмеливаемся тревожить» или: «Будьте любезны», но, наверное, тоже не жаждал затягивать столь случайное и не очень приятное знакомство. И она стояла перед ним не как подчиненная, а расслабившись, выставив ногу вперед, а руку положив на бедро. Между тем командир батальона дочитал и вздохнул. — Ну что ж. Ничего не поделаешь, — сказал он заместителю по политчасти майору Труфанову, худому, высокому, с глубокими складками возле губ. А ей объяснил: — Тяжело вам будет у нас. В батальоне любили Парфенову… — Вот как?! И вы тоже ее… любили? — спросила Худякова. Майор вскинул широкие рыжеватые брови, внимательно посмотрел на пришедшую. Покачал головой. — Ну и ну, — сказал он с упреком. Сейчас, на марше, Евдокимов делает вид, что новый военфельдшер для него не существует. Что бы Аня ни делала и куда бы ни шла, ему все равно. Однако он о чем-то подолгу разговаривает со старшиной, седым, сивоусым Омельчуком, и тот оборачивается на Аню, как будто оценивает ее. Только и слышно: «Гвидон». — Ну что ж, ничего не поделаешь, отдадим и Гвидона. В ответ на это Омельчук тихо спрашивает: — Товарищ майор, разве ж можно такое? Да душа вся истлеет… — Ничего не истлеет. Не можно, а нужно… И Евдокимов опять оборачивается на нового военфельдшера, изучающе смотрит. Аня ежится, недовольно вздыхает. Ей неловко под взглядами. «Интересно, за что ты меня невзлюбил? — размышляет она с тоской, мысленно обращаясь к комбату. — Поглядел так презрительно, уяснил, что ни кожи, ни рожи, не то что Парфенова — и все, нате вам! В документы мои заглянул: там не сахар, не мед. Одно отрицательное. Положительного не имеем. И сразу поверил, что я такая… Ну в смысле — этакая. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. А что знаешь ты обо мне, кроме этой писульки? Ты жизнь мою знаешь? Ты мечты мои знаешь? Ты сумел бы хотя бы на миг заглянуть в мою душу? Посмотреть, что я думаю о войне, о тебе? О своем горьком горе… Нет, не сможешь, умения ни на грош! Ты даже не догадываешься, какая я в радости… И на что я способна, когда на меня глядят не с упреком, не с ненавистью, не с укоризной, а внимательным, добрым, ласкающим взглядом… Нет, ты этого никогда не узнаешь. Пустые глаза у тебя. И пустая душа. И при этом животик… и рыжие бакенбарды!» Когда Евдокимов неожиданно спотыкается на каменистом участке дороги о кочку, Аня мстительно улыбается. Она просто ликует. «Ага! Ага! Вот и ты тоже можешь быть смешным, — опять она мысленно обращается к нему. — Значит, не я одна неуклюжая! И, пожалуйста, не гляди на меня с такой укоризной. Впрочем, можешь глядеть. Ты вообще можешь не замечать меня, не догадываться, что я падаю от усталости, что мне хочется пить и есть… Можешь приказать мне идти в голову колонны, как ты сделал час назад, а можешь заставить отстать с захромавшим солдатом, а потом догонять. Ты властен над моим временем, над моими поступками, над моей жизнью, над муками и страданием моего тела… Единственно, над чем ты не властен, — это над моими мыслями. Природа устроила хорошо. Она сделала так, что сознание существует во мне автономно. Да, я устала, мне горько, мне больно. Но я думаю не об этом, а о том, какой сегодня удивительно серо-зеленый, чуть подцвеченный розовым вечер… Какой дивный закат проступает сквозь тучи… Разве это плохо: размышлять о закате? Ты давай говори мне что хочешь, а я буду думать о солнце, о тучах… Ведь над тучами и над солнцем ты тоже не властен!» Мысль об автономности сознания утешает Аню. Втянувшись в размеренный шаг батальона, она незаметно пристраивается к солдатам в ряд и уже не чувствует прежней усталости, не отстает. Ей кажется, у нее появились какие-то новые силы. На коротком привале Аня не отдыхает. Она делает перевязки, раздает таблетки пантоцида — для обеззараживания питьевой воды, осматривает у отставших разбитые ноги. Потом опять перед ней дорога, опять серое небо в провисших от обилия влаги, растянувшихся облаках, опять черные пажити, болота в проржавленных камышах, в подгнивающем короставнике, беломошье. Опять спины бойцов, потемневшие то ли от пота, а то ли от струек дождя. Она строго, с вниманием смотрит на рвы и окопы, прилегающие к дороге, — одни из них остались от боев сорок первого года, подзаплывшие, в серых будыльях пустырника; другие, совсем свежие, от недавно прошедшего боя: земля возле них распахана минами и снарядами и вроде бы еще воняет взрывчаткой, и ветер нет-нет да и нанесет запах трупов: наверное, где-нибудь зарыли не очень глубоко, а может быть, наоборот, впопыхах не разрыли засыпанного землей во время обстрела или бомбежки. Вот убитого и вымывает из глуби дождем. Ане становится не по себе при мысли, что каждый километр на этой дороге, даже каждый шаг полит кровью — сперва отступавших наших солдат, потом кровью мирных жителей, угоняемых, убиваемых, повешенных, расстрелянных, сожженных. Потом — кровью партизан, сражавшихся здесь целых два года. Потом — снова наших солдат, наступавших с боями. И, конечно же, вражеской кровью… Роты втягиваются в большое село, разрушенное недавним боем. Еще догорают избы, курясь едким дымом. Еще сизой окалиной светятся, как головешки, разбитые, обугленные грузовые и штабные машины гитлеровцев — немецкие, бельгийские, французские, итальянские, — судя по всему, их накрыли огнем наши «илы». Тут и там стоят подбитые танки с отброшенными взрывами башнями. И всюду убитые. Очень много убитых. Но везде только немцы. Наши убраны, а эти лежат там, где их настигла смерть. Один немец, небритый, с седыми, ежиком, волосами, лежит у дороги, и Аня обходит его, но тут же натыкается на другого, с оторванной рукой. Рука с почерневшими пальцами валяется, скорчившись, здесь же, рядом. На бугре — расплывшееся месиво: здесь по трупу прошли десятки машин, прошли САУ, танки. И Аня невольно косится на темное, изрезанное траками пятно. Раньше она как-то не представляла себе, что случается с человеческим телом, когда по нему проползает многотонная бронированная махина. Уже отойдя на несколько шагов, она снова приостанавливается, пожимает плечами. Дело ясное — войне третий год. В сорок первом году и убитые вроде бы лежали иначе, и к ним относились совсем по-другому. Самого первого «своего» убитого фашиста — то есть, конечно, первого из увиденных ею, сама она никого не убивала — Аня будет помнить, наверное, всю жизнь. Было это зимой, в декабре, под Москвой. Тогда Аня работала в группе ОРМУ[1] и шла по дороге одна, догоняя товарищей. Пустынная снежная дорога, едва различимая в ранних сумерках, виляя от вешки к вешке, привела ее к незнакомой речке, поросшей кустарником. Аня шла неторопко, задумавшись. И ступила на битый, изъезженный лед реки почти машинально. И вдруг встала как вкопанная. Прямо перед ней, под прозрачной зеленоватой толщей льда, лежал человек. Голова его завалилась на самую глубину, и подледная, незамерзающая струя, перебирающая придонные травы, играла и с овсяными волосами убитого, шевелила их длинные пряди, отчего они были как будто живые. Тело же человека ниже пояса лежало повыше, словно кто специально тащил его, мертвого, из воды, но не вытащил, бросил, только снял сапоги, галифе и даже кальсоны. Наверное, немало нехорошего натворил на нашей земле этот человек, если был так убит и так брошен, раздетым, на самой дороге. И Аня, чуть сморщась от тайного сострадания, в то же время с жестокостью детского любопытства долго, с пристальным вниманием смотрела в прекрасное молодое лицо с голубыми глазами, живыми в текучей, живой, незамерзшей струе, и туда, где кончался мундир и где на молочно-белом, чуть втянутом животе темнели курчавые волоски обнаженного паха — куда более страшные, почти отвратительные в бесстыдной своей обнаженности, гораздо страшнее, чем те, какие она уже видела сотни раз у беспомощных раненых и умирающих. Снег вокруг мертвеца был исчерчен колесами и полозьями и следами солдатских валенок и сапог, расходившихся от этого места широкими полудужьями. Наверное, и пехота, и обозы, и артиллеристы, вытягивающие на руках свои тяжелые пушки, — все, кто и сам повидал смерть в лицо, — проходя здесь, ломали ряды, огибая лежащего: ни один не наехал на мертвое тело и не наступил. Потом, миновав мертвеца, ряды снова смыкались. Аня тоже с большой осторожностью обогнула убитого. Ее валенки при этом сразу же промокли в мелких лужах наплесканной недавними взрывами воды, но она не обратила на это внимания. И пошла по дороге тупо, с чувством огромной усталости, не думая ни о чем. Ни о себе. Ни о войне. Ни о мере вины — и мере сурового наказания виноватого. Мысль придавливалась чем-то плоским, тяжелым, и это тяжелое, плоское не хотелось свалить с себя, сбросить, чтобы не осознавать до конца пока еще не осознанное. Почему-то ей в эту минуту не то чтобы думать — даже жить не хотелось. Впоследствии, за годы работы на фронте, Аня видела великое множество фашистов — и убитых, и взятых в плен. На этих последних она обыкновенно смотрела с большим удивлением. Это были такие же люди, как и она. И ей почему-то не верилось, что такой же, как и она, человек мог стрелять в нее из пулемета, бросать бомбы с «юнкерса», поджигать дома, в которых она могла бы находиться, обогреваясь с мороза, угонять из прифронтовых деревень население, забирать весь скот и всю птицу — чтобы ей и ее товарищам было голодно. Он мог обливать бензином хлеб — и сжигать его, отравлять колодцы, прикреплять к дверным ручкам и печным заслонкам тончайшие паутинные усики мин — чтобы Аня вместе с домом взлетела на воздух… И этот же человек, взятый в плен, испуганно жался к такому же пленнику, как будто бы не виноватый, нет, как будто бы даже страдающий, такой чуткий, такой уязвимый: «Нам приказано…», «Нас послали…». Война длилась так долго, что она хотя и не сразу, но все-таки разучилась их жалеть. Иногда ей казалось: прошло не два или три года ее жизни, а целая жизнь, и Аня успела ко всему притерпеться — и к мысли о собственной смерти. И к мысли о смерти других. Привыкла к бессонным ночам, к грязи, к холоду, к голоду, к безусловному подчинению старшим — при этом не обязательно старшим по возрасту, по опыту, по уму, а старшим по званию. Привыкла к тому, что победа находится где-то в районе Берлина или дальше за ним — то есть так далеко, что о ней еще нечего и думать. Да и вообще пока неизвестно, кто еще до нее доживет. Привыкла к своей неудобной одежде, привыкла к обветренным грубым лицам солдат, находящихся рядом, к их общему виду — в башмаках и обмотках, в серых куцых шинелях, плохо заправленных под брезентовые ремни, к их пилоткам с засаленными краями летом, к их шапкам из искусственного меха зимой, к их говору, тоже грубому, то окающему, то акающему, а то по-украински с придыханием. Привыкла к их добродушному равнодушию, с каким они к ней обращались: она ли, другая, не все ли равно? И если бы война кончилась враз, в один день и Ане было бы нужно с ними враз и расстаться, то она, может быть, даже чем-нибудь попридержала, замедлила, затормозила бы предстоящее расставание, потому что в самом существе ее странной привычки к войне было некое чувство, которое Аня не смогла бы и сформулировать: ощущение ее собственной сопричастности к чему-то огромному, неохватному разумом, стоящему куда выше воли отдельного человека, даже, может быть, выше, значительней совокупности великого множества воль, — и это огромное, неоглядное, неохватное, и мера ответственности перед ним подавляли ее, в то же время и окрыляли… Сегодня, оглядывая колонну войск, растянувшуюся по холмам, из низины на возвышенность и снова в низину и опять на возвышенность, все эти устремленные на запад, на северо-запад пушки, танки, грузовики, ряды пехоты — бесконечные волны серого, едва покачивающиеся в такт движению, Аня чуть веселеет. Она чувствует себя частью целого, пусть маленькой частью, но такого великого, грозного целого, что задумчиво улыбается своим мыслям. И слегка розовеет от ветра. Так, что даже становится на какое-то время хорошенькой.4
На ночлег они остановились в глухой разоренной белорусской деревне. Солдаты натаскали в дом, отведенный под штаб, охапки гнилой прошлогодней соломы и раструсили ее по полу. Разбитые окна заткнули мешками, попонами. Сорванную взрывом дверь навесили как положено. К сожалению, теплей от этого не стало. Промозглый, насыщенный влагою воздух нежилого, заброшенного помещения пробирал до костей. Однако Аня так устала за долгий день под дождем, что бросила свои пожитки на пол и, не раздеваясь, прилегла на соломе. И тут же заснула. Сквозь сон она слышала, как по штабу ходили, переговариваясь, командиры, как чистили оружие, как смеялись, курили. Потом до нее долетел душный приторный запах похлебки с тушенкой и жареным луком. Капитан Язько попытался было ее разбудить — она чувствовала, как он тряс ее за плечо, но майор Евдокимов остановил своего заместителя: «Не надо тревожить, пусть спит. Сон дороже еды». И хотя Аня все равно не встала бы, не имея сил проснуться, все же где-то в глубине сознания она отметила про себя: «Это он просто не хочет, чтобы я поднялась… Без меня им свободней. Ну и ладно! И пусть…» Командиры ужинали по-домашнему, сев в кружок, громко прихлебывали с ложек. Одновременно они подшучивали над Язько, который, перед тем как выпить свои сто граммов, долго покашливал и вздыхал, потирая ладонью грудь: «Бедное мое сердынько!» — словно играл какую-то роль. Пока наконец старшина Омельчук ему не сказал: «Ничего, товарищ капитан! Лишь бы добро не пропадало, а брюхо нехай лопнет!» Язько выпил кружку и стукнул опорожненной о стол, и тут же начал тихонечко напевать: «Мине с жинкой… не возицця…» Через минуту он уже позабыл о песне, стал рассказывать анекдоты, но майор Евдокимов одернул его: «Язько! А ведь с нами женщина…» И Язько замолчал. Замолчали и все остальные. Потом командиры легли, и в избе стало тихо. Проснулась Аня среди ночи с резко бьющимся сердцем: кто-то шарил у нее по груди, расстегивая пуговицы шинели. Аня с силой отбросила руку. Но рука тут же возвратилась опять. — Кто здесь? Чего надо? — спросила Аня громко. — Тише, тише, — услыхала она в ответ свистящий шепот Язько. — Раздеться надо. Нельзя спать в мокрой шинели… — Это вас не касается. Идите вы знаете куда?! — Аня молча, со злостью отодвинулась, отдирая от себя холодные, влажные пальцы Язько, оказавшиеся такими по-обезьяньему цепкими. Но он вновь подкатился, сопя, принялся расстегивать на ней портупею. — Перестаньте сейчас же, а то закричу! — Я тебе закричу! Только пикни попробуй! Но люди вокруг уже просыпались, кое-кто приподнимался на соломе, поворачивался в их сторону. Проснулся сам командир батальона, чиркнул спичкой. — Язько! Ты чего людям спать не даешь? — Бедное мое сердынько, — притворно вздохнул Язько и, стараясь сделать это как можно незаметнее, осторожно отодвинулся от Ани. — Чуть чего, так Язько, — упрекнул он комбата. — Виноватого долго ищете… — Ладно, ладно, Язько! Лапшу на мозги не навешивай! Что я, не знаю? Все опять улеглись и притихли. Один Евдокимов демонстративно долго взбивал солому у себя в изголовье, как будто бы никак не мог улечься. Потом закурил в темноте. Папироса алым огненным зраком чертила дугу, освещая в моменты затяжек загорелый лоб, мохнатые выцветшие брови и рыжие плиты бачков. Потом все погасло. Только еще долго висел, не выветривался запах табака. — Между Тристаном и Изольдой клали меч. И этого было достаточно, чтобы он не тронул ее, — сказал Евдокимов, укрывшись шинелью. — А между вами что положить? Пушку-гаубицу? Тридцатьчетверку? Ты смотри, капитан, — пообещал он сурово. — А то старшине прикажу… — И вдруг засмеялся. — Давай, Омельчук, завтра принеси спираль Бруно, навесь на нее пустые консервные банки. Пускай тогда Язько руки тянет… — Бедное мое сердынько, — глубоко, как корова, вздохнул Язько. В избе все затихло. Было слышно, как у крыльца ходит часовой, постукивает сапогами, как у порога дышат солдаты во сне. И вдруг Аня возмущенно воскликнула! — Капитан! Я ударю! Кто-то, подавившись смешком, даже всхлипнул, закашлялся. Евдокимов, еще не заснувший, и тот засмеялся. Он привстал, зашуршал разворачиваемой плащ-палаткой, приказал: — Худякова! — Да, товарищ майор? — Идите и ложитесь вот здесь, у стены! Аня покорно поднялась и, перешагивая через лежащих, подошла к тому месту, на которое указал командир батальона. Майор, еще раз чиркнув спичкой, посветил ей, куда лечь. Посоветовал строго: — А шинель в самом деле надо снять… Аня чуть задержалась перед тем, как переступить. — Я могу и до белья раздеться, товарищ майор. И на миг замерла, ощутив всей зябнущей кожей, всем телом холодный, даже вроде бы давящий гнет евдокимовского молчания. Томительные секунды почти материально — так, что, казалось, тронь — и сразу почувствуешь их электрическую напряженность, — не текли, а словно бы, как резиновые, растягивались, растягивались. — Дуреха! — помолчав, сказал Евдокимов. Он подождал, пока Аня перешагнет через него, снимет мокрые, набухшие в тепле сапоги, пока уляжется у стены, прижимаясь потеснее к бревнам, подальше от него. Потом, явно подчеркивая свое равнодушие к ней, неторопливо, до хруста в челюсти зевнул, повернулся спиной, поплотнее укутался, подтыкая шинель под бока, и тут же младенчески тихо, размеренно задышал в темноте, засыпая. Между ними не то что меча не надо было бы класть — даже школьного перочинного ножичка… Скорчившись в неудобной, но уже ставшей привычной позе — грудью в солому, левую ногу поджав под себя, а правую вытянув и при этом слегка выставив кверху зад — потому что только в таком положении был надежно защищен от толчков и ушибов плохо заживающий большой рваный шов внизу живота, — Аня долго лежала, не в силах уснуть. Все ее тяготило сегодня, все придавливало, угнетало. А особенно злило это размеренное посапывание рядом. Как днем было нестерпимым невнимание Евдокимова, так сейчас была нестерпимой неведомо для чего проявленная им забота. А потом этот сон. Улегся и дрыхнет, как кролик. Иногда Ане казалось, что майор все же не спит. Просто делает вид, что уснул, а сам думает о лежащей с ним рядом Ане, об усталом, страдающем ее теле, живущем по тем же самым законам, по каким устает и страдает и его собственное, еще молодое, еще сильное тело. Вот сейчас майор повернется и скажет ей слова, которые она ждет от людей. Ото всех окружающих. В том числе и от него. Неужели не скажет слова доброты? Те самые золотые слова, которые говорила ей мать, когда хотела, чтобы Аня была лучше, чем она есть на самом деле. Но мать была слабая женщина. В ней давно перепуталось и хорошее и плохое. Сколько помнила Аня, мать всегда улыбалась, но в глазах у нее, там, на донышке, стыл такой неподвижный, такой едкий ледок… Была она стройная, молодая, с распущенными по спине каштановыми волосами, с серьгами в ушах. Так приятно было глядеть на нее, когда она молча разглядывала себя в большом зеркале. Но как только мать заговорит, так весь мир словно чуть смещается от неслышного землетрясения: все линии смазаны, искажены. Выходило, что хороший человек, по словам матери, просто неспособен быть дурным. Добрый вовсе не потому добр, что любит людей, а так ему выгодно жить. Щедрый — глуп. Доверчивый знает тайну «петушиного слова»: он приходит с доверием не к тому, кто разденет его догола, а к тому, кто поверит в его доверчивость. Аня снова с печалью представила себе родительский дом в казахстанской степи, в казачьей станице, — низкий, мазанный глиной, крытый выцветшим камышом. И себя в этом доме. Вот она, маленькая, худая, нечесаная, дремлет на печке, покрытая старым пуховым платком, а мать и отец сидят рядом, за плохо скобленным столом, у коптилки, читают растрепанный фолиант. — «Комната, предлагаемая мне голубым купидоном, была большой наугольный покой в два окна с одной стороны, — читал отец ровным голосом, а мать откровенно при этом позевывала, — …и в два — с другой. Весь он выходил в большой густой сад…» Нет, ты только послушай, — говорил отец матери, — «голубым купидоном». А? Каково? — Чепуха старомодная, — отвечала мать. — Свечным воском пахнет от твоих книг. Потом они ссорились, оба плакали, не примиряясь. Аня помнит: после таких горячечных, безрассудных ссор родители надолго пропадали из дома. Летом бродили где-то в степи, в ковылях. Зимой оставались до полночи вдвоем в пустой темной школе. И Аня обычно ждала их с тревогой, не спала, сидела часами, прижавшись плечом к беленному известью теплому камню русской печки. От нечего делать брала в руки те самые книги, что пахли свечным воском, — и с головой погружалась в чтение, забывая обо всем на свете. В том числе и о матери и об отце. Возвращались родители, не разговаривая друг с другом. Связующим звеном между ними тогда была дочь. «Скажи отцу, что я завтра на репетиции». Или: «Скажи матери, что я в пятницу уезжаю на совещание в район…» Мать ушла от них по первому гололеду. Распустив по спине курчавые длинные волосы, в серьгах полумесяцем, в белом, вышитом разноцветными нитками и бисером нагольном тулупчике, мать выскочила на мороз, прижимая к себе узелок с пожитками. Зацокала каблуками. И — ни разу не обернулась. Как будто в низеньком, мазанном глиною домике для нее уже не было никого дорогого: ни мужа, такого же учителя в местной школе, как и она, ни дочери-школьницы. Теперь мать жила в богатом казачьем, заставленном сундуками и мебелью многокомнатном доме с верандами, с садом, спала на пуховых подушках, на шелковых одеялах. Ела с тоненьких, как листочки бумаги, тарелок, разрисованных розами, пила терпкий кумыс из пористых керамических плошек, сохраняющих и в жару прохладу глубокого погреба. И Ане казалось: хмарно, глухо, постыдно течет ее сладкая, теплая жизнь в той новой семье, без школы, без книг, без споров, без желтого, разведенного кипятком несладкого чая — их единственной с отцом отрады, — без сидения у камелька под завывание вьюги… Мать не то что ушла, а как будто бы умерла. И Аня вспоминала ее все реже и реже, и всегда с неохотой, как что-то больное, до чего не дотронешься. Сердобольные соседки, однако, рассказывали Ане: ходит мать в белом ситцевом деревенском платке, повязанном треугольником, по буграм над рекой, по выжженным солнцем откосам, рвет цветы и бросает их в воду. Но цветы рвет всегда только белые, пахучие — черемуху, белую кашку, корзинки калины, боярышника, а то обрывает под окнами своего нового дома жасмин, цветок за цветком, — и бросает их в волны. Плывут по воде душистые венчики восковика в ту самую сторону, где живет неуклюжая худенькая девочка с двумя тощими косичками. Плывут, да не доплывают. Утопают в коричневых омутах, в ледяных водоворотах. Может быть, мать что-либо и наговаривала при этом, потому что случались минуты: тяжко, боязно было войти к себе в дом, в его пустоту, и увидеть безжизненные глаза отца, уставившегося в раскрытую книгу. Тяжко, боязно было вдыхать азиатский степной жаркий ветер: он летел от мазара к мазару, к мусульманским могилам с их белыми полумесяцами на вершинах, с развевающимися на шестах хвостами из конского жесткого волоса, шевелил эти неживые хвосты, относил их то вправо, то влево. Что хотела сказать ей мать пущенными по воде белыми цветами, Аня так и не узнала. Через год мать умерла от родов. А отец привел в дом молодую жену, тоже учительницу, стриженую, с челкой. Мачеха целыми днями сидела у окна с гитарой и пела: «Так не жди у меня оправданья, сентябрем на меня не гляди, видно, разные наши желанья, видно, разные наши пути…» Она никогда ничего не готовила, не умела достать воды из колодца, не знала, с какой стороны садятся на лошадь, как доят корову, чем кормят кур. И все в доме темнело, старело, покрывалось пылью, плесневело — даже книги. Запах тления стал исходить и от них. Из-за этого запаха, собрав узелок, ушла из дому и Аня. Отец догнал ее на взмыленном коне уже возле самой железнодорожной станции. Конь ронял с железных удил вонючую желтую пену, дышал жарким воздухом из ноздрей. А отец, почерневший, в рубахе распояской, без шапки — проскакал двадцать верст, — весь покрытый степной серой пылью и пропахший полынью, стоял как убитый: «И ты, дочка?! А я? Я куда? Мне-то с кем?..» И сердце у Ани зашлось, оно вздрогнуло было… Но решение было принято твердое, и ни слезы, ни просьбы, ни загнанный, укоризненный взгляд отца, оставшегося в одиночестве посреди поля с конем в поводу, ничто не остановило ее. Впереди, за холмами, визжали гудки паровозов, там что-то мерно покатывалось, позвякивало, бренчало — шла какая-то незнакомая, новая жизнь, обещавшая счастье, и Аня рванулась навстречу ей, уверенная в себе, раз и навсегда решив, что уж у нее-то никогда не будет ни челки, ни распущенных по спине кудрявых волос, ни гитары, ни белых душистых, дурманных цветов на ладони… Сейчас, лежа в чужой избе, на полу, среди стольких чужих ей мужчин, Аня вдруг с неожиданным для себя ощущением счастья припомнила те далекие дни, станицу, ее улицы, сплошь засеянные соломой да серым куриным пером, мать, отца. И полынные солончаки, и зеленые — среди ковылей — куртины малинника, дикой вишни. Припомнилось, как после смерти матери ходили они вместе с отцом по тем же оврагам, по которым когда-то ходила она, срывали колючие ветки боярышника и цветущего терна, и Аня разглядывала цветы, пытаясь понять, какая в них тайна. Разгадала только тогда, когда укололась о шип. Спасибо тебе, мама… Доплыли твои цветы. За их пряные белые венчики, пущенные по воде, за добрый совет и хранила теперь Аня в карманегимнастерки фотографию матери, с распущенными по плечам волосами, с серьгами в ушах и с белым цветком под заколкой. Только по аромату цветов, по их одуряющей духоте поняла тогда Аня: тяжко было матери в их доме, такой порывистой, своенравной, с тихим, добрым отцом-домоседом. Горячая, плодородная жизнь степей и лесов, смуглых, сильных людей кипела вокруг, а отец черпал мудрость из книг, утешал ее не поцелуями, а цитатами из поэм. А они же не значат ничего, те цитаты, и даже прекраснейшие из них, если самую лучшую, мудрую строчку стихов забыть подкрепить поцелуем… Наставления матери, ее запоздалые жалобы — все дошло до Ани в то мгновение по воде, как по почте. И Аня стояла тогда над рекой, размышляя о сложностях жизни. Однако без скорби, без слез. Нет, не только боярышник или терн, очень многие и другие растения защищают себя точно так же. Этим самым простейшим, почти варварским способом: при помощи длинных колючек. Гледичия и акация, шиповник и джида, малина и крыжовник, саксаул, ежевика и алая роза. И репейник. И череда. И белый ковыль… А еще есть на свете обжигающая крапива. Есть режущая до крови осока. Одуряющий болиголов. И есть ядовитые корни и травы… Есть несущие гибель плоды и семена. Человек среди них — такой мягкий, безвредный, ничем не защищенный — может только сказать одно слово, только кинуть насмешливый взгляд, только лишь улыбнуться холодной скользящей улыбкой — и ты скорчишься, как от ожога крапивой, как уколешься о шипы: в кровь, до боли… Черт бы его побрал, проклятого Язько! Как будто нарочно: в присутствии Евдокимова. Так что даже заехать в физиономию нельзя. Конечно, не кулаком, не наотмашь, а локтем, как будто нечаянно, в темноте, в тесноте, но и то невозможно. А этот — хорош… Интересно, о чем он шептался перед ужином со старшиной? Все поглядывал на нее, все высчитывал да обдумывал. Аня слышала спокойное, мерное дыхание комбата, чувствовала исходящее от его тела тепло и злилась, не понимая, почему она злится. Ей хотелось и плакать сейчас, и драться, бить кулаками в бревенчатую стену справа — и в эту равнодушную спину слева. Ей хотелось унизить его, посмеяться над ним. «Чурбан ты, чурбан, — шептала она в темноте, подбирая в адрес Евдокимова слова пообиднее, позлее. — Неошкуренное бревно! Ишь какой благородный… А я не нуждаюсь в твоем благородстве!» Потом усталость все же переборола ее, и она наконец крепко-крепко уснула.5
Четвериков заступил на пост уже после полуночи. Он спал на соломе в амбаре, когда разводящий стал осторожно, но настойчиво подергивать его за ногу. Во сне Четвериков видел всегда одно и то же: смерть совсем незаметно, но очень близко подходит к нему. Вот она сперва крепко стиснула Федору пальцы — и они онемели. Потом поползла, поползла по предплечьям, по бедрам, подступила уже к животу, потом к груди. Уже трудно дышать. И вот сердце, единственное живое в его теле, неспящее и, наверное, мыслящее, заботящееся о нем, оно закричало, гулко-гулко забилось от ужаса, запрыгало, хорошо понимая, что еще сантиметр, ну еще полсантиметра, молча, гадко, ползком, и все кончится, все охватит глухая, тяжелая немота, дальше — мертвая неподвижность и лед, безвоздушный погибельный мрак, бурьян над могилой. И Федор сделал усилие и очнулся. Сперва он начал шевелить пальцами рук, сжимать и разжимать кулаки, преодолевая безжизненную их онемелость, потом шевельнулся сам, задвигался по соломе, как будто выбираясь, выпрастываясь из-под навалившейся тяжести. И смерть нехотя, не спеша отступила, оставляя в каждой клетке тела электрические иголочки ужаса. И потом еще долго эти искорки ужаса, эти жгучие, ледяные мурашки все бегали в панике, все метались от сердца к рукам и к ногам — и обратно и как будто кричали, оправдываясь, а сердце отстукивало им какие-то злые слова — глухо, резко, толчками, отрывисто-грозно. Сон этот стал сниться ему с зимы сорок первого — сорок второго. В окружении юго-западней Ржева пробивались они с боями сквозь вражеские заслоны — и Федор упал на снегу, задохнулся: осколок пробил полушубок, пробил телогрейку, карман с документами и впился огнистым сверлом прямо в грудь. А солдаты бежали в атаку с винтовками наперевес, прорываясь. И он попросил земляка: «Брат, прикончи! Не оставь на муки фашисту…» Тот почти на бегу, не задумываясь, прищурил глаза — ярко било в лицо ему и Федору молодое февральское солнце — и выстрелил в грудь. Мглистым огненным кругом вдруг вспыхнуло синее небо ему прямо в зрачки и умчалось куда-то в пылающие бездны, оставив на снегу умирающего Четверикова. Сколько пролежал Федор в сугробах, он не знал. Очнулся, когда привязывали к крылу самолета снаружи — внутри, видать, уже не было мест, — и снова ушел в ледяное небытие. Так, тюком, и пролежал без сознания: летел он или не летел, приземлялся не приземлялся — ничего не знает, не помнит, потому что ничего не видел и не слышал. Страшный сон, порожденный тем боем и тем полетом, отныне стал вечным спутником Четверикова. Сотни раз они снились ему: тот земляк, одногодок из далекого зауральского села, и черное дуло винтовки — спасительное, если бы та пуля убила, но предательское, подлое, потому что нацелено оно было животным, похабным движением тупого, не думающего человека, который, наверное, даже и не оглянулся потом на оставшегося на снегу Четверикова. Сейчас, стряхнув с себя сон и то черное воспоминание, Федор поднялся с отсыревшей соломы, завязал у ворота плащ-палатку, надвинул на голову капюшон и, взяв в руки автомат, не торопясь зашагал за разводящим.Его пост был у штаба. Он встал и по-разведчицки зверовато огляделся. Дождь как будто бы прекратился, только влажность была большая. Она, словно невидимая кисея, облепляла лицо, руки, шею, металл пряжек и пуговиц, вороненый ствол автомата. Самый глухой, глубокий час ночи был, наверное, и самым глубоким, глухим часом войны — артиллерия на западе и на северо-западе молчала, там притихли и пожары; по крайней мере, в эту минуту небо мягко серело, не озаряемое изнутри ни бурой, ни желтой, ни алой подсветкой догорающих поселений. Белорусская деревенька, в которой они ночевали, тоже тихо спала. И Четвериков, то ли от скуки, то ли от неловкого стояния на пронизывающем воздушном токе, потянувшемся от пустырей, по ложбинам, на взгорки, стал невольно позевывать, зябко ежиться и топтаться на месте, пытаясь согреться. Он поглядывал на штаб, на забитые его окна и на тропку, ведущую через двор к воротам, на кучно поставленные повозки с батальонным имуществом, на кучно привязанных к ним лошадей, жующих в торбах овес, и видел во всем этом привычную, примелькавшуюся обыденность. Единственным необыденным предметом, оказавшимся в данный момент в поле зрения Четверикова, была молоденькая рябинка, посаженная прямо под окнами избы, еще длинноперистая, не растерявшая своих побуревших загнувшихся листьев, и Четвериков с чуть вздрогнувшим сердцем подумал о ней: «Что, замаялась, бедная? Все чужие вокруг. Никого нет родных-то… хозяев твоих… Эх, житуха…» Если бы он не стоял на посту, он сейчас подошел бы к ней поближе, дотронулся до ствола, даже погладил бы его. Но часовому нельзя делать вольных движений. Тонкий серпик луны — это он-то и омывался последнее время дождями, — еще не светящий земле, зеленый, словно тронутый окисью, чуть угадывался буквой «э» в кисее облаков. Было сыро и тихо, так тихо, что Федор слышал, как падают капли с листьев рябины, и мог загадывать на этих каплях: «Любит не любит», — как в молодости на ромашках, когда углядел среди девок свою теплую, добрую Степаниду. И, наверное, загадал бы, если бы не знал твердо, что жена его любит и будет любить всю жизнь, как и он ее, если только останется жив. Ему страстно захотелось с тоски закурить — так вдруг явственно выплыла в памяти сероглазая, статная Степанида, но в избе, перед которой Четвериков стоял на посту, тихо скрипнула дверь — и кто-то невысокий, худой, в шинели внакидку вышел на крыльцо и огляделся. Четвериков подтянулся, встал на той самой точке, на которую его ставил разводящий. «Это кто же такой?» — подумал он, с усилием вглядываясь в силуэт незнакомого человека. В батальоне Федор знал всех, даже новеньких — кроме этого. Между тем человек увидел его — и с робостью, словно смущенно, сел на ступеньках. Федор всплеснул руками: — Батюшки мои светы! Кого я вижу! Анюшка… Да никак это вы? Человек на крыльце приподнялся, накинутая на плечи шинель соскользнула, обнажив худощавую девическую шею в солдатской бязевой рубашке и невысокую грудь. — Ой, Федор Степанович?! Вот так встреча… Откуда вы здесь? — Да вот воюю… На покров второй год… А вы-то зачем? — Здесь служу. В батальоне. Четвериков от удивления, от радости, вызванной неожиданной встречей, засмеялся, как будто бы заклохтал, словно курица, захлопал себя по бокам руками, даже обернулся назад, ища себе свидетелей, собеседников. И мелко, растерянно переступил с ноги на ногу. — Так это же вы — наша новенькая? Вместо Дуси? — спросил он наконец. — Я, — ответила Аня. — А я издаля не признал… Это надо же — Анюшка! Здоровье-то как? — Ничего, — ответила Аня. — А ваше? — Да так… Помаленьку. Днем еще ничего, ну а ночью-то, особливо перед дождем, как сверлом иссверлит. Да-а, надолго мне запомнится… — Теперь на всю жизнь, — заметила Аня. — То так. Они оба на миг замолчали. Федор долго покашливал, не решаясь спросить, но все же спросил: — Это что ж? — Он вскинул глаза и вгляделся в мутно белеющее в темноте лицо Ани. — Не пойму. Из такого хорошего госпиталя — и на передок? Неужели нельзя было как-то устроить? Да еще опосля такого ранения… — Значит, нельзя. Федор только вздохнул. Кажется, в любой темноте, непроглядной, дегтярной, на любом расстоянии он узнал бы ее чуть простуженный голос. И это лицо. Наверное, сколько лет ни пройдет после Великой Отечественной, десять лет или двадцать и больше, но и тогда Четвериков, скажи только «Анюшка», сразу вспомнит ее. Сперва это березово-белое, молодое лицо, к сожалению, потом оно повзрослело, стало острым, худым, загорелым и очень грустным, но, когда Четвериков увидел девушку впервые, ее детское открытое лицо привлекало мужчин куда крепче, надежней, чем сама красота. Потом вспомнит походку, тишайшую, легкую даже в кованых сапогах. А потом эти руки, загрубевшие, в шрамах… — Это надо же, — сказал Федор Степанович, помолчав. — Где мы встренулись! Спасительница моя… — Ну Федор Степанович! — воскликнула Аня. — Мы же с вами договорились. Вы ведь слово мне дали! — Дал. А зря! Ну не буду, не буду, — заверил он ее торопливо. Но сам долго стоял взбудораженный этой встречей, растроганный нестираемыми из памяти воспоминаниями. И вдруг укорил ее: — Сколько времечка не видались, и теперя — стоять и молчать?.. В том госпитале, куда Федора доставили санитарным самолетом, ему дважды делали операцию — один раз извлекали осколок, от которого он упал, потом пулю земляка. Операции были тяжелые, под наркозом, и последняя, как рассказывали ему, чуть не закончилась для него трагически. На госпиталь налетели вражеские самолеты. В тот самый момент, когда рана Федора на груди была разверста, растянута разного рода зажимами и крючками, рядом грохнула бомба. Над операционным столом затрещал потолок, посыпалась штукатурка. Подававшая хирургу инструменты Аня в белом стерильном халате навалилась всей грудью на рану, закрыла собой. Обломки штукатурки, комья глины, предназначенные Четверикову, приняла на себя. И осколок от бомбы, самый рваный, большой, на излете, — в живот… В ожидании эвакуации лежали они рядом в одной и той же палате, по соседству, только Анина койка была отгорожена от остальных простынями. Федор слышал затрудненное дыхание девушки, ее постанывание, когда Аня ворочалась, ее голос, когда просила пить. Дурачился легко раненный сержант, возбужденный этим нечаянным соседством, кричал на всю палату гнусавым голосом: «Си-нята-арр!» — и, когда тот приходил, указывал рукой на занавеску, за которой лежала Аня, объяснял: «Утку! Комсоставскую!» Мужичонка, работавший санитаром, замотанный до предела, нес посудину, позабыв, что там женщина. Наткнувшись на Аню; чертыхался, нес утку обратно. А раненый, одуревший от собственных шуток, опять кричал громко, на всю палату: «Синята-а-арр!» Первым не выдержал Четвериков. Боком сполз со своей койки, поборов дурноту, по стенкам пробрался к остроумцу, прижал его локтем к подушке, сказал: «Еще раз вот так скажешь, и этой же уткой получишь по морде, до крови… Понятно?» «Яволь», — ответил беззлобный дурак. И тотчас же замолчал. Аня только посмеивалась, морщась от боли. В санпоезде, когда их везли на восток, Федор не переставал удивляться тому, что девушка не умела, а может быть, не хотела постоять за себя. Дадут поесть — поест, не дадут — не попросит. Перемогаясь, терпя собственные муки, он ухаживал за Аней, как за родной дочерью — их, своих, было шесть, а это седьмая, привязался всем сердцем. Аня быстро поправилась: молодое, оно и заживает скорей. Получила медаль «За отвагу». Забегала на свиданья с орлом-партизаном. Из-за этого партизана не поехала и домой, на побывку. Говорили, в родной станице, в казахстанской степи, где жила до войны, у нее уже не было никого. Мать давно умерла, отец с месяц назад был убит на фронте. Уехала она в резерв фронта. Перед отъездом обменялась с Четвериковым адресами. Звал Федор девушку после победы к себе в Зауралье, как родную, в свой дом, но Аня только головой покачала. И вот сейчас они снова рядом. Но что-то чужое, недосказанное, разделяющее лежит между ними. Федор с первого же мгновения уловил в ее голосе если не усталость, не горе, то давнишнюю, застарелую ожесточенность, не идущую к ней, даже, может быть, враждебную ее существу, — и сперва удивился, стал приглядываться повнимательней старым, опытным глазом. Но потом умудренно подумал: «А что же… Война — это тебе не мать родна… Чего хочешь с человеком сделает!» И стал возле порога, спокойно, по-крестьянски раздумывая о великом, ужасном — и о будничном, самом житейском, но в условиях фронта таком же жестоком и страшном. Он представил себе: для чего-нибудь поднимался же человек среди ночи и вышел, переступая через спящих, из душной избы. Но вот здесь он, Четвериков, на посту. А дойди Аня до ворот — там другой часовой. И у каждой избы, за каждым углом стоят часовые. Обязательно каждый окликнет, не даст ей пройти. Предложил: — Гуляй, дочка, а я отвернусь… Но Аня уже поднялась со ступенек и стояла у двери, держась за щеколду: — Спасибо, Степаныч, какие прогулки? Я — спать. — И ушла, только скрипнули заржавевшие петли двери. Да-а… какая была, такая и осталась, нисколечко не изменилась его названая, неродная, но самая «трудная» дочь — фронтовая… Защитница… И не стала роднее и ближе к нему, а вроде бы как на дистанции, издали. Иль обижена чем? Иль просто не хочет из-за давней своей заслуги быть ему в тягость?..
6
Проснулась Аня от яркого солнечного луча. Он, словно бы слившись с другими лучами, свернулся в тугой обжигающий жгут и теперь щекотал ей ресницы. Недовольно поежившись, она повернулась на другой бок, но луч перебежал за ней следом и опять ударил в глаза. Аня приподнялась и села на соломе. В избе было пусто. За столом сидели лишь Евдокимов и Язько, оба чисто выбритые, застегнутые на все пуговицы, и что-то писали, причем Язько только заглядывал через плечо Евдокимова, а сам потихоньку вертел в руках зеркальце, направляя на Аню солнечный зайчик. Когда девушка проснулась, капитан торжествующе захохотал. — Ты что? — недоуменно спросил Евдокимов, не поднимая головы. — Так, — ответил его заместитель по строевой. — Пишешь быстро. Как писарь! Оторвав от блокнота исписанный лист, Евдокимов свернул его вчетверо, вложил в приготовленный заранее пакет, написал сверху адрес и, высунувшись в окно, громко крикнул: — Омельчук! — Я, товарищ майор! — откликнулся старшина откуда-то из глубины двора. — Сейчас буду готов! — Ишь какой пионер, — неодобрительно, даже желчно протянул Язько. — Он буде-е-ет гото-ов… Ну, ему-то не жалко! — А тебе, что ли, жалко? — спросил Евдокимов. — А что же? Очень жалко, конечно. Как-никак батальонное имущество. И кому-то отдать! — Он трофейный. — А все же имущество! Хоть и трофейный. К тому же добытый в бою, — упрямо, со злостью заметил Язько. На что Евдокимов с упреком возразил. — Человек — тоже наше имущество, — сказал он очень твердо. — Государственное. Советское. Дороже любого другого в сто раз! — И со сдержанной властностью покосился на своего заместителя так, что тот сник и тихонечко сполз с табурета. Встал у печки, приземистый, мешковатый, с покатыми плечами, поглядывая, как Аня накручивает портянку, как засовывает ногу в большой, заскорузлый сапог, как застегивает на талии солдатский ремень. Перед крыльцом раздался дробный танцующий топот копыт, и Язько с командиром бросились на улицу. Не поняв, что происходит в батальоне, Аня тоже пошла за ними следом. Утро было алмазное, росное. Солнце дробилось миллионами зайчиков на пожухлых листьях рябины, на малиновых шапках репейников — что ни веточка, ни цветок, то алмаз, — на будыльях полыни, на коричневых тоненьких свечках подорожника: на каждой травинке и на каждом листке. Широкие лужи огромными черными зеркалами, в свою очередь, отражали и раздробляли на мелкие блики и метали в глаза с высокого неба осколками солнце. Даже нож в миске у повара покачивался и отбрасывал зайчики. Во дворе между повозками и вдоль забора толпились солдаты. Аня сразу почувствовала в позах и лицах людей, переглядывавшихся между собой, пожимавших плечами, что-то тревожное, недоуменное. Посреди двора верхом на кобыле сидел мрачный, нахмуренный Омельчук. В поводу он держал незаседланного жеребца с гордой маленькой сухощавой головой, узкогрудого, копыта стаканчиком. Жеребец был хорош, уж Аня-то знала цену его стройным, точеным ногам и маленькой змеиноподобной сухой голове. Немало коней она повидала в степи, знала, как падает лицом в пыль на дорогу хозяин, когда лишается подобного коня. Конь покосился на Евдокимова фиолетовым выпуклым глазом — и вдруг громко фыркнул, словно понял что-то без слов, затревожился, затрепетал, заплясал, поднимая изящные стройные ноги, пошел боком, а черной змеиноподобной своей головой отрицательно замотал: как будто отказывался от чего-то, не хотел соглашаться. Между тем Евдокимов в своей ладно пригнанной гимнастерке, в простых кирзовых сапогах, еще более грузный, чем вчера, с распушившимися рыжеватыми бачками на толстых щеках, прошелся вокруг коня, оглядывая его по-хозяйски уверенно, твердо. Потом встал, упер руки в бока и взглянул на жеребца так спокойно, так пристально, что тот подошел к Евдокимову и склонил перед ним голову. — Ну вот так-то… Прощай, Гвидон! Служи хорошенько, — сказал Евдокимов, и Аня удивилась, услышав его голос: в нем была сама нежность. Взяв Гвидона под уздцы, майор притянул к себе морду коня и крепко поцеловал его в мясистые толстые губы. Конь только переступил точеными, в белых чулочках ногами. — Все! Ведите, — приказал Евдокимов. — Ох… Мыть-перемы-ы-ыть, — произнес сдавленно, чуть не плача, Язько. — Глаза бы мои на вас не глядели! — И хлопнул себя ладонями по бедрам. — Все! Довольно! Хватит! — сказал ему со злостью комбат. — Я просил тебя… — быстро, нервно напомнил Евдокимов своему заместителю. — Чего же теперь?! — А что? Я разве не так? — мгновенно схитрив, увильнул капитан от ответа. Весь этот разговор был странен для Ани. Между тем Язько наконец протянул пакет старшине. Тот взял пакет, положил его, как в старину клали гонцы, на дно фуражки, надвинул фуражку на лоб, натянул на подбородок придерживающий ремешок, кинул руку к виску, вывернул обеих лошадей на маленьком пятачке двора по-ужиному, чуть не кольцом, и махнул за ворота. Там, в открытом поле, старшина помчался по дороге вперед с такой скоростью, что, казалось, сейчас его кобыла запнется за что-либо копытом и он кубарем полетит через голову. Рядом с нею стлался, как будто летел, невесомый, лоснящийся, грациозный Гвидон, выгибая черную шею безмолвным, атласистым вопросительным знаком. — Вот и все… А ты боялась! — сказал с обычным шутовством Язько, скосив на Аню выпуклые коричневые глаза. И с силой потер зазябнувшие ладони. Завтрак прошел в гробовом молчании. Евдокимов посматривал скучающими зелеными глазами в окно, на вновь собирающиеся облака. Замполит Труфанов, высокий, худой, с глубокими морщинами на щеках, возле глаз и возле губ, никогда не вступавший в разговоры за общим столом, молчал и сейчас. Он только похлопал комбата по скошенному в неудобной позе плечу: как будто его похвалил, поддержал в чем-то. Один Язько, мешковато навалившись на стол, ел, а главное, пил с большим аппетитом, объяснив свое поведение новенькой: «У меня, понимаешь, дурная наследственность. Я не от Адама произошел, а от змия…» «Зеленого?» — спросила Аня. И он громко захохотал, шлепнул себя ладонью по бедру, предупредил: «Женщина, не доводи меня до белого колена!» Это были его излюбленные шуточки, он сыпал ими на каждом шагу, и все об одном, на одну и ту же тему. Потом он еще и еще выпил водки, при этом вздохнув: «Бедное мое сердынько!» И Аня, разглядывая отекшие подглазья капитана, коричневые белки его глаз, невольно подумала: «Сердынько-то твое, видать, и вправду бедное… Но зачем тогда водку пить? Зачем к бабам соседиться?» Никто из офицеров не помянул о ночном происшествии. И ни сам Язько, ни тем более Евдокимов ничего не сказали. Гораздо больше, чем о Язько, Аня думала о сегодняшней утренней сцене во дворе, о прощании командира с конем, но ничем не связала все это в единое целое со своей новой жизнью, которая начиналась для нее в батальоне. Даже если бы кто и сказал ей сейчас, что все эти события будут связаны с нею, она будет в центре их, ни за что не поверила бы, засмеялась. Приняла бы за шутку, подобную шуткам Язько. После завтрака Аня встала в дверях, разглядывая разоренную деревню: изрытые бомбами улицы, порушенные снарядами крыши домов, обгорелые трубы, будылья бурьяна на месте недавних огородов. Дождь пошел опять, хотя и неспорый, но въедливый, серый. Он подтачивал воздух мельчайшими каплями, падал в травы, в листву еще не облетевших деревьев, а порой, казалось, и в душу. Сегодня он пахнул залежавшейся тряпкой: поднимал чужие ему, серые, болотные запахи, исходящие от земли, жадно впитывал их и тут же отталкивал от себя с поднимающимися испарениями. В эту третью военную осень дожди были чаще беззвучные, «глухонемые», а сегодняшний, хоть и мелкий, еле видимый на фоне сгустившихся туч, почему-то шумел. И все било сейчас Аню по нервам: тяжелая душная влага, шипение, шелест и шорох падающей сверху, с неба, воды и эта давно надоевшая нескончаемость отступлений и наступлений, передислокаций, переходов из одного подчинения в другое, холодные избы с разбитыми окнами, вонь конюшен, в которых роты располагались на дневку, запах хлорки, казенного черного мыла. Сейчас Ане казалось: война никогда не закончится. Никогда не будет мира. Не будет сухих солнечных дней, А главное, никогда у нее не будет собственного дома — вместо сырых землянок, госпитальных коек и казарменных нар, — того самого собственного дома, в котором она была бы единственной и полновластной хозяйкой и где могла бы жить в тишине, в одиночестве, наедине со своими мыслями, а поэтому — не одинокой… Кто-то подошел к ней сзади и встал за плечом, тоже, видимо, разглядывая промокшую дорогу. Краем глаза Аня увидела: это был Евдокимов. Невысокий, но плотный, с бакенбардами, расширяющими и без того его широкое загорелое лицо, он стоял отчужденно, жевал незажженную папиросу. И вдруг сказал ей негромко, как близкой: — Работайте, Аня, спокойно! Никто вас в батальоне не обидит. Ежели, конечно, сами не захотите, чтобы… кто-нибудь обидел вас. Она обернулась. — А я ведь и без вас знаю, что мне делать! Уже взрослая, — сказала она.Глава вторая
1
Говорят, люди как реки. Как реки не могут течь, не меняя русла, точно так же и человек не может не двигаться, не менять свой характер. Вот взять хоть бы дерево. Стоит оно на месте, шагу не может ступить, но внутри его, по стволу, круглый год циркулируют животворные соки, нарастают слоями годовые кольца, грубеет кора, а то лопается от морозов, покрывается глубокими, словно шрамы ранений, корявыми трещинами. По весне набухают на ветках почки, разворачивается маслянистый, еще ярко-зеленый, еще пахнущий свежестью и душистыми смолами лист. Но и он огрубеет, а после поблекнет, потеряет свежие краски. Потом станет желтым, коричневым, потом облетит. Однако, как бы береза или дуб ни изменялись, они так и останутся навек березой и дубом, а клен — кленом. А яблоня — яблоней. Молодая прекрасная яблоня или молодой клен станут яблоней старой, старым кленом — и только. Не больше. И река станет широкой ли, глубокой — или вовсе обмелеет, однако вода в ней ведь все та же. Один лишь человек способен менять свою сущность. Из хищника, дикаря, почти зверя он становится почему-то действительно человеком. Начинает понимать то, чего прежде не понял бы и не принял бы, а со злобой отверг. Набирается разума, опыта, знаний. Научается замечать вокруг себя все доселе ему непонятное, очень мудрое, неприметное. Рос, менялся и Павел Евдокимов. До войны, в ранней молодости, он принадлежал к тому типу людей, которых презрительно называют «шпана». Жил он тогда на овражистой окраине города, где в зарослях жимолостей и сиреней лепились подслеповатые, неказистые домики, в которых еще с дореволюционных лет ютилась одна захудалая беднота. В школе учился он неважно, больше списывал у товарищей. В переменку играл в ножичек, в расшибалку. В свободное время шуровал по соседским садам, обрывал незрелые яблоки. Как подрос, учиться бросил, пошел работать на кирпичный завод, надел брюки-клеш, заправил их в хромовые сапоги, напущенные гармошкой. Чуб начесал так, чтобы он ложился поверх лакированного козырька модной фуражки-«капитанки» тяжелой, вьющейся гроздью. На пальцах правой руки синей краской сделал наколку: «Паша». За голенище сапога заткнул финский нож. Бывало, отработает смену на кирпичном заводе — и с ватагой парней, своих сверстников, гулять «в город». Идут по тротуару широко, цепью, пришаркивают сапогами. Глаза щурят презрительно. У каждого к губе прилип окурок. «В городе» лазили через забор на танцплощадку или пробирались «напротырку». Но сами не танцевали. Грызли семечки, пересмеивались, задевали танцующих. Иногда на спор отбивали от «кавалеров» их «дам» покрасивее — кучерявых от перманента девчат с накрашенными губами. Другого типа девушки тогда Евдокимову почему-то не нравились. Но бывало и так, что на Павла накатывалась глухая тоска. В прозрачные теплые летние дни все валилось у него из рук. Он не знал, куда деться. Большой, физически сильный, но сутулящийся, неуклюжий, он томился избытком нерастраченных сил, сам не знал, чем убить в себе жажду движения, перемен, а главное — каким образом истребить вдруг нахлынувшую неудовлетворенность. В такие минуты открещивался от гулянок, от домашних забот по хозяйству — мать обычно просила то дров нарубить, то воды принести, — один уходил на расположенный по соседству с кирпичным заводом ипподром, вернее сказать, это было открытое поле без трибун, но в масштабах и контурах ипподрома. Здесь Павел валился на бровку беговой дорожки в траву, надвинув на самые глаза «капитанку», и подолгу, не отрываясь, смотрел, как конюхи вываживают лошадей, как работают жокеи, как загадочно-грациозно выгибают свои гордые шеи красавцы орловские рысаки, дончаки, кабардинские кони, ахалтекинцы. Знал на память уже всех фаворитов и всех «безнадег», помнил клички, изучил все аллюры, все методы выездки. Иной раз мог заранее угадать, какая лошадь пройдет дистанцию ровно, а какая заупрямится и лишь на последнем круге выйдет вперед, осев запотевшим, лоснящимся крупом на задние ноги, чуть согнутые, как рычаги, а передние понесет, высоко поднимая, словно что-то взбивая ими в пыльном, слегка золотящемся воздухе. Однажды в такую тоскливую, никчемную минуту Павел пришел на ипподром растерянный, грустный, неуверенный в себе и на ставшем привычным, уже вылежанном своем месте увидал незнакомую девушку. Подперев кулаком подбородок, она смотрела на лошадей, на работу тренеров и жокеев так пристально, с интересом, как будто улавливала в их поступках скрытый истинный смысл своей собственной жизни и смысл жизни ее окружающих, проникала в него. Рядом с девушкой валялась затрепанная книжка, заложенная привядшим цветком маргаритки. Евдокимов, не замеченный девушкой, подошел по привычке завзятого хулигана спрятав руки в карманы. Ждал, когда наконец-то незваная гостья обернется. Но та не обернулась. Тогда он рассердился, носком сапога постучал в ее босоножку. — Это место мое, — сказал Павел грубо. И жестом приказал: давай, мол, выметайся. Но девушка поглядела на него мельком, как на нечто, не стоящее внимания, и не пошевелилась. — Слыхала? Давай убирайся отсюда, — сказал снова Павел. — А что, оно куплено, твое место? — Куплено! А то как же! — Павел свысока посмотрел на прямые пепельные волосы девушки, расчесанные на пробор, на ее белое, незагорелое лицо, на алые полные губы. Простое вискозное платье в серо-голубую полоску на ней слегка задралось, и он увидел упругие белые ямочки под коленками. — Еще скажешь, и солнце твое? — усмехнулась девушка. При этом у нее и на щеках возникли упругие нежные ямочки. — И солнце мое! — Богато живешь… — Она засмеялась, закидывая лицо кверху и заправляя прямую прядку за ухо. Девушка почему-то нисколечко его не боялась. — Богатый, но о-очень рогатый, — сказала она. Павел хотел было в ответ сморозить какую-нибудь двусмысленность, но как раз в эту самую минуту конюх проводил мимо них по дорожке коня, незнакомого Евдокимову, и они оба с девушкой замерли от восторга. Конь был так соразмерен во всем, так прекрасен и так эластичен в каждом своем движении, что казался игрушкой: гнедой, с золотистой, словно солнечной, шерстью, игривый, чутко прядающий ушами. — Ой как-о-ой, — протянула почти шепотом девушка, доверчиво обращаясь к Павлу и ища у него сочувствия. — Это где же такого сыскали? А? — Нравится? Девушка даже прикрыла глаза: — Оч-чень. — Да, хорош! Кабардинец! Она с удивлением поглядела на Павла: — А ты что, разбираешься? — Угу-у… Немножечко разбираюсь. Правда, в девушках чуть побольше, — сказал он, скашивая лихие зеленые глаза на ее высокую грудь и на белые обнажившиеся колени. Незнакомка засмеялась. Но не обидным, не едким смехом, а открыто, запрокинув голову. Ее белые зубы влажно блестели. — О-ой, умру! — протянула она. — И в девушках тоже? Ка-акой академик! Павел бросился рядом с нею в траву. Его поразила в собеседнице не ее смелость — он смелых видал, — но какая-то детскость и доброта, которые даются человеку лишь сознанием собственной силы и спокойствием наблюдательного и деятельного ума. Незнакомая девушка не заигрывала, не кокетничала с ним, а держала себя так, как держится старый товарищ, — доверчиво, просто. А ведь Павел привык, что девчата из их компании жеманничают перед парнями, хихикают, жмутся, иной раз и словечка-то в простоте не скажут. И всегда намекают на что-то. Поэтому он нет-нет да и глядел на нее беглым, искоса, взглядом: изучал нечто новое, незнакомое для себя. Так, что девушка рассмеялась: — Чего смотришь букой? — Да та-а-ак… Она тоже, наверное, оглядела его. И ведь видела, не могла не заметить его «капитанки», напущенных хромовых голенищ; к тому же совершенно отчетливо угадывала за сапогом круглую точеную ручку припрятанной финки. Но виду не подала. Когда солнце малиновым диском прикоснулось к земле, затягиваясь лиловым туманом, они уже были знакомы. Девушку звали Еней. Евгения Дмитриевна Скоробогатова. Была она дочерью военного врача, родилась и выросла в Ленинграде. Вместе с родителями много ездила по стране — пожила и на севере, и на юге. Сейчас у нее родителей нет, она не объяснила, что с ними случилось, живет с бабушкой. Больше о себе Еня почему-то не рассказала ничего. Лежа в траве, Павел долго разглядывал профиль Ени. Было что-то мягкое, теплое в ее полных губах, в тонких темных бровях и в расчесанных на пробор невьющихся волосах, обрамляющих щеки. Он с трудом отвел от Ени глаза, взял в руки книгу, заложенную цветком. Полистал. Усмехнулся. — Стишки?.. Увлекаешься? — Да. О-очень. — Она немного растягивала слова. Наверное, потому, что слегка заикалась. — Но если не хочешь обидеть меня, никогда так не говори. Не стишки, а стихи. Понимаешь? Поэзия… — Да уж где нам понять? Мы — народ темный, — попытался он отшутиться. Но Еня сказала: — Вот открой на любой странице и прочти самую первую строчку. А я буду по памяти продолжать, наизусть. Можешь проверять! — Неужели всю книгу знаешь на память? — Всю книгу. — Ну, давай посмотрю, какая ты грамотная! — И он ткнул пальцем наугад в раскрывшуюся страницу. — «Устал я жить в родном краю…» — Да. Слушай, — сказала Еня. Она помолчала и вдруг тихим голосом, проникающим в самое сердце Павла, начала:Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.
Грубым дается радость.
Нежным дается печаль…
2
С этого дня для Павла началась беспокойная, смутная, неуютная жизнь. Если бы ему раньше сказали, что он из-за девушки не будет спать ночей, он засмеялся бы, может быть, врезал бы наглецу, остроумцу как следует кулачищем под дых. Но теперь Павел не то что не спал, а даже и не ложился в постель, сидел за столом напролет все короткие летние ночи и в свете ласкающих летних сумерек — когда заря встречалась с другой зарей — читал строчку за строчкой, не торопясь обдумывая прочитанное, впитывая его мельчайшими каплями: так птица пьет росу, промывая себе пищевод, осторожно смакуя. Полные мысли и музыки строки западали в память без усилий со стороны Павла, как бы сами собой, они были то тихими, а то звонкими и гудели в мозгу золотыми шмелями. И каждая строчка и каждая рифма были связаны с Еней: «С алым соком ягоды на коже…» Да ведь это же Еня! Ее губы и щеки. Или вдруг: «Оглянись, как хорошо кругом… Губы к розам так и тянет, тянет…» И это опять была Еня, лежащая на примятой траве ипподрома, глядящая на закат. Однако, когда Павел пришел в назначенный час к своему заплешивевшему, вылежанному в траве на бровке ипподрома, излюбленному месту, Ени там почему-то не оказалось. Не пришла она и на следующий день, и на третий. И Павел не мог сообразить, что случилось, чем он обидел девушку. Клял себя за то, что не проводил ее в тот вечер до дома — расстались-то они на перекрестке — и — дурак-дурачина! — не спросил ее адреса. Как-то вечером, в воскресенье, парни шли в центре города, через сквер, окраинной хулиганской ватагой. Квадратные плечи, напущенные на сапоги широкие брюки. Финки за голенищами. Фуражки-«капитанки» сдвинуты набекрень. И вдруг из-за отцветших сиреней к фонтану выходят три, сытеньких жоржика в костюмчиках и при галстуках. И с ними — Еня. В простом полотняном платье, но с вышивкой на подоле и с розой у ворота. Пунцовая темная роза. Почти черная. Волосы Ени чисто вымыты, паутинятся возле щеки. Она сразу же разглядела тяжелый квадратный пеший строй, перегородивший всю асфальтовую дорожку, и пошла к Павлу смело, с ребяческой нежной улыбкой: — Ох, Павел, как жаль, что мы не встретились! Не могла я… у меня бабушка очень болела. И где ты живешь, забыла спросить! И сердце Павла — уже вроде бы закаменевшее каждой своей клеточкой, каждой кровинкой, опустевшее от отчаяния, иссохшее от подозрений, взбудораженное, слепое — опять, как тогда, растаяло, расцвело… Отпустив руку кореша, отошел с Еней в полутьму. Сказал жестко, сцепив ее пальцы железными пальцами: — Все. Теперь не уйдешь от меня! Не пущу… И она — не ушла. Есть люди, которые своим образованием, своим умом обязаны не школе и не жизни, а самим себе — и притом вопреки тем условиям, в какие их поставила школа и жизнь. Павел был таким человеком. Как-то видел он в городе, возле базара, такую сцену. Стоит колхозная полуторка, нагруженная мешками. На мешках сладким сном дрыхнет парень, подстриженный под кружок, в лаптях, с простым, глупым, честным лицом. А дворничиха из шланга поливает асфальт: день жаркий, печет; смывает она водой окурки, обертки конфет, пожухлые листики, нападавшие с деревьев, каменноугольную пыль — все, что наносит степной ветер с окраин, от железнодорожной станции, с базара и от заводов на центральные улицы города, протянувшиеся по холмам. И вдруг парень проснулся. Протер кулаками глаза и ахнул от изумления: — Ой, тетка! А для чо поливаешь-то? — А чтобы трава росла, — ответила дворничиха и взглянула на него с насмешливой, едкой улыбкой. Шланг направила прямо на край тротуара, одетый тесаным камнем, — вода веером поднялась, разноцветная, словно радуга после дождя. Если бы Павел тогда умел сравнивать, он сравнил бы себя с той самой травой, которая пробивает щебенку и верхние слои дорожного покрытия и выходит на поверхность, к солнцу, независимо от того, поливают асфальт или не поливают. Жажда роста, движения вверх в нем была такова, что ломала на своем пути все преграды. А тут еще рядом с ним оказалась Еня, а с Еней горячие летние вечера над рекой или в траве у ипподрома, а поэтому и жизнь и работа вдруг наполнились смыслом. И стихи теперь не она ему, а он ей читал наизусть. Память у Павла оказалась такая, что тексты в башку врезались намертво со второго, третьего чтения, а то и на слух. Еня жарко прижималась к Павлу на концерте или в театре, и, хотя в висках у Павла от этого прикосновения кровь била молотом, он старался поглядывать не на свою соседку, а на сцену, и все впитывал в себя жадно — и жесты, и интонацию, и смысл сказанного актерами, и манеру держаться, и даже те краски, какими спектакль был расцвечен: что с чем сочеталось, а что диссонировало, резало глаз. Они поженились, и Павел поступил на рабфак. Вечерами Еня садилась рядом с Павлом за стол, раскрывала тетрадки, книги — она училась на первом курсе пединститута — и время от времени заглядывала в его тетради, проверяя, как Павел справляется с геометрией, как решает алгебраические задачи, как учит немецкий: «Тинте, федер унд папир хат хир едер пионир…» И они сидели всю ночь напролет, пока небо на востоке не становилось бледно-желтым, потом розовело. И розовым, теплым было плечо молодой жены Павла, сладко пахли отцветающей земляникой ее мягкие, невьющиеся и не держащие завивки прямые прядки волос, подстриженные под мальчишку. Целовал Павел эти волосы, губы, потом глаза, такие влюбленные, нежные, что у Павла кружилась голова. Павел учился самозабвенно, он не шел, а рвался вперед. Однажды, возвращаясь домой по главной улице города, остановился. Дожди и ветер прибили пух тополей к асфальту. В воздухе оставались лишь легчайшие взвешенные пушинки, уже вроде бы чем-то оббитые, полысевшие. Деревья давно уже все отцвели, и яблони, и вишни. Впереди оставалось одно лишь цветение липы. Он глянул в окно какого-то скучного учреждения и увидел в стакане ветку жасмина. А они с Еней в этом году ни разу не были на ипподроме, ни разу не гуляли в городском саду, не видели цветущей сирени, каштанов, белой акации. Все ранние теплые утра, и все вечера, и все ночи он провел за упорным, беспомощным от торопливости чтением книг, хватал здесь и там, жадно слушал товарищей, преподавателей, расспрашивал Еню. Не стеснялся без стука врываться в комнату к бабушке: «Варвара Семеновна, а что значит «депрессия»? А «снобизм»? А что такое «ассонансная рифма»?» У Ени родился ребенок, они ждали второго. Ждали для Павла хорошей работы, прибавки к зарплате — ведь все четверо, считая и будущего человечка, еще фактически сидели на шее у бабушки. Ждали возможности много читать, слушать музыку, ходить на прогулки. Но случилось негаданное. В одно слепящее солнцем апрельское утро, звенящее синицами и капелью под окнами, Павла вызвали в военкомат: прогремелорудийными залпами Халхин-Гол, надвигалась морозным дыханием финская. Ох, нелегкими, какими нелегкими были крутые армейские ступени для самолюбивого, резкого Павла! Сперва красноармеец, потом сержант, потом старший сержант. Там, где другой перепрыгнул бы через две-три ступени благодаря своей общей подготовке, усердию, прилежанию, умению приловчиться, там Павел шел ощупью, с остановками, и не прямо, а в сторону. Уже в дни Великой Отечественной войны на Южном фронте он окончил курсы младших лейтенантов. Принял роту. Потом батальон. Майорское звание, давшееся ему с таким трудом, временами казалось Евдокимову незаслуженной наградой. Временами оно же тяготило его, ограничивало в поступках: разве звание определяет, чем живет человек? В чем он опытен и насколько умен? А главное, разве звание скажет, чего ждать от человека в грядущем, каких порывов, свершений и каких — сложных ли, глубоких или же мелких, ничтожных — движений души? Вырос Павел, набрался ума. Но много, очень много в сегодняшнем Евдокимове и сейчас оставалось от вчерашнего, с городской овражистой окраины парня. Вот он любит почему-то не самых послушных и вышколенных подчиненных, а самых отчаянных, непокорных, с «характером». Может быть, потому, что они — это он молодой? И не любит ползучих, расчетливых карьеристов: есть один тут такой. Но что делать?! Живи и работай и с теми и с другими. Ничего не попишешь. Нет такой молотилки, нет веялки, которая отвеивала бы подчиненных на твой собственный вкус.3
Евдокимов стоял на крыльце и смотрел, как ротные командиры строят бойцов, готовят их к маршу, как ездовые запрягают коней, укладывают в повозки мешки, свертки брезента — батальонное табельное и нетабельное, трофейное и просто украденное — что греха таить, бывает и так — боевое имущество. Как связисты, переговариваясь, быстро сматывают жилки проводов на катушки и с натугой, бранясь, волокут их по грязи. Как один из них обернулся на стук копыт, раздавшийся за воротами, и, метнув скользкий взгляд на комбата, чему-то насмешливо ухмыльнулся. Евдокимов еще не взглянул туда, в прямоугольный проем ворот, но уже побледнел. И сердце его, как бы став металлическим и зубчатым, на мгновение соскочило с зубца передачи. Старшина Омельчук возвращался домой той же парой, на которой уехал, — старая кобыла под седлом, Гвидон в поводу. Обе лошади в мыле. Неулыбчиво, но все-таки самодовольно старшина у крыльца размашисто, с форсом развернулся и спрыгнул с седла. Размял затекшие ноги. — Что? Не дал? — негромко спросил у него Евдокимов. Но Омельчук не спешил отвечать. Он отвязал от седла походную торбу и, взяв ее в руки, поднялся на крыльцо. — Как не дал! Дал… — А Гвидон? Почему же Гвидона не взял? Он просил… — Евдокимов с недоумением глядел в хитроватое, многодумное, в сетке морщин лицо старшины. Наконец тот слегка поднял брови. — А не взял. Гутарит, мол, пошутил. За друга готов я… Ну и дал — без Гвидона. Пущай, мол, майор не печалится, веселится. Во какой! Жук хороший! — Старшина поднял торбу и на вытянутой руке показал, что тяжелая. — Все как надоть. Чин чинарем! Евдокимов медленно, словно никуда не спешил, достал из кармана пачку папирос. Долго выискивал «казбечину», долго мял ее, долго прикуривал, втягивая в себя щеки и пыхтя: разжигал отсыревший табак. На Гвидона не глядел, словно утром, прощаясь, навек отрубил его от себя. — Ну ладно! Добро! — сказал он. И пошел назад в избу. Уже на пороге, оборачиваясь, приказал старшине: — Разыщи и отдай. Нам пора выходить!4
После завтрака, обойдя все роты и отдав необходимые распоряжения, Аня села на дышло еще не запряженной пароконной повозки и стала снимать с правой ноги сапог, чтобы вылить набравшуюся в него воду. Подошвы у этих сапог были как бумага. Она выкрутила портянку, вытряхнула воду из сапога и уже собралась было натянуть на ногу бесформенную, пропахшую кислым обувку, когда услышала возглас Омельчука: — Худякова? Быстро следуй за мной! Старшина шел впереди Ани с торбой, перетянутой веревкой, направляясь в конюшню с проваленной снарядом крышей. Здесь ночью стояли кобыла Омельчука и красавец Гвидон, а сейчас только влажно пахло дождем, сырой соломой да застарелым, перегнивающим навозом. В конюшне Омельчук втолкнул Аню в никем не занятое стойло. — Давай скидывай с себя старые хоботья, — сказал он, вытаскивая из торбы какие-то свертки. Аня скорбно и изумленно взглянула на него. Она ничего не поняла. — Да некогда мне! — закричал вдруг Омельчук. — Чего жмешься? Не съем я тебя! — Но, увидев, что новенькая не шелохнулась, только молча, устремленно глядит на него и на торбу, приказал как своей подчиненной: — Давай, девка, не задерживай. Говорю, я сейчас отвернусь! Омельчук бросил ей темно-синие диагоналевые брюки-галифе, суконную гимнастерку, кальсоны, рубашку. Потом вытащил из торбы маленькие ладные хромовые сапоги. Аня молча сжала ладонями свои пылающие щеки. За все годы войны у нее не было такого новенького, необношенного, такого прекрасного обмундирования — все «хабэ» да «бэу». А такого она и в глаза не видала. Почему-то ей вспомнилась одна сцена. Едет она на полуторке в штаб дивизии по узкой лесной дороге. И неведомо как их выследил и откуда свалился, налетел «мессершмитт». Вдруг как будто бы выскочил из-под земли и дал очередь по кабине, по кузову, по сидящим в нем людям. И летели они, кто остался в живых, на три стороны: кто налево, а кто направо, Аня даже с торца. Впопыхах она зацепилась юбкой за гвоздь и повисла на нем. Фашист же заходил опять — вторым, низким кругом… Потом шла Аня по деревне, зажимая руками разорванную сверху донизу юбку. А штабные девчонки — машинистки, писаря, телефонистки из роты связи насмешливо улыбались в дверях своих домов, только что пальцами на нее не показывали. Все в подогнанных кителях, в гимнастерках без единой морщиночки, в аккуратненьких юбочках… — Давай, девка, старую гимнастерку… Пригодится ишшо. И погоны. — Ой, спасибо… А я тут запуталась. — Ничего. Не спеши. Ты, девка, служила где? Или — прямо от мамочки — через штабы? — Служила. — Ну вот. Хорошо, что попала к нам. Как в дом родной… Аня, натягивая брюки, посмотрела на Омельчука исподлобья. — А Язько? Он тоже родня? Что-то больно спешит породниться! — Язько есть Язько… — сказал старшина. — У него, кажуть, жинка на двенадцать лет старше. Вот он и лютует. Аня села, полуодетая, на перевернутое ведро, помолчала. Потом все же поднялась и быстро и ловко — новенькое, прекрасно подогнанное обмундирование хорошо надевать — застегнулась, прикрепила медаль. На новенькие чистые портянки натянула новые сапоги — и встала на обе ноги крепко, твердо, вдруг почувствовав себя удивительно ладной, даже чем-то красивой: нигде ничего не тянуло, все как будто бы обнимало ее сильной, нежной рукой. Омельчук подал Ане ремень с портупеей, планшет, полевую сумку — не кирзовую, а из кожи — и приказал: — Бумажки-то из кармана в планшет али в сумку переложь! — Потом поглядел на нее и не выдержал, крякнул: — Ну и бабы-ы… Ну вы и наро-од! Это ж чистые хамелеоны! Дай им тряпку какую-никакую — и вот тебе не баба, а одно загляденье! Картинка, и только. Ей-пра… Ну, не жмет? — Нет. Везде хорошо! Спасибо, Омельчук! — сказала Аня, делая шаг вперед и оглядывая себя. Не считала, не помнила, но, наверное, первый раз на войне говорила «спасибо». Омельчук деланно отмахнулся: — А я-то при чем? Это надо спасибо сказать Евдокимову. Он коня собирался за полный комплект отдавать… — Как коня?! — Аня вдруг отступила. — Да вы что? Неужели Гвидона? — Гвидона… — Не может быть! — Мо-ожет! Все, дорогуша, может. Ездил я спозаранку к одному тут… хапуге. У него бабий полк фронтового подчинения. И портной из Москвы… Солдатиком служит. Ну вот этот типок и пообещал нашему командиру комплект для тебя. Но отдай, мол, Гвидона. Красавчика. Просто страшно, как жаждал… Ну а я, как прискакал, и почал его устыжать. Покраснел вроде божьей коровки. Наконец согласился, не взял вороного. Евдокимов-то тот чуть в омморок не упал, как увидел Гвидона… — Нет, вы что-то путаете, Омельчук. Что у вас происходит? Для чего я понадобилась Евдокимову в новых одежках? Да плевала я на ваши тряпки проклятые! Они мне по штату положены. А-нет — и не надо! И без них проживу. А то, глядишь, и меня променяете на собаку… На паршивого поросенка… Старшина снял фуражку, почесал черным пальцем в затылке растерянно, изумленно. Поднял руку, пытаясь остановить разгневанную Аню, но только головой покачал: — О господи, прости душу грешную! Да одумайся, что говоришь, дурная?! Что несешь-то? Ну ракета, и только. Взвилась — и трещит, и все пырх, пырх! Да ты что, очумела? Он к тебе как отец… Аня молча расстегивала ремень, снимала с себя портупею, начала уже стягивать гимнастерку. — Ничего мне не надо, — сказала она. — Отдай мне мое старое. Вон сапог, среди лужи… — Да бог с ним, с твоим сапогом! Не отдам ничего! Я тебе говорю: успокойся. Батальон-то выходит… Снимать да опять надевать! У меня что, других делов нету? — Ладно, нечего тут указывать! — сказала Аня. И долго стояла раздумывая. Потом застегнулась на все пуговки, опять затянула ремень. Действительно, прав Омельчук, сколько времени на переодевание ушло, теперь все ее ждут. Хуже нет, как опаздывать в строй. Она поправила на плечах портупею и пошла по соломе пружинящим шагом. Ане хотелось идти, как обычно, вразвалку, чуть сгорбясь, но новая гимнастерка сама выпрямляла ее, заставляя держаться свечой. Сапоги словно сами летели. Идя через двор, Аня обратила внимание: все солдаты невольно остановились, провожая ее глазами. Как будто бы в ней что откуда взялось. Как будто бы что-то внутри ее заиграло, задвигалось, оживляясь и распрямляясь, как, бывает, упруго, напористо распрямляется примятая тяжелыми сапогами трава. С независимым, гордым видом вошла в избу, сняла с крючка свою шинель, взяла вещмешок. Евдокимов, стоявший к ней спиной, при этом не повернулся и, даже не поглядев на Аню, спросил у Язько: — Ну что? Теперь все в сборе? Давай выходи. Военфельдшер сегодня у нас на подводе… «Не нужно мне вашей подводы, — подумала Аня. — Я иду с третьей ротой». Но вслух ничего не сказала. И вышла молчком.Глава третья
1
Было время, Четвериков любил осени куда больше, чем зимы, хотя зимой в деревне значительно меньше полевых работ — разве только съездить к ометам за соломой на подстилку скоту да за сеном, да поближе к весне вывезти навоз на поля, перевеять зерно, протравить его, «охолонуть» на морозце к посевам. А так вьюга метет да метет. Дрова наготовлены, картошки в подполе много, там же в кадушках огурцы, квашеная капуста, моченые яблоки. И грибов соленых вдосталь, особенно груздей. Нет, зимой хорошо. Но ядреные поздние осени были дороже. Что-то живило кровь в Четверикове, когда он видел побуревшие пажити в белых искорках инея или когда обрывал сапогами паутинистые тенета на конском щавеле, все в пылающих капельках влаги на утреннем солнце. Любил запах картофельной ботвы на огороде и эти выворачивающиеся из-под плуга пласты земли с тяжелыми, как каменюки, клубнями, висящими гроздьями на белеющих корешках. Любил утренние дымы над селом, уходящие извилистыми верхами в упругие, низкие тучи и как бы сливающиеся с ними воедино. А на грязной, промокшей дороге любил отыскивать взглядом ярко-синий невянущий венчик цикория, чуть припахивающий медком, или желтый — кульбабы… Тогда в его сердце словно вспыхивал раздуваемый кем-то живой уголек, жег горячим, невысказанным, удивительным чувством любви к этой паханной-перепаханной, и скороженной, и боронованной сероватой землице, не очень-то ласковой и не очень-то плодородной, но привычной, красивой и широкой, и мощной в своем существе — от нее-то Четвериков, наверное, и унаследовал свою силу; в такие минуты он полнился чувством любви и к жене Степаниде, к детям, и ко всякому деревенскому скоту и зверью, без которого его жизнь была бы во много раз однотонней, бедней. Любил Федор Степанович в поле каждую борозду, каждый злак и каждую дикую, неухоженную былинку и жалел только лишь об одном — вот состарится, и умрет, и больше никогда-никогда уже не увидит этого, дорогого ему. Не себя, нет, не своей жизни было ему жалко. Жаль было, что больше не увидит он… Другие, может быть! А он уже никогда… Оттого он ревниво приглядывался к молодым деревенским парням, а сегодня к солдатам. К тому, кто останется жив и к кому перейдут в хозяйские руки его родное село, поля за околицей, дикий Зубринский лес, Лёнин луг и кульбаба, цветущая поздней осенью на обочине; собаки, лошади, даже эта луна, пробивающаяся сквозь тучи, окутанная метельной кисеей, а летом плывущая над полями, над цветущими ветками яблонь. Им останется и могила Четверикова. Их воля — сохранить ее или запахать. Их воля — раскатать на трухлявые бревна его избу, срыть сады и колодцы в его деревне. Но зачем? Для чего? Что насадят они на этой земле, какие растения, что посеют в его борозде? С особенной придирчивостью Четвериков приглядывался к солдатам из городских: что они умеют делать и что знают о жизни народа? За что любят землю — и любят ли ее с такой силой, как он?.. Пока дивизия совершала свой сложный маневр по рокадным дорогам, пока поворачивала на восток, а потом снова двигалась в сторону запада, он глядел на порушенные белорусские деревни и покряхтывал, даже постанывал от натуги, держа в себе горько-соленые слезы: боялся — увидят товарищи, засмеют. Шел в колонне войск заброшенными проселками, некопаными огородами, несжатыми нивами, проходил через сады в глубоких окопах и яминах для укрытия то ли орудий, а то ли машин. Видел брошенное имущество, воронки от бомб, дегтярные пятна пожарищ, покосившиеся ветряные мельницы без крыльев, церкви без куполов — и все виденное и услышанное постепенно накапливалось в его душе почти такой же дегтярной, с неприятным запахом гари, неистребимой болью, ложащейся в грудь слоями: еще одна смерть — еще один слой, еще один брошенный хутор — и к сердцу подваливает еще одним слоем тоска, словно черное море… Не то Черное море, что ласкает и омывает тела отдыхающих, а черное море народного горя, вдовьих слез, материнских, сиротских и слез самых страшных, не привлекающих внимания, не интересных тому, кто молод и кто здоров, — одинокой, никем не привеченной старости. С этой мыслью — ревнивого и взыскательного отбора — он присматривался и к Ане и думал: «Не-е… Мало надежи… Слишком нервенная. Кишка на такую работу тонка. А ее… чтобы землю-то обихаживать, нужны крепкие нервы!» Они полдня шли с Аней рядом — и оба молчали. Потом на привале в лесу вместе сели обедать. Четвериков сперва истово разделил для всего своего отделения хлеб: как самый честный и точный делильщик. Потом отцепил от ремня котелок, начищенный песком добела, и пошел к ротной кухне, дымившейся под разлапистой елью, принес овсяную похлебку на себя и на Аню. С вниманием доброго, старого человека смотрел, как девушка моет руки в лесной колее, наполненной отстоявшейся влагой, как вытирает их марлевой салфеткой. Как черпает складной алюминиевой ложкой из котелка осторожно, выбирая похлебку пожиже, почтительно оставляя солдату на дне все то, что погуще. В одном этом движении, в уважительной мягкости, с какой Аня отламывала от общей горбушки хлеб ему и себе, Четверикову виделось что-то родное, приятное в ней: в самом деле как дочь. Но молчание Ани было замкнутым, даже угрюмым, а этого Федор не одобрял. — Опять «иго-го», — заметил Четвериков, пододвигая котелок к Ане поближе вместе с саперной лопаткой, положенной в качестве подставки прямо на землю. — Королевская пища, Федор Степанович, — откликнулась Аня. — Как так? — А так. Говорят, на завтрак английскому королю дают жиденькую овсяную кашу, яйцо всмятку, яблоко, ломтик сыра и кофе. — Ну, значится, главное у нас есть. А яйца там, яблоки, это дело пустое, — сказал старый солдат, усмехаясь. — А я-то все думал, чего это третий день нас Ефимыч, охломон, королевской-то пищей три раза в день кормит? Не иначе как в английские короли весь наш батальон записал… — У Гвидона, наверное, отнял. Решил, что Гвидону в батальоне не жить, вот и взял из кормушки… Они посмеялись. — А ты, Аня, — сказал, вдруг посерьезнев, Четвериков, подвигая к ней хлеб, — Евдокимову-то с маху ничего озорного не бахнула? — Нет. А что?.. — Да так… Показалось. Ровно черная кошка между, вами пробегла. — Не кошка, котеночек… — ответила Аня. — И чего? — Да нет, все в порядке, Степанович. — Аня посидела после сытной не то королевской, не то лошадиной еды, откинувшись спиной к дереву. Потом поднялась рывком. Оправила на себе шинель. Теперь, когда на ней все было как влитое, с иголочки, ей хотелось уже если не двигаться, не ходить, то, по крайней мере, хотя бы стоять у всех на виду. Странное дело эти хамелеонские тряпки! Старшина оказался действительно прав. Ничего же за последние дни в батальоне отрадного не произошло, даже солнце не выглянуло, опять сеется меленький дождик. И дивизия идет не на отдых, а на фронт, на более трудный участок, с ходу ввяжется в бой. А в душе все же радость, какое-то праздничное обновление. Может быть, оттого, что Аня хорошего — нового — никогда за всю жизнь не носила? То за матерью донашивала, перешитое, перелицованное. То за мачехой. А уехала в город, стала учиться — и вовсе. На стипендию не разгуляешься. Девчонки, бывало, собираются вечером на гулянку, а чулок нет. Красным стрептоцидом рисовали чулки на голой ноге… Всему Аня в довоенной голодной своей жизни научилась. Только вот вежливой быть не научилась. Поэтому и для Евдокимова нужных слов благодарности не нашла. Ничего не сказала, не сделала, чтобы их отношения хоть немного уладились. Федор прав: котеночек-то пробежал между ними ростом чуть ли не с тигра. Вымыв котелок и ложки и отдав их Четверикову, Аня тихо побрела между берез к густому красивому лесу. Лес был мощный, высокий, и Ане, степнячке, в нем все показалось в новинку: и кусты бересклета с гранеными розовеющими сережками. И резные листочки калины, зубчатые, еще сочные, золотые. И корявая серая бузина в черных бусинках ягод. Открывшиеся за стеною берез поляны, с отдельными елями и осинами, были все в побуревшей опавшей листве. Но под листьями, тут и там, шаловливо выглядывала очень сочная, ярко-зеленая молодая листва кустов толокнянки, брусники, гонобобеля. В брусничнике было много переспевших, уже водянистых необобранных ягод. Аня шла, наклоняясь, собирала в ладонь еще не успевшие перезреть, налитые жарким, солнечным светом пунцовые ягоды, они брызгали с ветки, как кровь под ножом у хирурга, длинной нитью: одна бусина покрупнее, другая поменьше, третья совсем маленькая, точечная. Ягод было так много, что ей вскоре пришлось вынуть из кармана вчерашнюю дивизионку и скрутить в кулек, оглядеться. И тут снизка ягод, и тут. И все алые, крупные, сочные. Незаметно для себя она втянулась в спокойное, рассудительное это движение: наклониться, сперва взять в руки тоненькую кисточку, обтянуть ее всю в бумажный кулек, от самой большой, налитой, сидящей вверху, до самой маленькой, иногда еще зеленобокой. Сделать шаг еще дальше. И снова сорвать. А там, в глубине, остановиться на миг и вдохнуть в себя этот воздух, похожий на сок брусники, такой оживляющий, бражный, немного горчащий — он ее успокоит… Он снимет с души невидимую тяжесть, мешающую Ане быть самою собой. Он излечит, как лечит людей не лекарство, а только любовь. Ане даже захотелось запеть. И она потихоньку запела. Песня была знакома ей с детства: от матери. В их степной глухомани такие песни обычно пели над колыбелями, на вечеринках, на свадьбах; пели, когда провожали казаков в поход, на войну. Пели, как будто не знали, что очень многое в жизни повторяется, и хорошее и плохое; плохое, пожалуй, повторяется чаще… Огибая кусты бересклета с розовыми сережками на концах гнутых веток, пересекая осинники, где грибов, наверное, не оберешься, стоит только наклониться, Аня незаметно для себя дала голосу силу, как, бывало, в степи, где, кроме ветра да сусликов, тебя слушать некому.Засвистали в поле казаченьки
В поход с полуночи —
Заплакала наша Марусенька
Свои ясны очи…
Ты не плачь, не плачь, наша подружка, —
Мы возьмем тебя с собою,
Мы возьмем тебя с собою,
Ох, да только не женою…
Ох, да только не женою…
Эх, да только не женою
Назовем тебя, наша подружка,
А родной сестрою…
2
Когда батальон всем своим длинным неповоротливым телом наконец-то вытянулся на шоссе, в окружающей его природе, в небе и на земле что-то незаметное для глаза переменилось. Студенистый от влаги, стоялый воздух неслышно потек из низин на пригорки. Словно какая-то сила, не ветер, нет, а что-то иное, еще более легкое, невесомое, совершенно не ощутимое кожей лица, чуть подвинуло и теперь слегка осторожно качнуло эту серую толщу. А потом потянуло и ветерком. Облака поднялись чуть повыше, и хотя и не расточились по небу, но стали местами истаивать, делаться пятнистыми: одни посветлей, другие потемней. И Аня довольно прибавила шагу. Это была ее погода. Не душная, не сырая, а движущаяся, «аэродемоническая», как сказал сейчас в шутку Язько, оглядев при этом их обоих с Евдокимовым зорким взглядом: где были, что делали, о чем говорили? Такая погода вызывала в душе у Ани ощущение собственной силы, чего-то мятежного. Как с детства привыкла она видеть над степью и любить гряду низко мчащихся туч, как привыкла к холодной переменчивой окраске осеннего неба — то клочок синевы, то размытая, словно разбавленная молоком кобылицы, туманная голубизна, а то темное, черное, словно глухое, — так любила их и теперь, на войне. И сейчас они снова вызвали в Ане жажду двигаться, действовать, петь, смеяться, рассказывать о себе, о любимых своих лебединых озерах в казахстанской степи — когда-нибудь надо же высказаться и о себе тоже, и о лебедях. И о том, как пахнет полынь под ногами коня. Как летит поздней осенью отломившееся от корней сухое и жесткое перекати-поле… То и дело поддергивая сползающую на живот тяжелую санитарную сумку, Аня думала о том, что хорошо бы на следующий ночлег остановиться не в деревне, где роты набиваются в уцелевшие избы скученно и где все равно, несмотря на ужасную скученность — все у всех на глазах, — человек остается каждый сам по себе, по отдельности, разъединенно, а в лесу, у костра. Чтобы комбат сел поближе к огню, рядом с Аней, протянул бы озябшие руки к пламени, греясь, и они испекли бы в углях нарытую в поле и намытую Аней картошку и ели бы ее не спеша, разламывая и похрустывая сладчайшей пригарочкой, присаливая сверху рассыпчатые белые разломы крупнозернистой крестьянской серой солью, отчего пригоревшая, обуглившаяся картошка становилась бы еще слаще. Потом до рассвета они сидели бы возле теплых малиновых углей, пели песни, разговаривали бы о войне, о жизни. Язько бы дрыхнул на повозке «часок с другой» под тяжестью наваленных сверху шинелей и ватников, а они бы сидели… И где-нибудь на рассвете она рассказала бы Евдокимову о своем одиночестве. И об Игоре — его в марте забросили к немцам в тыл, и он словно загинул навек, ни словечка, ни звука. А может быть, рассказала бы она и о ранении в живот, и о том, что у нее уже никогда-никогда не будет детей… Нет, об этом она никому никогда не расскажет. Даже Федору Четверикову. Да уж Федору-то в первую очередь нельзя говорить. Рассказала бы, как перед вылетом Игорь ей говорил улыбаясь: «Ходи, Аня, козырем… Пускай все остальные карты будут битые, а ты будь тузовой!» Тогда она посмеялась в ответ, заметив, что без полной колоды, с шестерками и семерками, с двойками, с тройками, нет ни козырей, ни тузов, ничего они тогда не значат. Но сейчас ее вдруг почему-то укололо то давнее воспоминание. Для чего он ей это сказал? Что задумал? И кто это знает вообще, с какой карты нужно ходить?.. Игорь — это тоже камень на сердце. И все-таки все равно она любит мир, в котором ей пока еще так несладко живется и в котором она до войны, по сути, еще ничего не изведала, не узнала, кроме голой степи. Мир, в котором родные ее мать и отец, поглощенные своей темной, безрассудной любовью и своим неприятием друг друга, забывали о дочери. Да, ей все и всегда доставалось с трудом: и деньги с трудом, и здоровье, и счастье. И даже друзья. Материнское благословение к ней и то пришло слишком поздно, когда Аня всему уже научилась от посторонних людей: и как жить… и кого любить, и кого ненавидеть. И как защищать себя — не колючками, как гледичия или лох. А когда и колючками! Аня шла с ожиданием позабытой единственной радости — эх и спляшет она сегодня, и споет у костра, по-цыгански! Табор долго стоял у них на проулке, и маленькая Анюта всему научилась, знала и казачьи песни, строевые и походные, и песни соседей-казахов, заунывные, как протяжное завывание ветра, и вот эти, лихие, горячие, как огонь, обжигающие душу. Пусть послушает Евдокимов! Чем ближе подходил батальон к линии фронта, тем добрей и надежней казался ей этот грузный, тяжелый, с рыжеватыми бакенбардами человек. Незаметно для постороннего глаза он вроде бы подтянулся, даже несколько помолодел. И все в батальоне вокруг него подтянулись, оживились, помолодели, задвигались и заговорили быстрей. У бойцов стал тверже шаг — дорога подмерзла, схватилась где черной, торфянистой, а где глинистой корочкой. По ней стало легче идти. Подтянулся обвисший всем телом небритый Язько, зло, пронзительно заиграл большими в коричневых прожилках глазами. Когда оказался в одном ряду с Аней, прищурясь, сказал, чтобы никто, кроме нее, не услышал: «А ты, девка, не умничай! Умнее тебя в тюрьме сидят!» Однако Аня открыто взглянула ему в глаза и горько, насмешливо рассмеялась. Проехал в голову колонны на Гвидоне морщинистый, загорелый, в надвинутой на самые брови пилотке и внимательный ко всему Омельчук. О чем-то заспорил с Суворовым высокий, костистый Труфанов, стал доказывать, рубя воздух ладонью. Колонна втянулась в небольшой городок. Он лежал, как деревня, разбросанно, широко среди темных осенних полей и бурых лесов, охраняя порядками одноэтажных домиков с огородами перекрестье шоссе. Шоссейные дороги шли из центра этого не то деревенского города, не то городской деревни на север и на юг, на запад и на восток и, наверное, с воздуха виделись четким черным крестом; когда-то тихие, мощенные где булыжником, а где разномастным асфальтом, сейчас они были изуродованы, искорежены сотнями гусениц, издолблены бомбами и снарядами. Проходила по городку и железная дорога: на окраине был вокзал, оттуда до шагавшей в строю пехоты долетали сипение пара, гудки паровозов, перебряк буферов, и каждому из проходящих невольно думалось о судьбе здесь живущих людей. Слишком много воронок возле темных от непогоды домов, слишком битый асфальт и булыжник, слишком тихим и вкрадчивым, переливчатым было звучание тоскующего паровозного гудка, для того чтобы люди в этом городе чувствовали себя в относительной безопасности. Солнце вызрело по-за тучами и вдруг выкатилось, словно яблоко из листвы, в золотом ореоле: к морозу. Воздух сразу заметно подсох, посвежел и как будто запахнул фиалкой. На морщинистых лужицах в первом ледке пробрызнули и запрыгали зайчики. И чем дальше шагали бойцы Евдокимова, тем все чище и голубей просветлялся над ними купол неба, тревожащий и своей голубизной, и этой подвижностью, обещающей вскоре полную, абсолютную ясность. И вдруг в воздухе прозвучал деревянный, прерывистый стук. В чистом вымерзшем небе, в его западном секторе, искристо взблеснули разрывы зенитных снарядов. И белыми шапками, сперва чуть вспухая, потом все больше и больше увеличиваясь в размерах, поплыли клубастые, разрозненные дымы. И сердце Ани забилось, в свою очередь, деревянно, прерывисто. Задрав голову, она посмотрела на запад, пытаясь разглядеть силуэты бомбардировщиков. Но увидела их не там, где только что били зенитки, а значительно северней и значительно выше. Восходящей спиралью они не спеша словно ввинчивались в мерзлый воздух. И сухой, обезвоженный стужей зенит отчаянно резонировал звуку их моторов. Вот самолеты равнодушным, непотревоженным строем миновали зону обстрела и, невинно поблескивая боками, разомкнулись по небу. Городок словно затих ожидая. И люди, шагавшие по дороге, тоже нервно затихли, задрав кверху головы. А «юнкерсы», будто шедшие мимо, повернули и резко пошли на центральную часть городка с перекрестьем шоссе. Еще издали — было видно с земли — сыпанули из люков чуть покачивающиеся на ветру незнакомого вида цилиндрические баллоны. Нет, не бомбы, баллоны — Аня видела ясно: они падали и крутились в воздухе, не направляемые в полете хвостовым стабилизатором. Командир батальона как раз стоял в самом центре шоссе. Он с большим интересом смотрел, на эти покачивающиеся цилиндрические предметы, нечто вроде контейнеров. А они словно нехотя раскрывались над ним, уже сыпали, как горох, то ли мины, а то ли гранаты. И майор совершил непонятное. Крикнул: «Во-о-озду-ух!», но, видимо, разглядев, что летящие радиально осколки гранат поражают и в воздухе и на земле с одинаковой силой, сам не бросился на подмерзшую грязь, не упал, а остался стоять как стоял. Как будто хотел досмотреть, изучая, отчего это вслед за губительным грузом с таким визгом и воем планируют и похожие на корыта половинки контейнеров. Аня бросилась к Евдокимову толкнуть его в спину, заставить упасть. Наконец, заслонить его своим телом. Но майор уже сам, оседая, подгибал ослабевшие ноги, уже судорожно двигал пальцами, чтобы за что-нибудь ухватиться. Планшет и пилотка его отлетели, а он выгибался спиной, пытаясь вздохнуть, и красная пена, вскипев на губах, уже иссякала, сходила на нет. Рядом билась, ломая оглобли, упавшая лошадь. Кто-то плакал, кричал. А гранаты летели и рвались, разбросанные навалом, неприцельно, по площади.3
Как медленно идет время! Еще ночь. Сырая, черная, с серым размотанным полотном влажных крупнозернистых снегов, тускло светящихся под облаками. Везде темнота, она лишь изредка перерезается наискось разноцветными трассами автоматных очередей и трепетным колыханием ракет. Тяжелые батареи придвинуты к фронту вплотную, стали в ряд с полковыми и дивизионными пушками. Тут и там в зыбкой черноте перед рассветом различаешь громоздкие силуэты калибров прорыва: тупорылые или с длинным стволом. Боевые расчеты возле них еще суетятся. Все готово к назначенному часу, но тут надо поправить, а там довернуть. Кто-то еще тянет провод, не успел сделать вовремя. Кто-то, закончив подтаскивать снаряды, отдувается утомленно и плюхается прямо в ровик, на охапку соломы. Однако, несмотря на суету, на работающие расчеты, все вокруг тихо. И у нас и у немцев. И тишина эта тревожна, густо, вяжуще томительна в своей глубине, в никому не подвластных ее слоях, куда не проникают ни тихая, вполголоса, матерщина командиров огневых взводов, ни шуршание газетной бумаги при сворачивании самокрутки, ни тяжелое, натужное шлепанье солдатских сапог по насыщенному водой бугристому снегу. Справа, в густой темноте, чуть угадывается близость большого города, промышленного центра. Бой пойдет почти рядом с ним, по полям, по окраинам, через реку за предмостные укрепления, за траншеи на том берегу. Но вот все вокругсловно замерло. Медленно, как звезда, поднялась и застыла в зените красная сигнальная ракета, покачалась, словно медуза на тихой волне. И земля как будто бы передернула плечами. Как будто бы испугалась, шарахнулась в сторону. Лишь бы только не видеть того, что сейчас в рукопашной увидит солдат… Пушки бьют — залп за залпом. Стволы их откатываются после выстрелов, истекая дымами. В этих белесых клочковатых дымах солдаты стояли сперва по пояс, потом стали видны только их головы в шапках-ушанках. Клочья дыма расплылись, превратились в длинные волокнистые пряди, словно кто-то их растянул специально. Гул и грохот в воздухе сконцентрировались так, что всем находящимся рядом нужно стоять с раскрытыми ртами — иначе лопнут барабанные перепонки в ушах. Аня Худякова тоже стояла возле батарей, глядела. По неопытности она не раскрыла рта. Ей казалось: ад вот здесь, на огневых. А что происходит там, где разрываются эти снаряды, представить себе она не могла. Впрочем, кое о чем она уже давно догадывалась. Ее дивизия сейчас просочилась через боевые порядки артиллерии, через тылы полков, державших здесь оборону, и вышла непосредственно на передний край, в гущу кустарников: ей первой делать рывок на ту сторону. И Аня опять шла со своим батальоном, тащила тяжелую медицинскую сумку. Но время от времени останавливалась. Ей здесь все было внове. — Бедное мое сердынько, — сказал ей Язько, обгоняя идущих цепочкой солдат батальона. — Чего стала, Худякова? Отлыниваешь?.. Ты у меня смотри!.. Но Аня не ответила ему ничего. По замечанию Четверикова, новому комбату нужны были не праведники, а угодники. Сам факт, что Язько был назначен на место погибшего Евдокимова, конечно, еще не значил ничего. Еще не было боя, в котором Язько проявил бы себя как командир. Еще не было у них с Аней ни одной значительной стычки по делу или какого-нибудь серьезного разговора, обозначившего расхождение во взглядах. Все касалось только лишь мелочей, пустяков, которые можно было и должно перемолчать. И Аня молчала. Однако неприятие всего того, что делал Язько и что он говорил, аккумулировалось в ее душе непрестанно, независимо от событий, созревая в душе незаметно, подспудно. И она не пошла с ним рядом, а осталась стоять. Только потом, когда он уже скрылся за кустарниками, она бросилась следом. Недоеной, одичавшей коровой ревели эрэсы. От тяжелых, летевших за линию фронта головастых «андрюш» воздух рвался гремучими волнами, оставляя после себя бьющий в грудь, по дыханию, вакуум. Аня очень боялась фронта, пока приближалась к нему. Теперь же, когда подошла к нему вплотную, страх ее словно растаял, исчез, осталось одно любопытство. Хотелось глядеть и туда и сюда и все видеть и знать: как сейчас пройдут вперед разведчики и саперы, чтобы разминировать в нашей линии обороны проходы, как притихли, затаились враги у прицелов орудий, у пулеметов, как медлит Володя Суворов, пересчитывая бойцов: они живы-здоровы, пока он считает. А как скажет: «Вперед», так многие встанут — и тотчас же упадут на снегу и останутся лежать неподвижно, как остаются валки пшеницы на жнивье за стрекочущей жаткой. Санинструкторы у нее были все пожилые, однако обстрелянные, умелые люди, и она пожелала им каждому: «Ну, ни пуха…» — «Иди к черту, Ивановна!» — «Да уж, что ж, ради вас так хоть к черту!» И, забросив санитарную сумку за спину, глядела им вслед из воронки, превращенной в медпункт и укрытой еловыми лапами, как бежали они по полю среди наступающих, виляя задами, как шарахались от поднимавшихся кверху столбов разрывов, как падали, поднимались и снова бежали… Потом, на фоне пятнистого снега, изрытого сотнями выбросов мерзлой земли, она потеряла их всех из виду: наверное, падали в снег опять и опять, наклонялись над ранеными, перевязывали. К ней в воронку к тому времени уже наползло человек пять-шесть сильно раненных, среди них сам Суворов с оторванной до плеча правой рукой — и она наклонилась над ним, начала перевязывать, не заметив, что он валится ей головой в колени, закатывает глаза… Аня так и не увидела, что случилось, отчего поползли солдаты назад, как успели зарыться в окопчиках и траншеях, прикрытых кустарником, запаленно дыша, словно лошади, все в копоти, в грязи, в ошметьях разорванной кожи на ладонях, в крови… Теперь били пушки не наши, а немецкие. Длинным, режущим свистом захлестывали они равнину и с тяжелым гаханьем всаживали пневматической силой заряда опять и опять злобный, рвущийся, смертный металл в развороченную землю, в блиндажи командиров, в штабы, в перекрестье дорог, в железнодорожную насыпь, за которую зацепились одиночки, в воронки, в которых лежат, коченея, отрезанные от своих пораненные и убитые… Ни на день, ни на час не была снисходительной и удобной для солдата война.4
И вот их окопы теперь — в ста шагах от могил. После жестокого боя солдаты опять возвратились к тем же самым высотам, по которым когда-то провезли они на повозке тело Евдокимова. Рядом с могилой комбата нынче выросло еще много холмиков. Здесь, в глинистой мерзлой земле, лежит Федор Степанович Четвериков, подорвавшийся на мине возле штаба. Рядом с ним — Володя Суворов. Чуть подальше — заместитель командира батальона по политической части майор Труфанов, убитый в бою. И несколько солдат: связисты, саперы, разведчики, пехотинцы — только те, кого сумели вытащить с поля боя. Штаб батальона размещается в землянке, под защитой обрывистой стенки оврага. Сбоку вырыты узкие длинные отнорки и норы одна неуклюжей другой — это так называемые землянки солдат. Дверей в этих норах нет, вместо них навешаны плащ-палатки, попоны. В норах тесно, темно, а главное — сыро, холодно. Топить печку нельзя: немцы бьют по дымам, по движению, по стуку топора. Аня после обеда забрела на минутку в штаб и вот уже целый час сидит за грубо сколоченным одноногим столом, врытым в землю, и при свете коптилки читает письмо:«Дорогая Еня! Дорогие мои дьяволята! Пишу и пишу вам каждый день, по письму, а от вас ничего не получаю. Что случилось? Скучаю по вас несказанно. Чертовски хочется опять увидеть вас всех, обнять и расцеловать. Хочется хоть часок побыть вместе с вами, посмотреть на родные ваши рожицы и всласть подурачиться, хоть на миг забыть наши тяготы. Как вы там поживаете, дорогие? Цел ли бабушкин дом? Не вырублен ли сад? Где вы берете продукты, дрова, воду? На днях встретил солдата, который проезжал через наш родной город; говорит: все порушено. И я уже пожалел, что вы решили возвратиться туда. Почему от вас так долго нет писем? Пишите мне обо всем, даже о мелочах, о хорошем и о плохом, чтобы я имел полное представление о вашей жизни. Еня, милая, обязательно сообщи, получила ли ты аттестат и деньги, которые я перевел. Как здоровье маленького Ивана? Все ли у вас в порядке? Крепко, крепко целую вас всех! Желаю счастья!Аня еще раз и еще перечитывает письмо, сложенное солдатским треугольником, измятое, с лиловым клеймом военной цензуры и с адресом, надписанным рукой Евдокимова, кем-то перечеркнутым жирным химическим карандашом. На треугольничке сверху наклейка: «По указанному адресу не проживают». Перед ней на столе в свете коптилки, кроме того, лежит планшет Евдокимова, его полевая офицерская сумка, пилотка, ордена и медали. Все это она только что разобрала, уложила, привела в порядок. Письмо же, возвращенное командиру батальона по указанному внизу номеру полевой почты, только сейчас принес в штаб почтальон, и Аня не выдержала, прочитала его. Теперь она сидит, сложив на коленях руки, чуть сгорбившись, и думает, думает о Евдокимове. Вот кто был истинный, настоящий солдат! Не убийца, по пристрастию возлюбивший войну, а мужчина, защитник, в котором росли, развивались столь великие силы жизни и чувства, что казалось, им нет и не будет конца. Не боялся ни в мирное время, ни в бою испытаний — и в конечном итоге все выдержал бы и во всем превзошел бы остальных, оказался бы самым лучшим, единственным, первым, не лети на него из прозрачного неба дурацкий контейнер, раскрывающий в воздухе две половинки, как два детских корыта. Впрочем, майор Евдокимов, наверное, и здесь оказался единственным, первым: как стоял, так и остался стоять. И смотрел, изучая незнакомую ему технику смерти. Теперь ничего не вернешь. Ни той бомбежки, ни этого неудачного наступления. И кто может сказать? Был бы жив Евдокимов, может быть, и тот бой, в котором его заменил так долго ожидавший своих прав и обязанностей капитан Язько, был бы выигран?.. Ведь майор рисовал же Ане в лесу, на траве, какие-то линии, черточки, стрелы. Уж, наверное, им был продуман и свой собственный план, как ударить. А Язько не ударил… Больно думать об этом. А больнее всего — вот это измятое, возвратившееся письмо. Выходит, Евдокимов знал, что с его семьей случилась беда, — и молчал, носил свое горе в себе. Не как Аня, которая замкнулась только лишь для того, чтобы выместить все на людях. И заботился обо всех, в том числе и об Ане. А жены его уже не было в живых. И детишек, его «дьяволят», тоже, видимо, не было. Все теряешь, теряешь, устала терять. За годы войны Аня достаточно много теряла. Сперва она теряла отдельные населенные пункты, леса, и луга, колхозные пастбища. Потом города с их фабриками и заводами. Потом стала терять уже целые республики: Прибалтику, Белоруссию, Украину, Молдавию. Теряла друзей. Теряла и собственных своих непосредственных командиров и своих подчиненных. Теряла совершенно незнакомых людей, о которых иной раз подолгу раздумывала бессонными ночами, а этих людей были целые миллионы. И с каждым из них исчезала какая-то часть ее личного счастья. Ощущение радости жизни. Возможность легко, безмятежно любить. Веселиться. Надеяться… Когда хоронили комбата, Аня хмуро смотрела, как сыплются комья на грудь Евдокимова, на его сложенные на груди большие, тяжелые руки, на неплотно прикрытые, как у слепого, глаза. Казалось, вместе с Евдокимовым бойцы хоронили и какую-то тайну — тайну будущих предстоящих боев и чего-то огромного в ее собственной жизни, еще неизвестного ей. Поэтому Аня не выдержала, отвернулась, стала думать совсем о другом. Например, о том, почему у солдат комендантского взвода такие лиловые темные лица. И еще: почему старшина незаметно косится на плачущего, однако надутого и ставшего вдруг недоступным Язько? Комья сыпались вниз, в могилу, с какой-то пронзительной будничностью. Как будто бы ничего не случилось. Так и надо: погиб. Но Аня знала: случилось, случилось. Однако лопаты, соскребывавшие с боков могилы остатки земли, постукивали деловито и сухо. Иногда они лязгали, соприкасаясь. Деловито стояли солдаты с винтовками, чтобы дать над могилой прощальный залп. И небритый, распухший, с задерганным носом Язько тоже вдруг деловито стал заглядывать в заготовленную бумажку с короткими датами жизни и смерти своего командира, от которого ему столько влетало. Все это показалось Ане нестерпимым. В синем вечернем небе, над лесом, на большой высоте опять разворачивались немецкие самолеты. Они шли, как ходят по отмели бессмысленные пескарики, играя, посверкивая боками, вроде бы безобидные на вид, даже чуточку неуклюжие, но готовые снова и снова сыпануть на стоящих железный горох, стегануть их по задницам… Сухо грянули выстрелы. Позади, вдалеке, сухо ныл паровоз и пускал клубы пара, обнаруживая стоящий в лесистой ложбине разгружающийся железнодорожный состав и тем самым демаскируя и его и себя вместе с ним непростительным образом. Сухо ныло и сердце у Ани. Она знала, догадывалась, как жестоко и больно и как многократно отзовется все это потом в воспоминаниях: на всю жизнь. И возглас Язько: «Прощай, друг!» — с фальшивым, прерывистым придыханием, и морозная эта земля, придавившая грудь Евдокимова, и собственная, показавшаяся ей бесчувственностью обостренная наблюдательность, сухость в горле, в глазах. Лишь один Четвериков, стоявший за ней, опершись на лопату, глядел на свежую землю могилы с таким выражением горя на почерневшем лице, так мрачно, так сразу осунувшись, что хотелось прижаться к нему и забиться, заплакать — не над телом комбата, а над жизнью живых…Ваш Павел».
5
Зима встала мокрая, влажная, снеговая, в сугробах по пояс. После оттепелей и холодных дождей в землянках батальона подпочвенная вода набиралась почти вровень с нарами, так что ее приходилось вычерпывать ведрами. И Аня простуживалась, болела фурункулами. От тяжелой работы, а может быть, от отсутствия витаминов у нее стала мокнуть, побаливать рана внизу живота. Надутые инфильтратом края раны, как будто присобранные на невидимую нитку, среди ночи, особенно ближе к рассвету, словно кто-то настойчиво, очень властно подергивал. Тогда Аня просыпалась и стискивала зубы, стесняясь стонать, ощущая всем телом эту узкую, но такую глубокую и такую тягучую боль. Уставши лежать, упираясь руками, ползком она выбиралась из ряда спящих на нарах солдат и усаживалась на обрубке бревна у маленькой гофрированной печки, дрожа от озноба, открывала холодную почерневшую дверцу. Истлевшие давным-давно головешки, покрытые пеплом, лежали мертво. Но Аня, упрямо не желая сдаваться, разгребала чешуйчатую серую золу, укладывала на под печки бумажки и щепочки, потом ровной решеткой выстраивала дрова. Если огонь — беда, то и без огня — беда. И чиркала зажигалкой. Вскоре печь начинала гудеть густым, ровным гудом, как трактор. Аня медленно согревалась — и боль отступала. Тогда Аня закуривала и очень долго сидела, раздумывая, в одиночестве, среди спящих, посасывая цигарку размеренно, неторопливо, потому что экономить приходилось не только на махре, но и на дыме, на его едком, летучем тепле. Тут же взвизгивал «скрипун», вражеский шестиствольный миномет. Взрывы целым букетом подрагивающих множественных ударов раскачивали землянку, как детскую люльку. Комья мерзлой земли, песка и струйки влаги с провисшей на потолке парусины летели Ане за воротник. Она поднималась с обрубка, отряхивалась, чувствуя, что землю у нее из-под ног словно кто-то выдергивает. Разозлившись, в шинели внакидку выходила на волю: посмотреть, куда бьет. По глубокому дну оврага, заваленному слюдяным, пузырчатым снегом, где-то вился и пел ручеек. В минуты затишья Аня слушала его голос с особенной радостью: он звенел о весне. Но сейчас и его не было слышно. В ответ на стрельбу немецких минометов начинали работать эрэсы. Они тоже пронзительно, чуть скрипуче визжали или жалостно плакали, как грудные младенцы. И огнистые, четко выдерживающие дистанцию мохнотелые прочерки их снарядов рисовались на лиловом сыром мартовском небе, как некие письмена. Фронт лежал на огромном пространстве, в снегах и в лесах, неподвижный, загадочно-темный. Запах талого снега и вешнего сока деревьев никак не вязался с его темнотой: словно в воздухе было само обещание, а в скучной неподвижности линии фронта совсем не было ничего: ни надежды, ни радости. Аня долго глядела на запад. Потом оборачивалась — и перед ее глазами, как странные черные птицы с петушиными гребнями, поднимались, маяча, фанерные пирамидки с пятиконечными звездами над могилами павших: комбата майора Евдокимова, рядового Федора Степановича Четверикова, однажды спасенного ею во время бомбежки. Замполита майора Труфанова. Командира роты старшего лейтенанта Володи Суворова. И многих, многих других, незнакомых или малознакомых военфельдшеру Худяковой людей. Днем эти фанерные пирамидки почти не заметны. Они побурели от непогоды, от зимних холодных едучих дождей и слились с цветом почвы: где глинистой, желтой, где красно-коричневой, а где черной. Но в ночной темноте они почему-то вырисовывались на фоне неба с особенной четкостью. Тогда Ане казалось: как огромные мудрые птицы, глядят они издали на людей, на нее и следят за каждой их мыслью, наблюдают за каждым поступком. Им весною не свить гнезда. Им осенью не улететь вслед за уходящим теплом. Они словно вросли в эту землю, которую защищали и теперь все еще продолжают ее защищать, зорко глядя во тьму. Вот сейчас, как суровые, зоркие часовые, охраняют они и Аню с ее робкой душой, и окопы, и глинистый разлом оврага, весь в колдобинах от воронок, и шоссе, и короткий участок железной дороги, в разбитое полотно которой давно уже наново врыты капониры и аппарели для орудий и танков, землянки солдат, блиндажи командиров и их штабов. Аня смотрит на эти птичьи, чуть выгнутые в ее сторону шеи и зябко поеживается: чего они ждут от нее, напряженно, с тревогой? Каких неожиданных откровений? А может быть, подвига, жертвы, отречения от себя и от собственных болей? И не спросят ведь: а способна ты, Аня, на это? А вдруг не способна?.. Постояв на бровке оврага, оглядев исклеванную вражескими минами передовую, Аня возвращается в землянку, ставит на печь ведро с набитым в него снегом — на чай; будит спящих. И пока они просыпаются, пока разминают застывшие руки и ноги и занемевшие спины, пока умываются у землянки, она, закинув за спину санитарную сумку, уходит окопами к часовым, к пулеметчикам, мерзнущим у пулеметов, к минометчикам, к саперам. — Анечка, привет! — Доброго утра, Анечка! — дотрагиваются до затертых шапок-ушанок сменяющиеся бойцы, посинелые, едва попадающие зубом на зуб. Они возвращаются из боевого охранения, с наблюдательных пунктов, с постов корректировки. Аня еле заметно им всем улыбается. Она идет не спеша, при этом не то напевает, не то проборматывает полюбившуюся ей, уже ставшую привычной казачью песню:Мы возьмем тебя с собою,
Ох, да только не женою…
Ох, да только не женою…
Эх, да только не женою
Назовем тебя, наша подружка,
А родной сестрою…
В ДЕКАБРЕ В ТОЙ СТРАНЕ… Рассказ
Белый день, а в комнате у меня темно от бьющейся в окна метели. Если пристально вглядеться в декабрьское небо, можно увидеть огромных седых великанов, свившихся в крутящийся белый клубок, борющихся, падающих, убегающих. Вот они разошлись и снова схлестнулись в дымящемся вихре, белые одежды их разорваны и вьются по ветру. Я стою у окна и гляжу на летящие космы седых великанов, на белые петушиные гребни их шлемов. Почему-то в такие минуты мне всегда вспоминаются строчки стихов, годами живущих в моей душе, пришедших из юности: «В декабре в той стране… снег до дьявола чист…» Я подолгу раздумываю: где она — «та» страна? За какими полями, лесами, болотами? Почему в «той» стране уж столь дьявольская чистота? От невинных ли душ ее жителей, от благих их порывов? Или просто там нет ни котельных, ни прачечных, ни дымных заводов, ни машин с выхлопными газами, ни пекарен, ни кухонь? Но тогда — чем живут эти странные, дьявольски чистые люди, населяющие ту сказочную страну? Я хочу их представить себе, тех людей, и не могу. Что-то мешает в груди. Мне хочется глубоко вздохнуть. И вот от первого, еще легкого вздоха они вдруг появляются — из таинственного небытия, бесплотные, неуловимые. Я их узнаю! Да, да, я их всех, всех знаю… Вот они наплывают, выходят из мрака, реальные, а в то же время какие-то дымные, плоские, как в кино. И я вдруг понимаю: ее нет на земле, «той» страны, а есть прошедшая наша жизнь, наши смутные воспоминания. Полумифическая, полуреальная область того, что было. Где все происходит почти так же, как и здесь, в наших буднях, но кое в чем и по-своему, очень странно и непонятно. Например, в «той» стране можно жить сразу всем: и бывшим друзьям, и врагам, и давно уже умершим людям. Там время не властно над нами. Оно обратимо. Там люди, которых мы помним, говорят нам все те же слова, которые мы уже однажды слыхали от них. Причем это можно слушать все снова и снова, пока не надоест. Например, «Я люблю тебя!» — говорит мне один человек. И я могу заставить его повторять эти слова хоть целую вечность. И при этом их не заездишь, как дрянную пластинку. «Все кончено. Нам надо расстаться», — говорит он немного спустя, и я выключаю его, как слишком яркую лампочку, и сижу в темноте. От повторения ведь эти слова не станут понятней! В «той» стране все идет не по-нашему. Давно сорванные и увядшие и выброшенные на помойку цветы расцветают опять и благоухают так нежно, что невольно сжимается сердце и хочется плакать. Так нежно не пахнул и лох в придонских степях, а уж он-то умеет благоухать, как никто другой! Это знают все пражские торговки цветами, иначе они не продавали бы на Вацлавской площади в высокогорлых кувшинах веточки цветущего серебристого лоха! Да что там цветы! Человек, которого я считала погибшим, позвонил у моих дверей и вошел ко мне в дом, такой сгорбленный и худой, весь серый от седины, что я его сперва не узнала. А тогда, двадцать пять лет назад, он был стройным и молодым, весь затянутый кожаными ремнями, в гимнастерке и каске. Я спросила его: — Как?! Значит, ты жив? А мне сказали, что тебя расстреляли в декабре сорок первого, перед строем… Он с горечью усмехнулся. — Нет. Как видишь, я жив. — И добавил, немного помолчав: — Это был мой первый в жизни бой. Шли немецкие танки, пехота. Очень много пехоты. Я стоял у орудия заряжающим. И вдруг представил себе, как меня убивают и как я, мертвый, лежу, — и я побежал. И танки наехали на батарею, раздавили расчет. А потом я стоял перед строем. Перед теми немногими, кто остался в живых… И они уже наводили на меня дула винтовок… Он надолго замолчал. Сидел, скрестив на коленях руки, сгорбясь. — Ну… Что же дальше? — Дальше? Немцы перегруппировались и снова двинулись на наши окопы. И кто-то сказал: «Он еще молодой…» А другой возразил: «А те, убитые, не молодые?» И еще кто-то снова меня пожалел: «Пусть кровью искупит…» Командир посмотрел на меня и скомандовал строю: «Разойдись!» — и дал мне винтовку… Я молчу. Он что-то рассказывает еще, а я сижу и думаю о погибших. О тех, кто не дрогнул под натиском вражеских танков, кто верил в товарищей, стоящих плечом к плечу, кто заслонил своей грудью дорогу фашистам к Москве… — А потом что ты делал? — Воевал… До победы. — А потом? — Потом жил на Севере… — И он замолчал, вспоминая. Наверное, и у него есть свои нехоженые снега. Мы сидим с ним в одной комнате, за одним столом, под одной общей лампой и остаемся каждый в своей стране, за тысячи верст друг от друга. И вся прожитая им жизнь дышит мне в лицо арктическим льдом. — Ты работаешь? — Да. — Кем? — Токарем. В паровозном депо. — Работой доволен? — Нет. Я ее не люблю. Просто так, ради заработка. Ведь надо же жить. — У тебя есть жена, дети? — Нет. Я один. И вдруг горький, черный вопрос сам выпрыгивает из меня, вопреки моей воле: — Послушай… Для чего же тогда ты… живешь?! Он подумал. Ответил спокойно: — А я и сам не знаю, для чего я живу. — И долго глядит на метель, за окно. — Когда к нам в депо приходят вагонетки с углем, я взбираюсь наверх, в вагонетку, и иду по самому краю, по узкому бортику, и жду, когда паровоз дернет… Ну, что ж… Это очень логично. Это нужно было предвидеть. Я знаю твои суровые законы, великая, милая Жизнь! Тот, кто цепляется за тебя, единственную, драгоценную, — любой ценой, — кто готов совершить любой, самый грязный проступок во имя спасения своей собственной шкуры, тот потом будет ставить тебя ни в грош и считать проклятием и обузой! В самом деле, например, могла бы я жить без права смотреть людям прямо в глаза?! Но однако же паровозик не дернул… Он, наверное, тоже кое-что понимает, тот гуманный, северный паровоз из заснеженного северного депо! Он не дернет, пока человек идет по самому краю угольной вагонетки. Потому, что есть повидавшие смертный ужас глаза. Есть жестокая память. И есть складки у губ, которых уже не разгладишь ничем. И есть скорбные брови. И хотя человек расплатился за все по всем существующим ныне законам, он все платит и платит… Теперь уже платит сам, уже сверх назначенной командиром и товарищами меры. Потому, что он помнит их, пощадивших его перед строем и ушедших на смерть. Пожалевших его оробевшую молодость… Он все платит и платит… И будет платить потому, что товарищи, пощадившие его перед строем, все остались лежать там, в разбитых окопах под Наро-Фоминском, «в декабре в той стране»… В «той» стране — на войне. На пушистых, белых снегах, под Москвой, в сорок первом году.ТАНЦЫ Рассказ
Как забуду?.. Знойный июльский день. После легкого прошумевшего дождя асфальт на проспекте стал блестящим, агатово-черным, а там, где была хоть какая-нибудь преграда отвесно летящей туманистой кисее: слишком старый, разросшийся куст акации, широкие кроны вязов и тополей, кромка крыши, — там серая, в темных бусинах влаги горячая пыль. Торговки цветами сидят на земле под шатрами листвы, в незабрызганных полукружьях, — они не покинули своих мест. Перед каждой в тазах, в оцинкованных ведрах, в длинногорлых крестьянских махотках цветы: алые, белые, розоватые, желтые розы; с неразвернутыми цветками, похожими на улитки, гладиолусы; мохнатые, стрельчатые георгины; сладко пахнущие тленом флоксы, — их сиренево-белые и бело-розовые шапки привлекательны только издали, а вблизи как будто нарочно неряшливо смяты. Происходит это оттого, что душистые венчики цветков, составляющие их пышные шапки, расцветают неодновременно и так же неодновременно начинают и увядать, терять яркость красок, душистость, упругость. Я медленно прохожу вдоль строя торговок, этих хитрых, притворно-любезных старух, всевидящих, темнолицых, выбираю цветок. Торгуясь, как цыганка, покупаю бутон темно-красной, пряно пахнущей розы, — бутоны дешевле распустившихся роз, — и прикалываю к воротнику полотняного белого платья. Платье мне длинновато, но оно по подолу с красивой, ручной, вышивкой, а поэтому нельзя ни подрезать, ни подшить покороче. Но я очень люблю его, ведь оно заработано мной, хотя я и школьница, мне всего лишь шестнадцать. На ногах у меня парусиновые башмаки, тоже белые, аккуратно начищенные мелом. Мои волосы чисто вымыты, они, кажется, наэлектризованы от своей чистоты, паутинятся, липнут ко лбу. И мне так хорошо, так чудесно быть чистой, наглаженной, молодой и здоровой, а тем более в шумной компании молодых, остроумных, веселых мужчин. Мы проходим проспектом, расходясь из редакции после собрания. Дождь держал нас в каком-то подъезде, где мы спорили, острили, перебивая друг друга, а теперь мы идем шумным сборищем — и все на проспекте оборачиваются на нас, а больше всего на меня, на девчонку, одну среди взрослых, это людям кажется странным, и на Федора, черноглазого, скуластого, с длинными, чуть не до плеч, волосами, немножечко фатоватого красавца. Федор — «подающий надежды прозаик», а я — поэтесса. И все у меня впереди. Я, наверное, тоже чего-нибудь «подаю». Потому что друзья меня хвалят, в то же время ругают за отдельные неудачные строчки в стихах. А я не умею стихи «дорабатывать», исправлять. Они — не мои. Они — из меня, но, как что-то живущее, неподвластны. Как теперь говорят: автономны. Они выливаются сами, как дождь из набредшей на город переполненной влагою тучи. И рядом с какой-нибудь полновесной дождинкой, овальной, алмазной, удлиняющейся на лету в лучах проглянувшего солнца, летит и бесцветная, тусклая капелька, может, даже пылинка, водяная туманность. Но и яркая, и туманная — из меня, без меня, то есть, наверное, совершенно без моего участия. У меня еще нет объекта радостных или печальных поэтических вздохов, героя стихов, а есть только субъект, я сама. Я, я, я… Но глаза мои уже зорко ищут того, незнакомого, о котором бы можно было сказать: «Это он». Я мечтаю о нем.Мне хочется сказать тебе такое,
Такое тихое и, может быть, простое,
Товарищески-нежное, любя.
Но как, скажи, мне разыскать тебя?
На свете много новых городов,
Огромных, неизведанных краев.
Средь техники грохочущего века
Скажи, как отыскать мне Человека,
В каких полях, в каких снегах сыскать,
Чтоб нежное, хорошее сказать!
Ненавижу блеск осенний золотых твоих волос,
Никогда их на рассвете мне ласкать не довелось.
Ненавижу взгляд вдогонку, слово, сказанное веско,
Ненавижу голос звонкий, что звучит немного резко.
Разбежись по жилам речек, голубая кровь земли,
Чтоб скорее снял ты с пристань голубые корабли,
Чтобы волны, с ветром споря, были слов моих верней…
Милый мой, на дальний Север уезжай же поскорей!
Мальчик бегал с мячом.
Оба были розовые и круглые.
Все дети завидовали его игрушке.
И лишь девочке одной казалось, —
Она была печальная, странная, —
Что это не мячик, а зайчик,
И это у него так бьется сердечко
И прыгают длинные ушки…
Декабрь, а над городом дождик…
Покрылись ледком тротуары,
Стеклянные ветви деревьев
Роняют серебряный звон.
Спешат по асфальту машины,
Ласкаются встречные пары,
К подругам пришли любимые,
Ко мне не пришел только он…
Для тебя одного я хранила цветов аромат,
Я тебе посвящала свой первый, ласкающий стих.
Время шло и прошло. В оголенный, испуганный сад
Ветер кинул листву и покорной собакой утих.
Город жил под туманом, в огнях голубых фонарей,
И туман, серебрясь, осаждался на руки и мех.
Ты с другою шутил, торопясь пройти поскорей,
Я услышала вслед твой обидный и деланный смех.
Я шагнула под тень одного из седых тополей,
И в фигуре моей были гордость и вызов на бой,
И, наверно, не случайно — от резкого ветра с полей —
Навернулись вдруг слезы. И в сердце ударила боль.
Я ушла, в мокрый мех зарывая лицо и глаза,
Расплывались в тумане огни голубых фонарей.
И решила тогда я, что жизнь — это гром и гроза
И что жизни моей не шагать по дороге твоей.
Горевать я не стану. Я сердце сожму, как в тиски,
Я заставлю его онеметь, помертветь, замолчать…
Чтоб оно не задохлось от темной, нездешней тоски,
Будут только глаза мои молча во мраке кричать.
За окошком шел дождь сероглазый,
А в квартире было темно.
Я увидела, вздрогнула — сразу
Кто-то стал под мое окно.
Я склонилась цветком осенним:
Словно ветер сорвал меня.
Он уже шагал по ступеням
И улыбкой светлой сиял.
Я люблю танцевать. Я могу танцевать целый вечер, часов с шести вечера и до двух-трех ночи. Площадка в Студенческом саду, где хриплое радио разносит вот уже сколько лет один и тот же томящий мотив: «Двери балконов забиты, Значит, кончилось лето… Утомлен… утомлен… утомленное солнце Нежно с мо… нежно с мо… рем проща-алось… В этот час ты призна-а-алась, что нет-ет любви-ии»… — отнимает у меня все свободное время. Ветер с реки шумит в старых кронах огромных вязов. Танцплощадка висит над обрывом. Пары кружатся, отдыхающие от «телодвижений» сидят на скамейке, протянувшейся вдоль балюстрады. И я тоже сижу. Вот танцует одна чудесная пара, по-моему, он рабочий, у него небольшие, но крепкие руки, он сильный и ладный, хотя ростом не очень высок; она тоненькая, изящная, всегда скромно одета, в какой-нибудь тонкой кофточке, облегающей юную, молодую фигуру. И вот высшее мое счастье, когда этот самый рабочий, а может, спортсмен, в нем есть и что-то спортивное, оставив свою девушку — или жену, мне кажется, что они не так давно поженились, — подходит ко мне и приглашает на танец. Я, смущаясь, краснея, встаю. И мы, слившись в одном точном необъяснимом движении, в одном ритме, начинаем скользить по площадке. Я угадываю все его повороты, отступления, шаг в сторону, я все это чувствую бессознательно, не улавливаю, как иные, начало движения, для того чтобы с небольшим запозданием продолжить его, зеркально повторить, я угадываю каждый поворот, еще до рождения мысли, и мне кажется, я парю, у меня вырастают за спиной никому не заметные, поднимающие в воздух крылья. Нет, это чувство теперь уже не повторится. И этот человек, как мужчина, мне был безразличен. И музыка меня трогала лишь постольку, поскольку под нее можно было кружиться, начинать у л е т а т ь. Но самое главное, самое-самое, это то, что я действительно с ним всякий раз у л е т а л а. Никогда и ни с кем я не чувствовала потом такой радости слитности в общем движении. Этой легкости, растворенности в музыке. Он и сам понимал, что мы с ним на мгновение танца — одно целое. И всегда подходил, всегда приглашал. А я даже не знала, кто он, как его зовут, где он учится или работает, да мне это и не было нужно. Меня ждал на скамейке суровый товарищ, снисходивший до всех моих блажей, он спокойно сидел и глядел, пока я натанцуюсь, и я думала только о нем, а вовсе не о том, с кем так ладно, так радостно, самозабвенно кружусь. В нем была для меня не мужская, а ритмическая, музыкальная притягательность. А самое главное, я вместе с ним сама была совершенством или, может, точнее, орудием совершенства. Это видела юная женщина, приходившая с ним, и всегда ему позволяла пригласить меня раз-другой за неделю на танец. И это был танец…
ПЕСНЯ Рассказ
Недавно в газете я прочитала про батьку Миная, знаменитого белорусского партизана. Как фашисты взяли заложниками его четверых детей. Всю семью. И как дети писали ему из фашистского плена, чтобы он не сдавался. «Нас убьют и тебя убьют, а если ты не придешь и убьют только нас, так хоть ты потом за всех отомстишь…» И тут же припомнилось что-то похожее, затрепетало в душе, как облако, какое-то смутное, темное воспоминание. Мы стоим в Белоруссии, под Витебском, в маленьком, разбомбленном, изрытом траншеями городке. В избах сплошь солдаты, солдаты, солдаты, по ночам ступить негде, не то чтобы лечь. Только в нашей избенке, где живут армейские журналисты, чуть просторней. Зато за дощатою перегородкой и хозяева и постояльцы — все в одну сбились кучу. Постояльцы — советская власть из города Витебска, они ждут, когда мы возьмем у фашистов город, чтобы войти в него и начать восстанавливать. Это бывшие партизаны. А мы все никак его не возьмем: немцы сделали Витебск крепостью, подтащили туда тяжелые пушки на железнодорожных платформах, опоясали город колючей проволокой в три-четыре кола, заминировали подходы, все пристреляно, до последнего сантиметра. В январе — наступление. Тяжкий грохот снарядов, вой «катюш», железное кваканье минометов, надрывное, захлебывающееся «ура-а». И — откатываемся назад, на исходные, оставляя на поле короткие холмики трупов. В феврале — еще одно наступление, и еще одно третье. И все с тем же исходом. А советская власть за дощатою перегородкой не спит долгими вьюжными вечерами, там идет приглушенный, угрюмый мужской разговор, я слышу обрывки каких-то споров, и вдруг кто-то застонет, заплачет, скрипя зубами, не слушая слов утешения: скупые и стыдные в своей неуклюжести, неумелые слезы человека, видавшего смерть, вероятно, не сотни, а тысячи раз — и не плакавшего, а сейчас вдруг заплакавшего от глухой, смертной муки… — Полно, батько, теперь ничему не поможешь… — Батько, спой лучше нашу… Будь проклята эта война! Спой, а мы подпоем… И глухой, хрипловатый, до нутра пробирающий голос — тот ли самый Минай или другой партизан, повторивший его судьбу, — тихо-тихо затянет для нас незнакомую, но такую желанную сердцем песню:Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кру-жит-ся-а-а-а…
МОЛЧАНИЕ НЕБА Рассказ
Это было давно, наверное, в другой жизни, когда я была еще маленькой и жила под огромным, мохнатым от зноя, малиновым солнцем в огромной степи. Мне было совсем немного лет, может, шесть, может, семь. Но, по-моему, я тогда еще не училась, потому что все дни мои были праздными и я их проводила одна-одинешенька в чистом поле с заросшей травою колесной дорогой, или в лесопосадке, где слушала птиц, или в серо-зеленых покатых волнах зацветающей ржи, где играла сама с собою в догонялки и прятки. Иногда я бродила по склонам степного оврага: там росли медуницы, и красные маки, и лиловые ирисы. Там в коричневых норках семействами жили кроты, той дело вставали столбами желто-серые суслики, а однажды я видела даже енота: он бежал по хребтине разрушенной дамбы и скрылся в траве, с испуганной, злой, ощеренной мордой. Мне нравилась степь и нравилась праздная, неприютная жизнь. Бесконечное синее небо цвело жарким солнцем. Вся бескрайняя, чуть пологая к югу равнина, поросшая ковылями, гудела от пчел. Тут и там, словно чьи-то яркие, легкие, светлые мысли, поднимались над степью, перелетая с цветка на цветок, веселые бабочки. Иногда они проносились белым облаком над моей головой, а потом опадали веселыми белыми лепестками, как цветущая дикая яблоня, что стоит возле нашего дома. Бесконечные дни и недели шли неслышною поступью. Я растрачивала их беспечно, рассматривая ручейников и тритонов на дне водоема у высохшего водослива или сидя на ветке огромного дерева и разглядывая сквозь листву ускользающий солнечный горизонт. Что я думала в это время? Да, наверное, ничего. Впрочем, все же о чем-то, наверное, думала, потому что вся маленькая душа моя и все тело безраздельно сливались в эти часы с молчанием неба, с молчанием солнца, с гудением, писком и шелестом каких-то смешных, трепыхающихся, ползающих и перелетающих надо мною существ, живущих такой интересной загадочной жизнью. Тонко цвиркали суслики. У прудов переливчато квакали лягушки. Иногда от посадок до меня доносился тоскливый то сильный, то вдруг замирающий зов кукушки, а вернее, конечно, то был кукух. Потому что кукушка — сама молчаливость. Я слушала весь этот мир, хорошо понимая всю прелесть и смысл этих звуков. Для меня был живым существом и цветок, и ковыль, выгибающий шею с серебряной гривой: он ластился, как кудлатый щенок, к моим исцарапанным грязным рукам, с томной нежностью падал у ног и отпрядывал, будто играя, под порывами ветра. Пусть не думалось ничего — я была еще слишком мала, — но тогда отчего так настойчиво разрасталось во мне ощущение счастья, и полной свободы, и щемящей тоски, и любви, и печали, из которого и сложилось впоследствии ощущение Родины? Как, а главное, отчего я тогда поняла, что на этой горячей цветущей земле нет того, что зовут одиночеством, а есть связь с бесконечностью, с теплым голосом ветра, с простым, твердым и радостным смыслом окружающей жизни? И как это случилось, что впоследствии я все это забыла? Солнце медленно двигалось над моей головой. И какие-то новые, странные мысли зарождались во мне, приносящие счастье, волнующие и, конечно, неосуществимые; но за ними всегда была эта основа: поле с черною бороздой — путь какого-то неизвестного мне прилежного пахаря, хлеб, и звезды над степью, и мычание коров, и дымок из печей на рассвете, и сладость минутного отдыха после трудов, и бессмертие, бесконечность всей этой жизни… …Я видела города с безглазыми окнами обгорелых домов и трубы, дымящие человеческим пеплом. Сладкий клеверный запах трупов, он запомнится мне теперь на всю жизнь. Путь лежал все на запад, на запад… Через реки, поля, перелески, озера, мимо шпилей старинных костелов Литвы, по свекольным полям залитой дождями, измученной Польши, по расчерченным, как по линейке, автострадам Германии в громыхающий артиллерией и разрывами бомб осажденный Берлин. Он лежал предо мною, поверженный, догорающий, серо-угольный, как головешка, а над грудами пепла и щебня, над развалинами домов — наше алое знамя на рейхстаге… Я умею теперь сравнивать. Как прекрасны мощенные камнем извилистые переулочки в Праге, где-нибудь возле Вышеграда или в Старом Мясте, эти древние стены, обвитые виноградником, эти бледные чайные розы Лореты!.. Мне запомнятся — где это было? — деревянные крики павлинов на подстриженной по-английски зеленой лужайке, накрахмаленные чепцы монашек — сестер, что-то скорбное, трепетное в их черных, бесшумных фигурах. Я запомню суровые камни Родоп, казанлыкские розы, золотистый песок побережий, рыбацкие лодки на рейде, это все почему-то родное до боли, почти как свое. И так схожи с забытыми материнскими руки старых крестьянок, их морщинистые, загорелые милые лица. Мне запомнятся молчаливые псы, охраняющие в горах разбредающееся ленивое стадо, партизанские тропы, отвесные скалы на Шипке… Как с собой унести этот легкий, прозрачный, насыщенный запахом меда а выжженных трав горный воздух, бодрящий, как солнечное вино? Мне так не хватало потом, в дни тяжелых раздумий, этой ласковой свежести, золотой теплоты… Я запомню бесчисленные города и деревни Европы и Азии, например, Нагасаки в лиловых и малахитовых красках заката, эти цепи огней, окаймляющих бухту залива, город шумный и трудовой, город с запахом моря на улицах. Ночью прыгают, вертятся, плавятся на небоскребах бесконечные всполохи зазывающих, умоляющих и дразнящих реклам: словно тысячи солнц, изливают свой свет на изгибах мощенных булыжником улиц… А потом поезд вез меня в глухомань, в родные края, и я медленно узнавала: вот пруд с водомерною рейкой у берега. Здесь когда-то у старого дерева, на цепи, была причалена плоскодонная лодка: мы катались на ней вечерами далеко, до поросших кувшинками и зеленых от ряски заболоченных заводей. Сейчас нет ни лодки, ни дерева, ни кувшинок, а пруд обмелел и засох, и черные трещины от жары и степных суховеев изрезали дно, как гигантская паутина. Вот дамба, обсаженная столетними вязами, и канал вдоль нее, а левее — лиман, на котором когда-то росли экзотические растения, привезенные издалека романтическим агрономом. Я входила под тень зацветающего канатника, или кенафа, как в зеленые джунгли, видя в солнечных пятнах и полосах от теней то подкрадывающегося леопарда, то свирепого тигра. Сейчас здесь на почве белесая соль, поросшие плауном и хвощом торфяные корявые черные кочки… Вот дом, тот же дом, в нем все те же четыре окна и холодные, темные сени. Но я не вошла в него: я боялась себя и своих представлений о давнем, забытом. Я пошла прямо в поле, к оврагу, поросшему медуницей, чтобы снова услышать дыхание трав, писк птенцов в зацветающем вереске и миндале, стрекотание кузнечиков. Но поле… молчало. Оно не признало меня за свою, не ответило на мое виноватое: — Здравствуй! Может быть, я действительно перед ним виновата? Может, ты, земля, ожидала, что я сделаю для тебя что-то очень большое и важное, самое главное, а я просто забыла тебя? Может быть, я теперь не умею понять эти черные борозды, эти тихие сельские тропы — от села до села, этот маленький, одинокий огонь у костра и сидящего возле него одинокого тракториста? За прошедшие годы разлуки — в суровые и золотые — я отвыкла от радостных, ласковых мыслей, что рождались в таинственной тишине, в темноте, под распахнутым небом. Чем ответить теперь из безмолвный призыв заблудившихся огоньков, чем оплакать родные могилы, поросшие крапивой и пустырником? Да, я знаю, как я виновата… На великое, полное смысла молчание полей и лесов и высокого неба чем отвечу теперь?..ГДЕ ТЫ? Рассказ
Нет мне покоя. И не будет никогда, пока я живу. Пока живу, будут сниться тревожные ночи, озаренные заревом горящих деревень, грохот гусениц танковых пыльных колонн, тяжелая поступь солдат, идущих к линии фронта. По холмам и дорогам Подмосковья и Смоленщины, Белоруссии и Польши, по глинистым, пахнущим раздавленной полынью проселкам и по шоссе катится все дальше и дальше на запад война. Как огненные цветы, тут и там поднимаются над овсами и рожью, над кипящими в суете переправами, над скоплениями танков, пушек, обозов — разрывы снарядов, мохнатые от оранжевых раскаленных осколков. Как забудешь такое: по лугу, в болотистой пойме Сожа, сотни разного типа машин, кавалерия, пушки, — особенно грозны выдавливающие на дернине, в пластах чернозема, маслянистый разъезженный след самоходки; стрелковые роты, полки и дивизии РГК, саперные и санитарные части, штабы. Все движется к западу вперемешку. Солдаты — кто с грустным каким-то забывчиво-вспоминающим взглядом, кто с шуткой, а кто равнодушно, но все, может быть, и невольно, а втянуты в ритм движения, железного, неумолимого, грозного, жестоко сметающего на пути все, что вдруг да запнется, замедлит свой ход, заглядится на синее небо в клочках облаков, на синюю речку, на дальнее поле. И вдруг с пыльной полуторки, из разбитого и скрепленного скобами и проволокой кузова чуть скрипучий голос гармони и песня:Сердце друга ждет ответа-а,
О тебе услышать я должна.
Где ты, милый мой, скажи мне, где ты-ы,
Куда тебя забросила война?..
Где ты, где ты, скажи мне, где ты,
Куда тебя забросила война?..
Был наш хутор тих и светел,
Но внезапная пришла беда-а…
Может, пепел твой развеял вете-ер,
И не ответишь ты мне никогда-а?
Где ты, где ты, скажи мне, где ты,
Куда тебя забросила война?..
Или, может, утром ранним
По болотистым лесам глухим
Ты разведчиком иль партизаном
Идешь с друзьями к берегам родным?
Эх, где ты, где ты…
В ПОДКИДНОГО ДУРАКА Рассказ
Впервые за долгие годы войны поезд вез меня не на запад, к фронту, а в сторону тыла, в глубину России. В польском дачном вагоне сесть негде, повсюду в проходах и тамбурах толпится народ: командированные, вроде меня, много раненых, уже выписанных из госпиталей и отпущенных на лечение или «вчистую», какие-то хозяйственники в замаслившихся овчинных жилетах, называемых здесь, на фронте, «рапсодиями», беременные женщины, военные журналисты из центральных газет, штабники, командиры, отчисленные в резерв, просто едущие на побывку к семье, в отпуск, по особому разрешению командования, за хорошую службу, и я. Я еду на родину, в город, который не видела всю войну, где разрушен мой дом и лежат в развалинах целые улицы. Зимний, засыпанный снегом вокзал в Люблине помаячил созвездием выездных огоньков, черные деревья качнулись в окне и тихо, едва заметно для глаза отодвинулись, обнажая большое серое поле, — вместе с ними отодвинулась в прошлое и вся моя фронтовая армейская жизнь с ее вечными неожиданностями и опасностью, и будничными делами, и всем тем, что лишь несколько мгновений назад почему-то казалось самым важным и самым необходимым. К советской границе поезд подошел глубокой ночью. Здесь был тот же снег, тот же уголь в отвалах и натертые до блеска рельсы, тот же воздух, пронизанный светом далеких, иззябших к рассвету, трепещущих звезд, — но это была уже Родина. Простившись с прокуренным, грязным вагоном, мы все вышли на темный заснеженный путь и вгляделись в ночную, холодную мглу. Очередной пассажирский «в Россию» только-только ушел. Нужно было искать попутный товарный состав или ждать до утра. Я оставила своих случайных попутчиков на маленьком переполненном народом вокзальчике, где тоже ни стать, ни сесть, и пошла вдоль путей, надеясь на счастье. Вскоре в отдаленном тупичке мне и в самом деле попал на глаза длинный, запорошенный снегом состав из пульмановских вагонов с закрытыми дверями, перемеженный площадками, на которых не по-военному, а как-то мирно, совсем по-домашнему топорщились вороха душистого сена и торчали задранные кверху оглобли крестьянских повозок, лежали наваленные грудами доски, бревна и плахи. Как сказал мне прошедший с масленкой рабочий, это возвращались в родные селенья угнанные фашистами крестьяне-украинцы. Эшелон скоро должен был отправиться. Я прошла еще несколько шагов вдоль поезда в надежде найти себе место в вагоне, а не на открытой ветрам и морозу площадке, как вдруг кто-то негромко окликнул меня: — Товарищ лейтенант, можно с вами? Я обернулась. Это был один из моих попутчиков по дачному поезду от Люблина до границы, старшина Николай Фуфаев, молодой, чуть развязный, услужливый парень, с солидными, не по возрасту, как он сам над собою подшучивал, «развесистыми» усами. Он ступал по скрипучему снегу удивительно мягко, как кошка, словно что-то выслеживал, крадучись. — Почему же, пожалуйста! — я даже слегка растерялась. — Ну, вот и прекрасно, — заметил Фуфаев и сразу же обратился ко мне покровительственно и услужливо одновременно: — Дайте, Анечка, я вам помогу! — сказал он, привычно закидывая свой вещмешок за плечо и поднимая с земли мой чемодан. Мы быстро с ним зашагали вдоль спящего и словно безжизненного состава. Вдруг дверь в одном пульмане сперва щелкнула, потом откатилась со скрежетом, и в темном проеме возник человек, седоватый, высокий и плотный, в расстегнутой польской шинели и угластой конфедератке, в очках. За спиной его кто-то похрапывал в глубине вагона. Мой попутчик с надеждой козырнул незнакомцу: — Товарищ командир, у вас лишнего местечка не найдется? Моя спутница очень устала, от Люблина ехали стоя… Человек внимательно поглядел на меня, на Фуфаева, как бы сравнивая, изучая. В тусклом свете снегов блеснули золотой оправой очки. — Вам далэ́ко? — спросил он по-польски. — Хотя бы до Киева, — сказала я, удивляясь Фуфаеву и той легкости, с какой он знакомился и сходился с людьми. — Мне вообще-то ехать еще дальше… — До Киева? — спросил старый поляк. — Ниц, до Киева мы не до́йдем, — он мешал в речи русские слова с польскими. — Только Коростень. А там в дру́гий поезд… Ну, цо? — Что ж делать… Другого выхода нет. — Прошу, пани! Человек повернулся, и я заметила на пуговицах его шинели орлов, а на погонах — белые звезды. Это был полковник из Войска Польского, штабник, судя по очкам и совсем не военной манере держаться. Вагон был забит сеном. На одной из примятых охапок спал или делал вид, что крепко спит, совсем молодой человек, укрытый шинелью. Полковник подал мне руку, и я забралась в вагон. Старшина же, закинув внутрь наши пожитки, взял чайник и пошел на станцию за кипятком. Где он достал его поздней ночью, среди черных развалин, в грязном, набитом проезжим людом, темном вокзале, я не знаю, только он очень скоро вернулся «с трофеем», мы тотчас уселись прямо на сене, разложили на плащ-палатке дорожные припасы и разлили по кружкам дымящийся чай со свежей заваркой. Полковник тоже присел и пил вместе с нами. У него было доброе морщинистое лицо и мягкие, белые, полные руки. В нем вообще мне все нравилось: и узкая белая полоска воротничка, и этот мягкий, с акцентом, нерусский говор, и то, как он ловко и аккуратно держал в руках хлеб, складной нож или кружку. Сильный, сдержанный, немногословный, он здесь не был чужим, неуместным, в пропыленном, холодном вагоне. Мне казалось, походная жизнь его не пугает. Сгорбив плечи, полковник пил чай не спеша, устремив взгляд на раздуваемый ветром огонь фонаря, стоящего на полу. И вдруг в тишине раздался веселый, насмешливый голос: — И пьют и едят — без меня! Не позвали!.. А?.. С измятого ложа поднялась лохматая голова. Прищуренные глаза скользнули по нашей расстеленной плащ-палатке, долженствующей изображать обеденный стол, и остановились на мне с нескрываемым изумлением. — Ба, женщина! Лейтенантка? Быть несчастью на корабле! — Спите, спите, пан ма́йер! — спокойно, с усмешкой сказал, обернувшись, полковник. — Кто спит, тот беседует с самим господом богом… Но майор уже легко вскочил на ноги и весь потянулся до хруста в костях. Он был строен, высок, тонок в талии, широк в плечах. На гимнастерке, в два ряда, словно серебряная и золотая броня, мерцали одни ордена, без медалей. Для пехотного командира, как мне показалось, их было слишком много: в пехоте не доживают до стольких наград. Майор подошел к двери, глянул в белый проем. Порыв ветра мотнул по ногам его кисею сухого и мелкого серого снега. Где-то возле колес раздавались сердитые громкие голоса, стук железа о железо. Майор ловко, как обезьяна, соскользнул в темноту. Его долго не было. И вдруг поезд тихо и без гудков, плавно стронулся с места. Он уже набирал скорость, когда майор впрыгнул в вагон на ходу. — Вот и я! Вы скучали? — спросил он весело, отряхиваясь от снега и поеживаясь на морозе в одной гимнастерке. — А то бы еще часа два стояли… Навел тут порядок! — Разве м-можно так? — от волнения заикаясь, заметил полковник. — К-куда вы ходили? И без зброи?[2] Майор шутливо развел руками: — А кто обо мне тут заплачет, пан Чеслав? Одни ищут покоя, другие волнений… — П-пулю из-за угла вы, наверное, ищете, — все сердился полковник и, может, от этого говорил по-русски значительно чище, чем прежде. — Мало, в Хелме вам в шапке дырку пробили, теперь грудь подставляете… — Каюсь, Чеслав, — виновато, по-детски улыбнулся майор. — Еще молод, исправлюсь! Он долго стоял в одной гимнастерке в дверях и смотрел в темноту, пока ветер не стал задувать совсем уже длинные и ледяные охвостья метели. Повернулся и громко скомандовал: — Спать! Всем спать! Нынче я дневальный. У меня будет еще тот порядок!.. Сам он лег на охапку измятого сена, поставил поближе фонарь и достал из планшета какой-то измятый журнал, стал читать, чуть пожевывая и посасывая погасшую сигарету. — Спи скорей, лейтенантка, глазищи свои закрывай, — сказал он и мне, и я крепко уснула, как будто ждала его приказания. Был уже полдень, и в вагоне все давно уже встали, когда я проснулась. Поезд стоял. Вместе с морозным воздухом и запахом угольной гари и смазки в раскрытую дверь долетали то далекие, тихие, а то близкие, оглушающие гудки паровозов, тонкий свист и шипение пара, и грохот и лязг маневрирующих составов. После ночной безостановочной гонки мы, по-видимому, безнадежно застряли посреди незнакомых мне взорванных пристанционных построек, на сплетении рельсов. Вся земля была сверху припорошена мелкой угольной пылью. Встретив мой недоумевающий взгляд, пан Чеслав, не торопясь, объяснил: — То есть Ковель… Он сидел на раздавленном ящике и внимательно наблюдал, как возле вагона умывался до пояса снегом мой спутник Фуфаев. Старшина широко улыбался, отчего по щекам пролегали глубокие, как морщины, некрасивые складки, и, на мой взгляд, был чем-то обижен и взвинчен. Он, как видно, успел уже крепко сцепиться с майором, которого, как я услышала, полковник назвал Сашей. — Полно, Саша, оставьте, — сказал пан Чеслав, раскуривая большую красивую трубку. — Оставьте его! — А что? Я что-нибудь сделал не так? — обернулся майор сперва к Чеславу, а потом ко мне. Он кивнул на лысеющую голову Фуфаева: — Я обидного ничего не сказал: плешь не увечье. Была бы душа человечья! Старшина сделал вид, что не слышал насмешки. Подергивая плечами и вроде бы пританцовывая, набрав снег в ладони, он растерся еще и еще и сказал бодрым голосом: — Хорошо-о… Будто заново народился! Потом быстро скатал крепкий, толстый снежок и, прицелившись, запустил им в ворону, сидящую на телеграфном столбе, но промахнулся. Ворона, взлетев на миг, как собака, подсеченная кнутом, снова села на столб как ни в чем не бывало. — Эх, стрело-ок, — насмешливо протянул майор. — Дай-ка снегу, смотри! Плотно сбив небольшой, но тяжелый снежок, он вытянул руку и, прищурясь, прицелился. Ворона шарахнулась от удара, хотела взлететь, замахала крыльями, но, вдруг потеряв высоту, камнем рухнула за развалины. — Вот так-то, мой милый! — сказал майор. — Да ты не левша ли? Бьешь-то как-то чудно… Он на миг изучающе пригляделся к Фуфаеву. Тот нагнулся, поддергивая сапог. Взобрался в вагон и стал быстро готовиться к завтраку: встряхнул плащ-палатку, нарезал большими ломтями хлеб, достал сахар, сало. Я теперь тоже невольно приглядывалась к его сильным рукам: резал хлеб он, да, впрочем, как делал и все, очень ловко — и правой рукой, и я только взглянула с упреком на стоящего в стороне майора, следящего за Фуфаевым исподлобья, с недобрым упрямством. — Ладно, завтракать! Всем за стол, — приказала я строго. Майор с удивлением посмотрел на меня: — О, да ты, лейтенантка, умеешь командовать! Вот не знал! — он сегодня был зол и цеплялся ко всем, и я замолчала. Пили чай не спеша, наливая покрепче заварки. Иногда я посматривала на майора. Мне не нравились его шуточки надо мною, его тонкое, я бы сказала, избалованное лицо и эта манера изображать из себя забавника, забияку, что, на мой взгляд, к нему совершенно не шло. После завтрака майор закурил, развалившись на сене. — Ну вот, я теперь — кум королю, товарищ и брат… Но тут же вскочил, нашарил под изголовьем свой ремень с пристегнутой кобурой, достал пистолет, разрядил и стал чистить его, осматривая и проверяя. — Так… так… — говорил майор, нажимая на спусковой крючок и прислушиваясь к щелчку. — Теперь полный порядок… Как глянет теперь на меня лейтенантка, я ее — на дуэль, — и он с хохотом повалился на сено, прижимая к груди пистолет и вставляя обойму с патронами. — Полно, полно, пан ма́йер, — сказал тихо полковник. — Ну кто этим шутит? — А что уж нельзя повалять дурака? — спросил, глядя весело и открыто, майор. — Да, а кстати… Отчего бы нам всем не сыграть в подкидного? Вот будет дело! А то сдохнешь от скуки, — и он снова полез к изголовью, достал из планшета колоду карт. На охапке сена раскинули плащ-палатку. Дверь открыли, невзирая на холод, — так было светлей. Сели по парам. Я в паре с майором, Чеслав — с Фуфаевым. В полусумраке зимнего вьюжного дня и летящего сквозь леса, под угрюмыми тучами, поезда лица сидящих рядом со мной показались мне странными, одержимыми. Больше всех волновался и нервничал во время игры почему-то Фуфаев. — Да, играем с условием, — сказал майор. — Кто продуется — будет рассказывать о себе. В наказание. Все равно делать нечего, будем слушать. — Я тогда не играю, — заметила я и отбросила карты. Мне нисколечко не хотелось рассказывать о себе в присутствии этого человека: еще не хватало слушать насмешки! Но полковник погладил меня по руке: — Пани Анна, да вы с ним ни разу не проиграете, успокойтесь! Я-то знаю, какой это страшный игрок! — и он засмеялся. — Ладно, ладно, я вас не трону, — сказал и майор. — Боитесь, что скушаю? — Да нет, не боюсь. Вам же будет противно! — Ну, вот и прекрасно! Игра шла азартно. Майор бил с размаху за картою карту, поглядывая на Фуфаева, а тот чмокал губами, как будто хотел разжевать что-то липкое, и лицо его странно состарилось или только казалось таким в полумраке. Он все ерзал на месте и пощипывал длинные, как у Тараса Бульбы, усы. — Так сразу и рассказывать? — спросил он, проигравши второй раз подряд. Майор метнул на него острый, режущий взгляд, усмехнулся. — Нет, зачем же, оставим подряд раз двенадцать, тогда и будем доить вас с товарищем Чеславом… Они снова проиграли. Мы с майором переглянулись. Майор сдавал лихо, над картой шептал, перемешивая; он все время пытался покрыть под шумок не козырной. Его тотчас ловили, но он доставал и козырную, и, смеясь, извинялся, и тут же опять «брал на психику», как он говорил, кладя веером королей и тузов, прилипающих к его пальцам, словно к магнитам. Иногда мне казалось, что в колоде по пять королей и по десять тузов, так мелькали они в руках майора. — А, что? Бейте, бейте, — кричал он в азарте, — если есть вам, конечно, чем бить! Ходи, Анечка, золотко, не робей, не в атаку! Мы с ним снова выиграли три раза подряд. — Ну-с… Заполним анкетку! — сказал майор, — А, пан Чеслав? Готовы? — Готов, — усмехнулся тот как-то застенчиво и, запахивая шинель, сел на ящик поудобней. — Совсем как в старинном романе. Там любят такие рассказы. От автора только первая фраза и слово «конец», а все остальное идет от какого-нибудь отставного полковника, богатого жизненным опытом и любовными приключениями. Да-а… Не думал, что я буду тоже героем такого романа. — Покороче, пан Чеслав, — не очень-то вежливо осадил его майор. — Покороче? Пожалуйста. Родился в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Город Краков. Отец был художником, архитектором, музыкантом. Человек образованный, светский. Мать — красавица, из деревни. Простая крестьянка. С детских лет я воспитывался в России, у бабушки, возле Пскова. Знаю русский язык лучше польского. Когда началась первая мировая война, я учился уже в Петербурге, собирался стать инженером, но закончить ученья не смог… Вот с тех пор я — военный. И к вашим услугам… — Очень коротко! Молодец! — похвалил его майор, вскинув голову и пригладив ладонью свои темные волосы. — Ну-с, Фуфаев! Тот откинулся в тень, зябко дернул плечами. — Ну, что ж, я, так я… Мне, как скажет пан Чеслав, вшистко едно! Как прикажете, товарищ майор… Жил в деревне, работал в колхозе под Запорожьем. В сорок первом был призван. Отступал от границы. Под Ельней был ранен, на выходе из окружения. Сейчас еду в отпуск на родину, к матери. Одна стала, старая, не справляется без меня… Командир отпустил… — Так, так, — как-то тихо, задумчиво произнес вдруг майор. Он сидел, сжав колени руками, откинувшись сильным телом назад, и, сощурясь, глядел в темный угол вагона. — Так, так, — сказал он совсем отрешенно, как будто не слушал Фуфаева. — Очень гладко — и здорово! — Наступило молчание. Майор глядел на Фуфаева какими-то странными, отсутствующими глазами. И вдруг засмеялся: — Ну что ж, дураки! Не хотели работать головой, — поработайте теперь руками, сдавайте! Фуфаев взял колоду и тщательно перемешал. Поглощенный какими-то мыслями, он сдал с левой руки. Мы заметили это все: я, майор и пан Чеслав, и все трое переглянулись. Майор вдруг спросил: — А в какой армии ты служил, Фуфаев, в сорок первом году? — В Пятой, кажется… — Вот как? Даже не знаешь? А дивизия? Полк? Старшина все назвал: и дивизию, и полк, фамилию командира полка. — Так, та-ак?.. — протянул майор, поглядывая на Фуфаева. — А меня ты не помнишь? — Не-ет, — сказал, побледнев, Фуфаев. — Ну, где ж тебе помнить! Я солдатиком был, только-только от мамки. А ты — лейтенантом! Одетый с иголочки, ходил с таким форсом. И Женьку Вараксина ты не помнишь? Фуфаев молчал, побелев. — Еще бы тебе Вараксина помнить! — сказал майор вдруг с такой тоской и скрипнул зубами. — Э-эх, был человек… Это я его помню… Как шли вы по лесу… под Ельней. Уже в окружении… Меня ты не видел… Я раненый за кустами лежал… Как ты подошел к нему и выстрелил в спину… И к немцам, навстречу… — Он вскочил и стоял над Фуфаевым, держа руку на кобуре. — Ну, что скажешь, гад?! Я слушала, онемев. Опомнился первым полковник. Он тоже вскочил: — Пан Езус, матка бозка! Цо ты мувишь, Саша? — схватил он его за рукав. Опомнился и Фуфаев. Он весело рассмеялся, спокойно сказал: — Ну и шутите вы, товарищ майор! Как всех напугали! Надо ж было придумать такое! — он вынул кисет из кармана, оторвал от газетки клочок, насыпал в него самосада, — и все это размеренно, ловко, неторопливо. С улыбкой добавил: — А что же… Возможно, меня с кем-то спутали, так понимаю. Разве мало Фуфаевых! Вы глядите теперь на обличье, совсем не похож! Майор все стоял, держа руку на кобуре, и, с насмешкой прищурясь, поглядывал на Фуфаева, как бы говоря: ну, болтай, брат, болтай! Он совсем не смутился. — А что ж, ну, ошибся, — сказал майор. — Может быть, может быть… Только память моя, слава богу, ни разу не подкачала… Эту руку твою запомнил тогда на всю жизнь: в Вараксина ты стрелял тоже с левой… И фамилия у тебя не Фуфаев, а Кривцов. Признаться, усы меня сбили с толку… Не узнал поперва и из-за лычек старшинских… Постарел, истаскался, а был — как в аптеке… Полковник стоял, умоляюще трогая майора за плечи, уговаривая: — Ну, оставьте, оставьте, не надо, не надо! — Да я же шучу! — вдруг вскричал майор и громко расхохотался. Мне стало вдруг стыдно за всю эту глупую, пошлую сцену, за этот неуместный смех. — Вы и в самом деле решили, что правда? Вот чудики! Пошутил, вот ей-ей! Ну, Коля! Ну, ты молодец! Сразу понял! Люблю человека за это… — и он крепко обнял Фуфаева, так, что у старшины захрустели кости. — Молодец! Есть еще чувство юмора! Шутку понял! Ну, ладно, прости меня! Давай выпьем на радостях, что ли, на брудершафт? А? Всю дорогу берег спиртягу, а нынче не жалко. Он вытащил из вещевого мешка бутылку вонючего «бимбера», польского спирта-сырца, и поставил на ящик. Пошарив по сену, собрал наши разнокалиберные стаканчики, кружки, с большой точностью разделил всем поровну. Выпив быстро, глотком, свою порцию, взял сухарь, понюхал его, но есть не стал, отошел к дверям. Поезд мчался во мраке по широкой равнине, ровно выстланной снегом. Небо очистилось от снеговых туч и теперь чуть посверкивало мелкой рябью осколочков-звезд, рассыпанных в вышине так рассеянно и негусто. Где-то близко от полотна железной дороги тонко, резко ударил винтовочный выстрел. — Дверь! Закройте дверь! — закричал полковник. — Скоро Сарны. Опасно…Ночью я проснулась от того, что в лицо мне пахнуло стоячим холодом, крепко смешанным с дымом. Паровоз впереди зашипел и пошел: было слышно, как работают рычаги, а вагоны не двинулись. Фонарь был прикручен, в темном вырезе двери, словно белые мошки, кружился снежок. Полковник спал рядом, похрапывая. Ни Фуфаева, ни майора на месте не было. Я вгляделась попристальней и увидела, что нет и фуфаевского вещмешка, а ведь старшина ныне должен дежурить, не отлучаясь. Мое сердце толкнулось от предчувствия нехорошего. Я вскочила, затрясла пана Чеслава. — Скорее вставайте! Вставайте, пан Чеслав, беда! Тот привстал, еще не проснувшись: — Где мы? — В Сарнах, наверное… Его сон тотчас мигом пропал. Он вскочил, глянул в дверь, притворил ее чуть плотнее. Нас заранее предупредили, что в Сарнах нельзя выходить: здесь бродили бандитские шайки Бандеры: отравляли колодцы, сжигали хлеб, убивали из-за угла офицеров Советской Армии, коммунистов, представителей местной власти. Выйти ночью здесь на вокзале частенько оказывалось не таким обычным и будничным делом, как можно подумать: кто знает, а что за пассажир сейчас дремлет в углу, придерживая что-то тяжелое за пазухой? И что это за личность выглядывает из-за вагона? Накинув на плечи шинель, полковник соскочил на полотно, оглянулся, пытаясь, наверное, понять, где майор? Где Фуфаев? Зачем за игрой в дурака майор так обидно шутил? И куда это вдруг делись вещи старшины? Я спрыгнула следом. Пан Чеслав спросил у меня: — Так где же они? Вы их видели? — Нет, не видела… Я спала. И, словно в ответ, тотчас вспыхнули выстрелы. Кто-то вскрикнул у нас под вагоном. Мы с полковником одновременно кинулись на стонущий голос. Но темный пригнувшийся человек метнулся нам под ноги, сбил полковника в снег, откатился под соседний состав. Пан Чеслав вскочил и бросился за ним. — Держи-и-и-и! — донеслось откуда-то от вокзала. Люди бежали, рассыпавшись цепью между эшелонами, пригибаясь, и пули взметали, царапали снег. И снова совсем где-то рядом грохнул выстрел. Теперь крики раздавались совсем уже в другой стороне. Все вокруг стихло, так же быстро, как и возникло. Бесшумно, из темноты, на нас вышел, шатаясь, майор с расстегнутым воротом гимнастерки и без шапки. В одной руке он держал парабеллум, другой зажимал плечо. — Что с вами? — я бросилась навстречу ему. — Вы ранены? Он отдал мне пистолет, прислонился к вагону, чтобы не упасть, насмешливо улыбнулся: — Поскользнулся на апельсиновой корке, Анечка!.. Нет ли бинтика, часом? Я всегда говорил, что женщина на корабле приносит несчастье… К нашему вагону приближалась толпа, слышались злые, возбужденные голоса. Кто-то громко стонал. Первым подошел полковник, он нес две шапки, свою и майорову. Руки его тоже были в крови. Он бросил шапки в раскрытые двери вагона, упрекнул майора: — А что я говорил? — И сказал шагавшему рядом с ним человеку: — Скорее врача… — Не надо, не надо, — попросил майор. — Меня Анечка перевяжет. — И он сделал несколько робких, неверных шагов навстречу толпе, подходившей к вагону. Толпа расступилась перед ним. В самом центре ее на руках конвоиров бессильно обвис старшина. Рядом кто-то нес его вещи: пистолет без обоймы, вещмешок, финский нож. Его бледное длинное лицо с помятыми усами было сине-багровым. Один глаз заплыл, растерзанная гимнастерка висела клочьями. Увидя майора, Фуфаев сплюнул и хрипло выругался: — У, гад… Жаль, тебя не успел… — Но, но… — кто-то стал крутить ему руки. Но майор отстранил: — Погодите… Зато я успел! — сказал он Фуфаеву. — За Женьку Вараксина, сволочь! Думал, шутки с тобою шучу? Я тебя еще в Ковеле, гад, приметил, левшу! Да все сомневался. Всю ночь напролет не спал, думал… Ты иль не ты? Пока ты не подкрался с ножом, — и он обернулся ко мне возбужденно: — Вот ваш подопечный! Вы все заступались! Чеслав снова сказал: — Врача… Лечь скорее в постель, пан майер, в постель! Так не можно… Он повел Александра к вагону почти как ребенка, за руку: — Лечь скорее в постель! Аня, быстро разденьте его! Фуфаева потащили чуть ли не волоком к вокзалу. Лица у конвойных были озабоченные, все скрылись в дверях, лишь тогда Александр, наконец, с нашей помощью забрался в вагон и упал, обессилев, на измятое за ночь в бессоннице сено. Я достала хранившийся «для себя» индивидуальный пакет и при свете коптящего фонаря обмыла остатками спирта рану, потом туго забинтовала крест-накрест. Все руки и шея майора были в синих кровоподтеках: они дрались в вагоне, Фуфаев пытался его задушить, а майор отбивался, прижав спиной уже отнятый нож. Подчиняясь движению моих рук, Александр послушно прилег, все еще возбужденный, горячий от драки: глаза его в полутьме ярко блестели. — Ты хорошая, Аня, — сказал он серьезно, совсем без улыбки. — Извини, что поддразнивал… Ты, пожалуйста, не сердись… А рука у тебя очень легкая, мне сейчас сразу легче… — Спите, спите, — сказала я, почему-то краснея. Мне казалось, сейчас предо мною совсем другой человек, так в нем вдруг проступила какая-то незнакомая мне основа. — Кой черт, спите! — сказал он, подымаясь на сене. — Какого дружка моего загубил! Ну, не гад? Дурак подкидной! И чего ему еще надо? Откуда идет? От кого? — Теперь всё узнают, он в надежных руках! — Да, все так, дорогая… Полковник, ходивший в волнении по вагону, — он был потрясен происшедшим, расстроен, — обернулся, сказал Александру: — Вы были неосторожны! Нельзя так… Зачем вы открыли себя за игрой? Ведь он же все понял… Я вспомнила все, что сказал Александр Николаю, и только сейчас испугалась за всех нас, уже задним числом. За годы войны я привыкла к опасности: она была всякой, но чаще открытой, привычной, знакомой, а эта, принесенная Николаем Фуфаевым, или кем-то другим, кто так назывался, припрятанная, потаенная, была для меня куда более страшной, вернее сказать просто чудовищной, подлой, она кралась, лгала, притворялась, высматривала из-за угла, чтобы выстрелить в спину. Она могла ждать Победы — и действовать после войны, а этого я уже просто не постигала. Война есть война, а подлость есть подлость. Всему свое имя…
В Киеве, под гулким стеклянным сводом вокзала, мы трое прощались уже полчаса. Чеслав ехал в Москву, и поезд его отходил через десять минут. Я ждала состава на Харьков, чтобы там пересесть еще раз, на Воронеж. Александр оставался здесь, в Киеве, его клали в госпиталь, он был возбужден и рассеян. — Когда будете в Польше, прошу к себе в гости, — жал руки мне Чеслав. Его доброе, мягкое, с расплывчатыми чертами лицо исказилось страдальчески-нежной гримасой. — Я ведь еду сейчас за женой. Если сын у меня народится, назову Александром, если дочка, то Анной, Аней, Анежкой. Очень, очень хорошее имя! — говорил он, заботливо поправляя на мне портупею. — Жаль, что вы уезжаете. Я привык к вам и к майеру… — Да, я тоже, — сказала я, думая о другом. Чеслав еще раз крепко стиснул нам руки и пошел по перрону, оглядываясь и выискивая в толпе нас глазами. Мы ехали ему вслед, пока он не скрылся в вагоне. Потом медленно побрели по залам, переполненным пассажирами, обходя чьи-то руки и ноги, разметавшиеся на каменном, плохо мытом полу, натыкаясь на сундуки и чемоданы всех форм и размеров, на мешки и кошелки: война сорвала с насиженных мест миллионы людей, разрубая привязанности и самые верные дружбы, обрывая любви, не досказывая подуманное, не дополняя услышанное…
ПОКА ЖИВЫ, ПОКА НЕ ЗАБЫЛОСЬ Из дневника писателя
* * *
Белой птицей взлетает в зенит и медленно зависает, распустив незримые крылья, осветительная ракета, что-то хищно выглядывает внизу, трепещет от злости, но катится вниз, не увидев, не высмотрев ничего, не успев. За ней следом немедленно поднимается в небо другая. Та, как будто заранее что-то угадывая, успевает заметить, прицелиться, клюнуть: где-то тихо взблеснуло орудие, громко шаркнуло, свист пронесся по темной невидимой траектории, и вражеский снаряд поднял вверх осколки и клочья сырой, торфянистой земли. Снег, вода и воронки, чернеющие на широком лугу, пахнут мертвенно тленом, так, что судорогой сводит горло.* * *
Мина ухает филином. Как дятлы, стучат пулеметы. И, словно какие-то неизвестные в наших краях безымянные птицы, тут и там перепархивают, поцвикивая, пули! Ну, прямо птичий рай!* * *
Сны во сне? Или это было со мной наяву, а теперь в подсознании вспоминается? Снаряд летит с таким воем и гулом, как будто это не обточенное и отполированное обтекаемое тело, да к тому же еще заостренное, а перевернутая, раструбом вперед по ходу движения, фантастическая воронка, засасывающая в себя вместе с воздухом все живое… Вот — сейчас. Вот — и я. Вот она долетит — и меня… И я с грохотом взрыва, с ужасом моих разрывающихся кровеносных сосудов, мозга, сердца, в неуловимое для окружающих мгновение втянусь туда и — навек, навсегда, в никогда, в бесконечность. Я вся растворюсь в этом страшном, горячем, вонючем разрыве. Но снаряд пролетает мимо — ирвется где-то далеко позади, за траншеями, на огородах. И опять закурлыкал, завыл, подлетая, другой. В этом сне, в этом видимом мной, убивающем, жарком снаряде — и весь образ войны. Ее смысл. Ее суть. Ее все уже пережитое и все снова и снова переживаемое сегодня как бы заново. А еще говорят, что война есть война. Мол, окончилась, и довольно. Нет, война — это еще и целые десятилетия мира, они тоже съедены, тоже ранены или убиты прошедшей войной.* * *
В каждой доподлинно правдивой книге о войне всегда есть нечто, неприемлемое рассудком, отвергаемое душой читателя. Это нечто и есть настоящая правда, которая, как известно, никогда не совпадает с правдой общепринятой, с правдой литературной условности, с правдой вымышленной в угоду слабодушным и нежным.* * *
Фронт в моем представлении, издали, в отдельных своих деталях, конечно, не совпал с тем, что я в действительности увидала на передовой. Не совпали движения людей, мотивы поступков, не совпадала речь, ни в лексике, ни в интонациях. Не совпал и ожидаемый страх смерти с тем, какой был генетически уже заложен в меня где-то там, кем-то там, внутри клеток тела и мозга. И для того чтобы все это понять и осмыслить, нужно было не женское, а мужское мужество, на несколько порядков выше. Не дробление мысли на отдельные детали, не частности, а генерализация ее.* * *
5 декабря 1941 года наша 329-я стрелковая дивизия заняла свое место на переднем крае, под Москвой, на Можайском шоссе. Справа и слева, впритык к ней, то и дело подходят свежие части, только что прибывшие на фронт резервные армии, корпуса конницы, дивизии сибирских стрелков, латыши, морская пехота. Всю ночь по дорогам на запад не пройти, не проехать: нескончаемой чередой пушки, танки, «катюши», прикрытые сверху брезентом и еловыми ветками, бесчисленные обозы, грузовики; взвод за взводом — бойцы с автоматами, саперы, связисты, разведчики, лыжники… Молчаливо и осторожно — не звякнет подкова, не загремит котелок — сотни тысяч людей все идут и идут по шоссе к переднему краю. Фронт близок, а враг коварен. Глухая, тревожная тайна объединяет нас всех в одно целое. Впереди, над заснеженным лесом, то и дело вспыхивают и долго трепещут в мглистом воздухе зарницы: там, на фронте, работает артиллерия. Мы слышим глухие, далекие взрывы, видим темно-багровый клубящийся дым в полнеба, и сердце сжимается от предчувствия боя, опасности, а быть может, и смерти. Мы, тылы, отстаем от полков. Говорят, стрелки с ходу уже где-то вошли в соприкосновение с противником, получили задачи, а мы все еще возимся с грузами, выволакиваем из глубоких сугробов огромный обоз. Лютый, иглистый, с ветром мороз вдруг сменяется влажной оттепелью. Небо в низких, почти коричневых тучах. Валит косой, мокрый снег. Ему навстречу нам, медсанбатовцам, и предстоит пройти почти пятьдесят километров и сразу же развернуться, принять первых раненых. Мы идем очень медленно, увязая в сугробах. Шинели промокли. На шапках-ушанках комья мокрого снега, он тает и тут же стекает за воротник. В теплых валенках, выданных старшиной перед самым отъездом на фронт, уже хлюпает влага. — Подтяни-ись! — командует наш комбат, военврач третьего ранга Иосиф Григорьевич Поляков, обычно приветливый, добрый, а сегодня сутулый, угрюмый. — Подтяни-ись! Шире шаг! Вот и вечер, а мы все еще на открытой, заснеженной, белой равнине. Снег уже прекратился, снова сильно морозит. Дорога поблескивает, как стекло, и становится скользкой. Под прозрачной пленкой льда — следы шин, многих конских копыт, широкая колея от раската саней на ухабах. Темнобровая, зеленоглазая Ира Лизунова — на фронте она добровольно, ей нет еще восемнадцати — вдруг наклоняется и выковыривает из-подо льда латунную гильзу от винтовочного патрона, показывает мне издали: — Трофей! Она очень довольна. И я, честно сказать, завидую ей: везет человеку! Такая находка! Мы, медсестры, настолько еще не знаем войны, что нам кажется невероятным, например, увидеть живого пленного немца! Вот их ведут мимо нас, прямо с фронта, и мы долго оглядываемся на их странные небритые лица, на платки поверх травянистых шинелей, на соломенные калоши. Мы глядим на них еще без брезгливости, с любопытством. Но вот где-то неподалеку гулко рвется снаряд. Теперь мы внимательно смотрим вокруг. Как-никак приближаемся к фронту. И вдруг я вижу пятно крови у себя под ногами, на самой дороге, оно уже замерзшее, порыжелое. Здесь до нас проходили какие-то части и, может, кто-то был ранен, может быть, даже убит. Вот ложбинка от взрыва мины или снаряда. Она уже чуть присыпана снегом, но все же заметно, в какую сторону лег выброс мерзлого грунта, как копотью зачернило сугроб. Вот у дерева, стоящего при дороге, осколками срублены ветки… Веселая, озорная украинка Нюся Платонова, болтавшая и смеявшаяся всю дорогу, заметно смирнеет. Лицо ее становится очень серьезным. (Потом, из-под Вязьмы, из гибельного окружения, связной самолетик, прорвавшийся чудом, занесет к нам, оставшимся с грузом по эту сторону, от Нюси письмо: «Мы — на острове, нас со всех сторон захлестывает вода. Вчера — по коленки. Завтра — по пояс. А там, видно, с головкой… Передайте привет моей маме…») В сумерках, почти в темноте, наша колонна втягивается в большое село. Здесь совсем недавно был бой: еще рвутся на огородах снаряды. А вот на обочине лошадь с разорванным брюхом, она вся трепещет, подергиваясь всем телом, хрипит. Вот убитый боец, разбросавший по снегу руки и ноги. В его мертвых, остывших глазах снеговая крупа. А там, на западе, куда откатилась война, что-то гулко и громоподобно грохочет, небо в бурых, пылающих, круто завихренных тучах. Кажется, сейчас все сомкнется, перемешается, — земля, небо и снег, — и будет долго бурлить и кипеть, извергая в зенит декабрьского неба тяжелое, почти свинцовое пламя.Первых раненых мы принимаем в Никольском. Полки ведут бой на Москве-реке. Они залегли на заснеженном льду, потому что с крутого, холмистого берега, где засели фашисты, беспрерывно бьют орудия и минометы, не дает поднять головы пулеметный огонь. В батальонах и ротах большие потери. Рассказывают: одной миной в первом полку были сразу убиты командир полка, комиссар и начальник штаба. Они вышли все вместе вести полк в атаку. Я стою в избе у стены, плотно прижавшись спиной к промерзшим бревнам: в комнате так много раненых, что некуда ступить ногой, нельзя сделать шагу. Окна, вышибленные бомбежкой, туго забиты соломой. На полу — снарядная гильза с бензином и крупной каменной солью, фитиль тускло тлеет, коптит. Тесно. Душно. Пахнет кровью, бинтами, махоркой. Санитары то и дело вносят все новых и новых раненых, осторожно снимают их с носилок, кладут на солому. — У меня больше некуда класть! Пожалуйста, не носите, — говорю я, но они пожимают плечами. — А куда же тогда? Везде переполнено. Не оставлять же на операционном столе, там и так люди очереди ждут! Да, я знаю: сейчас много раненых, и главный поток идет не ко мне, — в палату для нетранспортабельных, — а в приемо-сортировочное отделение, в операционно-перевязочный блок, где врачи и медсестры уже падают от усталости. Ко мне, словно к берегу, прибивает только самых тяжелых, с ранением в голову, в легкие, в брюшную полость, с ампутированными конечностями, почти умирающих. Иные и умирают тут, потому что медицина бывает бессильна. Иные, полежав день-другой, начинают ровнее дышать, приходят в сознание. И каждого я должна с ложечки накормить, напоить, каждому измерить температуру, следить за их пульсом, дыханием, поворачивать, как ребенка, с боку на бок, делать инъекции, давать кислород, класть грелки к ногам, хлопотать с перевязками, с переливанием крови. Сама я без отдыха уже третьи сутки и за все это время не присела ни разу. Как волчок я кружусь днем и ночью от одного изголовья к другому. — Сестра, пи-ить… — Сейчас! — Сестра, больно мне, ох, больно мне, все горит огнем… — Сестра, пить… Капитан из второго полка, с бинтами на лбу (он ранен в голову осколком снаряда), глухо стонет, кричит. В бреду ему кажется, что он в плену у врага и кто-то мучит его, пытает. — Не скажу, не скажу! — кричит он, извиваясь на своем узком ложе. — О-о, не троньте, не троньте, изверги!.. Звери! Рядом раненный в полость живота, перенесший две операции. Он все время просит воды. Сперва все канючил тихонько, а теперь говорит решительно, громко, с обидой: — Пить! Сестра, пить! Я молчу. Через две-три минуты он опять, с новой силой: — Сестра, пи-ить! Пить! Пи-ить! Подхожу к нему, наступая на чьи-то руки и ноги, успокаиваю, вытираю стерильной салфеткой пот со лба: он весь в смертной истоме. Мокрой ваткой смачиваю его пересохшие губы. — Нельзя тебе пить! Потерпи, а то хуже будешь болеть… Он словно бессмысленно прислушивается к моим словам, так вся бледная шея и узкие плечи напряжены и повернуты, и вдруг крик мне прямо в лицо: — Ах ты… — и длинная, грязная брань повисает в воздухе. — Я кровь проливал, а ты… мне… воды жалеешь?! Я закрываю лицо рукавом телогрейки и молча вся дергаюсь от рыданий. Мои нервы уже не выдерживают. И больше всего мне стыдно сейчас перед теми, кто слышал весь наш разговор: что бойцы подумают обо мне? Если дать ему пить, он умрет, так сказали врачи. И я просто обязана выполнять указание. Мое милосердие — в этой жестокости, с какой я не даю ему столь желанной воды. Но кто может понять меня здесь в этой смертной палате? — Ну, дай ему, дай воды, пусть подохнет! — слышу я чей-то мрачный, угрюмый голос. — Дай ему, хоть мы отдохнем! Никому нет покою… Я молча выпрямляюсь среди палаты и, наступая на чьи-то руки и ноги, бреду назад, к бревенчатой стенке, где ведро с водой, сумка с медикаментами. — Сестра, пи-ить! — опять просит все тот же. Он забыл уже, как ругал меня, обзывая дурными словами, и теперь уже ластится: — Ох, сестреночка, милая, пить!.. Дай воды!.. Ой, пить! Хочу пить… Теперь до рассвета завел… Когда наша дивизия находилась на формировании, мы в теории хорошо изучили вопросы эвакуации раненых с поля боя, их лечения во фронтовых условиях и отправки в тыл. Там, в Рузаевке, все казалось простым, очень легким: мы своим собственным медсанбатовским транспортом вывозим раненых из полков, «на себе», здесь оказываем нужную медицинскую помощь, а от нас армейские и фронтовые медицинские части вывозят раненых своим транспортом уже дальше, в тыл. Но на практике, в момент наступления под Москвой, с первых же дней все спуталось, перемешалось. Мы попросту захлебнулись в потоке прибывающих из полков искалеченных, вышедших из строя людей. У нас нет отдыхающей смены, нет хирурга, готового заменить уставшего у стола. Мы все без отдыха, безотлучно на посту день и ночь. День и ночь, и это, конечно, не может не сказаться на нашей работе. Лишь позднее, уже где-то в конце января, у нас были заведены «железные» смены. Что бы там ни случилось, а кто-то шел в штабную палатку и отдыхал, приняв лошадиную дозу снотворного: иначе «с разбегу» и не уснешь. …Я не помню уже, какая это по счету моя бессонная, бессменная ночь. Мое тело мне кажется невесомым и само скользит по стене к полу: рухнуть, скорчиться где-нибудь в уголке и уснуть, а там пусть хоть убьют! Сперва только б поспать… Усилием воли я стряхиваю с себя навалившуюся, словно каменные глыбы, усталость. Выхожу из избы на крыльцо, беру пригоршнями острый, колющий снег. Тру щеки и лоб. Мороз так силен, что внутри все сразу спекается, дыхание перерезает. В мокрое от снега лицо вместе с ветром бьет колючая, словно гвозди, ледяная крупа. Вдруг кто-то натыкается на меня, как слепой. — А, это ты? — окликает наш комбат. — Тебя мне и надо! В белизне снегов и морозного неба мне кажется, он широко улыбается. И только когда Поляков поворачивается как-то боком, я вижу, что это у него на лице не улыбка, а маска усталости: губы свело судорогой. — Да, слушаю! — отвечаю я. — Собирайся, поедешь в Звенигород! Повезешь раненых. — Но… я на дежурстве! — Оставишь на санитаров. Все сменные, сама знаешь, в перевязочной. И класть уже негде. Надо нам разгрузиться. Так что быстро! Я пригнал тебе восемь открытых машин… Они уже грузятся. Через три минуты я в шинели, надетой поверх ватника, в ремнях с портупеей и противогазом, выхожу на дорогу перед штабом батальона. Колонна грузовиков, возвращавшихся порожняком с фронта в ДОП за снарядами и продовольствием и повернутая с перекрестка в медсанбат, уже вся загружена. Санитары несут последние носилки с ранеными. Каждый плотно укутан в меховое одеяло-конверт, спеленут, застегнут на все пуговицы. Иные прикрыты еще плащ-палатками, обложены химическими грелками. Дорога дальняя, по большому морозу. В пути много раз я должна буду остановить всю колонну и проверить в каждом кузове, кто как себя чувствует, не замерз ли, не истекает ли кровью. Сама я сажусь в головную машину и стараюсь не думать об обратном пути. Это самое трудное в моем рейсе. Как я буду возвращаться назад с грузом толстых меховых одеял и носилок, — одному богу известно. Никто меня не возьмет. Иной раз часами разыскиваешь попутную к фронту машину. Ведь все они нагружены до предела: снаряды, горючее, продовольствие, фураж, медикаменты, теплые полушубки и валенки, — все нужно бойцам на переднем крае, и притом неотложно. Ни для меня, ни тем более для носилок, не вписанных в накладные, на полуторках места нет. Это воля шофера — взять меня с грузом в кузов или не взять. Еще накукуешься одна на шоссе, на лютом морозе… Но приказ есть приказ. И я еду. Верно, именно с этой поры запах пролитого в снег бензина мне всегда напоминает наступление под Москвой. И с этих же дней — навсегда, до скончания века, я храню в душе благодарность и уважение к военным шоферам. Краснолицые, грубые, с лиловыми от мороза руками, пропахшие махрой и соляркой, в полушубках, от грязи уже ставших чугунными, они — самые нежные, самые добрые люди… Не было такой полуторки или трехтонки на всей Можайке времен наступления сорок первого года, на которой бы я ни проехала к фронту или от фронта! Не было таких ухабов и сыпучих сугробов, через которые ни прошли бы автобатовские разболтанные, крашенные в цвет снега машины. Не было такого мороза, который бы остудил человеческую доброту. Вам, делившим со мной чай из пахнувшего бензином ведра и хлеб, разрубленный на куски топором на морозе, от чистого сердца спасибо! В кузове, на ледяном ветру или рядом с водителем в тесной кабине, а то на подножке, лишь бы только за что-то держаться руками, на ящиках со снарядами, на цистернах с бензином — вопреки всем законам и запрещениям, — посчитать бы теперь по спидометру, сколько там накрутилось километров и сколько встретилось добрых, дружеских лиц! Да куда там, теперь не сочтешь, а тогда только крикнешь: «Спасибо-о!» — и еще на ходу — на обочину, а за машиной, спешащей скорее на фронт, лишь белый дымок вьюги да сизый — выхлопа. А тебе уже часовой от въезда машет рукой: «Скорей! Тебя ищут! Там работы полно, все с ног уже сбились…» За войну я видела много больших наступлений. Августовское под Спас-Деменском в сорок третьем году — в результате мы вышли к Смоленску, а затем к Могилеву, Орше, Витебску. Наступление в Белоруссии — с выходом в Польшу и Восточную Пруссию. Наступление на Варшаву. Наступление на Берлин… Все они были очень различны, но и чем-то похожи. Обилием техники. Накопившимся опытом. Закаленностью чувств… Наступление, под Москвой, на мой взгляд, уникально. Оно ото всех других наступлений стоит как бы отдельно, особняком, с густым налетом военной романтики. К сожалению, я не военный историк и многое видела «из окопа», с той самой осмеянной критиками точки зрения рядового участника, которому вроде бы самою судьбою отказано что-либо понимать в происходящем. Но я все же видела что-то, пусть «из окопа», и это увиденное мне запомнилось навсегда. В наступлении под Москвой мы все были довольно неопытны: от маршалов и генералов до рядовых. Да, с гранатами и «горючкой» бойцов посылали на немецкие танки. Но танки… горели! И одетые в красноармейские шинели орловские, курские, вологодские, ивановские мужики громили врага, отгоняли его от столицы шаг за шагом. Не откуда-нибудь от Буга или Немана, а от Химок, от Наро-Фоминска, от Кубинки. (Нынче к бывшей линии фронта можно проехать автобусом за 5 копеек!) Я не знаю поименно людей, кто выковывал резервные армии, кто приказывал давать эшелонам, спешащим на фронт, «зеленую улицу», но в самые напряженные дни под Москвой, а вернее, часы, когда в октябре сорок первого года решалась судьба столицы, а быть может, и всей страны, и все висело на волоске, кто-то трезво и деловито, не торопясь, создавал в тылу ударные силы, не резервы вообще, чтобы дыры заткнуть, а громадные, стратегические ударные силы. И начало им было положено, вероятно, в июле, потому что в конце августа я приехала в уже созданный штаб 329-й дивизии, и там были полки, медсанбат и шла большая, хорошо налаженная подготовка. И таких дивизий, как наша 329-я, я думаю, было много, в том числе знаменитые сибирские, сыгравшие такую большую роль в наступлении под Москвой. Отойдя от войны на двадцать с лишним лет, а от боев в Подмосковье на все двадцать пять — четверть века! — хорошо видишь наши промахи и ошибки. Однако сейчас, на почтительном расстоянии, яснее видны и достоинства, которыми была отмечена московская операция. И первое, на мой взгляд, достоинство наступления под Москвою — это внезапность. Немцы просто не предполагали, что мы осмелимся наступать! Всего лишь месяц назад в Москве все напряглось до предела, из столицы были срочно эвакуированы важнейшие государственные учреждения, иностранные посольства, оборонные предприятия, а линия фронта истончилась до нитки — вот-вот разорвется. И вдруг скрытно, беззвучно, в абсолютном порядке, к фронту стянуты целые армии хорошо одетых, обученных, подготовленных к наступлению бойцов! Немцы в первые дни, наверное, были в шоке. Они поздно опомнились: когда уже были выбиты из насиженных мест, когда покатились по голой равнине к Ржеву, Вязьме и Юхнову. Второе достоинство наступления — высокий накал чувств. Внутренне у каждого складывалось убеждение, что нельзя не разбить врага, хотя это и трудно, нельзя переждать, пересидеть, ведь за нами — Москва. Тут включались в действие какие-то скрытые силы, таящиеся в человеке, и тогда невозможное становилось выполнимым, возможным. А третье достоинство выросло из наших недостатков — обилие кавалерии. В глубоких снегах Подмосковья в ту суровую, вьюжную зиму и наша и немецкая техника пасовали; только лыжники и кавалерия пробивались по сугробам к назначенным пунктам да пехота-страдалица, увязавшая в поле по пояс, измотанная, бессонная… Всадник с красной звездой на папахе — это символ московского наступления. Он первым врывался в горящие села, обходил с тыла отступавшие немецкие части, налетал на вражеские штабы среди ночи. Очень часто я видела в перерыве между боями наших конников, проходивших по фронту, по снежным проселкам эскадронами с песней, с развернутыми знаменами — отголосок и отблеск великой гражданской… О гвардейцах-кавалеристах слагались легенды. Что-то было в их черных бурках, в малиновых башлыках, в их танцующем, легком строю щемящее душу. Как-то ночью, под Рузой, ко мне в эвакопалатку прибежала в забрызганном кровью и йодом халате Римма Орлова, медсестра из Воронежа, задыхаясь от слез, рассказала: — Сейчас девушку из гвардейского кавалерийского корпуса оперировали. Тяжелораненую. Осколком. Сколько бились, все хирурги у стола собрались, кровь прямо от донора… искусственное дыхание, массаж сердца. И все — напрасно… Парень с ней, доваторец, наверно, жених. Все кричал: «Доктор, спасите ее, доктор, спасите!» А я инструмент подаю — и не вижу, слезы градом. И все плачут… Позднее, на равнинах Смоленщины, в условиях ясной, солнечной погоды, беззащитная от авиации кавалерия понесла большие потери. Я и позже встречала кавалеристов, летом сорок четвертого в состав нашей армии входил конный корпус. Но смотреть на них в эти дни было больно и грустно…
Тяжелее других городов и сел Подмосковья нам досталась Новая Руза. Город весь на холмах, окруженный глубокими каньонами, оврагами, заросшими лесом. И кругом на многие километры — вековые леса, березы и ели, сугробы, сыпучие, словно дюны. Машины с грузом застревают намертво. Воздух жесткий, звенит от стужи. Мороз в двадцать градусов кажется уже потеплением. Все промерзло: одежда, хлеб, лекарства. Лица черные и распухли, руки мерзнут, не гнутся. Мы, кочуя с палаточным медсанбатовским городком по лесам, вроде бы ко всему уже попривыкли. Но здесь, под Рузой, и мы с изумлением глядим на высоченные ели — шапка валится с головы, на лесные, заснеженные дебри, на овраги, сугробы. Я такие леса прежде видела только в кино. Здесь мы спешно — в который раз — расчищаем большие площадки под операционно-перевязочный блок, под эвакопалатку, приемно-сортировочное и терапевтическое отделения, перебрасываем с места на место сотни кубов слежалого, мерзлого снега. Мы валим деревья, срубаем пни, натягиваем палатки, ставим в каждой по две печки — из железных бочек из-под бензина, пилим и колем дрова, бесчисленные кубометры дров, единственное спасение на лютом морозе. Все наши подразделения далеко разбросаны по чаще леса, рассредоточены от вражеской авиации, и прорыть между ними в снегу связующие дорожки — это тоже большая работа, которая всякий раз выпадает на нашу долю. В медсанбате в основном молодежь, и врачи и медсестры — все очень молоды и все работают вместе, плечом к плечу. Мы, трое воронежских, прямо из десятилетки: Ира Лизунова, Римма Орлова и я, комсомолки. Четвертая с нами — Ирина Ивановна Антипенко, чуть постарше, она только кончила Воронежский государственный университет, географический факультет, член партии. Мы все очень дружим, дорожим своим маленьким «землячеством». В медсанбате, кроме нас, воронежцев, очень много украинцев, белорусов. Среди врачей особое место занимают харьковчане и одесситы — все, кто успел отойти вместе с линией фронта. Студенты Одесского мединститута, молодые врачи, терапевты, хирурги — все люди насмешливые, певучие… Вечерами, в короткие передышки, если нет раненых, все мы набиваемся в одну большую палатку, усаживаемся вокруг печки с раскрытыми дверцами и много и долго поем русские, украинские и белорусские песни, слушаем, как комбат наш читает стихи. Где-то близко рвется снаряд, снег ссыпается с веток деревьев и долго течет, шуршит по крыше палатки, а нам возле печки уютно, тепло, мы просим Иосифа Григорьевича: «Еще!» И он курит черную трубку и снова читает, что-то очень печальное, странное, необычное. Здесь, под Рузой, в лесу мы хороним наших многих товарищей по дивизии. Здесь случилось событие, о котором потом среди нас, медсестер, еще долго ходили взволнованные разговоры. Когда в одном из полков на поле боя во время атаки был убит командир роты и люди растерянно залегли, из цепи поднялась санинструктор Вера Орлова и скомандовала: «Вперед! За мной, товарищи!» Рота встала, вся, как один, смела немецкие укрепления. Веру ранило, ее провезли на машине мимо нас прямо в Москву, в Лефортовский госпиталь. И мы долго дивились, вспоминая ее, — ведь такая же как и мы, простая девчонка, а какая отважная, смелая!.. Сказать честно, я всегда удивляюсь, когда слышу о подвигах бойцов нашей дивизии. Ведь люди у нас сплошь из запаса: орловские, курские, воронежские, тамбовские мужики, выше среднего роста, осторожные, неповоротливые — степняки, не охотники! — все они, на мой взгляд, тележного скрипу боятся. И в строю они выглядят как-то очень неловко, мешковато. И на занятиях по тактике никогда не блистали военной сноровкой. Да и подумать так: где было взять крестьянину военной сноровки, когда он всю свою сознательную жизнь провел в поле с волами, покрикивая: «Цоб-цобе!» А волы, как известно, спокойны, неторопливы. И вот едет такой человек не спеша за сто верст в город, на «ярманку», везет свое счастье — а счастье, как известно, всегда едет на волах, — и не думается мужику, что придется ему падать и перебегать, выволакивать из сугроба тяжелую пушку под вражеским минометным огнем, подниматься во весь рост с гранатой на вражеский пулемет и окапываться на снегу, пряча длинное свое, темное тело, спать на лютом морозе, мокнуть под дождем и в распутицу, погибать — и все-таки побеждать, гнать врага все дальше и дальше на запад… Да, неловкие, осторожные мужички, — а ведь взяты Новая Руза, Можайск, бесчисленные деревеньки и села, освобождено от врага все западное Подмосковье! По дорогам на запад, в глубоких сугробах — немецкие разгромленные танки, пушки, грузовики, тягачи, штабные автобусы, трупы, трупы… Эта первая наша победа добыта скорее усилием сердца, чем силой оружия. Но она дала самое драгоценное нашей армии — опыт и веру в грядущую, окончательную победу. В то, что мы пройдем по аллеям Тиргартена, что над рейхстагом взовьется наше красное знамя…
Нынче спрашивают меня: а что было на фронте самое страшное? И я всегда отвечаю: кошки в Моденове. Я, конечно, шучу. Но во всякой шутке есть доля правды. Да, все было страшно: Москва, суровая, незнакомая, в колючей проволоке заграждений и надолбах, и ночная дорога вдоль фронта; обстрелы, бомбежки, особенно когда везешь раненых. Все выскочат, и шофер уткнется в обочину, и у кого руки-ноги целы — разбегутся и спрячутся, а те, что прикованы к месту, лежат на носилках и смотрят в лицо тебе остановившимся взглядом. И я… остаюсь вместе с ними, молча слушаю, как налетает — не поверху, в небе, а уже по земле — медлительный нарастающий гул, и грохот разрывов, и треск пулемета по обшивке автобуса. И ведь видит на стеклах, на крыше автобуса красный крест, а строчит! Что ему — красный крест! И вот гул затихает, самолет где-то кружится, кружится, разворачивается по солнцу, чтобы снова опять проутюжить дорогу, а я гляжу в потолок, на щербатые дырки обшивки и жду. Нет, это очень было невесело… Да что говорить! Страшно было слушать рассказ о Тане — девушке из Петрищева. Мы узнали о ней еще задолго до того, как вошли в эту деревню. На ночлеге старуха-крестьянка рассказывала нам, медсестрам, как немцы пытали молоденькую девчонку, которая назвала себя Таней, как вели ее босиком на мороз, как вешали и она перед смертью успела крикнуть толпе что-то верящее, упрямое. Мы не знали еще, что Таня — это Зоя Космодемьянская. Страшно видеть убитых… Страшно было с ранеными на машине случайно заехать во вражеское расположение. Был со мной такой случай. Шофер въехал в деревню и ахнул: «Немцы!» — и скорей разворачивать. А куда развернешься по глубокому снегу! Но когда речь заходит о жизни, видать, и снег не помеха. Рванули так, что немцы выстрелить не успели. Сперва в сумерках, наверное, посчитали за своих, а потом, когда разглядели, мы были уже далеко. Но все это страшное в сущности есть обычные будни войны, в них все понятно для разума и для чувств. А вот кошки в Моденове — непонятно. И это пугало. В деревню Моденово мы вошли рано утром. Там, где нынче стоят деревенские домики, тогда, в январе сорок второго, лежал один черный снег. Ледяное, сожженное царство. А в нем ни живности уцелевшей, ни горестных стариков и старух, молчаливо и скорбно копающихся на пожарище, как копались они уже в сотнях других виденных нами сожженных деревнях. Ничего. Никого. Один черный холод. Мы в Моденове не разворачиваемся: ждем приказа ехать дальше, в Можайск. Поэтому, вместо целого городка, ставим только палатку для обогрева и ждем выхода на дорогу. В кухнях — ни огонька. Снабженцы раздали нам по два сухаря, по грудочке сахара и прибавили: «И за это скажите спасибо. Кто не работает, тот не ест»… А мы так устали, что и спорить не захотели. Нет, и ладно! Сидим, греемся. И вдруг в незастегнутую дверь палатки осторожно на брюхе вползает какое-то длинное, черное существо, лесной дикий зверь. И шерсть на загривке торчком, глаза, как две зеленые фары. Зверь понюхал, понюхал нас всех, оглядел и прижался к ноге Лиды Терещенко — и так жалобно замурлыкал… — Кошки! Батюшки, кошки! Да сколько их!.. — кричит Лида. В самом деле, одна за другой к нам в палатку ползут, лезут и идут одичавшие, иззябшие на морозе, голодные кошки, словно духи лесные, исхудавшие, тощие, подобные привидениям. Исступленно ласкаясь, мурлыча, визжа, они обвиваются вокруг ног, дрожа всем телом и сверкая глазами; кидаются прямо на грудь, тычут мордами в руку: погладь, ну, погладь! Обвиваются кольцами, трутся ласково и благодарно. Вся палатка наполнилась странным, скрипучим их ласковым пением… И та черная, что вошла в тамбур первая, всем своим существом выражая безмерную скорбь и отчаяние — и огромную радость, страстно вьется вокруг Лиды, нежнее других. Лида с ней заговаривает: — Ну, что кис-кис, что, Мурочка, холодно, голодно? И кошка в ответ вдруг кивнула… Мы все замерли. Это было, как в страшном сне. Лида крикнула: — Свят, свят! Сгинь, рассыпься! — и громко захохотала. Но кошка не сгинула, она все терлась и терлась о Лидину руку, мурлыча, как будто что-то рассказывала, и все торопилась, боясь, что не выслушают, не поймут, и все пела от счастья, и все вилась тонким, черным кольцом, выражая всем телом, головой и хвостом безмерную радость от встречи. Бессловесные существа — они все рассказали! Это можно было представить себе: как появились немцы и начали стрелять, как горела деревня, как погибли хозяева. Как голодные домашние твари люто мерзли в лесу, пугливо прячась от немцев, не выходили, пока не услышали на дороге родную, русскую речь… — Надо их покормить, — сказала сердобольная Лида и стала размачивать в котелке сухари. Но кошки не ели. Истощенные, отвыкшие от еды, они все ласкались, все не знали, как выразить свою радость и счастье… Но они не догадывались, что пришел приказ и мы должны срочно сворачиваться и уезжать. Что мы, свои, русские люди, будем вынуждены бросить их без тепла, без еды, в промерзшем лесу, — ведь справа, и слева, и прямо, с запада, все еще стреляют орудия и небо там, впереди, пылает таким же пожаром, каким пылало недавно здесь, над Моденовым, неся смерть человеку и зверю. Мы должны ехать. Обязаны ехать. И мы уехали, отрывая от себя, от рук, от шинелей пригревшихся кошек. Прошло много лет, а я и теперь, вспоминая, раздумываю, разгадываю загадку: как голодные, одичавшие звери, следившие за дорогой из леса, узнали, что мы — не немцы? Что мы — свои, русские люди? Ведь и немец и русский для них одинаково человек! Для меня это тайна.
Когда-то ходила по фронту песенка, и был у нее припев: «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». Ореол необычности, ярчайшей романтики, — что в военном смысле, может быть, и не является большим достижением, — лежит на незабываемых днях наступления под Москвою в декабре сорок первого года. Первая, трудная, но такая большая победа — как первая в жизни любовь. Она окрылила нас, рядовых бойцов. Мы поверили в свои силы. Каждый день мы видели все новые освобожденные от врага города и деревни. На дорогах на запад — груды разбитых немецких грузовиков, танков, бронетранспортеров, подбитые самолеты, зарывшиеся в глубокий снег, толпы пленных, бредущих навстречу прибывшим к фронту свежим частям. На полях от Кубинки к Новой Рузе — трупы, трупы, трупы, здесь и немцы, и финны, беловолосые, дюжие парни. Эфемерное слово «смерть» сейчас грубо-реально, осязаемо, ощутимо: бойцы нехотя стаскивают трупы «завоевателей» в штабеля у проезжей дороги. А на поле они, как снопы во время уборки хлебов, лежат ровно, рядами, как шли. Видно, тоже как в прошлую войну! «психическая атака». Я гляжу на убитых немцев с удивлением, с брезгливостью. С еще большей брезгливостью — на пленных, живых. Обросшие многодневной щетиной, завшивевшие, нечесаные, в каком-то нелепом тряпье, они кажутся очень растерянными, очень тупыми. И не верится, полно, верно ли, что это они начинали войну и дошли до Москвы? Как случилось, что какое-то время побеждали они, эти серые подобия человека? Они были очень жестоки. Эти грязные, в рваных лохмотьях, небритые люди очень злобно и хитро воевали, причем не гнушаясь подумать и о будущем отступлении. И вот в этом тоже загадка и тайна: как можно, заранее зная, что позиции они все равно не удержат, что этой землей им все равно вовек никогда не владеть, и все-таки жечь, взрывать, убивать, убивать — убивать хладнокровно, бессмысленно, из желания убивать?! В этом видится что-то ущербное, неживое. В этом корень их поражения. До сих пор вспоминается: в Больших Вяземах мне рассказывали историю о бессмысленной жестокости. Фашист, взятый в плен, был сильно изранен. Его привезли в наш армейский госпиталь, положили вне очереди на операционный стол. И вот когда женщина-врач наклонилась над ним, снимая повязку, он вонзил ей в грудь финский нож… Давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Со времени наступления под Москвой прошло четверть века: почти целая жизнь! Рожденные в сорок пятом никогда не слыхали гула орудий, никогда не видели страшных взблесков бомбежки, белых, мечущихся прожекторов и не знают, что остается от маленького одиночного окопа, когда его проутюжат гусеницами немецкие танки. А мои боевые товарищи, закрывавшие грудью дорогу к Москве, поседели и постарели. Надо прямо сказать; ряды ветеранов редеют. Умирают бойцы — от болезней, от ран. Пройдет еще пять-десять лет — и никто уже не споет фронтовую: «Давай закурим». И некому будет припомнить, как шли в наступление на укрепленные пункты вдоль кровавого берега Москвы-реки, как брали Рузу, Дорохово, Можайск. Никто не расскажет сегодняшним двадцатилетним, как силен и коварен был враг, сколько пролито крови за нашу свободу, за свободу великой Отчизны. На Новодевичьем кладбище и у Кремлевской стены спят мои генералы, с победой прошедшие пол-Европы: маршал Говоров, у которого я начинала свой путь на Можайке, генерал Цветаев, под началом которого мы входили в Берлин. Падает снег на бронзовый памятник моему командующему армией генералу Ефремову в Вязьме. Мы, оставшиеся в живых, не должны забывать ничего: дни боев за Москву были грозными днями. И — великими. Они вместили в себя и «катюшу» и саблю. Кровь и слезы. Смешное и страшное. Человека и зверя. Это целая эпопея народного гнева и горя. И кто жив, пусть припомнит — и потом уже никогда не забудет!
* * *
Странное у меня чувство: теперь мне кажется, что если бы я не ушла на фронт, то и войны, может быть, и не было бы. Если бы я не оставила родительский дом, может быть, он уцелел бы, не сгорел под бомбежками. Если бы я не написала повестей, романов, стихов, а главное критических статей, может быть, моя жизнь была бы такой же счастливой, как у простой домашней хозяйки, озабоченной лишь готовкой и стиркой. Да, я тогда удовольствовалась бы малым, я считала бы копейки (впрочем, я и сейчас их считаю) и никогда бы, никогда не была бы доверчивой, а всегда подозрительной и настороженной. Но, увы…* * *
Самая первая ночь в армии. Мы еще допризывники. Спим в городском парке. Тот, кто думает, что спать на мягком, прокаленном песке хорошо, — глубоко ошибается. За вечер песок быстро стынет, быстрей, чем земля. Он вбирает в себя приречную влагу, туман и росу, и под боком становится плоским и твердым. Еще неудобнее спать на корнях деревьев, особенно под сосною. Лучше спать на траве, на соломе, а если есть сено, то это уже настоящее счастье. При условии, что на сене не спали собаки и в нем не завелись еще блохи. Помню, мне довелось ночевать на станции Жабинка, неподалеку от Бреста. Усталая от дороги, от встреч, от переживаний, я свалилась, как мертвая, на сеновале. И через мгновение, — уже засыпая, — вскочила. Все тело мое, сверху донизу, как чешуей, было облеплено черными блохами, и если одна, укусив, отпрыгивала от меня, то сейчас же ее место занимала другая. Они вились вокруг моего тела, словно черное облако, — и жалили, жалили остервенело, с садистским наслаждением, с кровожадностью, мои маленькие мучители. Сено было старое, истертое в прах, оно забивало дыхание и мельчайшими семенами и колючими остьями царапало кожу. Нет, я на нем так и не уснула в ту ночь. Я вышла во двор и села на старую колоду, на которой обычно рубили дрова, и так, согнув спину и уткнув голову в руки, и подремала немного, пока не встало солнце, то и дело почесывая укушенные места, раздирая их в кровь ногтями, до боли. Спать на сене прекрасно, да только на свежем! Да еще молодой, да притом — не одной.* * *
В сорок первом году наша дивизия формировалась в Новохоперске, красивом казачьем городке, тихом, зеленом и белом над красивой рекой Хопром. Дома в своем большинстве одноэтажные, каменные, снаружи беленные. Улицы вымощены булыжником. В городе был большой старый парк с разросшимися деревьями, дамба к реке, обсаженная тополями, с другой стороны городок уходил в гладчайшие степи, в ржаные поля. Лишь у самой окраины, над рекой, было нечто вроде покатой возвышенности, холма. Впрочем, может быть, это источенный временем скифский курган, кто знает? Назывался он — Казачий бугор. Видимо, во времена казачества на нем проходили учения, сходки, занятия с винтовкой и конем. А жили мы в доме-интернате для глухонемых, и располагался этот дом на немощеной широкой улице, уходящей вниз довольно покато, к речному броду. Когда, спустя тридцать лет, я приехала в Новохоперск, то в первую очередь почему-то спросила: а как же называется улица, на которой мы жили? На войне-то ведь не было обычных адресов, а была просто полевая почта, воинская часть номер такой-то. И ничто нас, молодых, тогда не интересовало, кроме нас самих, — а что же с нами будет? Ну, да еще, что происходит на фронте… А улица, на которой мы жили в сорок первом году, была вся изогнута, как лук, ее внутренняя сторона натянута, как тетива. Называлась она, оказывается, Мамаева протока. То есть протачивались сквозь русские земли войска Мамая, его армии на конях и повозках шли к броду, чтобы переправиться через Хопер в темноте, под огромными звездами, и двигаться на Рязань, на Москву, на удельные княжества, грозя истребить их огнем и мечом. Какое дивное название! Даже не верится, что за столькие годы и всякого рода потрясения оно уцелело. Это надо же быть такой глушью, это надо же жить так памятливо и аккуратно, что не забыть и через века, через целую вечность, как шел Мамай со своим войском к броду, неся с собой огонь городам и посадам, смерть, насилие, разграбление и постыдный полон… А мы на этой улице делали зарядку в одних галифе и мужских нижних рубашках. Отсюда мы шли на занятия на Казачий бугор или в лес, за реку Хопер, или же на дивизионные военные учения, в поход, с полной выкладкой, с шинелями в скатках, с винтовками за плечами. Здесь же назначали свидания, у ворот. Здесь же покупали арбузы и яблоки. Именно здесь мы прожили страшное и прекрасное время — лето сорок первого года. Страшное оттого, что фашисты уже захватили почти полстраны. И прекрасное оттого, что мы были настолько глупы и молоды, что даже война, фронт, гибель наших товарищей и подруг — все это не предчувствовалось, не ощущалось. Сейчас вспоминаются эта улица, город, базар, церковь, дамба, ведущая к реке, старый парк в пожухлой сентябрьской листве, Казачий бугор. Будьте же вы благословенны, места, пережившие и Мамая и Гитлера! Может быть, вы сумеете донести до каких-то прекрасных дней в неведомых нам, грядущих веках, до еще не родившихся поколений и всю чистоту золотого песка на Хопре, и зелень листьев берез, и синеву спокойного, мирного неба, и улочку на окраине под названием Мамаева протока… Доживите, родные березы, родные пески, родной тихий ток течений хоперских вод, до грядущего. Будьте счастливы!* * *
Улица моего генерала… Почти каждый день хожу по улице Ефремова, самой грязной и самой неблагоустроенной улице Москвы. И всякий раз у меня возникает желание произвести некий эксперимент, расспросить у проходящих, знают ли они, в честь кого так названа улица, кто этот Ефремов и так далее. Долгое время я не решалась. Наконец вижу молодую, очень милую женщину, судя по всему, вежливую и отзывчивую. И спрашиваю у нее: — Скажите, пожалуйста, как называется эта улица? — Малая Трубецкая. — Нет, не эта, а вот эта, по которой вы идете. Женщина молчит. Какой-то шагающий позади нас маленький лысый человечек отвечает угрюмо и нехотя: — Улица Ефремова. Он идет очень быстро, но я его догоняю. — Простите. Я очень благодарна за ваш ответ. Но кто такой — Ефремов? — Летчик. Убит на войне. — А вы Точно знаете? Может быть, это совсем не летчик, а командующий Тридцать третьей армии, погибший в окружении?.. У меня-то дома, в письменном столе лежат фотографии, от которых мне всякий раз делается нехорошо. Вот он, молодой и красивый, с ослепительной улыбкой, с двумя орденами Красного Знамени на груди, обнимает морду прекраснейшего белого коня. Я знакома с его семьей, с его сыновьями… И вот он, тяжело раненный, в окружении и не желающий попасть в плен, стреляет в себя. И вторая фотография у меня в столе, на которую я просто боюсь глядеть: высокий, стройный красивый человек в генеральской форме лежит на простых деревянных носилках, на которых обычно строители таскают песок и гравий, он лежит мертвый, а вокруг него немцы и наши военнопленные, которым приказано его похоронить… Улица моего генерала. Хотя я ни разу своего генерала не видела в жизни. Просто знаю, что он был командующим 33-й, а я в 33-й армии прослужила почти четыре года. И вот этот лысенький, сказавший, что Ефремов — летчик, убит на войне, в ответ на мое возражение оборачивается и с нескрываемым презрением, грубо говорит: — Ваенная! Что он этим хотел сказать, этот дурень? Ну что из того, что я — «ваенная»? Что я — качеством хуже, чем ты? Разве я не спасала десятки и сотни раненых, разве я хоть чем-нибудь причинила тебе неприятность, что ты с такой грубостью и с такой наглостью откликаешься на мои слова: — Ваенная! Да. А я этим горжусь, что «ваенная»! И никогда не променяю твою сытую сегодняшнюю жизнь на ту страшную, холодную и голодную. И на ту опасность смерти. На те морозные ночи на снегу при сорокаградусном морозе. И если ты за это сказал мне оскорбительное в твоих устах: «Ваенная», — то я действительно военная и готова сражаться еще и сегодня с такими, как ты. Я — «ваенная», а ты, видимо, тыловая крыса, судя по выражению твоего лица и по тону. Ты из тех, кто завидуетинвалидам войны, когда они берут хлеб без очереди. Горжусь тем, что ты меня оскорбил, я эту твою ненависть воспринимаю как высшую награду.* * *
Еду на попутной полуторке с грузом медсанбатовских носилок и меховых одеял после того, как сдала своих тяжелораненых в полевой армейский госпиталь. Машина идет к фронту, к передовой, а это значит, что загружена до предела. И все же молодой паренек, шофер, находит возможным подобрать и меня, замерзавшую на перекрестке дорог, на ветру, на тридцатиградусном морозе. Я сажусь к нему в чуть подогретую мотором, воняющую отработанным газом кабину. Уже ночь. Клонит в сон. Мотор мерно гудит. На обдутых ветрами обледенелых подъемах и взгорках он взвывает, ревет, а потом притихает, когда осторожно спускаемся к руслам каких-то неведомых мне, занесенных снегами речушек, в овраги. Едем без фар — из-за ночных бомбардировок с немецких самолетов. Фашисты обычно выискивают такие одиночные машины, чтобы помешать перевозкам, нагнать страху. Бросит бомбу — и деру. И все безнаказанно, по-пиратски. Мы задремываем. И вдруг резкий рывок и визг тормозов: вероятно, водитель заснул, а проснулся от ужаса, — прямо перед нами белесый, чуть покосившийся кузов застрявшей полуторки. Быстрым, почти механическим движением робота паренек успевает вывернуть руль. Мы въезжаем на низенький мост, огибая машину, и с грохотом, с треском и лязгом железа врезаемся в кузов другой такой же полуторки, почему-то стоящей вне ряда. В радиаторе сплющенном, как гармошка, что-то злобно переливается и шипит, громко булькает. Осколки ветрового стекла мелко-мелко позванивают. — Хорош-шо! — говорим в одно слово и вздыхаем. Мы сидим и глядим друг на друга. Потом медленно вылезаем из кабины, он — влево, я — вправо, и оглядываемся в темноте, озираемся, проходим вперед. Если бы машина, в которую мы врезались, не стояла бы на мосту вне ряда, наверное, ничего бы не случилось. Но она стояла, тоже врезавшись в кого-то впереди идущего. И у нее радиатор сплющен, словно кто-то его сдвинул двумя могучими руками, а назад не растянул, не сумел. Споры, крики, матерная брань. А я хожу позади своего шофера и все удивляюсь. Ведь по правилам мы должны были бы влипнуть не в эту, стоящую чуть подальше машину, а в ту, что находилась ближе, в самую первую. Но тогда у нас не только радиатор был бы сплющен в лепешку, а и наши тела. Тогда мы, наверное, больше не двигались бы и не говорили, не ахали, не заглядывали бы под колеса, не стряхивали бы с себя звенящие стекляшки. А этот ужасный гремящий удар — он уже на придержанных тормозах… На излете. Ночь туманная, темная, «тучная», как сказал мой попутчик-шофер. А я думаю о войне и о том, что возможность не сносить головы для солдата, а наверное и для меня, существует не только в моменты боя, бомбежки или вражеского артналета, в момент окружения, а еще и вот так, на армейской дороге, в тылу, в ночной поздний час, когда притупляются чувства и нервы… Я испытываю почти нежность к незнакомому спасшему меня и себя человеку, просидевшему в темной вонючей кабине со мной рядом всю ночь, но сказать ему ничего не успеваю. Грузный, темный мужчина, водитель грузовика, стоящего в голове колонны, молча, даже с какой-то намеренной грубостью, загребает мои одеяла, носилки и уходит вперед. И я тихо, покорно шагаю за ним… Как звать тебя, парень? В живых ли ты сейчас?..* * *
Разговор на переднем крае, в траншее: — Эй, сестра! — Я тебе не сестра… — А кто же ты, раз в юбке? — Такой же солдат, как и ты. Куда пошлют, там и убьют. — Вот те на! А я думал, женщина — значит сестра… — Много вас, таких братьев, только все — двоюродные!* * *
Один известный советский поэт сказал, что на фронте любили фронтовых девушек, так сказать, за неимением лучших. Но, однако, желаю задать частный вопрос: а почему же лучшие-то не были в то жестокое время на фронте? И чем они лучше тех, которые воевали? Я их знаю, хваленых, с каким презрением они окидывали нас взглядом, на сутки приехавших с Западного фронта в Москву. И шинель-то на нас мешком, и сапоги-то кирзовые на четыре номера больше ноги, чтобы можно было их натянуть на портянки. И в брюках-то мы, на не в дамских, изящных, а в ватных, мужичьих. А я как-то однажды привезла с переднего края раненых в госпиталь, в Голицыно. И выбежала мне навстречу сестричка, кудрявая-раскудрявая, кудри шелковые по плечам, в чисто выстиранном белом халатике, и схватила моего раненого прямо за простреленную ногу, в гипсе, потащила перекладывать с наших медсанбатовских на свои госпитальные носилки. Раненый громко вскрикнул от боли, потом помолчал и говорит: «Отойди, кудрявая, пусть меня наша сестра переложит…» Для меня эти слова — лучшая награда. Я-то ведь и не знала, что уже наловчилась, «умею», я все думала о себе — недоучка, «скороварка», «вертолет». Нас учили-то всего два месяца, а потом, после выпуска с курсов, в тот же день — в стрелковую дивизию. А может быть, и не нужно слишком много знать, чтобы сразу хвататься за перебитую ногу, нужно просто — любить? Вот тогда и научишься…* * *
До войны я не знала, что такое бессонница. Лежать до рассвета с раскрытыми глазами и глядеть в потолок — занятие малопривлекательное, по доброй воле ему не будешь учиться. Может быть, после войны, после тяжелой физической нагрузки, мне стало этой нагрузки не хватать, поэтому и бессонница? Не знаю. Но ведь началась она не после салюта Победы. Началась она там же, еще в сорок первом, еще под Москвой, в те самые дни и часы, когда падали от усталости. Бывало, трое, четверо суток на ногах. Сперва на марше по глубоким снегам, километров двадцать пять — тридцать. Потом по прибытии на место, а это чаще всего глухой подмосковный лес, занесенный снегом, и тебя в нем никто не ждет, никому ты не нужен, никто не приготовил тебе ни жилья, ни еды, — поэтому сразу же, без отдыха, с ходу мы беремся за лопаты и начинаем этот снег под деревьями расчищать. На расчищенные места выгружаем имущество, тяжеленные тюки брезента для ДПМ-ских палаток, доски, колья, стекло, оборудование, печки-бочки, автоклавы, носилки, пачки меховых одеял, продукты, медикаменты… Потом вбиваем колья в промерзшую землю, натягиваем брезент, устанавливаем печки-бочки. И пока работаем, пока двигаемся, нам тепло, даже в двадцати-двадцатипятиградусный мороз. Но как только усталость взяла свое, захотелось присесть, так тут же начинаешь мерзнуть. Потом мы еще не успели затопить печки, погреться, поесть, как приходит приказ: ехать дальше. Дивизия за это время продвинулась на десять — пятнадцать километров вперед, и мы не должны от нее отставать. Значит, нужно гасить печи, укладывать, свертывать имущество, грузить его на повозки, на машины, а самим снова в путь, по снегам. А там, на новом месте, начинать все сначала. Да еще в самый трудный момент развертывания привезут колонну машин, груженную ранеными. И тогда — разрывайся, спеши, торопись, успей поворачиваться. Иногда без подсменки работаешь столько времени, что уже не различаешь ни ночи, ни дня, лица людей расплываются перед тобой, как в тумане, берешь в руки шприц, а пальцы не держат, он вываливается из рук на брезентовую подстилку. Помню, я однажды сменилась-таки, легла в отгороженном ото всех закутке на ветки елового лапника, а уснуть не могу. Кровь звенит в голове, в теле неестественная невесомость, словно я уже живу в каком-то другом измерении. Приняла одну таблетку снотворного — не берет. Другую. А сна — ни в одном глазу. Третью. Только начала засыпать, приходит комиссар батальона Румилов и говорит, что привезли раненых, что Лизунова, которая меня сменила, дежурство мне «вернет» и повезет колонну уже обработанных раненых, а мы будем принимать «новеньких», кормить их, перевязывать. Спать теперь нельзя, уже некогда. Я, конечно, встала. Приняла снова дежурство от Иры. Пошла по палатке, хотя чувство невесомости, никогда не ощущавшееся прежде, пошатывало меня. С трудом добралась до печки-бочки: возле нее стояли складные брезентовые табуреты. Я села на один из них — и чувствую: падаю, а удержаться не могу. Больше ничего не помню. После санитары рассказывали: упала я лицом в дрова, в лапник. И лежу. Они меня подняли, положили возле печки, в тепле, укрыли шинелью. И я проспала почти сутки, беспробудно, а они сами одни управлялись, все делали без меня, мои мужички, воронежские колхознички, не спавшие столько же, сколько и я, и делавшие всю тяжелую работу, как и мы, плюс еще тяжелейшую, которая нам, девчонкам, совсем не по силам. (Долбить землю для могил в промерзшем грунте, таскать раненых в операционную и обратно, подавать судна «лежачим», выносить мертвых…) Я уже в который раз берусь описывать этот эпизод, и в книгах моих он как-то косвенно был отражен, и все же не могу найти достаточно выразительных слов, чтобы человек, не видавший войны и не переживший всех этих тягот, понял хотя бы десятую часть: каково оно было т а м. И какой-нибудь человек — имярек — их сейчас очень много, говорит: «Хватит жить старыми заслугами! Подумаешь, — вы воевали… А чего вы там делали, на войне?!» — Чего делали — делали…* * *
Я думаю, сознательно или бессознательно, но многие военные писатели в своей работе следуют манере Александра Дюма, заявившего: «Что такое история? Это гвоздь, на который я вешаю свои картины». Несмотря на внешнюю лихость такой формулировки, мы в ней обнаруживаем большую художническую правду и мудрость. Не случайно романы А. Дюма живут и поныне. Этот творческий метод мне кажется куда плодотворнее метода пунктуальной и тошнотворной точности полковых писарей… Художественная литература не дублирует военную сводку. У нее иная роль — будить мысль и привлекать внимание к событиям, оказавшимся вроде бы незамеченными. Нет, неправда! Их все же заметили! Не бывает такого, чтобы кто-то чего-нибудь не заметил. Но еще нужны и желание видеть правду в замеченном и умение видеть детали в той истинной правде…* * *
Отчего одни женщины меняются с возрастом совершенно? Их черты расплываются и грубеют так, что и не узнаешь при встрече в толстой, старой, накрашенной тетке ту нежную, беленькую, с тоненькой талией, с нежно-розовыми, как цветы яблони, губками… А иные сохраняются как эталон. Как будто и не было ничего: ни войны, ни послевоенного голода, ни труда, ни забот, — та же смуглая розовость кожи, та же нежность губ, яркость глаз. И взгляд все тот же — умный, ясный, внимательный, все понимающий. Как она, моя дорогая, вот так сохранилась? Неужели за чей-нибудь счет?..* * *
В медсанбате я была комсоргом. Неосвобожденным. Работала, так сказать, по совместительству. Частенько приходилось и ходить и ездить в политотдел дивизии, знала всех: от начальника политотдела старшего батальонного комиссара Михаила Николаевича К. до какого-нибудь там инструкторишки, который побаивался меня, сержантика, не за должность и не за звание, а за то, что я со всем начальством дивизии запанибрата. К. любил, например, поболтать о литературе, послушать, как я читаю стихи, свои и чужие, тихонечко приударял за мной, но так, платонически, полувоздушно. Улыбнуться, сказать комплимент, поцеловать ручку — не больше. В Мордовии, где мы доформировывались после Новохоперска, я часто ездила в ближний городок, в политотдел, то на совещание, то за наглядной агитацией, то на репетиции художественной самодеятельности. Чего только не придумаешь, чтобы из поселка, в котором мы живем, попасть в «город»! А какой там город — тротуары деревянные, дома одноэтажные. Только вокруг станции лепятся каменные, два-три этажа. А все-таки тяга. Магазины. Кино. Много молодых командиров. Жизнь веселая, оживленная. Заседлают мне гнедка, и поехала я по заснеженным полям. Приедешь, оставишь коня у коновязи политотдела — и пошла по кабинетам, послушать да посмотреть, самой потрепаться. Придешь к Васильеву. Он сложит бумаги и глядит без улыбки. Всегда рад. Даже смешно и тревожно как-то от его взгляда. Слишком серьезно он ко мне относился. Сразу же все дела забывал. Сяду напротив него через стол, а он говорит: «К. приказал, как приедешь, чтобы сразу же шла к нему!» — «Хорошо», — отвечаю. — «Нет, не «хорошо», а иди!» — «Ничего. Подождет». Проходит какое-то время. К., конечно, сразу узнал, что я приехала, присылает кого-нибудь. А я сижу, смотрю на Васильева, как он бледнеет, волнуется: — Иди же, ведь ждет. — Подождет. Ничего не случится. Мне с Васильевым интересно, потому что он всерьез, а К., сразу видно, немножечко мельтешит, лицемерит, и я это чувствую, поэтому мне приятно его унижать. Выдержав характер, захожу к К., тот начинает разговаривать, не поднимая от бумаг взгляда! — Где была? — С ребятами разговаривала. Для меня политотдельские старшие политруки и батальонные комиссары — ребята, я не очень-то придерживаюсь субординации. Из-за того, что я пишу стихи и даже печатаю их иногда, я со школьных времен ощущаю какую-то свою собственную обособленность от остальных. Все, кто знает меня и эту мою «внештатную» должность» «поэтесса!» — относятся ко мне не так, как к другим. Всегда доброе чувство, внимательность, уважение, я привыкла к этому и ни разу в душе не усомнилась в своем призвании, а главное, в своем праве на доброе отношение. — Ну, садись, расскажи, как живешь. — Ничего. — Не очень-то обстоятельно отвечаешь начальству. — Как умею. И так далее. В том же духе. Он достает из ящика стола свою фотографию, надписывает мне — «на память». Я рассматриваю ее. На фото лицо выглядит гораздо старше, чем в жизни, видны все морщинки, мешки под глазами и эта особенная выпуклость глазного яблока, пучеглазость, которая обычно почти незаметна. Снят он в гимнастерке с накладными карманами, в пилотке, с ремнем через плечо. Интересно, кем он был на «гражданке»? Ведь он же кадровый военный. Но я не расспрашиваю. Когда-нибудь сам расскажет, и я буду сидеть у него в кабинете, внимательно слушать, хорошо понимая, что за стеной, за дверями расхаживает по коридору, заложив руки за спину и волнуясь, Васильев. И мне будет весело, радостно подразнить его, посидеть здесь подольше. Стыдно? Нет. Мне даже сейчас, спустя столько лет, все это не кажется чем-то стыдным, смешным. Давно умерли эти люди. Один от болезни, другой от осколка мины прямо в сердце, в первом бою, но если бы я даже знала, чем кончится это, если б знала, что доживу до конца войны, проживу уже после победы еще годы, стану рассудочной и угрюмой, все равно я играла бы, продолжала бы ими играть, ибо в этой игре была сама сущность жизни, то самое, что заставляет сердце биться сильней, что делает небо синее, а воздух свежей, что цветам придает невиданные прежде краски. Когда ты остываешь к подобной игре, жизнь становится серой и плоской. С этим, наверное, «отпадают» от твоей души и творческие, созидательные силы, начинается «бег на месте», пробуксовывание, которое завершается старостью и умиранием, этим общим, привычным, но грустным концом. Дело прошлое, ни того, ни другого я не любила, хотя Васильев был моложе К. и чем-то мне весьма симпатичен. Но я обошлась с ним очень сурово. Мы поссорились и не помирились до самой его гибели. Только гибель Васильева, его странная смерть, почти фантастическая, за мгновение до первого боя, до изготовки к бою, за секунды до самого главного дела жизни солдата, бойца, комиссара, произвела на меня такое впечатление, что я почувствовала себя виноватой перед ним, виноватой вечно, пока буду жива. Моя ничем не оправданная жестокость и эта игра сейчас переплавились в вечную память о человеке с прекрасной, большой и чистой душой. Душой, принимавшей все в жизни как должное, как прямое, не знавшей ни подворотен, ни закоулков, любившей свет и не любившей тьму, а тем более полумрак… Если бы этим чувством можно было бы воскресить Васильева, с какой бы солнечной радостью я его воскресила!* * *
Человек пришел домой взволнованный, возбужденный, с журналом в руках. — Впервые за сорок лет прочитал о боях на нашем участке фронта, даже обо мне упомянули… Жена взяла журнал, раскрыла на той странице, на которой лежала закладка из свернутого вчетверо листка бумаги, и сказала: — Я прочитаю это завтра, сегодня мне некогда. А там было написано несусветное, невразумительное, непонятное человеку невоевавшему: «Между тем противник не прекращал атак». А?! Как скучно!.. Не правда ли? Она положила журнал на столик вместе с закладкой. Прошел день, другой. Третий. Но и на четвертый день, и на пятый, и на шестой журнал лежал нераскрытым, все с той закладкой, на той же странице. Бумага повыцвела по краям, видимо, никого не заинтересовало, что в журнале упомянуто и его имя, что те самые контратаки противника, которые «не прекращались», никого в семье не волнуют. Это в норме: вы были герои, прекрасно! Воевали себе — и на здоровье, а нам-то какое дело?! Разве могут мирные люди подумать, что война — это там, где живых людей ни за что ни про что убивают? Что таким убитым мог быть и их муж и отец?! Что в тех самых проклятых атаках, которые не прекращались, немецкие танки шли волнами, двадцать танков, потом тридцать, потом сорок — взамен сгоревших. Артиллерия била так, как будто хотела переместить, переставить с места на место небо и землю. И тучи пыли плыли вверху, качаясь как будто бы над безвоздушным пространством. А он умирал, засыпанный этой пылью, землей, страхом, болью, — и столько же раз возрождался и воскресал, когда видел сквозь оседающую пыль, как загораются и взрываются танки противника. Через несколько дней человек убрал журнал к себе в письменный стол, на самое дно самого нижнего ящика. И никто не хватился, никто не вспомнил о том, что в журнале упомянуто имя отца. И что это были события, о которых люди будут вспоминать еще сотни лет.* * *
Наполеон сказал об одном из своих маршалов: «Он оказал мне услугу даже своей смертью, он учит меня, каких ошибок не следует делать в бою». Но сколько же было за нашу историю смертей и сколько желающих учиться? И сколько ошибок — но где человек в треуголке, который бы сделал серьезные, из глубины ума и сердца, важнейшие выводы? Может, и был такой, да у него не было силы, ума и власти Наполеона?* * *
Я много раз слышала о парадоксе песочных часов — переверни, как говорится, сосуд, и кто побежденный, а кто победитель?! Как на это смотреть… Но тогда исчезнет идея осмысленности бытия?! Ведь не правда ли? Тогда к слову «разум» нужно ставить математический знак «минус». Тогда вся продолжавшаяся миллионы лет эволюция бессмысленна, и даже более того — вредна. Ибо человек, использующий достижения эволюции не для осмысливания себя в окружающем мире, а для запутывания, для обрывания связей в этом мире, гораздо страшнее и опаснее дикаря.* * *
Каждый человек за что-нибудь да расплачивается. Один — за то, что уступил. Другой — за то, что не уступил. История человечества — вся! — состоит из уступивших и не уступивших. И притом, все идут «вперед и вперед» во имя грядущего.* * *
Примечательно, что у молодых читателей уже вроде бы несколько спадает интерес к теме войны. Ну, разве что если только про любовь. Или приключения: стрельба, ура, хватай его! А вот большая, серьезная, важная мысль, философия жизни и смерти, чувство любви к народу и Родине — все это, глубоко волнующее нас, взрослых, им, юным, уже вроде бы и «до фени». Может быть, они думают, что их никогда ничего не коснется?* * *
Я часто думаю, что это за ночь была? И какая была молодая моя мама и каким был молодым мой отец, когда они любили друг друга и целовались. А родилась — я. Та ночь, наверное, была длинная, страшная, только-только после гражданской войны. И какими добрыми, великодушными были эти молодые и любящие друг друга, полунищие, полубездомные, которые махнули рукой и сказали: «Пусть живет…» И сколько родилось прекрасных и юных после Великой Отечественной. Они выросли из презрения к смерти, из жажды жизни, любви.* * *
Титон — муж Эос, богини утренней зари. Он был человек, а не бог. И Эос, вымолившая для своего мужа у Зевса бессмертие, впопыхах позабыла попросить для него заодно и вечную молодость. И Титон на веки веков остался дряхлым и неумирающим старцем! Бедные наши поликлиники, они и знать не знают — как же теперь им отбиться от Титонов, которые были титанами. Им кажется, что зажились, зажились… А им сам бог даровал эту долгую дряхлость.* * *
Есть люди, которые после войны насовсем, навсегда потеряли здоровье. «Кровью кашляют, кровью сморкаются». Но как докажешь, что они — инвалиды? Как докажешь, что и не в прославленной какой-нибудь краснознаменной дивизии тоже были герои? И что их героизм никто не отметил — не присутствовал в том бою, не увидел?! Ничего и нигде не докажешь. И не нужно доказывать. Ибо счастье защищать свою Родину выше всяких наград и выше тех самых людей, которые в фойе всякого рода заседаний и совещаний рисуют своим телом как бы некий угодливый танец. Танцуйте, друзья, на здоровье танцуйте!* * *
Вспоминается и еще один эпизод. Ранней, ранней весной, очень вьюжной и снежной, в едва наступившие теплые дни пошла я пешком на Шанский завод, а оттуда хотела пройти в 110-ю стрелковую дивизию, к Лиде Терещенко, тоже бывшей медицинской сестре, а теперь «комиссару», политработнику. Налетел страшной силы снежный заряд. В двух шагах ничего не видать, крутит, рвет, снег липучий, насыщенный влагой, все на мне промокло: сапоги, полушубок, ушанка; я чувствую, сырость уже проникает к белью, и не вижу дороги, не знаю, куда повернуть, — заблудилась. Сугробы такие, что не вытянешь ног. И вдруг натыкаюсь на угол избы, на какую-то стену. Стучусь. Открывает мне дверь здоровенный мужик в замасленной телогрейке. И штаны у него вроде кожаных, тоже в масле. Шофер. Я говорю: разрешите обсохнуть, согреться. Отвечает: пожалуйста. Захожу. В избе их человек восемь-девять. Шоферы все. Документов они у меня не спросили. Говорят: раздевайтесь и лезьте на печку, она теплая, недавно топили. Ну, я залезаю, снимаю с себя все, что есть, остаюсь только в брюках и нижней рубашке. Все сырое. У меня даже партийный билет отсырел, разложила сушить. А у них, видать, тоже в такую метель не работа. Сидят, делать нечего. Кто смотрит в окно, кто курит. Кто на лавке разлегся, накрылся зеленым бушлатом. А метель все метет, воет, стукает в окна, пытается выдавить стекла. Вот один говорит: — Сестренка… Не спишь? Я, видимо, для них, хотя и с двумя кубарями и с красной звездой на рукаве, все равно что сестренка. Отвечаю: — Не сплю… — Чего же ты не спишь? Ты усни. — Да не спится. — Ну, давай, я тебе сказочку расскажу… — Рассказывайте, я послушаю. — Ну, в некотором царстве, в некотором государстве… — и пошел мне рассказывать сказку. Как в детстве. С колдуньями, с бабой-ягой, с красной девицей Марьей-царевной, с Иванушкой-дурачком. Я слушаю. И все слушают. В избе уже сумерки, дело к вечеру. А другой говорит: — Ты, сестренка, голодная небось. Сколько шла… А он баснями соловья кормит. Слезай-ка давай да похлебочки нашей поешь, я достану из печки. Еще теплая. Да и мы с тобой поснедаем… Пора. А есть, правда, хочется. Я слезаю и говорю: — Извините, я не одета. Все мокрое… Тут какой-то парнишка встает и без слов, без всякого объяснения подает мне свою телогрейку. Я накинула ее на себя. Парнишка мне на руки слил, я умылась. Тот, что сказку рассказывал, подал полотенце. И ложку нашли, я с собой не носила за сапогом. Как окончила офицерские курсы, разучилась с собой свою ложку носить. У нас в госпитале столовая, там все подадут. После ужина я задремывала на печке и опять просыпалась. А когда просыпалась, смотрела вниз, в комнату, где горел на столе малиновый фитилек. А шоферы сидели кто на лавке возле окна, кто возле порога, а кто возле печки. Они тихо вели разговор. Боялись меня разбудить. Но стоило мне пошевелиться, и тот, кто рассказывал сказку, небритый, рябой, с большими, распухшими от мороза руками, меня окликал: — Ты живая, сестренка? — Живая. — А мы уже слушаем, спишь — и даже не слышно… — Да, нет… Ничего… — Ну, и то хорошо… Отдохни, спи спокойно… Ну, зачем я им всем, незнакомая, никому не известная? Забрела, взбаламутила, а кого-то и места для спанья лишила. И вот вынуждены вполголоса говорить, а я-то знаю, какой у них между собою бывает мужской разговор. И рассказанная на «засыпанье», как в детстве, старинная сказка… И похлебка из концентратов, с консервами… И чужая еще новенькая, непромасленная телогрейка — промасленную, грязную, мне не дали. И ложка… Все мое существо, обогретое и накормленное, переполняет невысказанное — а его, вероятно, и высказать невозможно — чувство искренней благодарности, чувство братства с сидящими в полумраке людьми. Я даже не знаю их имен и с усталости не разглядела их лица. Только чувствую это спокойное, доброе излучающее тепло их присутствие рядом с собой, в одной комнате. Может быть, они в будний день не такие, а сейчас для них праздник, они без работы, поели, попили, в тепле, а на печке — сестренка… Я чувствую, что была бы не я, а другая, но такая же молодая, усталая, занесенная снегом, — они и к другой отнеслись бы с такой же суровой ненавязчивой добротой, с удивительной человечностью. Так же тихо, сердечно, боясь пошевельнуться, терпеливо оберегали бы ее сон… Утро было морозное, синее, золотое от солнца, и когда я проснулась, в избе никого уже не было, только старший, рябой, что рассказывал сказку, вошел с улицы, внеся с собой запах бензина, и сказал: — Ну, вставай, мы уехали. Дверь прикрой и, во-он, ломиком подопри. Прощевай… — До свиданья, большое спасибо вам… Что обогрели… — Будь здорова! И он только кивнул, уходя, унося с собой все, что было хорошего в эти долгие снежные сутки, уже внешне другой, озабоченный, строгий. И я, выйдя на улицу, оглянулась на дом почему-то с беспечностью, не спросив: кто они, эти люди? Из какого полка, батальона? Что это за улица, на которой стоит их бревенчатый дом, какая деревня? Почему я не знаю их лиц, их имен? На войне очень многое не имеет цены. Человек словно замкнут в своей бесконечной тревоге внутри — и во внешней как будто спокойной, привычной беспечности. Кто подвез до развилки дорог? Я не знаю. Кто крикнул: «Ложись!» — когда налетел самолет? Кто тащил меня по снегу? Кому я в разбитом, с распахнутой дверью доме перевязывала раны — единственным, сохраненным только лишь для себя, но разрезанным на кусочки и отданным людям бинтом, разве я их расспрашивала, этих раненых! кто они и откуда? Да если бы и спросила, то, наверное, не запомнила бы. А если бы и запомнила, с той поры прошло столько лет, все равно бы забыла. И они, в свою очередь, не расспрашивали меня. И прошло столько лет, а я помню и печку, и сказку, и похлебку из концентратов, и долгий, метельный, тот мартовский вечер с буйной вьюгой за окнами, и рябого, и парня, подавшего телогрейку, и малиновый огонек. Может быть, и они меня помнят?* * *
Странное ощущение испытываешь в тумане! Будто все находящееся вне тебя — нереально. Да и сама ты то ли едешь, а то ли плывешь по белой реке неведомо куда. Иногда кажется, что это обветшавшие и истончившиеся твои крылья, на которых ты могла бы лететь: они вяло барахтаются рядом с тобой, и ты никогда уже больше не поднимешься, не увидишь звездного неба.* * *
В селе Никольском — под Москвой, ныне Одинцовский район, — наш медсанбат простоял довольно долго. Может быть, неделю, а может, и больше, не записывала, не запоминала. Дни сливались с ночами в одно неразличимое целое: без еды, без отдыха, без сна, в чаду махорочных цигарок легкораненых, в стонах и криках тяжелораненых, в запахе йода, крови, кала, мочи… Единственное запомнившееся ощущение — хочется спать, так хочется спать, что, кажется, как чеховская девчонка, всех бы задушила, кто мешает, и упала бы на голый пол — и уснула. Но ведь никого не душишь, а продолжаешь работать: этому укол морфия, тому подбинтовать рану на груди, кровоточит, этому катетером откачать мочу, тому дать кислородную подушку, надо следить за пульсом, ввести кофеин, пантопон. Один просит пить, другой просит «утку»… Ни присесть, ни прилечь, места для меня в избе ровно столько, чтобы стать на цыпочках возле стены, распластав по бревенчатой стене усталую спину и руки, и глубоко вдохнуть этот спертый, нагретый вонючий воздух, не приносящий ни покоя, ни бодрости. Вдруг дверь отворяется. На пороге — мой командир отделения военфельдшер Константин Баранов, с длинным, серым, унылым лицом, всегда недовольный, с красными, набухшими от усталости веками. — Приготовь к эвакуации самых тяжелых… — Но ведь их нельзя вывозить. Ты же знаешь! — Приготовь, тебе сказано! И поменьше разговаривай! Тоже мне — привыкла… Вместе с санитарами закутываю самых тяжелых в меховые конверты, в одеяла. Их выносят в пургу, на мороз, грузят в кузовы открытых машин-полуторок, возвращающихся с передовой на дивизионный обменный пункт. По дороге эти машины заедут в госпиталь, на станцию, там эвакопункт, оттуда, может быть, раненых повезут прямо в Лефортово, в Москву. …И вдруг горница словно бы расширилась, перестала быть тесной. Оказалось, что есть у нее окна, они занавешены плащ-палатками. Что есть в ней печь, — на ней лежит старая женщина в темном ситцевом платочке. Что есть стол и есть стул, и я наконец могу до них дойти, не наступая на руки и ноги раненых, даже сесть. И старая женщина мне говорит: — Сейчас всех увезут, я нагрею тебе воды, помойся, вымой голову. Наварю тебе картошечки, ты же не ела три дня, есть капуста, огурчики… — Ох… — Это единственное, что я могу вымолвить. О картошке с капустой и с огурчиками я могла разве что во сне помечтать. На дворе глухая, поздняя ночь. Хозяйка моя говорит: — Сегодня же Новый год. Я постелечку тебе постелю, отдохни, моя дочушка. Сейчас в подпол слазию за грибочками, за лучком… Она лезет в подпол, потом вытаскивает из печи огромный чугун с кипящей водой, поливает мне из кружки на голову над лоханью. Я моюсь, отчаянно соскребаю наросшую грязь — ведь ровно месяц не мылась, как в Павшине сходили в баню, после выгрузки из эшелона, целый месяц по чужим, нетопленным избам, по землянкам, по растоптанной соломе в палатках, не снимая шинели, не стаскивая с ног пропотевших, сырых, грязных валенок. Без гимнастерки, в одной нижней бязевой рубахе я расчесываю мокрые волосы. Хозяйка в это время расставляет на столе маленькие деревянные чашки с капустой, грибами, солеными огурцами, с рассыпчатой, дымящейся паром картошкой. А я не знаю, что делать, садиться ли есть или рухнуть, не евши, в постель, так хочется спать. Руки словно обмазаны тягучей смолой, чего ни возьмешь, все словно приклеилось от усталости, не отдерешь. И вдруг в сенях, грохот, стук сапог. Дверь распахивается. На пороге шофер из нашего медсанбата. — А я за тобой… — А, прекрасно… Садись, сейчас поужинаем, — и в дорогу. Шофер смотрит на меня, как на сумасшедшую: — Да ты что?! — говорит он возмущенно. — Какое поужинаем? В медсанбате люди с ног валятся от усталости, а ты тут расселась! Ни минуты не жду! Я натягиваю гимнастерку, обуваюсь в сырые, еще не просохшие валенки, нахлобучиваю на мокрые волосы шапку-ушанку. На глазах у старухи-хозяйки большие, как градины, слезы. Она, тихо всхлипывая, молча глядит на меня, как на мертвую. — Ну, прощайте, спасибо, — говорю я ей негромко. — Ничего не поделаешь. Так надо. — Господь тебя благослови! — говорит она в ответ и крестит меня маленькой темной рукой. Мы выходим во двор. Метель крутит белые вихри; мороз крепкий, мои брови тотчас же охватывает куржаком; пока я добираюсь по сугробам до кабины машины, лицо мое становится как будто деревянным. Теперь надолго ни поесть, ни уснуть, а ведь я тоже, как и те, что уехали, не пила и не ела и не спала столько ночей, как и они, а возможно, и больше. Ведь этих богом проклятых дней и ночей в наступлении не считаешь. Фары узким лезвием света выхватывают из темноты забеленные снегом стволы деревьев, заледеневшую, разболтанную колею, занесенную тут и там высокими пухлыми горбами сугробов — стоячая ребристая серая стена леса слева и стоячая ребристая стена справа. Голова моя незаметно опускается на грудь, я посапываю и даже слышу свое собственное посапывание, а проснуться уже не могу. Ровно-ровно гудит натужный, не новый мотор, ровно-ровно бегут справа и слева эти серые стены. Позади недосып, недоед. Но он же и впереди, на многие дни и недели, такой же, по пояс в снегах, на лютом морозе, среди человеческого горя и мук.* * *
Еще совсем недавно, в очередях, бывало, в метро, в троллейбусе мне говорили: — Простите, девушка! — Девушка, у вас нет ли четырех копеек? — Девушка, разрешите пройти. И вот иду дворами, узкими переулками, пересекающими улицу генерала Ефремова (я всегда мысленно называю ее: улица моего генерала). А за сетчатой решеткой детский сад. Ребятишки лет пяти или шести играют в войну. — Огонь! Огонь! Огонь! — из деревянных «автоматов». И вдруг один пацаненок говорит строгим командирским голосом: — Отставить огонь! Какая-то бабушка идет. Да уж лучше бы они меня убили!* * *
Поэт, партизан, человек глубоко военный, Денис Давыдов рассказывает нам вещи, которые нужно знать каждому — и всегда. О сражении при Прейсиш-Эйлау 26 и 27 января 1807 года он пишет совершенно потрясающие строки:«…не оспоривая священного места, занимаемого в душах наших Бородинскою битвою, нельзя, однако ж, не сознаться в превосходстве над нею Эйлавской относительно кровопролития…»Вот как?! Оказывается, есть еще кровопролитнее, чем Бородинская! И далее:
«Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгранное острие друг в друга. Толпы валились. Я был очевидным свидетелем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолжение шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполеоновских, справедливо наименованной эпопеей нашего века, я подобного побоища не видывал. Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов, ни в средине, ни вокруг его: слышен был только какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавшихся без пощады тысячей храбрых. Груды мертвых тел осыпались свежими грудами; люди падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения уподобилась высокому парапету вокруг воздвигнутого укрепления…»Странно. Почему-то каждая новая война кажется людям страшнее войн предыдущих. Видимо, по той причине, что всегда страшнее увиденное своими собственными глазами. Денис, спасибо тебе, дорогой, за точность, за правду!
«Блистательный Мюрат в карусельном костюме своем, следуемый многочисленной свитою, горел впереди бури, с саблей наголо, и летел, как на пир, в средину сечи…»Ну, что ж… И это нам знакомо. Но вот как Давыдов описывает своего главнокомандующего:
«К нему и от него носились адъютанты; известия и повеления сменялись известиями и повелениями; скачка была беспрерывная, деятельность неутомимая; но положение армии тем не исправилось, потому что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя нашего — все дышало осторожностью, произведениями ума точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созданиями внезапности, ускользающими от предусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах. Все, что Беннингсен ни приказывал, все, что ни исполнялось вследствие его приказаний, — все клонилось лишь к систематическому отражению нападений Даву и Сент-Илера, противоустоят штык их штыку и дуло — их дулу, но не к какому-либо неожиданному движению, выходящему из круга обыкновенных движений, не к удару напропалую и очертя голову на какой-либо пункт, почитаемый неприятелем вне опасности».Кто напишет сегодня такое, анализируя события даже древнейших прославленных войн?
* * *
Был в моей жизни один прекрасный вечер, на котором все говорили, что хотели. Никакой столичной официальщины. Еды было вдоволь, питья тоже, и люди пришли все самые лучшие — то есть те, кто захотел прийти. Один сказал, что я, видимо, недовоевала на войне, что я и сейчас еще воюю. Это было сказано довольно точно. Хотя на войне я видела своих врагов в лицо, а вот с кем я сейчас воюю, я и сама не знаю. Одни только улыбки. Одни расшаркивания и целования ручек. А вот кто из поцеловавших ручку сделал подлость, — как это узнать?! А еще одна милая, прекрасная женщина — на войне она была партизанкой на Брянщине — сказала другую прекрасную мысль. (Я-то знаю, как она любит прихорашиваться и пококетничать.) Так вот она сказала: — До каких же пор уменьшать себе года? Эдак может оказаться, что мы и на войне не были. А мы никогда не отдадим из своих прожитых лет это страшное время — войну. Она с нами. Это мы победили. Это мы голодали. Это мы умирали. Неужели же для того, чтобы казаться моложе, я сейчас отрекусь от тех страшных, кровавых лет? Да ни за что! Пусть я буду выглядеть в глазах окружающих постарше. Но я прожила это время, я воевала, а они моложе меня, они — нет… По-моему, это тоже военное мужество — быть прекрасной и молодой, быть веселой, умелой, певучей, энергичной, тянуть весь семейный и служебный воз и признаться в своих годах. Да, а что же делать? Приходится признаваться, пока время не поставило свой автограф на твоих бровях, на висках, на улыбке… А война-то была, была в наших судьбах. И от этого действительно никуда не денешься. Живи и смотри на окружающих с высоты своего пережитого, — даже если никто за это не поклонится!* * *
На войне рядом с горько-соленым было много и сладкого, — если, конечно, за сладкое принято просто житейски-смешное. А смеялись порой до слез. В ноябре 1941 года 329-я стрелковая дивизия формировалась на мордовской земле. Полки стояли в лесах, а наш медсанбат расположился неподалеку от станции, в рабочем поселке. Жили в маленьких домиках, а все занятия, все собрания, все общие построения проходили в здании местного клуба. От домика медсестер — в двух шагах. Вот набродимся мы по морозу в часы строевой подготовки или занятий по тактике, — а зима в том году начиналась лютая, — намерзнемся так, что в домик войдешь, хлебнешь ложку щей или каши на ужин — и вместо положенной по расписанию самоподготовки — на нары и… спать. Благо, никто за нами в то время особо не присматривал и не проверял. И вот, кажется, только-только смежил веки, а уже крик: «Па-а-дъем!» Это значит, надо идти строиться на вечернюю поверку. А в домике у нас жарко, бывало, что раздевались еще до отбоя. Вскакиваем в одном нижнем белье, а одеться нет времени. На босые ноги, без портянок натягиваем сапоги, на нижнюю рубашку и кальсоны — шинель. И бегом по лестнице вниз, в зал клуба. Почему-то зал был расположен значительно ниже других помещений. Выстроимся перед комбатом — и не дышим, глядим: заметил ли он, во что мы одеты, или не заметил. Сколько раз нам это сходило с рук, теперь и не вспомню. Много раз. Однажды попались. После поверки командир батальона Иосиф Григорьевич Поляков закричал: «Разойдись!» И вот мы, вместо того чтобы выждать, пока он уйдет, побежали по лестнице первыми, перед ним. Тут-то он и увидел, что у каждой между шинелью и сапогами сверкают кальсоны… — А ну-ка, а ну-ка, — окликнул он Нюсю Платонову, попавшую ему на глаза. — Товарищ сержант, воротитесь! Но Нюся нашлась. Веселая, по-мальчишески озорная, она с серьезным видом прижала ладонь к животу и скорчила жалобную гримасу: — Товарищ военврач третьего ранга, не могу… А то тут же в штанишки наделаю… В другой раз! Хорошо? Комбат просто остолбенел. Полночи мы не спали, смеялись, хохот волнами ходил по казарме. А утром проснулись — и ждем не дождемся грозы. Уж скорей бы казнил, не томил наши души. Следим за комбатом глазами. Куда он повернется, туда и вся медрота глядит: вот сейчас он нас выстроит — и разнесет, распушит так, что клочья от Нюси Платоновой полетят. Да и от нас тоже. Но командир батальона и ходит спокойно и глядит несурово. Даже виду не подает, что накануне произошло нарушение дисциплины. Зато с того вечера в часы самоподготовки обязательно кто-нибудь из командиров взводов или отделений приходил к нам в казарму и проверял: чем мы занимаемся до отбоя, какими делами, какие уставы и учебники изучаем, какие книги конспектируем.* * *
В день Победы, уже к вечеру, иду по переулку. Идет такая дряхлая, такая ветхая и плохо одетая старушка, что невольно рука тянется подать. Подаю ей бумажку: — С днем Победы, матушка! А она то ли не слышала, то ли не поняла, спрашивает: — Кого, дочка, помянуть? — Двадцать миллионов человек, матушка!* * *
Между прочим, в романе «Весна на Одере» Э. Казакевича есть такой эпизод. Капитан Чохов едет в карете с гербами к линии фронта, и начальство ругает его за эту карету. С фактической точки зрения это полная чушь. Кто мог ругать Чохова, когда целые армии, и отдельные догоняющие свои части бойцы, и целые подразделения мчались к переднему краю на самых невиданных транспортных средствах. На велосипедах всех марок, в том числе и на гоночных, и на, как тогда говорили, «подручных» средствах. На похоронных дрогах, в архимандритских колясках, на шарабанах, на тарантасах, в двуколках, на фурманках и в жокейских качалках. И все это двигалось не раздельно, так, чтобы можно было нечто диковинное разглядеть, а в общем, едином потоке, сплошной лавой, по грязнейшей весенней дороге, по валяющимся на булыжнике трупам убитых автоматными очередями свиней, по пуху из подушек и перин, по комьям бумаг, развеянных кем-то по ветру, по брошенным противогазам, по тряпкам. Помню, в Бомсте солдаты разбили универсальный магазин, в котором засели гитлеровцы, и какой-то боец, победивший их, жаждавший крови любой ценой, расстелил по расплывшейся грязи целую штуку красного сукна, цвета этой самой крови, раскатал аж до самой кромки, а потом, как король, подбоченясь, прошел по ней в своих кирзовых сапогах: знай, мол, наших! Сел опять в драндулет и — покатил на запад. И никто его не ругал. Да и некому было ругать, ведь все двигалось, ехало, мчалось к Берлину, мимо остолбенелых фрицев, с оружием и поклажей, с походными кухнями, стоящих в весенних лесах, прямо возле дороги, ожидающих, когда же их наконец возьмут вплен…* * *
На собрании некто Сидоров критикует начальство. А начальство сидит здесь же, в зале, но только чуть повыше, в президиуме. И начальство обрывает говорящего: — Регламент! — Но, Иван Григорьевич, — напрягается выступающий. — Я ведь только по существу… И тот, нехотя, улыбаясь, наконец разрешает: — Ну, ну… Продолжайте существовать…* * *
Есть в году один день, в который мне обязательно позвонит, хоть из-под земли, бывший лейтенант-зенитчик из 113-й стрелковой дивизии. Да и земля перевернется, если такого звонка не будет. Я уже с утра жду его, говорю своим близким: «Неужели Толя Горышев не позвонит?» И он обязательно, хоть поздно вечером, но позвонит… Мой спаситель, человек, которому я обязана жизнью. Это он с Гришей Парамоновым тащил меня, контуженную, по снеговой целине, под пулеметными очередями с налетающих «мессеров». А с запада уже перли, видимые невооруженным глазом, немецкие танки. А по окраине деревни, куда меня несли на руках два бравеньких лейтенантика, уже били и били немецкие минометы. И вот два лейтенантика, не донеся до самых ближних домов, зарыли меня в снег, — пули клацали о леденистый наст в каких-нибудь двух шагах от меня, — а сами ушли искать снаряды для своих крохотных пушечек 37-миллиметровок. А потом я лежала в нетопленной грязной избе на полу, а мои лейтенантики втаскивали в горницу раненых и каждому говорили: «Ну, ты наклонись к ней поближе, она перевяжет». И я резала ножницами свой единственный индивидуальный пакет, чтобы приложить хотя бы небольшой стерильный кусочек к ране, а мои лейтенантики рвали свои нижние рубахи на полосы и привязывали, прибинтовывали к телу эти жалкие лоскутки. … А потом они вышли на улицу и поймали бесхозную лошадь, запряженную в сани, а лошадь хлестнули — и помчались мы в тыл под сериями летящих прямо на головы бомб… А потом я лежала в санчасти, километров за семь от переднего края, и опять налетели самолеты, и одна бомба попала как раз в тот самый дом, в котором я лежала на нарах. И они прибежали возбужденные, белые от испуга. «Жива?» — «Как видите, жива, только жить больше негде, и шинель мою изорвало в клочки». — «А мы с Гришею смотрим, летит бомба — и прямо в санчасть. А батарею бросить нельзя. Мы вчера ее притащили сюда, со снарядами…» Святые люди… Гриша убит на Кубани, подбил самолет, и тот рухнул прямо к нему на батарею. А Толя прошел всю Европу «за три перекура». И вот встретились мы после войны на Неглинной, в Госбанке, в очереди. Я меняла марки, а он форинты на советские наши рубли. Еще в форме, со всеми положенными орденами. Гвардеец, в усах. Я даже сперва не узнала. 2 февраля 1942 года. Западный фронт. Деревня Белый Камень… Неужели мы все это видели, пережили и остались в живых?!* * *
Ничего таинственного нет
В том, что тени бродят возле дома.
Ты положишь в кожаный планшет
Карточку девчонки незнакомой.
Может быть, встречались на войне?
Впрочем… Где-то видел… Под Смоленском?
Ничего особенного нет.
За стеною грусть гармони венской.
Кто-то хлопнул дверью — и ушел.
И затихла грусть в раздумье комнат.
Может, это даже хорошо,
Что умеют прошлое не помнить?
* * *
Только военный корреспондент поймет до конца и основательно другого военного корреспондента. Ехать в любой час суток, в любую погоду в район, еще не освобожденный от врага, туда, где идут бои. Ехать, не зная ни географии этого района, ни его топографии. Ехать, не зная, — там победа или наше поражение. Например, я иду, а навстречу мне раненые, опирающиеся кто на винтовку, а кто на плечо такого же раненого товарища. Бинты в саже, в крови. А рядом со мной, на дороге, дурманными факелами, один за другим вспыхивают от немецких снарядов бронетранспортеры с нашей пехотой. И никто из бойцов не успевает выскочить из этих бронетранспортеров. Все дымится густым мазутным дымом и вонью горелого мяса. И кто мне объяснит, что здесь происходит? Но я иду дальше. У меня нет оружия. Я уже прошла пешком около двадцати километров. Я голодная. А там, впереди, неизвестные мне, незнакомые люди, занятые самым страшным и самым важным для них делом — они ведут бой. И им наплевать, кто пришел и зачем, опишет он их подвиги или не опишет, потому что и подвигов нет, и желания быть прославленными — в час позора — нет, а есть одно-единственное желание: устоять, победить, не быть расстрелянным за трусость, не быть разжалованным или сосланным в штрафбат. А враг прет. Подкалиберные снаряды пролетают над полем боя, светясь от возникшего в них накала, несущего смерть. И сразу же, рядом, шагах в десяти от меня опять вспыхивает бронетранспортер, полный молоденьких бойцов. Все в новенькой форме, и все с автоматами. В обороне, например, солдаты настолько изучат и запомнят повадки врага, что живут, и ходят, и исполняют свои обязанности, не неся никаких потерь. А вот приехал человек посторонний или же вернулся из госпиталя после ранения солдат, размагнитившийся, разучившийся ползать и пригибаться, а может еще не успевший вплотную ознакомиться с обстановкой, — и вот он убит. Сразу. С ходу. Легко. Наповал. И все это так впечатляет, так волнует тебя… И вот тут дурак или дура, не ведающий или же не ведающая ни о чем, кроме своего задания. Да и задание иной раз смешное до слез: напишите о ротном поваре или же о повозочном. Напишите, как пришивают подворотнички. Напишите о бане. О том, как подвозят почту. Напишите о санинструкторе, спасшем столько-то раненых… Он-то спас, может быть, и большее количество раненых, а убитых сейчас на поле боя куда больше… Напишите о генерале. А черт бы о нем написал! Что же, он не видел, что ли, что враг накапливает свои танки и пушки за холмами? Напишите о связисте… А я хотела бы в данный момент написать о себе. О том, что я вижу и слышу, и что происходит вокруг меня, и какой нестерпимой болью все это отзывается в моей душе.* * *
Для некоторых людей война оказалась таким неожиданным и новым кругом жизни, столь не схожим со всем, к чему они приспособились прежде, что они тоже сделались как бы новыми совершенно. Может быть, этим людям казалось, что им нужно во всем соответствовать окружающей смерти? Человек малограмотный, глупый, ничтожный мог грубо тебя оборвать, осмеять перед всеми. Мог придраться к совершенному пустяку, если должность и чин позволяют придраться. Природа неоправданной жестокости — жестокости к своим, — по-моему, еще никем не осмыслена и не изучена. Солдаты всем сердцем любили своих больших и малых командиров, насаждавших железную дисциплину, то есть тех, кто поощрял отличившихся и наказывал провинившихся. И лютой ненавистью ненавидели тех, кто мелкими, несносными придирками отравлял жизнь своим подчиненным, кто действовал по произволу: нынче так, а завтра как моя левая нога пожелает. Я заметила, на войне почти ни у кого из нас не возникала одна важная мысль: а ведь кто-то из нас уцелеет… И мы встретимся после Победы. И припомним хорошее — и плохое. И тому, кто тогда, на войне, обижал незаслуженно, унижал беспричинно, будет горько и стыдно… Нет, я тоже об этом не думала. Никогда не загадывала, что в компании друзей увижу доносчика, подхалима. Или предавшую меня женщину, предавшую глупо, бессмысленно, в пустяке… Или… Мы стояли тогда в Кременском и ходили по трассе, которую строил наш батальон. Здесь каждый знал каждого: в батальоне, на стройке не так-то уж много солдат. Утром рано берешь санитарную сумку, кусок хлеба — и на трассу на весь день, до захода солнца. По березовой и осиновой гати километров на двадцать. Возвращаемся поздно вечером. И вдруг у развилки дорог появился пост пограничников. Возвращаюсь в село, а ко мне часовой: кто такая, откуда? Предъявите документы. Я в карман, а на мне новая гимнастерка, старая вся истлела, я ее закинула в угол, на нары, а красноармейскую книжку переложить из кармана в карман позабыла. Называю себя, свою должность, фамилию командира части, комиссара; объясняю, где мои документы. И вдруг вижу: по дороге в село идет наша же девушка, военфельдшер, только из другой роты. Я из второй, а она из первой. — Вот, — говорю, — она подтвердит. Она из первой роты, а я из второй. А девушка эта, — не буду сейчас называть ее имени, — глядит на меня и качает головой в темно-синем беретике с красной звездочкой: — Представления не имею, кто такая. Знать не знаю ее. — И протягивает спокойно и даже подчеркнуто-равнодушно свою красноармейскую книжку и спокойно проходит. Пограничники глядят на меня с подозрением: что, попалась? Ну, ну… А еще говорила! До сих пор не пойму: неужели этой девушке было так важно, так сладко в ту минуту соврать и унизить меня, это так ее окрыляло, так поддерживало в ней самой чувство силы и какого-то превосходства надо мной, что она не задумалась, не побоялась ни встречи лицом к лицу в тот же вечер в нашей общей избе в Кременском, где мы вместе с ней жили, ни встречи за гранью войны, уже в мирной жизни?! Ни того, что я ее осмею, опозорю? Да, мирная жизнь нам казалась тогда почти фантастической, как полет на Луну. Но мы все же дожили до Победы и до полета на Луну и живем теперь этой мирной жизнью, где все устроилось и повернулось немножечко по-другому: иной рядовой неуклюжий солдат или скромный сержант стал ученым, писателем или даже министром, а гроза ежедневная, еженочная — старшина или злой помкомвзвода как был в прошлом ничем, так и в нынешнем и в грядущем не станет никем… Прошло уже много лет с той поры, когда на вокзале в одном городе я встретила ту, предавшую меня женщину. Я взглянула в ее постаревшее, исхитренное жизнью, пустое лицо и не стала ей ничего говорить. Меня она не узнала. А может быть, просто представить себе не могла, чтобы особа с прической, в сером костюме, в замшевых туфлях-лодочках — это та самая, от которой она отреклась в жаркий, солнечный день на дороге, у поста пограничников. Если бы я назвалась, вот бы хлынула краска в лицо, а глаза заслезились, забегали бы… Нет, я этого не хотела. Неумение повлиять на судьбу подчиненного никакими иными средствами, кроме грубости и жестокости, это собственно, капитуляция перед сложностью жизни. Я расцениваю сейчас это так. А тогда… Что ж, тогда это было одной из реальностей очень грозной и страшной войны, и с реальностью этой невольно мирились, ибо были другие, гораздо страшнее, не зависящие ни от кого.* * *
В школе-интернате в Вотчинке (под Медынью) стоял наш госпиталь 2631. Почему-то помню себя поздней осенью, в шинели и плащ-палатке, в пилотке, стою на высоком крыльце, хлещет дождь, ветер рвет и относит полы плащ-палатки, а мне нужно куда-то идти и не хочется. Настроение горькое, черное, смутное от какой-то беды. Потом девочка из моего отделения, медсестра, мне сказала: «Ты стояла такая суровая, гордая, я тебе позавидовала. Во, думаю, сила!» Эти девочки мне приносили много горя, я по молодости лет все воспитывала их, все учила, а они не хотели учиться, не любили меня. Потом, когда я ушла от них в армейскую редакцию и приехала уже под Мстиславлем навестить в какие-то конюшни, где расположился госпиталь, те же самые девочки говорили мне: «Как мы жалеем, что ты ушла! Мы теперь никому не нужны. Нас никто не ругает и не хвалит, чего бы мы ни сделали. И хорошее, и плохое — начальству на все наплевать. Нет, нас ты драила справедливо…» Эти слова для меня прозвучали, как музыка…* * *
Помню, летом 1943 года, на Смоленщине, — я тогда работала литсотрудником армейской газеты «За правое дело» и много ездила по передовой, — в одной из дивизий «свой брат журналист» прочитал мне стихи:Великие вещи есть две, как одна:
Во-первых, любовь, во-вторых, война.
Но конец войны затерялся в крови…
Мое сердце, давай говорить о любви!
* * *
Маникюрша говорит пришедшей к ней даме-клиентке: — Чего это у вас всегда пустые руки? То есть без колец и перстней, без сапфиров и изумрудов, без топазов и без бриллиантов. А они, эти самые «пустые» руки, за годы жизни перестирали многие тонны белья, отмыли от грязи сотни квадратных километров полов, да еще отскребли эту грязь лопатой! Они отчистили великое множество кастрюль, отмыли тысячи тарелок, и чашек, и котелков. Наконец, они же, эти самые руки, рыли окопы, держали винтовку, перевязали десятки сотен, тысячи гнойных кровавых ран, они поили с ложечки тяжелобольных, и они же бросали гранату. Они и сейчас еще могут с нежностью прикоснуться, и погладить, и пожалеть… Разве ж это — пустые?* * *
Наступает время, когда бывшие фронтовики возвращают друг другу дареные фотографии и письма, написанные в те огненные годы и несущие на себе все черты того сурового времени. Ибо наследовать эти сокровища некому. Разве что лифтерам, которые первыми обнаружат «невыхождение жильца», или начальнику ЖЭКа. А им-то на что они, наши страдания и наши откровения? Понять это может только тот, кто сам, лично все это пережил. Недавно моя землячка и однополчанка старший лейтенант в отставке Ирина Ивановна Антипенко, наша умница и красавица, вернула мне два моих письма, посланных к ней из одной воинской части в другую и даже на другой фронт, потому что нашу дивизию к тому времени расформировали. Как же я смеялась и плакала, перечитывая написанное «своею собственной рукой»! Что за стиль! Что за почерк! Какие ужасные и смешные подробности! Нет, это не я, это, наверное, какая-то другая женщина. Ибо я сегодня совсем не такая… Нас с Ирой сдружила трагическая и глупая история, связавшая мальчишествующих девчонок со взрослой и доброй женщиной. А потом мы вместе пережили такое, что страшно рассказывать: двадцать шесть человек наших подруг, вместе с ранеными и больными, немцы расстреливали из минометов, а потом раздавили гусеницами танков. В живых мы остались только лишь потому, что не хватало машин для движения вперед и были созданы два «эшелона», — одни ехали на машинах далеко вперед, «на запад», разгружались, раскладывали палатки, а потом приезжали мы, то есть второй «эшелон». В данном случае во втором «эшелоне» оказались три девчонки из Воронежа и наша умная, добрая Ира. И вот оно, это глупое и смешное письмо после пережитых ужасов:«30.11.42 г. Дорогая Ирина Ивановна! Получила Ваше письмо. Очень за него благодарна Вам и приношу глубокие извинения за долгое молчание. Если бы Вы знали, как мало у меня свободного времени и как трудно мне здесь быть одной, не имея возможности хоть с кем-нибудь поделиться своими мыслями и чувствами, которых за это время накопилось препорядочное количество. Л. стала проявлять некоторые странности своего характера; однако они не вызовут удивления, если вспомнить, что в детстве она болела менингитом, а сейчас у нее повторяются мозговые явления. Из-за всего этого на душе мало приятного, ей-богу, иногда хочется выйти на улицу и завыть на луну, В. А. мне написал, что Вы снова побывали в Москве. Как я Вам завидую! Вы, наверное, посещали театры, ходили по широким просторным проспектам Москвы с нарядно одетыми женщинами и бодрыми генералами. Ах, как мне приелись «роскошные» наши землянки, наша унылая и бедная жизнь, однообразная зимняя природа. Мои друзья постепенно уезжают — одни после излечения на фронт, другие в тыл. Остался только один молодой паренек, лейтенант, красивый, высокий, характер у него как у Ивана Б., только еще более резкий, да и весь он скучающий, разочарованный, насмешливый, бездельничающий, начитанный, остроумный, воистину москвич, со всеми присущими москвичам достоинствами и недостатками[3]. Не могу не отметить одно знаменательное событие, которое ничем нельзя объяснить. Известный Вам «майор-орденоносец» точно таким же способом, как и Вас, уговаривал меня перейти к нему в часть. Интересно, зачем. И к чему такая ложь? Этот гнусный поступок вывел меня из себя, и я передала «орденоносцу-майору» через одного верного человека пару теплых слов. Теперь с этим все покончено. Я была бы очень довольна, если бы и Вы дали ему урок житейской премудрости. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Как Ваши успехи, ослепительный старшин лейтенант? Ваша фотография, на которой Вы в море цветов, меня обрадовала. Ирочка, если Вам действительно придется уехать из П., то прошу заехать к нам. Это вполне возможное предприятие, если я скажу Вам, что резерв политотдела находится в нескольких километрах от той деревни, где мы с Вами встречались в последний раз. Вот, милая Ирочка, какие у меня дела. С работой пока в порядке. Безусловно, есть мелкие неприятности, но где их не бывает? Комиссар ко мне относится хорошо, начальник ценит мою работу, может быть даже несколько преувеличивая мои заслуги. Во всяком случае, когда я попросилась отпустить меня на фронт, — мне категорически отказали. Благо, у меня хорошие отношения с Т., и он обещал мне подобрать хорошее место в одной из дивизий. Стихи переписывать нет времени. Когда-нибудь наберусь храбрости и пришлю все залпом. Пишите, дорогая. Целую Вас крепко, Оля».Письмо второе:
«24.10.43 г. Утро туманное, утро седое. Уже третий год нашей армейской жизни. Сколько перемен! Помните поэму Лермонтова «Боярин и т. д.»? Так вот мы возле «боярина». Ваше письмо меня страшно обрадовало. Если бы Вы знали, как повеяло от него старым добрым временем?! Да, наша жизнь с Вами одинаковая. Только прибавьте к этому небесную и земную музыку, в огромном количестве, день и ночь терзающую слух. Трудно мне, не раз я рисковала всем, и странно, что осталась жива. Но жизнь эта интересна и увлекательна. Я еще верю в прекрасное, верю в счастье. Неисправимая фантазерка! Вас я прекрасно понимаю, но это не только Ваш характер виновен, это происходит со всеми. Просто народ устал, измучился, обнажились какие-то доисторические черты характеров, человеческих лиц, нет времени на соблюдение правил приличия, жизнь идет в бешеном темпе галопа, и людей терзает мысль: «А вдруг она оборвется?..» Как правильна формулировка: «Бытие определяет сознание». И как изменилось мое настоящее «я», какие странные (на прежний взгляд) стала я совершать поступки… Но оставим эту неприятную тему до встречи, нам обязательно нужно разыскать друг друга после войны — ведь мы не поделились еще многими мыслями о событиях нашей военной жизни…»А вот письмо Шуре Верещагиной, моей подруге по госпиталю:
«21 февраля 1944 года. Если говорят, что каждое облачко в небе — это упущенное человеческое счастье, то на моем горизонте сплошные тучи и беспрерывный дождь. После всех своих неприятностей съездила я домой в отпуск, одна дорога заняла 18 дней! Поглядела я на жизнь тыла. Вот это действительно тыл! В полном смысле этого слова! Оборотная сторона медали, на которой написано, выражаясь языком нашего земляка Бориса Кузнецова: «Оторвем от жизни!» И действительно отрывают. Прямо с головой вместе. Каждые две недели мы идем «вперед». «Едут дроги во всю прыть, могут ноги отдавить!» А потом выясняется, что мы остались на тех же самых рубежах. Я простужена, сапоги вечно мокрые. Лечиться нечем. Один мой хороший товарищ сказал: «Лекарства нельзя принимать от случая к случаю, их надо пить так же регулярно, как водку, — только тогда они оказывают действие». Во, какая у меня прекрасная медицина!»
Господи, если бы все мои письма, и письма друзей ко мне, и порванные и потерянные, вернулись. Может быть, в них нашлись бы детали, которые пригодились не только для «светского» интереса, но и для большого и важного дела! Помню и без писем многое. Однако помню и то, как я стояла в конце августа в продутой ветрами березовой роще, на КП дивизии, ведшей тяжелый, нескончаемый бой. Ко мне подошла незнакомая женщина в военной форме с погонами лейтенанта и сказала: «Здравствуй, Оля». — «Здравствуйте», — ответила я. — Но я с вами не знакома». — «Ах, да! — воскликнула она. — Это я вас знаю, а вы меня нет. Я работаю в военной цензуре. Где сейчас Ваня Б.? Как поживает Ирина Ивановна? А что с Шурочкой?..» Я обомлела. Целых полгода после этого я не писала писем никому, даже матери и отцу. Перед моими глазами стояла эта женщина, которая знает обо мне все, а я о ней ничего не знаю. Но что же поделаешь, такова была военная жизнь! Из песни слова не выкинешь. А уж хороша ли была та песня или нет, это дело судить не нам, а грядущим поколениям. Мы свое отстрадали…
* * *
Помню однажды приехала я из Звенигорода, куда отвозила раненых, а навстречу мне комбат. — Зайди к Солдащенскому! Он тебя ищет. Солдащенский Леша, балагур, весельчак, пришел к нам в батальон вместе с новым главным хирургом Дроздовым. Военфельдшер по званию, он, несомненно, знал больше многих и многих военных фельдшеров, так как родом был из Ленинграда, из очень интеллигентной семьи. Немножечко скрипучим голосом, без улыбки, он всегда говорил смешные вещи, и я любила ходить к нему «в гости», когда выпадало свободное время. А тут времени ни у кого — ни у меня, ни у Солдащенского нет, а он меня зовет. Странно! Прихожу к нему в палатку, переполненную послеоперационными ранеными. Леша от усталости еле двигается. — Посиди возле солдатика, — просит он меня. — Дай ему кислород, камфору. Регулярно слушай пульс. Солдатик лежал на носилках, поставленных прямо на пол. И я села на пол, рядом с ним, у самого изголовья. Раненый был без сознания, дышал он так тяжело, так хватал воздух губами, что, казалось, искал кислород как чего-то текучего, овеществленного, а тот был бесплотен, не улавливался, не ощущался. Я нащупала пульс, он был очень частый и мелкий, неглубокого наполнения. Обвязав марлей нагубник, я дала ему подышать из подушки. Лицо раненого на какое-то время порозовело, но ритм дыхания не изменился, был такой же тревожный, хватающий, жгучий. После камфоры раненый стал немного спокойней. Но бледность его лица уже переходила в серость, в складках рта, в крыльях носа лежали зеленые тени. Леша время от времени издали взглядывал на меня, а то и подходил, давал какой-нибудь совет. Потом как-то подошел, помолчал. Покачал головой. — Ладно. Больше ничего не надо делать. Сиди! Длинна и темна непогожая декабрьская ночь. Длинна и темна тончайшая теплая ниточка жизни в лежащем рядом со мной на носилках, прикрытых стеганым брезентовым одеялом, измученном теле. Нет, уже не длинна. Уже виден ее конец, ее хвостик… Ничего не выражает лицо, глаза плотно прикрыты. Дыхание тихо, почти в норме. Пульс куда-то бежит, бежит, и вдруг словно кто-то поймал его, сжал, и он задохнулся, — отстукал свое. По руке, от пальцев к сердцу, вместо артериальной теплой крови теперь быстро-быстро бежит белизна… Я гляжу в лицо солдата, понимая и не понимая, что с ним произошло. Понимаю, что умирает, что умер у меня на глазах, но не могу этого постигнуть: как? Зачем? Почему? Что случилось в его распростертом, обессиленном теле? Отчего перестали двигаться легкие, работать сердце? Почему не помогла операция, не подействовала чужая консервированная кровь, наконец, моя камфора, кислород? Остановившимся взглядом смотрела и смотрела на серое, обескровленное лицо с бесцветными бровями, с рыжеватыми, давно не стриженными прядями волос на висках…* * *
Гоняясь за переменчивой модой, люди затрачивают время и гигантский, никем не исчисленный труд. Одни выискивают особой формы каблуки, другие — особой формы шляпу, сумку, особой формы часы и т. д. Через год-другой эта форма устаревает, будет модной иная, совершенно противоположная: вместо очень коротких юбок, например, станут модными очень длинные. Вместо тонких и длинных сапог опять грубые, кирзовые. И снова миллионы людей устремятся в поисках самого модного, наимоднейшего. А если бы вместо подобных поисков какая-нибудь дама пошла бы в больницу, накормила бы парализованного, обмыла бы его, убаюкала, как собственного ребенка. Или же действительно бы убаюкала ребенка, но не собственного, а чужого, за которым и ухаживать некому. Или же вымыла собственное окно, чтобы оно сияло… Сколько же в городе было бы чистоты, сколько добра и сколько тепла! Город Солнца! Город мирного неба.* * *
Землю меняет не только созидающее начало, но и разрушительное. Убиты на войне миллионы людей, и разве наша жизнь от этого не изменилась? Мне недостает спокойствия и внимательной доброты очень многих простых бойцов, которые во время войны с трехлинейной винтовкой в руках создавали в моей душе ощущение нашей силы… Не бедности, а богатства. Их уже давно нет, этих солдат, политработников, командиров, а я все еще не чувствую, что их нет и больше никогда не будет, я все еще не могу смириться с потерей. Точно так же мне жаль Митрофаниевский монастырь в Воронеже, разбитый вражеской артиллерией и не восстановленный после войны. Мне жаль старинное — прекрасное в своей прочности, основательности — здание Воронежского университета. Немцы от него оставили груду пыли. Жаль здания моей школы, перестроенного до неузнаваемости и теперь превращенного в поликлинику. А ведь в ней учились еще моя мать, мои старшие сестры, я ходила по ее коридорам и лестницам долгие десять лет. В юности все годы кажутся долгими. Их торопишь. Это теперь так хочется замедлить их бег, задержать, остановить, но, увы, к сожалению, они неостановимы. Мне жаль не только того, что этого всего нет, но и того, что новые поколения их не видели и не знали, что они не ощущали душой, всем своим существом той атмосферы, которая складывалась в нашем обществе накануне войны. Иначе и они бы тоже пожалели вместе со мной.* * *
Говорят: «Продлите мне жизнь…» Мне не нужно никакого продления жизни ради одной меня. И уж если такое возможно, и уж если выражаться точно, — мне нужно не продление, а повторение. Повторение моей жизни с моим нынешним опытом. Чтобы я могла искупить свою вину перед теми, перед кем виновата, проявить свою любовь и ласку к тому, кого обижала, любя, и кого уже не вернешь. Только ради этого и нужны они мне, эти новые долгие дни и годы… Сегодня побывала на кладбище у мамы. Октябрь перевалил на вторую свою половину, а в воздухе теплота, придорожные леса ласкают взгляд мягким золотом листьев. На могилах все вымерзло, и только там, где очень любили покойного или покойную или очень были перед ним виноваты, еще цветут одинокие, выжившие цветочки. У мамы на могиле — анютины глазки. У какого-то Аксельрода — красные розы. У кого-то флоксы. У кого-то сиреневые мелкие хризантемы, мама их называла почему-то «дубки». Береза у нее на могиле еще в желтой и ржавой листве, а вяз облетел. Будет ли она рада вязу? Ведь вязы стояли под окном у нас в Воронеже, а она не любила воронежский дом, это я его любила как единственно что-то устойчивое, основательное в моей жизни, дом отца, хотя отец с нами и не жил, но он рос в этом доме, здесь прошла его юность, и мне все было интересно и важно — даже бабушкины сундуки на веранде, набитые старыми книгами и журналами и старыми выцветшими нарядами тети Оли, в честь которой названа я, — длиннейшие юбки, испанские черные кружева, туфли из белого атласа на тоненьком французском каблучке, шнурованные ботинки — почти до колен, веера, лорнеты, изношенные лайковые перчатки. Но вся эта мишура не имела цены, имели цену — в наших детских глазах — одни только книги, приложения к «Ниве» и сама «Нива» с ее царями а архиепископами, с войнами, с памятниками старины, с этнографическими зарисовками и усатыми генералами. Сколько я прочитала тогда интересных вещей в этих сборниках «Нивы», в приложениях, в старых, растрепанных, без конца и начала, пожелтевших томиках! Майнридовские «Водою по лесу» и Гоголь, его «Страшная месть», его «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Записки сумасшедшего», здесь же лермонтовский «Герой нашего времени», и Диккенс, и многие, многие другие, неизвестные и забытые ныне книги, произведения забытых ныне авторов, я и сама уже не могу вспомнить их названия, но они были о жизни, они давали какое-то представление о том времени, которое было до нас, и это было в них самое главное. Думала ли я тогда, где упокоится моя мама? И где — и как скоро — умрет Борис? И как будет мучиться в муках голода, умирая от рака, отец? Думала ли я, как буду бежать те проклятые четыре длиннейшие остановки — через Крымский мост до Второй Градской больницы, чтобы застать маму еще в живых, задыхающуюся, умирающую? Как буду считать ее последние, предсмертные дыхания? Я тогда ни о чем не задумывалась. Вот для этого человек и должен иметь две жизни, чтобы одну прожить спокойно, без треволнений, а вторую — в сознании своей ответственности, с чувством неповторимости происходящего, с исправлением ошибок, с искуплением вины… Две жизни… А может быть, три? Тогда мы поймем и еще что-то важное, наиглавнейшее?* * *
У наших союзников по войне существовало выражение «окопные ноги». Заболевание от холода и от сырости. А я бы добавила, от отсутствия отдыха, от непосильных нагрузок, от поднятия тяжестей. Вспоминаю, как мы под Москвой в 41-м году, в медсанбате, девчонки, вчерашние школьницы, вчетвером поднимали носилки с каким-нибудь солдатом-гигантом, и не могли ступить шагу, перебирали на месте ногами. Вот тебе и «окопные ноги» — безо всяких окопов!* * *
Никогда не забуду прелестную уличную сценку сразу после войны в Москве. Трамвай остановился у светофора, и я вижу часть улицы. Молодая изящная и загорелая женщина в выцветшей военной форме, с погонами сержанта, вся в орденах, а навстречу ей по той же самой дорожке, отведенной строителями — под дощатым козырьком с трубчатой оградой, — старшина, молодой, статный, бравый, с орденами. Дорожка узкая. Женщина сделала шаг влево, а старшина сделал шаг вправо — и они столкнулись лицом к лицу. Тогда женщина сделала шаг вправо, а старшина — влево, и они снова столкнулись. И подняли глаза друг на друга, увидели, как они оба молоды, здоровы, прекрасны — и улыбнулись, просто расцвели улыбками. И тогда старшина сильным, ловким движением приобнял свою встречную-«поперечную» и легонечко перенес ее, освобождая себе дорогу. И они разошлись… И мне до сих пор грустно оттого, что они так легко расстались. Кто знает, может быть, все счастье жизни заключалось в этой встрече… Может быть, они потеряли то единственное, что выпадает человеку лишь однажды. Может быть, они и созданы были друг для друга — и не знали об этом… Уж остаться бы ей в его объятиях…* * *
Удобство — или красота?! Сразу после войны, после растоптанных, пропахших потом сапог, заляпанных грязью шинелей, после поруганных сел и деревень, разбомбленных городов, после тусклого, серого, нищенского быта мир рванулся к красоте. И в жертву ей принес удобство… Мебель стала на курьих ножках, ни встать, ни сесть. Посуда стала стилизованная, за ручку чашки не возьмешься наработанной рукой, сразу выскользнет, ибо ручка эта сделана в виде причудливого завитка, а донышко у чашки с копейку. Знай смотри, как поставить, да еще чтобы при этом не опрокинулась на полированный стол. А если человеку 70—80 лет? Он не может подняться без посторонней помощи с этих прекрасных стульев и кресел, он не может сесть за стол, ибо этот стол ниже поясницы. Он не может взять эту чашку, ибо руки у него уже не гнутся. Он не может лечь в современную постель, ибо матрас в ней поролоновый, теряющий эластичность через 2—3 месяца после покупки. Конский волос, пружинивший и не умирающий в своей эластичности, можно найти только в гнездах степных птиц. Зато одежда, особенно женская, стала одно удобство. Пресловутые брюки. Брюки на всех — на старых и молодых, на толстых и тонких, на красивых и некрасивых, на стройных и горбатых. Прелестные юные девушки, которые по современным возможностям должны были бы ходить в шелке и кружевах, оттеняющих их женственность, их миловидность, ходят в мятой, залатанной, выцветшей дерюге, именуемой джинсами! Если бы они видели себя со стороны — длинноногие, долговязые, с распущенными по плечам волосами, какими они предстают перед уличной толпой! Но чувства самокритики у них нет: они любят моду, еще раз моду, одну только моду.* * *
Какая суровая Волга! Ветер, тучи. Волна крутая, словно на море. А потом в ясный, солнечный день необъятный простор на лугу, разливанное море цветов: ромашки, колокольчики, лютики, раковые шейки, медвежье ухо, донник белый и желтый, тысячелистник, таволожка и какие-то беленькие цветочки, мельчайшие, еле видные глазом, но такие душистые, что сердцу делается больно… И ты… Песня песней тебе, твоей доброте, твоей ласке, терпению… Помнишь, как мы пили воду из минерального источника? Помнишь, как сидели над Волгой и смотрели на заволжские просторы? Помнишь, как мы бродили по лесу, по его бесконечным тропинкам, свивающимся в один узел, а потом расходящимся снова, как солнечные лучи? Помнишь?.. Помни! Ты мне дал счастье жизни, и я не забуду его никогда!* * *
Серый замок на фоне осеннего серого неба, серый мокрый булыжник и серые голые ветлы, бегущие вдоль размытых осенних дорог от Хелма и Беловежа до Люблина. Я еду верхом на лошади по опушке леса. Сеется мелкий, почти пылевидный, невидимый дождь. Но шинель и ушанка набухли, в сапогах что-то хлюпает, и бедная лошадь с трудом и как будто со всхлипом выдергивает из грязи свои тонкие ноги, обутые в мокрую черную глину. Иногда мне приходится пробираться так близко под ветками деревьев, что я вижу на маленьких, сжавшихся почках повисшие капли, все ветки унизаны этими каплями, расшиты, как бисером, сероватым и стеклянистым. Когда я головою или плечом задеваю ветку, меня обдает короткий, легкий, невидимый дождь этих капель. И я вспоминаю тяжелую, бесконечную череду своих прожитых дней — под дождем, под порывами ветра, под снегом, в томящей жаре, в желтых, глинистых тучах поднятой танками пыли на смоленских проселках, и я думаю о природе, как о твердом и неуступчивом друге. Она хочет, чтобы я была злей, настойчивей, крепче, чтобы видела в окружающем мире не сусальную, сентиментальную красоту, а глубокую, скрытую, полную мужества мудрость. Иногда мне даже кажется, что она говорит: — Полюбите нас черненьких, а беленьких нас и дурак полюбит! И я чувствую ее зрелую правоту.* * *
Ездили на Николину гору. Мои спутники всю дорогу болтали о лайковых пальто, о замше, о драгоценностях, о дачах, о породистых собачках. Ничего этого нет и не было у меня, и я молчала. Я смотрела в окно на сверкающие перламутром стволы предвесенних берез, еще утопающих ногами в снегу, и думала: «Вот единственная моя драгоценность…» И все время вспоминались годы, когда мы жили на Николиной горе, счастливые годы, ибо мы были еще так молоды, так легки и так здоровы. Какое же это было прекрасное, дивное время! И серые заросли бузины в красных кистях, и тропинка с горы к разливу реки, и дом среди елей, дом с огромными окнами, светлый, чистый, просторный, и маленькая комнатушка, в которой был написан за несколько дней «Донник». Где они?* * *
Самое лучшее в жизни. Хоть однажды самой разжечь костер в лесу — и не для забавы, а чтобы приготовить еду и согреться. Ранней-ранней весной, на рассвете, услышать голос синички, ее скачущую, тонкую, как шелковая ниточка, песню. Усталой, больной, еле передвигающей ноги найти наконец приют и тепло, долгий, тихий, никем не потревоженный отдых. Самое сладкое мое послевоенное воспоминание — жизнь в степной деревеньке, сон на теплой печке, раннее вставание вместе с доярками, идущими на луг, к реке, на утреннюю дойку. Роса на траве, запах крапивы и мяты. Вид душистой сосновой щепы на строительстве нового дома. А потом — звучание песни, грустной, тихой, рассказывающей о самом трагическом. Как хороши деревенские звонкие голоса!* * *
Ромашку у нас называют нивянкой. Вроде бы от слова «нива». Но она не растет на ниве, на ниве растет другая, ободранная. А эта растет на лугах. И вот читаю болгарскую повесть и вижу, что у них это слово пишется как «невянка», то есть невянущая, и это вполне соответствует характеристике ромашки. Все становится на свои места. Невянка, невянка, товарищи составители словарей!* * *
На тех самых столбах, на которых люди вешают объявления: «Пропала собака…» или: «Меняю одну комнату 28 метров на две в разных районах» и так далее, висит объявление с надрезанными язычками, на которых обычно пишут номер телефона, а сейчас необычно: «Поздравляю с 1980 годом». И на каждом бумажном клочке: с 1980-м. То есть возьмите себе все возможное счастье и всю радость грядущего, неизвестные мне люди, я вас поздравляю. Ох, какие же есть на нашей земле широкие и причудливо-угловатые, славные души, сколько света и сколько чувств в этих зубчатых белых бумажках! Жив ли ты, человек?! И здоров ли?! И счастлив ли?! От души желаю тебе всех благ и в 1981 году, и в 1982-м, и так далее. За одну твою добрую, теплую выдумку желаю тебе не жить в одиночестве, когда не с кем встретить Новый год! Желаю здоровья и счастья, поскольку у нас на пороге еще один — Новый… Очень жаль, что рядом с этим объявлением не было номера телефона или адреса, я послала бы цветы и привет. Может быть, поздравлявший всех нас человек был настолько одинок, что ему жизненно необходима хотя бы одна живая душа, откликнувшаяся на поздравление…* * *
Александр Блок первым взглянул на землю глазами космонавта.Да, я возьму тебя с собою
И вознесу тебя туда,
Где кажется земля звездою,
Землею кажется звезда.
* * *
Человек живет не только сегодняшним днем. Он, как комета, тащит за собой груз невыполненных обещаний, не сделанных ни вчера, ни позавчера дел, которые, возможно, и завтра и послезавтра не будут выполнены, ибо каждый наступающий день несет к тому же и свои собственные заботы. Может быть, поэтому и сгорают люди, сгорают, как волочащие за собой сверкающий хвост блистательные кометы…* * *
Женщина, проезжая в машине по деревне, видит кур, копошащихся у дороги в пыли, и восклицает совсем по-современному, по-городскому: — Смотрите! Свежие куры!* * *
Человеку иногда достаточно одной беды, чтобы его сломили сразу и навсегда. Но когда беда следует за бедой, когда человека со всех сторон окружают только усмешки, то приходит «второе дыхание», неведомо откуда возникает никем еще не открытая биологическая устойчивость, обусловленная эффектом привыкания, что ли, совсем, как на войне, на переднем крае. Таково последствие «пережима» во всем. В литературе. В политике. В журналистике. И даже в любви. Ничего нельзя делать «много». В любви, правда, все же видишь любовь, и в этом ее главная заслуга. В литературе пережим становится общим местом и штампом, вызывающим чувство неверия в автора. Не веришь автору, когда он пишет слишком много и на слишком отдаленные друг от друга темы. Невольно думаешь: «Эдакий универсал!» Не веришь, когда ему все удается. И когда все его хвалят. И когда он всем непременно хорош. В такие минуты ясно видишь фанерные декорации, на фоне которых все это происходит. И даже суфлера.* * *
Собираемся к друзьям на новоселье. И всегдашняя важная проблема: что подарить? У всех есть свое, уже купленное по вкусу, а вдруг принесешь, да выругают тебя, а потом выбросят твой подарок в мусоропровод? Оригинальный сувенир сейчас можно привезти только откуда-нибудь с Филиппин, из Мозамбика или же с Таити. Вспоминается год, когда мы переезжали в теперешнюю нашу квартиру. Я вожусь, оттираю линолеум и кафель от масляной краски. И вдруг звонок в дверь. Входит моя добрая знакомая Клавдия Ивановна с дочкой, несет швабру. — Вот подарочек на новоселье… Чтобы в твоей квартире всегда было чисто. Двенадцатый год мы живем в этой новой квартире, и двенадцатый год я подметаю полы шваброй Клавдии Ивановны. Уже нет на свете дарительницы, уже я постарела, а подарок все живет… И всякий раз, как берусь за приборку, вспоминаю ее, простую, заботливую, разговорчивую русскую женщину, так хорошо знавшую жизнь и хлопотавшую лишь о насущном.* * *
Да, многое забывается из тех черных и красных дымящихся военных дней. А многое остается в сердце навсегда и связывается с нашим сегодня — последний ночлег на польской земле был под Калишем у приветливой, доброй старушки, которая напоила и накормила меня и спать уложила на собственную кровать, под белейшую, воздушную «пежину». Утром сели мы по машинам, я на самую верхотуру, и тронулись прямо на запад, все еще погромыхивающий орудиями, но погромыхивающий уже отдаленно и не громко, не грозно, как прежде. Проезжаем Опочно. Где-то западнее его вся дорога в разбитых немецких машинах, повозках и танках. Поле справа и слева от узенькой ленты шоссе распаханное, с побелевшими от мороза, но бесснежными бороздами. И вот по кюветам и по полю поперек борозды как какое-то злобное стадо, как взбесившиеся мастодонты, врассыпную бежали от наших штурмовиков, неизвестных мне марок зеленые и оранжевые и белесые грузовики, штабные автобусы, легковые машины. Всюду смятый, изломанный, искореженный, обгоревший металл, обнажившиеся конструкции, радиаторы, сплющенные в гармошку, груды ящиков из-под снарядов и всякого хлама, старья, каски, сумки, противогазы, и над всем этим — черный пепел и оборванные, измятые, как-то мертвенно шелестящие комья бумаг — тут толстые рваные книги, и «дебет-кредит», и длиннейшиесписки, и ведомости, и приказы, — словом, вся бухгалтерия смерти. И повсюду — на бороздах, на дорогах, в кюветах, под колесами обгоревших машин — трупы, трупы… Смердящие сладкой приторной вонью трупы немцев, людская мертвечина… А еще говорят, что труп врага хорошо пахнет! Вот уж этого не заметила. Чего нет, того нет. Эти трупы воняли, как воняют все смертные, и правые и виноватые. Эти, плоско лежащие на земле, виноваты — захватчики, оккупанты, грабители и убийцы, — и вот тлеют теперь на февральском ветру… Первый город на старой немецкой границе был Бомст. Он запомнился мне черным дымом, клубящимся над домами, резким, звонким потрескиванием лопающейся от огня черепицы, непроезжей, размазанной грязью обочин, мрачным обликом старых ветел, сжимающих своим четким строем шоссе. Над домами, повсюду, из окон и чердаков, хоть и белые, все равно словно траурные, свисают какие-то тряпки, символ полной покорности, сдачи в плен, подчинения перед силой, переломившей их силу. Мы подъехали к маленькой площади, замощенной булыжником, окруженной домами с высокими крышами и широкими окнами под железными жалюзи — это были, наверное, магазины, но владельцы давно сняли вывески и закрылись, сидят по подвалам, ожидая, когда пронесет, — здесь и встали борт к борту машины. Я сидела в кузове машины, скучая и даже задремывая, — может быть, поэтому и не сразу поняла, что случилось. Только видела: среди группы бойцов проходит высокая немка в черном теплом платке, и вдруг она, выхватив пистолет, стреляет в упор в стоящего посреди площади офицера. На женщину сразу же навалились солдаты, схватили, сорвали платок, ударили несколько раз по лицу, потом с тяжелой, армейской бранью, с угрозами, криками потащили за угол. На площади, возле лежавшего на земле офицера сгрудилась толпа, набежавшая на звук выстрела. Я спросила у шофера, вертевшего головой, он-то видел все, стоя на высокой подножке кабины. — Что случилось? — Да, немец… Эсэсовец переодетый сидел тут в подвале, вот вышел, стрелял… — Ах, сволочь… Убил? — Да, не-ее, только ранил. Не наш офицер, а какой-то танкист. — Ишь, белые флаги развесили, — сказал незнакомый мне рыжий ефрейтор, — а сами стреляют из-за угла… Паразиты, фашисты. Одна за другой выезжали из Бомста наши машины. Когда разворачивались на площади, я увидела сцену, которая поразила меня навсегда. Три тяжелых американских «студебеккера», нагруженные говяжьими тушами, — по нормам военного времени еда, может быть, на дивизию, не меньше, — свернули к кювету, к обочинам в черной, жидкой грязи, и бойцы, стоявшие возле бортов, принялись эти красные, голые туши, с прожилками жира, лихо, весело сбрасывать прямо на землю, в грязь, не глядя куда. — Что вы делаете, эй, хлопцы? — крикнул кто-то из-под колес. — Вы что, очумели? — Валяйте, валяйте, — ответил боец, перекинувший тушу через себя. — Там курятину будете жрать да индеек, у фрицев в берлоге. А снарядов — нема. Кто их вам привезет? «Да-а, — подумала я в ту минуту. — Далеко мы ушли от конины, которую ели в Износках, под бомбами…» На окраине Бомста, уже где-то на выезде из него, мы немного свернули и въехали в оплетенные колючей проволокой распахнутые ворота. Из приплюснутых низких серых бараков навстречу нам вышли уехавшие вперед «квартирьеры» — Валерий Скуридин и наши солдаты: Перемышленников, Тугушев, Данилкин, старшина Виноградов. — А-а, приехали, — как всегда, чуть насмешливо улыбнулся Валерий Скуридин. — Ну, входите в немецкие наши дворцы… — Да, не очень приглядно, — сказал наш шофер. — Что здесь было при немцах? — Лагерь для военнопленных. — Для русских солдат? — Ну, конечно. — А где ж они сами-то, наши пленные? — Да, наверное, уже топают к дому. Ничего, походи, погляди, как тут жили… Такое увидишь! Пусто, мрачно в бараках. Лютый ветер, февральский, засвистывает в щелях. На нарах истертая в порошок солома — это вместо матрацев. Стены голые. Голый плац посреди лагеря. Вокруг высокий дощатый забор, оплетенный колючей проволокой. Все какое-то неприютное, обнаженное, приведенное, в общем, к нулю. Упрощать больше нечего, разве что только смерть упростит. Да, смерть здесь, по-видимому, была очень проста. Нет, не хочется мне находиться в этих бараках. Хотя кроме негде: в самом Бомсте все занято другими войсками, там к тому же еще штаб армии, особенно не развернешься. Но я ухожу из распахнутых, словно пасть, ненавистных ворот.* * *
На войне так бывает: впечатлениям некогда перевариться. Они друг на друга накладываются, накладываются вперемешку — к сожалению, не слоями, — и какая-то незначительная деталь после в собственном представлении неожиданно и незаслуженно приобретает значение символа, вырастает до неба, а то самое важное, самое главное из увиденного, что поразило тебя когда-то на миг — между выстрелом или бомбой — вдруг уходит безвестно, бесцельно на дно взбудораженной памяти, как какая-то мусоринка, песчинка, как комочек земли, чтобы лечь там, на дне, и невидимо раствориться, превратиться в бесформенное ничто, именуемое забвением. А забвение — вещь безглазая, бесконечная, у нее нет другой стороны, в ней кончается диалектика, гибнет молча и нехотя все. Так, наверное, утонули во мне и какие-то сцены и встречи в том злопамятном городе Бомсте, а вот что-то осталось, пустое, какой-то действительно пустячок, так, ничто, быль и небыль. Они и остались в душе. И я, как сквозь мутные стекла, сегодня гляжу на свое отражение в те далекие годы, в ту войну, в той стране. Первым делом там, в Бомсте, я бросилась к старым друзьям, в редакцию армейской газеты «За правое дело», в некогда свой родной коллектив. Я у них проработала литсотрудником очень недолго, всего только год, но ведь это, во-первых, был год на войне, целый год, во-вторых, я у них и до этого часто печаталась, приходила к ним, помню, пешком, издалека, и это они меня разыскали в армейской среде, и «из низов», и взрастили, и, что самое важное для меня, — именно здесь я услышала и увидела очень хороших людей, здесь узнала мужскую, суровую дружбу — настоящую дружбу, не какие-то там разговоры с пошлинкой среди множества молодых и здоровых мужчин, очень «тонкий» намек, а великую дружбу, — при взаимном и радостном уважении битву умов, бесконечное рыцарство, легкую «травлю» и беззлобное остроумие. Вот я в Бомсте и разыскала их в богато обставленном доме, сияющем белизной, чистотой, с изумительным садом. Пожилая хозяйка — для меня она была дряхлой старухой, фрау Марта — тотчас же принесла чашечку кофе «эрзац» с еще теплым печеньем. И я поглядела на Ивана Федоровича Трусова — своего старого друга — с нескрываемым удивлением. — О?! Вот даже как? И он усмехнулся. — А что ж… теперь мы для нее оккупанты! — Да, но сами-то мы оккупантам печеньице не носили… — Ну, то мы… Дикари! А это — Европа, — объяснил он мне достаточно смутно ситуацию. — Нет, она бабка, видно, хорошая, — вступил в разговор Анатолий Иванский. — Она делает все от души. — Мда-аа, душа… От души… Чужая душа — потемки. — Ничего. Все наладится. Ну, не сразу, конечно. Я глядела на лица добрейших моих, поседевших за годы войны товарищей. Сколько трудностей, горя, лишений пережили они, пока добрались вот до этого Бомста, и как хочется им сейчас тишины и довольства, счастья, радости, мира — вопреки всему: этой проклятой войне, еще не закончившейся, и той «женщине в черном», то есть эсэсовцу, стрелявшему в нашего офицера в упор, и барачному городку для военнопленных, за колючей проволокой, и той смятой, истертой в пыль черной соломе на нарах, и снарядам, которые подвезут на машинах, разгружавших сегодня мясные туши прямо в грязь, на обочину… Мы не виделись очень давно, и давно уже разговор перешел на другие, газетные, литературные темы, а в душе все немного скребется какая-то жалкая, грустная мысль: «Фрау Марта… Фрау Марта… Какая заботливая. Ведь никто же не просит ее ни о чем… А она то печенье, то супчик, то кофе несет: «Цо пан хце?» Фрау Марта предпочитает говорить с моими друзьями по-польски, не по-немецки, ей сегодня уж очень хочется быть не немкой, а полькой. Так, наверно, удобней, смягчает, как буфер. Я разглядываю гостиную, где живут мои братья по перу и газете. Диваны и кресла в аккуратных чехлах. Всюду зелень в вазонах, на стенах картины, и всюду вышивки, вышивки: дорожки, салфеточки, расшитые шелковой гладью подушки. И хотя здесь сегодня, конечно, совсем не немецкий, а все тот же знакомый мне армейский порядок: столы стащены к окнам, наверное, собраны изо всех прочих комнат, тут же смятые ложа на привезенных еще со Смоленщины топчанах, разбросанные бумаги, гранки, стопками пожелтевшие книги, фронтовые блокноты, исписанные экономии ради такими немыслимыми закорючками, что сам черт их не поймет. Однако все это смотрится по-особому, непохожим на прежнее, куда чище, богаче житье по сравнению с жизнью в Лиозно, где нас днем и ночью бомбили, или в деревеньке Гришино, где мы работали в крестьянских избах, а спали на сеновале. За четыре года войны у нас на глазах было столько разрухи, столько бедности, нищеты, столько всякой рванины, что нам это германское благополучие и довольство и обилие сахара и муки, без которых печеньица не испечешь, уже кажутся роскошью, даже чем-то преступным. Да и есть эти вкусности тоже преступно: для чего они нам?! Когда я ухожу, фрау Марта стоит на дорожке в саду, вся такая опрятная, чистая, почти серая от седины, в серой кофточке, в черной юбке. На ней грубые, но добротные башмаки, руки в старых перчатках, измазанных глиной: фрау Марта сажает цветы, разрыхляет клумбы, разбрасывает удобрения. На прощание она мне почтительно кланяется. Мы прожили три дня в этом городе, целых три дня, ожидая приказа. Уже двинулся весь штаб армии, уехала вся редакция, в том числе и мои друзья, уже солнышко по-весеннему припекло, на сирени набухли коричневатые почки, а мы все еще ждем, все слоняемся по готическим улочкам, меж старых богатых усадеб, обнесенных, как крепости, высоченными заборами, мимо замкнутых, запертых за железными ставнями чистых, крепких домов. Бесконечные толпы пленных немцев — на этот раз немцев! — потянулись по грязным дорогам с запада к нам, на восток. Многосотенные, а то многотысячные колонны, а ведут их всего лишь два-три скучающих автоматчика, уныло шагающих сбоку дороги. А за колоннами пленных, за последними замыкающими, такие же длинные, неохраняемые стада одичавших, недоеных черно-белых коров. — Эх, помыться бы, в баньку сходить, — скулит целый вечер на нарах сержант Тугушев. — Скоро месяц, как топаем, всю Польшу протопали, хоть бы морду почище к победе отмыть… — Да, неплохо помыться, да где ее, баньку, взять? У них, у фрицев, видать, бани не в моде. — Хоть водички нагреть бы в ведре… Да только вот в бараке холодина! Еще холодней, чем на улице, просквозит до костей. И Берлин уже не увидишь… Я внимательно слушаю этот тоскливый солдатский скулеж. И вдруг в голову пришла мысль: фрау Марта! Да она обязательно меня вспомнит. Мы к ней сходим, попросим натопить пожарче печь, нагреем воды и устроим себе хорошую баню, уж расплатимся чем-нибудь, не деньгами, так банками со «вторым фронтом» или плитками шоколада, немецкого, из трофеев. — Пошли, хлопцы! Будет баня. Устрою… И вот перед нами тот зажиточный, чистенький дом, белый сад, Но никто не встречает на желтой, усыпанной чистым песком аккуратной дорожке. Мы проходим двором, поднимаемся на крыльцо, осторожно стучимся. Никто нас не слышит. Но дверь не закрыта, это чувствую всем плечом. Нажимаю немного, не очень-то сильно; дверь бесшумно распахивается прямо в сени — в сенях не темно, в них густым, желтым плотным столбом стоит солнце, проникшее из такой же распахнутой двери из кухни. В кухне пахнет похлебкой, только что вскипяченным молоком и знакомым мне пряным, сладким песочным печеньем. За столом сидит щуплый, высокий, морщинистый, уже седенький старичок в фольксштурмовской форме, с былинками сена в нестриженых волосах, он спешит, что-то быстро жует, рядом к стенке приставлена винтовка. Фрау Марта стоит перед стариком, спрятав руки под вышитым ярким передником. Вдруг глаза старика странно выпучились, как у вареного рака: он увидел меня и солдат за моей спиной — и сперва побледнел, а потом покраснел, поперхнулся, закашлялся, вскочил, глядя в окно, вероятно раздумывая, не прыгнуть ли прямо в сад, разбив толстые стекла, — и застыл без движения. Фрау Марта, увидев его, обернулась и согнулась, как будто бы кто ударил ее в лицо, в грудь, под ложечку. Я не сделала еще шага, а она уже подползла по ковровой дорожке: целовала мои сапоги в жидкой липкой грязи, обнимала мне ноги, лепеча уже по-немецки, а не по-польски. — Фрау Марта! Как не стыдно! Не смейте! — кричала я, с омерзением отрывая ее цепкие, крепкие пальцы от колен, от сапог. Я на миг задохнулась: что-то стиснуло мне горло. Наконец я отряхнула ее брезгливо, отступила назад, за порог. Мои хлопцы рванули быстрее меня, мы опомнились за воротами. Нет, ни я, ни бойцы не боялись винтовки фольксштурмовца, хотя мы пришли безоружные, — да об этой винтовке и не думал никто, мы бежали от смертного ужаса, проступившего на лице старика, от униженной, распластавшейся фрау Марты, целовавшей мои сапоги. Это было неслыханным, нестерпимым, немыслимым, отвратительным зрелищем, я их чувствовала на себе, эти липкие поцелуи, как какое-то стыдное, оскорбляющее меня, унизительное клеймо. И еще ощущение было такое, словно я наступила на что-то живое, и вот это живое было липкое, гадкое, какое-то скользкое. Я шла, передергивая плечами, как-то ежась и морщась от только что пережитого незнакомого чувства. Что-то было испорчено, и притом безвозвратно, в этом ласковом солнечном небе, в этих теплых нахохленных почках сирени, в длинных вешних ручьях, в белых тряпках знамен безоговорочной капитуляции, словно радость и молодость мои как-то сразу уменьшились, словно это не старая немка, а я только что унижалась во имя спасения чьей-то жизни, и сама эта жизнь и само унижение не имели цены, не хотели спасения. Молча, медленно прибрели мы в барак, уселись на нарах. Я не знаю, что думали мои добрые хлопцы, как они пережили и перечувствовали всю эту сцену. Ведь никто ничего не сказал, не обмолвился ни словечком. А я не забуду ее никогда. До последнего часа.* * *
Я видела несколько больших наступлений. Наступление под Москвой в декабре 41-го. Освобождение Смоленщины в 43-м. «Белорусский котел» в июле 44-го. Вступление наших войск на территорию Польши, Германии. Бои за Берлин… Война длилась 1418 дней. Многое помнится… Но я никогда не забуду и ту ночь — накануне. Накануне войны. Самую короткую в году, почти белую, теплую, смутную от волнения, смеха и беготни, от живого, веселого шума, который предшествует властной, глубокой, завершающей тишине. Я сижу на скамейке в большом школьном зале, рядом со шведской стенкой, окрашенной масляной краской в ядовитый голубой цвет, и не чувствую боком ее деревянной ребристости. Потому что минута настала торжественная. Вот сейчас… Сейчас прозвучит и моя фамилия по алфавиту — и мне тоже вручат аттестат, И я стану взрослой. Серьезной. Свободной. Да, минуту спустя и я отхожу с аттестатом в руках от стола, за которым сидят наши учителя, наш директор школы, гости из гороно, мамаши из родительского комитета. Я действительно уже взрослая! Я свободна, свободна! Свободна от давно надоевших уроков, от примеров на грамматические правила, от диктантов и сочинений, от решения задач по алгебре и геометрии, от звонка, зазывающего нас за парты. Я свободна от сурового, строгого взгляда нашей классной руководительницы Катерины Ивановны, которую мы тайком, за глаза, называем почти что почтительно: Кити. Что может быть прекраснее этой свободы — пройти независимо мимо Кити и знать, что она уже больше не властна над моей душой, над моим неуломным, углами, характером, над моим маникюром, таким скромным, чуть розовым, — чем он ей помешал? — над моей прической — вся в локонах, как у Милицы Корьюз, — над всей моей новой жизнью, уже не школьницы, а, возможно, студентки университета, над моими стихами, над тревожно-летящими снами, над романом, засунутым под подушку… Да, я взрослая, взрослая, Катерина Ивановна! До свиданья, прощайте! Не грустите о нас. А уж мы-то, на полной свободе, о вас не забудем. И, наверное, не загрустим в этой сладостной, предстоящей разлуке…Ночь в распахнутых окнах чуть дремлет, загустев лишь немного, ненадолго в темных кронах деревьев по улице Комиссаржевской. Последняя ночь, а верней, затянувшийся вечер, перешедший из медлительных июньских сумерек, из серебряного полумрака, прямо в теплое, летнее, душноватое утро. Я оглядываюсь на своих одноклассников, на парней и девчат. Нет, прощаемся мы без скорби… Ну, подумаешь, эти лица! Ты их видела в течение долгих десяти лет — на каждом уроке, на каждой перемене, на каждом собрании. И вот, думается, и опять будешь видеть их — и не год и не два, а всю жизнь, ведь живем в одном городе! Значит, будем встречаться на проспекте Революции, — весь Воронеж встречается на проспекте во время вечерних прогулок, когда группы гуляющих движутся встречными волнами, с разговорами, смехом, с шарканьем многих сотен подошв, с ароматом духов, табака и политых из шланга газонов. Ты их встретишь, эти знакомые лица, и в театре, на премьере. И в очереди в магазине. И на танцах в Студенческом. Или в парке культуры. А кроме того, ведь мы все собираемся учиться дальше: кто в ВИСИ — Воронежском инженерно-строительном институте, кто в мединституте, кто в СХИ — сельскохозяйственном институте, кто в институте иностранных языков, а кто в зоовет — зооветеринарном, — выбор у нас в городе большой, обязательно с кем-нибудь да встретишься на лекциях или в читальне, не с одним, так с другим, снова будешь еще издали насмешливо примечать чей-нибудь рыжий чубчик, веснушки или черную, хмурую соболиную бровь. К утру в том же самом школьном зале, на длинном столе, накрытом скатертью, подан чай. Конечно, не чай, а портвейн, разнесенный под видом остывшего чая: «А вы выпейте… Пейте, пейте, мы сейчас погорячей принесем!» Крепок чай, хотя и остыл, обжигает тебя с непривычки, а ты щуришься и смеешься каким-то неловким, чужеватым смешком: ну и ладно! Ну и что? Ну заметила Кити, как я сморщилась при глотке, но ведь больше не скажет уже ничего. Вон она и сама, выпив чашечку, а вернее пригубив, тоже сморщилась — и засмеялась. Взяла для блезира варенье и ложечкой стала его осторожно размешивать… А потом под широкими тополями мы идем по проспекту, взявшись за руки, одной длинной цепью, и поем, будоражим весь город. Постовые милиционеры только скорбно покачивают головами, но сказать ничего не решаются. Они тоже, как Кити. Как же! В жизни у человека бывает лишь один выпускной вечер, самый главный — из школы. Второго такого уже не случится. Позади твоя юность, впереди — уже взрослая, мудрая жизнь… На площади Двадцатилетия Октября, у памятника Ильичу, мы, напевшись и наплясавшись, наконец, расстаемся. И хоть кто-нибудь на прощанье крикнул бы вслед: оглянись! Скорей оглянись — и запомни эту площадь и купы деревьев Кольцовского сквера, этот памятник Ленину, эти колонны обкома — квадратные, из черного мрамора. Потому что так скоро здесь будут одни только развалины, дым пожаров, бомбежки… Да, запомни, пожалуйста, их и себя! Ты ведь тоже не будешь такой никогда. И твой город не будет уже больше таким. И страна, что сейчас просыпается, и народ, они тоже не будут больше такими, как прежде, а в другом измерении, нам доселе неведомом, в новом качестве, — в жизни и в смерти, уже на войне… А я этого в ту минуту не знала. Я пришла домой, сняла новое платье, аккуратно сложила его и улеглась спать на конике, на веранде, у большого окна. И заснула мгновенно. Ведь не думалось ни о чем. Все так было прекрасно…
Я потом вспомню этот час — между бытием и небытием миллионов людей, когда нам перед строем зачитают приказ, леденящий душу. Мы, курсанты, будущие офицеры, молча выслушаем приказ. Вечером начальнику курсов подполковнику Владиславу Ивановичу Кондыреву, сухощавому, стройному, подтянутому человеку, требовавшему от нас жесточайшей дисциплины и беспрекословного подчинения, легли на стол рапорты тех, кто считал себя коренным воронежцем: «Прошу отправить меня на Воронежский фронт, защищать мой родной, любимый город, оказавшийся в смертельной опасности…» И всех нас снова построили, а рапорты зачитали. «Вы будете воевать там, где прикажет Родина…»
…Когда я, наконец, выспалась после веселого, шумного выпускного вечера, позавтракала, принарядилась, чтобы опять идти в «город» (так у нас назывался центр, а жила я тогда на окраине, знаменитой шпаною и персидской сиренью Чижовке), уже близился полдень. Над городом заходила гроза, туча ширилась, наливалась угрюмой, безжизненной чернотою, расползалась по горизонту, — и никто, ни один человек не воспринял ее мрачность, угрюмость ко всему прочему еще и фигурально. И вдруг хлынул ливень. Меня он застал на Никитинской площади в дверях фотографии. Дождь в прямоугольной раме дверей висел перед глазами длинным ровным стеклянным пологом, лишь на внешность расчерченным на отдельные полосы, а в сущности эти полосы плотно смыкались. Гром ревел, перекатывался по крыше, грохотал как-то очень уж звероподобно. По асфальту мостовой, по тротуарам, с кипеньем, вся мутная, грязная, с клочьями мусора мчалась вода. Она забивала собой все стоки. Струи ливня сшибали листву с тополей, — пряно пахнущим слоем, измятые, в рваных ранах, они толстым слоем лежали на тротуарах, на асфальте проезжей части, на рельсах трамвая, вместе с мусором мчались по улице, завивались холодными водоворотами возле стоков. Вода поднялась почти вровень с рельсами, с тротуаром. А на площади, перед кинотеатром «Пролетарий», прямо под серебряной грушей репродуктора, — я это увидела все из тех же дверей, — стала скапливаться, собираться огромная, страшная в своей неподвижности под грохочущим ливнем толпа. Молча слушала голос по радио. Война!
ЛУНОЦВЕТ
Счастливые люди гуляют,
А я за работой сижу.
Счастливые люди танцуют,
А я за работой сижу, —
Но все, что они не сказали,
Сегодня за них я скажу.
Счастливые люди смеются.
Страданье их, горе и смех
Лежат предо мной, как на блюдце,
А я их счастливее всех.
Уж так ли они бессловесны,
Уж так ли мы в горе смешны,
Что им не нужны мои песни,
А мне их смешки не нужны?
ФОНАРИКИ, ПЛЫВУЩИЕ ПО РЕКЕ Повесть
1
Чужой город за окнами в душных сумерках разгорался цветными огнями реклам, волновал бесконечным шуршащим потоком людей и машин. После трудного дня напряженной работы Ушакова потянуло на улицу. — Ну, ты, Вася, как хочешь, а я пойду. — Пойди погуляй. За счет сна хоть всю ночь… — Да нет, я ненадолго. Он спустился по лестнице, прошел мимо боя, почтительно поклонившегося. Квадратные двери отеля раздвинулись автоматически — зеркальные стекла, светлый пластик, пушистый ковер, — пропустили Ушакова на улицу и снова задвинулись, оставив его одного в духоте и бензиновой вони огромного города, на мягком, расплавленном от жары тротуаре в бесчисленных оспинах от каблуков. Он шагнул на мостовую и смешался с толпой. Но тотчас же оглянулся, чтоб запомнить дорогу. Этот памятник в виде серой подковы они видели днем, когда ехали с вокзала, а потом у подножия его возлагали венки. Сейчас памятник оставался левей, заслоненный толпой гуляющих. Прямо против гостиницы мрачно темнело торцовой стеной бетонное остроугольное здание мемориала на квадратных тяжелых колоннах-ногах, нечто длинное, строгое и неуклюжее. Впереди, за деревьями, была река Ота, и небо над ней клубилось тревожным дымящимся светом и этой тревожностью было странно знакомо. Оно почему-то напомнило небо войны под Москвой в декабре сорок первого года. Постояв, посмотрев на багровые облака, отражающие непонятное, очень медленное перемещение источников света внизу, за деревьями, Ушаков долго думал, куда ему двинуться: для него все вокруг было одинаково любопытно. Но люди спешили куда-то направо, толпой проходя под колоннами мемориала, — мужчины и женщины, старухи и старики, нарядно одетые дети и даже собачки. И он тоже нырнул под бетонные своды угрюмого здания и вышел на площадь, посредине которой шумел и сверкал меняющий краски, подобно огромному хамелеону, совершенно не дающий прохлады фонтан. Люди шли к нему толпами, торопливо. Но, дойдя до цветной, рассыпающейся воды, останавливались кольцом и так замирали надолго, почти неподвижно, словно что-то их завораживало в этом сложном движении, может быть, не его красота, не изменчивость, не покорность, а расчетливое постоянство, с каким эта теплая, дымная влага вдруг меняла по четкому графику то свой цвет, то свои очертания. Созерцание этой безмолвной воды, текущей туда, куда ей прикажут, по-видимому, и завершало собой этот самый красивый из виденных Ушаковым и самый мучительный праздник — день памяти мертвых. Отсюда, от здания мемориала, люди шли уже по домам, к повседневным заботам, и больше не оборачивались на широкую площадь, освещенную разноцветным фонтаном, на разрушенный купол, на дугу сенотафа:[4] человеку жить в обществе символов неуютно. Они иссушают горечью воспоминаний, а жизнь и работа есть жизнь и работа… Ушаков отвернулся от пестрой, подсвеченной прожекторами воды: что ж, фонтан был как фонтан, а зрелище у него за спиною куда интересней! Там двигались, перешептывались и замирали у самой воды сотни людей — мужчины и женщины в разноцветных одеждах. Да, особенно женщины, изящные, грациозные, щебечущие, как птицы, на своем непонятном ему языке, в струящихся складками кимоно: рыбы, листья и розы на бледно-лимонном искрящемся шелке, серебряные цветы хризантем на розовом и голубом, золотые и черные маки на красном; пушистые длинные стебли растений, пунцовые, желтые, синие звезды. Ушаков этих женщин рассматривал отвлеченно, почти как рисунки. Его удивляло лишь то, что они улыбаются совершенно реально и обмахиваются веерами, белолицые, узкоглазые, с подведенными, как шнурочки, бровями, в плотно стянутых поясах из парчи, прикрывающих грудь и спину, как десантника-парашютиста прикрывает надетый перед прыжком парашют. И одежда, и пояс, и обувь — деревянные гэта или дзори с одним ремешком вокруг пальца, надетые на носочки, — все это казалось настолько занятным и необычным, что он, Ушаков, должен был для себя расшифровывать их, как загадку: а что это такое, а это? Кто это такая, морщинистая, длиннозубая, седая старуха, которую все приветствуют, сгибаясь в изящном старинном поклоне, почти до земли, и при этом ревниво приглядываются друг к другу — а кто дольше не разогнется? — и тщеславно выдерживают длиннейшую паузу?.. Он видел морщинистых стариков, опирающихся о барьер у фонтана, важных дам с причудливыми прическами, с веерами и зонтиками, и студентов в простой европейской одежде, и девчонок-работниц, молоденьких и хорошеньких, когда главное украшение — молодые глаза, и улыбка, и смех, и этого беспричинного смеха за недели работы, видать, накопилось в избытке. Здесь, в толпе было все: ожидание, неуверенность, любопытство, — а ему, Ушакову, хотелось увидеть на лицах что-то важное, непохожее, отличающее этих людей ото всех остальных граждан мира, от него самого, например, не видавшего, не пережившего всего того, что увидели и пережили они. Нет, особенного в этих лицах Ушаков не нашел ничего. Люди просто шутили. Скучали. Жевали конфеты. Обмахивались веерами: у фонтана было душно и жарко, не прохладнее, чем где-нибудь в центре города с его вереницей машин. Только облако над фонтаном становилось последовательно то малиновым, то желто-оранжевым, то зеленым, да нарядно одетые мальчики с пробритым кружком на макушке и девочки в сшитых точно по росту хорошеньких кимоно подставляли ладони под брызги; в них все было взрослое, в этих пяти-, шести-, семилетних кокетках: и жест, и походка, и взгляд, который они, трогательно семеня, догоняя родителей, едва успевали бросить на бредущего в одиночестве иностранца. Ушаков подмигнул двум таким улыбающимся черноглазым девчонкам («Ах вы, маленькие обезьянки!»), наблюдая, как точно, как радостно-грациозно копируют они взрослых, такие похожие друг на друга, словно кто вымерял и выделывал их по шаблону, в то же время такие не отличимые от матери и отца. В самой этой точности сходства, в поразительном повторении внешности взрослых, в постоянстве преподанных им движений, манер и привычек веками сменяющихся поколений было, видимо, что-то очень большое и очень надежное: залог процветания, нестарения нации. Сам он, Ушаков, не имел ни жены, ни детей и теперь уже не надеялся, что кто-нибудь повторит его мысли, походку, дурные привычки — о себе Ушаков размышлял почему-то критически, — и он повернулся и пошел от фонтана, огибая музей, снова к парку, к излучине Оты, откуда и поднималось над городом это странное зарево, словно дым от пожара. Он дошел до реки, но на мост не поднялся, а свернул по песчаной дорожке вдоль берега, под деревьями, и встал у бетонного парапета.2
За деревьями, прямо по стрежню реки — может, то была Тенме, Хонкаве иль Мотоясу (Ушаков еще не знал всех названий каналов), — проплывал излучающий теплоту огонек. Это, видимо, был бумажный фонарик. И он был зеленый. За ним следом тянулись малиновый и розоватый. Чуть дрожащий, невидимый свет, защищенный бумажным квадратом, поставленным на скрещении двух щепочек на плаву, диковинно украшал эту темную реку. В трепетании чуть прикрытой бумагой свечи было что-то тревожное и одинокое; этот свет доносился, как зов, к человеку, стоящему на берегу. Ушаков проследил за ним взглядом до самого поворота. На мгновение на реке все померкло. Вдруг огни потекли сверху густо, искрящимся ярким потоком от берега и до берега, медлительно завиваясь в тугие спирали, дрожа, шевелясь и волшебно мерцая. Кто-то их запускал в центре города по воде. Здесь, в излучине, они перестраивались на ходу то широкими полосами, то в затылок, в колонну, уходили по одному, и опять наплывали, все гуще, все шире, и опять распадались на желтые, красные и зеленые точки. Из сумерек — в ночь. Из каменных тесных набережных огромного, многолюдного города — в прибрежные воды Великого океана. Разноцветные, яркие, казалось, они никуда не спешили. Течение в дельте Оты почти незаметно. Поэтому они плыли задумчиво, невесомые, чуть покачиваясь вразнобой на густой, маслянистой, как олифа, воде. Мимо Ушакова вдоль берега прошла пара: он — высокий, широкоплечий, рыжеволосый, одетый по-европейски, она — тоненькая, изящная, в дорогом кимоно и затканном золотом оби. «Дзубэ-ко[5], — решил Ушаков. Но тут же подумал: — Да нет, не похожа». — Подожди, я только взгляну еще раз, — попросил по-английски мужчина свою спутницу и, обойдя Ушакова, стал под тенью разросшихся длиннолистых плакучих ив. — Посмотри, как их много! — обернулся он к женщине и быстро привлек ее к себе, обнимая за плечи. — Очень странный обычай… И очень красивый! И каждый фонарик действительно означает погибшего человека, да, Юкико? — Хай![6] — ответила женщина по-японски. Она едва уловимым движением отвела от себя его белую, длинно-палую руку и несколько отстранилась. Потом тихо добавила, как бы что-то подумав и что-то прощая стоящему рядом с ней человеку, объяснила ему: — У каждой погибшей души свой фонарик… освещающий путь! Мужчина закашлялся, заколыхался во тьме: наверное, засмеялся. Он громко спросил: — И ты веришь, Юкико, во всю эту чепуху? Вы странные люди… — Мне странно одно: что я все еще живу, — ответила женщина. Она отвернулась от рыжеволосого спутника. — В тот день, — сказала она, — я видела здесь плывущими одни только трупы… Ушаков оглянулся на скопления разноцветных огней. Да, он знал: много трупов плыло в тот день по реке, обожженных, со сползающим с костей мясом, с растекшимися глазами. Еще было много сгоревших, превратившихся в пар, в серый пепел, в бесплотную тень, отпечатанную на асфальте. Еще были мужчины и женщины, прикипевшие костями скелета к железу и камню, как бы сросшиеся в одно целое. Еще были умершие спустя много лет после взрыва и те, что болеют и умирают теперь в больницах, на улице, в жалких лачугах. Он все это знал, но не видел глазами. Сейчас река Ота, забитая огоньками, живыми, кивающими из темноты, с покорностью истлевающими, уплывающими в океан — безвинно, бесцельно, безвестно, безвольно — сотни тысяч огней по семи рукавам, — казалась наглядней, чем школьная диаграмма! Он припомнил другие — холодные — реки. Сколько их у него за спиной! Укрепленный фашистами берег Волги в декабре сорок первого под Калинином. Извилистая, в полыньях, разбуженная артобстрелом Угра в апреле сорок второго и трупы товарищей, вмерзшие в лед. Днепр, форсированный в ноябре сорок третьего ниже города Киева. Мутный Одер весной в сорок пятом году, Аурит, где солдаты сидели в залитых водою траншеях. Холодная, серая Эльба. Все они легли на пути у идущих к победе ледяным, обжигающим рубежом. Ушаков тряхнул головой, отгоняя видение неизвестной речушки под Витебском, освещенной огнями сигнальных ракет. За то время, пока он выплывал из собственных воспоминаний, как из черного небытия, здесь, рядом, поссорились, и женщина плакала. — Ну что ты, Юкико! Ведь я пошутил… Но женщина не отвечала. Она стояла, прижавшись грудью к нагретому за день бетону, и смотрела на реку, погасшая и печальная. — Ну что, в самом деле, сегодня с тобой? Ты шуток не понимаешь! Я тогда ухожу… До свидания! До завтра… — До свидания! До завтра, — машинально ответила женщина. — Ну, чего ты обиделась? — спросил снова рыжеволосый. — Чего ты молчишь? — Теперь он уже разговаривал с ней бранчливо. Потом повернулся и пошел прямо к мосту. — Саёнара![7] — уже отойдя, крикнул он. Но женщина ничего не ответила. Тяжелыми шагами человек прошел к мосту, постоял над рекой. Силуэт его четко врезался в бледное, полуночное небо, потом его сбоку оплавило ярким светом проезжей машины, и горячая, банная мгла поглотила его, может быть, навсегда. Река шевелилась, щетинилась, горбилась от скопляющихся на излучине, наплывающих сверху огней. Среди этих пестрых, мерцающих скопищ, малиновых, желтых, зеленых, что-то вспыхивало, перебегало, словно кто-то кого-то искал, но не мог найти, и, сгорая, взывал и молил о пощаде. «Наверное, война не кончается и не продолжается, — решил Ушаков. — Она живет в нас… А иначе о чем этой женщине плакать?» Он не мог отойти от бетонного парапета. Кто их знает, каким заблудившимся душам освещают вот эти фонарики путь? Может быть, в самом деле какой-то из этих огней, ну хотя бы зеленый, был красивым мужчиной. А вот этот, чуть-чуть розоватый, — молоденькой женщиной. А вот это, наверное, души детей. Вот они взялись за руки и, приседая, тихо кружатся на медлительной темной дегтярной воде: раз-два-три, раз-два-три… И вдруг словно спохватываются, вспоминая печальное свое назначение, сокрушенно покачивают головками и с большой неохотой, как бы делая очень нелегкое дело, снова тихо вытягиваются чередой, один за другим. Освещение на аллеях уже выключалось, и парк Хейва пустел. И женщина, все еще стоявшая рядом, с сухим треском сложила сандаловый веер и хлопнула им по пальцам, как бы что-то отчеркивая от себя. Ушаков пригляделся к ней искоса, пытаясь понять, кто она, такая красивая, молодая… Продавщица из универмага, из так называемого «депато»? Может быть, секретарша из богатой конторы, чертежница или швея? Кимоно ее очень нарядное, дорогое. Но ведь все японки во все времена умели одеться. Даже самые бедные. Да и кто в такой день не достанет из шкафа свое лучшее платье? Ушаков закурил, чиркнул спичкой, и женщина опасливо покосилась в его сторону, только теперь разглядев в темноте постороннего человека. Она прикоснулась рукой к парапету, как к живому, знакомому ей существу, и пошла по дорожке, ступая ногами в ослепительно белых носочках и маленьких дзори как-то очень легко и волнующе мелко. — Простите, пожалуйста, — вдруг сказал Ушаков. — Гомэн кудасай. Тёттэ маттэ кудасай…[8] — повторил он уже по-японски, опасаясь, что женщина его плохо поймет или неправильно истолкует его неуклюжее от застенчивости движение. — Yes?[9] — Она на мгновение приостановилась, вскинув глаза. — Вы тоже пускали сегодня фонарики по реке? — Да, — кивнула она и взглянула на реку. — Кто у вас здесь погиб? — Мать… — сказала она и замолкла надолго. Потом повторила: — Мать, отец… два брата, сестра… — Со дэс ка![10] — только и нашелся Ушаков. Он всегда цепенел и терялся при виде безмолвных женских слез. — Я, наверное, сказал что-либо не так, ради бога, простите! — Нет, нет! Ничего… Это я виновата… — И женщина наклонилась, чтобы слезы падали не на драгоценный шелк кимоно, а на землю. Улыбнулась смущенно: — Сейчас все пройдет… Она успокоилась, вытерла щеки. — Вас, кажется, зовут Юкико-сан? Я нечаянно слышал… — Да. А вас? — Николай Николаевич. Она повторила старательно: — Никорай Никораевич. Это было забавно, и он усмехнулся. Она удивилась: — Так, значит, вы русский? — Да, русский, конечно. — И к нам, в Хиросиму, приехали из Москвы? Теперь Юкико-сан доверчивее взглянула в глаза Ушакову. — Я люблю вашу… вашу… Россию! — сказала она. — Вы, наверное, к нам приехали на конференцию в защиту Вьетнама, против атомной бомбы? — Да, Юкико-сан. Вы просто-таки молодец и все угадали! — Бывает, и обезьяна падает с дерева, — пошутила она над собственной необыкновенной догадливостью. — Ведь я слушаю радио, смотрю телевизор… Травянистого цвета, расшитое золотом ее платье в полумраке сливалось с листвою цветущих кустарников и деревьев, мимо которых они проходили. Лишь белые таби[11] Юкико мелькали отчетливо, как в стихах о прославленной Садо Якко: его спутница, по-видимому, и не подозревала, как была близка к тому, созданному поэтом экзотическому образу! Они взошли на мост Хейва и постояли на нем, провожая глазами уплывающие фонарики. Эти два завораживающих движения — движение воды и движение огня — были соединены очень просто, но как били по сердцу! Ушакову, застывшему у перил, показалось сейчас, что и он уплывет куда-то в безвестность, в тягучую бесконечность субтропической ночи. Он спросил: — Ну а вы, дорогая Юкико… Вы тоже были здесь, когда сбросили бомбу? — Да. Но только я была чуть подальше от эпицентра. Я гостила у бабушки. Но я тоже… горела, — она показала на плечи и ноги. — Сумимасэн![12] — Нет-нет… Ничего! Я не делаю, как другие, из этого тайны! Ушаков понимающе склонил голову. В здешнем атомном госпитале он видел келоиды — следы этих страшных ожогов: малиново-красные и сине-лиловые пятна — в уродливо стянутых шрамах-тяжах. Они ясно представились ему и сейчас, одинаково жуткие и на старческом, дряблом, и на девичьем, молодом, нежном теле, этот дьявольский знак, безобразящее тавро. Все мужчины и женщины, пережившие атомную бомбардировку — их здесь называют х и б а к у с я — прячут атомные увечья, как что-то постыдное, о чем никто никогда не должен узнать. Иначе кому-то не выйти замуж и не жениться, а может быть, не найти и работы… Ушаков вдруг припомнил свои золотые нашивки, полученные за ранения. Что ж, он тоже теперь их не носит! Потому что когда-то, еще в сорок пятом, один пижон покосился насмешливо, а он, Ушаков, застеснявшись угрюмо, почему-то стерпел. А нашивки носил, лишь пока по-студенчески не истрепал гимнастерку. Потом, заказав себе новенький штатский костюм, на пиджак этих желтых и красных полосок не стал нашивать: ладно, нечем хвалиться, не бог весть какая награда! Вся страна воевала… — Я вообще ничего не скрываю, — сказала Юкико. — Я член клуба хибакуся, я участвую во всех митингах и демонстрациях против атомной бомбы… Я хожу на молитвы в честь павших… Простите, — сказала она. — Мне кажется, я вас видела в монастыре. Вы присутствовали на молитве? — Да, — сказал Ушаков. — Я там был. Я был на молитве…3
Он сидел на маленьком складном стульчике, на местах, отведенных для иностранных гостей, — чуть правее молящихся, — и слушал монотонное, хриплое пение бритоголовых, в желтых рясах монахов. Мелодично позванивали колокольчики. Тревожно и глухо звучал гонг. Ушакову было жарко и душно на солнцепеке, в толпе людей, очень вежливых, но вполне равнодушных к чужому для них, непонятному богу, и он глядел вверх, под купол вполне современного храма, без единого украшения, туда, где в белой каменной нише сидел молодой, тоже белый, каменный Будда. Бог смотрел строго прямо перед собой — не на банки с томатным и апельсиновым соком, не на пачки кофе, арбузы и груды сластей, не на связки серповидных, цвета старого меда, бананов и груды зеленых, пряно пахнущих грушами яблок — приношения верующих, — а куда-то поверх всего этого в жаркое небо, как раз в ту самую точку голубой полусферы, откуда совсем так недавно — или очень давно? — и пришла в этот город, лежащий внизу, незнакомая до сих пор человечеству смерть. Даже сейчас, спустя столько лет, лицо Будды было все еще белым от ужаса, а большие, навыкате, красиво разрезанные глаза смотрели на город, как в бельмах, незряче. — Николай Николаевич, взгляните на храм, — сказал ему переводчик, толстяк коротышка Васюта Антонов. — Храм построен на пожертвования индийских единоверцев уже после войны. — А жаль! — сказал Ушаков. Ему очень понравился этот образ — помертвевший от ужаса бледный Будда, — с ним теперь уже будет трудно расстаться. Но бог, которому он так симпатизировал, оказывается, не видел войны! Бог не видел возникшего над котловиной, в дельте Оты, сероватого облака, которое видит сейчас Ушаков, итой бомбы, которая, кажется, все висит, почти четверть века, над городом и рекой, сея смерть, как висела в тот день. После жаркого, знойного дня вечер тихо ложился на город, весь прозрачный, чуть подкрашенный солнцем снизу в розоватину, в прозелень. Очень тоненько, как комарики, позванивали ритуальные колокольцы, затем слитно, взволнованно зазвучали серебряные голоса хора мальчиков. Над храмом кружились белые голуби, и женщина, сидящая наискосок от дремлющих иностранцев, казалось погруженная в молитву, иногда вдруг хватала с колен фотоаппарат, очень быстро высматривала подходящие кадры, быстро щелкала, чуть прищурясь, и снова в молитве упоенно приникала к сложенным у подбородка ладоням. Все печальнее и торжественнее звучит монотонное пение. Два монаха, взобравшись на самый купол храма, пригоршнями стали разбрасывать над молящимися разноцветные круглые лепестки из бумаги, похожие на конфетти, — отгоняли злых духов, объяснил Ушакову Антонов. Над сгорбленными спинами людей, над склоненными их головами уже шелестел первый ветер, несущий прохладу с гор, а монахи все пели, листки колыхались по ветру, и в голове Ушакова все вертелась одна и та же фраза, он прочел ее там, внизу, в центре города, на доске у памятника погибшим: «Спите спокойно. Это не должно повториться!» Ушаков поймал несколько разноцветных лепестков, кружившихся, планируя, над головою по ветру, и долго рассматривал их. Да, это не повторится… Но сколько раз за историю человечества повторяется эта фраза, всякий раз на новом, еще более выжженном пепелище! Сколько раз народы давали опять и опять убаюкать себя, поверив, что этот огонь, так сильно их обжегший, действительно был последним! Сейчас, проходя спящим городом рядом с Юкико мимо строгих гранитных подъездов многочисленных банков, отелей и богатых контор, он глядел на зеркальные окна и мог поручиться, что за этими плотными шторами, в недрах новеньких сейфов, вызревают солидные капитальцы, отсчитанные владельцам рукою еще не отогнанного от города дьявола, — будь он в облике сперва добренького оккупанта, а позднее союзника, наживающегося на бомбежках Хайфона или Ханоя. Ушаков вдруг припомнил фигуру уходящего через мост человека. Хорошо понимая всю бестактность вопроса, но желая во всем дойти до конца, он спросил: — Да, Юкико, а кто это был сейчас с вами на реке? — Амеко[13], — спокойно сказала она, поднимая на него свои узкие, но такие прекрасные, молодые глаза. — Ну, скажите еще, что солдат, да еще из Вьетнама! — пошутил Ушаков. — Да. Солдат. И вы правильно угадали, из Вьетнама, — ответила Юкико совершенно серьезно. Ушаков даже на миг приостановился. — Что он делает здесь? Да еще в такой день! — Он? На отдыхе… После ранения! — И теперь между делом любуется вновь отстроенной Хиросимой, музеем и атомным госпиталем? Фонариками на реке? Хорошенькими хибакуся? Ушаков удивился спокойствию маленькой женщины. Он был возмущен. Юкико молчала. — Он плакал сегодня на митинге, — наконец объяснила она. — Он сказал, что он проклял свою Америку за эти две бомбы: в Хиросиме и Нагасаки. Теперь он не хочет возвращаться на Окинаву. — Она пояснила: — Их части базируются на Окинаве. Он поклялся, что больше не будет стрелять ни в северных, ни в южных вьетнамцев… — Вот как! Это с ними бывает? Юкико кивнула. — Да. У нас не единственный случай… — А вы его чем-то обидели. Он ушел разозленный… — А что я должна была делать? — вздохнула Юкико. — Что касается женщин, он по-прежнему думает, что каждая почитает за счастье быть обласканной им… А я всего-навсего выполняла поручение своего профсоюза… Ушаков был смущен. — Вы храбрая женщина, Юкико-сан! — Нет, при чем же тут я? Такая работа… Они вышли к центру. Город здесь, на главных своих магистралях, все еще бесновался и грохотал: взад-вперед проносились машины, скрежетали колесами на крутых поворотах трамваи. Еще ярко горели витрины бесчисленных магазинчиков и закусочных, хотя кое-где окна и двери уже запирались. Они повернули куда-то направо. Еще переулок, еще — и их охватила глубокая тишина и безлюдность погасших кварталов, наверное, таких торопливых, кричащих, таких ярких в дневные часы, а сейчас таких сумрачных, страшноватых, что Ушаков невзначай оглянулся. В этот душный, томительный, будоражащий вечер жизнь людей еще не заканчивалась тяжелым, почти не дающим отдыха сном, но текла она уже не на улице, а в домах, за раздвинутыми бумажными сёдзи[14]. Там, в кубических сотах квартир, еще ссорились, целовались, кто-то шил на машинке, тачая куски разноцветного материала, кто-то ужинал, сидя на корточках за крохотным лакированным столиком, и белые палочки — хаси, — словно спицы вязальщицы, привычно, до механичности, мелькали в руках. Какая-то женщина раздевалась перед окном; Ушаков разглядел ее тонкое, стройное тело, отраженное в глубине чуть подсвеченным зеркалом. Каждый дом был похож на другой: те же крыши, такой же конструкции двери, те же голые стены внутри пустоватых, очень чистеньких комнат, а рядом веселая суматоха витрин, завлекающих надписей, ярких вывесок и реклам, арок, окон, украшенных флагами и фонариками, изречениями, написанными на материи, букетов, венков и гирлянд, сплетенных из вечнозеленых растений, — торжество бесконечной фантазии, ликующего мастерства, устремленного к одной цели: победить, удержаться, не дать себя сбросить со счетов, уязвить конкурента… — Какой яркий ваш город… — А Москва — не такая? — Нет, Москва не такая, — сказал Ушаков. — Темнее. Суровей. — Да? Я думала, наоборот. — У нас слишком холодно. Много снега… — объяснил Ушаков, ощутив вдруг свою чужеродность в этом ватном и влажном, расслабляющем климате. Он припомнил синеющие сугробы под липами на Воробьевском шоссе, метель, вылетающую из-за угла, свежесть южного ветра и бодрость, когда прилетают грачи и так пахнет корою деревьев и пузырчатым мартовским снегом. «Греет кровь мою легкий мороз…» А ведь действительно греет! Но вообще, почему это ценишь только тогда, когда ты находишься от всего этого вдалеке? — А в Москве много красивых женщин? — Да, много. — А река у вас есть? Такая, как Ота? — А вы приезжайте к нам в гости, Юкико-сан, я вам все покажу. — Я давно мечтаю об этом. Не знаю, удастся ли… — Постарайтесь! — Попробую… Она с ним говорила серьезно, а он улыбался. Ему вспомнились, словно сквозь сон: зима, и далекое детство, и картинка в журнале: грациозная женщина, словно бабочка, сидя на корточках, на циновке, разливает по чашкам дымящийся чай… — Вы женаты? У вас есть семья, дети? — Никого нет, Юкико… Один словно перст. Он не спрашивал, в свою очередь, кто она, где живет, одинока или замужем, — непонятное, недосказанное для него было радостней, интересней, чем обыденные «милицейские» определенности. — Вот мой дом, — вдруг сказала Юкико. — Да? Так быстро? Я думал, идти еще далеко… А мы уж у цели… Ему жалко было с ней расставаться, с такой мягкой, уютной и женственной, и вовсе не куклой. Потому что Юкико хорошо понимала не только слова, но и взгляд и, наверное, то, что он думал и чувствовал. Потому что она замолкала, когда он замолкал, и смеялась, когда ему было смешно. Ушакову понравились в ней ее современность и отсутствие робости: у себя в стране он привык к равенству женщины, и ночная, печальная странница в темном оби и шелковом кимоно, идущая в одиночестве по сегодняшнему отгулявшему, отгрустившему городу, чем-то трогала воображение, может быть, этой нежностью, этой твердостью облика. — Как мы встретились необыкновенно!.. И приходится расставаться, — сказал он, сам себе удивляясь, что предчувствовал эту встречу и эту разлуку. — Сожалею… — ответила тихо Юкико. — Но поздно. Пора! Очень рано вставать. Я работаю гидом в туристской конторе. Преимущественно с американцами. А они народ очень капризный. — Понимаю. Хорошо понимаю… — Ушакову хотелось сейчас подарить ей на память какой-нибудь маленький изящный значок, безделушку, которая бы спустя годы напомнила ей этот вечер, он пошарил по карманам, но, кроме ключей от московской квартиры, ничего не нашел. — Вы не будете в нашей гостинице? У вас нет никаких поручений от вашего профсоюза ко мне, например? — Нет, — она засмеялась. — А что? — Я хотел бы увидеть вас завтра. — Я подумаю… Я вам с утра позвоню. Вы, конечно, остановились в «Син-Хиросима»? — Да. — Ну что ж, хорошо… До свидания, — сказала она и вдруг поклонилась, как кланяются здесь лишь одни старики и старухи, — с достоинством, грациозно, так низко, как если бы Ушаков был какой-нибудь очень важной особой. — До свидания, Ушаков-сан… Доброй ночи! — До свидания, Юкико! Спасибо за вечер…4
Ушаков шел один спящим городом и был так одинок, как если бы весь этот город вымер и он, чужеземец, был единственным его жителем. Мелочные лавчонки, кофейни, аквариумы для любителей ловить рыбу удочкой, помещения для игры в маджану и «пачинко», бани для бедноты, разделенные ситцевой занавеской на две половины, для мужчин и для женщин, — все было закрыто или уже закрывалось, завинчивалось болтами, на двери и окна спускались тяжелые железные шторы, гасились последние фонари, и шаги Ушакова под круглыми сводами торговых пассажей раздавались во тьме оглушающе звонко, даже хищно, как выстрелы. Он приглядывался к провалам подъездов и к теням, отброшенным от деревьев, и вдруг замечал в темноте какие-то чуть очерченные фигуры. Полицейского в светлом шлеме, с заложенными за спину руками в перчатках, набеленной, накрашенной женщины — лицо ее было, как маска, — возле чайного домика, увешанного фонариками и флажками. Пожилого японца, сидящего на корточках возле темной стены — в ожидании счастья. Его добрая, неосмысленная ощеренная улыбка была как бы отсутствующей: человек, вероятно, витал в облаках неизвестного Ушакову наркотика. Днем чужие, незнакомые города — как открытая книга, и все в них как будто понятно. А ночью, особенно на окраинах, тебя все пугает, как будто плывешь по огромной реке: невидимые препятствия, чудовища, выползающие из своих темных нор, подводные камни, и пни, и коряги, волосатые водоросли, цепляющиеся за руки… Кажется, вот-вот мимо твоего лица проскользнет что-то мерзкое, леденящее душу. И вдруг — яркий свет проезжающей мимо машины, подъезд и двое влюбленных. Все так просто, знакомо, совсем как в Москве! «Да, странный был вечер… И очень хороший», — решил Ушаков. И чувство товарищества и уважения к такой независимой маленькой женщине не покидало его всю дорогу, пока он шел в гостиницу через мост к парку Хейва.5
Войдя к себе в номер, Ушаков принял душ и лег на кровать, наслаждаясь прохладою «танки соти»[15] после вязкой, тугой духоты хиросимских улиц. На стук двери, на шум падающей воды из соседнего номера примчался Васюта Антонов, в японском халате на голое тело, с косматыми волосами на голой груди. Он и здесь, в охлажденной, искусственной атмосфере отеля, дышал трудно, с усилием, и все вытирался большим желтым платком в темно-синюю клетку. — Ну что? Нагулялся? — спросил он завистливо. Сам он сидел за бумагами, переводил на японский какие-то документы. — Нагулялся. Угу… — Я ждал, ждал… Потом мы с шефом поужинали без тебя… Спагетти с томатным соусом. — Молодцы! Очень рад за вас. — Завтра здесь завершаем работу — и в поезд. — Васюта любил сообщать всегда самые свежие новости. — На остров Кюсю. В Нагасаки. — Отлично. — Ты чем-нибудь недоволен? — Ничем. — Я включу телевизор? — Пожалуйста, если хочешь. — Слушай, нет ли у тебя чего-нибудь почитать? Развлекательно-утешительного? Васюта томился по вечерам, не зная, куда девать свои силы. После вежливых, но достаточно утомляющих споров на конференции, экскурсий, хождений, визитов и суеты, осмотров, приемов, он мог еще до рассвета бродить из номера в номер, разговаривая о пустяках, дымя сигаретой. — К сожалению, кроме Библии, ничего. — А что! Это мысль… Прекраснейшая из книг! Он взял библию с такой радостью, словно в номере у него самого не лежала в столе совершенно такая же, обязательная, как гостиничный инвентарь, как блистающий никелем, кафелем и фаянсом, похожий на лабораторию туалет или как телевизор, — знаменитая книга на двух языках, на английском и на японском, на тончайшей бумаге, с изысканным и ласкающим глаз мягким, жирным шрифтом. Васюта уселся, развалясь в низком кресле, близоруко приблизив к страницам расплывшееся в толстой щетине лицо. — Ты только послушай, что тут написано! — вскричал он вдруг радостно, оживленно, оборачиваясь к Ушакову. — Вот комики! — Да? Но Антонов уже не откликнулся больше. Он весь погрузился в чтение книги, заглядывая то в японский, то в английские тексты, что-то сравнивая, выбирая. Ушаков сел рядом с ним смотреть телевизор. Рекламировали часы, потом транзисторы. Потом парень в белой рубашке спел песню «Сакура, сакура…». И сразу, без перерыва, пошли кадры хиросимской кинохроники. Он увидел себя самого и совсем еще раннее утро, но дымное, жаркое, без единого дуновения ветра. Иностранные делегаты выходят из «Син-Хиросима» и группами направляются на гражданскую панихиду к дуге сенотафа. Здесь, на площади Мира, море голов и море цветов, транспаранты и флаги. И торжественный шаг мэра города, направляющегося к микрофону. И весь этот скорбный церемониал возложения венков. И камешки серой обкатанной речной гальки, поскрипывающей под ногами, — обычная, ничем не приметная галька, знаменитая только тем, что положена на дорожках вокруг сенотафа по счету: сколько тысяч убитых, столько и камешков. И так странно ходить и слушать под собственными каблуками их скрипение и шорох… И минута молчания. И венки, венки… Стаи белых голубей над парком. А чуть выше их подобными же концентрическими кругами — полицейские вертолеты. Вот закончена официальная часть, потянулась длиннейшая очередь из сотен людей: у каждого в руке букетик цветов и зажженная курительная палочка. Пряный сладкий дымок чуть струится в расплавленном золоте солнца: жертвам атомной бомбардировки… На экране все шло в той же самой последовательности, как это уже происходило сегодня: отвесное солнце слепящего полдня, клубы пыли, мелькание знамен и флажков, движение к центру города многих сотен людей, и каждый из них с повязкой на лбу и написанными на ней призывами к единению. — Глянь, Вася, и ты здесь! — сказал Ушаков. В самом деле, они шли по экрану среди демонстрантов, Ушаков и Васюта. Один рослый, высокий, другой низенький, толстый, оба в мокрых от пота, измятых рубашках. А вокруг курчавая вязь иероглифов, гирлянды бумажных цветов, флаги, лозунги на транспарантах. На трибуне, над всем этим пыльным, движущимся, суетящимся — снежно-белые пряди волос человека, пережившего атомную бомбардировку. — Профессор… А это канадец… И Эрик попал на экран! — Ну, и Эрик? — Васюта с трудом оторвался от книги. Перед ними на экране вертел головой темноглазый смеющийся мальчуган — он приехал на конференцию из Канады с отцом, сторонником мира, Операторы время от времени подолгу держали мальчика в поле зрения, неотступно ведя вслед за ним объектив. А тот грыз большое, красивое яблоко и чему-то посмеивался, поблескивая глазами, видно очень довольный скоплением машин, ревущих на перекрестках, громким пением демонстрантов и всей этой пыльной, грохочущей кутерьмой. Толпы шли нескончаемо, занимая всю проезжую часть мостовой крепко сомкнутыми рядами. — Слушай, Коля, что тут написано, — сказал вдруг Антонов, отрываясь от книги. — Понимаешь? Бог решил уничтожить всех жителей двух городов… В наказание за грехи… И вот, значит, некто с тоскою взмолился: «Господи! — значит, он говорит. — А если там есть хоть пятьдесят праведников, неужели ты и их погубишь?» «Нет, — сказал господь. — Я ради них помилую город…» Ушаков с детства помнил эту притчу, впервые услышав ее от бабки, читавшей всю жизнь одну только эту старинную книгу, и круглое, потное лицо Антонова, исполненное восторга от возникших ассоциаций, сейчас показалось ему похожим на то, бабкино, морщинистое и худое, с птичьим носом и желто-коричневыми кругами вокруг темных глаз. Пятьдесят праведников для того, чтобы спасти целый город… Это много или мало? Почему пятьдесят, а не сто или двести? Из какого расчета? А если в каком-нибудь стратегическом центре святых, честных людей окажется меньше нормы, что тогда остальным, грешным гражданам делать? А ежели праведник вообще всего только один? Неужели и он тоже должен погибнуть?.. — По-моему, здесь, в Хиросиме, старик обсчитался, — сказал Ушаков. — А может, действительно, в каждом городе их всегда сорок девять?.. Ты как думаешь, Вася? — Все возможно, — ответил Антонов. — Ты же знаешь хорошую поговорку. Когда хотят убить свою собаку, говорят, что она разбила горшок…6
Утром, чистовыбритый, вымытый, в свежей рубашке, Ушаков, ровно в восемь, спустился к завтраку в ресторан при отеле. Стаканчик грейпфрутового сока, овсяная каша, кофе, поджаренный тост со сливочным маслом привели его в хорошее настроение. Он ласково улыбнулся хорошенькой переводчице, работавшей с англичанами и взглянувшей на него из-за чьей-то массивной спины смеющимися глазами. Всюду слышалась разноязычная речь; французы, американцы, англичане, югославы, индийцы, цейлонцы — все кивали друг другу приветливо, дружески. Слышался шорох крахмальных салфеток, звон тарелок, стук вилок, ножей. — Как спалось? — Ничего. Хорошо… Домо аригато![16] — Это как-то уже по привычке. За день тысячу раз — в шутку, если между собой, и растроганно, удивленно, благодарно, всерьез, если это с японцами: всего два варианта изученных слов: «Домо аригато» и «Вакаримасэн»[17]. Ну, еще иногда, с напряжением: «Гомэн кудасай!»[18] — Сейчас будем принимать декларацию… — Отлично. Тексты розданы? — Да. После завтрака конференция продолжалась спокойно, без всяких эксцессов. Ораторы поочередно вносили поправки. Несогласные тут же, немедленно, возражали. Постепенно опять возникала дискуссия, все шло по шаблону, как и следовало ожидать. Ушаков, сидя в кресле за общим столом делегаций, оглянулся: бесшумные, словно призраки, работники пресс-бюро разносили от стола к столу только что переведенные на три официальных языка конференции — английский, французский и японский — выступления глав делегаций, и каждый глава, не откладывая, изучал уже перевод, сверяясь по тексту. «Мир…» «Миру…» «О мире…» Это слово повторялось здесь так же часто, как вдох или выдох. Он и нужен был всем народам, приславшим сюда своих представителей, как воздух для легких. На развалинах Хиросимы, на застроенных, восстановленных ее улицах это слово звучало по-особому твердо. Ушаков, заслонившись от яркого света рукой, машинально расчерчивая закорючками белый листок бумаги, внимательно слушал ораторов. Война представлялась ему гигантским чудовищем. В сорок пятом году ее наконец-то загнали под землю — в надежде, что там она задохнется, помрет. Но она не погибла без пищи и воздуха, как не гибнут бактерии, возбудители разных болезней, даже в космосе, как сегодня доказано точнейшими, удивительными приборами, а спустя столько лет по-прежнему полна злобной силы, и вот в этот прекрасный свежий утренний час, может быть, она где-то под полом, под зданием, где идет конференция, пробивает себе в потемках дорогу, пробирается сквозь пески и гранитные скалы, прогрызает их, точит зубами, чтобы выползти на поверхность, как она уже выползла на поверхность во Вьетнаме. И кто знает, где и когда она прогрызет, просверлит себе еще один новый ход и выйдет на волю?! В какой это будет привыкшей к спокойствию тихой, мирной стране? На Ближнем Востоке? В Корее? В африканских саваннах? А может, на севере, в бесконечной полярной ночной темноте? Чьи дети погибнут от первого взрыва? «Слушай, милый! — хотел сказать Ушаков оратору, выступающему с какой-то хитроумной поправкой, сводящей на нет все достигнутое за три дня напряженной работы. — А ты пойдешь за свою поправку на вражеский пулемет? Ты готов ее грудью своей защищать? Я так думаю, нет… Но видишь ли, загребать жар чужими руками — это каждый умеет…» Он припомнил вчерашних рабочих, шагавших с ним рядом по улицам Хиросимы, потом ночной митинг и сотни людей, громко бьющих в ладоши и мечущих гневные выкрики против войны во Вьетнаме, против атомной бомбы. Смуглые лица, облитые потом, выхваченные из темноты светом ярких прожекторов, были яростны, напряженны, люди хором кричали: «Хейва! Хейва! Хейва! — Мир! Мир! Мир!» Ведь не кто-нибудь, а они, хиросимцы, уже умирали и еще умирают от атомной радиации… Очень многие из участников митинга шли сюда, в Хиросиму, из других префектур, из различных, весьма отдаленных районов страны, пешком, маршем мира. Это был их собственный маленький подвиг в защиту Вьетнама — по извилистым горным дорогам, вверх и вниз, из долины в долину, под дождем, под отвесным, сжигающим солнцем, и не день, и не два, иногда без еды и без крова, позабыв о семье и лишившись работы… Ушаков вчера крепко жал руки этим маленьким, желтым, морщинистым людям, обгоревшим на солнце, но весело улыбавшимся. Он завидовал им, их воинственной напряженности, их серьезному, страстному отношению к делу. Помогая совсем не оружием — только словом, далекой, почти неизвестной стране, где горят от напалма деревни, гибнут в грохоте бомб незнакомые люди, эти смуглые до черноты паломники мира терпели немало лишений в своей долгой дороге, а некоторые из них могли и погибнуть. Солидарность — суровое, трудное чувство. В нем заложено слишком много надежд, и, наверное, люди не раз еще будут стоять под пулями, осыпаемые насмешками, — погибая не ради корыстных своих интересов, а во имя свободы какой-нибудь отдаленной страны. — Николай Николаевич, — сказал, обращаясь к Ушакову, глава делегации академик Георгий Иванович Романов, высокий, с кудлатой седой головой человек. — Мы сейчас здесь закончим всю эту торжественную процедуру, а вы вместе с американцами поезжайте на митинг. Они просят выступить… — Хорошо, — сказал Ушаков. — Я готов! — Он взглянул на часы. Потому что как раз на это время — всего лишь минут на пятнадцать позднее — он назначил в гостинице встречу с Юкико, приготовив ей маленький сувенир. Если он сейчас уедет на митинг, значит, больше ее никогда не увидит. Ушаков вдруг представил себе, что подумает Юкико-сан, если он не придет… — Хорошо, — сказал он Романову. — Раз надо, так надо! — Да, да, пожалуйста! — ответил тот, чуть кивнув головой. Ушаков стал набрасывать текст предстоящего выступления. В ложе прессы уже поднимались со своих мест обвешанные фото- и киноаппаратами газетчики и телерепортеры, приготовившиеся к съемке заключительного момента — подписания декларации и закрытия конференции, когда Николай Николаевич вместе с Васютой Антоновым направился к выходу. Американцы — двое высоких широкоплечих мужчин и красивая загорелая женщина с рассыпанными по плечам волосами — давно уже ждали их в холле внизу. Отстав от Васюты, Ушаков вдруг пошел не к двери на выход, а к маленькому кафе в глубине стеклянного холла. — Ты что, потерял, что ль, чего? — окликнул его Васюта. — Нет, Вася, нашел, а не потерял, — ответил торжествующе Ушаков и расплылся в улыбке. Он увидел Юкико. Она стояла возле стойки бара, в строгом светлом костюме, причесанная по-европейски, с прямой низкой челкой, и пила через соломинку лимонад. Заметив идущего к ней Ушакова, Юкико, покраснев, отставила недопитый запотевший стакан. — О! Здравствуйте… — сказала она, улыбаясь. — Вы уже уезжаете? — Нет, я еду на митинг, Юкико-сан, дорогая, а когда вернусь, право, не знаю. Наверное, прямо к отходу автобуса. Получается нехорошо… — Нет-нет, ничего, — успокоила она Ушакова с терпеливой улыбкой. — Я вас подожду. — Мне как-то неловко заставлять вас одну здесь сидеть. Я не знаю, как много займет это времени. — Но к поезду-то вы приедете? — Да. Конечно. — Ну вот, я вас и провожу. Я сегодня свободна, отпросилась с работы… — Хорошо. Постараюсь вернуться пораньше. Она была очень красива, эта женщина, а он, Ушаков, сколько помнил себя, был неловок и некрасив. Он подумал: «Конечно… За мною большая страна, она любит Россию… Сам-то я здесь уж совсем ни при чем!» И он крепко пожал ее тонкую, узкую руку. — Спасибо, Юкико-сан, что пришли. Мне так много вам нужно сказать… Буду рад, если вы подождете… Васюта Антонов, тяжело отдуваясь, вернулся за ним с улицы, весь мокрый от пота, вытирая лицо большим белым платком. — Ты чего здесь так долго? Тебя ждут. — А где они? — Уже сели в автобус. Ушаков еще раз с подножки автобуса оглянулся на двери отеля, помахал рукой Юкико. Почему-то ему захотелось хорошего отношения и к себе, а не только к России. Ну, может быть, не хорошего, это громко сказано, просто лучше, чем равнодушие… Еще в школе, подростком, сидя на измятой траве волейбольной площадки, Николай Ушаков подолгу раздумывал: а как догадываются девчата, что он некрасив? Они попросту не замечают его — и все. Это было печальным открытием. Оказалось, что в жизни, кроме рук, ног и мыслящей головы, еще нужно счастье, которое находится не в тебе самом, а где-то вовне — неустойчивое, неуловимое, не похожее ни на деньги, которые можно всегда заработать, хотя бы тяжелым трудом, ни на орден, добытый подвигом, с риском для жизни, ни на сытость после вкусной еды, ни на хмель, ни на сон. Оно, видимо, и приходит совсем не к тем людям, которые его ждут, упорно, с надеждой, стремясь заслужить, потому что оно не заслуга и не награда, а просто дыхание милой, родные глаза, поцелуй… Повзрослев, Ушаков бестрепетно принял себя таким, какой он есть. Он много учился, читал, много думал. Пришли первые радости настоящего мужества: весь ревущий, грохочущий от моторов аэродром, необычное чувство парения, рывки парашюта. Небо тоже было как счастье — не заслуга и не награда, но влекущее и большое, и померяться силами с его восходящими и нисходящими токами было истинным делом мужчины, испытанием воли. Ушаков уже знал счастье локтя, большой, крепкой дружбы, взаимного уважения. Счастье грозного поединка с голубой высотой. Он не знал только лишь одного: что за всякое счастье, даже самое небольшое, обязательно нужно платить. Эта хрупкая, ненадежная штука всегда выдается в кредит. Сперва вроде бы ни за что. Просто выпало тебе счастье, ну и пользуйся им на здоровье, наслаждайся, дыши! А потом выясняется: будьте добреньки, кровь и слезы, и друг погибает у тебя на глазах, и обрывки шинели и комья глины в большой, рваной ране, последний сухарь, разделенный на четверых, последний костер, последняя ночь…7
Я люблю опавшие мокрые листья. Мне они напоминают мой город и самые первые, самые горькие осени в моей жизни. Особенно будят воспоминания листья тополей — не желтые, как у клена, не малиново-сизые, как у осины, не лиловые, как у бузины, а бурые, толстые, серо-зеленые, крепко схваченные морозом. Они так устилают в нашем городе тротуары, что идешь по ним с влажным шелестом, волоча за собой и разбрасывая ногами огромные вороха. Над тобой нежно реет очень меленький дождик, скорее угадываемый, чем ощутимый. Он словно бы и не ложится на землю, а так и висит неподвижно едва уловимой паутинистой пеленой. А в душе жажда радости, неизведанных ощущений — и щемящее чувство непонятости, одиночества, чему и названия-то не подберешь… Я бродила у подножия памятника Петру Первому и смотрела на голые ветви деревьев, на стаи грачей, с громким криком носящихся над рекой и лугами, на холодное небо, как-то низко летящее вдоль горизонта. Что я знала о людях? Совсем ничего. Я даже не знала, чем расплачиваются за доверчивость, за открытость характера. Но так скоро пришло холодное знание! Теперь, пройдя большую половину своей жизни, я уже понимаю, что между людьми всегда есть и будет преграда рассудка, прозрачная, как стекло, может, даже светлее стекла — невидимая, незаметная и — глухая. Мы критичны к другому, отнюдь не к себе. Мы прощаем себе, ничего не прощая другому. Тот, кто хочет шагнуть за этот порог, будет просто смешон для того, кто не хочет его перешагивать. Да, наверное, не случайно родились и живут теперь в моей памяти строчки стихов моего знаменитого земляка, отдаваясь такой же мучительной болью:Но кому и как расскажешь ты,
Что зовет тебя, чем сердце полно?..
8
За окном автобуса кружилась окраинная Хиросима. Большие дома-новостройки сменились одноэтажными, потемневшими от времени и дождей постройками старого, древнего типа под серыми черепичными крышами, с бумажными сёдзи. Они долго тянулись по обеим сторонам сменяющихся одна за другой графитно-серых набережных. Город, словно Венеция, лежал на каналах. Нынче он выглядел куда более буднично, чем вчера, без волшебных огней, уплывающих в океан. Горе бережно уложило свои праздничные одежды и сегодня трудилось в обычных белых блузах и белых рубашках, с обязательным традиционным, то ли вынужденного и надетого на себя, как личина, то ли ставшего уже плотью и кровью и теперь уже неподдельного неизменного доброжелательства. Высокий, плечистый, лысеющий американец в почти черных очках-светофильтрах, повернувшись к своей миловидной соседке Мэри Хьюз — она попросила называть ее Марией, — объяснял, как примерно выглядит с воздуха такой город, как Хиросима. — Вы что, летчик? — спросил у него Ушаков. — Да. Бомбил в сорок пятом Берлин, Дрезден… — А вы кто по профессии? — спросила американка Ушакова. — Сейчас? Или во время войны? — Во время войны. — Десантник-парашютист. — А сейчас? — Детский врач. — О! — сказала американка. Как все женщины, она, видимо, очень любила сопоставлять и без того очевидные крайности. — Я, как мать, хорошо понимаю, — сказала она. — Но все-таки, почему, почему… детский врач?! — А из чувства противоречия, — объяснил Ушаков. Мария тихонько смеялась. Она с нежностью погладила его изуродованную разрывной пулей руку, лежащую на спинке сиденья. — Наверно, это фатально, — сказала она. — Тот, кто много и хорошо воевал, обязательно становится сторонником мира. — Простите… — сказал Ушаков, — а ваши солдаты, бомбящие Северный и Южный Вьетнам, они что — еще плохо воюют?! Мария печально свела свои тонкие брови. — Война во Вьетнаме — это наша большая беда, — сказала она. Все в автобусе замолчали. Замолчал и Николай Николаевич, передернув плечами, как будто от холода. Он сейчас был опять поглощен внезапно нахлынувшим, почти не тускнеющим воспоминанием. Для десантника-парашютиста, сколько б он ни летал, бой всегда на земле и всегда в незнакомом тебе, самом трудном и самом решающем месте. …Батальоны лежали на большом снежном поле. Тут и там дымились воронки. Раненые, кто мог доползти, царапая пальцами тонкий клеенчатый наст и распахивая по целине глубокие белые борозды, уже отползали в тылы полка, под укрытие догорающих изб Ненашева. Но и там, на проулках, рвались мины. Они крякали по-утиному на лету, чуть присаживаясь на наст, и гулко взрывались, валясь черно-серо-коричневым облаком набок, на ту сторону, куда с шумом ложился и весь торфянистый выброс земли, перемешанной с мерзлыми комьями снега. Атака не удалась. Четвертый раз поднимались в рост батальоны и четвертый раз отползали назад, на исходные, теряя бойцов. Сейчас, когда в обороне у немцев что-то дрогнуло и все уже было готово прогнуться и лопнуть под натиском этой последней атаки, и фашисты занервничали, меняя позиции, и уже замолчали у них пулеметы, и первые из бегущих по снежному полю бойцов с винтовками наперевес уже добежали до немецких окопов, вдруг из-за леса, как бы нехотя, крадучись и будто бы не торопясь, подобно большим снежным ящерицам, вертлявым и плоским, медлительно выползли окрашенные в цвет снега тяжелые танки… — Впере-е-ед! — еще по инерции продолжая свой бег, закричал Ушаков. Но тут же упал, и пули, прошедшие веером над его головой, разодрали со свистом спрессованный злым февральским морозом обжигающий воздух. «А-а-а-аааа!» — ныло в его ушах. «А-а-а-аааа!» — еще откликались в цепях. Но это был бег и крики уже умирающих и падающих на бегу. Он лежал, глядя в небо, слепое и жесткое, надвигающееся от горизонта холодной темнеющей синевой, и слезы, смерзаясь, слепляли ресницы, царапались в задохнувшемся горле. От воронки, распяленной рядом, тянуло тошнотной тротиловой вонью. «Все. Конец… — думал он. — А я еще жив… Зачем? Для чего?!» Жить ему не хотелось. Он видел там, впереди, на снегу, какие-то серые, безжизненные комки — это были тела бойцов из его батальона, всех, с кем шел от Сенно, где был выброшен с парашютным десантом, с кем прошел по Смоленщине, отступая к Москве, а теперь, наступая, шел все дальше и дальше на запад. Он хотел ощутить в руке тяжесть согретого за день ТТ. Там еще оставались два-три патрона. Сейчас ему было достаточно и одного. И он глянул на руку, еще стиснутую в исступлении боя, с трудом разлепил залитые кровью пальцы; на ладони лежал только черный обломок отливающей синевой рукояти… Шофер свернул в маленький, пыльный, в ржавой зелени, переулок и резко затормозил у ворот двухэтажного деревянного дома, у подъезда которого их уже ждали какие-то старые женщины в кимоно и мужчины в темных костюмах, фотографы, репортеры. Ушаков, стесняясь своей неуклюжести и, высокого роста — среди маленьких, тихих, уютных японцев, — прошел многочисленными коридорчиками и лесенками, поднимаясь по чистеньким, тоненьким, словно воздушным, ступенькам, отделяющим одну комнату от другой, и вошел в большой, но чуть-чуть темноватый переполненный зал. В простоте, даже бедности этого дома и этих людей, поклонившихся им, вошедшим, при встрече, было что-то щемящее душу, заставляющее снизить голос, отвести глаза в сторону. Ушаков обернулся к Марии и Васюте Антонову, оказавшимся у него за спиной: это были теперь ему самые близкие люди. Но Мария спокойно и ласково улыбалась, может быть, просто в силу своей искренней веры в полезность и нравственную высоту своей миссии, а Васюта топтался и скалил широкие, крепкие зубы, быть может смущенный полнейшим своим неумением потесниться на миг, поужать свое тело, приглушить, сделать менее жизнерадостным и раскатистым свой густой, очень сочный, насыщенный голос. Сели на пол, совсем по-японски, за низкие столики. Так, наверное, было задумано устроителями — разговаривать о проблемах движения за мир за едой и питьем. И он, Ушаков, тоже сел, полагая в душе, что выглядит в этой позе достаточно неуклюже и в меру смешно. Он глядел себе под ноги — без башмаков, в эластичных носках, — и слушал приветственные слова, обращенные к нему, и к Васюте, и к Мэри, и к этим двум рослым, разговорчивым американцам. В зале пахло сухим, потемневшим от времени, ветшающим деревом, сандалом дешевеньких вееров и лекарствами. Какие-то женщины, вероятно здешние активистки, разносили прохладительное питье. Гостям они подали на плетеных тарелочках горячие, влажные, сильно отжатые о-сибори, махровые салфетки, которыми здесь в жару вытирают вспотевшее лицо, шею и руки. Тут и там из углов слепяще сверкали репортерские «блицы». Задуманное по-домашнему, к сожалению, получалось откровенно натянуто и неловко, и это опять, как всегда, вызывало досаду. Николай Николаевич не терпел микрофонов, подсовываемых услужливыми корреспондентами в минуту хорошего, откровенного разговора, когда собеседник, только начавший говорить, вдруг весь тихо сжимается и испуганно замолкает. Сам он, Ушаков, в такие минуты просто злился и терял интерес ко всему окружающему. Сейчас Николай Николаевич с тоскою глядел за окно. Там важно покачивали вершинами пропыленные, усыхающие от зноя деревья, чуть темнело прикрытое плотными серыми облаками непогожее небо. Но и глядя на серое небо, он думал о тех, кто сидел перед ним, и что-то щемило в душе и тревожило, как если бы он и сам находился там, с ними, по ту сторону столиков. Это были х и б а к у с я. Слепые и зрячие, с сожженными и уже не отросшими волосами, с малиново-синими келоидами на лице, с контрактурами на сгибах рук и морщинистой шее… Изуродованные тем памятным взрывом, покалеченные, с притаившейся внутри организма неизбежной, неизлечимой болезнью, они тихо сидели в своих чистеньких ситцевых кимоно, с очень вежливой, странной улыбкой, и вежливо слушали, иногда отвечали щебечущими голосами на заданный кем-либо из приезжих вопрос, иногда просто кланялись, молчаливо, как будто немые. Это было само терпение, и само ожидание вечности, и сама безнадежность, и такими нелепыми показались в этот миг Ушакову и «блицы», и столики, и тончайшие сэндвичи с пластинками ветчины на белом и пористом, как поролон, совершенно безвкусном, непахнущем хлебе, что он, сильный, здоровый, сидящий от них в двух шагах, вдруг почувствовал себя лишним и ссутулился от неумения скрыть свои чувства. Было что-то бестактное, нарочитое в пристальном изучении посторонними взглядами этих сизо-малиновых, затекших ожогами лиц, в созерцании этих увечий, в этом важном, торжественно-неприступном сидении друг против друга, в то самое время, когда хочется встать и прижаться лицом к груди вон той седенькой, тихой женщины, пусть она незнакома ему. Не родная — чужая… А если бы это была его мать? Отчего за агрессию, за воинственность японских сподвижников Гитлера, отвечают вот эти старухи и старики? Выступала Мария, сжимая свои загорелые руки. — Я буду рассказывать теперь всюду об увиденном в Хиросиме, — говорила она. — Мы ведь как-то не знали трагических этих подробностей, как не знают их миллионы простых граждан Америки. У нас есть очень много хороших людей, которые полагают, что американцы бросили эту бомбу только во имя престижа. И что ради престижа мы сейчас не должны уходить из Вьетнама… И есть люди, которые понимают, как ужасна война, но считают себя бессильными что-либо сделать… Кое-кто из моих соотечественников, побывавших в разрушенной Хиросиме, — продолжала Мария, — нынче делает вид, что не помнит… Постарался забыть о содеянном нами… Эти люди теперь говорят, что война — неизбежное зло, что так было всегда, есть и будет… Да, я знаю, всегда человек, на которого нападают, будет яростно защищаться. Но мы не должны допускать нападений. Это наша обязанность… Я считаю, что мы, выступающие против новой войны, представляем собою огромную силу… Ушаков говорил очень коротко и, как сам он решил, очень плоско. Что-то стиснуло ему горло, ну, может, не слезы, но что-то похожее: он смотрел и сочувствовал. Да, Япония воевала с Америкой и Советским Союзом. Враги есть враги. Но эти-то чем виноваты? Он об этом и говорил. И доставшаяся на его долю овация в зале удивила его. Что такого особенного сказал он этим людям? После некоторого молчания кто-то задал вопрос, обращаясь к американке: — Что вас больше всего поразило в Хиросиме? — Ваше мужество и достоинство, с каким вы, сидящие здесь, переносите свои страдания… — А вас, Ушаков-сан? — То, что атомный госпиталь и дом, где сейчас мы находимся, построены на пожертвования частных лиц… Что у вас, пострадавших от бомбы, нет пенсий от государства… Сидящая через столик от Ушакова седовласая, маленькая, словно куколка, с морщинистым, желтым лицом, но живая старушка, вдруг вскинув глаза, спросила неожиданно для всех присутствующих: — Скажите, пожалуйста, а что, русские женщины стареют позднее, чем мы, или нет? Как, по-вашему, хорошо ли я выгляжу? В зале многие засмеялись. Ушаков, ожидавший любого вопроса, кроме этого, чисто женского, сперва растерялся. Он с надеждой взглянул на Васюту. — Ответь ей, пожалуйста, шуткой, Васюта. Скажи, что не знаю уж, как это перевести, но русские женщины, как и японки, стареют от одних и тех же причин. От горя, какое приносит война… Ну, а в мирное время — от злых невесток. У них ведь, наверное, тоже бывают плохие невестки? Седовласая женщина улыбнулась так тонко, как будто еще до Васютиного перевода поняла его шутку. — Вы выглядите отлично, очень молодо, — сказал снова, уже обращаясь непосредственно к ней, Ушаков. — Сколько лет вам? Старушка ответила, Васюта ему перевел: — Ровно семьдесят… — Вы в невесты годитесь! Она засмеялась и, сидя, с изяществом поклонилась Васюте и Ушакову, придвинула им по стаканчику сока. — Почему вы не пьете? Вы не любите мандариновый сок? — Нет, нет… Ничего. Пожалуйста, не беспокойтесь, большое спасибо… Ушаков с трудом заставил себя проглотить полстаканчика сока и съесть сэндвич. Он с трудом говорил, с трудом отвечал, тяжело поднимая глаза от циновки, расстеленной на полу, и думал: «А знают ли эти полусожженные люди или не знают, что Япония снова создает свою армию, строит флот, покупает у Америки современное стратегическое оружие, что она хоть сегодня готова купить водородную бомбу? Из атомной жертвы да в атомные палачи — как они отнесутся к такому неожиданному повороту? Неужели для них, умирающих, все равно?..» Но он не спросил, промолчал: им предложено было здесь, в этих стенах, не касаться политики. Он не слушал того, что потом говорилось. Потому что заметил у раздвинутых сёдзи миловидную девушку, совершенно слепую. Она грустно сидела, незряче обратив свое милое, молодое лицо к заходящему солнцу, вдруг прорвавшемуся сквозь пелену облаков и ласкавшему ее нежную кожу. Может быть, она тоже не слушала всего, что здесь, в комнате, говорилось, а думала о своем, непохожем, отделяющем ее от людей, в том числе и от тех, кто проходит сейчас возле дома, по улице, торопясь на работу или, может, в кино, на свидание или на танцы. «Вот она не спросила, как выглядит!» — с темной горечью в сердце посочувствовал Ушаков и скомкал о-сибори. Он представил себе, чтоослеп и не видит земли, людей, солнца и неба, не различает среди автомобильного гула и грохота безопасной дороги, не знает, когда зацветает сирень и как собраны ее бледно-лиловые крестики в тугие, чуть влажные, ароматные гроздья. Он лишился всего навсегда, как она. Нет, наверное, лучше б было погибнуть! «Стоп! Врешь, Ушаков! — сознался он вдруг сам себе. — Неправда твоя!.. Погляди на нее. Ведь она-то с собой не покончила! Разве ей было менее больно, чем могло бы быть больно тебе? Или юность ее не имеет цены, а сердце живет по другим законам? Нет, она все же в чем-то права, оставаясь в живых. Только это, наверное, страшнее, чем смерть. Быть всегда одному. Без любви. Без участия. Безобразным пятном, оскорбляющим глаз постороннего человека… Хорошо, что она не в и д и т моих и Васютиных взглядов! А если бы в и д е л а!» Он с печалью подумал о безнравственности человеческого зрения, о той беспощадности, с какою оно сортирует все виденное, живое на нравящееся и не нравящееся, ласкающее глаз и коробящее его. Эта девушка — не по своей вине — утратила самое главное: ощущение незаметности в общей толпе, своей слитности с целым, дающей спасительное уединение в любом людном месте. Ей теперь не хватает величайшей гуманности — невнимания окружающих… Человек и жестокость его любопытства — категория философская и достаточно долговечная… «Нас воспитывали сурово. Быть может, излишне сурово, — думал он, глядя в тихий, замерший зал. — Я боюсь сейчас проявить себя чувствительным, слишком добрым. А кто знает, что важнее всего в сегодняшнем человеке? Мы частенько бережем себя от избытка эмоций, то ли стесняемся, то ли боимся соучаствовать в чужом горе…» Он вышел из дома одним из первых, растерянный, потрясенный, и долго закуривал, став как-то боком к своим спутникам, не глядя в лицо им: стыдился расползшихся нервных губ, которыми не владел.9
Вернувшись в гостиницу, Ушаков прошел сразу в «лобби». Ожидавшую его Юкико-сан он нашел за широкой массивной колонной, в мягком кресле, с газетой в руках. Она очень внимательно изучала отчеты о конференции. — Ну, как съездили? Выступали? — Да. — Он был сдержан. Юкико это заметила. — Ничего, — сказала она. — Мы привыкли уже ко всему. Не страдайте. Так надо. Каждый, кто приезжает сюда, в Хиросиму, должен это увидеть. Иначе он не будет иметь того представления об атомной бомбе, какое имеем мы все, уже пережившие… — Да, вы правы… — Как жарко сегодня! — Ну? Жарко даже и вам, местным жителям? Вот чего уж не думал… — Август — самый жаркий месяц в Японии. Хорошо, еще облачность. Это вам повезло. А если бы светило отвесное солнце! — Ничего. В Нагасаки, я слыхал, будет сорок градусов. — Там будут и все пятьдесят! — Куда лучше! — Ушаков смотрел в удлиненные черные и чуть опечаленные глаза Юкико с невольной улыбкой. Ее мягкая смуглая кожа даже в эту жару казалась прохладной, да и вся она, строгая, чистая, в элегантном костюме, причесанная по-европейски с низкой челкой и прямыми блестящими волосами по сторонам безупречного по овалу лица, нынче стала ему как-то ближе, понятнее. Они пили кофе и ели мороженое. На столе, в низкой вазе, покачивались от дуновения прохладного «танки соти» пунцовые гладиолусы, поставленные не как ставят в России, на длинных стеблях, а обрезанные одной только гроздью, под нижний цветок. За толстым стеклом окна ветер нес завитки желтой пыли.Может, это только сон,
Ветер знойной Азии?..
10
Когда Ушаков вошел к себе в комнату, он увидел посапывающего на кровати Антонова и разбросанные на полу и по креслам переводы речей и отчеты о конференции, хиросимские газеты, освещавшие ход работы; тут же рядом валялись его вытащенные из шкафа и тумбочек платки, носки и измятые, скомканные рубашки. У окна в распахнутом чемодане сиротливо лежали бритва, мыло и пара ботинок. — Васюта! Проснись! — затряс Ушаков Антонова за плечо. — Ты чего это дрыхнешь? Через десять минут уходит автобус! — А? Что?! — Тот проснулся, вскочил, но сразу же, видимо, оценив обстановку, зевнул, потянулся лениво и опять завалился на смятые простыни. — Ничего, — сказал он, чуть прищуриваясь от яркого света. — Без меня не уедут! — Говорю, вставай быстро! Сейчас уезжаем, опоздаешь на поезд! — А, на поезд! — сказал тот, позевывая на подушках. — Тогда ладно, действительно надо вставать. И он сел на кровати, потягиваясь и зевая. Николай Николаевич принял душ и стал быстро укладывать чемодан: аккуратно, без складок, белой стопкой рубашки, темной стопкой носки, всему свое место. Там, в гостинице, по приезде только вынуть и разложить. В двери номера кто-то коротко постучал. — Да, войдите! — крикнул Антонов. Вошел чисто вымытый, свежевыбритый, бодрый Романов. — А я сижу, жду! — сказал. — Вы еще не готовы? Вы случайно не позабыли, что едете в Нагасаки? — Помним, помним, Георгий Иванович, сейчас соберемся! — ответил Антонов. — Это вот Николай виноват, где-то долго ходил… Ушаков покосился на шефа. Романов прошелся по комнате, понимающе усмехнулся. — Пеняй на соседа, что спится с обеда, — кивнул он иронически, уселся в спокойное, низкое кресло и вытянул ноги. Сам он вообще никогда никуда не спешил и всегда появлялся в назначенный час, словно был заведен и отлажен, как особенный механизм. Впрочем, это касалось всегда только работы. О себе самом он не думал, забывая поесть и ложась спать всякий раз слишком поздно для того, чтобы выспаться. — Вы обедали, дамы и господа? — спросил он, включив телевизор. — Да. А вы? — Нет. Я только что с пресс-конференции… — Ну, и как же? — спросил Ушаков. — В вагоне-то вряд ли найдется. — Как-нибудь проживу… — Может, взять бутерброды? — Ну, еще чего! Нет, не надо… — Романов смутился. — Нет, пожалуйста, не беспокойтесь… Я надеюсь, в дороге мы чего-нибудь да придумаем? А? — Да, конечно! Ушаков, уложивший уже чемодан и готовый к отъезду, сел с Романовым рядом и закурил, глядя не на белый экран, не на быстро мелькающую рекламу, а куда-то в обитую плотной материей стену. Есть люди, поставленные своей должностью над другими и так этой должностью удрученные, что у них уже не остается свободной энергии на улыбку, на шутку, на простые, хорошие, добрые отношения. Их досуг, их внимание поглощаются обыкновенно лишь единственным опасением: а как бы не оступиться, а как бы прочней удержаться на своем высоком месте, не сказать чего лишнего, не унизить себя несолидным знакомством. Для них шутка не сила, а слабость или, что еще хуже, безделье ума. Ушаков еще задолго до отъезда, в Москве, оценил деловые достоинства шефа, сохранившего в себе юмор и спокойный характер, в том числе и привычку не требовать, не просить, а безропотно, уважительно ждать, если дело касалось лишь его самого; в этом было и что-то крестьянское и что-то типично, интеллигентское. Николай Николаевич покосился на сидящего в кресле Романова: тот дремал, свесив руки с колен, утомленный работой. Как солдат после боя. Лицо его, еще гладкое, без морщин, сразу стало простым и домашним, а веки набухли, налитые тяжестью. Почему-то припомнилась зима сорок второго и — один человек, очень схожий с Георгием Ивановичем, ну, не внешностью, не разговором, конечно, быть может, и не характером, а таким вот спокойным и трезвым отношением к себе.11
Это было почти на рассвете, после боя в Ненашеве, когда раненый и обмерзший Ушаков шел в санчасть по разъезженной и изрытой дороге. Снег лежал на колдобинах серый, крахмалистый, от мороза сухой, нога в нем тонула, увязая по щиколотку, оскальзываясь на наледях, облизанных ветром. На околице возле Осинина, у железной дороги, лежали разбитые грузовики, перевернутые взрывами бомб полковые повозки. Убитых и раненых уже не было, их, наверно, убрали. Только рыжие пятна крови и конской мочи стеклянисто поблескивали в свете изредка выползающей из-за тучи луны. Пожары здесь тоже были погашены, дыма, пламени не было, но пахло горелыми железом и рожью — застревающий в легких и в памяти запах беды. Ушаков никогда уже больше этот запах не забывал, он, пожалуй, доныне точил ему горло. Двор в санчасти полка был забит пароконными розвальнями, полуторками и трехтонками, санитары укладывали на охапки соломы, настеленные в кузовах, нетранспортабельных раненых — вероятно, в предвидении отступления, — изможденных и обескровленных, погасших людей в разорванных и прожженных шинелях, с распоротыми рукавами, в кое-как прибинтованных валенках. Иные из них были белыми, плоскими, словно мумии, запеленатые бинтами с головы и до пят, без носа, без глаз, одна щель вместо рта. Николай видел это уже не впервые: как укладывают на повозки людей, как белеет и морщится от страданий лицо и становится известковой маской, как просачивается сквозь бинты и лубок уже несколько коричневатая кровь, сотни раз видел это, а привыкнуть не мог и всегда наблюдал эту сцену с единственным, одинаковым чувством натянутой через сердце струны, и всегда внутри него в эту минуту что-то грузно ворочалось, напрягалось, налегая на эту струну тяжело, неупруго, так, что, может, нажми еще чуть поплотнее — и разрежется сердце легко и без боли. Ушаков по дороге к Осинину с наслаждением представлял себе душное избяное тепло — печь, в которой смолисто потрескивают дрова, деревенскую лавку, на которую он усядется и попросит чайку и махорки. И он явственно уже видел и кружку, в которой ему этот чай подадут, и кисет, и бумагу — свернуть козью ножку, и как он, Ушаков, будет пить этот чай, потемневший от крепкой, распаренной на печурке заварки, пока не замлеет от жара совсем нерабочая, непривычная к делу рука, та, левая, не попавшая под разрывную, потемневшая на войне, как на поле у мужика, от трудов и от зимнего, льдистого солнца. Но, войдя в темный двор и увидев полуторки и трехтонки с носилками на соломе, а потом разглядев вдоль забора молчаливую очередь жмущихся от мороза людей с неумело наложенными, самодельными, расползающимися повязками, иногда и совсем без бинтов, замотанные в полотенца, застиранные и затертые, а сейчас намокшие от крови, Ушаков только скорбно вздохнул: ему, видимо, не достояться, а об отдыхе, о чаях и махорке и вовсе нечего думать. Он прошелся вдоль очереди поглядеть, нет ли, часом, своих, скоротать за беседой время, никого не нашел. В сенцах было темно, здесь солдаты сидели теснее, прижавшись друг к другу: кто дремал, кто постанывал, кто-то дергал простуженно носом, надрывисто кашлял. Какой-то боец в черном танковом шлеме сидел на пороге, склонив низко голову. — Что, браток? — спросил у него Ушаков. — Очень плохо? Иль спишь? — И добавил, тряся его за плечо: — Спать нельзя на морозе, смотри, не проснешься! — Да нет, ничего, — ответил танкист. — Голова болит… Он был маленький, ладный, в черной кожаной куртке, в ботинках с обмотками. — Ты ранен? Иль болен? — Ранен, — как-то совсем неохотно ответил танкист. — Под Ненашевом, нынче в атаке… — Знаю. Сам сейчас только оттуда! Ну и как ты? Куда тебя ранило? — Сперва в голову, — танкист тронул затылок рукой и поморщился. — Потом в ногу! — И он указал вниз, на землю, нога его была вытянута, не сгибалась в колене. — А тут танк загорелся, надо прыгать, взорвется, я прыгнул, так руку сломал… — Повезло тебе, друг! Это же полный ассортимент! — Да. Выходит… — Он поднял курносое, в крупных серых веснушках лицо. — Я вообще думал — все, замерзну, до наших не доберусь… Сперва фрицы по мне одиночными били так прилежненько, щелк да щелк, а я от воронки к воронке. Потом наши. Наверное, приняли за фашиста. Километра три прополз, пока вышел из зоны… Дополз до дороги, чуть-чуть отдышался, гляжу, машина какая-то прет, а крикнуть нет сил. Шепчу: «Помогите!» А они мимо… Конечно, мотор-то гудит и гудит… Так почти до Осинина по-пластунски на брюхе… — Мда-а, история! — удивился рассказанному Ушаков. — А чего же ты здесь-то, с такими ранениями! Иди прямо, без очереди. Тебе ж срочно на стол… — Ничего… Обожду. Видишь ты, сколько к ним набежало народу… Говорят, третью ночь так, — помедлив, ответил танкист, поправляя ребристый матерчатый шлем. — Врачи не справляются. — Ну нет, так нельзя, — сказал Ушаков и пошел через сени, раздвигая плечом застывшую очередь. Его даже никто не окликнул, никто не заспорил, он дернул набухшую дверь. Спустя полчаса, оставив танкиста в избе у хирургов, он вышел во двор, к темной очереди, не кончающейся, а, как показалось, еще более растянувшейся за это время, поглядел на нее с неохотой, угрюмо — сам-то он не воспользовался предложением сделать ему перевязку, хотя бы и на ходу, — и выбрался по растертому снегу на улицу, где шоферы возились с разбитой машиной. Там отчетливо слышался грохот боя, долетающий от Ненашева. За каймою далеких еловых лесов, бегущих зубцами по самому горизонту, разгорались пожары. То и дело с коротким, надтреснутым звуком оттуда неслись и рвались на окраине у Осинина, возле самого переезда, тяжелые мины. В стороне, может быть чуть правее Ненашева, два-три раза сверкнули медлительные и отсюда как будто бы даже не страшные трассы «катюш». Он глядел на клубящиеся облака над лесами и думал о маленьком ладном танкисте, оставшемся там, в санчасти, в избе. «Человек, он себя измеряет не мерою совершенного подвига, — размышлял Ушаков, — а мерою пережитого страха. Вот я столько раз за сегодня падал в снег, и оглядывался, и перебегал, и так страстно, мучительно жаждал выжить, что теперь весь избит и измучен, изжеван войною и, кажется, бог знает что совершил! А этот парняга, израненный, переломанный, чуть не сгоревший, обмерзший и ползший полночи по снегу, все, что за день случилось с ним, считает нормальным. Ему некогда было бояться: он тяжко работал… Награди его орденом — он сам первый удивится и станет доказывать, что дали ему ни за что…» Ушаков представил себе свой полк и бойцов, залегших на поле, а возможно, уже окопавшихся в мерзлой земле. Он увидел обрезанные как бы острым ножом по краю воронки, дотлевающие останки грузовиков и бронетранспортеров и свой вынесенный на высотку КП, прикрытый еловыми лапами, — просто яма, еще без бревенчатого защищающего наката, без печки, без нар, но уже с телефоном, — и медленное, монотонное повторение сухим, сиплым голосом: «Я — «Сосна», я — «Сосна»… Отвечайте!» И разрывы снарядов. Тем же самым размеренным, точным жестом, каким только что танкист надвигал на глаза свой ребристый матерчатый шлем, Ушаков поплотнее надвинул ушанку на лоб, закрывая его от ломящего встречного ветра, и пошел, перемешивая сапогами растертый полозьями и машинами серый снег, той же самой дорогой, по которой пришел, но в обратную сторону, то есть к фронту, к освещенному заревом дальнему лесу, на короткие взблески и скрежет эрэсов.12
Как вполне насладиться тобою, земля? Поезд мчится через леса и болота, мимо пашен под зябь, мимо темных, желтеющих пожнивей. Вот деревни — изрытые, грязные колен, избы, крытые толем, плетни, огороды. Тут и там под окошком рябина иль бузина в красных гроздьях, рябые подсолнухи. За деревней — луга в пышной поздней отаве. На лугах у реки стадо пестрых коров. Под деревом спит пастушок. Мимо, мимо… Воздух пахнет не этой прохладной, речной ли, колодезной свежестью, а вонючим, каменноугольным дымом, машиной и смазкой, людским потом и пылью… С самолета земли вообще не видать. Там, внизу, какие-то грязно-серые кочки в длинных белых потеках. Говорят, что это Саяны, хребты, вечный снег. На плешинах откосов пятнистая прозелень хвойных лесов. В глубоких долинах — извивы могучей, набухшей в разливе реки — сверху маленькой, тоненькой, как бельевая веревка. Что сейчас там, внизу? Дождь или солнце? В разрывы клубящихся облаков ничего не увидишь… Как живут там, в разбросанных поселениях, люди? Что их радует, что их печалит? Где кустится черемуха, где алеют брусничники, кто следит за веселой, пушистой белкой, когда она прыгает с ветки на ветку? Кто слушает гомон птиц, потревоженных гулом мотора от невидимого самолета? Никогда не узнать, не увидеть, не успеть полюбить этих темных, таежных, извилистых троп, этих тихих проселков в хлебах, этих маленьких деревень на равнинах с их запахами молока и кизячного дыма, с ребятишками на гумне, играющими с собачонкой… Кто придет к ним за счастьем, кто его принесет сюда, в глухомань, в своем сердце, переполненном неизбывной любовью? Неужели не я?..13
В вагоне, заполненном участниками конференции, отправляющимися в Нагасаки, шумно, тесно, темно. Как бывает всегда после трудной, ответственной, сложной работы, люди быстро сдружились, и в тесных клетушках купе с тройными рядами полок, обычно задернутых занавесками, а сейчас гостеприимно распахнутыми, уже образовались свои маленькие компании и содружества, шел веселый и громкий, куда громче обычного, разговор. Оживление передавалось от соседа к соседу вместе с фляжкой, наполненной «Особой московской» или «Сантори», темного маслянистого виски, или джина, приобретенного уже здесь, на вокзале. Все стремились перекричать друг друга, на шутку ответить не менее остроумной и радостной шуткой, заманить к себе в купе побольше народу и всех одарить коньячком или редкостной сигаретой. Высокая полная женщина с круглым лицом сидела на койке Романова, держа двумя пальцами металлический легкий стаканчик, и, весело улыбаясь, пыталась по-русски сказать, что коньяк нисколько не хуже, чем виски, но слова ее перебивались громким смехом и шумом стоящих в проходе французов, беседующих с цейлонцами. Под ногами у взрослых с хитрой мордочкой шнырял Эрик, которому по закону давно уже полагалось бы спать и видеть цветные японские сны: убегающая за вагонным окном Хиросима в сплетениях синих, зеленых и красных огней и для взрослых была как чудесная, а теперь и как грустная сказка. — Человек стремится не к лучшему, а к тому, чего не имеет, — вдруг изрек Васюта Антонов и пошел по вагону отведать всего, что предложат, от виски до пива. Впрочем, он в своих пробах довольствовался глотком. Ушаков, огорченный столь быстрым отъездом из города, которого он, в сущности, так и не видел, стоял у окна и глядел на рисовые поля, удивляясь их вынужденной ювелирности — меж смыкающихся окраинами больших городов, у подножий обрывистых гор, расширяющихся книзу крутыми уступами, с террасами чайных плантаций и зарослями бамбука. Сумерки уже скрадывали очертания шахт, заводов и фабрик, в этот час их можно было угадывать лишь по зареву электричества, повисающего на большой высоте над землею, там, где раньше, наверное, теплились звезды. Но потом все размазалось скоростью: фонари и рекламы, движение огней, мелькание фар на шоссе вдоль железной дороги, — и было приятно стоять и не думать, лишь впитывать в себя этот гул, эти длинные светлые разноцветные пятна и летящие вдаль над тобою гудки. Только так познаешь скрытый смысл расставаний и встреч после долгой разлуки: он в возможности сравнивать. Подошел раскрасневшийся, улыбающийся до ушей Васюта Антонов. — Человек человеку… — Кто? — Не знаю, но только… не волк! — Да, ты прав, друг Васюта. Но бывает и так: человек человеку — верблюд. Лишь верблюды с таким равнодушием и презрением встречают в пустыне другого верблюда и глядят на него сверху вниз, хотя тащат на грязном горбу тот же груз и питаются той же верблюжьей колючкой… — О, да ты пессимист? — удивился Васюта, обнимая за плечи Николая Николаевича, прижимаясь щекою к нему. — А что, это плохо? — По-моему, да. — А по-моему, нет. И я пессимист, если хочешь меня так назвать. Пессимист только лишь потому, что гляжу на мир трезво, без пустых обольщений, понимая все трудности и все недостатки нашей борьбы. Я не крашу своих надежд в нежно-розовый цвет… Я вообще ненавижу слова-ярлычки: пессимизм, оптимизм. По-моему, их выдумали узколобые люди, не желающие задумываться над проблемами жизни и плывущие по течению. — Я чего хочу спросить у тебя… — Васюта вдруг обернулся назад, в глубь вагона, и кому-то кивнул: — Ты не помнишь случайно, сколько именно мирных лет было в истории человечества? — Ты имеешь в виду данные шведского статистического управления? — Да. Их. — Чего это вдруг потянуло на арифметику? — Да так… Мы тут поспорили с одним господином… — Всего-навсего двести девяносто два года — из пяти тысяч лет… — Мда-а… Не очень-то густо! — Тогда, Вася, не было сторонников мира! — пошутил Ушаков. — Видишь, вся беда в том, что история многому учит. А мы, к сожалению, не любим историю, плохо учим ее… — Пойдем, скажешь ему! — предложил, оживляясь, Васюта Антонов. — А то он все спорит, говорит, надо прошлое позабыть, зачеркнуть и начать жизнь сначала… — Ну, зачем я еще? Совсем ни к чему. Неудобно… И просто… Нет, я не пойду! — Вот чудило! Пойдем! Познакомлю! Мы с ним не доспорили, вместе доспорим… Интересный мужик! Журналист. Был в Америке и у нас, в Советском Союзе, поездил по свету… — Ну уж ладно… а то не отвяжешься! Пойдем, посмотрю… Через две-три минуты Антонов откупоривал в купе бутылку армянского коньяка, разливал по стаканчикам и, поблескивая большими, навыкате, изучающими глазами, прислушивался к завязавшемуся разговору. Японец Иомури-сан — седоватый, подтянутый, худощавый, в ослепительно белой рубашке, с изящно повязанным галстуком ручного тканья — показался Николаю Николаевичу куда моложе своих полных шестидесяти лет. Глаза его за очками были ясными и холодными. Две глубокие складки у рта прорезали лицо, словно темные шрамы. — Объясните, пожалуйста, Иомури-сан, — спросил Ушаков, — почему вы простили Америке эти две бомбы? Тот, задумавшись, долго молчал, потом поднял изящную седоватую голову. — Видите ли, мы, конечно, ей не простили… Мы помним… Но кое-кто в нашей стране, в том числе большие, известные люди, считают, что нельзя безнаказанно копить ненависть, злобу. Это может опять привести к катастрофе. Кто-то должен подняться над прошлым! — Но это ж пошлейшие христианские догмы! — вмешался Антонов. — Если тебя ударят… — Так что же, по-вашему? Снова мстить? — спросил, оживляясь, японец. — Мы им снова Перл-Харбор. А они нам опять Хиросиму? И опять воспитывать молодежь в готовности стать человеком-торпедой, человеком-снарядом? Но это же снова война! К тому же термоядерная… Мировая. И еще неизвестно, кто будет сильнее: тот, кто снова захочет обязательно отомстить, пролить кровь врага, или тот, кто, почувствовав себя жертвой, начнет защищаться и будет отстаивать свою честь и свободу, свою независимость. — Значит, тот, кто бомбил Нагасаки и Хиросиму, уже может не беспокоиться? — спросил Ушаков. Он в душе был задет за живое. — Видите ли, это сложный вопрос, — пустил кольцо дыма в потолок Иомури-сан. — Америка нас потрясла до самых основ этим взрывом. Люди словно бы пробудились от летаргии. Они многое поняли. И главное в этом одно: нельзя больше жить так раздробленно, в изоляции от огромного внешнего мира. Нельзя быть разобщенными внутри общества. Нас пленил динамизм. Вы, наверное, видели наши контрасты? Обтекаемые машины на фоне японских вулканов, ветка вишни над мчащимся суперэкспрессом; щучья морда, двести двадцать километров в час, гудки и туннели… Восток есть Восток, и Запад есть Запад, и им не сойтись никогда… Так мы с детства запомнили. А в нашей стране все это соединилось… Марсианская инженерия, электроника, точность — и цветение хризантем. Мы многое приняли от Америки… — В том числе и военные базы на Окинаве, откуда стратегические бомбардировщики летают во Вьетнам? Это вас не смущает? И кто же наживается на поставках напалма для янки? Кому приятно и очень полезно, что атомные подводные лодки приходят в Сасэбо и в Йокосука?! — Вы тоже затягиваете войну во Вьетнаме, — сказал Иомури. — Поставляете самолеты Хо Ши Мину… Без участия СССР все давно бы уж кончилось… Ушаков усмехнулся. Он сидел на диване с сигаретой в руке и поглядывал на Васюту, нахохлившегося в углу. Разговор выходил за обычные рамки вагонной беседы. Да, знакомая песня! Он помнит ее со времен войны с Гитлером. — Вы знаете, Иомури-сан, — обратился он снова к японцу. — Вот это же самое говорили и некоторые деятели в Англии и Америке, когда выступали против открытия второго фронта в войне с фашистской Германией. Зачем, мол, затягивать бойню? Вот Гитлер уничтожит Советский Союз — и война кончится, будет мир, благоденствие. А они не подумали, что Гитлер после победы над Советским Союзом уничтожил бы в первую очередь их самих: сперва Англию, потом Соединенные Штаты. Стремление к мировому господству — это очень едкая штука! Она кружит голову… В желании побеждать меры нет. И война никогда не закончится, если мы пойдем на уступки, ибо в каждой уступке поощрение агрессору, прецедент безнаказанности… А техника им сейчас позволяет быть дерзкими… — Да, бомбы… — Что бомбы… Когда бы только они одни! — Ушаков загасил сигарету, откинулся на сиденье. — Вы, наверное, знаете, через несколько лет американцами на войне уже будет использовано само время… Каким методом будет это сделано, для чего, я не знаю. А вот слыхал… Фантастика, да? Но мы и об атомной бомбе тоже когда-то слыхали, а, в общем, не верили, что возможно такое… И всегда только право сильнейшего плюс эффект неожиданности нападения… И уж будьте готовы, Иомури-сан, цепь насилия и реванша никогда не прервется, если вы захотите сыграть в благородство… Ушаков налил в стопки всем троим коньяку. Японец отпил, чуть коснувшись губами. Глаза его были серьезны за широкими линзами модных очков. — Но мы делаем все, чтобы это не повторилось! — воскликнул он неожиданно горячо. Такой сдержанный, суховатый, он был очень взволнован. — Наши митинги, демонстрации, наши массовые забастовки… Мы привозим в Хиросиму массу людей, мы показываем всему миру наши слезы и кровь, наши раны… Разве этого не достаточно? На сегодняшней конференции… И есть голос общественности, наконец, наша левая пресса… — И есть страны Варшавского договора… — сказал Ушаков. — Это более верное средство! Вы его забываете… Николай Николаевич помолчал. — Я работаю в клинике… для детей, — сказал он спустя время с неожиданной горечью, обращаясь к японцу. — А эта работа приучает к серьезности. Дети шуток не понимают. Когда им говоришь, что придет серый волк и всех заберет, если будут шалить, они тут же в тревоге оглядываются на дверь. Но скажи какому-нибудь взрослому дяде или тете, что сейчас водородных и атомных бомб изготовлено столько, что уже не хватает соответствующего им количества жертв, так ведь, черт дери, не поверят! Тоже, мол, нашел чем пугать, какой серый волк к нам пришел! А на каждого жителя нашей планеты уже нынче приходится не одна, а две атомные смерти… А еще говорят: двум смертям не бывать! Помолчав, они чокнулись стопками: — Ну… за мир во всем мире!14
Только к трем часам ночи вагон наконец успокоился и затих. Закончились споры и шутки, хождение взад-вперед, от одного переполненного купе к другому, люди стали устраиваться на ночлег, пристегивать отгораживающие занавески. Улегся Иомури-сан. Улегся Георгий Иванович, весь вечер беседовавший с канадцами и англичанами. Глоток выпитого «Сантори» из рук круглоликой молодой англичанки заставил его не только шутить и рассказывать случаи из своей жизни — а он много ездил по свету, — но и спеть «Подмосковные вечера». Улегся и Вася Антонов, взобравшись на самый верхний «этаж» — на третью полку, там он долго ворочался, как бегемот, тяжело отдуваясь и фыркая, роняя сверху то папку с бумагами, то шляпу, то башмаки. Пристегнутая заботливым проводником, его занавеска то и дело натягивалась под тяжелыми вздохами, словно парус: полка узкая, спать укрывшись нельзя, очень жарко, будешь мокрым от пота, а раскрывшись тем более невозможно: здесь прекрасные международные дамы, не дай бог, увидят его, полуголого, вот крику-то будет!.. Но как только Васюта дотронулся головой до подушки, так все тотчас же услышали внятный, мягкий таинственный свист, затем шорох и громкое рокотанье и бульканье его носоглотки. Ушаков, устроившись поудобнее на своей нижней полке, тоже узкой и жаркой, — поезд мчался на юг, в живописнейшие субтропики, — взбил повыше подушки и лег на них животом, подбородком уперся в ладони. Отодвинув чуть в сторону плотную штору, он глядел на летящий вдоль поезда лунный пейзаж за окном и в душе сожалел, что все уже крепко спят и не с кем увиденным поделиться. Поезд с грохотом, с пулеметным стрекотом торопящихся под уклон тяжелых колес то и дело влетал в бесконечные, словно вечность, глухие туннели, пронзая их черную темноту своим узким, стрелоподобным гремучим телом, и снова, ликуя и радуясь, вылетал на простор. От этих мгновенных влетов и вылетов из туннелей Ушаков на какое-то время глох, как в снижающемся самолете. Но вот поезд опять вырывался в долину и мчался по плоскости залитых лунным светом изумрудных полей, по-школьному разграфленных на клетки и засеянных колоском к колоску, с бороздками для полива, кустящимся рисом, пролетал по гористым уступам с уютными домиками под черепицей, с вишневыми деревцами, стоящими возле окон. И вновь горы, горы, скалы, нависшие над кромкою моря, где ленточка пляжа, почти растворяясь, сливается в бухте с лимонно-зеленой дорожкой луны. Из тьмы выступают серо-черные тени больших криптомерий, обрывы, рыбацкие лодки на рейде, и вдруг разбегающееся до горизонта сверкание огней, трубы, трубы, клубящийся дым над градирнями, шахты, угольные отвалы, циклопические прожекторы над подъемными сооружениями, прерывистое, монотонное дыхание механизмов заводов, ворчание поршней и мерное бряканье, заканчивающееся пришлепыванием и шипением молота. Ушаков, привыкший к раздолью широких полей, с волнением впитывал в себя эту жизнь, размещенную на каких-нибудь сантиметрах, — то уютную, хрупкую, в потемневших отвремени хижинах, в раззолоченных многоступенчатых храмах, окруженных садами из низкорослых деревьев и замшелых камней, с сверкающими водопадами, с белолицыми женщинами в драгоценных шелках, то воинственную, с драконами и мечами, с пугающим злым оскалом чудовищ и масок, с заточенным обычаями в своем древнем дворце императором, то машинною, наконец, с фантастическими скоростями и феерией дымных лиловых огней, с заводскими кирпичными корпусами и толпами демонстрантов под знаменами и транспарантами. Эта жизнь привлекала к себе, хотя и была для чужого, случайного взгляда туманной, неясной: в ней не так-то легко постороннему разобраться. Но он, Ушаков, о простом не хотел бы и думать: зачем утруждать себя жеванием жвачки? Никогда за всю жизнь он не знал, что такое тоска по России, по дому, по семье, а сейчас не хотел, да узнал в темноте, словно поезд напел, настучал ему это щемящее чувство. Может быть, в тем виною была и размазанная оранжевая луна и орехово-серые домики, лепящиеся по уступам гор, но только он вдруг поймал себя на одной странной мысли, что счастье придумано человеком, как доступное всем утешение, а на самом-то деле его не было никогда и не будет, как нет бога на небе… «Да, действительно, — думал он. — Разве может существовать на земле что-то очень расплывчатое, нематериальное, никогда не увиденное в настоящем, а всегда только где-то в прошедшем и всегда неустойчивое, уходящее, ускользающее, оставляющее после себя лишь одно сожаление, или боль, или чувство утраты? Почему никогда никаким заклинанием, даже фаустовским «Остановись!» его не поймать, не увидеть в лицо? Не имея ни цвета, ни формы, ни вкуса, ни запаха, чем оно завлекает и заманивает тебя? Что же это такое? Отчего же я верю в него и всегда буду верить?» Ушаков стиснул голову кулаками. Он представил себя молодого и тот вечер с Катюшей Насоновой в деревенской избе. Отгороженная от хозяйской светелки невысокою перегородкой, их маленькая комнатушка была полна шорохов, шебуршания, плеска: это шел, а вернее сказать, равномерно, размеренно лился беспрерывным потоком хмурый дождь. Как огромная серая кошка, на рассвете он рылся в прогнившей соломе на крыше, прыгал в желтой траве на тропинке, разливаясь большой черной лужей, питая и шевеля уже пересохшие стебли растений. — Расскажи о себе, — просил Ушаков, в темноте обнимая Катюшу одной рукой, а другою, свободной, чуть приглаживая ее рыжеватые брови. — О себе? Разве это уж так интересно сейчас? — говорила она. И вдруг вспомнила: — Да, правее Сурганова тоже зенитки. Когда возвращаешься, нужно их обходить… Ты боишься, когда нужно прыгать во тьму с парашютом? Я ужасно боюсь! Мне кажется, прыгну — и прямо в болото, а там жабы, лягушки… — И еще комары, — добавлял Ушаков. — Да, еще комары… Я их тоже боюсь! Ушаков тогда от души посмеялся над страхами Кати, а сам ночью подумал: «Хорошо бы жить так на земле, чтобы страшными были одни только лягушки. Все другое на свете не должно пугать человека, только радовать, приносить ему счастье: небо, воздух, зеленые травы, цветы…» Он не знал, что всего через несколько лет после победы небо снова будет грозить самолетами, но уже пролетающими на такой высоте, что с земли их не видно и даже не слышно, что трава, и цветы, и вода из колодца, и рыба, и молоко, и сам воздух огромной планеты будут молча таить в себе смерть, для всех, белый яд радиации, — что такое зенитки правее Сурганова по сравнению с ним? Ушаков, отодвинув тяжелую штору, до рассвета глядел на взлетающие над городами разноцветные гроздья реклам, на химические заводы с их башнями и суставчатыми переходами, на газгольдеры, на поля в тихой, утренней дымке, пока поезд не вполз в подземелье туннеля, проходящего под проливом, между островами Хонсю и Кюсю. Потом снова мелькали рыбачьи поселки, заливы в скалистых, изрезанных берегах, истончившаяся луна все бледнела, бледнела, пока не растаяла, не исчезла совсем… Но вот поезд вылетел на равнину, на свет, и столб жалящего, сжигающего с утра, слепящего солнца ввалился в вагон, расчертил полосами постели Георгия Ивановича, Васюты и Ушакова. Все вокруг загорелось, зажглось миллионами огоньков — стекла ламп, никель поручней, даже пуговицы и стаканы. В его желтоватом пронзительном блеске тают дымные очертания порта, сверкает ячейками рябь на воде, мягко плавятся в золоте серовато-коричневые конические вершины гор, поросшие лесом. Груды маленьких двухэтажных домов под рифлеными крышами, трубы, мачты, подъемные краны, современные здания из стекла и бетона — все горячее, яркое, знойное, незнакомое. У подножия гор, словно в сомкнутых, крепких ладонях, в красно-розовой пене цветов — Нагасаки…15
Хорошо вечером стоять у окна и смотреть с высоты на туманную, голубую Москву, на зажженные окна по всему переулку, такие лиловые, синие в сырых мартовских сумерках. Море крыш, море стен, флюгеров, угловых древних башенок, закопченных фронтонов, коньков и похожих на католические распятия телевизионных антенн. Левее за ними, по самому горизонту, — темно-серая, строгая на фоне сурового предвесеннего неба литая громадина университета, летящая в небо, как распластанный самолет. Правее — кварталы крупноблочных домов и высокие, стройные башни Новодевичьего монастыря, купола и ажурные звонницы: город-чудо, город-фантазия, наша русская сказка, некрополь… Я еще не привыкла к пейзажу, лежащему за окном, но мне нравятся эти березки, газоны, а дальше за ними старинные тупички, эти улочки, переулки: Олсуфьевские, Оболенские, Языковские, Пуговишниковы, Трубецкие, с забытыми временем особнячками, с кирпичными фабричками, освещенными мертвенным светом ртутных ламп. Здесь так остро и нежно пахнет снегом и темной корою деревьев и так строги и замкнуты лица у живущих здесь стариков и старух, что хочется плакать… Я хожу на все выставки, но не вижу картины, которую можно было бы назвать так: «Одиночество старости». Вижу темные переулки и синие тени подъездов. И стоящих безмолвными группами черных старух, молчаливых, расплывшихся, в полинялых платках. Их широкие лица морщинисты, желты, а костистые плечи печально опущены под тяжестью лет и труда. А растоптанные башмаки исходили взад-вперед от плиты до стола расстояние, равное пути от Земли до Луны… Эти женщины глядят мне вслед очень хмурым, иногда равнодушным, долгим, выцветшим взглядом. Их тяжелые, грубые, в ссадинах руки жили в мире простых, единственно важных на свете вещей: хлеб, дрова, молоко, пеленки, корыто. Человечество, улетая к мирам своих звездных снов, должно помнить не что-нибудь — эти руки. Меня трогает до тумана в глазах совершенный пустяк: когда где-нибудь в магазине или в плотно набитом троллейбусе молодой, полный сил человек пропускает впереди себя не нарядно одетую девушку с модной милой прической, а такую вот мрачную, в темном мятом платке, некрасивую, злую старуху, от растерянности позабывшую поблагодарить. Этот жест его украшает. Он делает трепетным весь этот миг, наполняет его неожиданным и красивым значением. Потому что любить людей на словах — это одно, а любить их на деле — это нечто другое. Ведь все люди разные и, конечно, не ангелы, и легко любить тех, кто достоин любви. Это старая песня. Вы, наверное, помните Гейне: «Но он не был достоин любви, и она не любила его…»? Как ни странно, но тот, кто любви не достоин, тоже чувствует, понимает: он живой человек. Он вообще Человек, даже если он неуклюж, и рассеян, и жалок или, что еще хуже, бессмысленно груб. Оттого, что он так беспросветно угрюм, так безвкусно одет, может, ты виноват? Или я?.. Или кто-то еще не известный нам, третий? Я иду по булыжникам темного переулка, мимо теней в подъездах. На старухах распахнутые изношенные пальто. Они смотрят мне вслед равнодушными светлыми, исплаканными глазами. Как сказать им, что я их люблю?16
Солнце бьет сквозь пластинчатые жалюзи так, что больно глазам. Там, за окнами, порт: сотни разных судов, сухогрузов и танкеров, сотни яхт и моторок, катеров и рыбацких увертливых кавасаки, визги, вопли и скрежет машин, поднимающих и перетаскивающих с места на место тяжелые грузы. Словно стаи огромных, неведомых птиц — разноцветные скопища длинноклювых подъемников. Нагасаки вообще живет куда более шумной и радостной жизнью, чем Хиросима, так по крайней мере решил Ушаков, ослепленный и оглушенный морем, солнцем и яркостью южного города. По улицам мчатся автобусы; переполненные туристами, шагают матросы с английских, американских, французских, канадских и австралийских судов, рыбаки везут с моря свой трепещущий, скользкий товар, в стеклянных многоэтажных «депато» и крытых пассажах снует пестрая, разношерстная публика — и те, кто может купить жемчуг, изделия из черепахи, транзисторы, драгоценный фарфор, и те, кто в часы распродаж толпится возле прилавков, чтобы выкопать из-под груды тряпья что-то нужное, недорогое, а в прочее время лишь любуется всеми этими разложенными и выставленными товарами; цветастыми зонтиками, веерами, нарядными кимоно, чудесными куклами, обезьянками с золотистой расчесанной шерсткой, игрушками с электронным устройством. Два бога — Торговли и Моря — парят над лежащим внизу доверчивым городом, разглядывая его с той же самой удобной для прицеливания высоты, с которой 9 августа 1945 года бросил бомбу старательный, аккуратный американский убийца. Выше них — только солнце, «свирепейшее из солнц», как сказал бы Васюта Антонов. Ушаков поднимался по узеньким, каменистым, обесцвеченным жарким полднем экзотическим улицам города и думал о том, что здесь, в Нагасаки, наверное, даже самая сильная скорбь теряется и бледнеет, потому что ее вытесняют дела. Суета выжигает, наверно, сердце, как жара эту твердую, каменистую землю. — А что? Деньги не помнят! — заметил Георгий Иванович, шедший рядом и думавший, видимо, тоже о том же. — Вернее, банкноты. Медный грош еще помнит войну и будет всегда ее помнить. А большие купюры запамятовали, что Америка была им врагом, а потом оккупантом… Теперь она только добрый союзник, богатый сосед, которому можно продать и напалм и военное снаряжение для войны во Вьетнаме… У Америки здесь, в Нагасаки, военная база. Смешно? Парадокс? А наверное, нет… Просто деньги не помнят… — повторил он опять свою первую фразу. На траурной церемонии, возлагая венок, Ушаков с волнением слушал звон колоколов, плывущий над городом, их печальные металлические голоса повторяли медлительно, с горечью: «Помни… Помни!» Да, он помнил об этом. Миллионы людей, в том числе миллионы советских солдат, сражались за мир, за это просторное, чистое небо. Разве можно об этом не помнить? Весь день Ушаков находился под властью щемяще-печального колокольного звона и был переполнен суровостью собственных воспоминаний, поэтому для него неожиданным, странным показался вопрос Васюты Антонова: — Ты слыхал о мадам Баттерфляй? — Слыхал. А ты это к чему? — Сейчас мы поедем смотреть ее дом. Ты, конечно, поедешь? Ушаков с обреченным, растерянным видом лишь только развел широко руками. — А что делать? Конечно поеду. Домик, где жила Чио-Чио-сан… Туфли Золушки… Ступа бабы-яги. Поэзия, сказка, а сколько долларов за вход? Но там, на холме, где стоял деревянный, построенный в старом стиле, с раздвижными стенами и окнами дом, пропахший сандалом и запахами цветов, Ушаков отделился от группы, внимательно слушавшей гида, и долго стоял один, глядя на город, лежащий внизу, и на бухту, «красивейшую из бухт», если говорить словами Антонова, на мягкие линии отдаленных, дрожащих в нагретом струящемся воздухе гор. Он так и не слышал, действительно ли существовала мадам Баттерфляй на земле или все это вымысел, только легенда. Но, по счастью, и горы, и море, и бухта, которую бороздили суда, с ее бледно-зеленой, то серой, а то изумрудной водой, отливающей серебром, когда ветер рябил ее и гнал против солнца, в самом деле существовали в природе. И вот это-то и утешало, это было естественно и прекрасно. Город нравился Ушакову, он словно что-то ему обещал, какую-то радость, а может быть, встречу. И он с благодарностью запоминал его солнечный, праздничный облик. Они оба с Антоновым побродили по саду, то и дело оборачиваясь на дом — умели же в старину строить так, что и ветер, и горы, и море — все рядом, и все с высоты, и все окрыляет ощущением простора, — и пошли вниз по улице, мощенной камнями, мимо строгих, почти неприступных оград и прячущихся в гуще деревьев домов сеттльмента. Автобус стоял на самом солнцепеке, но внутри него было прохладно. Они сели, усталые, тяжело отдуваясь, ослабили узлы галстуков. — Молодцы японцы! Умеют работать, — сказал Ушаков и потрогал сиденье и подлокотники. Все вокруг было сделано элегантно, добротно и сияло почти хирургической чистотой. — Да, они молодцы, я рад, что ты это заметил… Провожая глазами японку в светлом шелковом кимоно с привязанным за спиною ребенком, Ушаков кивнул головой в ее сторону. — Вот и это мне нравится тоже, — сказал Ушаков. — Все делают на свой лад, не оглядываются ни на кого. Отработал на службе, европейское платье долой, скорей кимоно, нарядное оби и гэта, и низкие столики, и цветы, и чайная церемония. — Вот не знал я за тобою приверженности к старине! — заметил Васюта. — Я и сам за собою не знал, пока не поездил и не увидел, как люди везде свое отчее берегут… Сюда ехать собрался, пошел поискать сувениры, не банальных матрешек, а что-нибудь подороже, получше, ну, хотя бы хваленые русские полотенца, расшитые петухами. Так все магазины обегал, нигде не нашел. А кажется, чего проще! Сестру свою умолял, она у меня замечательная мастерица, пожалуйста, вышей. Так нет, говорит, и холста не найду, и рисунка, и ниток… С холма по выстланной камнем дороге спускались отставшие от ушедших вперед Антонова и Ушакова иностранные делегаты во главе со своим гидом, пожилым, сухощавым, морщинистым человеком в защитных очках. Он рассказывал что-то весело, оживленно, они его очень внимательно слушали. Потом, попрощавшись с ним, все толпой повернули к киоскам, стоящим рядами по площади вдоль дороги, — покупать веера и раскрашенных кукол, изделия из ракушек, фигурки рыбачек и рыбаков в соломенных шляпах, заколки и гребни из черепахи. Георгий Иванович пришел с куклой в руках, положил ее рядом с собой на сиденье, отер лоб платком. — Повезу своей внучке, — сказал он, отдуваясь. — Просила японочку ей привезти… Ушаков и Антонов только коротко переглянулись.17
Митинг был назначен в большом спортивном зале, вмещавшем, наверное, тысяч пять человек. Еще издали, из автобуса, можно было увидеть колонны людей, направляющихся к месту сбора под знаменами, с лозунгами, написанными на белой материи, с плакатами, прикрепленными на груди, с перевязями через плечо и на лбу, и мужчины и женщины, все в исписанных иероглифами призывов белых платочках. Ушаков это с детства любил, он с этим родился, с этим вырос: колонны людей и знамена на Октябрьские праздники или на Первое мая. Он не мыслил себя без веселого единения многих сотен и тысяч людей, без улыбок, без марша и духового оркестра, без воздушных шаров и сияющих ребятишек на плечах у отцов. Но не знал и не видел полицейских, стоящих цепями, вертолетов, парящих над городом, равнодушных, а то и презрительных лиц пассажиров, проезжающих мимо в роскошных, сверкающих лаком машинах — это грозное противостояние двух сил, шум и выкрики, рев клаксонов, визжание тормозов… Иностранные делегаты проходили по залу пол грохот несмолкающих аплодисментов. Потом, когда всех их, вошедших, по очереди представляли участникам митинга, называя страну и каждого делегата по имени, Ушаков испытал ни с чем не сравнимое чувство гордости за Советский Союз. Он склонил седоватую голову перед этими вставшими со своих мест незнакомыми, но такими понятными, близкими, дорогими людьми, полный братской любви и того настоящего верного чувства, что зовут чувством локтя в солдатском окопе. Почему-то ему в этот миг припомнились Польша, Венгрия, Чехословакия — все те страны, которые он прошел как солдат со своими десантниками. В Лодзи снег был слепящим, он только что выпал, и солнце его осветило миллионами искр, а красные флаги на крышах носились, как птицы, по ветру и хлопали красными крыльями. В Праге танки проехали по цветам. У солдат на пилотках были только невыцветшие пятиугольнички, так как звездочки они раздарили на память обнимавшим и целовавшим их веселым пражанам. Он тогда и не знал, Ушаков, что каждая его пуля, попавшая в цель, каждый бой, будь то в декабре сорок первого года под Москвой или где-нибудь под Будапештом, крепко сложатся не в одну только ту великую майскую нашу победу, но и в эти громовые аплодисменты на митинге в жарком городе далеко от Москвы. Мир сегодняшний был защищен там хотя бы и под Ненашевом, впрочем, как под Орлом или где-нибудь под Смоленском. Он глядел на людей, пожимавших ему крепко руки, на улыбки, на темные лица рабочих. Нет, и здесь, в Нагасаки, смерть от атомной бомбы нисколько не отличалась от смерти от атомной бомбы в Хиросиме, и прощения не было: в суете, за делами, ничто не забыто. Митинг шел уже третий час, а на трибуну поднимались все новые и новые ораторы. В жарком воздухе, накаленном страстями, уже нечем дышать. Зал скандировал: — Мир Вьетнаму! — Американцы, убирайтесь домой! — Янки, прочь с Окинавы! — Запретить атомную и водородную бомбы! И опять, как в Хиросиме, эти мокрые, потные лица, свет нацеленных прожекторов, и песня — зал поет ее стоя, — и на лицах людей чувство радости, понимания, без которого не важны ни любовь, ни удача, ни здоровье, ни деньги… — Вася, здо́рово! — улучив момент, шепнул Ушаков Васюте Антонову. — Мне это нравится! — Да, мне тоже, старик… — Ты знаешь, я себе представлял это как-то иначе… Они, стоя, громко били в ладоши вместе со всеми. — Да, — заметил Антонов. — Плохо только одно: тот, кто держит пальцы на кнопке, не ездит на мирные конференции… — Ничего… Этот шум сквозь любые стены пройдет. Каждый голос когда-нибудь да отзовется! Выйдя на улицу после митинга, Ушаков удивился, что здесь все так же пылает огромное жаркое солнце, пешеходы снуют по узеньким тротуарам взад-вперед, подобные муравьям, каждый с маленькой своей ношей, пролетают роскошные автомобили, мчатся с рыжими, красными и зелеными крышами проныры-такси. И вдруг голос — знакомый, щебечущий, столь неожиданный: — Николай Николаевич!.. Коннити-ва![19] — Ито-сан! Вы откуда здесь, в Нагасаки? — Приезжала на митинг с делегацией от Хиросимы… Да, действительно перед ним в белой кофточке, в темной юбке Юкико, улыбающаяся, молодая. Ее черные узкие сияющие глаза были словно омыты, они тоже смеялись. — Как я рада, что опять увидела вас… Я боялась, что вы после митинга сразу уедете… В шумной пестрой толпе расходящихся с митинга они плотно притиснуты на мгновение друг к другу. — Да, меня уже ждут. — Ушаков обернулся, ища взглядом товарищей. — Меня тоже. Мы тоже сейчас все уедем. Но я очень хотела увидеть вас и вручить вам на память вот это. — Юкико сняла с себя медальон на простой металлической темной цепочке. На одной его стороне был оттиснут совсем крошечный бронзовый вепрь, на другой — тоже маленький — Будда. — Это можно надеть, как брелок, на ключи, — пояснила Юкико. — Да, спасибо… Большое спасибо! — сказал Ушаков. — Ну, Будду я знаю. — Он держал медальон на ладони. — Нас с ним познакомили в монастыре. А кто этот зверь? Что он означает? — А это свинья. Она означает, что я родилась — по нашему календарю — в год свиньи или вепря… А поэтому, по поверью, и характер мой должен быть очень настойчивым, я должна идти в жизни во всем напролом… — И вы думаете, вы способны на это? — спросил Ушаков, держа ее тонкие пальцы в своей в крупных шрамах руке. — Я что-то не верю… — Представьте, я тоже… — сказала она, легко отняв руку, и, открыв свою черную лаковую сумочку, достала платок. — Это только я с вами такая отважная… — Вы прелесть, Юкико, — сказал Ушаков. — Я запомню все наши чудесные встречи… — До свидания, мне надо спешить, Николай Николаевич! Саёнара! — До свидания, Юкико-сан, до встречи! Спасибо за вепря… Но Юкико Ито уже скрылась в толпе. Ушаков поспешил на стоянку, к автобусу, но там никого уже не было — ни Антонова, ни Георгия Ивановича, ни других делегатов. Он прошелся по площади, хорошо понимая, что сам виноват, опоздал, но расстроился и огорчился таким происшествием. — Простите, пожалуйста. Чем могу вам помочь? — В толпе к Ушакову подошел человек средних лет, в строгом темном костюме. Разговаривал он по-английски. — Вам нужно в гостиницу? — Да. Я чуть задержался и, видимо, опоздал… — Прошу вас, садитесь… Они подошли к полицейской машине. Человек открыл дверцу, сперва пропустил Ушакова, потом сел сам и что-то сказал по-японски шоферу. Они быстро помчались по улицам города, все еще переполненным расходящимися колоннами, многочисленными автобусами и легковыми, развозившими участников митинга. — На всем ездил, — сказал Ушаков человеку, сидящему рядом. — На осле. На верблюде. На танке. Когда был ранен однажды во время войны, меня вывозили на упряжке собак. А вот в полицейской машине путешествую в первый раз. Рассказать кому-нибудь, так не поверят! Его спутник расхохотался, обнажив широкие желтые зубы. — Ничего, ничего! — сказал он. — Для вас это не страшно… Они быстро свернули какими-то переулками, проскочили через трамвайные рельсы почти под носом у трамвая и встали у подъезда отеля. — Приехали… — Очень тронут. Большое спасибо! — Ушаков крепко пожал руку своему спутнику. — Очень вам благодарен. — Не сто-ит, пож-жару-ста, — ответил тот по-русски, но раздельно, с усилием. — До сви-дания, Мос-ква! — До свидания, Нагасаки! — сказал Ушаков. Он поднялся на лифте на пятый этаж к себе в номер, удивляясь сегодняшней встрече с Юкико и этому странному путешествию в полицейской машине. Оно насмешило его, привело в отличное настроение: полицейский агент и тот изучает родной его русский язык, это что-то да значит!За обедом в стеклянном кубическом ресторане (это было уже поздним вечером, когда солнце садилось за горы) Ушаков сидел в одиночестве и с большим сожалением думал о том, что уже никогда не вернется сюда, в этот жаркий и душный тропический город. Он глядел на закат, на кварталы домов, на темнеющие в густой синеве лачужки окраин и думал о беззащитности современного города: он жил и опять разрастался после той беспощадной, жестокой бомбежки, и опять ему некуда было деться от неба, нависающего над ним и таящего в себе след, подобный келоиду, — путь военного самолета. Подошедший к середине обеда Антонов (он только что разговаривал с профсоюзными активистами) рухнул в кресло, стоящее рядом, и вытер платком мокрый лоб. — Уф… Устал! — тяжело выдохнул он. — Ты чего это в одиночестве? — Так… Георгий Иванович на приеме. Ты — в бегах… — И чем же ты тут занимаешься? — Утопизмом. — Чего утопил? — Все снаряды, ракеты, и пушки, и бомбы… — Ну! И все предрассудки? — заметил Антонов. — Нет, этого, видимо, не утопить никому. — Мне сейчас только что объяснили, — Антонов придвинулся к Ушакову, налил себе пива в длинный тонкий бокал, — что не разумом постигает человек человека, не силой рассудка, а силою предрассудков. Каково, а? Железная логика? Ушаков не ответил. Он смотрел на темнеющий в сумерках город. Там сейчас разгорался и прыгал искусственный свет, очень яркий и пестрый, но совсем не сравнимый с блистанием заката на розовом, голубом и темно-лиловом торжественном небе. Среди разгорающихся разноцветных электрических облачков и скоплений, шевелящихся там, внизу, он заметил и еле горящие, совершенно микроскопические, отдельные огоньки, разбросанные по горным отлогам. Это, видимо, были окна хижин портовых рабочих и рыбаков, затерянные по оврагам и влажным низинам, в гуще темных деревьев. «Чем живут эти люди? Какими надеждами? — думал он, подперев рукой подбородок, машинально жуя погасшую сигарету. — Неужели одним только древним инстинктом продлить собственный род? Или только стремлением не погибнуть в войне? А каким будет мир, это их беспокоит, волнует? А если война? В кого они будут стрелять, с кем пойдут?..» Подошел улыбающийся, раскрасневшийся от быстрой ходьбы Георгий Иванович, в ослепительно белой рубашке, наглаженный, по-спортивному бодрый, подтянутый. — Что, товарищи? — спросил он, садясь рядом в свободное кресло и знаком подзывая официанта. — Вас, я вижу, водою не разольешь… — А вы попробуйте пивом! — предложил Ушаков. — Или лучше сакэ… — покосился на шефа Антонов. — Нет, — сказал Ушаков. — Для сакэ слишком жарко… — Ну вот, — сказал шеф, — завтра раненько уезжаем. Наша миссия выполнена, мы свое дело сделали. — Что ж… Отлично! — Да. Теперь на душе у меня чуть-чуть поспокойней. Хотя в Токио нам еще предстоит поработать. Это был привычный, не требующий напряжения разговор, обязательный после насыщенного впечатлениями тяжелого дня работы, нечто вроде зарядки аккумуляторов: о деле и пустяках, о городе и погоде, о работе, работе и опять о работе… Ушаков не участвовал в разговоре: он подумал вдруг о Юкико-сан. С ней его разделяет куда большее, чем предрассудки: страны, армии, партии, взгляды, даже возраст, обычаи, наконец, расстояние… Эта женщина — не игрушка, он не должен о ней больше думать. Пусть проходит своею дорогой. Хорошо, что все кончено. Завтра утром — прощай, Нагасаки! И — в поезд. А надежды, возникшие так неожиданно здесь, на выжженной атомной бомбой земле, пусть останутся только надеждами. — Тебе пива налить? — спросил Ушакова Васюта Антонов. — Нет, не надо. Спасибо. Просто так посижу, отдохну…
18
Разные бывали осени в моей жизни. Были веселые и печальные, были и никакие… Они проходили однообразно, как серые облака над серой равниной, не оставляя ни солнечного луча, ни дождей в моей памяти. Но был и чудесный, веселый сентябрь возле жаркого моря, овеянного ветрами, и лодка под парусом, и камни — на Тонком и Толстом мысу, нагретые, словно сковороды, на которых нас солнце поджаривало со всех сторон, и эдак и так. А потом довелось мне попасть на Кубань, но не в самое лучшее время. Ветер выл над уже побуревшей, пустынной землей, дождь хлестал по крыльцу, обрывая пятипалые листья с ползущего по стене винограда. Я спала на полу, на соломе, накрытой поблекшей, изношенной плащ-палаткой. Рядом с ложем, на крашенной синькой стене, было нечто вроде ковра — полоска обойной бумаги, прибитая сапожными гвоздями. И под каждым гвоздем — в несколько раз сложенные обрывки календаря. Ложась спать поздно вечером, и утром, на скудном, холодном рассвете, я невольно читала одни и те же короткие строчки, уходящие прямо под шляпку гвоздя: «Куплю любовь, купл… А где найдете вы тог…» Это было смешно, непонятно. В самом деле, зачем же любовь покупать, когда она мне отдана одним человеком так щедро, с размахом, без всякой корысти? В день отъезда мой взгляд упал снова на гвоздь, прикрывающих тайну, на свернутый под ним вчетверо пожелтевший листок. Что они означают, эти слова? Человек мне сказал: — Нет, нельзя уезжать, не узнав, что написано дальше. Это нас будет мучить всю жизнь… Гвоздь был вытащен, а бумажка расправлена. Мы на ней прочитали:Куплю любовь, куплю любовь — иные говорят…
А где найдете вы того, кто вам продаст любовь?
Продам разлуку! Продаю! — иные говорят.
А где найдете вы того, кто бы ее купил?
Любовь, разлука — не товар, чтоб ими торговать,
И если полюбил — навек; расстался — навсегда…
19
Если бы можно было и жизнь свою пересмотреть в обратном порядке, от сегодняшних дней до истоков, как пейзаж за окном от Симоносеки до Токио, Ушаков просидел бы без сна и весь день и всю ночь. Но жизнь уходила, отслаиваясь ежедневно тяжелыми, илистыми пластами, и всего пережитого теперь уже и с усилием не перевернуть, не увидеть песчаного дна с веселыми камушками. Ушаков глядел за окно, на поля и деревни, а думал свое. Вот женщина на пороге в светлом, сереньком кимоно. Наверно, ждет мужа. Есть что-то устойчивое, что-то очень надежное в таких женщинах на пороге, думал он, заслоняясь рукой от солнца. Наш безжалостный век почти истребил это племя — ожидающих женщин. Нынче некогда ждать, да и незачем: безопасность движения поездов и надежность полетов по строгому расписанию обесценили вздохи. Но скажите, кому не приятно, когда тебя женщина ждет! На столе — ослепительной белизны крахмальная скатерть, два прибора, две рюмки, в вазе — красные гладиолусы, почти точно такие же, как в ресторане в Хиросиме, Только с длинным, стреловидным серебряным стеблем, цветы без запаха, но зато какой аромат источают кастрюли под плотными крышками! Нет, в старинном, священном обряде такой встречи все же есть «рацзерно», сказал бы Васюта Антонов. Только некому ждать… Вот в чем дело! И некому срезать цветы и зажечь под кастрюлей синий венчик горелки… Как он плакал о Кате в горах, у костра, в одиночестве, иззябший, промокший до нитки! Вспоминал, как она улыбалась, как пела, сидя вечером на подоконнике, свесив ноги в собачьих унтах, как варила картошку. «А что, я старательной буду женой. Я всему научусь… Для тебя мне приятно будет делать любую работу…» А он отвечал: «Хорошо, мой солдатик, но только картошку, чур, всегда буду чистить я. Ты, наверно, по кухне никогда не дневалила?» — «А что, сразу видно, что белая кость?» — «Да, заметно». — «Ничего, зато я стреляю в полку лучше всех…» Поезд мчался равнинами, малахитово-золотыми от солнца, дробящегося на воде среди рисовых стебельков. После светлых заливов и бухт, отражающих блеск лучей, темнота и угрюмость туннелей почему-то пугали своей бесконечностью. Он ходил от окна к окну по вагону, курил в тамбуре и снова возвращался в купе, молчаливый и замкнутый, слушал, как Васюта Антонов рассказывает анекдоты. — Звонок в милицию в три часа ночи. Там снимают трубку: «Дежурный слушает». — «Вы знаете, Каин убил Авеля». — «Ничего не трогайте, сейчас приедем»… — Не смешно, — сказал Ушаков. — Зато грустно. — Вот это вернее! Поздно вечером, когда половина вагона уснула, Антонов заерзал на полке, сполз с постели, пошел вымыл руки. — Пойдем ужинать, — сказал он Ушакову. — Чайку похлебаем от скуки. А то не уснешь. — Не хочу. Очень жарко. И так мокрый от пота… — Ну, смотри. А напрасно! — Да нет, Вася, спасибо. Вернулся Антонов в вагон через час, и так вкусно вздыхал и облизывал губы, и с таким удовольствием закурил, что лежавший на плоской подушке Ушаков заворочался. — Чем, Вася, кормили? — Бифштексом… — протянул тот, блаженствуя, очень довольный. — А еще? — Еще пиво-ом… — Гм… — Такой, понимаешь, кусина… И «Саппоро», прямо из холодильничка! — Черт возьми… Соблазнительно! — Говорил же ведь, звал. А ты упирался… — Ну, что ж теперь делать?! — Как что делать? Пойти! — Одному? Это скучно, а ты уже сыт. Может быть, повторишь? — Да нет уж, спасибо! Надо вовремя было думать. Вот, может быть, с шефом? — предложил переводчик. — Как, шеф, пойдете поужинать? — Нет, я ложусь спать, — ответил Георгий Иванович. Он тоже сегодня, по-видимому, затосковал по детям, по дому. — Съел рису из бенто;[20] наверно, достаточно… — Как хотите… — сказал Ушаков. — Потом пожалеете, вроде меня! И он, соблазненный видением бифштекса, отправился по качающимся и как бы нарочно увертывающимся из-под ног гремящим вагонам в вагон-ресторан, распахивая и захлопывая на ходу тяжелые двери.20
В ресторане от быстрого хода поезда все прыгало и качалось. Позвякивали приборы. Поблескивала в графинах вода. За окном проносились огни, вытягиваясь в сплошную серебряную полоску. Ушаков сел за столик, только что убранный, и с волнением огляделся. Он любил уже этот рассеянный разноязычный, но как бы сливающийся в одно целое разговор. Здесь были французы, канадцы, англичане, индийцы, цейлонцы, японцы — из знакомых ему участников конференции, тоже едущих в Токио, — и какие-то молодые, совсем незнакомые пары, две-три группы дельцов, студенты, красивая пожилая японка, седая, в очках. Она женственно улыбалась своему суховатому, с неприятною миной соседу. Ушаков заказал себе ужин и уже отпил пива, когда дверь отворилась и в вагон-ресторан вошли двое — оба рослые, рыжеволосые, молодые, с чуть отвислыми, словно под тяжестью автоматов, плечами. Они были в защитного цвета рубашках с разноцветными планками орденов на широкой груди. Вошедших увидели все, и все сделали вид, что не видели, оживленнее заговорили. «Ну-ну! — сказал про себя Ушаков, провожая вошедших глазами. — Вот так встреча!» Он низко склонился над тарелкой, когда эти двое, увидев свободный и прибранный столик и сидящего в одиночестве Ушакова, подошли, и один, самый рослый и рыжий, жестом попросил разрешения сесть. Ушаков неохотно кивнул. Парни сели, натянутые, осторожные, и быстро переглянулись. Вероятней всего, их смутил желто-черный канадский значок против атомной бомбы на лацкане пиджака Ушакова — дар Эрика «русскому ветерану». Они долго рассматривали его, пытаясь прочесть идущую вкруговую неясную надпись. — Do you speak English?[21] — спросил один, наклоняясь к плечу Ушакова и приятельски улыбаясь. Ушаков отрицательно покачал головой. Тот смущенно, неловко пожал плечами. Они быстро заговорили между собой о том, что им выбрать на ужин, окликнули официантку. Та тотчас же принесла два бифштекса и две бутылки прозрачного, светлого «Саппоро». — Хорошее у них пиво, — сказал один, сидящий напротив, пригубливая бокал и медленно втягивая в себя золотистую ароматную жидкость. — Да, этого у них не отнять, — ответил другой сосед Ушакова. Николай Николаевич отвернулся и глянул в окно. Хорошая, черт возьми, фраза! Наверное, лучшей и не придумаешь, хоть думай, всю жизнь. Вся их логика здесь, и личная и государственная, и все понимание мира, весь смысл отношений… А главное, этот парень, видать, и сам не понял того, что сказал! Отнимать они ловко умеют! Он глядел на их длинные, с вытянутыми подбородками, мясистые лица, на руки в веснушках, удивляясь тому, что в них так до обидного все понятно и просто. Большерукие и большеногие, аккуратные, чистые, потягивающие не спеша свое светлое пиво, они вовсе не походили на мучителей и убийц. Нет, совсем ничего в них злодейского не было, просто добрые, благовоспитанные, с детства закормленные витаминами, здоровенные парни. А ведь кто-то из них жег деревни напалмом, убивал, убивал… А иначе за что же тогда ордена? Он сидел рядом с ними плечом к плечу, ел такой же бифштекс, пил такое же пиво, которое принесла ему та же самая официантка, но не мог не смотреть и не думать об их орденах. Да, в общем итоге все в жизни определялось вот этим одним: в кого и зачем этот рыжий стрелял? Он вспомнил Германию в сорок пятом, ледяную, апрельскую Эльбу — и веселые, дружелюбные лица союзников. Ушаков отпил пива. Он сейчас вдруг подумал, что девушка-официантка вполне могла быть участницей того митинга в Хиросиме против атомной бомбы и войны во Вьетнаме, а сейчас она вежливо улыбается, подавая двум этим убийцам холодное, свежее «Саппоро», и приветливо кланяется, меняя их доллары при расплате: «Сэнк ю… Сэнк ю…» По-английски, не по-японски, чтобы поняли сразу всю ее бесконечную благодарность. Сложен мир. И запутан. Самими людьми. Поезд мчался, едва останавливаясь на минуту у длинных, уставленных магазинчиками перронов, мелькали фигуры входящих и выходящих, потом опять слышались грохот и лязг колес и сцеплений, басовитые, долгие, рождающие чувство тревоги гудки перед вылетом из туннелей. Ушаков закурил сигарету. Он глянул в окно, чтоб не видеть сидящих с ним рядом, но в черной почти лакированной, скользкой поверхности увидел опять лишь себя и этих парней, в военных рубахах с разноцветными планками от орденов. Расплатившись за ужин, американцы не спешили уйти. Они тоже торжественно, отдыхая, закурили, с улыбкой поглядывая на Ушакова; может быть, уже поняли, почему он молчал. Что такое молчание означает отнюдь не согласие с ними, а полнейшее неприятие их самих и всего, что относится к ним. Но, однако же, несмотря ни на что, им хотелось общения с человеком. Добродушие и самодовольство распирали им грудь. Они жаждали счастья после сытной еды: улыбки, внимания со стороны Ушакова, их соседа по столику. Что ж, он, Ушаков, возможно, и заговорил бы с ними, но какая-то новая необъявленная война уже шла, продолжалась. Та бомба, затмившая небо в Хиросиме и Нагасаки в сорок пятом году, к сожалению, была предназначена для устрашения не одних лишь японцев, она обещала ту же самую гибель, те же самые муки и многим другим. Она разделяла… И эхо ее гигантского взрыва сейчас отдавалось в Хайфоне, Ханое… От Эльбы к Меконгу — какой странный путь! Докурив сигарету, сидящие за столом сотрапезники Ушакова встали разом, как по команде, и, бросив последний свой сожалеющий, дружеский взгляд, пошли по проходу, высокие, добродушные, сытые, трезвые, готовые тотчас же улыбнуться в ответ любой встречной улыбке и несколько удивленные, что здесь не встречают ее. И тут Николай Николаевич почему-то смальчишничал. Он кивнул проходящей за ними молоденькой официантке и сказал по-английски: — Принесите, пожалуйста, счет и кофе… И встретил усмешкой их взгляд, растерянный, изумленный. Выпив кофе, уже в одиночестве, в опустевшем вагоне, он глядел за окно, чуть покачиваясь в такт движения поезда. Там, за черным зеркальным стеклом, пробегала ночная, не спящая, фантастическая Япония, золотая, зеленая небольшая страна. Разве он распознал за поездку, какая она? Нет, конечно. Скорее всего, как Юкико Ито с келоидами на плече под шелковым кимоно. Да, Юкико-сан непременно с солдатами бы заговорила и попробовала их убедить, а он почему-то не сделал такой попытки. «Интересно, почему эти двое мне сейчас улыбались? — размышлял Ушаков. — А если бы они знали, что я коммунист?»21
Сейчас за окном снег, мороз, а мне вспоминается мой родной город. Небольшие двухэтажные и трехэтажные ломики, дворы в зарослях белой сирени, собаки, лошади, большой рыжий петух, распевающий по утрам в соседнем дворе, и я с ведрами иду на Кольцовскую к водоразборной колонке. Ведра очень большие, тяжелые, а руки мои еще тонкие, слабые, но я наливаю до самых краев и быстро иду назад, к дому, и только у самых ворот останавливаюсь, даю отдых рукам. Вода ледяная, она густо выплескивается мне на ноги, растекается по земле, в теплой серой пыли тугими мохнатыми серыми шариками. Нет, не часто я езжу на родину. Но когда приезжаю, я подолгу стою над родною рекой. Тот же памятник Петру Первому в гуще темных деревьев, те же стаи грачей с криком носятся над домами, над прибрежною полосой запыленного и задымленного речного песка. Там, где некогда было широкое поле, сейчас красновато поблескивают в свете позднего солнца широкие окна домов. Бурой, желтой, коричнево-серой спиралью поднимается дым от заводов и плывет над домами, над всем этим новым, промышленным Левобережьем, уже явно соперничающим со старым городом, изначальным, седым, привольно раскинувшимся по крутому правому берегу со своими садами, церквами и остатками древних зданий и всем тем, что когда-то казалось мне самым важным и самым единственным, самым нужным на свете. Нет, ведь это неправда, что мы живем в наших делах. Дела наши — книги, картины, распаханные поля и дымящие в небо заводы — отторгаются от нас с болью, с муками, навсегда, как только мы их завершаем, и живут своей собственной жизнью, как взрослые дети. Разве можно связать в одно целое жизнерадостную, с летящей душой Наташу Ростову и хмурого старика, босого, седобородого, с колючим, пронзительным взглядом? То, что сделано, пусть живет. Нужно новое делать. Нужны новые листья на ветках деревьев, и новые гнезда, и новые песни, да и взгляд, обращенный теперь на себя, тоже чем-то другой. Я теперь уже знаю, что только лишь теплым дыханием можно истончить эту твердую, разделяющую нас стену — между мной и тобой, между нами и всеми людьми на земле, между странами и континентами, между нашей Землей и Луной, может, даже Вселенной… Я хотела бы научиться теперь понимать даже птиц и зверей, даже травы, растущие при дороге, даже белую веточку месяца над окном: что мне скажут они о тебе, моя Родина? Может быть, это так: война всякий раз возникает из жажды наживы всех этих магнатов, королей стали, пушек и мыла и финансовых заправил, в то же время, возможно, это просто, известный предел экономики, когда хочешь, не хочешь, а тобою выстреливают твои собственные капиталы. Но тогда я еще и еще раз склоняюсь пред тобой, моя дорогая Отчизна, потому что твоя экономика никогда не стреляет. Она строит и кормит, обувает и одевает, и растит хлеб и розы для каждого. Пока есть Советский Союз, пока есть моя армия, есть надежда на мир. Потому что рискнувший начать это первым непременно погибнет, потому что он будет наказан всей мощью, всем гневом и верой великой страны…22
Океан с верхней палубы сер и морщинист, как шкура слона. Ушаков, сидя в мокром шезлонге с увядшим цветком георгина в руке, улыбался. Цветок ему бросила Юкико-сан в Йокогаме, когда теплоход отвалил уже от причала и тонкие синие, красные,желтые и зеленые ленточки серпантина, переброшенные с берега на борт, означая последнюю связь провожающих с отплывающими, уже начали обрываться и падать в холодную, бурую воду с нефтяными разводами. Он поймал его на лету и прижал на глазах у Юкико к губам. Что-то дрогнуло в его сердце, когда он увидел ее, растерянную, одинокую. Потом Ушаков держал этот цветок то в кармане, а то в рукаве, так неловко было ему, пожилому мужчине, красоваться на людях со столь очевидным свидетельством собственной сентиментальности. Но когда теплоход наконец отвалил и пошел все дальше и дальше от берега, ему стало обидно и грустно от встречи, принесшей разлуку, и он осмелел и пошел молчаливо слоняться по палубам, в тесных толпах людей, все еще наблюдающих, как тает в тумане линия порта с причалами и кораблями. Теперь Ушаков держал свой цветок на виду, на ветру. Спустя полчаса георгин завял, скомкался, съежился. Дул слабый ветер. Он чуть растрепывал и клонил в одну сторону дымы из труб встречных судов, направляющихся в Йокогаму. Тут и там проплывали осадистые прогулочные и рейсовые катера с людьми, толпящимися под прямоугольником тента, рыбацкие лодочки — кавасаки — под яркими, разноцветными парусами. Сидя в низком, удобном шезлонге, Николай Николаевич с удивлением ощутил океан, как живое, чудовищно-многообразное и огромное существо, и в холодном мерцании желтовато-бутылочных волн то и дело улавливал на себе его пристальный, наблюдающий взгляд, постоянное, почти человеческое внимание. Нет, он не был пустынен, Великий, или Тихий, хотя бы уже потому, что и в пасмурный, чуть дождливый, насыщенный влагою день был наполнен каким-то особенным, радостным светом, излучаемым волнами и облаками. Человек, находящийся между двух плоскостей — океаном и низко натянутым небом, — всеми порами кожи, каждой клеточкой тела мог познать его сдержанную, волевую упругость. Ушаков с верхней палубы не видел волну: были просто какие-то выпуклости, выпирающие из воды то в одном, то в другом месте, эти выпуклости беспрерывно меняли свои очертания, набегали, спеша, друг на друга короткими складками, недовольные, морщились и снова растягивались и разглаживались, перемещаясь до самого горизонта: куда и зачем? Кто это узнает?.. У него от качания этих выпуклостей, от скольжения этих морщинок, от ветра, от винного запаха пенистых брызг и от мощного света, излучаемого водой, захватило дыхание. Вдруг возникло тревожное и веселое чувство, словно кто-то, совсем незнакомый, вот сейчас подойдет — и опять Ушаков будет счастлив, как в юности. Две женщины прошли мимо и сели неподалеку. Одна была очень красива и держалась торжественно в своем модном сиренево-розовом костюме. Другая, постарше, в зеленой гипюровой кофточке, под которой виднелось голубое белье, возбужденно и радостно говорила: — А я делаю так: поджарю картошечку с салом, с луком. Потом подаю чеснок маринованный, салат из брусники. Ну, конечно, огурчики, капуста с мочеными яблоками. И вот эта телятина под грибами, зажаренная в сметане, — это что-то особенное… — Еще хорошо бы селедочки с луком… — И черного хлеба! Ушаков побоялся обидно для них рассмеяться; он вскочил, зашагал возле борта взад-вперед, раз, другой, снова сел. Видно, женщины возвращались из Японии из длительной командировки, настрадавшись, как в пушкинском анекдоте: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!» Ему вспомнился вечер в Токио перед отъездом. Он бродил по ночному, кипящему толпами городу. Было тихо, туманно от автомобильного чада. Отработанный газ — теперь его везде зовут смог — повисал над домами рыжевато-коричневой пеленой, за которою не было видно ни звезд, ни луны, а свет фонарей расплывался оранжевым, радужным ореолом. В этой плотной, вонючей, густой пелене, вдалеке, как какие-то разноцветные вибрионы, как хвостатые вирусы, выживали лишь самые яркие пятна реклам. Вблизи же, малиновые и зеленые, ярко-желтые и голубые, они прыгали и вертелись на уровне крыш, то сбегали к земле, то опять поднимались над городом, зажигаясь и погасая, — все цвета радуги, все виды форм, все виды бега, прыжков, низвержений и водоворотов, город-спрут, город-мрак, город-свет, город-радость и горе. Он лежал на огромной равнине, пугающий и манящий, ядовитый и полный намеков, как может быть ядовитою только химия или «атомная» поэзия, с которою Ушаков познакомился в ночных клубах японской столицы. Он вышел на Гинзе из Мюзик-холла и направился вдоль сверкающих магазинов с зеркальными стеклами и витринами, огромными, словно сцены театров. Здесь в течение дня ежедневно, с утра и до вечера, из года в год, представлялся один и тот же великий сюжет, та же старая пьеса: подороже продать, подешевле купить, трагедия с участием миллионов актеров, бессмертная тема. Город плыл мимо этих зеркальных витрин, заключенный в них, словно в аквариумы, и таинственный, призрачный ртутный свет фонарей придавал людским лицам выражение чем-то испуганных, но уже и привыкших и вполне равнодушных пестрых комнатных рыб. Ушаков долго шел, замедляя шаги, он был голоден и устал и свернул наугад в тихий, сумрачный переулок, а потом еще раз, под какие-то низкие своды, пока не плеснуло в лицо затхлой, влажной прохладой подвалов и вонью кунжутного масла и дыма от китайских жаровен. Он шагнул снова за угол — и вдруг очутился перед маленьким ресторанчиком, а вернее, харчевней, ничем не приметной, видно, только для завсегдатаев, не нуждающихся в приманке: на окне в узкой нише стояла лишь ваза да на двери висела бамбуковая занавеска. Ушаков отвел в сторону бамбуковую занавеску и вошел в помещение. Здесь было тихо, прохладно и пусто. За прибранной стойкой, под лампочкой конусом, стоял бармен в переднике, пожилой, темнолицый, сложив на груди тяжелые, крепкие руки. Увидав Ушакова, он склонился почтительно. — Добрый вечер, сэр… Что угодно покушать? — Все равно. На ваш выбор. Но только японское. — Сейчас сделаем! Из-за ситцевой занавески, отделяющей зал от подсобного помещения, тотчас выскользнула, как тень, молодая служанка и поставила на столе в плетеной тарелочке неизменное «о-сибори». Ушаков вытер потную шею, лицо, руки. После жаркого, душного вечера, шума, грохота и ядовитых паров от бесчисленных автомобилей на Гинзе было очень приятно ощутить тишину, потом собственную чистоту, точно так же, как легкими вдохнуть свежий, остуженный воздух. В здешних маленьких ресторанчиках, зачастую совсем без дверей, лишь с бамбуковой занавеской, установка для кондиционирования была, пожалуй что, единственной роскошью, но такой удивительной и такой благодатной. Впрочем, роскошь ли это — дышать, он сперва не подумал. Бармен тут же, за стойкой, стал готовить на узком прилавке какие-то блюда. Он держал длинный нож в руке и, вращая им, словно фокусник, в мгновение ока из простой черной редьки выточил белую розу, всю в изогнутых лепестках, ослепительную и тугую. Затем точно таким же движением, быть может, немного быстрее, повернул в руке свежий репчатый лук и сложил его горкой на темной узорчатой керамической миске, легчайший, точно пух или белые, фантастически тонкие, длинные волосы. Затем были поданы разноцветные пряные травки, какие-то корешки, бобы в красном соусе, нарезанная, как лапша, морская капуста, рис, печеные баклажаны — бармен пек их за стойкой на маленькой переносной жаровне. Все это он разложил по разным тарелочкам и цветным керамическим чашечкам, похожим на узбекские пиалы, а в графинчике, крохотном, как мизинчик, с белой рюмочкой-лепестком, подал чуть желтоватое, подогретое в меру сакэ. Рядом с рюмочкой и тарелкой положил вместо вилки деревянные палочки — хаси. — Прошу! — Спасибо… Это было как таинство, как древний, изысканный ритуал, совершающийся на глазах чужеземца, волхвование в испарениях ароматических трав, печеных плодов и разваренных белых рисинок, похожих на маленькие веретенца. Ушаков с наслаждением вдохнул в себя все эти запахи сложнейшего переплетения и, отпив из рюмочки-лепестка и попробовав чуть горчащие, солоноватые корешки, улыбнулся. Бармен, искоса наблюдавший за ним, весь расплылся в ответной улыбке. Его грубое, в темных складках лицо как-то странно от этой улыбки преобразилось — оно стало красивым. — Очень вкусно, — сказал Ушаков. — Замечательно! — Пожалуйста, кушайте на здоровье. Он пристукнул ножом по прилавку, как бы вслушиваясь в звук истончившейся от работы, но остро отточенной стали, и извлек из широкого кувшина пучеглазую рыбину. Нож блеснул раз, другой — и рыбина была выпотрошена, и очищена, и разрезана на тончайшие, как бумага, пластинки, и уложена на овальное блюдо, плавничок к плавничку, так изящно и аккуратно, что на стол к Ушакову она была подана как бы цельная, и для схожести с той, с живой, только-только очищенной, она время от времени шевелила хвостом. Теперь ее нужно было брать, сырую, пластинками и обмакивать эти пластинки то в красный, то в зеленый, то в какой-то еще острый соус и, не мешкая, есть, запивая горячим сакэ. — Налейте, пожалуйста, и себе, — попросил Ушаков, указав на кувшинчик. — Домо аригато. Бармен налил сперва Ушакову, затем — с чувством собственного достоинства — немного себе, поднял рюмку: — За ваше здоровье! — За ваше здоровье! — У вас виски в Америке, а мы пьем сакэ, — сказал бармен с усмешкой спокойного, доброго человека, понимающего и все остальное, что их может разъединить. — А я не из Америки, я из России, — сказал Ушаков, отложив свои палочки и беря сигарету. Бармен молча стоял и глядел. Потом выпрямился, чуть откинулся за прилавком. — Вы сказали, что вы из Москвы? Я вас правильно понял? — Да, я русский. Приехал сюда из Москвы. Тот взглянул на сидящего за столом Ушакова, и улыбка, суровая, далеко не простая, на мгновение опять осветила его грубые, словно из камня, черты. Он почтительно поклонился. Было что-то уверенное и спокойное в этом сдержанном человеке, столь быстро работавшем и мастерски делавшем свое дело и столь медленно говорившем. Он глядел теперь на сидящего Ушакова с тем же самым достоинством и добротой: он не мог измениться. Он, по-видимому, к каждому посетителю относился всегда с уважением и заботой, и не мог теперь сделать чего-либо иного, приготовить какое-нибудь еще новое блюдо, куда более вкусное, необычное, потому что все подал и сделал как надо. Но он мог улыбнуться — и он улыбнулся. Он налил, но теперь от себя, в обе рюмки: — Я прошу вас… За вашу Россию! За вашу Москву! Ушаков поклонился. Они чокнулись, выпили. Было поздно, а Токио за бамбуковой занавеской все еще скрежетал, надрывался и бешено грохотал. Мир вокруг был отнюдь не пустыней. И в этом грохочущем, чужеродном, запутанном мире Ушаков был под взглядом стоящего рядом с ним человека, как на острове, в круге света от лампы, в теплоте его глаз. Они оба молчали. Ушаков, подперев кулаком щеку, курил после вкусной еды, а бармен стоял перед ним в той же, полной достоинства позе. Оба сдержанно с затаенной симпатией улыбались. «Жизнь мудрее нас всех, вместе взятых, — размышлял Ушаков, наблюдая, как прыгают, догорая, синеватые язычки пламени в жаровне на углях. — Куда было бы проще разделить весь мир только лишь на друзей и на врагов…» Ушаков попросил бармена снова налить в обе рюмки. — Я хотел бы выпить за вас. За ваши умелые, добрые руки! — Домо аригато! Домо аригато! — сказал бармен тихо, чуть-чуть наклоняя свою круглую стриженную ежиком голову. — За ваше здоровье! С улицы, отодвинув бамбуковую занавеску, в зал вошла пожилая, опрятная женщина, с плоский желтым лицом, в темном, строгом костюме. Она села у стойки на вертящемся табурете, что-то тихо спросила у бармена по-японски. Тот кивнул, подал ей чашку чая, печенье. — Это наша хозяйка, владелица ресторана, — объяснил тот опять по-английски взглянувшему вопросительно Ушакову. — Это гость из Москвы, — объяснил он хозяйке. Та приветливо закивала седеющей, аккуратно причесанной головой. — Рада, рада… Надеюсь, вам было приятно у нас? — спросила она. — Да. Весьма. Ушаков похвалил мастерство ее бармена. — Да, я им дорожу, — ответила женщина просто. Она улыбнулась человеку, стоящему за прилавком у стойки, понимающе, доброжелательно. — Вы сами, наверно, заметили, — сказала хозяйка, — какой маленький у меня ресторанчик, а мои посетители всегда очень довольны… Теперь они уже сидели втроем в желтоватом, рассеянном круге света от лампы и вели разговор, словно знали друг друга давно, много лет: у кого из них сколько детей, и как они учатся, и как трудно становится жить по сравнению с прошлым годом, и не дай бог война, что же это такое, ведь только и жди, что где-нибудь швырнут бомбу похлеще хиросимской, и не жалко себя, а жалко детей… Ушаков видел женщину, уже очень немолодую, но достаточно сильную, крепкую, и видел мужчину, некрасивого, молчаливого, но с чудесной улыбкой, оживляющей иногда все лицо, и ему было грустно, что он должен сейчас будет встать и уйти, насовсем, навсегда, как уходят из жизни. Что загадывать наперед — он, наверно, сюда уже никогда не приедет. А если приедет и пройдет переулками от кипящей огнями и бешено льющейся Гинзы, то кто будет жив? И кто будет не разорен? И найдет ли он в темноте этот маленький ресторанчик с керамической вазой в окошке? Жизнь идет в таком темпе, что нет и не может остаться надежды на новую встречу, на старые чувства… Все меняется к лучшему, говорят, ведь на то и прогресс! Ушаков взглянул на часы и поднялся. — К сожалению, мне пора. — Да? Так быстро? Пожалуйста, посидите… — Да, мне тоже не хочется уходить. Но завтра я уезжаю, мне рано вставать. Спасибо за вечер… Они вышли проводить его на улицу: он им кланялся по-японски, а они пожимали ему руки по-русски, потом крепко обнялись поочередно. — До сви-дани-я, това-рис… — сказала хозяйка. И вдруг так стеснительно улыбнулась: — Я учу вас ясык… Пока говорю есё прохо… — Что вы, что вы, совсем хорошо! Он был удивлен и растроган всем этим. И опять они ему что-то желали хорошее, и махали руками, и кланялись в пояс. А он уходил, оборачиваясь, и с волнением разглядывал в темноте две далекие фигурки у дверей ресторана: «До сви-да-ния, то-ва-рис…» …Ушаков поднялся с шезлонга и встал возле борта, любуясь простором и влажным, рассеянным блеском притихшего после дождя океана: трудно было представить, что они его помнят, эти двое людей, а он-то их помнил: мужчину — как друга, и женщину — как сестру… Мимо него прошли те две дамы, в розовом и зеленом, обсуждавшие телятину под грибами; теперь они увлеченно беседовали о курортах, о пляжах и пляжных костюмах. — Я люблю загорать, — говорила одна, мечтательно улыбаясь. — Люблю смуглое тело, люблю южное солнце… — Но, — сказала другая, в гипюровой кофточке, — только не обнажайте молочные железы. Это очень опасно…23
Лодки с черными парусами в Токийском заливе. Черные хребты островов, словно спины гигантских чудовищ, то шерстистые от могучих лесов, то скалистые, вырезные, как петушиные гребни. Последний маяк на последней, едва различимой в тумане скале. Вот и кончились эти дни, этот яркий, насыщенный всеми красками, запахами и движением сон. Еще можно, если плотно прикрыть ладонью глаза, удержать в смутной памяти эти смуглые тонкие лица, сохранить теплоту протянутых дружеских рук. Но тысячи километров, разъединяя, пролягут между сердцами такими таежными дебрями, такой океанской неизведанной глубиной, такими ущельями и хребтами, что нет и не может быть настоящей уверенности в том, что сохранишь в себе навсегда эту сложную, бурную музыку настроений и чувств, эту радость сознания, что ты в мире не одинок, что ночная печаль одинаково душит каждого, проходящего ночью по городу, а за встречными взглядами, за мгновенной улыбкой незнакомого тебе человека одинаково многозначное чувство привета. Тучи, тучи с востока, тяжелые, низкие тучи. Ветер гонит крутую, зеленую, в мыльной пене волну. И уже не увидеть причала в задымленной Йокогаме, с размокшими под дождем обрывками серпантина, с нарядной толпой, не разглядеть стоящей у края на пристани женщины — человека, пережившего термоядерную войну. Где-то там, за тяжелыми, низкими тучами, город, вставший из пепла, с белым каменным богом на высокой горе и серой дугой сенотафа внизу, на скрещении дорожек, усыпанных галькой, положенной строго по счету. Я не камушек, под скрипящими, равнодушными каблуками, я живой человек. Со своими невзгодами и надеждами, со своей странной верой, что всегда существует прямой, честный путь. Он нередко проходит во мраке, над бездной, но поэтому надо найти в себе мужество — и идти и идти, не сбиваясь с дороги. Хиросима, любовь моя… Ты прошлое или будущее человечества?РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ Из дневника писателя
* * *
Восьмого мая я разбудила мужа — ветерана Великой Отечественной — в четыре часа утра. — Вставай, война кончилась! Он сперва ничего не понял, рассердился за то, что подняла ни свет ни заря, а потом вдруг все вспомнил, вскочил, и мы сели на кухне, и он от волнения закурил. Тридцать пять лет Победы! И мы вспоминали каждый день и каждый час, как мы встречали Победу. Были на одном фронте, чуть ли не в десяти километрах друг от друга, но в разных частях, и не были знакомы. И даже не предполагали, что потом встретимся и почти тридцать лет проживем вместе — без бурь и ураганов, в тихом, мирном быту, в полном счастье и в полном согласии… Вспоминаем — и слезы на глазах.* * *
Как волшебно точен наш русский язык! Как хороши русские поговорки, пословицы, сколько в них человеческого опыта, знания жизни, души! Как бы я жила без них?! Ну, вот эта так прямо про меня: «С умным браниться — ума набраться, с дураком мириться — и свой растерять». А эта разве не про меня: «Ни к селу, ни к городу»? Для села я слишком городская, для города — слишком деревенская. И еще: «Чужой дурак — веселье. Свой дурак — похмелье», — говорят в народе. Очень верное наблюдение. А недавно услышала не менее удачное и точное: «Чужой дурак лучше своего».* * *
Самый большой для меня, самый строгий литературный критик нашелся в столовой у раздаточного окна. Прочитав мою книжку, она сказала: — Козьма Прутков! Это о «Доннике», вообще об этой форме прозы. Так я стала Козьмой Прутковым. Я даже подпрыгнула от радости. Вот бы мне и моим произведениям судьбу той, единственной книги Козьмы, — да о чем еще тогда и мечтать?! О чем жалиться и печалиться?!* * *
С волнением смотрела кинофильм К. Симонова «Мы не увидимся с тобой». Переживала в эти, теперешние дни все заново, и свое и чужое. Удивляюсь только лишь одному: что за поветрие было на киностудиях лет десять — пятнадцать тому назад делать положительных героев с незапоминающейся или же даже отталкивающей внешностью? «Дегероизация» со всеми вытекающими из нее последствиями. Не жалеющая никого. Даже самых прославленных, даже самых заслуженных. Хорошо хоть женщину пожалели. Женщина красивая, какая и в жизни была. И вспомнились его стихи:Мне хочется назвать тебя женой
За то, что так другие не назвали…
* * *
Какая радость была просыпаться на заре и видеть на стекле венецианского окна широкий, похожий на распластанную лягушку лист винограда. Уже от одного этого листа приходила в хорошее настроение. А кизячного д впереди еще целое утро и долгие радости — радость каникул. И роса на траве, и запах ыма, и вкус свежего черного хлеба с парным молоком, сладкий солнечный день ничегонеделанья, когда в радость даже сбегать к колодцу за водой, хотя идти туда чуть ли не полкилометра. Или купаться в мутной, бурной реке, уносящей тебя, как соломинку, вдаль, вниз, до самого острова, до которого и на лодке-то не сразу доплывешь. А когда возвращаешься, мать только ахает на берегу: — Пока ты сплавала туда и обратно, я здесь вся истлела…* * *
Мать знала великое множество смешных, а то и не очень приличных историй о монашках и нищенках, о разорившихся богатеях, о пьяницах и ворах, о старухах, торгующих на базаре, и речь ее цвела и пестрела шутками, присловьями, необычными поговорками, какими-то понятными только ей намеками на события поразительные, необычайные. Иной раз скажет фразу — и сама задрожит от смеха, и при этом вся сморщится так, что маленькие глаза превратятся и вовсе в узкие щелки, а мы и подавно уж держимся за животики, ибо знаем: сейчас она нам расскажет такое, что только держись! Не будь ее приговорок да прибауток, суеверий да извечных «примет», да рассказов о пережитом, чем бы жили, чем наши души «питались» бы в голой степи?* * *
Самое драгоценное для меня — читательские письма. Большей радости я не знаю. И каких только чудес не приносила и не приносит мне почта! Письмо из Рио-де-Жанейро, от товарища по школе, нашего посольского работника. Письмо с Асуанской плотины от дважды Героя Социалистического Труда… От летчика из полка «Нормандия — Неман». Мы с ними во время Великой Отечественной стояли рядом под Ельней, в одной деревушке. Вместе ходили смотреть кино в деревенскую конюшню… От летчика из Варшавы из Войска Польского. А я с Войском Польским разделила его боевое крещение под Ленино… И от… И так далее. Почта мне принесла и двух Ольг Кожуховых, причем одна из них Константиновна и живет в моем родном Воронеже, на моей родной улице, только номера домов не сходятся. Я очень растрогалась, а мой муж хохотал до слез. Это значит, что он может «обновить» жену без лишних хлопот, взять себе помоложе, — ведь в паспорте у него записана женщина именно с этим именем. Но я усомнилась, охладила его восторг: «А вдруг это просто девочка, которая учится во втором-третьем классе. О возрасте моей тезки ведь не сказано ничего…» На что мой любимый ответил: «А я подожду, пока подрастет…» Не было веселее и прекраснее этого вечера. Мы смеялись до полного изнеможения, пока не уснули. Вторая тезка живет здесь, в Москве. Но с нею дело гораздо сложнее. Это все бесконечно трогательно и интересно, а может быть, и драматично. Я пока не могу об этом писать. Но почтовые радости приходят и не только от тезок. Пишут мне много особенно фронтовики, мужчины, и все бесконечно волнует и трогает в их приветах. А есть и такие чудесные письма:«Здравствуйте, Оля!»Автор письма, видимо, не подозревал, не догадывался, что если Оля прошла всю войну «от звонка до звонка», то ей уже и лет немало. Так что надо, — «Оля» — да еще по батюшке. Вот так-то!
«Обращается к Вам рецидивист Митя».Ну, это вообще из области фантастики! Я уже получала письма от рецидивистов, по крайней мере, один из них был осужден за три побега с тремя убийствами. Его письмо вообще надо хранить, как величайшую для писателя ценность. Жаль, что я не Федор Михайлович Достоевский! Но вот продолжаю.
«Здравствуйте, Оля! Обращается к Вам рецидивист Митя».Дальше все идет как на какой-нибудь респектабельной пресс-конференции, где у писателя берут интервью.
«В связи с тем, что вся моя сознательная взрослая жизнь проходит вдали от общества, за колючей проволокой, и мне неведомо тепло женщины, ни физическое, ни душевное, у меня к Вам как к писателю, как к восприимчивому и принимающему все близко к сердцу доброму человеку, — судя по опубликованным Вашим субъективным мыслям, — наконец, как к женщине, имеется ряд вопросов, на которые, сделайте исключение, ответьте, пожалуйста. Первое: что такое любовь? Я не шучу. И меня не удовлетворит ответ: «Нельзя ли спросить о чем-нибудь попроще» Или: «Сие есть великая тайна». Человек, который пишет, должен иметь свое мнение на этот счет. Второе: что такое счастье? Согласен: вести разговоры о подобных нематериальных понятиях очень трудно. И все-таки? Третье: возможна ли в жизни такая ситуация, когда человек виновен в совершении преступления, но наказанию не подлежит? Четвертое: говорят, в обществе женщин мужчины становятся мягче, человечнее, что ли. Правильно ли это? И, наконец, последнее: по-моему, Вам лет 45—50 (наконец-то, Ольга Константиновна!) и Вы мать и у Вас есть дети. Отказались ли бы Вы от непутевого своего сына или от непутевой своей дочери? Конечно, понятие «непутевый» расплывчато и конкретно на него ответить нельзя. Тогда сформулируем вопрос так. Самое тяжелое преступление считается, и не без основания, измена Родине. В данном случае у меня вопроса к матери не будет. Если же человек совершит какое-нибудь другое преступление, за исключением измены Родине, может ли мать отказаться от этого человека?»Цитируя эти строки из письма, я, конечно, опускаю некоторые интимные вопросы, опускаю конец письма, в котором автор участливо беспокоится, можно ли писателю класть все на свое сердце, — ведь оно одно, но это уже все сугубо личное и отношения к делу не имеет. Однако многие вопросы, заданные автором письма, как раз и заставляют «класть все на свое сердце». Надо думать, что Митя мог бы приложить свои силы и способности, как человек несомненно талантливый, интересный и серьезный, не к какой-нибудь рецидивистской ерунде, а на пользу обществу, сложись в его семье другие условия, не попади он в какой-либо момент в обстоятельства, в которых решение принимаешь не ты сам, а тот, кто сильнее тебя и бесчеловечнее. Но об этом можно только гадать, ибо мы не знаем ничего: что же совершил «рецидивист Митя». А я получала письма и от людей, у которых, например, срок наказания вырастал до 25 лет, и даже до 75 лет — за тягчайшие преступления. Тогда этот абстрактный вопрос — о матери — не возникал, там были другие вопросы, не менее важные и серьезные, на которые тоже затрудняешься ответить. Мне кажется, общество, в целом, не должно отворачиваться от решения этих проблем, ибо писателю в одиночку такие вопросы не разрешить. Это нужно делать коллективно, сообща. Где искать «отвечающих»? Да и мы, писатели, отвечаем. Мы слишком легко решаем иные проблемы, особенно в так называемых «детективах», в телевизионных сериалах, в киносюжетах о беспризорниках, о детской преступности. Чуть-чуть бы построже, поответственней, вспоминая, что и убийца не так-то давно жаждал ласки от матери, внимания от учителя, от комсомола, ну, даже и от домоуправа, от соседей, от просто свидетелей детского горя… Где ты, Митя? Неужели не выслужил «службой сердца», раскаянием и трудом прощенья себе? Неужели, талантливый и молодой, ты все еще ТАМ и читаешь кого-то другого, пришедшего в литературу уже после меня? Как поймешь ты сегодня нашу новую жизнь?..
* * *
«Размышления после полуночи». Так я хотела назвать свою новую книгу, но потом передумала. Это значит размышления о прошедшем дне. Но для чего они нам в первые минуты нового, наступающего дня? Это все равно что пресловутые «доводы на лестнице»… Но вот прошло время, и я с течением лет научилась ценить и доводы на лестнице, и доводы в кабине лифта, уходящего вниз. Мне кажется, что, в конечном итоге, они не так уж и пессимистичны и не так уж и непригодны для грядущих забот, эти горестные итоги. (Хотя бы для самой себя. Хотя бы для того, чтобы не повторять своих прошедших ошибок — а делать новые!) Как ни печально, но всю жизнь мы живем в цепи не до конца осознанных нами фактов, вечно нас мучают неутоленные мечтания о совершенстве, пускай и на лестнице. Но ведь кто-то же приходит на наше место, вооруженный нашими ошибками, нашим горчайшим опытом, и делает шаг, — пускай маленький сперва, просто так, почти детский шажок, но все же вперед, шаг дальше, чем сделали мы, еще один шаг ближе к цели — и вот это и есть единственное оправдание нашей жизни и наших, как будто бесплодных, усилий.* * *
Есть что-то значительное, трагичное в обнаженных черных сучьях деревьев. Словно все опавшие листья за многие годы, и все клейкие, коричневатые почки, и все птицы, сидевшие на этих ветвях и певшие песни, и все ручьи, звеневшие у подножья весной, — все сложилось и отпечаталось в сумрачном небе какой-то извилистой, выпуклой линией. Так в складках у рта на лице человека иногда отпечатываются все надежды, и все страдания, и все радости, и все обиды, и все, что в жизни скопилось неразделенным, неотданным другим людям, а замкнулось в себе, навсегда, до конца. Лаконизм этих линий тем мучительней, тем острей, чем я дольше живу. Может быть, что и я тоже невольно что-то вкладываю от собственного своего горя, добавляю к уже пережитому деревом, к этим черточкам и морщинкам на лице незнакомого мне человека? Я об этом не знаю, я только догадываюсь…* * *
В молодости у меня часто случались такие дни, когда все валилось из рук, я слонялась по комнатам, не зная, за что взяться в первую очередь, а за что во вторую. Потом дисциплина, привитая в армии, подчинила себе не только мою природную лень, но и эту хандру. И вдруг, спустя долгие годы, она вылезла вновь. Вот снова тоскую, хандрю. А о чем? Не знаю и сама. Разве мертвых воскресишь? Разве угадаешь, кто будет меня, одинокую, хоронить? Разве вернешь вспять пережитое время, чтобы исправить ошибки и сказанные мною злые слова? Разве наверстаешь не сделанные вовремя дела, разве напишешь задуманные, но не вылившиеся на бумагу книги? Уже нет ни таких сил, ни столько времени впереди, чтобы исправить неисправимое… Да, увы, к сожалению. Но если бы повторить мою жизнь, разве я на этот раз в самом деле ушла бы за письменный стол, если муж, молодой и веселый, здоровый, сидит за стеной в одиночестве? Нет, конечно бы, не ушла. А сидела бы с ним рядом, и мы разговаривали бы, как всегда, с юморком обо всем, что волнует… Какие дела, если он здесь, он со мной! Но вот нет его. А работа не движется, и дела мои в том же забвении, как и при нем.* * *
Истинная причина всякой тоски — во все времена — это хотя бы минутная, но собственная никчемность. Стоит хоть ненадолго прервать работу, почувствовать себя усталой, неспособной преодолевать препятствия, как приходит тоска. В юности я особенно часто тосковала, может быть, потому, что еще не была приучена к повседневному обязательному труду. Писать стихи для меня было не трудом, а забавой. Я посмеивалась над В. Брюсовым, написавшим такие стихи:Вперед, мечта, мой верный вол,
Неволей, — если не охотой…
* * *
Я долго старалась понять, отчего юмор и сатира для меня не являются жанрами настоящей, серьезной литературы, а чем-то вроде прилагательного к ней. (Хотя я и смеюсь, когда написано действительно смешно.) Дело, видимо, в том, что смех — не лечит. Лечит душу и возвышает ее теплота, надежность, искренность чувств. А юмор царапает, уязвляет и без того больные места. Он может служить обществу диагностом, но не лечащим врачом и не сиделкой, выхаживающей человечество теплотой, сердечностью и милосердием. У юмора нет милосердия.* * *
Когда писатель жаждет признания, это понятно. Но когда он претендует на звания и награды, это читателей как-то немного коробит. Хочется и простить эту слабость в уважаемом человеке, и улыбнуться про себя, ибо что может быть выше и лучше книги? Ведь это же сам прозаик — или поэт — создал для себя единственный в мире, незабываемый, не похожий на все остальные отличительный знак, замечательный орден, этим орденом он награжден, как когда-то говорили, от бога, так чего еще надо? Но даже великие умы и великие характеры клонились, не могли устоять перед соблазном обычной, житейской награды. И даже Вольтер вымаливал у Фридриха Великого ордена и подарки, на что Пушкин заметил однажды спокойно:«Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы».
* * *
Мне думается, Толстой и физически и духовно надорвался в своей титанической, «львиной» писательской работе. Поэтому, к концу жизни он и стал отрицать самого себя как художника. И это естественно. Как больному лежать, а не двигаться, и тем более не бегать. Даже трусцой. Как набегавшемуся — отдышаться. Как голодному, растратившему калории, хоть немного да подкрепиться. Кто знает, прошло бы время, и, если бы не дергали нервы гения его семья, его окружение, ученики, последователи и прихлебатели, возможно, он создал бы еще нечто такое, от чего все мы замерли бы от восхищения.* * *
Наблюдаю в окружающих меня писателях, особенно в талантливых — жестокость таланта. Это очень существенное, но такое приметное качество: во имя писательства, во имя литературы они зачастую «переступают» через близкого человека, через семью, через любовь, а главное — через детей, им некогда, некогда заниматься всем этим. И несут свои мысли, свои образы, свои химерические надежды в бессмертие, в будущее, «через тернии к звездам». Иногда их надежды, между прочим, осуществляются, даже с лихвой. Маленький талант становится большим, серьезным. Но почему именно такой ценой? Ценой собственного одиночества, ценой одиночества жены, беспризорности детей, отчуждением от друзей — и даже от критиков, с которыми необходимо общаться.* * *
Мне кажется, единственно умное, что религия изобрела, это право на исповедь. Потому что живой человек беспрерывно, на протяжении целой жизни обязательно должен с кем-то советоваться, соотноситься, проверять себя, контролировать свои собственные побуждения, свои мысли, поступки. Он желает, не часто, а в минуту отчаяния или утраты, или понятой вдруг тяжелой вины, перед кем-то покаяться, от кого-то услышать слова утешения и прощения, снять с души своей гнет — и при этом в глубокой, священной для окружающих тайне… Люди слабого духа, может быть, не нуждаются в этом, потому что выбалтывают себя повседневно, всю свою подноготную. Но для сильного, цельного человека, не умеющего и не желающего изливаться перед каждым, наверное, нет и не будет достойнее собеседника кроме «господа бога». С богом спорили, не покорялись ему, да что говорить, ему угрожали, в этом тоже был велик человек. Не соседу, не сослуживцу, а богу — проклятья!.. Или Демон… Ну, хотя бы тот самый, летающий над Кавказом. Поверженный и скорбящий в своей сатанинской гордыне… Вот я прихожу к нему. Добиваюсь приема. Он сидит в низком кресле, сложив траченные в безверии огромные крылья. — Ну-с… На что жалуетесь? И что я скажу?! В чем откроюсь?* * *
Если бы кто знал, сколько раз я приходила в отчаяние от того, что проза моя не ладится, что все получается «типичное не то» и не так, как хотелось бы. Но не с кем мне было своим отчаянием поделиться. С кем поделишься? Ведь никто не поймет. Удачливый будет смотреть на тебя свысока. У неудачливого нечему научиться. Я читаю прекрасные книги и думаю: как их писали? Неужели, как я, в муках, в горе, в сомнении, выбрасывая горы исписанных черновиков, создавая по сорок, по пятьдесят вариантов, из которых в каждом что-то есть и хорошее, но и такое, что меня не удовлетворяет. Да, я знаю людей, которым и пишется очень легко, и живется, и любится… Ведь есть же счастливчики! Но чем кончат они, когда кончится эта легкость? У меня-то в запасе терпение, осознание этой тяжести труда, есть известная закаленность от встреч с неудачей, а у баловня «золотого пера»? Неужели до старости ему будет легко?* * *
В сумерках дом, стоящий напротив, на фоне светлого летнего неба кажется великаном-роботом с квадратными плечами, квадратными же глазами, чудовищно-многоглазый и даже как будто бы ясновидящий. Вот он перемигивается этими ярко горящими глазами с кем-то невидимым мне, что-то в нем щелкает, движется. Так и кажется, что он вот в эту минуту заговорит со мной страшным, скрипучим, механическим голосом…* * *
Вспоминаю свою прожитую жизнь и людей, которых встречала, и вдруг вывела неожиданную закономерность. Все, кто когда-то причинял мне зло, впоследствии был наказан судьбой. И ведь я не желала этим людям ответного зла, так как не видела в их поступках заведомого умысла, а всегда относила совершенное ими к нечаянности, к горячности и лично к себе, к своим недостаткам в характере. Даже в романе «Ранний снег», написанном бог знает когда, моя героиня Шура Углянцева, ведет себя точно так же. Узнав о тяжелой болезни Женьки, она думает: «Такого я ей никогда не желала!» А ведь первое мое большое произведение почти не продумывалось сознательно, оно выливалось, как песня.* * *
Все мои близкие не любят трех вещей: когда я болею, когда я на собрании и когда я работаю. Они любят, когда я им услужаю.* * *
В прошлом веке писатель боялся, что его обвинят в «реализме», то есть в том, что он описывает действительно живших людей, их радости и их беды. Что у той или иной героини, у того или иного героя есть свои прототипы. В те давние времена почти каждый писавший клялся, что он никого лично не имел в виду. Вот, например, Лессаж. Он же с первых строк заявляет, что в его книге нет «прототипов».«…существуют такие люди, — пишет он, — которые не могут прочитать книгу, не отождествляя кого-либо с изображенными там порочными и смехотворными характерами».И так далее. А у нас же писатель даже кичится тем, что ничего «не выдумывает», «не изобретает», что он «списывает из жизни». Кстати, по-украински писатель так и называется: списыватель. И чем лучше писатель «спишет», тем критика добрей и внимательней к нему, благосклонней. Теперь что же, выходит, и призрак отца Гамлета Шекспиром «списан» из жизни? Так, что ли?
* * *
Над лесом, над рекой, над домами поселка прошла буря. Порывистый, шквалистый ветер ломал и валил большие деревья, обрывал провода, крутил в воздухе пыль, песок, обрывки бумажек, пожелтевшие иглы хвои и пожухлые листья. Там, где прошла, прокатилась, как вал, беспощадная эта стихия, в лесу, на земле остались лежать переломленные пополам или вывороченные с корнями огромные сосны и ели. На одном небольшом отрезке дороги, шагов в двести, таких сосен и елей мы насчитали не менее тридцати. Мы подходим к поверженной бурей великанше сосне, преградившей дорогу, и маленький Роман говорит: — А я знаю, кто свалил это дерево! — Кто же, Рома? — Да вот… это… она виновата! — И Ромка снимает с обломанной хвойной лапы зеленую волосатую гусеницу, отвратительно извивающуюся у него в руках. Мы смеемся. Потом умолкаем и оглядываемся на поваленное необъятное дерево. В самом деле, разлапистая красавица сосна вся изъедена изнутри, ее древесина трухлява и пориста. Ну, может, не гусеница, а какой-нибудь жук-короед, древоточец, действительно и свалил это дерево, источив его сверху донизу, всласть поработав. Гроза — только, повод. А Ромка победно шагает вперед. Он не связывает еще воедино людей, и деревья, и горькие мысли…* * *
Ворона — интеллигентка среди городских птиц. Не знаю, за что невзлюбили ее баснописцы, ведь это умнейшее, а главное, полное юмора летающее существо. Наблюдаю в окно веселую сцену. На старых тополях сидят вороны. По направлению к деревьям идет рыжая, пятнистая кошка. Заметив ворон, она припадает к земле и ползет, наверное, не без того, чтобы напасть. Но вороны, по-моему, потешаются над усилиями рыже-пестрой. Вот одна из птиц громко каркает, чтобы привлечь внимание кошки, и слетает на землю, садится немного подальше от деревьев. Кошка быстро кидается к ней. Подпустив ее чуть ближе, ворона взлетает и садится на дерево. Теперь слетает следующая ворона, она отвлекает кошку в другую сторону. И тоже с торжествующим карканьем улетает. Кошка прыгает, мечется, а вороны как будто хохочут, вид у них удивительно насмешливый, но беззлобный. Наигравшись вволю, потешив других ворон, неподвижно сидевших все это время на самой верхушке деревьев, — может быть, это их маститые старцы, а может быть, дамы, которым и показывался спектакль, но соскучившись от игры с глупой кошкой, — все снимаются стаей и улетают. Долго кружатся в небе. В другой раз я видела, с каким презреньем они осмеяли голубей, копавшихся на помойке. Пролетая над ними, вороны так каркнули разом, так насмешливо оглянулись — одним движением — на жирных сизарей, что не оставалось никакого сомнения: птицы выразили совершенно определенные свои эмоции, и смысл этих эмоций — осуждение, брезгливая неприязнь. А как красиво и сильно они летают, играя, над спортивной площадкой. Как мощны и одновременно грациозны взмахи их крыльев. Оттого, наверное, люди и верили в вороний грай, что понимали, какая это умная, всевидящая и всезнающая птица.* * *
В чем вред всякой регламентации? В том, что в человеке нарушается заложенное в нем природой стремление к многообразию. Регламентация же есть нечто противоположное ему. Она есть стремление к единообразию. Но именно она, однако, облегчает работу на заводе или в армии. Например, на военной службе не нужно убеждать человека встать и идти стрелять, для этого достаточно подать команду. На заводе достаточно выработать стереотип поведения, стереотип мастерства в обработке детали — и ты лучший рабочий. Хотя организм несомненно угнетается повторяемостью одних и тех же движений, одних и тех же усилий. В чем же прелесть художничества, писательства и даже работы артиста, —хотя в этой, последней, значительно чаще присутствует штамп. Да, конечно же, в многообразии функций, мыслей, чувств, в том, что ни одна фраза не похожа на другую, ни одна мысль не должна дублировать только что высказанную. Работа крестьянина, охотника, рыбака тоже в значительной степени многообразна. Поэтому стремление к городу, к станку, к распорядку всегда двойственно, всегда в чем-то ущербно, как подмена действительно радостного, естественного бытия чем-то искусственным, ограничивающим развитие, рост, совершенствование человека, его умение применяться ко всяким условиям, ко всякому труду.* * *
Как я не люблю эти мрачные и пустые, с ледяным, арктическим ветром дни безвременья — между осенью и зимой! Земля голая, даже палые листья сдуты ветром, все травинки прибиты дождем и втоптаны в грязь, приморожены к ней, ставшей каменной, жесткой, повторившей в своем ледяном забытьи каждый след, человечий и птичий, и каждое колесо; повторившей не мягко, не ласково, как их повторяет горячая летняя пыль, а скованно, отчужденно, совсем как бездушный бетон. Лес уже поредел совершенно и стоит весь сквозной, неприютный, суровый, и только березы сияют стволами, похожими на стоячие прожектора, на столбы слепящего света, отливающего то ли молочной, то ли жемчужной живой белизной. И так празднично, самозабвенно, так любовно для всех проходящих и едущих это трепетное сияние, что не хочется верить зиме: нет, она еще за горами-долами…* * *
Что означают слова «берег», «дерево», «солома», «расширять», «мочало»? Сегодня в обиходе мы уже забываем смысловые истоки употребляемых слов и речений; и дерево, может быть, вовсе не то, что дерут, обдирают на лыко, с чего снимали корье, чтобы укрыться от дождя, первобытные люди, но, может, как раз и есть то самое; однако знавшие первородную истину вымерли, а мы уже и не знаем ничего. Что солома означает «соломенное», то, что сломили, это можно еще догадаться; что «мочало» происходит от слова «мочить», «мокнуть», тоже всем ясно, а вот если «берег» означает береженье воды, то что же тогда бережет самый берег от разрушенья, от оползней, от размыва, от разрушительных паводков? Берег — самое неустойчивое в природе, так оно было прежде, так оно и теперь, впрочем — теперь особенно, так как по рекам ходят «ракеты», суда на подводных крыльях, и большая волна, поднимаемая ими на большой скорости, губительна для берегов.* * *
Я не чувствую никакой ущербности в себе по сравнению с какими-то, мне неведомыми внеземными цивилизациями, каких бы успехов они ни достигли. Во-первых, может быть, им никто не мешал достигнуть этих успехов, во-вторых, я чувствую в себе силы и способность постигнуть любые науки при условии, если бы они мне были преподаны с детства, когда так чиста и так восприимчива память, а также будь все это, хоть самое сложное и самое трудное, сообщено мне достаточно внятно и достаточно логично. В-третьих, если эта цивилизация не окажется враждебной моим умершим дедам и прадедам и моим еще не рожденным внукам и правнукам, моей земле, ее воздуху, ее недрам. Тогда пожалуйста… Тогда будем знакомы! Гостите себе на здоровье.* * *
Я часто встречаю на улице или в подъезде своего дома холодных, нарядно одетых, чистеньких, ненакрашенных девушек, от которых всегда все-таки остается впечатление, что они чем-то вымазаны жирным, и парней, которые их сопровождают, тоже ярко одетых, самоуверенных, даже наглых, и мне кажется, что это какая-то особая порода людей, с которыми нельзя заговорить ни по-русски, ни по-английски, ни по-французски: все равно не поймут. А поймут, — не ответят, только лишь презрительно переглянутся, пожимая плечами. Так уже со мной бывало не однажды, и я надолго запоминала этот урок, пока не привыкла к одной тайной мысли, что это, видимо, люди с другой планеты. А когда к этой мысли привыкла, мне уже не захотелось их понимать или быть понятой ими. Удивляет одно: для чего эти люди, такие холодные, все же женятся — без любви! — для чего обзаводятся детьми, а потом их прогуливают в определенные часы, своих пухлых надменных мальчиков и еще более пухлых девочек, а если нет ни тех, ни других, то породистых, тоже пухлых и тоже надменных собачек. Разве им что-то дорого на земле?! Если именно ради этих людей мы сражались в болотах Смоленщины, мерзли под Витебском или под Люблином, отвоевывали у врага пядь за пядью родную землю, то, наверное, напрасно старались: благодарности мы никогда не получим. А если воевали не ради них, а ради собственного своего счастья, ради счастья и свободы Родины, то нельзя же всю жизнь в своем счастье прожить в одиночестве, да их и не бывает, ни свободы, ни счастья без близких людей, без народа, без новой, идущей на смену почтительной юности, без приветливых слов. Счастье жить без всего этого — иллюзорное счастье.* * *
Шаманство на эстраде. Когда оно кончится? Певцы и певицы, особенно, конечно, последние, без конца трясут плечами, вертят бедрами, все время отбрасывают распущенные длинные волосы, то со лба, то на лоб. Такое впечатление, что это не человек, а обезьяна, и вот прыгает, крутится, вертится. Ужасно! Неэстетично, расхристанно и расхлябанно. Без уважения к публике — и к себе. А все — мода…* * *
С детских лет ненавижу провинциальные наши нравы, прежде всего — нашу грубую брань, от которой у меня еще в юности ныли нервы, а теперь, к старости, возникает и все больше растет отчуждение, чувство замкнутости, одиночества. Ненавижу провинциальные сплетни и мелочные расчеты, провинциальную грязь и небрежность в одежде, и завистливость: «Это вы там, в Москве», и всегдашнее прибеднение: «Мы уж как-нибудь, мы попроще…»* * *
По спортивной площадке, от школы, прошли пятеро парней, в джинсах, в черных нейлоновых куртках. Издали, с седьмого этажа, казалось, что по песку площадки идут живые олицетворенные двойки — слегка наклоненные вперед головы, согбенные спины, очень тонкие голени и — большие ступни. Ну просто живые черные двойки, скакнувшие из журнала классного руководителя и теперь деловито идущие куда-то на выход с площадки.* * *
Сегодня дул северный ветер, деревья лохматились, пригибаясь, но сквозь мечущиеся их верхушки синело прекрасное, ясное небо, и все было ясным, сияющим, радостным, даже этот пронзительный холод. А к вечеру набрели непроглядные тучи, на улице потеплело, но, все стало тоскливым, томительным, серым, и сердце, наверное, превратилось в ледышку от такой неуютности. Я люблю одиночество, хотя очень тоскую по людям. Это странное, противоречивое чувство, потому что, когда появляются люди, они мне мешают работать, и тогда я ругаю и их, и себя.* * *
На улице метель. Дует со страшной силой то в одну сторону, то в другую, белым облаком раздувается снег — и летит, затушевывая собой деревья, дома, людей, троллейбусы, перспективу улиц. Снег, как мысли. Есть мысли, которые лежат тяжелым слоем, и двинутся только тогда, когда их обогреет солнце человеческих отношений. А есть легкие, бурные, злые, вспыльчивые, вот как эта метель. И несет и несет их по ветру куда-то, где им не будет ни зла, ни добра. Есть мысли белые, чистые, а есть уже в самом полете как бы перемешанные с городским отравленным воздухом, — извержениями «Дорхимзавода», «Каучука», теплоэлектроцентралей. Но, наверное, эти мысли не виновны в своей черноте, как и снег тоже…* * *
Человек, получивший социальное равенство (а может, вернее сказать, правовое) начинает полагать, что тем самым он обеспечил себе — и детям своим — уже равенство и моральное, и нравственное, духовное. А поэтому останавливается на пути к идеалу. Ибо нравственное, духовное равенство, даже понятое столь ложно, есть предел. Дальше двигаться некуда. Незачем…* * *
Некоторые люди считают себя интеллигентными только потому, что они много читали, много знают, объездили в качестве туристов чуть ли не весь мир. Да, они созерцали прекрасные вещи — картинные галереи и церкви Флоренции, Рима, Парижа, видели закат над Фудзиямой, ели деликатесные блюда из лепестков роз. Но ведь это же все — для себя, для себя. И чем, в конечном итоге, все это возвышенней, интеллигентнее созерцания буддийским монахом собственного пупа, если добытые таким путем познания, пережитые чувства не отданы никому, если сознание собственного превосходства над другими, темными, невежественными, не улучшило душу, а сделало ее еще более черствой? Зачем такому человеку Лувр, цветущий миндаль Средней Азии, сияние вечных снегов над Эверестом, золотые пески Копакабаны?! Никому не улыбнуться, а только смеривать сверху донизу презрительным взглядом, не поддержать старика, не поиграть с чужим ребенком, не подать денег нищему, не ответить доброжелательно на любой, даже самый наивный вопрос, не накормить и не умыть больного, — какая бесплодная, глупая жизнь! Как бесполезно она прожита. Да ведь это же потерянное время — холить себя и свой мозг, насыщая его без конца разнообразными впечатлениями, и не думать о ближнем! Не страдать за него, не пытаться помочь.* * *
Неподалеку от Мичуринска есть станция с названием «Сестренка», вся в зарослях цветущего лоха. На Смоленщине, во время войны, я проходила через деревни с такими названиями, что только диву давалась. Станция Конец. Деревни: Бабни, Бороденки. Витязи. Соловьи. Белый мох. Новые Чемоданы. Илья Пустой. Пересуды. Горезлы. Вордевье. Коты. Глупики. Волоедово. Княжье село. Бедня. Чертовщина. Свирель. Немыкари. Кисели. Кочерга. Вошкино. Деревня Танцы. Наверное, вся Смоленщина словно старая сказка. За каждой изгородью, в каждой роще и в каждом овраге здесь еще живут свои собственные легенды, бывальщины, «побрехеньки». За каждой околицей, на дорогах, на росстанях, на истоптанных свертках с травянистых проселков к объезженным большакам можно ходить и подбирать чьи-то шутки, загадки, что-то сладкое, пережитое, но и горькое или горько-соленое, было бы только желание глядеть не внутрь своей жизни, а вовне, в жизнь народа.* * *
Не понимаю людей, которые всерьез могут вести споры о том, что лучше или же что важней, город или деревня? Мое отношение к городу такое же, как к танкам и самолетам во время последней войны — уважительное, восхищенное, любовное, наконец. Ведь как мы любили, например, наши «Илы» и «тридцатьчетверки», когда они вступали в бой! Ход сражения сразу же менялся в нашу пользу. Но при всем этом поэт Александр Твардовский справедливо сказал: «Поклонитесь, девушки, пехоте!» Так вот, деревня — это наша пехота, без которой ни танк, ни самолет не может победить врага. Никто на войне не терпел таких тягот, как пехотинец. Никто не видел так часто и так близко в глаза смерть. Именно на пехоте лежали самые трудные обязанности. Так что, если хочешь быть объективным, поклонись вековечной пехоте — деревне, кормилице. Нужно будет, она и деревянной сохой вспашет землю и посеет хлеб, а вот город без хлеба не сделает ничего: ни танка, ни самолета, ни ножа, чтобы резать хлеб.* * *
Однажды в гостях я увидела обычный старинный семейный альбом, начала его рассматривать, но многого не поняла. Тогда хозяин альбома начал мне объяснять: — Тут целые серии. Вот первая серия: ноги моей жены. Откадрированный кусочек пожелтевшей фотографии запечатлел две детские ножки в лаптях и в онучах. Ниже подпись: «Лаптем щи хлебаем». Затем эти же ножки были чуть пополнее, в брезентовых белых тапочках с темной каемкой и в белых носочках. Вкось написано: «Демонстрируем мощи». Еще ниже, другим почерком: «Не подумайте плохого! Это я — школьница, на демонстрации». Но муж перелистнул страницу. Дальше были ножки в замшевых лодочках и чулках со стрелкой, юбка длинная, до лодыжек. И подпись: «Не выходим из моды». Затем эти же ножки в белых туфельках. Подпись: «Это наша медвежья свадьба». Затем было изображение грубых кирзовых сапог и рядом приклад винтовки. «Всю-то я вселенную проехал…» Ниже этой фотографии — молодое девичье лицо и погоны старшего лейтенанта. Видимо, все это входило в один общий замысел композиции. Заканчивалась серия стройными женскими ножками в парчовых домашних туфлях, одна нога на диване, другая спущена. Подпись: «Скорей кормить мужа!» Меня поразили и другие композиции: «Брови и глаза моей жены», «Волосы моей жены». «Мои соперники» — здесь было несколько сюжетов. Корыто с бельем. Кухонная плита. Женщина на тахте с книгой в руках. Она же — за роялем. Она же у телефона. Она же сидит, смотрит телевизор. Боже, но я же знаю, что она умерла…* * *
Одинокая женщина, старая дева, в «родительскую субботу» ходит по сельскому кладбищу, на котором и могилы-то нет родной, и на те позабытые, что травой заросли, крошит яйца и хлеб, поминает всех тех, кого не было в ее жизни и нет, и не будет уже никогда. Ни друзей. Ни родных. Ни знакомых…* * *
Обычно еще днем эта женщина звонила мужу на работу и спрашивала, чего приготовить на ужин. А он отвечал: — Что полегче. — Это как понимать? — Ну, как? Понимай в прямом смысле слова. Легкая пища — это та, которую легко достать, тяжелая — та, которую достать трудно. Так вот, готовь то, что полегче. Жена обижалась и делала наоборот. Она ездила через всю Москву в какие-то магазины, к каким-то знакомым, доставала «заморскую» икру, севрюгу горячего копчения, языки, белые маринованные грибы, жирнейшего палтуса, шпиговала утку, отваривала с укропом раковые шейки, — вообще уже чудо из чудес — и все к приходу мужа складывала в холодильник. Но так там оно и оставалось. И лежало подолгу-подолгу. А муж ел степняцкий пшенный кулеш, отварную картошку, пил холодное молоко. Вот и все, что его привлекало. Еще чай с черным хлебом. Еще щи из кислой капусты. Ну, как праздник — лимонный квасок. Вот вам и «полегче». Степной кулеш… Вы сумеете его приготовить?* * *
Никогда не говорите бездарному литератору, что он бездарен. Говорите, что на нем плохо сшитое платье, что он сегодня «не в лице», что у него очень неровный, вспыльчивый характер и т. д. Но не говорите, пожалуйста, что ему просто надо заниматься не литературой, а каким-нибудь другим делом. Тут же, в этот же миг, как только вы скажете это, вы нажили себе врага на всю жизнь, — и двадцать, и тридцать лет дружбы окажутся перечеркнутыми за одну только стародавнюю, выстраданную свою мысль, высказанную вслух!* * *
По-моему, нет ничего красивее хлебного поля, тропинки во ржи и застывших, чуть дремлющих в солнечном мареве сосен и елей, окаймляющих горизонт. Где я только ни ездила, чего ни видала, какой красоты — от Фудзиямы до серой, пенистой Эльбы в мае месяце, — а увижу тропинку во ржи, и все во мне вздрагивает от щемящего душу счастья, до слез, — словно пыльная эта тропинка и есть моя главная, основная и единственная родина. Об этом же рассказал Иван Бунин, мой земляк, мой любимый писатель. Вот они, его строчки:И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
* * *
Нестерпимы в Москве июльские знойные дни. Тянет за город, в прохладу лесов, к речке, в заливные луга. Душным вечером, в городе, после работы, с каким-то особенным чувством вспоминаешь притихшие от безветрия темные и сырые подмосковные боры с малахитовыми болотцами, с облаками цветущей медвяной таволги, а то с розоватыми, в рост человека, куртинами иван-чая. Птицы, может быть, в это знойное время уже не поют, да и нет в них нужды, — стукнет дятел по дереву своим зароговевшим горбатым клювом, ну и ладно. Или лесная горлинка заворкует; заверещит осторожная сойка. И — живет лес, настоянный до краев ароматом смолы, увядающих трав, пряных желтых цветочков аптечной ромашки, зверобоя, переспелой малины. А в субботу все нити, которые держат тебя в каменных, раскаленных громадах огромного города, рвутся напрочь. Машина летит по натянутой ленте шоссе так, что ветер засвистывает в окне. Мелькают веселые разноцветные двухэтажные дачки в садах, с цветниками возле крылечек, красивые справные деревеньки, поля, перелески, лужки со стадами коров, огромные корпуса вынесенных далеко за черту Москвы заводов и фабрик, «стекляшки» — кафетерии и магазины. И всюду, куда ни взгляни, антенны, столбы, провода, ажурные фермы шагающих к горизонту линий высоковольтных электропередач. За Загорском мы сворачиваем налево и едем по непривычно пустынному шоссе, вдоль которого то тянутся красивые смешанные леса, то поля яровых и озимых хлебов, то мелькают лужайки с цветами, с извилистыми тропинками, уводящими куда-то в глубь зеленой непуганой тишины. Вдруг машина взлетает на небольшую высотку — и мы останавливаемся. Впереди, а также справа и слева от дороги тянутся извилистые холмы. Их делит пополам, как ножом, речная долина, поросшая лесом. На холмах вдалеке черно-синими гребнями, зубчатыми линиями уходят на многие километры вековые леса. Прямо вниз, от колес нашей «Волги», начинается обрыв. Он потом становится все положе и положе и идет до самой реки, которая узорчатой вязью петляет по зеленой долине. В жарком солнце все млеет, дымится. Над дальними, еле видимыми на горизонте борами, несмотря на ранний утренний час, уже скапливается непроглядная белая мгла. За жизнь я много поездила по стране. Но такую красоту видела впервые. Это было зеленое, доброе, тихое чудо, драгоценное чудо российской природы. На лежащую меж холмов долину, на холмы и лес, протянувшийся крепостными стенами к горизонту, невозможно было насмотреться, — в них таилась какая-то неосознанная нами беззвучная музыка, завораживающая гармония, порожденная сочетанием мягкой зелени трав и немного угрюмой черноватой хвои, голубого просторного неба и текучих, волнистых, но плавных задумчивых линий холмов, почему-то напомнивших вдруг об Ослябе и Пересвете, о всадниках, одетых в кольчуги и шлемы, на могучих конях, с мечами и копьями в руках. Наверное, сама древность гнездилась здесь, дышала в лицо, сохраненная этой долиной и этой рекой, этим лесом, полями. И так сладко, так радостно было чувствовать себя не чужой на этой земле, а родственно-близкой и причастной ко всем дням ее великой истории, — и красивым, и горьким. С мучительно-сдавленным сердцем, — от нахлынувших чувств, а еще — от болезненной немоты, не дающей нам выразить эти чувства, мы садимся опять в пропыленную, раскаленную солнцем машину. Надо ехать. Но едем мы, к счастью, все еще не назад, а вперед, в те самые, захмелевшие от июльской жары перелески, в долину, что манит с обрыва. День велик, все еще впереди. Деревеньки на взгорках совсем как из сказки: с тонким кружевом наличников, с замшелыми крышами, с безлюдными затравеневшими улицами сплошь в розовой кашке и в бледных лиловеньких колокольчиках. Ребятишки, играющие на траве, все до единого белоголовые, волосенки повыцвели за весну и за лето на солнце. Проезжаем одну такую деревеньку, другую и третью. Асфальт уже кончился. Мы едем колхозной дорогой, посыпанной гравием и песком. Но песок смешан с глиной. Поэтому клубы коричневой пыли вьются справа и слева от нашей машины, как какие-то легкие, невесомые, неотступно дразнящие нас летучие змеи, то хватаются за колеса, то заглядывают в полуоткрытые окна или, свиваясь в кольцо, с испугом отпрядывают от дороги. Наконец, подъезжаем к какому-то дому. Дверцы сразу распахиваем и вываливаемся на траву, как некие инопланетные существа, — в сладкий клеверный дух, в спокойное, бездорожное царство, в бездумную знойную тишину, нарушаемую лишь клохтанием курицы над цыплятами да гагаканьем стада гусей, лениво бредущих по улице. Нам выносят холодной воды, а потом — позабавить — хорошенького, в мягких складках щеночка. Он доверчиво кажет пузо, валясь на исклеванный курами серый песок, машет черненьким хвостиком, прижимается теплой мордочкой к нашим коленям, к ладоням. Вот загадка природы: отчего все нежившее, юное, несмышленое так прелестно? Может, с опытом, с возрастом к нам приходит и горечь, а с горечью, с болью, с обидами — изживание этой радостной прелести и простоты? Под старой сиренью, на грубой скамейке, ведутся длиннейшие сложные переговоры. В результате их мы сворачиваем на прогон и едем уже без дороги по лугу, мимо мягких, атласных зеленых овсов. А вот и река. Когда-то, наверное, полноводная, очень красивая, сейчас обмелевшая: где по щиколотку, где по колено. Вся в дремучей уреме, в малинниках, в ольшанике, она, извиваясь, течет мимо заливных лугов. Трава уже в белых шариках одуванчиков и горицветов, в грязной вате каких-то неведомых мне перезревших растений, то буреет, а то желтеет метелками, полными семян. Луг с одной стороны окаймлен грядой леса. Отдельные купы берез и кустарников выбегают из леса под открытое небо, совсем как дети, — попрыгать, понежиться. Но, наверное, завороженные, как и мы, замирают да так и остаются стоять над рекой, по пояс в траве. Там, где лес отступил от реки, — ощущение широты и простора наполняет всю душу. Даже странно, что все это в ней умещается. Все вбираешь в себя и бережно, как драгоценность, укладываешь на дне памяти. Потом увидишь через долгие годы какой-нибудь стебелек — и повеет в лицо вот таким переспелым, желтеющим лугом — и сразу припомнишь золотое от солнца июльское небо, реку, лес, необъятные голубые просторы… Мы бегаем по лугу, дышим лесными и полевыми ароматами, бродим в тихой задумчивости по реке, пробираясь далеко вверх по течению, — где песчаными отмелями, где обрывистым берегом, где по самому стрежню. Кажется, что все сброшено и с души и с плеч. Человек уже легче воздуха, легче птицы, он промыт и провеян прохладным ветром и забыл обо всем: о заботах, о пережитом. Один на один с жарким солнцем, с травой, он и сам сейчас как трава, наслаждается этим полднем и этой свежестью совершенно бездумно. Вместе с нами и наш проводник из деревни, пастух Петя, невысокого роста, в защитного цвета рубашке, загорелый, с белесыми волосами, распадающимися волнистыми прядями. Он показывает нам места, где тенистей березы, где желтее песок, где красивей, безбрежнее луга. Очень скромный и молчаливый, Петя движется как-то мягко, спокойно, смотрит он с застенчивой деликатностью и молчит не сурово, не с тайной угрюмостью, а в каком-то спокойном и добром согласии с окружающей нас молчаливой природой… Уже где-то на склоне бездонного, бесконечного летнего дня мы садимся на лужайке в кружок и раскладываем припасы, — хлеб, черный и белый, сыр, колбасу, малосольные огурцы, помидоры, металлические стопочки, убирающиеся друг в друга, — а Петя встает и тихонько, бочком растворяется в чаще кустарников. Так, что в первые две-три минуты никто и не замечает, что его уже нет. Словно кончив играть в нашей жизни какую-то важную, нужную роль, он ушел за кулисы и там отдыхает. Мы зовем его: «Петя! Петя! Где ты?.. Вернись!» Тогда он, смущенный, неловкий, неспешно, как будто бы и не уходил, возвращается к нашей лужайке, в руке у него на клочке газетки горстка спелой малины, набрал по кустам. Я так понимаю, набрал для того, чтобы чем-нибудь сгладить и свой незаметный уход и вынужденное возвращение. В этой горстке малины для меня весь его непростой, очень русский характер. Мы раскладываем перед Петей еду, наливаем в стаканчик. Он почтительно выпивает, но закуску берет осторожно, помалу, жует черную корочку. Приходится подавать ему приготовленный бутерброд, угощать. Наливаем еще стопку водки. Он пьет, не хмелея. — Петя — бог! — говорит человек, который давно уже знает и эти места и Петю. — Он такой человек! Как скала! Еще никогда никого не подвел. Что скажет, то сделает! А рыбак… Братцы вы мои дорогие… Это что-то особенное! Он, конечно, не знал, что мы сегодня приедем, а то наловил бы уже окушков или щучек, ушицы сварить. Петя прячет не то чтобы улыбку, не то чтобы усмешку, а какие-то тихие, теплые отблески на лице. Это, по-моему, не тщеславие и не гордость собой, а просто какой-то невидимый знак, что он понял всю высказанную в его адрес похвалу, что она не прошла мимо сердца. Но — и только. Не больше. В ответ на вопрос: давно ли он здесь пастухом, Петя тихо, спокойно, с достоинством отвечает: — Лет двенадцать уже… — А сам родом откуда? Он кивает: — Отсюда. — А что делал до этого? — Служил в армии. Был ракетчиком. — И в каком же был звании? — Капитан… Я на миг замираю. Я смотрю с удивлением на человека, подчинявшего себе мощную электронную технику, готового по биению электрических импульсов, по мерцанию голубоватых экранов поднять с ложа и выпустить в небо серебряную громовую стрелу, несущую смерть врагу, адский грохот и адское пламя. Капитан ракетных войск, в этой выцветшей, побелевшей армейской рубашке, пастух деревенского стада… Я гляжу на него с неожиданным интересом. Кто-то спрашивает: — И не тянет тебя назад, в город, Петя? — Нет, не тянет. — Он молчит, обводя наши лица каким-то особенным сдержанным взглядом. — Не тянет, — повторяет он. — После армии предлагали хорошие должности и работу в Норильске, в Сибири. На строительстве ГЭС. А меня потянуло домой… Вот я и приехал. — Петя — парень во! — показал большой палец наш товарищ, привезший нас сюда, на луга. — Правда, вот жена у него старая. Старше его на девять лет… Он уже с ребенком взял ее к себе в дом… Ну, теперь ничего. Свой родился… В лице Пети не дрогнул ни единый мускул. Он все так же, спокойно, как и прежде, молчал, глядя в землю. Потом без нажима, как будто и не заметил неловкости от сказанных нашим другом слов, негромко заметил: — Мы с женой живем хорошо… И в этом спокойствии, в каком Петя так скромно, так сдержанно заступился за собственную семью, мне увиделось: а ведь Петя — счастливец. Будоражатся и размахивают руками, на мой взгляд, только те, кто и сам не верит в свое счастье, в любовь. Тогда им непременно, во что бы то ни стало нужно в чем-то убеждать своих собеседников и доказывать им не очень-то доказуемое. А Петя в самом деле, видимо, жил с женой хорошо; я их много встречала, как будто бы внешне неравных и даже смешных для постороннего взгляда браков, а по сути, исполненных самого чистого, самого доброго, верного чувства. Мне стало неловко за себя, за товарища. Я подумала, как бестактно мы иной раз влезаем в человеческую душу со своими оценками, с привычными мерками. Как хотим везде насадить одинаковость в мыслях и в чувствах, в понятии счастья… После долгого, тихого, деревенского отдыха, после ужина под деревьями, мы медленно, как бы нехотя, возвращаемся тем же лугом, тем же полем с атласными светло-зелеными, еще не желтеющими овсами, той же самой деревней с сиренями и со щенком. Петя, выйдя раньше других из машины, пошел к себе в дом и быстро вернулся, ведя с собой женщину. Он подвел ее к нам. То была миловидная, крепкая русская баба с моложавым, улыбчивым, тихим лицом. Повязанная под подбородком платочком, она встала застенчиво, как бы боком и как-то сияя счастливой улыбкой, с какой-то особенной нежностью, бережно подняла в руках чуть повыше, чтобы мы все увидели грудного ребенка в кружевной белой шапочке и в расшитых пеленках. Сверху эти пеленки были затейливо перевязаны голубой шелковой лентой. Было что-то старинное, домотканое в этой женщине, в этом ребенке. Наверное, во всем свете уже не увидишь такого простого, умиленного своим чувством материнства, освященного т и х и м счастьем лица, как вот в этих глухих захолустных деревушках в стороне от дорог, в самом сердце России, куда человек возвращается, все изведав и умея все сравнивать. Уезжала я оттуда со странным чувством утраты. И еще — недовольства собой. Утраты такого вот, как у Пети, спокойствия, силы, сознания, что живешь ты единственно правильной жизнью и что любишь единственно настоящее, цельное. Недовольства собой потому, что во мне уже, видимо, нет и не будет больше связей с деревней, с землей, как у Пети, с этим пахнущим клевером и овсами, волнующим воздухом, с речкой, а главное — с извечно живущими здесь, чем-то близкими мне людьми. Потому, что ко мне они — рано иль поздно, а обязательно — применят суровую, трудовую, а значит, высокую мерку. И я никогда уже, видимо, не подойду, не вживусь в эту жизнь, ибо вечно растрачиваю свое время, свой труд на текущее, неуловимое, не дающее хлеба. К сожалению, во мне нет спокойного мужества капитана-ракетчика, отказавшегося от городов с их соблазнами и ликующе-бешеным ритмом жизни, предпочитающего перед всем остальным луг и медлительных, сытых коров с их парным молоком, с их запахом стойла, с их задумчивыми глазами, отразившими и движение солнца по кругу и такое же круговое, извечное движение времен года.* * *
Писатель должен быть доверчивым, простодушным, когда он встречается с простодушным, доверчивым существом, и быть самим дьяволом по прозорливости и изворотливости, когда он встречается в жизни с каким-либо дьяволом во плоти. Ни одно явление жизни при этом нельзя изображать однозначно. Там, где увидена одна плоскость из множества пересекающихся плоскостей, там, где открыто и определено только одно чувство изо всей многослойности их, там, где не найдены векторы направления во взаимоисключающих силах, притягивающих героя, мы теряем и правду жизни вообще, и правду уловленного факта. Факт обычно в произведениях предстает перед нами электрическим прибором с оторванными проводами. Чтобы прибор этот задействовал, его нужно подключить в сеть, да еще заземлить, да еще выбрать нужное напряжение. Один и тот же факт может вырабатывать разного рода энергию, двигать поезд и сушить волосы на бигуди.* * *
Как мудрый садовник, писатель, выращивал своего собственного критика: нежно холил его и лелеял, поздравлял с днем рождения и с днем ангела, рассыпал перед критиком хвалы, а когда тот сказал правду, перестал с ним здороваться.* * *
Стиль — это точно выраженная мысль со всеми оттенками настроения. Хороший стиль узнаешь по простой и точной мысли. Когда я во второй раз читала «Владимирские проселки» В. Солоухина, я разглядела довольно значительные погрешности в языке и просто неловкости во фразах. Но они не видны невооруженному глазу потому, что на первом плане мысль, следишь за развитием логического построения, а уж потом видишь, как это построение выражено. Однако пусть это не утешает тех, кто пишет неряшливо. Всякая неряшливость от небрежности тотчас же выдает себя с головой. Видимо, в этом и есть тайна мастерства, тайна настоящей литературы. Казаться неряшливым — и не быть им! А как только действительно станешь неряшливым — тут тебе и конец.* * *
Есть предметы, которые у поэтов и художников на протяжении многих лет вызывают одни и те же эмоции, одни и те же образы. Со временем эти образы вырабатываются в окаменелые штампы, которые как бы срастаются или, лучше сказать, спекаются с определяемым в данный момент предметом. Так дело обстоит и со мной. Достаточно услышать, что кто-то из критиков написал статью о моих книгах, как можно заранее, не читая, сказать, что есть в этой статье «Сестрички», доброта, тяжелая судьба, героический порыв. Я даже заранее знаю, какие именно цитаты будут приведены в той статье. Чем начнет и чем закончит свою мысль благожелательный критик. Не сговариваясь, но внутренне подчиняясь уже выработанному шаблону, эти авторы и цитаты-то все приведут только из первой главы. Так, что даже невольно подумаешь: а листал ли кто-либо из них книгу дальше, до конца? И если листал, то почему его внимание не привлекло что-либо другое, не жизнь девочки в батальоне или в полку, а жизнь батальона, полка, жизнь страны в это время — разве я умалчиваю о них?* * *
Жажда власти над близкими, подобными себе, у человека похожа на жажду ростка, идущего вверх, к солнцу, с одной только разницей, что цветок ради роста никого не убивает, он движется вверх медленно, постепенно, его рост слагается из объективных причин: состав почвы, дожди, солнце, суточная цикличность, вращение земли и т. д. Человек же иной раз выскакивает из небытия, как болванчик, усаженный на пружине под крышкой размалеванного ящика. Что именно возвышает его над остальными, какая сила? Почему именно его слова должны иметь силу приговора, решать раз и навсегда, «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим»?* * *
Жизнь писателя чрезвычайно сложна. Но один пишет быстро и бойко — и тем компенсирует тяжесть своего бытия. У него есть возможность насладиться «плодами своего труда». Другой пишет медленно, неповоротливо, и все ему в жизни — и в литературе — загадочно-трудно: как вложить свои замыслы в этот медлительный и, теперь скажем прямо, мучительный труд? Например, я хотела бы написать и о первой, еще почти ребяческой любви — и о любви, уже отягощенной трудностями, выстраданной, дающей последние радости жизни. И опять о войне. И еще раз о войне. Ибо это самое главное в моей маленькой незначительной жизни. Например, я хотела бы написать о госпитале, расположенном на лесистом холме, и как мы ежедневно ходили из него на ночлег в соседнюю деревню — через заснеженный луг, потом по льду реки, потом поднимались на бугор, обдутый ледяными декабрьскими и январскими вьюгами, потом расходились по деревенским избам, холодным, без света в подслеповатых окнах. Мы были молоды, голодны и вечно усталы, не хватало сна — рано утром, еще во тьме, нужно было встать, умыться ледяной водой из колодца и снова спуститься с обдутого ветром бугра на лед реки, перейти его, оскальзываясь, выйти на луг и долго шагать по натоптанной, кочковатой от снега тропинке… Хотела бы, хотела бы — да где силы взять?..* * *
Жил на свете такой скромнейший честнейший писатель — Иван Федорович Трусов. Человек невысокого роста, но широкий в плечах, крепкий, плотный, с широким же, белым лицом, чуть мучнистым, с бородавкой на щеке. Лоб у Трусова был высокий, с залысинами, а волосы чуть курчавились. Говорил он всегда очень тихо и при этом по-девичьи как-то покачивая плечами, не то от застенчивости, не то от кокетства. И красивые его почти девичьи губы выразительно двигались. Всегда тихий, внимательный, вежливый, он ни разу не повысил голоса, никогда не ругнулся, как ругаются многие на войне, никогда не пожаловался на неудобства, а таких неудобств в нашей армейской редакции было много: жили тесно, мешая работать друг другу, ели впроголодь, вечно махорочный дым коромыслом. А он тихо сидит за столом и всегда что-то пишет очень мелким, почти неразборчивым почерком. Помню первый рассказ, прочитанный мною в газете за подписью Трусова. Это был небольшой рассказик, на «подвал» в армейском нашем листке, да к тому же и набранный достаточно крупно. Но вот то, что было написано в этом рассказике, поразило меня. Суть его такова. Убили фашисты хорошего парня, разведчика, которым все гордились в воинской части. И вот молодой, необстрелянный солдатик, прибывший с пополнением, однажды видит, как друг убитого разведчика выкладывает у товарища на могиле из стреляных гильз пятиконечную звезду. «Как красиво ты делаешь! — говорит новобранец. — Дай, я тоже тебе помогу». И он начинает собирать неподалеку, в траве, валяющиеся стреляные гильзы. «Они не нужны. Вот когда убьешь своего первого фашиста, вот ту гильзу принеси, чтобы было чем продолжить рисунок. Мои гильзы, они не простые, я по ним веду счет убитых врагов». Вот эта простая история, переложенная мною весьма неудачно, мне и тогда казалась и теперь кажется наполненной большим, сильным смыслом. Она поучительна не только для солдат, но и для нас, литераторов. Потому что бывают слова, как те самые стреляные гильзы, за которыми мыслится не тобою убитый враг, а может быть, и вообще не убитый, просто кто-то стрелял по мишеням или баловался. А вот когда ты самолично врага убьешь, вот тогда твоя гильза, внешне схожая с этими, неизвестно какого происхождения, металлическими пустышками, будет значить немало, в ней особенный смысл: то есть, значит, ты сам, своими руками защищал Родину.* * *
Создание антигероя почти всегда самоубийственно, ибо читатель по аналогии переносит на писателя черты подонка и негодяя, совмещая их по ошибке, а поэтому ничего не прощает ни тому, ни другому. Этого не понимают некоторые наши «молодые» со своими «исповедальными» романами. Создание образа героического, идеального — объективная необходимость, продиктованная тысячелетним писательским опытом. Мы, увы, не мудрее Гомера, у которого положительный герой — красавец Ахилл, а отрицательный — хромой трус Терсит, и как мы ни бьемся, все равно не сумеем Гомера переплюнуть, ибо в этом — законы искусства. А они отличаются от законов действительной жизни.* * *
Современный образ жизни, прессующий мысли при помощи книг, а чувства — при помощи музыки, концентрирующий пространство и время при помощи самолета и телевизора, кажется, уже полностью подчинил себе человека, не оставив ему в душе ощущенья простора, а в голове — широты размышлений. И, что самое главное, сегодняшний человек уже вроде бы и не тоскует по этой забытой, а может, невиданной, незнакомой ему широте, по простору. Он считает нормальным явлением подчиниться тесноте текущего бытия. Но вот иногда — в час нечаянного свидания — попадается в руки книга молодого и не очень известного автора. И ты вдруг ощущаешь в себе тот желанный простор: «Боже мой, вот какая бывает настоящая жизнь! Почему я не живу этой жизнью? Как я смею растрачивать свое время на синтетические мысли и чувства, когда есть неподдельное, есть природа…»* * *
Со школьной скамьи мы знаем о СИЛЕ СЛОВА, нас учат ее понимать, преклоняться перед нею. Но все ли знают о силе обратного действия, об отражательном эффекте слов, сказанных с тайным смыслом, неискренне, и — тем более — слов, сказанных с явным намерением унизить, оскорбить, запугать человека? От таких слов в душе остаются раны, которые не заживают, не перестают болеть никогда.* * *
Сколько любопытного и даже поучительного можно встретить в старых книгах, изданных бог весть когда. Вот книга, изданная при Екатерине Второй, называется она «Начертание естественной истории, изданное для народных училищ Российской империи по Высочайшему повелению царствующая Императрицы Екатерины Вторыя, в Санкт-Петербурге. 1789 года». Читаю:«Африканская курица, или Африканка, величиною побольше нашей курицы; голова бесперая с шишкою, под щеками висят красные подбородки; перье все либо черное с белыми полушечками по всему телу, либо серое. Природою из Нумидии; у нас разводится для любопытства и красоты в садах больших господ».Или:
«Земноводные есть такие животные, кои вместо всякого покрывала имеют кожу голую, различно только образованную; во рту инныя имеют зубы, другие только твердые челюсти; для движения своего инныя имеют ноги, другие перья, инныя ничего, а движутся извиванием своего тела: почему и тело их мускуловато и вместо твердых костей имеют гибкие хрящи».Вот это язык! Как все образно, ярко — и как изумительно по-детски наивно! А как удивительны указы Петра Первого. Вот один из них. Какой слог!
«Поелику в России считают новый год по разному с сего числа перестать дурить головы людям и считать новый год повсеместно с первого генваря. А в знак того доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с новым годом желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь нового года учинять украшения елей, детей забавлять на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять на то и других дней хватаетПетр I
15 декабря 1699 года».
* * *
Критик — это человек, который опровергает мнение писателя, пока оно новое, и с пеной у рта отстаивает его, когда оно устареет.* * *
Часто можно слышать упреки в адрес писателей, что они «ошибаются», что они утверждают «спорные» мысли и т. д. Но для того чтобы изрекать бесспорные мысли, не нужно писателей, для этого нужно развести побольше плохих учителей и хороших попугаев.* * *
Ехала из командировки — и вдруг потянулись ровные, как стол, поля Кубани, обрамленные пирамидальными тополями: как солдаты на часах. И все это такое родное, знакомое, столько лет я проезжала дорогами под сенью этих прямостоящих, высоких и стройных тополей. А теперь на Кубани у меня одни только могилы, и они такие одинокие, что слезы сами собой брызнули из глаз. Спасибо спутникам по купе, они сделали вид, что ничего не заметили. А ведь я на слезу, как кремень.* * *
Мне говорят, что я слишком много пишу о себе. Да, я пишу потому, что о себе писать всегда трудно. Кажется, именно то, что лучше всего знаешь, легче всего и поддается перу. Но — нет! Обилие «материала» создает затруднение совершенно непредвиденное, ибо все это не укладывается и не так, и не эдак, и все кажется важным, как если бы оно и в действительности было таким. Именно с подобной же трудностью сталкиваюсь, когда пишущие о себе, а о войне, или о людях, с войной каким-либо образом связанных — материал этот поистине неисчерпаем. Сколько книг о войне уже написано разными авторами! И я к этому «приложила ручку», а обилие фактов, имен, происшествий и разного рода событий, пережитых мною на фронте, все еще просто давит меня.* * *
Есть на свете такая тяжелая, беспощадная и нескончаемая болезнь — свое личное горе. Никому не пожалуешься, ни у кого не попросишь сочувствия или совета. Завело меня это горе далеко не в лучшую из больниц, на окраину города. В палате много больных, есть и тяжелые, есть и полегче. И все разные, каждая моя сопалатница «девушка с характером». Загрустила я, загрустила совсем, до самых пределов души загрустила. А за окном — зима, весна, лето… Растаял снег, пришли дожди, ветра, потом солнце, зазеленела листва тополей и кленов, зажелтела медвяным цветом дикая рябинка, забелела ромашка «ободранная», пустил кверху мохнатую «свечку» подорожник. Течет время, уходит, жизнь уходит, а печаль — не уходит, нет ей места нигде, кроме как в самой глубине души. Подходит, приближается один из сроков, о котором я когда-то в стихах написала:Грустный день, когда на год стареешь,
Все темнее мои небеса…

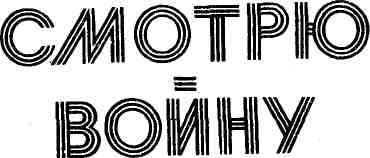



Последние комментарии
5 часов 20 минут назад
5 часов 21 минут назад
12 часов 4 минут назад
12 часов 12 минут назад
18 часов 24 минут назад
18 часов 28 минут назад