 МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ
МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ
Включенные в настоящий сборник образцы молдавского сказочного эпоса представляют лишь некоторую часть обширного материала, собранного и опубликованного в Молдавии. Еще в меньшей мере сборник представляет наличный материал, бывший в обращении прежде и бытующий в Молдавии и по настоящее время. Вместе с тем, в сборник включены основные типы сказок, рассказов и анекдотов, в которых, как в зеркале, отражены общественная жизнь, мировоззрение и быт молдавского народа.
В своих сказках народ воплотил мечты о справедливой жизни. Лишенный в прошлом элементарных условий существования, в сказках народ мечтал о дворцах, о богатстве, о мгновенно приносящих плоды садах и полях, о здоровье, о вечной молодости и жизни. Основная идея сказок — борьба добра со злом и торжество справедливости, то есть вера народа в будущее, его непоколебимая воля к победе. В молдавских сказках большое внимание уделяется труду. Отношение к труду и определяет характер героя сказки, симпатию и любовь к нему рассказчика и слушателей. В сказках нетрудно увидеть стремление людей облегчить свой физический труд, развивать и совершенствовать технику и орудия труда. Эти стремления свойственны всем народам.
Слова, сказанные М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году о реалистичности русских сказок и мифов, в полной мере относятся и к замечательным образцам молдавского сказочного эпоса. При всей их фантастичности, молдавские сказки рисуют мечты крестьянской семьи с ее реальными заботами и радостями. В "Сказке про Стана-виды видавшего" отражена мечта крестьянина об уборке с большой площади урожая пшеницы в течение одной ночи и об облегчении работы по перевозке. Трудолюбивая дочь старика в сказке "Дочь старухи и дочь старика" получает за свой честный труд богатое вознаграждение. И наоборот: ленивая дочь старухи оказывается наказанной со всей строгостью. Бедный Данила Препеляк наказывает черта не чем иным, как "проклятиями отцовскими": чесалкой и гребнями для пакли". Орудия изнурительного труда, унаследованные от прадедов, превращены в сказке в орудие возмездия над темными силами.
Эти и многие другие примеры подтверждают всю глубину и справедливость суждения, высказанного великим писателем М. Горьким в 1934 году:
"Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху, — об этом говорят нам легенды о Фаэтоне, Дедале и сыне его — Икаре, а также сказка о "ковре-самолете". Мечтали об ускорении движения по земле — сказка о "сапогах-скороходах", освоили лошадь; желание плавать по реке быстрее ее течения привело к изобретению весла и паруса; стремление убивать врага и зверя издали послужило мотивом изобретения пращи, лука, стрел. Мыслили о возможности прясть и ткать в одну ночь огромное количество материи, о возможности построить в одну ночь хорошее жилище, даже "дворец", то есть жилище, укрепленное против врага; создали прялку, одно из древнейших орудий труда, примитивный ручной станок для тканья и создали сказку о Василисе Премудрой"
[1].
Будучи памятниками, представляющими познавательное и воспитательное значение, сказки, рассказы и анекдоты являются и свидетельством художественного творчества молдавского народа. Литературные приемы сказок, их построение с зачином и концовкой, частые вплетания самостоятельных сюжетов в ткань основной сказки чрезвычайно искусны. Такова сказка о красноглазом мельнике, в которой повествование, кроме основного рассказчика, ведут поочередно мельник, помышляющий ограбить собеседника, и честный сын пахаря, который и одерживает победу над хитрым и злонамеренным мельником. Таковы и сказки, в которых мир реальный связан с миром фантазии путем введения мотива сна. Слушатель и читатель, захваченные ярким повествованием, часто и не замечают, что события развиваются во сне а не наяву. Сила художественного воздействия подобных сказок чрезвычайно велика. Исследователям подчас невозможно и определить тысячелетия, на протяжении которых вырабатывались эти углубленные приемы в устном творчестве народа-труженика, народа-воспитателя последующих поколений, народа-художника.
Зачин молдавских сказок с самого начала предупреждает слушателей, что речь пойдет одновременно и о вымысле, о чем-то совершенно необычном, и о самой действительности. "Сказка, сказка, — да я-то не в те времена родился, а чуть попозже. Только однажды пошел я к теще и нашел у нее мешок, полный сказок. Понес его домой, да упустил. Развязался мешок, и с тех пор разлетелись сказки по свету. Я тоже одну запомнил и вам ее расскажу". Или: "О чем сказ поведу, ребята, все так и было когда-то, а коль не было б, по свету не сказывали б сказку эту". Имеются зачины, в которых сосредоточены оба исключающие друг друга утверждения: "А было это тогда, когда этого и в помине не было". Сообщение о том, что содержание сказки не отражает правду, преподносится очень часто скрытым и весьма замысловатым зачином: действие сказки происходило-де тогда, когда "блох подковывали шестипудовыми подковами, и они прыгали до небес". Еще занимательнее концовка сказок. После обычной счастливой развязки положительные герои сказки "зажили в счастье много-много лет, а может и сейчас живут, если не померли". Другой обычной концовкой является двустишие:
На коне я прискакал —
Эту сказку рассказал,
или сообщение рассказчика, что он тоже участвовал в богатырском пиршестве:
И я на том пиру был,
Много ел да пил,
Ложку оседлал
И сказку зам рассказал.
Переходя из уст в уста, от поколения в поколение, молдавские сказки все время совершенствовались, шлифовались. Сказители обогащали их деталями современной им жизни, насыщали жемчужинами народной мудрости — поговорками, шутками, остротами, взятыми из окружающей среды сравнениями. В таком оформлении и при занимательности интриги сказки, рассказы и анекдоты становились актуальными, полезными и приятными как для детей, так и для взрослых. Наряду с другими видами устного народного творчества, с самого начала молдавской художественной литературы сказки, рассказы и анекдоты постепенно занимают видное место и в произведениях художественной литературы. Молдавские летописцы XVII и XVIII веков (Г. Уреке, И. Кекулче и др.) часто указывают на фольклорный источник записываемых сведений. В XIX в. молдавский прозаик Ион Крянгэ достигает вершин искусства в записи и передаче наиболее известных сказок своего народа. Над собиранием, обработкой и публикацией текстов сказок работал и поэт М. Эминеску. В настоящем сборнике представлены все сказки, записанные Крянгэ, и большая часть сказок, которые успел записать за свою короткую жизнь Эминеску. Оба они — выдающиеся писатели своего времени, их произведения переведены на многие языки народов мира. Их высокие художественные достижения и заслуженная слава объясняются именно их близостью к народу, пониманием, знанием и всесторонним использованием богатств устного народного творчества.
В связи с этим, нельзя снова не вспомнить высказывание Максима Горького, которым он определил роль народа в создании национальной культуры: "Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поемы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной истории"
[2]. Эти слова полностью относятся и к устному творчеству молдавского народа, украсившего достижения мировой литературы именами и бессмертными произведениями Крянгэ и Эминеску. Больше того: мотивы молдавского фольклора встречаются и в творениях писателей и поэтов других народов.
Русский беллетрист А. Ф. Вельтман сообщает в своих воспоминаниях, что в бытность свою в Бессарабии, как раз во время пребывания здесь в ссылке А. С. Пушкина, он также интересовался молдавскими сказками. Вельтман пишет: "Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку "Янко Чабан", навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из "Янка". Гораздо позже известный русский славист А. И. Яцимирский предложил в своих исследованиях для некоторых сказок, написанных А. С. Пушкиным, в том числе для "Сказки о рыбаке и рыбке" и "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях", соответствующее молдавские и румынские варианты. Свое исследование Яцимирский закончил словами: "…богатая неразработанным материалом румынская филология представляет несомненный интерес для слависта, этнографа и даже будущего толкователя произведений Пушкина"
[3]. Дальнейшие исследования подтвердили правильность суждений Яцимирского. Находясь в Молдавии, Пушкин действительно, интересовался устным творчеством молдавского народа и использовал его мотивы в своих поэмах "Цыганы", "Братья-разбойники", в повести о бесстрашном гайдуке Кирджали, а также в ряде сказок. Мотивами молдавского фольклора вдохновлялся и известный украинский прозаик — М. Коцюбинский. На молдавский фольклор обратил свои взоры и искусно использовал его в своем раннем творчестве и великий русский писатель Максим Горький. Свой рассказ "Старуха Изергиль" Горький начинает словами: "Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии". И Горький описывает с восхищением людей труда, их работу и песни. "Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря… Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие с темносиними глазами, тоже бронзовые… Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее". В первых публикациях горьковских гениальных произведений "Легенда о Марко" и "Девушка и смерть" имелись подзаголовки "Валашская сказка" и "Румынская легенда"
[4].
В богатом художественном слове молдавского народа нашли отражение его горести и радости, быт и нравы, вековая борьба против иноземных поработителей. При всей их фантастичности, сказки вместе с тем реалистичны. И всегда они носят национальный отпечаток. Рельеф, флора и фауна, представленные в молдавских сказках, характерны для занимаемой сейчас или в недавние времена территории.
Главный герой молдавской волшебной сказки — богатырь. Это молодой человек, наделенный прекрасными душевными качествами и незаурядной силой. Чаще всего он именуется Фэт-Фрумосом. Его товарищи — персонажи, наделенные сверхъестественными силами, волшебные кони или простые крестьяне — помогают ему преодолеть трудности, победить коварных врагов и найти красавицу Иляну Косынзяну. Силы зла представлены чародеями, колдунами, драконами или другими необычными персонажами, как Мужичок-с-Ногогок-Борода-с-Локоток, и очень часто — царями, боярами, мироедами.
Во всех сказках ярко выражена страстная любовь к родному краю, к простым и честным людям, идея справедливости и отмщения за причиненное зло. Сказители особенно воодушевляются при изложении событий, в которых осуждается деспотизм и эксплуатация человека человеком, а также национальное угнетение. В этих сказках парод отразил свое отношение к соседствующим народам. Чертами отрицательных персонажей он наделяет турок и татар, многовековых угнетателей молдавской земли. И наоборот: русский человек, русский воин, освободивший Молдавию от турецкого ига, представлен другом и избавителем. Иван Турбинка, отставной русский солдат, все свои силы устремляет на защиту обездоленных, на благополучие всего человечества.
Не отражая всего многообразия сказок, бытующих в молдавском современном фольклоре, сказки данного сборника, как уже было сказано выше, знакомят читателя с основными обобщениями молдавского народа в его сказочном эпосе.
Этим сказкам отдали заслуженную дань гениальные художники слова не только молдавского, но и других народов мира.
О молдавском сказочном эпосе можно говорить, следовательно, как о вкладе в общую сокровищницу культуры народов нашей великой Родины.
Ион Крянгэ
 СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ
СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ

Жила-была старуха, и было у нее трое сыновей, высоких, как дубы, и очень послушных, но не очень-то умных.
Немалая усадьба крестьянская, дедовский дом со всем его скарбом, виноградничек да отличный плодовый сад, скотина и множество птицы составляли хозяйство старухи. К тому же и денежек белых отложила она про деньки черные, ибо десятью узлами вязала каждую денежку и тряслась над каждым грошем. Чтобы не отпускать от себя сыновей, поставила старуха еще два дома рядом — один справа, другой слева от дедовского. Но тут же накрепко решила сынов своих и будущих невесток возле себя держать, в дедовском доме, и никакого раздела не учинять до самой кончины своей. Так и сделала; и сердце ее смеялось и радовалось при одной только мысли о том, как счастлива будет она, когда станут ей сыны помогать, а будущие невестки ласкать ее да нежить. Нередко так про себя думала: "Буду за невестками приглядывать, за работу их засажу, в узде держать буду, а в отсутствии сыновей ни на шаг не позволю отойти от дому. Моя-то свекровь — да будет ей земля пухом! — так же со мной поступала. И мой муженек — упокой его, господи! — не мог пожаловаться, что я ему неверна была, или добро его по ветру пустила… хоть и были иногда подозрения… и корил он меня… но теперь это дело прошлое".
Все три старухины сына занимались извозом, зарабатывая немало денег. Но вот пришла пора старшему жениться: почуяла это дело баба, волчком завертелась, ища ему невесту. Пять ли, шесть ли сел обшарила, еле-еле невестку себе по вкусу нашла — не больно молодую, высокую, сухопарую, зато работящую и покорную. Не ослушался сын матери, справили свадьбу, и надела старуха свекровью рубаху, да еще с неразрезанным воротом, а это значит, что не должна быть свекровь сварливой и с утра до вечера всех поедом есть.
Как сыграли свадьбу, отправились сыновья по своим делам, а невестка со свекровью дома осталась. В тот же день принялась старуха невесткину жизнь налаживать. Считала она, что новому ситу не на полке место. "Зачем я ухват себе сделала? Чтобы не обжигаться" — говорила она. Залезает она проворно на чердак, спускает оттуда кадку с перьями, еще от покойной свекрови, несколько связок конопли и четверик-другой проса.
— Вот я, невестушка, придумала, что тебе по ночам делать-то. Ступку возьмешь в кладовой рядом, веретена в кубышке под лавкой, а прялку за печкой. Когда наскучит перья щипать, будешь зерно толочь, а муж с дороги вернется — приготовим пилав со свиными копчеными ребрышками и на славу полакомимся! Теперь же, чтобы передохнуть, сунь себе прялку за пояс, до утра пряжу спряди, общипи перья и зерно истолки. Сама я прилягу маленько, а то все кости трещат после свадьбы вашей. Знай однако же, что сплю я по-заячьи и окромя этой пары глаз есть у меня ещё на затылке и третий, который всегда открыт и видит и днем и ночью, что в доме творится. Понятно, что я сказала?
— Да, маменька. Вот бы только поесть чего…
— Поесть? Одной луковицы, головки чеснока, куска холодной мамалыги с полки за глаза хватит для такой молодухи, как ты. Молоко, брынзу, масло и яйца лучше соберем да на рынок отнесем, чтобы хоть сколько денег сколотить; в доме одним едоком больше стало, того и гляди, не на что будет поминки по мне справить.
Когда наступил вечер, улеглась баба в постель, лицом к стене, чтобы свет от коптилки не мешал, не забыв еще раз напомнить невестке, что будет за нею присматривать; но сон ее тут же сморил. Пока баба храпела, бедная невестка трудилась не покладая рук: то перья общипывала, то на пряжу поплевывала, то зерно толкла, шелуху веяла. Когда же сон ей глаза туманил, умывала она лицо студеной водой, чтобы не приметила чего недреманная свекровь да на нее не прогневалась. Промаялась бедняжка далеко за полночь, а к рассвету одолел ее сон, и заснула она посреди перьев, конопли, веретен с пряжей и просяной шелухи. Старуха же, поскольку с курами спать легла, поднялась ни свет, ни заря и давай по дому, топать да дверьми хлопать — бедная невестка и задремать не успела как следует, а волей-неволей пришлось встать, руку у свекрови поцеловать, показать, что за ночь наработала. Мало-помалу притерпелась невестка, и баба осталась довольна своим выбором.
Через несколько дней воротились сыновья домой, и молодая жена при виде мужа позабыла свои печали.
Вскоре пристроила баба и среднего сына. Невестку себе выбрала по образу и подобию первой. Правда, чуть постарше и немного косую при этом, зато работягу на редкость.
После свадьбы снова уехали сыновья в извоз, и опять остались невестки со свекровью дома. Как повелось, задала она им работу полной мерой, а сама, как свечерело, так и улеглась, наказав невесткам быть прилежными и не заснуть ненароком, ибо видит их око ее недреманное.
Старшая невестка рассказала другой про всевидящий глаз свекрови, стали они друг дружку подгонять, и с тех пор работа так и горела в их руках. А свекровь как сыр в масле каталась.
Однако не все коту масленица. Много ли, мало ли прошло, — наступает время и младшему жениться. Очень хотелось старухе неразлучную троицу невесток иметь, и приглядела она заранее девушку. Но не всегда так сбывается, как желается, выходит и так, как случается. В одно прекрасное утро приводит сынок невестку к маменьке в дом. Почесала старуха затылок, туда-сюда, ан делать нечего; хочешь не хочешь, справили свадьбу — и все тут!
После свадьбы снова разъехались мужья по своим делам, а невестки со свекровью дома остались. Опять задает им старуха работу, и лишь наступает вечер, спать укладывается, как обычно. Старшие невестки, видя, что молодая к работе не льнет, говорят:
— Ты не отлынивай, а то ведь маменька видит нас.
— Как так? Ведь она спит. И потом разве это дело — нам работать, а ей спать?
— Ты не смотри, что маменька храпит, — говорит средняя. — На затылке у нее недреманное око есть, которым видит она все, что мы делаем, а ведь ты маменьку нашу не знаешь, рассола ее еще не хлебала.
— На затылке?.. Все видит?.. Рассола ее не хлебала?.. Хорошо, что напомнили… Чего бы нам, девчата, поесть, а?
— Жареных слюнок, золовушка милая… А уж коли вовсе невтерпеж, возьми из шкафчика кусок мамалыги с луковицей и ешь.
— Лук с мамалыгой? Да в нашем роду испокон века такого никто не едал. Разве нету сала на чердаке? Масла нет? Яиц пег?
— Как же, все есть, — отвечают старшие, — да только маменькино это.
— Я так думаю — все, что маменькино, то и наше, а что наше, то и ее. Золовушки, ну-ка шутки в сторону. Вы работайте, а я чего-нибудь вкусненького настряпаю и вас позову.
— Да что ты в самом деле?! — испугались старшие. — Думаешь, нам жизнь надоела? На улицу баба выгонит…
— Ничего с вами не станется. Если начнет вас расспрашивать, все "а меня валите, я за всех отвечать буду.
— Ну… если так… делай, как знаешь; только нас, смотри, в беду не впутывай.
— Перестаньте, девчата, замолчите. Ни к чему мне мир, дорога ссора.
И вышла, напевая:
Не горазд бедняк умом —
Держит дом своим горбом.
Не проходит и часу-полная печь пирогов настряпана: куры, на вертеле подрумяненные, в масле жаренные, полная миска творогу со сметаной и мамалыжка на столе. Зовет младшая невестка старших в бордей
[5], за стол усаживает.
— Ешьте, золовушки, на здоровье и бога хвалите, а я живехонько в погреб сбегаю, ковшик вина принесу, чтобы пироги в горле не застревали.
Когда поели они изрядно и выпили, захотелось им спеть:
Ой, свекруха, кислый плод!
Сколь ни зрей, а труд пропащий,
Все равно не станешь слаще.
Хоть всю осень зрей, уродина,
Будешь кислой, как смородина.
Зрей хоть год, хоть не один —
Будешь горькой, как полынь.
Зло, свекровь.
Хмурить бровь,
Входишь в дом,
Как с ножом,
Смотришь колко.
Как иголка…
Ели они, пили и пели, пока не заснули на месте. Когда же поднялась старуха на рассвете-невесток и духу нет. Выбежала в испуге, ткнулась туда-сюда, в бордей заглянула — и что видит? Бедняжки-невесточки свекровь свою поминают… Перья по полу разбросаны, тарелки, объедки повсюду, кувшинчик с вином опрокинут — дерзость неслыханная!
— Это что такое? — в ужасе закричала она.
Вскочили невестки, как ужаленные; старшие, как осиновый лист, дрожат, головы со стыда опустили. А виновница говорит:
— Разве вы не знаете, маменька, что отец мой с матерью сюда приезжали, мы им еды настряпали, ковшик вина поставили и заодно уж повеселились и сами маленько. Только-только уехали они.
— Неужто они меня спящей видели?
— А то как же, маменька?
— Вы меня почему же не разбудили, чума вас возьми!?
— Да мне, маменька, девчата сказывали, будто вы и во сне все видите Я и подумала, что верно, рассердились вы на отца моего и мать мою, если вставать не желаете. И до того они, бедные, запечалились, что даже еда им впрок не шла.
— Хорошо же, разбойницы, достанется вам теперь от меня!
С той поры дня спокойного не имели они у свекрови. Стоило ей вспомнить про хохлаток своих любезных, про винцо выпитое, про добро ее, на ветер пущенное, про то, как застали ее свояки в неприглядном виде, вo сне, — так и лопалась со злости и грызла невесток, как червь дерево горит.
Даже старшим невесткам невмоготу стало от ее языка, а младшая думала, думала, да и придумала, как расквитаться со свекровью и заодно так сделать, чтобы наследством своим распорядилась старуха, как никто никогда не распоряжался.
— Золовушки, — сказала она однажды, когда остались они одни на винограднике. — Не будет нам житья в этом доме, пока не избавимся раз и навсегда от ведьмы-свекрови.
— Как же нам быть?
— Делайте, как научу вас, и ни о чем не тревожьтесь.
— Что нам делать? — спрашивает старшая.
— Все ворвемся в комнату к старухе; ты ее патлы хватай и двинь что есть мочи головой о восточную стенку; ты ее таким же порядком — о западную; а уж я что сделаю, сами увидите.
— А когда мужья вернутся, что будет?
— Вы тогда и виду не подавайте; мол, знать не знаем, ведать не ведаем. Я сама говорить буду, и все как нельзя лучше обойдется.
Те согласились, побежали в дом, схватили старуху за волосы и давай ее головой о стены колотить, пока голову не расшибли. А младшая, самая озорная, как швырнет старуху посреди комнаты и ну ее ногами топтать, кулаками месить; после язык изо рта у ней вытянула, иглою проткнула, солью и перцем посыпала, до того вспух и вздулся язык — пикнуть свекровь не может. Побитая, растерзанная, свалилась старуха — вот- вот ноги протянет. По совету зачинщицы, уложили ее невестки в чистую постель, чтобы вспомнила она то время, когда невестой была; потом стали из ее сундука горы полотна вытаскивать, да друг дружку локтями подталкивать, меж собой говорить о привидениях и прочих ужасах, которых одних хватило бы бедную старуху в могилу вогнать.
Вот и сбылось то счастье, о котором она мечтала!
А тут со двора скрип возов доносится — мужья приехали. Выбежали жены навстречу, по наущению младшей кинулись им на шею и ну целовать да миловать, одна пуще другой.
— А маменька что? — спросили хором мужья, распрягая волов.
— Маменька наша, — выскочила младшая вперед других, — маменька захворала, бедняга; как бы не приказала нам долго жить.
— Что? — всполошились мужья, роняя из рук притыки.
— Да вот, дней пять назад погнала она телят на выгон и, видать, ветром дурным ее продуло, бедную!.. Злые духи язык у нее отняли и ноги.
Бросились сыновья опрометью в дом, к постели старухиной; несчастную, как бочку, раздуло, и было ей не под силу даже слово вымолвить; однако не вовсе она сознание утратила. С трудом шевельнула рукой, показала на старшую невестку и на восточную стену, потом на среднюю невестку и на западную стену, после на младшую невестку и на пол посреди комнаты, через силу поднесла руку ко рту и впала в глубокий обмерок.
Сыновья рыдали навзрыд, не понимая ее знаков. А младшая невестка" тоже делая вид, что плачет, спрашивает:
— Вы что же, не понимаете, чего маменька хочет?
— Нет, — отвечают те.
— Бедная маменька последнюю волю вещает: велит, чтобы старший брат в том доме поселился, что на восточной стороне; средний — в том, что на западной, а мы, самые младшие, чтобы здесь оставались, в дедовском доме.
— Правильно говоришь, жена, — ответил муж.
И так как другим возразить было нечего, то и осталось завещание в силе.
Старуха кончилась в тот же день, и невестки, распустив волосы, так причитали по ней, что село гудом гудело. Через два дня схоронили ее с большим почетом, и среди женщин того села и всей округи только и разговоров было, что про свекровь и ее трех невесток, и все говорили: счастлива она, что умерла, ибо есть кому ее оплакивать!
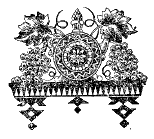
 КОЗА И ТРОЕ КОЗЛЯТ
КОЗА И ТРОЕ КОЗЛЯТ

Жила-была коза с тремя козлятами. От старшего и среднего житья не было — до того они своевольными росли, а младший прилежным и послушным удался. Как говорится: пять пальцев на руке, и все разные.
Позвала однажды коза своих козлят и говорит:
— Милые мои детки! Я в лес пойду, вам еду принесу. А вы дверь за мной заприте, друг с дружкой не ссорьтесь и никому, глядите, не отпирайте, пока голоса моего не услышите. Как приду, сразу по песенке узнаете. Вот что я вам спою:
Детушки, козлятки,
Отоприте хатку.
Ваша мама пришла.
Молочка принесла,
И еще вам несет
Свежей травки
Полный рот.
Чечевицы
На копытце,
Меж рогов
Пучок цветов,
А под мышкой
Мамалыжку.
Слыхали, что я сказала?
— Да, матушка, — ответили козлята.
— Могу я не тревожиться?
— Будь покойна, матушка, — сунулись вперед оба старшие. — Мы ребята хоть куда, что сказала, то свято.
— Если так, дайте расцелую вас! Да хранит вас господь от дурного, прощайте, детушки!
— Добрый путь, матушка, — со слезами на глазах ответил меньшой, — и да поможет тебе господь поскорее вернуться и нам еды принести.
Пошла коза в лес, а козлята дверь за ней закрыли, засов задвинули. Но, как говорится, стены имеют уши, а окна — глаза. Разбойник-волк — да знаете, какой? тот самый, который козе кумом доводится — давно уже поджидал случая сцапать козлят. Вот и подслушал он теперь, притаившись за козьей хаткой, как мать-коза детушек своих наставляла.
"Ладно, — подумал он. — Мое время приспело. Только бы грех их толкнул дверь мне отворить, а там уже будет прок. Мигом с них шкурки сдеру!"
Сказано — сделано. Подходит волк к двери, песенку запевает:
Детушки, козлятки,
Отоприте хатку.
Ваша мама пришла.
Молочка принесла,
И еще вам несет
Свежей травки
Полный рот.
Чечевицы
На копытце,
Меж рогов
Пучок цветов,
А под мышкой
Мамалыжку.
— Ну-ка, ребятки, бегом открывайте! Бегом!
— Братцы, — закричал старший козленок. — Быстрее отпирайте, матушка нам еды принесла.
— Не отпирайте, братцы, — сказал младший, — а то нам худо придется. Это не матушка. Я по голосу узнаю. У матушки нашей голос не такой густой и не хриплый, а приятный и тоненький.
Услыхав такие слова, отправился волк к кузнецу, велел себе язык и зубы оточить, чтоб голос у него стал тоньше, и снова стучится к козлятам в дверь, напевает:
Детушки, козлятки,
Отоприте хатку…
— Слышите? — говорит старший. — И зачем только я вас слушаюсь? Болтаете, что не матушка это. Кто же, как не матушка? Тоже ведь уши и у меня. Пойду отопру.
— Братец! Братец! — снова закричал младший. — Послушай меня. Мало ли кто придет и споёт:
Скорее откройте,
Пришла ваша тетя!..
Что же, вы и тогда отпирать будете? Вы же знаете, что наша тетушка давно умерла и в прах обратилась, бедняжка.
— Ну что, разве не говорил я? — рассердился старший. — Хорошее дело, когда яйца курицу учат… Станем мы матушку столько времени за дверью держать! Нет, пойду и отопру…
Младший тогда проворно юркнул в печную трубу, ногами в шесток уперся, носом в сажу уткнулся, молчит, как рыба, дрожит со страху, как лист. Средний тоже — прыг под квашню; съежился, бедняжка, в комок, как мог. Молчит, как земля, с перепугу шерсть на нем дыбом: кто лежит — не герой, зато живой! А старший у двери стоит: отпереть, не отпереть? Все-таки отодвинул засов. И кого же он видит? И увидеть-то не успел, бедняжка, ибо у волка в животе урчало и глаза с голодухи сверкали. Раз-два, впился зубами волк козленку в горло, сразу голову оторвал и так его живо сглотнул, будто на один зуб ему было. Облизнулся потом смачно и стал по хате шарить, приговаривая:
— То ли почудилось мне, то ли и впрямь я несколько голосов тут слышал? Но что за черт, словно сквозь землю провалились… Где они, где?
Заглянул туда, заглянул сюда — нет козлят да и только!
— Чудеса в решете! Что же мне делать-то? Впрочем, некуда спешить, дома нечего косить! Лучше присяду вон там, дам отдохнуть старым костям..
Кряхтя и охая, уселся кум на квашню. Сел, и то ли квашня скрипнула, то ли кум чихнул, но только козленок под квашней не стерпел. Видать, грех его толкал и спина у него чесалась!
— На здоровье, крестненький!
— Ах ты… ах ты, проказник! Вот где пристроился? Иди, дорогуша, к крестненькому, он тебя расцелует!
Приподнял квашню, вытащил козленка за уши, и только пух пошел от бедняги! Как говорится: каждая пташка из-за своего языка погибает.
Покрутился, покрутился волк по хате, авось еще что раздобудет, но больше ничего не нашел: младший сидел смирнехонько, молчал, как рыба.
Видит волк, что нечем больше поживиться, другое задумал: выставил обе головы в окошках — морды зубы оскалили, словно смеются; после вымазал стены кровью, чтобы еще больше козе насолить, и пошел восвояси. Как только убрался разбойник из хаты, младший козленок тут же из трубы выскочил, накрепко засов задвигает. Шерсть стал на себе рвать, горько плачет, по братцам своим убивается:
— Милые братцы мои! Кабы не послушались волка, не съел бы он вас! А бедная матушка и не знает, какая с вами беда стряслась!
Стонет он, причитает, чувств едва не лишился.
Но что тут поделаешь? Не его вина, что вышла братцам дурь боком. А пока он стонал да плакал, коза домой спешила, еду козлятам несла, запыхалась. Подошла к хате, а из окон на нее две головы глядят, зубы оскалив.
— Славные детушки мои! Ждут меня, не дождутся, так и смеются мне навстречу!
Милые мои козлятки.
Как люблю я вас, ребятки!
Велика была радость козы. Однако подошла поближе, — что такое? Ледяной озноб пробежал по телу, ноги подкосились, помутилось в глазах. Что это? Может, показалось ей только? Подошла она к двери и зовет:
Детушки, козлятки,
Отоприте хатку.
Ваша мама пришла.
Молочка принесла,
И еще она несет
Свежей травки
Полный рот.
Чечевицы
На копытце,
Меж рогов
Пучок цветов,
А под мышкой
Мамалыжку.
На ее голос выскочил меньшой — теперь уже был он и старшим и младшим, — дверь распахнул, бросился матушке в объятия, залился горькими слезами:
— Матушка, матушка! Беда с нами стряслась! Хуже пожара, хуже потопа!
Повела коза глазами по хате, ужас и трепет охватили ее. А потом овладела собой и спросила:
— Что же случилось, детка?
— А вот что, матушка. Как ушла ты из дому, спустя немного, слышим, как кто-то в дверь стучит и поет:
Детушки, козлятки,
Отоприте хатку…
— А дальше что?
— Старший братец, по глупости и упрямству, сразу побежал отпирать.
— И что же тогда?
— Тогда я живо в трубу залез, средний братец под квашней спрятался, а старший, не долго думая, засов отодвинул.
— И тогда?
— Тогда-то беда и стряслась! Волк, наш крестный и твой друг, забежал в хату!
— Кто? Мой кум? Да ведь он шерстью своей поклялся, что детушек моих не тронет!
— Да, матушка, он! Крепко злодей их тронул!
— Так я ж его проучу Он думает, если у бедной вдовы полон дом детей, то можно над нею глумиться? С ребяток шкуры сдирать? Нет, не уйти ему от расплаты! Ах, он злодей, ах, разбойник! А еще зубы скалил, подмаргивал мне… Но только не из тех я, что он думает, отроду через плетни не скакала. Ну, да уж ладно, куманек, я с тобой посчитаюсь! В мой плуг своих волов впрягать вздумал? Знай же, что без рогов их выпряжешь!
— Ох, матушка, ох! Лучше уж молчи, ну его к богу! Знаешь ведь поговорку: и черта видеть не хочу, и креста мне не надо.
— Нет, нет, сыночек, пока до бога дойдешь, святые одолеют. Вот тебе мое слово, сынок: не сдобровать злодею! Только смотри, не проговорись кому, чтобы он ее проведал.
С той поры искала она только случая, чтобы с кумом расквитаться. Думает-думает, — придумать не может, как отомстить ему
— Кажется, нашла на него управу, — сказала она наконец. — Такое ему устрою, что лапы себе кусать будет.
Была перед ее хатой яма глубокая. На нее-то и понадеялась коза.
— В дубильный чан тебя, куманек-волк, не иначе!.. Скоро расплачиваться будешь, А тебе, кумушка-коза, за дело пора приниматься, задал тебе куманек-волк работу!
С этими словами подоткнула она подол, рукава засучила, огонь развела и давай стряпать. Наготовила голубцов, пилава, пирогов, куличей на сметане и яйцах и других всевозможных блюд; яму потом угольями горящими и гнилушками наполнила, чтоб тлел под спудом огонь, ветками крест-накрест накрыла, сверху листьев набросала, а на листья землю посыпала и рогожкой прикрыла. И еще стульчик восковой смастерила для куманька, дорогого гостя.
Оставила она стряпню на огне, а сама в лес подалась — волка на праздник звать. Идет по лесу, идет, возле оврага волк ей навстречу выходит.
— День добрый, кума, каким тебя ветром сюда занесло?
— Да будет добро у тебя на сердце, как добр твой взгляд. Что, разве не знаешь, что ветер заносит, куда душа не просит? Побывал, видишь ли, кто-то в моем дому, натворил мне бед!
— А что, кумушка милая?
— Козляток одних застал и растерзал бедняжек! Вот что значит быть вдовой беззащитной!
— Да что ты, кума, говоришь?
— Уж теперь говори-не говори — легче не будет. Отправились они, бедняжки, к господу богу, и надо нам об их душе позаботиться. Вот и решила я по своим силам поминки устроить и тебя, куманек, пригласить, чтоб утешил ты меня, бедную…
— Охотно, кумушка милая, но охотней к тебе бы на свадьбу пришел.
— Верю, куманек, да что поделаешь? Не так оно, как нам хочется, а как богу угодно.
Пошла коза, рыдая, к дому, а волк — за ней, тоже делает вид, что плачет.
— Ах, куманек, куманек, — всхлипывает коза. — Что нам всего дороже, то и теряем!
— Что делать, кума, знали бы мы, какая беда нас ждет, береглись бы наперед. Но не терзайся так, рано или поздно все там будем.
— Так-то так, куманек. Но ведь бедным крошкам моим только бы жить да жить!
— Да, кумушка милая, но, видать, господу богу тоже молоденькие по вкусу.
— Если бы сам господь их к себе прибрал, дело другое… Но так ли это?
— Знаешь, кума, как подумаю… уж не Топтыгин ли к тебе домой пожаловал? Помнится, повстречал как-то я его в малиннике. Вот, говорит, кабы отдала мне коза сыночка скорняжному делу обучать…
Слово за слово, добрались они до кумушкиной хаты.
— Прошу, куманек, — говорит коза, а сама на рогожку восковой стульчик ставит. — Садись, угощайся, чем бог послал!
И пододвинула ему полную миску голубцов.
Накинулся жадно волк на голубцы. Чав-чав! целиком отправляет их в глотку.
— Господи, помилуй покойничков, уж больно, кумушка, твои голубцы хороши!
Сказал — и бух прямо в яму с горящими угольями: стульчик-то восковой расплавился, а веточки на одном честном слове держались, как раз сколько для дорогого гостя требовалось.
— А ну-ка! Теперь отдавай, волк, что съел! С козой тягаться вздумал? Коза тебя и доконает!
— Ой, кума, ой, горят мои пятки! Скорее вверх тяни, душа горит?
— Нет, куманек! Тоже во мне ведь душа горела, когда козлятки мои погибли! Господу богу, говоришь, самые молоденькие по вкусу, а мне по вкусу и те, что постарше, были бы только хорошо поджарены. Знаешь, чтобы насквозь огонек их пронял.
— Ой, горю, погибаю, кума! Спасай!
— Что ж, гори, куманек, погибай! От тебя и от живого добра не дождешься! Пускай же горит на тебе шерсть, которой ты клялся, что детишек моих не тронешь! Помнишь, как клялся, зверюга лютый?! А ведь сожрал-таки козляток моих!
— Ой, жжет, горит все нутро во мне, кума! Вытащи, смилуйся надо мной!
— Смерть за смерть, куманек, ожог за ожог! Ведь ишь ты, словечко какое давеча из святого писания подпустил!
Схватили коза с козленком по охапке сена и в яму на волка бросили. Потом стали камни в него швырять и что под руку попадалось, пока не прикончили. Так-то лишилась коза двух козляток своих, зато и волка, кума своего, утратила! Не велика утрата!
Услыхали все козы в округе про такое дело, взыграло у них сердце! Сошлись они все на большой пир, стали есть да пить, и такое у них веселье пошло, что и не описать…
И я там был, а как время подошло, сел верхом на седло и поведал все, как произошло; потом колесо оседлал, сказочку вам рассказал; а под конец оседлал чечевицу и понес, люди добрые, несусветную небылицу.

 КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ
КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ

Жили-были дед и баба. Была у бабы курица, а у деда петух. Курица каждый день по два яйца несла. Старуха ими сыта была, а деда хоть бы одним попотчевала! Терпел, терпел дед, да и говорит:
— Слушай, баба, у тебя что ни день, то масленица. Дайка ты и мне парочку — другую яичек, очень уж меня охота разбирает.
А старуха скупа была.
— Как бы не так! — говорит. — Хочешь яичек, возьми да побей петуха, пусть яйца несет, тогда и ешь себе досыта. Я-то свою курицу побила, так она вишь как несется!
Старик уж больно разлакомился. По бабиному наущению тут же петуха поймал и давай его лупить.
— Либо, — говорит, — яйца неси, либо убирайся вон из хаты. Нечего даром хлеб есть.
А петух как вырвется из рук, как выскочит из хаты и побрел, куда глаза глядят. Шел он, шел по дороге, вдруг видит — кошелек с двумя денежками. Подхватил он его клювом и поворотил назад к дедовой хате. Глядь — катят ему навстречу боярин да боярыни в коляске. Боярин так и вонзился глазами в петуха, увидал кошелек и говорит кучеру:
— Ну-ка слезь, посмотри, что там петух в клюве несет!
Кучер живо с козел соскочил, изловчился, поймал петуха, отобрал кошелек и подал боярину. Боярин взял его, недолго думая положил в карман и поехал себе дальше. Обидно стало петуху, — бежит он за коляской, не отступается и кричит без умолку:
Эй вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!..
Разозлился боярин, и когда проезжали мимо колодца, говорит кучеру:
— А ну возьми-ка этого нахала-петуха да брось в колодец.
Кучер немедля соскочил с козел, поймал петуха и швырнул его в колодец. Видит петух — пришла беда! Что тут делать? Давай воду пить! Пил, пил — пока всю воду в колодце не выпил. Потом вылетел наружу, снова за коляской гонится и кричит:
Эй вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!..
Видя это, боярин очень удивился и говорит:
— Ах ты, чертов петух! Вот задам я тебе жару! Ишь ты, щеголь хохлатый да хвостатый! — И когда приехал домой, велел кухарке изловить петуха, бросить в печь, полную горячих углей, а заслонку камнем привалить. Кухарка, ведьма этакая, сделала, как хозяин велел. Видит петух — новая беда! Начал он колодезную воду отрыгать, пока весь жар не залил. Огонь погас, и печь остыла. А петух полную кухню воды налил, так что старая карга совсем осатанела. Тут петух как дал по заслонке, вышиб её и вышел из печи цел и невредим. Подлетел он к боярскому окошку, застучал клювом в стекло и закричал:
Эй вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!..
— Вот нажил я себе беду с этой диковиной! — сказал боярин, еще больше удивившись. — Эй, кучер! Унеси ты моё горе! Брось петуха в стадо. Авось какой-нибудь бешеный бык с ним разделается — подымет его на рог, — избавлюсь от этой назолы.
Кучер тут же петуха схватил да и швырнул в середину стада. А петух тому и рад: давай глотать быков, волов и телят, пока все стадо не поглотал. Раздулся он, стал ростом с гору. Подступил опять к боярскому окну, растопырил крылья — солнце заслонил — темно стало. И начал свое:
Эй вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!..
Увидал боярин такое чудище — чуть не умер со страху, не знает, что и делать, как спастись от петуха.
Думал, думал и придумал наконец:
"Посажу-ка я его в подвал с казной, начнет он червонцы глотать, авось какой-нибудь золотой ему поперек горла станет, он и подавится. Вот я от него и отделаюсь".
Сказано-сделано: взял петуха за крылья и бросил его в подвал с деньгами. А деньжищ у этого боярина столько было, что он им и счету не знал. Бросился петух червонцы клевать — все до одного склевал. Потом выбрался из подвала (как — про то ему знать!), да опять к боярину под окно.
И завел:
Эй вы, бояре! Кукареку!
Отдайте две денежки петуху!..
Тут уж видит боярин — делать нечего, и кинул ему кошелек. Поднял его петух и пошел своей дорогой, а боярина на радостях оставил в покое. Как увидела домашняя птица на боярском дворе такую храбрость петушиную, вся, сколько было, за ним следом двинулась, — что твоя свадьба! Приуныл боярин, глядя, как петух всю птицу со двора сводит.
— Ну ладно, — говорит, — ступай себе, проваливай! Еще я дешево отделался от
этакой беды. Тут, видать, дело было нечисто!
А петух идет себе гордо, и вся птица за ним. Шел он, шел, пока не дошел до дедовой хаты, и запел у ворот:
Дед, как услышал петушиный голос, обрадовался, вышел из хаты. Смотрит за ворота — диву дается. На петуха глянуть страшно: против него и слон — блоха! А следом за ним стая птиц несчетная, одна другой красивее, одна другой хохлатее да пышнее. Увидал дед, что петух такой здоровенный, да еще вокруг него такая туча птицы, и кинулся ворота отворять. А петух говорит:
— Расстели-ка ты, хозяин, рядно вот тут посреди двора.
Бросился старик опрометью — разостлал рядно.
Стал петух на рядно и изо всей силы крыльями захлопал. И сразу двор наполнился всякой скотиной и птицей, а на рядне петух целую кучу золота навалил — так и горит на солнце, глазам больно! Увидал дед все это богатство — не знает, что делать от радости, целует-милует петуха.
Тут, откуда ни возьмись, — баба. Увидала она такое, и глаза у нее загорелись, от зависти чуть не лопается.
— Дед, а дед, — а сама робеет, — дал бы и мне червончиков!
— Держи карман! Ты мне что сказала, когда я у тебя яиц просил? Побей теперь ты свою курицу, чтоб червонцев тебе принесла. Я побил своего петуха — за что, сама знаешь… И вот что он мне дал.
Пошла баба в курятник, поймала курицу, ухватила ее за хвост и давай бить, — кто бы увидел — заплакал! Вырвалась бедняжка у бабы из рук и побежала по дороге. Вот шла она, шла, нашла стеклянную бусинку и проглотила. Потом скорей поворотила домой к бабе и закудахтала от ворот: "Куд-куд-куд-куд-кудах!" Баба обрадовалась, вышла курице навстречу. А курица — прыг в ворота, да мимо бабы, да скорей на гнездо! Часу не посидела, соскочила с гнезда и кудахчет. Баба кинулась смотреть — что там курица снесла? Глянула — и что же видит? Курица снесла стеклянную бусинку. Поняла баба — посмеялась над ней курица, и давай ее бить. Била, била, пока до смерти не убила.
Так и осталась жадная дура-баба ни с чем. Пришлось зубы на полку положить. Поделом ей, а то мучила курицу, ни за что, ни про что убила горемычную!
А дед разбогател: поставил хату большую, сад развел красивый, живет — горя не знает. А бабу из милости в птичницы взял. И с тех пор дед петуха всюду за собой возил наряженного: золотое монисто на шее, желтые сапожки со шпорами, ни дать, ни взять — царь Ирод из балагана на ярмарке, а не петух, что в борщ кладут.

 ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК
ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК

Жили-были в одном селе два брата, оба женатые. Старший был трудолюбив, бережлив и богат и за какое дело ни брался, господь за него заступался, но детей у него не было. А младший брат был беден. Не раз бежал он от счастья и счастье от него, потому что был он ленив, неповоротлив в хозяйстве и неудачлив в делах; да и детей имел целую кучу! Жена у бедняка была женщина работящая, добрая, а у богатого — скупая и злая-презлющая. У бедного брата — был бы он беден грехами! — все же пара волов имелась, да еще каких: сизых, молодых, высоченных, рога острые, на лбах отметины, а сами ширококостные, жирные, лучше не сыщешь — хоть в телегу впрячь, хоть на люди показаться, хоть землю пахать. Зато ни плуга, ни бороны, ни телеги, ни саней, ни тынжалы
[6], ни косы, ни вил, ни граблей — ничего нужного в хозяйстве и в помине не было у этого непутевого человека… Всякий раз, когда была в них нужда, шел он к другим, особливо к брату, у которого всего было вдоволь. А тому жена покою не давала.
— Брат не брат, — говорила она, — а денежки не родня.
— Так-то так, жена, да ведь кровь не вода. Уж если не я, то кто и поможет?
Жена, не зная, что и сказать, умолкала и губы себе кусала. И все бы ничего, кабы не телега. Двух-трех дней, бывало, не пройдет, как снова Данила на пороге, просит телегу одолжить: то дров из лесу привезти надо, то муку с мельницы, то копны с поля, то еще невесть что.
— Слышь, брат, — сказал однажды старший меньшому. — Уже воротит меня от родства-то нашего! Есть у тебя волы, почему телегу не справишь? Мою ты вконец искалечил. Трах сюда, тарарах туда — пропадает телега. И потом знаешь, как говорится: отдай, поп, шпоры, сам кобылу пятками гони.
— Так-то оно так, — отвечал меньшой, почёсывая голову, — но что же мне делать?
— Как что делать? Ты меня послушай. Волы у тебя рослые да красивые. Ступай на ярмарку, продай их и других возьми, поменьше и подешевле. На остаток телегу купишь и станешь хозяином.
— А ведь совет-то неплох. Так я и сделаю.
Побежал он домой, вывел волов на веревке и побрел на базар. Но, как уже сказано, был он одним из тех, у кого собаки на ходу кусок из котомки тянут, и все дела свои делал навыворот. Город был неблизко, ярмарка подходила к концу. Но Даниле Препеляку сам черт не брат! Недаром же его Препеляком прозвали
[7] — только и было добра у него во дворе, что кол, сделанный его руками. Нахлобучил он кушму на голову, натянул на уши, и море ему по колено:
К дяде Ване —
Ноль вниманья;
К дяде Сене —
Пуд презренья!
Идёт он, идет с Думаном и Телешманом
[8] на ярмарку; как стал подыматься по холму пологому, видит — шагает навстречу человек, перед собой новую телегу катит, только-только на рынке купленную; в гору толкает, под гору осаживает.
— Постой, приятель, — говорит Данила, у которого волы так и рвались с веревки к сочной и пышной гречихе, что у самой дороги росла. — Придержи-ка свою телегу, словом с тобой перекинусь.
— Я бы постоял, да она стоять не хочет. А о чем речь-то?
— Ишь, телега у тебя словно сама идет?
— Да вроде… Почти что сама. Не видишь разве?
— А знаешь что, приятель?
— Буду знать, если скажешь.
— Давай меняться: ты мне телегу, я тебе волов. Хватит мне с ними мороки: то сена им подавай, то в загон ставь, то как бы волк не задрал, то еще чего… Уж как-нибудь ухитрюсь телегу толкать, особливо, если сама идет.
— Шутишь, человече, или правду говоришь?
— Не шучу, — отвечает Данила.
— Однако вижу, ты малый себе на уме… — говорит хозяин телеги. — Твое счастье, что я добрый сегодня; что ж, по рукам! счастливо тебе телегой владеть, а мне волами!
Оставил ему телегу, сам с волами к лесу свернул и вскоре пропал из виду. А Данила про себя думает:
— Здорово же я его подковал… Только бы он не раздумал. Но вроде не цыган, не пойдет на попятный.
Впрягся он в телегу, под гору домой топает.
— Го, телега чудная, го! Вот когда нагружу доверху, повезу мешки с мельницы или сено с поля, тогда не хуже катись!
А телега все вперед, вперед, словно обогнать его хочет.
Вот окончился спуск, подъем начинается. Толкай ее в гору, кто может! Данила туда, Данила сюда — обратно телега катится.
— На! Вот и вышла мне боком телега!
С большим трудом подал он телегу в сторону, подпер на месте, присел на дышло, думу думает:
— Вот так так! Коли я Препеляк Данила, то волов загубил, а коли нет, то телегу нашел. То ли я Препеляк, то ли нет…
Глядь человек мимо шагает, гонит козу на ярмарку продавать.
— Слушай, приятель, — говорит Данила. — Не отдашь ли козу взамен телеги?
— Да видишь ли… Коза у меня не попрыгунья какая-нибудь, к тому же и молочная.
— Что толковать впустую? Молочная-немолочная, бери телегу, отдавай козу!
Тот, конечно, спорить не стал; отдает козу за телегу. Потом других телег дождался, к одной из них свою привязал и отправился восвояси, а Данила с разинутым ртом на месте остался.
— Ладно, — сказал себе Препеляк. — Его-то, по крайности, здорово я обставил…
Потащил он козу на ярмарку. Но коза козой остается! Так во все стороны дергает, что вовсе ему опостылела.
— Поскорей бы до базара добраться, — говорит Препеляк. — Отделаться от такого добра.
Идет он, идет, а навстречу человек с базара возвращается с гуской под мышкой.
— Здорово, добрый человек, — говорит Данила.
— Дай боже здоровья!
— Не хочешь ли меняться? Бери у меня козу, давай взамен гуску.
— Вот и не угадал. Не гуска, а гусак. Я на семя его купил.
— Давай сюда! Я тебе тоже доброе семя дам…
— Коли еще добавишь чего, может, и уступлю. А нет, так счастье моим гусыням: такое потомство заведут через него, что только держись!
Словом, туда-сюда, один прибавляет, другой уступает — просватал-таки козу Препеляк! Хватает он гусака и дальше шагает, к ярмарке; а гусак у него в руках гогочет во всю: га, га, га, га!
— Вот те на! От черта избавился, на батьку его напоролся! Оглохнуть можно. Ничего, сейчас и тебя поженю, негодник этакий!
Рядом человек кошелями торговал. Променял у него Данила гусака на кошель, что на длинных ремнях на шее носят. Берет он кошель, крутит, вертит в руках, потом говорит:
— Фу ты, пропасть, чего ж я наделал! Была пара волов таких, что любо-дорого посмотреть, а остался с пустым кошелем. Мэй, мэй, мэй! Ведь не впервой я в дорогу пускаюсь. А сегодня словно черт разум отнял.
Походил, походил он еще, глаза на ярмарку пяля, и к дому затопал. До села добрался и на радостях прямо к брату:
— Здравствуй, брат!
— Добро пожаловать, брат Данила! Долго же ты на ярмарке пропадал!
— Да вот так, брат; туда поспешил, обратно людей насмешил.
— Ну, а вести какие с базара несешь?
— Не ахти какие. Волы мои, бедняжки, как в воду канули.
— А что, зверь какой напал или выкрали их тебя?
— Какое? Своей рукой их отдал, брат.
Рассказал Данила все, как было, по порядку, от начала до конца. — Словом, — говорит, — чего там долго болтать? Была пара волов, а теперь один кошель, да и в том ветер свищет, дорогой брат.
— Ну, по правде сказать, большой ты простак!
— Что ж, брат, зато теперь набрался я ума-разума. Хотя и то сказать, толк-то какой?
Коль есть умишко,
То нет излишка.
Коль мед есть сладкий,
То нету кадки.
На, бери себе кошель, нечего мне с ним делать. Но Христом богом тебя заклинаю, в последний раз одолжи мне твою телегу с волами; дровишек из лесу привезу жене и детям, а то у них, у бедняжек, ни искры в печи! А уж дальше — будь что будет, не стану тебя больше тревожить.
— Тьфу! — молвил брат, выслушав его до конца. — Видно, господь населил эту землю кем смог. Ступай, бери телегу, только знай, что это в последний раз.
Даниле только того и надо. Сел в телегу, погнал волов. Приехал в лес, приглядел дерево потолще, вплотную подал телегу. Не выпряг волов, стал дерево рубить, чтобы сразу оно в телегу свалилось. Уж таков был Данила Препеляк! Стучит он по дереву, стучит и — пыррр! валится тяжелый ствол, телегу в щепки, волов насмерть!
— Ну вот! Насолил же я брату! Что теперь делать-то? Я так думаю, что хорошо, то не худо: Данила напутал, Данила и распутай. Может уломаю брата, даст он мне кобылу. Убегу с нею куда глаза глядят; жену с ребятишками оставлю на милость всевышнего.
С этими словами пошел он и, по лесу идучи, заблудился. Долго плутал, пока, наконец, не найдя дороги, набрел на какой-то пруд; увидев лысух на воде, запустил в них топором, чтобы хоть одну птицу убить, отнести брату в подарок… Лысухи, однако, не будучи ни слепыми, ни мертвыми, улетели; топор пошел ко дну, а Препеляк стоит на берегу, рот разинул.
— Эх! Не везет мне сегодня! Вот так денек! Видать, кто-то за мной по пятам ходит!
Пожал он плечами и дальше пошел. Брел, брел, еле-еле дорогу отыскал. Приходит в деревню к брату и такую околесицу несет — ни в какие ворота не лезет.
— Брат, пособи мне еще и кобылой, верхом волов погонять! Ливень большой прошел по лесу, и такая теперь грязь да гололедь — на ногах не устоишь.
— Мэй, — отвечает брат, — видно, тебе в монастырь идти надо было, а не среди людей жить, всем досаждать, жену и детей мучить. Вон с глаз моих! Ступай, куда глухой колесо отнес, а немой кобылу погнал, чтоб духу твоего здесь больше не было!
Кобылу! Уж Данила-то знает, куда ее гнать — волам поклониться и с телегой попрощаться. Вышел он во двор, схватил топор, вскочил на кобылу, и поминай как звали! Когда спохватился брат — ищи ветра в поле! Уже Препеляк у пруда, топор свой ищет; и тут-то припомнились ему слова брата: что, дескать ему бы, Даниле, монахом быть.
— Поставлю-ка я монастырь на этой лужайке, да такой, чтобы слава о нем по всему свету пошла, — сказал он. И тут же взялся за дело. Сперва крест смастерил и всадил в землю — место отметить. После в лес отправился, стволы подходящие высматривать: один для столба пригоден, другой для фундамента, третий на балку, четвертый на сваю, пятый на било; а пока он про себя бормочет да бормочет, вылезает из пруда черт и прямо к нему:
— Ты чего тут строить собрался, человече?
— Сам не видишь разве?
— Да ты погоди! Не валяй дурака. Пруд, и лес, и все это место — наше.
— Может, скажешь, что и утки на воде тоже ваши, и топор мой, что на дне озера? Вот я вас научу все на свете к рукам прибирать, отродье рогатое!
Что было черту делать? Бултых в воду, докладывает самому Скараоскому про человека божьего с норовом чертовым. Затревожились черти, посовещались меж собой, и Скараоский, чертов начальник, отправляет к отшельнику Даниле одного из них с буйволовым бурдюком, полным золота, только бы Данила убрался из этих мест.
— На, бери деньги! — говорит чертов посол Даниле, — сматывайся по добру-по здорову.
Глянул Препеляк на крест, глянул на черта, на золото… пожал плечами и говорит:
— Ваше счастье, нечисть поганая, что деньги мне дороже отшельничества, а то бы я вам показал!..
Отвечает черт:
— Не противься ты, человече, владыке ада; бери лучше деньжата и уходи восвояси.
Оставляет черт деньги и возвращается в пруд, а там Скараоский вне себя от утраты денег таких огромных, на которые множество душ купить можно.
Препеляк между тем думу думает, как бы деньги поскорее домой переправить.
— Ладно, — говорит Данила. — Как-никак, деньги такие на дороге не валяются. Монастыри надо строить, коли охота, чтобы черти тебя уважали, сами золото к ногам тебе клали.
Пока прикидывал он, как бы деньги домой свезти, является к нему из пруда другой черт и говорит;
— Слышь, человече! Передумал мой господин: надо сперва силами померяться, а уж потом деньги возьмешь.
"Вот так так!" — вздохнул про себя Препеляк. Но как говорится: молодой красив, а богатый сметлив. Нахватался уже Данила ума-разума.
— Померяться? А как же нам меряться-то?
— А вот как: перво-наперво, кто из нас двоих кобылу твою на спину взвалит и трижды пруд обежит, не передохнув и на землю ее не поставив, тому и деньги достанутся.
Сказал, кобылу себе на плечо вскинул, мигом трижды пруд обежал. Стало Препеляку от чертовой прыти не по себе, однако взял он себя в руки и говорит:
— Ну, Микидуца
[9], я думал ты посильнее будешь. Ты кобылу себе на спину взвалил, а я ее меж ногами держать буду. — Вскочил он на кобылу и сразу же, без передышки, трижды вокруг пруда объехал. Подивился черт и — что было делать? — другое придумал:
— Наперегонки давай побежим.
— Микидуца, Микидуца! Ты с кем же это вздумал бежать наперегонки?
— А что?
— Иди-ка сюда, покажу тебе…
Пробрался он с чертом в кустарник, а там заяц спит.
— Видишь, маленький такой, спит, в клубок свернулся?
— Вижу.
— Это сынок мой меньшой. Ну, держись! Я его вспугну, а ты догоняй!
И как закричит:
— У-лю-лю! На-на-на!..
Вскинулся заяц, а черт за ним. Скачут, скачут, пока не потерял черт зайца из виду… Давно ли все над Препеляком смеялись, а теперь стал он над самим чертом потешаться. Стоит Данила, за живот держится, хохочет над чертовой глупостью, а тут и черт прибегает, весь запыхался:
— Ну, и проворен же твой сынишка, правду сказать! Только его поймать изготовился, а он возьми да исчезни из виду, поминай как звали!
— В батьку своего пошел маленький, — говорит Данила. — Ну, так как же, не прошла охота со мной тягаться?
— Держи карман шире!.. Лучше давай в борьбе померяемся.
— В борьбе? Что ж, давай, коли жизнь надоела. Мэй! слыхал я от стариков, что, мол, черти себе на уме, а погляжу на тебя, ну чем не круглый дурак? Слушай. Есть у меня дядя, старый-престаренький. Девятьсот девяносто девять лет ему и пятьдесят две недели. Сможешь его побороть, тогда и со мной потягаешься. Только я так считаю, что утрет он тебе нос.
С этим словами пошел он, сделав черту знак следовать за ним.
Отшельником будучи, в поисках диких кореньев и малины, обнаружил Данила как-то — в глубине леса, под большими камнями, медвежью берлогу. Вот подходят они к той берлоге, и говорит Данила:
— Здесь живет мой дядюшка. Входи смело. Он там в золе дрыхнет, нос в головешку уткнул. Говорить только не может, зубы у него выпали лет тыщу с лишним назад.
Черт, когда делать ему нечего, известно, что делает… входит в берлогу, хвостиком закрученным перед носом у дядюшки водит. Этого не хватало Топтыгину! Как взъярится, как выскочит из берлоги, хвать чертяку под мышку и так прижал, что из бедного черта едва дух не вылетел, глаза на лоб вылезли, словно две луковицы.
— Ну, вот! Не искал беды, а нашел, — говорит Данила, поглядывая издали и давясь со смеху.
Извернулся чертяка, изловчился невесть как, — выскочил из лап Топтыгина. Как увидел Данила черта живым-невредимым… кинулся якобы вызволять его.
— Оставь, человече; отстань, не прикидывайся. Знал ведь, какой грубиян у тебя дядя, зачем послал меня с ним бороться?
— А что? Не понравилось? Теперь со мной давай!
— С тобой, и только с тобой, в гиканье тягаться будем. Кто громче гикнет, тому и деньги достанутся.
"Ладно, — думает Данила, — уж я тебе гикну!.." А сам говорит:
— Мэй, Микидуца, гикни-ка ты сперва, послушаю, как у тебя получается.
Раскорячил чертяка ноги, одну на восток упер, другую на запад, руками намертво за хляби небесные ухватился, разинул рот шире ворот и как гикнет — содрогнулась земля, ахнули долины, заклокотали моря и рыбы в них переполошились: чертей из пруда высыпало видимо-невидимо, и еще немного — раскололся бы свод небесный. А Данила сидит себе верхом на бурдюке, набитом деньгами, и в ус не дует:
— Ишь ты! Hеужто громче не можешь? Почти тебя и не слышно. А ну, гикни еще разок!
Гикнул чертяка еще страшнее.
— Теперь еще меньше тебя слышу. Еще разик давай!
Гикнул черт в третий раз, да так, что едва не надорвался.
— А теперь и вовсе не слышно… Мой, что ли, черед пришел?
— Вроде, твой…
— Мэй, Микидуца! Теперь, когда гикну я, непременно оглохнешь, мозги из черепа выпрыгнут. Понятно? Но поскольку я тебе друг, послушай моего совета.
— Какого совета?
— Дай-ка завяжу тебе полотенцем глаза и уши, коли еще пожить охота…
— Что хочешь и чем хочешь вяжи, только бы не умереть мне!
Стянул Данила черту накрепко глаза и уши повязкой, будто в жмурки играть, схватил дубовую толстую палку (потому что, хоть он и отшельник, Данила, а все-таки больше в дубину верил, чем в святой крест) и бац его, черта, по правому виску!
— Ой, хватит, больше не гикай!
— Нет, Сарсаила, шалишь! Ты разве не трижды гикал?
И трах его по левому.
— Ой, ой, довольно!
— Нет, не довольно! — и еще разок во имя отца дает.
— Ай, ой! — истошно завопил черт. И как был, с завязанными глазами, жалобно стеная, извиваясь змеей, кинулся в пруд, а там уж поведал самому Скараоскому обо всем происшедшем и что, мол, с этаким колдуном шутки плохи.
А Данила сидит у своего бурдюка и тяжко вздыхает. Ума не приложит, как бурдюк тот домой доставить. Но вот к нему третий черт является. В руках у него булава огромная; грохнул он булавой о земь и говорит:
— Мэй, человече! Теперь погляжу на тебя, каков ты есть. Кто из нас булаву эту выше подбросит, тому и деньги достанутся.
"Ну, Данила, — говорит Препеляк сам себе, — тут тебе крышка". — Но, как говорится, нужда возчика учит.
— Что же, бросай ты первый, чертяка!
Взял черт булаву и так высоко подбросил, что и не видать ее; лишь через три дня и три ночи упала она со страшным гулом и вошла в землю до самых недр, сотрясая опоры вселенной.
— Теперь ты бросай, — хвастливо сказал черт.
— Брошу, небось, только вытащи ее сперва на поверхность земли, чтоб и я кидал, как ты кидал.
Послушался черт и вытащил.
— Ну, теперь живее давай, некогда мне ждать.
— А ты потерпи, сатана, маленько, детишки тебя за полу не тянут.
Терпит чертяка, что ему делать? Немного времени прошло, вот и день погас. Небо стоит ясное, звезда со звездой переглядываются; высунув голову из-за холмов, месяц, слегка покачиваясь, озаряет землю.
— Ты чего же, человече, не бросаешь?
— Сейчас брошу, только заранее тебе говорю, попрощайся с булавой.
— Как так?
— Видишь пятна вон там, на луне?
— Вижу.
— Это братья мои, что на том свете. До зарезу им железо требуется, лошадей подковать. Видишь, как мне руками машут, булаву подкинуть просят.
С этими словами берется Данила за булаву.
— Стой, голова безмозглая! Булава-то нами от прадедов в наследство получена, не отдадим ее ни за что на свете!
Выхватил черт булаву из Даниловых рук и во весь дух — к пруду. Бухнулся в воду, рассказал Скараоскому, как едва булаву не загубил. Разгневался Скараоский, вызвал к себе все сатанье, топнул ногой.
— Сейчас же, — кричит, — пусть отправляется один из вас и одолеет заклятого врага нашего!
Предстал перед ним один из чертей, весь дрожит.
— Слушаюсь, ваша низость! Иду выполнять нечистый ваш приказ.
— Ступай! И знай, если справишься, в должности повышу.
Понесся черт сломя голову, в один миг к отшельнику Даниле примчался.
— Слышь, человече, — говорит черт. — Ты своими делами бесчестными все сатанье растревожил, но уж теперь от расправы не уйдешь. Давай будем клясть друг друга, и кто из нас в проклятьях искусней окажется, тому и достанутся деньги.
И как начал бормотать, заклинать да клясть, тут же лопнул глаз у Данилы. Бедный Препеляк! Видно, на роду ему было написано искупить грехи и кобылы братниной, и козы, и гусака-жениха, и волов, в лесу загубленных. Отозвались бедняге слезы гусынь обездоленных!
Господи, немало приходится выстрадать отшельнику праведному, когда удаляется он от суеты мирской, о божественном помышляя. Препеляк-отшельник вовсе теперь рассорился с чертом… И то сказать, есть ли что на свете чувствительней глаза? Скривился Данила от боли! Но как ни страдал, а взял себя в руки и говорит:
— Не запугаешь такими уловками, сатанинская нечисть! Будешь пальцы себе кусать, всю жизнь меня поминать будешь.
— Ладно, будет тебе языком трепать; проклинай давай, увидим, каков ты мастер.
— А ты взвали-ка бурдюк с деньгами на спину себе и ступай ко мне домой: не захватил я с собой отцовских проклятий. Понятно?
Сказал и уселся верхом на бурдюк; взвалил его черт вместе с бурдюком на плечи, быстрее мысли прилетел к дому Данилы Препеляка. Видят жена и дети Данилы — буйвол летит по воздуху. В страхе пустились наутек. Стал их Данила по имени кликать, и они, узнав его голос, остановились.
— Сынки мои милые, бегите скорее, несите сюда проклятия отцовские: чесалку да гребни для пакли!
Стали ребятишки со всех сторон сбегаться, проклятия отцовские несут. Пришел и на Данилову улицу праздник.
— Хватайте, ребятки, сударика этого, кляните его, сколько влезет, чтоб и ему по вкусу пришлось!
А с детьми, сами знаете, и черту не сладить. Навалились всем скопом и давай его драть. Завопил черт во все горло. Еле-еле из их рук вырвался. И как был, избитый, изувеченный, о деньгах и думать забыв, наутёк пустился.
А Данила Препеляк, ни от кого больше обид не видя, распростившись с нуждой, ел да пил, да горя не знал до глубокой старости за одним столом с сынами сынов своих.

 СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ
СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ

Сказывают, жили когда-то дед да баба; деду сто лет исполнилось, а бабе девяносто. И оба они были белее зимы и пасмурнее ненастья оттого, что детей не имели. Очень уж хотелось иметь им ребенка, хоть одного, ибо дни и ночи напролет проводили они, как сычи, одиноко, даже в ушах от тоски звенело. Да и жили они не бог весть в каком достатке: лачуга никудышная, рваные тряпки на лаицах
[10] — вот и все их добро. А с некоторых пор и вовсе тоска их загрызла, ибо ни одна душа к ним беднякам, как к зачумленным, не заглядывала.
Однажды вздохнула баба тяжко и говорит деду:
— Дед, а дед! С каких пор себя помним, никто нас "отцом-матерью" не назвал! Не грех ли этак и жить на белом свете? Потому я так думаю, что в доме, где нет детей, и благословения божьего быть не может.
— Так-то оно так, баба, да что против воли божьей поделаешь?
— Верно, старче, твоя правда. Только знаешь, что я ночью надумала?
— Буду знать, баба, коли скажешь.
— Завтра, как день забрезжит, встань и ступай, куда глаза глядят. И кто бы ни вышел первым тебе навстречу, человек ли, змея ли, другая ли тварь какая, клади в котомку и домой неси. Вырастим его как сумеем, и быть ему нашим дитятком.
Дед, которому тоже одиночество опостылело и детей иметь хотелось, встал на другой день чуть свет и с котомкой на палке пошел, как баба сказала… Идет он, идет по оврагам, пока не набрел на большую лужу, а в луже той свинья с двенадцатью поросятами барахтается, на солнце греется. Приметила свинья деда, захрюкала, прочь побежала, а поросята за ней. Только один, поплоше, сапной, шелудивый весь, увязнув в грязи, на месте остался.
Схватил его дед, сунул в котомку каким был — полным грязи и прочих прелестей — и домой.
"Слава тебе, господи, — думает дед, — что смогу моей бабе утешение доставить. Кто знает, бог ли, черт ли ее надоумил?…"
Вернулся дед домой, говорит:
— Вот, баба, какое дитятко я тебе, принес! Пусть будет жив и здоров! На славу сынишка, чернобровый, ясноглазый, лучше некуда! Весь в тебя, просто вылитый! А теперь готовь корыто и обмой его, как ребят обмывают, потому что, сама видишь, запылился малость малютка…
— Старче, старче, — говорит баба, — не смейся. Тоже это тварь божья, как и мы. Может, еще и безвиннее нашего.
Проворнее девчонки разводит она щелок, баньку готовит и, зная толк в повивальном деле, обмывает поросенка, маслом из коптилки хорошенько суставы смазывает, за нос его тянет, щекочет, чтобы от глаза заговорить. Щетинку потом расчесала и так за ним ухаживать стала, что через день-другой и вовсе его выходила. На очистках, на отрубях стал здороветь и расти поросенок на глазах, так что глядеть было любо-дорого. А баба не знала куда деваться на радостях, что такой у неё сынок — пригожий, упитанный, свежий, как огурчик. Хоть бы весь свет говорил, что некрасив он и груб, она одно заладила: мол, другого такого нет и быть не может! Одну только обиду носила баба на сердце: что не может сынок отцом-матерью называть их.
Собрался однажды дед в город купить кой-чего.
— Старче, — говорит баба, — не забудь стручков сладких для нашего мальчика купить, очень уж он их любит, малышенька наш.
— Ладно, старуха, — отвечает дед, а сам думает: "Леший его возьми, рыло свинячье, житья от него не стало. На себя хлеба и соли не хватает, а тут откармливай его сластями… Если стану старухе во всем потакать, дом прахом пойдет!"
Отправился дед в город, все дела свои сделал, вернулся домой, а баба спрашивает:
— Ну, старче, что в городе слышно?
— Да что слышно, старуха, не больно хорошо; хочет царь дочь свою замуж выдать.
— И что же в этом, старче, дурного?
— Погоди маленько, старуха, не об этом одном речь. От того, что услышал я, волосы на голове дыбом встали. Думаю, когда тебе все как есть расскажу, тоже дрожмя задрожишь!
— В чем же дело-то, старче? Ишь, беда какая!
— Ты же слушай, старуха. Послал царь по всему свету гонцов: кто от своего дома до царского дворца золотой мост проложит, каменьями драгоценными вымощенный, по обеим сторонам деревьями обсаженный, на которых бы всевозможные птицы распевали, каких больше нигде на свете нету, тому он дочь свою в жены отдаст да еще полцарства в придачу. А тому, кто осмелится руки царевниной просить, а моста такого, как велено, сделать не сможет, — на месте голову рубить будут. И как слышно, немало королевичей и царевичей невесть откуда понаехало, но ни один с тем не справился; и никому от царя пощады не было, всех казнить велел, и стонет народ от жалости к ним! Что ж ты, старуха, скажешь? Добрые разве это вести? Да еще говорят, сам-то царь заболел с горя!
— Ох, старче, ох! Болезни-то царские нашего здоровья здоровей! А вот царевичей жалко мне; сердце разрывается, когда подумаю, как страдают и горюют матери ихние! Хорошо, что наш сынок говорить не умеет и до всех этих страхов ему и дела нет.
— Это, конечно, неплохо, баба. Но еще лучше тому, чей сын тот мост построит и царскую дочку в жены получит; уж он-то нужду оседлает и славу большую добудет.
Пока старики вели беседу, поросенок лежал на подстилке под печкой, задрав рыльце кверху и не сводя с них глаз; слушал и только пофыркивал. И вдруг из-под печки доносится: "Отец, мать, я тот мост сделаю". Баба от радости языка лишилась. А дед, испугавшись нечистой силы, стал оглядываться, ищет, откуда тот голос. Никого не увидев, пришел он немножко в себя, а свиненок снова кричит:
— Не бойся, отец, я это… Успокой мать и ступай к царю, скажи, что я тот мост сделаю.
— А сумеешь ли сделать, дитятко милое? — изумился дед.
— Положись на меня, отец. Ступай да скажи царю, что я тебе велел.
Старуха, очнувшись, стала сынка целовать, уговаривать:
— Сыночек милый, родной! Не лезь головой в петлю! На кого нас покинешь? Останемся мы одни средь чужих людей, с разбитым сердцем, без опоры на старости лет.
— Не печалься, мать, не тревожься. Если буду жить и не умру, увидишь, кто я таков.
Что было старику делать? Расчесал он бороду, волосок к волоску, посох свой стариковский взял и пошел. Как прибыл в город, не мешкая во дворец явился. Один из стражников, увидев его, спрашивает:
— Чего тебе, старче, надобно?
— Да вот, дело у меня к царю. Сын мой берется мост ему сделать.
Стражник, зная приказ, без долгих слов доставляет деда к царю. Спрашивает царь у деда:
— Зачем, старче, ко мне пожаловал?
— Долгие годы жить тебе в счастье, великий и пресветлый государь? Сын мой, прослышав, что дочка у тебя на выданье, отправил меня к твоему царскому величеству доложить, что может он тот мост справить.
— Если может, то пусть делает, старче. Достанется ему тогда дочь моя и полцарства в придачу. А не сможет, пусть тогда на себя пеняет… Слыхал ведь, что с другими сталось, познатнее его? Так вот, если с руки тебе, то ступай, приводи сына. А нет, уходи подобру-поздорову, дурь из головы выкинь.
Поклонился дед до земли, домой пошел за сыном. Обрадовался поросенок, узнав о царских словах, стал играть и резвиться, под лаицами пробежался, рыльцем горшок-другой перевернул, говорит:
— Пойдем, отец, я царю представлюсь!
Заохала баба, запричитала:
— Видно, нет у меня счастья в жизни! Сколько натерпелась, пока сына вырастила, выходила. А теперь?.. Чует мое сердце, что без него останусь.
И со страху и горя чувств лишилась.
А старик, недолго думая, шапку на уши нахлобучил, взял свой посох, и говорит:
— Пойдем, сынок, матери невестку добудем!
Поросенок на радостях как пробежится под лаицами и за дедом следом. Бежит, визжит, землю нюхает, свинья-свиньей. Добрались они до дворцовых ворот, а стражники, как завидели их, меж собой переглядываются, со смеху покатываются.
— Это что же такое, старче? — спрашивает один из них.
— А это сынок мой, что берется для царя мост проложить.
— Господи, боже, — говорит один из стражников, постарше других, — не горазд же ты, старик, умом. Или жизнь тебе надоела?
— Да уж что суждено человеку, то на лбу у него написано. Двум смертям не бывать, одной не миновать.
— Ты, старик, видать, беды себе ищешь днем с огнем, — сказал стражник.
— До этого вам дела нет, — ответил дед. — Держите лучше язык за зубами и дайте знать царю, что явились мы.
Снова переглянулись стражники между собой, пожали плечами, и один из них отправился к царю доложить о старике и его поросенке. Вызывает их царь к себе. Дед, как вошел, в ноги поклонился, смирнехонько стал у двери. Поросенок же пробежался по коврам, захрюкал, весь дом обнюхивает.
Стало царю от такой дерзости смешно, а потом рассердился он и сказал:
— Ладно, старче, когда пришел ты в тот раз, вроде был в своем уме. — Да знаешь ли ты, куда свиней приводишь? Кто, скажи, тебя надоумил над самим царем шутки шутить?
— Упаси господи, великий государь, и подумать мне, старику, об этаком! Уж ты не прогневайся, великий государь, но только это сынок мой, который, ежели помнить изволишь, прислал меня однажды к тебе.
— Уж не он ли мне мост построит?
— Так мы с надеждой на бога думаем, великий государь.
— Тогда бери свинью твою и вон отсюда. А если до завтрашнего утра мост не будет готов, то быть голове твоей, старче, там, где пятки твои теперь. Понял?
— Милостив бог, великий государь. Зато если выполним повеление твое, государь, то уж не прогневайся, дочь свою шли к нам домой.
С этими словами поклонился старик низко, забрал поросенка и пошел домой. А за ним несколько солдат увязалось, ибо приказал царь взять его под стражу до утра, разузнать, как да что?… Потому что смех да толки, да расспросы пошли по дворцу и повсюду про такую неслыханную дерзость.
К вечеру явился дед с поросенком домой, и старуха так и затряслась со страху, заохала, застонала:
— Ой, старче, старче, что за беду ты мне в дом принес! Солдат мне только не хватало!
— Еще ты смеешь шуметь, старуха? Твоих это рук дело. Послушался я глупой твоей головы, пошел по оврагам приемыша тебе добывать. Вот и в беду попали! Потому не я привел солдат, а они меня привели. И голове моей, пожалуй, лишь до утра суждено там быть, где теперь она.
Между тем поросенок по хате бегает, ищет, чем поживиться, и никакого дела ему нет до всего, что натворил. Спорят старики меж собой, спорят, а под утро, как ни встревожены были, уснули. Поросенок тогда на лаицу тихонько взобрался, в окошке бычий пузырь выбил, дохнул — и словно два огненных вала потянулись от лачуги до самых царских палат. И в один миг чудо-мост был готов со всем, что ему полагалось. Лачуга же дедова превратилась во дворец, куда лучше и краше царского. Вскинулись старик со старухой — а на них одежды царские пурпурные, и все сокровища мира во дворце у них. А поросенок играет себе да резвится, да на мягких коврах нежится.
По всему царству разнесся слух про столь великое чудо. Сам царь и советники царские до смерти перепугались. Созвал царь совет и, решив дочь свою за старикова сына выдать, тут же и отослал ее. Потому что хоть и был он царь, а про все на свете забыл, кроме одного — страха!
Свадьбу не справляли, ибо с кем было справить? Царевне, когда к жениху приехала, по душе пришлись и дворец, и родители мужнины. Зато как жениха увидала — сама не своя стала. А потом повела плечами и подумала:
— Если так рассудили родители мои и господь бог, пусть так и остается!
И стала она хозяйничать в новом доме.
День-деньской поросенок, как и раньше, по дому рыскал, а к ночи свиную кожу с себя сбрасывал и становился прекрасным царевичем. Вскоре привыкла к нему молодая жена, и не так уже ей было тоскливо, как прежде.
Через неделю-другую соскучилась она по родителям и решила навестить их, а мужа дома оставила — не показываться же с ним на людях! Обрадовались ей отец с матерью, стали о хозяйстве, о муже расспрашивать, и рассказала она им все как есть. Тогда ей отец такой совет дал:
— Дочь моя милая! Упаси тебя бог мужу вред какой причинить, а то навлечешь на себя беду! Кто бы он ни был, а власть имеет большую, непостижимую, коли сумел дела совершить превыше сил человеческих.
Немного спустя вышли обе царицы в сад на прогулку, и тут-то и научила старая царица молодую совсем по-иному:
— Доченька милая! Никакой у тебя жизни не будет, если не сможешь с мужем на людях бывать. Вот тебе мой совет: прикажи огонь большой в печи развести, и когда муж уснет, возьми ту кожу свиную и швырни в огонь, чтобы раз навсегда от нее избавиться!
— Верно говоришь, маменька. А мне вот и в голову не пришло…

И лишь только вернулась домой, сразу же велела большой огонь в печи развести. Когда же уснул молодой супруг крепким сном, схватила она свиную кожу и швырнула в огонь. Затрещала щетина, зашипела шкура, искорежилась, в золу превратилась. И таким страшным духом наполнился дом, что сразу же пробудился молодой муж, вскочил в испуге. Бросился к печи, заглянул в нее и, увидев, какая стряслась беда, залился слезами и сказал:
— Женщина неразумная! Что ты натворила? Если кто надоумил тебя, плохую он тебе службу сослужил; а если же по своей голове поступила, то мало проку в такой голове!
И вдруг железный обруч опоясал ее стан, и сказал ей муж:
— Когда обниму я стан твой правой рукой, рассыплется этот обруч и тогда только родишь ты младенца, ибо послушалась ты дурного совета, обездолила и несчастных стариков моих, и меня, и себя заодно. Если же когда-либо будет нужда во мне, знай, что зовут меня Фэт-Фрумос
[11] и искать меня будешь в Ладан-монастыре.
Только сказал, и ветер возник внезапно; страшной бурей подняло его в воздух, и исчез он из глаз. А мост чудесный тут же пропал и сгинул, будто его никогда и не было. Дворец же, в котором старики с невесткой среди всех богатств и сокровищ мира жили, снова бедной лачугой обернулся. Увидев, какая беда с ними стряслась, стали старики, плача и стеная, невестку корить и велели ей идти на все четыре стороны, потому что при себе держать было им не под силу.
В таком несчастье что ей было делать, куда деваться? Вернуться к отцу-матери? Страшно было отцовского гнева и насмешки людской. На месте оставаться? Не на что было ей жить, да и опостылели ей упреки стариков. И решила она по свету идти, мужа искать. Сказала "господи, благослови!" и пошла, куда глаза глядят. Шла она, шла, все вперед да вперед и приходит в дикое, неведомое место. Увидела одинокую избушку, покрытую мхом, свидетелем древних лет, и постучалась в калитку.
— Кто там? — откликнулся старушечий голос.
— Откройте бесприютной страннице.
— Если добрый ты человек, приди в келью мою; а если нет, то прочь ступай отсюда, ибо стальные клыки у пса моего; коли спущу с цепи, на куски тебя разорвет!
— Добрый я человек, матушка!
Отворилась тогда калитка, и впустила старуха странницу.
— Каким ветром занесло тебя, женщина? Как смогла ты проникнуть в эти места? Сюда и жар-птица не залетает, а человек и подавно.
Горько вздохнула странница и сказала:
— Грехи тяжкие привели меня сюда, матушка. Иду я в Ладан-монастырь, а в какой стороне он, того и сама не ведаю.
— Видать, есть еще у тебя маленько счастья, коли попала ты прямо ко мне. Я — святая Середа; слыхала, может, обо мне?
— Слыхать-то слыхала, матушка, а что на этом свете живешь, никогда бы не подумала.
— Видишь? А еще люди на судьбу жалуются!
Кликнула святая Середа громким голосом, и вмиг собрались твари живые со всего ее царства. Стала их святая Середа расспрашивать про Ладан-монастырь, но все как один ответили, что и названия такого не слыхивали. Огорчилась святая Середа, но что было делать? Дала она страннице просфору и чарку вина на дорогу, и прялку-самопрялку золотую. Сказала ей ласково: "Береги, в нужде пригодится", и отправила ее к старшей своей сестре святой Пятнице.
Снова пустилась бедняжка в путь, и шла она год напролет по диким, неведомым местам, пока не добралась, наконец, до святой Пятницы. И случилось здесь то же, что и у святой Середы, — только дала ей святая Пятница еще одну просфору и чарку вина на дорогу, и мотовило золотое, что пряжу само наматывало; с такой же лаской и кротостью отослала ее святая Пятница к старшей сестре своей, святой Троице. В тот же день отправилась путница дальше, и брела она снова год напролет по местам, еще более пустынным и страшным, чем прежде. И будучи тяжелой на третьем году, с большим трудом добралась она до святой Троицы. Приняла ее святая Троица с тем же радушием, что и сестры ее. Пожалела несчастную, кликнула клич что было мочи, и все твари на клич тот примчались — водяные и земные, и небесные. Стала их святая Троица расспрашивать, в какой стороне света Ладан-монастырь стоит. Но все как один отвечали, что слышать не слышали и ведать не ведают. Вздохнула святая Троица от всего сердца, глянула грустно на странницу и сказала:
— Видно, божье проклятие лежит на тебе, коли не дано тебе найти то, чего ищешь! Ибо здесь край света, даже мне неведомого. И дальше идти никому невозможно.
Вдруг, откуда ни возьмись, жаворонок хроменький ковыляет: ковыль, ковыль, ковыль! прямо к святой Троице. Спрашивает его святая Троица:
— Не знаешь ли, жаворонок, где Ладан-монастырь стоит?
— Как не знать, госпожа моя? Туда я по зову сердца летал, ногу сломал.
— Если так, что хочешь делай, а доставь эту женщину в Ладан-монастырь и научи, как ей дальше быть.
Вздохнул жаворонок и ответил смиренно:
— От всего сердца выполню твою волю, госпожа моя, хоть и очень трудна дорога до того места.
Подарила тогда святая Троица несчастной страннице просфору и чарку вина в дорогу, чтобы хватило ей до самого Ладан-монастыря, и еще золотой поднос, и наседку из чистого золота, драгоценными каменьями усыпанную, с цыплятами тоже из золота. Поручила странницу жаворонку, и тот, ковыляя, сразу в путь пустился. Когда уставала бедняжка и не под силу ей было брести, брал ее жаворонок на свои крылышки и нес по воздуху. Так странствовали они год напролет, с большим трудом и великими опасностями пересекли бесчисленные моря и страны, шли по лесам и гибельным пустыням, кишевшим драконами, — ядовитыми змеями, василисками, чей взгляд убивает, гидрами о двадцати четырех головах и другими ужасными гадами без числа, с широко разверстыми пастями, готовыми проглотить их, среди чудищ, чью непомерную алчность, хитрость и свирепость не в силах описать язык человеческий!
Наконец, после всех препятствий и опасностей, добрались они до какой-то пещеры. Снова села женщина на крылья спутника своего; едва шевеля ими от усталости, полетел он, и очутились они вдруг на другом свете, где райская благодать — да и только!
— Это Ладан-монастырь — сказал жаворонок. — Здесь находится Фэт-Фрумос, которого ищешь ты долгие годы. Уж не знакомо ли тебе что-нибудь здесь?
Разбежались глаза у нее от такой красоты и блеска, но, всмотревшись внимательнее, узнала она чудо-мост и дворец, в котором
так недолго прожила с Фэт-Фрумосом, и слезами радости наполнились ее глаза.
— Погоди! Не спеши радоваться. Еще недостойна ты этих мест, и не все еще испытания кончились, — сказал жаворонок.
И показал ей колодец, к которому велел приходить три дня кряду, рассказал, с кем она там встретится и что говорить должна, и что делать ей с прялкой, мотовилом, подносом и золотой наседкой с цыплятами — подарками трех сестер: святой Середы, святой Пятницы и святой Троицы.
Потом попрощался со своей спутницей и полетел без оглядки обратно, страшась, как бы не оторвали ему еще и другую ногу. А бедная странница, проводив его глазами, полными слез, побрела к колодцу.
У колодца достала она прялку, села на землю отдохнуть. Немного погодя приходит по воду служанка. Как увидела незнакомку с дивной прялкой, что сама золотую пряжу в тысячу раз волоса тоньше прядет, кинулась к госпоже своей поведать про диво-дивное.
Госпожой служанки была ключница Фэт-Фрумоса — та ведьма, от которой сам черт поседел и которая воду в камень превращать умела и знала все бесовы уловки. Одного не умела она — мысли отгадывать. Как проведала она про диво-дивное, сразу же шлет служанку за незнакомой странницей. Когда же та во дворец явилась, сказала ей ведьма:
— Говорят, есть у тебя прялка золотая, что сама прядет. Не отдашь ли мне эту прялку и что за нее просишь?
— Позволь мне ночь провести в той комнате, где царь почивает.
— Почему бы и нет? Давай прялку и жди здесь до вечера, пока царь с охоты вернется.
Отдала странница прялку и ждет. А беззубая ведьма, зная про царев обычай каждый вечер чашу молока перед сном выпивать, такого ему молока приготовила, чтобы спал он как мертвый до самого утра. Вернулся царь с охоты, лег в постель, — шлет ему молоко ведьма. Как осушил он чашу, так и заснул на месте мертвым сном. Позвала тогда ведьма странницу в царскую опочивальню, как было меж ними условлено, а сама ушла, сказав:
— Оставайся тут до рассвета, пока не приду за тобой.
Говорила ведьма шепотом и ступала тихонько. Опасалась, как бы не услышал ее из соседней комнаты верный царский слуга, что каждый день с царем на охоту хаживал.
Как только удалилась колдунья, бросилась бедная странница на колени перед спящим супругом, стала руки ломать и так говорить:
— Фэт-Фрумос! Фэт-Фрумос! Протяни руку твою, обними мой стан, чтоб рассыпался проклятый обруч, чтоб явилось на свет дитя твое!
Так стонала бедняжка и терзалась до самого утра, а царь словно и неживой — ничего не слышит. На рассвете пришла ведьма туча-тучей, вытолкнула несчастную, велела тотчас же убраться. Пошла бедная странница, вне себя от горя и обиды снова у колодца уселась, мотовило достает. Когда же снова явилась служанка по воду и новое чудо увидела, опять кинулась к своей госпоже, рассказала, будто есть еще у незнакомки мотовило золотое, что само пряжу разматывает и много чудеснее золотой прялки. Снова послала жадная баба за нею служанку, той же уловкой прибрала золотое мотовило к рукам, а наутро снова прогнала бедняжку.
В ту ночь услышал верный царский слуга, что происходит у царя в опочивальне, сжалился над несчастной странницей и решил перехитрить коварную ведьму. Когда встал с постели царь и отправились оба на охоту, рассказал он подробно царю обо всем, что случилось в последние две ночи… Встрепенулся царь, словно сердце в нем пробудилось. Потом потупил взгляд и заплакал. А пока из глаз Фэт-Фрумоса ручьями слезы катились, убитая горем жена его сидела у колодца, а рядом стояла на подносе золотая наседка с цыплятами — последняя надежда! И снова приводит господь ту служанку к колодцу. Увидев новое, еще большее чудо, не стала она воды набирать, кинулась к своей госпоже, говорит:
— Госпожа, госпожа! Новое диво-дивное! Есть у той женщины золотой поднос, и золотая наседка с цыплятами тоже из золота, такие прекраснее, что глаз не отвести!
Посылает колдунья не мешкая за странницей, а сама думает:
"Чего она ищет, не видать ей как своих ушей…"
И так же коварно завладела золотым подносом и золотой наседкой с цыплятами.
Когда же вернулся царь с охоты и принесли ему молока, решил он того молока не пробовать, выплеснул его украдкой и сразу же притворился глубоко спящим.
А колдунья, видя, что царь заснул и вверившись силе своего зелья, снова привела странницу в царскую опочивальню с тем же уговором, что в прошлые ночи, а сама удалилась. Снова припала несчастная к царской постели и, заливаясь слезами, воскликнула:
— Фэт-Фрумос! Фэт-Фрумос! Сжалься над двумя неповинными душами, что вот уже четыре года страшной карой терзаются. Протяни правую руку твою, обними меня, чтоб рассыпался обруч железный и явилось на свет дитя твое, ибо не под силу мне больше это бремя!
Сказала, и словно во сне протянул Фэт-Фрумос руку. Лишь коснулся стана ее — со звоном рассыпался обруч, и без всяких страданий разрешилась она младенцем.
Поведала царица мужу, какого горя она натерпелась с той поры, как он покинул ее.
Не дожидаясь рассвета, поднялся царь, весь двор на ноги поставил, велел колдунью к себе привести со всеми сокровищами, обманным путем от царицы присвоенными. И еще велел привести кобылку необъезженную и мешок, полный орехов, и привязать к хвосту кобыльему тот мешок и ведьму и отпустить кобылу на все четыре стороны. Как велел, так и сделали. Поскакала кобыла, и где орех падал, там и от ведьмы падал кусок; когда же совсем отвалился мешок, то и ведьмина голова отвалилась.
А была эта ведьма той самой свиньей, которая с поросятами в луже барахталась и от которой старику Фэт-Фрумос достался. Колдовскими чарами превратила она Фэт-Фрумоса, господина своего, в поросенка сапного, шелудивого, с тем чтобы поженить его на одной из одиннадцати дочерей своих. За это и казнил ее Фэт-Фрумос ужасной казнью. А слугу своего верного великими дарами одарили царь с царицей и от себя не отпускали до конца его дней.
А теперь припомните, люди добрые, что не справил Фэт-Фрумос свадьбу в свое время. На этот раз отпраздновал он сразу и свадьбу и крестины такие, каких никогда еще не бывало и, верно, не будет. И лишь только подумал Фэт-Фрумос, тут же явились и родители молодой царицы, и дед со старухой, взрастившие его, снова в царский пурпур одетые, и посадили их во главе стола. Кого только не было на богатой и пышной свадьбе! И длилось веселье три дня и три ночи, и еще поныне длится, если не кончилось.

 СКАЗКА ПРО СТАНА — ВИДЫ ВИДАВШЕГО
СКАЗКА ПРО СТАНА — ВИДЫ ВИДАВШЕГО

Жил-был на свете человек немолодой, холостой, по имени Стан. Сызмальства оказался он среди чужих людей, не знал ни отца, ни матери, ни родных, от которых мог бы ждать помощи и защиты.
Скитаясь бесприютным мальчишкой, побираясь от двери к двери, нашел он себе, наконец, пристанище в большом красивом селе.
Тут, служа верой и правдой то одному, то другому, скопил он себе к тридцати с лишком годам деньжат немного, приобрел несколько овец, телегу с волами и коровенку молочную. Потом хатенку себе поставил и стал работать уже на себя, оставшись в том селе навсегда. Как говорится, и камень мхом обрастает, если долго на месте лежит.
Когда же оказались у парня и дом и добро порядочное, то вовсе о покое забыл он, не стал на месте сидеть, как вода не стоит на камнях, и сон его почти не брал, до того он был к работе ретив. Не успеет с одной стороны приехать, как уже в другую едет, и со всеми делами своими один-одинешенек справляется. Конечно, нелегко ему было. Некому в его отсутствии за домом и за скотинкой как следует присмотреть. Но что было делать бедняге? Не разорваться же, ведь только-только своим очагом обзавелся, а сколько пришлось вытерпеть, пока обрел он свой дом, один господь бог знает! Вот и метался он во все стороны, работал, сколько сил хватало, только бы нужду оседлать, а там уж видно будет.
Все бы ничего, да тоска одолела. В рабочие дни еще куда ни шло, с головой в работу уходил и скучать забывал. Зато в долгие зимние ночи, когда метель завывала жутко, да если еще праздник вдобавок выпадал, не знал, он, что делать, куда приткнуться. Как в песне поется:
От тоски бегу я к людям,
А тоска за мной повсюду;
От тоски бегу домой,
А тоска бежит за мной.
Уж так, видать, создан человек, что не жить ему одному. Много раз задумывался парень о женитьбе, но стоило ему вспомнить, сколько натерпелись другие от своих жен, как сразу же брали его сомнения и откладывал он со дня на день, с четверга до дождичка это, как говорил он, щекотливое дело и все думал о многом и многом… Одни говорят, что жена — мешок бездонный. Что бы это значило? Других послушать — избави боже от жены ленивой, лживой и расточительной; третьи еще невесть чем стращают, не разберешь, чему верить, чему нет. Правда, случалось ему немало и мужчин видеть безвольнее и слабее самой слабой женщины… Нередко он спохватывался, что сам с собой разговаривает, будто умом тронутый… а все не мог решить: жениться… не жениться?..
То, говорит, осенью женюсь, то зимой, то весной, то летом, то снова осенью, когда листья увянут; а между тем и сам-то вянуть начинает, — и все холостой, женитьба ни с места. А ведь как говорят? До двадцати годов сам человек женится, до двадцати пяти — другие женят; до тридцати баба сосватает; а уж после тридцати только черт с этим справится.
Так оно и случилось с нашим молодцом — ни сам не женился, ни друзьям, ни даже бабам — уж на что они бедовые, и притворщицы, и въедливы — не удалось оженить его.
Был Стан нрава молчаливого, но уж когда выдавал словечко, то была слово словом, и к месту сказывалось и не каждый с ним спорить мог.
Немало находилось охотников заполучить его в зятья, но парень был себе на уме, нелегко на уговор поддавался. Со временем наскучило это дела и бабам, и друзьям, и махнули они на него рукой, дескать, пусть сам с собой делает, что хочет.
В один прекрасный день встает парень ни свет ни заря, готовит себе мамалыгу с брынзой и что еще бог послал, кладет еду в сумку, запрягает волов, говорит "помоги, боже" и отправляется в лес по дрова. На рассвете добрался до леса, нарубил дров, нагрузил телегу доверху, веревкой стянул накрепко и, покамест волы кормились, сам присел перекусить. А когда наелся досыта, остался у него кусочек мамалыги, и, скатав его в шарик, сказал он: "Чего его домой таскать? Положу лучше на этот пенек. Может, найдет его тварь какая, съест и спасибо скажет". Положил мамалыгу на пень, запряг волов, снова "помоги, боже" сказал и к полудню двинул домой. Только из лесу выехал, буря поднялась страшная, дождь со снегом пополам — зги не видать ни впереди, ни сзади. Просто гнев божий — собаки не выпустишь во двор, не то что человека! А черту того и надо: в такую непогоду каждый терпенье может потерять и против воли в грех впасть.
В тот день Скараоский, чертов начальник, преследуя, как обычно, свои гнусные цели, дал приказ всем слугам своим разбрестись кто куда и повсюду — на море и на суше — сеять вражду между людьми и всякие мерзости творить.
Рассыпались черти с быстротой молнии во все стороны. Один из них помчался в лес — не задастся ли там всяких бед натворить: кого подстрекнуть против господа бога, кому ось или что другое в телеге сломать, кому вола покалечить, а других в драке стравить, пока не убьют друг друга, — и другие всякие подлости учинить, какие вытворяет чертова сила.
Как управились остальные черти, не знаем, но только тому, кто в лес пошел, не повезло в тот день. Уж как он из кожи ни лез, уж как ни изворачивался, пытаясь свой хвостик закрученный в людские дела сунуть, а все зря. Куда ни ходил — все впустую.
Разнюхивая то тут, то там, к вечеру, наконец, набрел он на колею. Пошел потихоньку по следу, добрался до того самого места, где Стан дрова погрузил. Только место нашел, потому что парень, как сказано, давно уже из лесу уехал.
Видя, что и тут неудача его постигла, заскрежетал чертяка зубами с досады, не зная, как быть, как с пустыми руками к Скараоскому явиться; к тому же от долгой ходьбы голова у него кругом шла, а от голода живот свело.
Стоит он мрачный, растерянный, вдруг видит на пне комок мамалыги. Обрадовался черт — проглотил мамалыгу, не пикнул. А после, решив, что делать ему тут больше нечего, поджав хвост, вернулся к хозяину. Как явился в ад, так его Скараоский спрашивает:
— Ну, сынок, как успехи? Сколько душ заарканил? Давай, отчитывайся!
— Да почти ничего, хозяин, — смущенно ответил черт, весь дрожа со страха. — Видно, в недобрый час я отправился. Уж очень была погода отвратная, только один человек в лес сегодня пошел. Да и тот улизнул от меня, слишком поздно я на его след напал. Счастье еще, что нашел я кусок мамалыги на пне и съел, потому что брюхо у меня с голоду так и урчало. А больше ничего не знаю, ваша темность.
— Ах ты, нечисть поганая! Небось, мамалыгу-то слопал, а что сказал тот, кто мамалыгу на пень положил, известно ль тебе?
— Ничего не известно, хозяин.
— О чем же ты думаешь, если даже не знаешь, что смертные говорят? Уж так и быть, расскажу тебе, хоть и не был я в лесу, как ты. Вот что молвил он: "Кто эту мамалыгу съест, пусть спасибо скажет". Сказал ли ты что-нибудь, когда съел?
— Нет, ничего не сказал, хозяин.
— Ах так?! Тебе бы в самые мысли людей проникать, а ты и того не знаешь, что они вслух говорят. Могу ли еще полагаться на вас? Ну, да ладно, найду на тебя управу! Будешь знать в другой раз. Ступай тотчас к тому человеку и служи ему верой и правдой три года, куда бы он тебя ни поставил. Жалованье деньгами не бери, а уговорись, что по истечении срока унесешь из его дома, что захочешь. И чтобы оно пригодилось тут Адовой Пятке, а то у нее все подстилки прогнили… Посмотрим, догадаешься ли взять, что нужно? А теперь марш! Готово?
— Готово, хозяин, иду!
Пробежался чертяка по аду, заглянул к Адовой Пятке, посмотрел, чего не хватает, и помчался со всех ног выполнять приказ Скараоского. А неподалеку от хаты Стана обернулся он мальчуганом лет восьми, в немецкой одежде, и побрел, съежившись, к калитке. Стан как раз, сняв котелок с огня, собирался мешать мамалыгу. Вдруг слышит, собаки на кого-то накинулись, разорвут, не иначе. Вглядывается — что такое? Мальчуган от собак на ворота забрался. Побежал Стан к воротам, кричит:
— Цыц, Хормуз! Назад, Балан! Сюда, Зурзан! Вон, чертовы шавки! А ты откуда, кроха? И чего тебе тут надобно, собачья гроза?
— Чего надобно, дяденька? Я бедный парнишка, без отца, без матери, в батраки наниматься хочу.
— В батраки? Да тебе и гусей пасти не под силу… Годков-то тебе сколько?
— Годов мне, примерно, тринадцать.
— Неужто тринадцать?.. Правильно, значит, говорят, что воробей в любом возрасте птенчик… Я бы тебе семь годков дал, от силы восемь. Верно из-за одежды нескладной своей кажешься ты еще меньше и тщедушней. Намедни ходил тут по деревне другой щеголь вроде тебя, однако чуть пригожей и по-иному одетый:
То ль в кафтане, то ли в свитке,
Из которой перли нитки.
В паре аглицких штанов
Из бессчетных лоскутов.
Когда он по дороге шел, штаны шли с дорогой рядом: по его словам, скупал он овчинки; у ворот моих еле спас я его от клыков Зурзана; так его Зурзан отделал, что ошметки летели; как говорится: зашел бы к вам вечерком, да с собаками незнаком. Словно и сейчас вижу его — весь оборванный, лохмотья с земли подбирает. Еще немного, и с тобой бы то же случилось. А звать тебя как?
— Отроду Кирикой звали.
— Уж не святой ли Кирика Кривой окрестил тебя, который чертей держит за волосы?
— Не знаю такого, но Кирикой меня зовут.
— Что до меня, то хоть бы кто крестил, но одно знаю, что в самую точку попал, окрестив тебя Кирикой; потому ты и в самом деле как воробушек — чик-чирик.
— Да уж как там, дядюшка, чирик не чирик, а таков я, как видишь; встречал я людей… великанов… а проку в них ни на грош. На работе человек виден. Пускай зовут меня, как зовут; вам-то что? А вас как звать?
— Станом зовут, но в детстве еще, заболев тяжело, сменил я имя на Ипата
[12], и с той поры остался с двумя именами.
— Ну, так знайте же, дяденька, что и про вас песенка сложена:
Ипате пить здоров — опрокидывает штоф,
И делает знак рукой, чтобы подали другой.
— Эге-ге, тут-то обставил ты меня, мэй Кирика! Вот чертов парень! Словно ты на кладе сидишь, все знаешь. Телом, правда, не вышел, а умом горазд. Уж не отгадаешь ли, часом, мою загадку:
Широкое — на широкое, на широкое — горячее, на горячее — раскоряченное, на раскоряченное — кривизну, на кривизну — белизну, на белизну — желтизну, на желтизну — молодца.
Заулыбался Кирика, говорит:
— Ежели отгадаю, дашь ли мне тоже ломтик?
— Да знаешь ли ты, что это есть? Отгадай сперва, потом увидим.
— Чему ж это быть? — говорит Кирика. — Фасад дома, очаг, пламя, таганец, чугунок, вода в чугунке, мука и пестик — мамалыгу мешать.
— Молодец, Кирика! Теперь и сам вижу, что малый ты хоть куда! Сколько просишь за год, если ко мне пойдешь?
— Да видишь ли… на год не нанимаюсь.
— А на сколько же?
— На три года сразу, потому не привык я ходить от хозяина к хозяину, да и научиться кой-чему хочу, пока от тебя не уйду.
— Да по мне так еще лучше, мэй Кирика. И что ты за три года просишь?
— Что прошу? Еды и одёжи дашь сколько потребуется, а когда выйдет срок, позволишь взять из хаты твоей, что захочу.
— Это еще что за уговор? Может, душу мою забрать вздумается или, кто знает, что еще в голову взбредет.
— Да нет же, дядя Ипате, будь спокоен, так много от тебя не потребую. И потом, что я у тебя заберу из хаты, того тебе не надобно.
— Вот так так, — сказал Ипате. — Цепом бы тебя за такие речи. Балан пусть разберется в словах твоих, раз не говоришь ты толком.
— Что же, дядя Ипате. Уговор — не спор; лучше раньше договориться, чем позже.
— Вот это же и я говорю, чертова перечница. Не води ты меня, скажи ясно, чтобы знал я, что твое и что мое.
— Да ну же, дядя Ипате, да ну же; не скупись из-за пустяка, не о царстве же речь идет.
— Знаешь что, Кирика, оставайся у меня, тогда и договоримся. Вижу, что парень ты с головой и — чем черт не шутит — может, и работяга; вроде знаешь, что к чему,
— Об этом, дядя Ипате, не беспокойся, — отвечает Кирика. — Не смотри, что я мал. Ту работу, что я для тебя проверну, другой не сделает, будь он со звездой во лбу.
— Что ж, может и так. Хорошо бы, мэй Кирика, кабы все с молоком было, что ты говоришь. Зато тебе и впрямь хозяин достался, добрее доброго; только заранее уговоримся: не сквернословь, а не то, смотри, выведешь меня из себя, и как бы чего не случилось.
— И на этот счет будь спокоен, дядя Ипате.
— Значит, уговорились. А теперь поесть тебе надо. Вот тебе овечий сыр с муждеем
[13] и мамалыгой. Ну, уплетай, а после за дело берись.
Присел паренек по-пастушьи, на одно колено, перекусил на скорую руку и принялся за работу. И так он справлялся усердно и ловко, будто с рождения здесь находился, а сам Ипате еще с большей охотой трудился рядом с ним, вовсе забыл про скуку, себя не помнил от радости: с того дня, как нанялся к нему Кирика, удача так и перла к нему со всех сторон, и уже он счет потерял своему добру.
Утыканные колючками плетни, сквозь которые и ветру не проникнуть было; хлева и загоны для волов и коров; зимний загон для овец; курятники, свинарники, сусеки для кукурузы, амбары для пшеницы и много-много другого добра сотворил своей рукой Кирика как по щучьему веленью! Можно сказать, стократно и тысячекратно разбогател Ипате с тех пор, как пришел Кирика к нему. Тут-то увидел Ипате, на что способен Кирика, и полюбил его как родного.
Так прошло два года, и однажды сказал Кирика своему хозяину:
— Хозяин, не гневайся, но скажу тебе слово: почему не женишься? Не сегодня-завтра спохватишься, поймешь, что состарился и наследника не оставил. После жизни еще ведь смерть есть. Кто знает, что может случиться, упаси господь? Кому тогда все добро достанется?
— Что ты, что ты, Кирика? Уж если не женился я, когда пора мне была жениться, неужто теперь женюсь? Видать, хочешь, чтобы черт надо мной потешался… Разве не видишь, что солнце за полдень клонится? Уже скорее я стар, чем молод…
— Потише, потише, хозяин, а то людей такими словами перепугаешь. Не прикидывайся стариком, еще не прошло твое время. Я так думаю, самая пора тебе жениться, есть чем жену и детей прокормить. Слава господу, многие бы не прочь иметь то, что ты имеешь.
— Вот еще, — сказал Ипате, — чудной ты какой-то, мэй Кирика; этакий вздор иногда мелешь. Есть у меня разве посевы или все, что нужно в хозяйстве? Думаешь, так вот жену держат… Жениться — не в пляс пуститься.
— За этим ли дело стало, хозяин?
— А то за чем же, мэй Кирика? Не знаешь разве, что прежде всего брюхо, а уж потом остальное?
— Хозяин, если на то пошло, то уж я постараюсь, чтобы был ты с пшеницей и имел из чего хлеб да калачи печь не только к свадьбе, но и к крестинам.
— Откуда, Кирика?
— Видишь, там вдалеке нива пшеничная зреет?
— Вижу.
— Ступай тотчас же к помещику, скажи, что берешься сдать ему в скирдах весь его хлеб и что денег за работу не берешь, а просишь столько пшеницы, вместе с соломой, сколько унесешь на спине с твоим работником.
— Как так, мэй Кирика? Словно ты не в своем уме… Уж не думаешь ли, что одни мы сумеем пожать и собрать такую уйму пшеницы, ведь на это сотни и тысячи рук нужны, не шутка. И всего-то ради двух охапок пшеницы? Какой же дурак за это возьмется?
— Хозяин, коли хочешь знать, кто я такое и на что горазд, слушай меня, ступай к боярину и скажи ему, как я тебя научил.
Ипате то думает — пойду… то десять раз — нет. В конце концов собрался он с духом, пошел на боярский двор. Явился к боярину, говорит:
— Прошу не гневаться, барин! Нет ли нужды в жнецах?
— Есть, и даже большая, человек добрый; видать, сам бог тебя послал. Совсем поспела пшеница, жатву откладывать нельзя.
— А я, барин, сжать ее берусь.
— Как так, один?
— Уж это мое дело, барин. Берусь в скирдах ее сдать. Разве не по-хозяйски говорю?
— Как вижу, расчет у тебя на много рук.
— Много ли, мало ли, барин, сколько бог даст; лишь бы я дело сделал.
— Сколько ж ты просишь за все?
— Сколько прошу, барин? Как сдам тебе хлеб в скирдах, позволь мне столько пшеницы забрать, вместе с соломой, сколько унесу на спине с моим батраком.
— Ты что, говоришь всерьез или шутишь?
— Упаси боже, я всерьез говорю, барин.
Подумал боярин, что не в своем уме Ипате, и, чтобы отвязаться, говорит:
— Если так, человек добрый, завтра же с утра принимайся за дело. Посмотрю, каков ты работник, тогда в цене и сойдемся.
— Цена, барин, как было сказано.
— Ладно, ступай, ступай; там видно будет!
Вернулся Ипате домой, а Кирика спрашивает:
— Ну, хозяин, как с боярином уговорился?
— Да как? Взялся я хлеб в скирдах ему сдать, как ты сказал, но страх меня взял, когда прошел я вдоль поля и увидел, до чего оно велико. Трудное дело мы затеяли, вряд ли его до конца доведем. Боярин меня и вовсе за сумасшедшего посчитал. Да и не без причины, как видно. Черт его знает, как нам тут быть!
— Будь покоен, хозяин, положись на меня… — отвечает Кирика. — Прихватим-ка лучше все необходимое и отправимся нынче же вечером, чтобы рассвет нас в поле застал.
Вот пустились они оба в путь. К вечеру, как только пришли, говорит Ипате:
— Видишь, Кирика? Не шутка ведь. Сдается мне, тут нам не сдобровать!
— Хозяин, знаешь что? Ложись, отдыхай, утром поговорим.
Ипате, с заботой на сердце, прилег на траву и, будучи усталым, крепко заснул. А Кирика вмиг всю нечистую силу собрал и на работу поставил. Одни жнут, другие снопы вяжут, третьи копнят и копны дыханьем сушат, четвертые убирают и скирдуют. Чертова страда, иначе не скажешь!
Проснулся Ипате на рассвете, огляделся и обомлел: вся работа сделана. Где прежде нива была, скирда большая стоит и две поменьше на гребне холма, а Кирика словно сквозь землю провалился. Дыбом поднялись у Ипате со страху волосы на макушке, кинулся он во все стороны, ищет Кирику. Только когда увидел его спящим на верхушке скирды, опомнился немного. А тут и боярские слуги ни свет ни заря встали, в поле пришли посмотреть, как дело идет. Когда увидели, перепугались очень и — бегом к боярину. Боярин проворно с постели встал, вскочил на коня, духом одним примчался в поле — и такое чудо увидел, какого испокон веков никто не видал и не слыхал!
— Ну, барин, работа готова, — сказал Ипате. — Хорошо, что сам пожаловал, при тебе расчет получать будем.
Недолго думая, снимает Кирика веревку, которой был подпоясан, накрепко перевязывает большую скирду, на спину взваливает — и ходу. Остолбенел боярин, глядя ему вслед. Как бы не взвалил на себя Ипате остальные скирды и по миру его не пустил! Заскрипел он зубами со злости, но делать было нечего. И не зная, как быть, ласково сказал он Ипате:
— Человек добрый, вот тебе деньги взамен остального хлеба и оставь меня в покое! Не думал я, что сам черт тут замешан.
— Избави боже, барин! Христос с нами! Сгинь, сгинь! Да нет же, барин, наработались мы так, что сердце зашлось…
— Да не морочь ты меня, человече, тебе ли меня полевой работе учить? Не со вчера я пшеницу сею, имел со жнецами дело. Может, и не сам ты черт, все равно тут дело нечистое. А впрочем, что мне до вашей души! Вам ответ держать. Получай деньги, как я сказал, и ступай-ка лучше к другим, потому я и так уже здорово поплатился.
Обрадовался Ипате, взял деньги, как сторговались, и пошел за Кирикой вслед. Приходит домой, а там уже все обмолочено, свеяно, смолото; снова все успел провернуть Кирика. Тут уж и вовсе не знал Ипате, что подумать. Чуть было сам не поверил, что с чертом спутался.
— Слышь, Кирика, боярин, хоть и знатная птица, а дурака свалял. Еще он мне и деньжат дал впридачу.
— Что ж, пригодятся и деньги, хозяин. Сунь в кошелек, и молчок. Знал я, что и на расходы нам будет.
На другой день говорит Кирика:
— Ну, хозяин, верно больше не станешь спорить? Не сегодня-завтра мой срок выйдет, без меня останешься. Прежде еще куда ни шло: привык ты один обходиться, но теперь туго тебе придется, да и хозяйство у тебя стало большое. Что же ты, женишься или нет?
— Право, Кирика, не знаю, что тебе и сказать. Вроде и женился бы, подвернись мне жена подходящая. Но боязно, как бы не взять себе черта на голову: с музыкой в дом приведу, а после тыща попов не избавят; выйдет мне тогда все это боком!
— Вот, значит, чего ты боишься, хозяин? Да нет, положись на меня, такую я тебе женушку отыщу, каких больше на целом свете нет. Ибо женское сердце у меня как на ладони. Скажу, не хвалясь, что знаю я все их нутро. Ночью во тьме могу невесту тебе выбрать. Для другого не стал бы возиться, хоть бы золотом меня осыпали. Но ради тебя — дело другое. Уж очень хочу тебя человеком видеть, в ряду со всеми. Сам видишь: другие, не лучше тебя, только по этой причине нос задирают. Будто ты жену прокормить не способен!
— Мэй, Кирика, чудной ты какой-то! С ума человека сводишь своим я речами. Вот так свата нашел я себе! Не знаю, кто тебя в мой дом подослал, но, ей-богу, смышлен ты, ничего не скажешь. Временами стою и думаю, откуда у тебя сила такая? Нет-нет, да и скажу вместе с тем боярином: человек ты, черт ли, призрак ли, только дело тут не совсем чисто. Однако будь ты хоть кто, а пригодился мне крепко! Но скажи, как мне жену выбирать будешь?
— А вот как. В воскресенье пойдем с тобой в деревню на хоровод. Я с мальчишками в стороне постою, а ты в пляску вступай с девушкой, что приглянется. Я ее тоже хорошенечко разгляжу и тебе потом растолкую, какова она есть.
— Это ты, Кирика, неплохо придумал. Все-таки чертов ты хлопец, ей-богу.
— Что ж, хозяин, в наше время не будь ты с чертом в ладу — святые одолеют, тоже ведь нехорошо.
Долго ли, коротко ли, а в воскресенье отправились Ипате с Кирикой в деревню на хоровод. Кирика, как мальчишкам положено, по заборам карабкается, со сверстниками зубы скалит. А Ипате девушку себе заприметил, рядом с ней в пляску вступает; глазами меряет ее сверху донизу, снизу доверху; пока хоровод кружится, то руку ей покрепче пожмет, то на ножку наступит, то… словом, как парню положено. Топ сюда, топ туда! По уши влюбился Ипате. Кирика, чертов хлопчик, конечно, тут как тут. Только вышел Ипате из пляски, говорит ему Кирика:
— Вроде затуманился ты как-то лицом, хозяин! Уж не по вкусу ль тебе девчонка пришлась?
— Не знаю, Кирика, что тебе сказать. Видно, не в добрый час пришел ты ко мне. Что ж, давай к делу приступать; хороша девка, вовсе меня приворожила.
— Нет, хозяин, уж если хочешь меня послушать, то с этой не связывайся. И огонь хорош, да крепко подчас обжигает. Ишь ведь, девчонка какая, и не улыбнется. Совсем святая на вид! А от такой вот святой за одну ночь побелел у меня дядя в колодце.
— Как так, мэй Кирика?
— Сам не знаешь как?
— Ишь ты, скрытный какой! Щуку скорее из речки выудишь, чем из тебя слово. Я так думаю, Кирика, выйдет она за меня и добрее станет…
— Ха-ха! Нет же, как друг тебе говорю: три ребра чертовых у этой девчонки. Конечно, даже у самой лучшей тоже одно такое ребро есть. Вот, значит, найдем хотя бы такую, тогда и скажу тебе, что делать.
— Ты что же, Кирика, все приставал ко мне, женись да женись, а как только к женитьбе меня разохотил, так и на попятный?
— Хозяин, ты же знаешь, я тебе зла не хочу; слушай меня, не прогадаешь.
Послушался Ипате, и вернулись они домой ни с чем. А дома словно его подменили: работает-не работает, — все его думы одолевают; ждет-не дождется воскресенья.
В воскресенье отправляются оба на хоровод в другое село. Кирика, как и в тот раз, с ребятишками держится, а Ипате снова девушку себе заприметил, рядом с нею в пляску вступает; пляшет, заговаривает, а та, плутовка, голову ему кружмя кружит. Видит Ипате, что девушка хоть куда. Хорошо, что Кирика неподалеку был и, как вышел Ипате из пляски, говорит ему:
— Хозяин, сдается мне, и эту ты бы взять не прочь. Верно ведь, что она тебе приглянулась?
— Да вроде так, мэй Кирика!
— Знай же, что и эта не про нас, вот ведь какая тихоня на вид, а на деле и у нее два ребра чертовых имеется. Еще потерпи, хозяин, маленько.
— Да ведь в наше-то время, ей-богу, не знаю, Кирика, где такую святую найдем, как ты ищешь. Я так думаю, как бы нам не прогадать, если выбирать будем.
— Да нет же, хозяин, положись на меня, уж я-то знаю, что делаю.
Опять уступил Ипате, и вернулись они к вечеру домой снова ни с чем.
Но уж теперь у Ипате и работа не клеится, и еда не идет ему впрок, и сон от него бежит — словом, из рук вон… День-деньской ловит божьих коровок, кладет себе на руку, приговаривает:
Ах ты, божия коровка!
Полети в ту сторону,
Где найду себе жену!
Что тут поделаешь? Заболел парень женитьбой! И ведь как это говорится: когда человек не в себе, подальше держись от него. Как сказано: тлеет огонь в мокрой соломе. Так и с Ипате — грустит да вздыхает, едва воскресенья дождался.
А когда наступило оно, отправились оба в третье село на хоровод. Как только пришли, вступает Ипате в жок
[14] с дивчиной, у которой глаза как у бесенка сверкают. Научился хитрюга с первого взгляда таких девчат выбирать, а уж про то, что на сердце у них и чего они стоят, одному Кирике, конечно, известно; ибо нет ничего труднее, как человека выбрать! Но Кирика был тут же. Что он сделал, как провернул, но только загорелись у Ипате и той девчонки сердца одно по другому. Сатана уколол их шипом, как видно. Лишь только вышел Ипате из круга, отводит его Кирика в сторонку, спрашивает:
— Ну, как, хозяин?
— Да так, Кирика! Глаз бы с нее не спускал, до того мне люба она; ежели не на ней, то ни на ком никогда не женюсь. Довольно ты мне мозги туманил.
— А ведь она, хозяин, подходит, — отвечает Кирика. — Правда, имеется и у нее чертово ребро; но если жить будем и не умрем, вытащим его.
То-то обрадовался Ипате! Пристал он к девчонке пуще банного листа. То меж собой переглянутся, то словцом перекинутся, то загадкой, то шуткой, то одним, то другим — крепко полюбились друг другу. Не вытерпел Ипате, пошел к отцу-матери в жены ее просить. Как говорится:
Ты проси меня у мамы.
Даст, не даст мамаша дочь —
Украдешь меня ты в ночь!
Обрадовались родители хорошему человеку, от всего сердца отдают дочку. Через несколько дней сыграли свадьбу, увез Ипате невесту вместе с приданым домой — и дело с концом! Зажили они в согласии и любви, что два голубка. И говорит однажды Ипате своему слуге:
— Золотая, Кирика, у меня жена! Здорово я ее выбрал.
— Золотая, хозяин, ничего не скажешь. Но только знаешь пословицу: где тонко, там и рвется! Еще посмотрим. Помнишь, говорил я тебе, что и у этой, какая она ни добрая и кроткая, а все-таки одно ребро имеется чертово, и вынуть его непременно надо, коли хочешь такую жену иметь, чтобы жить с ней до глубокой старости.
— Ну, уж тогда не знаю, Кирика, кто на тебя и угодит. Думаю, только черт до нутра твоего докопается!
Год не проходит, и приносит жена ему сына. А еще через месяца три наезжает нежданно-негаданно тесть, зовет обоих на свадьбу женина брата. Кирика, все учуяв, как черту положено, отводит хозяина в сторону и говорит:
— Хозяин, пусть жена твоя с ребенком едет, а сам скажи, что вслед за ними выедешь, если будет время, а нет — пускай не обессудят. Дальше как быть, научу тебя потом.
Ипате, привыкнув во всем Кирику слушаться, говорит тестю:
— Отец, не могу я ехать. Сам видишь, дел у меня по горло. Еле-еле с работником вместе управляюсь Жена пускай без меня едет. Если время позволит, выберусь и я за ней следом, а нет — прошу не гневаться.
Ничего не сказал на это тесть, забрал у Ипате жену и ребенка и отправились.
На второй день свадьбы говорит Кирика Ипате:
— Хозяин, настало время чертово ребро из жены твоей вынуть. Живо садись на коня и поезжай на свадьбу. Вот что тебе делать надо, когда на место прибудешь. Рядом с домом тестя твоего стоит хатенка укромная, где старая сводня живет, искусная-преискусная в своем деле — ну, хитрее ведьмы. Отправляйся прямо к ней, выдай себя за проезжего. В лепешку разбейся, небо и землю ей обещай, а уговори ее жену твою туда заманить. Вот и увидишь, на что бабы способны и чего женская верность стоит.
— Что ты, Кирика, что ты! Тут уж я головой поручился бы…
— Не будь ты щедрым таким, хозяин. Прибереги свою голову, еще, поди, тебе пригодится…
— А не узнают меня там, Кирика?
— Нет, хозяин, хоть на свадьбу иди, уж я так сделаю, что никто тебя не узнает.
Ипате, желая убедиться во всем, послушался и поехал. Как только до той деревни добрался, завернул к бабе и, заведя речь издалека да обиняками, стал под конец просить ее привести к нему в тот же вечер жену Стана такого-то, что в деревне такой-то живет.
Баба, как услыхала, рот ладонью прикрыла, затрясла головой.
— Милый человек, как могу я такое сделать? Тем паче, что муж у нее добрый, и статный, и богатый, и сама она не из тех, что ты думаешь.
Отвязал Ипате от седла флягу с водкой, дал отхлебнуть бабе несколько раз, после кошелек протянул, битком набитый деньгами, и сказал:
— Если, бабуся, окажешь мне эту услугу, еще щедрее тебя отблагодарю. Будь спокойна, ни одна душа не узнает об этом.
Призадумалась баба, вроде не охота ей ни дело делать, ни кошелек оставить. Постояла в раздумье, потом взяла кошелек и говорит:
— Ни дна тебе, ни покрышки, человек добрый! Известно мне, что есть тоска сердечная, пропади она пропадом!.. Не знаю, право, как дело станет; со стыда сгораю, как подумаю, что явлюсь к этой женщине с такими словами… Но, однако, пойду, посмотрю; удастся — хорошо, а нет — на меня не пеняй; знаешь сам, что нелегкие это дела, и редко мы в них успеваем.
— Уж ты поверь мне, бабуся, если сделаешь дело, за мной не пропадет.
— Что ж, — говорит баба, — попытка не пытка. Кто знает, откуда заяц выскочит? Тем паче, что мужа-то здесь нет.
К вечеру оставляет она гостя одного в хате, а сама на свадьбу идет, по соседству. Отводит женщину в сторонку, шепчет ей на ухо, черта ли обещает, совсем ей голову закрутила.
— Бабуся, — говорит женщина, — как же нам сделать, чтобы все хорошо было?
— Уж не бог знает, как это трудно, молодка-красотка, — отвечает баба. — Ступай в комнату, где ребенок твой спит, разбуди его, он тогда плакать начнет. Если еще маленько его пощиплешь, он и вовсе раскричится. Отец у тебя сердитый, не вытерпит, велит отнести его к бабке, значит, ко мне. Ты и бери ребеночка вместе с люлькой — и в мою хату. А уж дальше…
Послушалась женщина бабы, делает, как та ей велела, и является вечером к Ипате с младенцем на руках. Не успела войти — и ну хихикать, о свадьбе всякую всячину рассказывать, а мужа не узнает, хоть убей!
Напоил их Ипате обеих до бесчувствия, вынул младенца из колыбели как его Кирика научил, — и домой! Кирика, завидя его, к воротам выбежал.
— Ну, хозяин, — говорит Кирика, — обманул я тебя или нет?
— Нет, Кирика, нет. Теперь и я вижу, на что женщина способна. Больше ни часу не стану с ней жить. Задаром ее черту отдам, сорную траву!
— Ни-ни, хозяин, не делай такого! Жена у тебя, каких мало. Но знаю, я, кто тут виноват. Пускай же сначала она домой вернется, тогда мы у нее чертово ребро вынем, и сам увидишь, что за женщина из нее получится.
Между тем очнулись жена Ипате и баба, смотрят — ни гостя, ни младенца. Начали выть, причитать, а что проку? Сунулась баба туда-сюда, может, след какой отыщется — напрасно! Как сквозь землю ребеночек провалился.
— Ой горе мое, горюшко, — застонала баба. — Нажила себе беду с тобой! Черт ли знает, что мне теперь делать!
Тут-то и надоумил ее бес.
— Женщина, слышь! Другого выхода нет, как только кота взять, завернуть его в тряпки, уложить в колыбель, хату изнутри поджечь и уйти. Когда всю хату пламенем охватит, начнем плакать, кричать: пожар! пожар! Покамест люди со свадьбы сбегутся, пока то да се, хата и рухнет. Уже от кота одна зола останется. Люди найдут, подумают, что сгорел ребенок; может, все и обойдется.
— Правильно говоришь, бабуся, так и сделаем.
— Сделаем, сделаем! А мне-то каково на старости без крова-пристанища остаться?
— Об этом, бабуся милая, не тревожься. Возьму тебя к себе, будешь жить у меня в дому, как у Христа за пазухой. Муж у меня — добрее нету, за родную мать у нас будешь.
Бабе что было делать? Согласилась она. Подпалили хату, а пока люди сбегались, все в золу обратилось — и хата, и кот, и что еще в хате было. А те назврыд плачут, землю слезами обливают, кричат:
— Ой горе, ой беда! Ребеночек-то наш в огне сгорел!
Видя, как они волосы на себе рвут, как мечутся, начали все наперебой утешать их. А на другой день тесть Ипате, сокрушаясь о происшедшем несчастье, отправляет дочь свою и бабу с одним из батраков к зятю домой. Уже в телеге говорит молодая старой:
— Бабуся, влезай-ка ты в этот мешок, а когда приедем домой, скажу мужу, что от матушки паклю везу на мешки. Это только пока чертов работник наш не уйдет, сегодня ему срок выходит.
Баба не спорит и залезает в мешок. Приезжают они домой, оставляют телегу во дворе, а жена Ипате с плачем вбегает в дом, рассказать мужу обо всём происшедшем. А там ни Ипате, ни Кирики — никого. Поволокла она тогда вместе с батраком отцовским тот мешок, как могла, на кухню, взвалила на печь, за трубу, и отпустила работника в обратный путь. Не успел он уехать, ан и Ипате тут как тут. При виде его запричитала жена, заголосила:
— Ой, напасть какая, беда какая стряслась, муженек… Малютки нашего нету больше в живых!
Рассказала она ему все, как условилась с бабой. А Ипате ей в ответ:
— Ничего, жена, будем живы, еще сподобимся детей иметь. На кого нам пенять? Так уж, наверно, господь нам судил!
Пока говорили, глядь, и Кирика на пороге, с молотком, долотом и щипцами в руках. Хозяйка сразу к нему, со слезами и причитаниями. Выслушал ее Кирика и говорит:
— Ты разве ей веришь, хозяин? Не слушай ее речей. Хватай ее, вынем из нее то ребро!
Схватил ее Ипате за косы, швырнул на пол и держит крепко. А Кирика давай ей левые ребра считать: одно, два, три! Как дошел до четвертого, приставил долото, молотком стукнул, прихватил щипцами — вытащил ребро. После кожу приложил на место, рану чем-то смочил и на месте она затянулась, а потом говорит:
— Вот, хозяин, теперь у тебя не жена, а клад; ты только построже за ней присматривай, ногти у нее время от времени срезай, чтобы ненароком не наставила она тебе рогов.
Тут же сбегал Кирика во флигель, приносит оттуда младенца. Увидев такое, остолбенела женщина, похолодела от страху. А Кирика руку поцеловал у Ипате и говорит:
— Ну, хозяин, сегодня три года службы моей исполнилось. Будь здоров и счастлив, а я отправлюсь, откуда пришел. Но узнай от меня и другим скажи, что служил тебе черт полных три года за кусок мамалыги да за подстилку дрянную для Адовой Пятки.
С этими словами схватил он из-за трубы тот мешок с бабой и исчез, будто сквозь землю провалился. Закричала женщина, застонала:
— Догони его, муж, не отпускай! Матушкину паклю забрал он. Из чего теперь мешки будем делать?
Но Ипате не до того было, очень он был огорчен, что лишился Кирики, верного слуги своего, и не знал, где его отыскать, чтоб отблагодарить за все добро, что тот ему сделал.
А Кирика давно уже был в аду и жил припеваючи у Скараоского в чести, а старая сводница стонала под Адовой Пяткой, и один только кот ее на том свете сожалел о ней за то, что так она ему удружила.
Вот, значит, как избавился Ипате и от черта, и от бабы и зажил в согласии с женой и детьми. С той поры, когда говорил ему кто-то про что-то откуда-то, что было вроде то, да не то, покачивал он головой и отвечал:
— Ну-ка, перестаньте дурака валять, занимайтесь своим делом и не расписывайте мне небылиц, ибо я — Стан-виды видавший!
 СКАЗКА ПРО БЕЛОГО АРАПА
СКАЗКА ПРО БЕЛОГО АРАПА

Сказывают, жил когда-то король, у которого было три сына. И еще был у короля старший брат, который царствовал в далекой стране. А звали того царя, королевского брата, Зелен-царем. И не было у Зелен-царя сыновей, а только дочери. Немало лет минуло с тех пор, как свиделись в последний раз оба брата. А двоюродные братья и сестры, королевичи и царевны, и вовсе друг другу знакомы не были. И так случилось, что ни Зелен-царь не знал своих племянников, ни король — племянниц, ибо страна, которой правил старший брат, находилась на одном краю земли, а королевство младшего — на другом. К тому же, в те времена почти во всех странах велись опустошительные войны, пути как по воде, так и по суше были
мало изведаны и весьма путаны, а потому и нельзя было странствовать так легко и безопасно, как в наше время. Тот, кто отправлялся в дальние страны, нередко расплачивался жизнью за свое безрассудство.
Но не будем отвлекаться и начнем разматывать нить нашей сказки.
Говорят, царь, состарившись и захворав, написал брату-королю, чтобы тот прислал ему немедля достойнейшего из сыновей, которому мог бы он царство свое после смерти оставить. Получил король грамоту, призвал к себе всех трех сыновей и говорит им:
— Вот что пишет нам старший наш брат и ваш дядя. Того, кто себя достойным считает владеть столь великой и богатой страной, отпускаю я — пусть выполняет последнюю волю своего дяди.
Собрался старший сын с духом и говорит:
— Я так думаю, отец, что мне эта честь положена, ибо я старший из братьев. Поэтому прошу тебя денег мне выдать на расходы, платье дать на смену, оружие и коня верхового, чтоб отправиться мне без промедления.
— Хорошо, сынок. Если веришь, что сможешь добраться и что в силах править страной, выбирай себе из табуна любого коня, какой приглянется, денег прихвати, сколько понадобится, платье по вкусу, оружие по плечу — и счастливой тебе, сынок, дороги.
Взял королевич всего, сколько потребовалось, руку у отца поцеловал, принял от него грамоту к царю, попрощался с братьями, сел на коня и, веселый, пустился в дорогу.
Король, желая его испытать и никому не сказав ни слова, к вечеру надел на себя медвежью шкуру, сел на коня, обогнал сына по другому пути и схоронился под мостом. Выехал королевич к мосту, видит — навстречу ему с ревом выходит медведь. Взвился конь королевича на дыбы, захрапел, чуть было не сбросил седока. И, не в силах ни совладать с конем, ни продолжать путь, вернулся королевич обратно к отцу. Король же, опередив его, тоже домой прискакал, отпустил коня, шкуру припрятал, сидит, поджидает сына. Вот, наконец, является к нему сын поспешно, однако не так поспешно, как уезжал.
— Видно, забыл ты что-то, сынок, коли домой вернулся? — удивился король. — Недобрый это знак, насколько мне известно.
— Забыть-то я ничего не забыл, но у самого моста вышел мне навстречу медведь такой свирепый, что меня в страх вогнал. Еле спасся я из его лап и решил лучше вернуться к тебе домой, чем стать добычей хищных зверей. Пускай теперь кто хочет, тот и отправляется, а мне ни царства, ни другого чего не надо: ведь не жить мне, сколько свету стоять, всей земли не унаследую.
— Что ж, правильно решил, сынок. Видно, не для царства ты, и царство не для тебя; чем людей путать, лучше тебе, как сам говоришь, в стороне оставаться, потому, слава богу, был бы пруд, а лягушек хватает. Только не знаю с дядей твоим как быть? Сам видишь, нехорошо получается…
— Отец, — сказал тогда средний сын. — Я поеду, если позволишь.
— За моим позволением дело не станет, сынок; но большое диво будет, если и ты на попятный не пойдешь. Грех его знает, вдруг возьмет да и выскочит тебе заяц какой навстречу! Так и вижу, как вслед за братцем домой являешься. Позора тогда не оберешься. Но однако же попытайся. Посмотрим, как тебе удача послужит. Как говорится: всяк молодец своего счастья кузнец. Коли выйдет — хорошо, а нет, так что же? И с другими удальцами такое случалось…
Вот собрался средний сын в дорогу, принял из отцовых рук грамоту к царю, простился с братьями и на другой же день отправился в путь. Ехал он, ехал, пока не стемнело. А когда выехал к мосту, медведь тут как тут: мор! мор! мор! Конь под королевичем как захрипит, на дыбы как встанет, назад пятится. Увидел королевич, что дело не шуточное, махнул рукой на царство и со стыдом к отцу воротился. Как завидел его король, говорит:
— Ну, сынок дорогой, верно ведь сказано: защити меня от кур, а собак я не боюсь.
— Что это ты говоришь, отец, — сказал королевич с обидой. — Или медведи у тебя курами зовутся? Теперь я и впрямь верю брату, что этакий медведь может истребить целое войско… Сам удивляюсь, как я уцелел; не надобно мне ни царства, ни другого чего. Слава богу, еда-то для меня найдется у тебя в дому.
— Еда-то, конечно, найдётся, не о том, сынок, речь, — нахмурился король. — Только позор свой куда денете? Чтобы из трех сыновей, сколько их у отца, ни один ни к чему не был пригоден! Зря вы тогда еду переводите, дорогие мои. Болтаться всю жизнь, как лист на ветру, да хвалиться, что, дескать, королевич я — не к лицу молодцу… Как видно, нечего моему брату надеяться на вас; когда рак свистнет, исполнится желание его. Нечего сказать, хороши племяннички:
На пирог —
Со всех ног,
А из схватки —
Без оглядки!
Услыхал младший сын, покраснел со стыда. Вышел в сад и заплакал горько: до самого сердца дошли отцовы слова обидные. Не знает, бедняга, что ему делать, чтобы смыть позор. Вдруг видит он перед собой сгорбленную старуху с протянутой рукой.
— Что задумался, ясный королевич? — говорит старуха. — Прогони кручину из сердца, ибо счастье тебе улыбается отовсюду и незачем тебе горевать. Лучше подай старухе.
— Не серди ты меня, бабуся, — ответил королевич, — другая у меня теперь забота.
— Королевич, королевич, быть бы тебе царем! Поведай старухе, что тебя тревожит? Кто знает, может и я тебе пригожусь.
— Знаешь что, бабуся? Дважды два — четыре, а пять больше. Оставь меня лучше в покое, потому я и без того от горя света не вижу.
— Добрый королевич, не гневайся на старуху. Кто знает, откуда к тебе помощь прийти может…
— Что ты, бабуся, вздор мелешь? Неужто от тебя мне помощи ждать?
— Может и чудно тебе покажется, — сказала старуха. — Только знаешь что, свет-королевич, бывает, что всевышний проливает благодать свою и на немощных телом; видно так уж угодно ему. Не смотри, что я горбата и оборвана; чудесная сила дана мне заранее знать, что замышляют сильные мира сего, и часто смеюсь я над несмышленостью и слабостью их. Не верится тебе, верно ведь? Но избавь тебя бог от соблазна! Ибо немало глаза мои видели за те долгие века, что на плечах моих легли. Ох, королевич! Имей ты силу мою, облетел бы моря и страны, землю бы перевернул, весь бы свет в руках своих держал, и все бы по твоему хотению было. Но ишь ты, как разболталась немощная горбунья! Прости меня, господи, сама не знаю, что рот мой мелет! Свет-королевич, подай-ка старухе милостыньку!
Королевич, завороженный словами старухи, достает монету и говорит:
— Возьми, бабуся, от меня малость, от бога много.
— Тебе, дающему, да воздаст господь милосердный, — отвечает старуха, — и долгую жизнь пусть дарует тебе, ибо большая ожидает тебя удача. Скоро ты станешь царем, которому равного не было на земле, самым любимым, и славным, и могучим. А теперь, свет-королевич, будет тебе награда за милосердие твое. Не шевелись, прямо смотри мне в глаза и внимательно слушай, что я скажу: ступай к отцу твоему и проси у него коня, оружие и одежду, что были при нём, когда в женихах он ходил, и тогда доедешь ты, куда братья твои не сумели добраться. Ибо тебе свыше эта честь предназначена. Будет спорить отец твой, не захочет тебя отпускать, а ты стой на своем, знай проси его — и упросишь. Платье, о котором говорю, старое и поношенное, оружие — ржавое, а коня сам выбирать будешь: выставишь посреди табуна жаровню, полную жара; тот конь, что к жару подойдет и грызть его станет, вынесет тебя на царство и от многих опасностей убережет. Запомни же, что я сказала тебе, ибо может и встретимся мы еще с тобой где-нибудь на краю света; ведь гора с горою сходятся, а человек с человеком и подавно!
Говорит старуха, и видит вдруг королевич, как окутало ее белым облаком и подняло всё выше и выше, пока вовсе не скрылась она из глаз. Содрогнулся королевич, обомлел от изумления и страха; когда же очнулся, то, полный веры в себя и успех свой, явился к отцу и сказал:
— Позволь и мне, отец, попытать счастья вслед за братьями. Будет ли мне удача, нет ли — наперед тебе обещаю, что как выеду из твоего дома, обратно уж не вернусь, хоть бы пришлось мне со смертью самой в пути повстречаться.
— Не думал я, не гадал, сынок дорогой, что от тебя придется такие речи слышать, — ответил король. — Братья твои малодушными оказались, и махнул я на них рукой. Что-то не верится мне, чтоб ты оказался храбрее. Но уж если ты так крепко стоишь на своем, то удерживать тебя не стану. Смотри же, как бы тебе не столкнуться в пути с напастью и тоже не сменять честь на позор, потому что тогда, прямо скажу, не будет тебе больше места в моем доме.
— Ну что же, отец, попытка не пытка. Поеду и положусь на свое счастье, как бог даст. Только прошу тебя, дай мне коня, оружие и платье, что при тебе были, когда ты в женихах ходил.
Услыхал король такие слова, и вроде не по вкусу они ему пришлись. Насупил он брови и сказал:
— Эге-ге, сынок дорогой, своими речами напомнил ты мне песенку:
Юный витязь, старый конь —
Не сдружиться им в пути!
Да и кто знает, где нынче кости того коня тлеют! Не человечий же век жить ему было! И кто только тебе такое в голову втемяшил?! Или, как говорится, за подковами дохлых лошадей гоняешься?..
— Отец, только того и прошу у тебя. Жив ли тот конь, нет ли, это ты мне предоставь! Я только знать должен, что отдаешь мне его.
— С моей стороны, пожалуй, бери, сынок дорогой, но только дивлюсь я, откуда коня возьмешь, коль его и на свете нет.
— Об этом я не печалюсь, отец; лишь бы ты согласие дал! Есть он, нет ли его, а уж если отыщу, моим будет.
Забирается королевич на чердак, достает оттуда узду, поводья, кнут и седло — все запыленное, иссохшее, древнее, как земля. И еще достает из кладовой одежду старую-престарую, и лук, и стрелы, и меч, и булаву, ржавчиной покрытые, и давай их чистить да тереть. Потом полную жаровню жару накладывает, идет к табуну и ставит жаровню среди лошадей. Выходит тогда из табуна кляча горбатая, лохматая, до того костлявая, что хоть ребра считай, и прямо к жаровне — мордой жар берет. Хватил королевич клячу уздой по голове.
— Ах ты, — говорит, — мерзкая животина. Из всего табуна тебе одной вздумалось жар глотать? Смотри, если снова грех попутает, не сдобровать тебе.
Начал он снова лошадей взад-вперед прогуливать, и опять кляча как кинется да как начнет жар с жаровни глотать! Снова хватил ее королевич изо всей силы уздой по голове и опять туда-сюда лошадей водит, приглядывается, не подойдет ли другой конь жар глотать. И в третий раз все та же кляча подошла, столько жару отхватила, что больше и не осталось. Совсем распалился королевич, снова хватил ее уздой, что было мочи, а потом набросил на нее поводья, надел узду и так про себя подумал:
"Взять или отпустить? Боюсь, как бы не засмеяли меня. Чем на таком коне, лучше пешим".
А пока стоял он да раздумывал — брать или не брать? — стряхнулся конь трижды и стал вдруг гладкий да холеный, да резвый, как трехлеток, и не было во всем табуне жеребца красивее. Глянул он королевичу прямо в очи и сказал:
— Садись на меня, господин мой, и крепко держись.
Сунул ему королевич удила в рот, вскочил на него — до самых облаков взвился под ним конь и опять на землю стрелой опустился. И снова взлетел до луны, и снова быстрее молнии на землю вернулся. И в третий раз поднялся он до самого солнца, а когда опустился на землю, сказал:
— Ну, господин мой, что скажешь? Думалось ли тебе когда-нибудь, что достанешь:
Солнце
Ногами,
Месяц
Руками
И корону будешь искать
За облаками?..
— Да что сказать, дорогой мой друг? В смертный страх вогнал ты меня. До того дух захватило, что и сам я не знал, где нахожусь, едва не погубил ты меня.
— Вот так же и у меня дух захватывало, господин мой, когда честил ты меня уздой по голове, и захотелось мне отплатить тебе за три удара твои. Как говорится: око за око. Теперь, думаю, уже знаешь ты меня и уродом и красавцем, и старым и молодым, и хилым и могучим. Поэтому стану я снова таким, каким видел ты меня в табуне. Отныне готов я сопровождать тебя, куда прикажешь. Ты только мне наперед скажи, как тебя мчать — с быстротой ветра или с быстротой мысли?
— Если помчишься как мысль, то погубишь меня: а если как ветер, то послужишь мне, добрый мой конь, — отвечал королевич.
— Хорошо, господин мой. А теперь садись на меня без боязни и помчу тебя, куда пожелаешь.
Сел королевич на коня, погладил его по гриве.
— Ступай, — говорит, — конек мой хороший!
Полетел конь плавно как ветер и через мгновенье опустился у королевского дворца.
— Добро пожаловать, удалец, — сказал король без особой радости. — Вот, значит, какого коня ты себе отобрал?
— Да уж как привелось, отец. Во многих местах придется мне побывать; не хочу, чтобы люди меня заприметили. Где верхом проеду, где пешим пройду, как сумею.
Сказав это, оседлал он коня, оружие к луке прикрепил, прихватил снеди и денег вдоволь, смену одежды в переметном мешке и флягу с водой.
Облобызал руку отца, взял у него грамоту к царю, простился с братьями и на третий день к вечеру отправился в путь, шагом пустив коня. Ехал он, ехал, пока не стемнело. Тогда у моста вышел ему навстречу со страшным ревом медведь. Ринулся конь на медведя, замахнулся королевич булавой, готовясь ударить, как вдруг слышит — говорит медведь человечьим голосом:
— Не бей, сынок дорогой, я это.
Слез королевич с коня, а отец обнял его, поцеловал и сказал так:
— Сын мой, доброго ты себе товарища выбрал. Если кто научил тебя, то хорошую тебе службу сослужил, а если дошел ты своей головой, то голова у тебя светлая. Ступай же теперь вперед, ибо достоин ты быть царем. Только запомни мой совет: понадобятся тебе в дороге люди и злые и добрые, но остерегайся рыжего человека, а еще пуще — безбородого. Не водись ты с ними, уж очень они опасны. И во всех превратностях конь, твой товарищ, надоумит тебя, как быть, ибо и меня он в молодости из многих опасностей выручал. И еще возьми с собой эту шкуру медвежью, крепко она тебе когда-нибудь пригодится.
Потрепал он по шее коня, поцеловал обоих и сказал:
— Езжайте с миром, дорогие мои. Один бог знает, когда еще свидимся!..
Вскочил королевич в седло, а конь снова обернулся молодым, каким любил его видеть король, сделал скачок назад, потом вперед, и:
Оба двинулись в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Не короткий до развязки…
Едут они день, едут два и все сорок два, и вот заводит их дорога в лес, а в лесу выходит им навстречу безбородый человек и смело обращается к королевичу:
— Добрый день, удалец! Не нужен ли тебе слуга в дороге? По этим местам трудно одному ездить; того и гляди, зверь нападет, тропу жизни твоей оборвет. Я тут стежку каждую знаю и, пожалуй, в пути тебе пригожусь.
— Может пригодишься, а может и нет, — отвечает королевич, глядя прямо в глаза безбородому, — но пока положусь я лучше на свое счастье.
Пришпорил он коня и поехал дальше. Едет по лесу, и в ущелье снова выходит ему навстречу безбородый, переодетый в другое платье, и говорит ему измененным голосом:
— Доброй дороги, путник!
— Доброго сердца тебе, как добр твой взгляд, — отвечал королевич.
— Что до моего сердца, то дай боже каждому такую доброту, — со вздохом говорит безбородый. — Но что проку? Хорошему человеку нету счастья; это известно. Не гневайся, путник, но раз уж об этом речь зашла, поведаю тебе как брату, что с самого детства у чужих людей я служу. И не так было б обидно, кабы отлынивал я от работы, а то ведь я тружусь, с каких пор себя помню. Тружусь, тружусь, а толку ни на грош. Потому в хозяева мне все горемыки попадались. А ведь как говорится: горемыке служишь, горемыкой останешься. Попадись мне хоть раз такой хозяин, как я понимаю, не знал бы, как и угодить ему. Уж не нужен ли слуга тебе, удалец? Ты, по всему видать, человек с достатком… Что же ты на пустяки скупишься, не возьмешь себе достойного слугу, в дороге помощника? Места эти опасные; кто знает, как еще дело обернется; может, не сдобровать тебе тут одному.
— А все-таки нет и нет, — сказал королевич, кладя руку на булаву. — Сам себе пока послужу, как сумею. — И снова пришпорив коня, поскакал быстрее. Едет он дальше по темному лесу, кончается дорога перед ним, и стежки все так перепутались, что и не понять королевичу, в какую сторону путь держать.
— Тьфу ты черт! Вот в какую переделку попал, — сказал он. — Это тебе не пожалуйте кушать! Ни деревни, ни города — ни души! Чем дальше, тем больше глушь. Словно сгинул род человеческий с лица земли. Зря я все-таки второго безбородого с собою не прихватил. Ежели он в матушку свою уродился, его разве вина? Правда, остерегал меня отец, но в большой нужде что будешь делать? Как говорится, плохо с плохим, а без плохого и того хуже.
И пока блуждал он, выходя то на тропинку, то на заброшенную дорогу, снова навстречу ему безбородый по-иному одетый, верхом на статном коне. И говорит ему безбородый, меняя голос, да жалостливо этак:
— Бедняга ты, бедняга, по опасной дороге пошел. Видать, чужой ты здесь и не знаешь этих мест. Счастье твое, что со мной повстречался, прежде чем спуститься по этому склону, а то пропал бы… Там, в расщелине, свирепый бык многих смельчаков загубил. Я сам, на что молодец, а намедни едва-едва от него ушел. Вернись-ка лучше назад или, если уж до зарезу идти надобно, возьми себе хоть кого-нибудь в помощь. Я и сам бы к тебе в услужение пошел, будь на то твоя воля.
— Да надо бы, добрый человек, — отвечал королевич, — но по правде тебе скажу: наказывал мне отец, еще когда я из дому отправлялся, чтоб сторонился я человека рыжего, а пуще того — безбородого; чтоб не водился я с ними ни за что на свете. Не будь ты безбородым, с радостью принял бы я тебя в услужение.
— Ну, уж если на то пошло, то знай, путник, что коня изъездишь, а такого слуги не найдешь, какого ищешь. Тут ведь одни безбородые и водятся. И потом, говоря начистоту, какой ты для себя от этого помехи ждешь? Видать, не слыхал ты такой поговорки, что на волосы и на бедность пенять не след. Да и то сказать, когда нет черных глаз, целуешь голубые! Благодари же господа бога за то, что нашел меня, и бери к себе в услужение. Если со мной хорошенько свыкнешься, нелегко потом от себя отпустишь, ибо таков мой характер, одно знаю — хозяину верой и правдой служить. Не раздумывай долго, а то нас ночь застигнет. И хоть бы еще конь у тебя был добрый, а на этой-то кляче, боюсь, далеко не ускачешь.
— Право, не знаю, безбородый, как быть, — отвечал королевич. — Сызмальства привык я отца почитать, и нанимать мне тебя вроде даже неловко. Но поскольку повстречалось мне уже безбородых двое и ты после них третий, то видать, и впрямь попал я в страну безбородых и выбирать нечего. Хоть кровь из носу, нанять тебя надо, раз уж тебе эти места так хорошо знакомы.
В два счета поладил с ним королевич, отправились они вместе, и вывел его безбородый на дорогу. Прошли немалый кусок пути, и делает вид безбородый, будто пить ему захотелось. Попросил он флягу у своего господина, приложил ко рту и тут же, скривившись, выплеснул всю воду на землю. Рассердился на него королевич:
— Ты что ж это, безбородый, делаешь? Не знаешь разве, какая в этих местах нехватка воды? В этакий зной мы сгорим от жажды.
— Прошу прощения, господин мой! Вода была затхлая, и мы заболеть могли. Но ты не тревожься: скоро выйдем к колодцу со свежей водой, студеной, как лед. Там передохнем малость, флягу прополощем и водой наполним на дорогу, потому впереди колодцы нам не очень-то попадаться будут и, того и гляди, соскучимся по воде.
Свернули они на другую тропку, продвинулись немного вперед — перед ними поляна, а от поляны рукой подать — колодец с дубовым срубом и откидной крышкой. Колодец глубокий, и ни колеса при нем, ни журавля, а только лестница до самой воды.
— Ну-ка, безбородый, теперь себя покажи, увидим, на что ты горазд, — сказал королевич.
Усмехнулся безбородый, спустился тотчас же в колодец, наполнил флягу и на бок себе прицепил. Потом, постояв немного на лестнице у самой воды, сказал:
— Ну и прохлада же здесь:
Не знаю беды
На берегу воды.
Хоть и вовсе отсюда не вылезай. Отпусти, господи, грехи тому, кто этот колодец выкопал, доброе дело он сделал. В этакое пекло прохлада дорогого стоит!
Еще постоял он немного, потом вышел и сказал:
— Боже мой, хозяин, знал бы ты, до чего мне легко стало, ну просто летать впору. Спустись-ка и ты на минутку, освежись; так тебе станет хорошо после этого, что сам себе покажешься легким, как перышко…
Королевич, совсем еще птенчик в таких делах, послушался безбородого и спустился в колодец. А пока он стоял там да прохлаждался — трах! безбородый захлопнул крышку, встал на нее и говорит злобным голосом:
— Алелей! Лукавого человека сын! Чего опасался, того не миновал. Здорово я тебя одурачил! А теперь признавайся, кто ты таков, откуда и куда путь держишь, а нет — в колодце тебя сгною!
Что было делать королевичу? Все рассказал он подробно, ибо кто же пуще всего жизнью своей не дорожит?
— Ладно. Это я и хотел узнать от тебя, змеёныш ты этакий, — сказал безбородый. — Только смотри, без обмана. А то ведь поймаю на лжи — не поздоровится тебе. Я и теперь спокойно порешить тебя мог, да жаль мне молодости твоей… Если хочешь еще на солнце смотреть, зеленую травку топтать, то поклянись на клинке меча своего, что во всем будешь мне послушание и повиновение оказывать, даже если велю в огонь броситься. И отныне буду я вместо тебя царским племянником, а ты — слугой моим. До той поры будешь мне служить, пока не умрешь и вновь не воскреснешь. И куда ни поедем с тобой, слова не смей проронить о том, что произошло между нами, а не то сотру тебя с лица земли. Хочешь жизнь сохранить — соглашайся! А нет — прямо скажи и найду я тебе расправу по нраву…
Тут королевич, видя, что попался в ловушку и выхода нет, поклялся безбородому в верности и послушании, положившись на милость божью. А безбородый, завладев грамотой, деньгами и оружием королевича, выпустил его из колодца, меч велел целовать на верность и сказал:
— Знай, что отныне зовут тебя Белым Арапом; и другого тебе имени нет.
Сели они каждый на своего коня — безбородый, как хозяин, впереди, Белый Арап, как слуга, за ним:
И пустилися в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Не короткий до развязки…
Едут они, едут долго, и ночью, и днем, длинным путём, через тридцать земель, через тридевять морей, и приезжают, наконец, в то царство-государство.
Как только приехали, представился безбородый с грамотой королевской царю. Прочитал Зелен-царь грамоту, возрадовался, что племянник к нему явился, и тут же представил его своему двору и дочерям своим, которые приняли гостя со всеми почестями, положенными королевичу и царскому наследнику.
Увидев, что обман ему сходит с рук, призывает к себе безбородый Белого Арапа, говорит сурово:
— Ступай на конюшню и коня моего холь, береги, как зеницу ока. Если приду и увижу, что не все сделано, как мне по душе, не сносить тебе головы, а пока получай подзатыльник, чтоб запомнил слова мои. Зарубил себе на носу?
— Да, господин, — ответил Белый Арап, потупив глаза. И пошел на конюшню.
Этим хотел безбородый свой нрав крутой показать и вселить в Белого Арапа еще больше страха.
Когда ударил безбородый Белого Арапа, царские дочери были тут же. Пожалели они слугу и сказали безбородому с упреком:
— Нехорошо ты, милый брат, поступаешь. Ежели поставил нас господь над другими, то жалеть мы должны их; ведь и они, бедняжки, тоже люди!
— Ну, дорогие сестрицы, — с обычным своим коварством отвечал безбородый, — еще вам неведомо, что на свете творится. Если диких зверей не держать в узде, давно бы они человека растерзали. А надо вам знать, что большая часть людей — тоже звери, которых укрощать надобно, если хочешь чего-то от них добиться.
Что тут сказать? Только руками развести! Когда обрастет мамалыга кожей, упаси от нее боже! Как говорится:
Дай мне, господи, чего не имел,
Чтоб я сам подивился, до чего обнаглел.
Царевны повели речь о другом, но ни слова безбородого, ни родственное чувство не загладили в их сердце жестокого его обращения, ибо добро сторонится зла. Как говорится:
Лоза винограда — людям отрада,
А плоды бузины никому не нужны.
И стали они с той поры меж собой толковать, что, мол, ни в кого не удался он в ихнем роду, ни лицом, ни нравом; что Белый Арап, слуга его, много приятнее на вид и гораздо душевнее. Видно, сердце подсказывало, что не брат им безбородый, и не терпели они его. До того он им стал немил, что будь их воля, отступились бы от него, как от нечистого. Но нечего было делать, не хотели они царя огорчать.
Однажды, когда пировал безбородый за одним столом с дядей, сестрицами и гостями, поднесли им под конец салат необычайный. Тогда спросил безбородого царь.
— Доводилось ли тебе, племянничек, такой салат пробовать?
— Нет, государь, — отвечал безбородый. — Я как раз собирался спросить, откуда он у вас — уж больно хорош! Кажется, целый воз бы съел — не наелся б.
— Верю, племянничек, верю, но знаешь ли ты, с каким он трудом достается! Ведь только в Медвежьем саду, — слыхал, может? — тот салат растет, и редко кому удается раздобыть его и живым остаться. Из всех моих подданных один лесник только отваживается на такое дело. Да и ему кто знает сколько приходится изворачиваться, чтобы в кои-то веки достать мне самую малость — полакомиться.
Безбородый, решивший любой ценой погубить Белого Арапа, сказал царю:
— Государь мой, дядя, подивлюсь я, если не добудет мой слуга такого салата хоть из голого камня!
— Что ты, что ты, племянничек, — изумился царь. — Где же ему, незнакомому с нашими местами, этакую службу сослужить? Разве что жизнь его тебе в тягость?
— А вы за него, дядюшка, не тревожьтесь! Бьюсь об заклад, что достанет он мне точно такой же салат, и немало притом. Знаю, на что он способен.
Зовет безбородый Белого Арапа и говорит ему:
— Ступай скорее, в лепешку разбейся, а достань мне такого салата из Медвежьего сада. Иди, иди, время не терпит. Но смотри, если приказа не выполнишь, то и в мышиной норке от меня не скроешься.
Опечалился Белый Арап, пошёл на конюшню, стал коня своего по гриве гладить, приговаривать:
— Эх, конёк мой, знал бы ты, в какую беду я попал! Золотые слова отца моего, правильно он меня учил. Не послушался я его, и вот до чего дошёл, стал слугой проходимца и волей-неволей должен повиноваться, ибо голова моя в опасности.
— Господин мой, — отвечал ему конь, — отныне хоть головой о камень, хоть камнем по голове — один конец. Будь же мужчиной, не падай духом. Садись на меня — и в путь! Знаю я, куда тебя вынести; велик господь, вызволит нас из беды!
Белый Арап, приободрившись немного, сел на коня, доверился воле его — куда захочет, пусть вынесет.
Поплёлся конь шагом, пока не удалились они настолько, чтобы никто их не видел. Лишь тогда решился он силу свою показать и молвил:
— Господин мой, хорошенько держись за гриву, ибо
Полечу быстрее ветра,
Облетим с тобой полсвета.
Велик господь и хитёр бес! Ничего, найдем и на безбородого управу. Не поздно ещё.
Вознесся конь с Белым Арапом до облаков и помчался поперек земли:
Над лесными чащами,
Над хребтами горными,
Над морскими волнами.
А потом опустился плавно на прекрасный остров, что посреди моря, и встал у одинокой избушки, обросшей кудрявым мхом, в ладонь толщиной, зеленым, как лягушка, мягким, как шелк.
Слез Белый Арап с коня и к великому своему изумлению увидел на пороге старуху нищую, которой он перед отъездом милостыню подал.
— Ну, Белый Арап, верно ведь, — сбылись мои слова? Что гора с горой сходятся, а человек с человеком и подавно? Узнай же, что я святая Пятница и что известно мне, какая беда тебя сюда привела. Во что бы то ни стало хочет тебя безбородый погубить, потому и послал за салатом в Медвежий сад. Только выйдет ему это когда-нибудь боком. Оставайся здесь эту ночь, а я обдумаю, как быть.
Обрадовался Белый Арап, поблагодарил святую Пятницу за радушие и заботу.
— Не я, а твое милосердие и доброта помогают тебе, Белый Арап, — сказала святая Пятница и вышла, велев ему отдохнуть и успокоиться.
А сама пустилась, босая, по росе, в лесную чащобу. Нарвала сонной травы полон подол, отварила дома с ведром молока и ведром меда и поспешила в Медвежий сад. Там вылила она отвар в колодец, до самого верха полный воды. И видит Святая Пятница — со страшным ревом бежит без оглядки к колодцу медведь. Добежал, воду жадно хлебает, губы облизывает — вкусная вода, сладкая. Перестанет пить — снова рычит, опять хлебнет и опять зарычит, пока, наконец, не оставили его силы, и упал он, и заснул таким мертвым сном, что хоть дрова на нем коли!
Увидев это, поспешила святая Пятница к Белому Арапу, разбудила его среди ночи и сказала:
— Скорее надень на себя медвежью шкуру, что досталась тебе от отца, я прямо ступай к развилке, там тебе и будет Медвежий сад. Смело входи туда, рви салата отборного, сколько душе угодно, потому что с Медведем я уже разделалась. А если увидишь, что дело худо, что проснулся Медведь и на тебя бросается, кинь ему шкуру медвежью и беги что есть мочи ко мне.
Так и сделал Белый Арап, как велела святая Пятница. Лишь только забрался в сад — начал салат рвать, да с отбором, и такую охапку нарвал, что едва-едва взвалил ее на спину. Только собрался идти, а Медведь проснулся — и за ним! Белый Арап, видя, что плохо приходится, швырнул ему медвежью шкуру — а сам, с ношей на спине, наутек, прямо к святой Пятнице.
Поблагодарил Белый Арап святую Пятницу за всё добро, ему сделанное, поцеловал у ней руку, забрал салат, сел на коня -
И отправился в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Не короткий до развязки…
Ехал он сколько ехал и вот, наконец, прибыл в то царство и отдал салат безбородому.
Царь и его дочери очень удивились, а безбородый, задрав нос, спрашивает:
— Ну, что теперь скажете, дядюшка?
— Что и сказать, племянничек? Имей я такого слугу, вперед себя бы его пропускал.
— Потому и дал его мне отец в дорогу, — сказал безбородый. — Только из-за его смышлености. Разве иначе взял бы я его с собой, чтоб он у меня в ногах путался.
Несколько дней спустя показал царь безбородому дорогие каменья в сказал:
— Случалось ли тебе, племянничек, когда-нибудь такие большие и красивые самоцветы видеть?
— Видал я, дядя, всякие каменья, а таких, по правде сказать, не видел. И где только чудо такое водится?
— А где же и быть ему, племянничек, как не в Оленьей роще? Сам Олень-то усыпан каменьями драгоценными, что намного крупнее и краше этих. А во лбу у него самоцвет — будто солнце горит. Но никто подойти к Оленю не может, ибо заколдован он, никакое ружье его не берет, а уж он-то кого приметит, живым не отпустит. Стоит ему только глянуть на человека, на зверя ли, как тот сразу же мертвым на месте падает. И множество людей и хищных зверей всяких бездыханно лежат в Оленьей роще по этой только причине; видать, и впрямь заколдован он, холощен до отлучения или бес его знает что, раз уж такой опасный. А все-таки знай, племянничек, что находятся люди сатаны сатанее: не смиряются, хоть ты их убей. Сколько от него натерпелись, а всё их к той роще тянет; присматриваются, нельзя ли Оленем завладеть. И у кого храбрости много, а счастья и того больше, находит в роще камень-другой из тех, что Олень роняет, когда отряхается каждые семь лет, и лучшего промысла такому счастливцу и не надо. Несет тогда камешек ко мне, а уж я за него ничего не жалею; еще и радуюсь, что заполучил. Знай, племянничек, что камни эти драгоценные служат украшением моего царства. Ни в одном другом государстве нет таких больших и чудесных каменьев, и слава о них облетела весь мир. Немало царей и королей наезжает ко мне для того лишь, чтоб на них полюбоваться, и никто не может понять, откуда они мне достались.
— Государь мой, дядя, — сказал тогда безбородый, — ты уж прости меня, но до чего же люди у вас тут робкие… Бьюсь об заклад на что угодно — доставит мне мой слуга шкуру того Оленя с головой и всеми его драгоценностями.
Тут же зовет он Белого Арапа и говорит ему:
— Ступай в Оленью рощу, делай что хочешь, только достань мне шкуру Оленя и голову со всеми его драгоценностями. И не вздумай хоть камешек с места сдвинуть, а главное большой самоцвет, что во лбу у него, ибо тогда не жилец ты на белом свете. Ступай же, и времени не теряй.
Видит Белый Арап, куда безбородый гнет, но делать-то что? Грустный поплелся он на конюшню, потрепал коня своего по гриве и молвил:
— Конек ты мой милый! Снова хочет меня погубить безбородый. Уж если на этот раз живым останусь, значит так на роду мне написано. Только, право, не знаю, вывезет ли меня теперь мое счастье.
— Не горюй, господин мой, — отвечает конь. — Была бы голова здорова, а забот на нее не оберешься. Может, велено тебе жернов на мельнице ободрать и шкуру его на царство отдать?
— Нет, конек мой милый, еще того пострашнее.
— Только вели, господин мой, — говорит конь, — за мною дело не станет. Не робей. Известны мне козни безбородого. Захоти я только, давно бы его проучил, но пускай еще попрыгает. Ты как думаешь? Ведь и такие еще нужны иногда, чтобы люди уму разуму набирались. Ты себе так представь, будто дедовский грех искупать приходится. Как говорится, отец с матерью крыжовник едят, а у сыновей оскомина. Ну, довольно думать; садись на меня с надеждой на бога, ибо велика его сила, не даст он нам долго страдать. Ничего не поделаешь! Что суждено, то на лбу написано. Однако придет конец и твоим страданиям!
Сел Белый Арап на коня, и шагом пошел конь, пока не удалились они настолько, что никто их приметить не мог. А потом понатужился, отряхнулся по-богатырски и сказал:
— Держись крепко, господин мой, сейчас опять полечу
По путям заоблачным,
Над лесными чащами
И хребтами горными,
Сквозь поля туманные
Прямо к морю синему,
Там, где диво дивное,
Где живет волшебница
Фея милосердная
На цветущем острове!
Сказал — и помчался с Белым Арапом
По путям заоблачным,
Над лесными чащами;
и дальше наперерез
От небесных туч до солнца,
Мимо месяца златого,
Мимо ярких звезд лучистых;
а потом опустился плавно, как ветер
На цветущем острове,
Где живет волшебница,
Фея милосердная.
А когда ветер утих, очутились они снова у святой Пятницы. Как увидела святая Пятница Белого Арапа у своей двери, вышла ему навстречу, говорит приветливо:
— Что, Белый Арап, верно, снова нужда ко мне привела?
— Правда твоя, бабуся, — отвечает Белый Арап, задумчивый и бледный, краше в гроб кладут. — Хочет меня безбородый во что бы то ни стало погубить. Хоть бы уж смерть поскорее, сразу бы от страданий избавился: чем такая жизнь, во сто крат лучше умереть.
— Что ты, Белый Арап, — сказала святая Пятница, — никогда не думала, что такой ты малодушный, а теперь вижу, что ты трусливее женщины. Да не стой, как мокрая курица. Оставайся у меня эту ночь, и я помогу тебе. Велик господь, не станет он потакать безбородому. Но только ты потерпи, сынок, ибо немало бед у тебя позади, немного уже впереди. До сих пор трудно тебе было, но и впредь будет не легче, пока не избавишься от безбородого, с которым хлебнешь еще горя; но из всех испытаний выйдешь невредимым, и будет тебе удача.
— Может, оно и так, бабуся, — отвечал Белый Арап, — но только слишком уж много напастей на мою голову валится.
— Сколько бог пошлет, Белый Арап, — сказала святая Пятница. — Видать, так уж тебе суждено, и не на кого сетовать, ибо не все так, как человек думает, а как бог хочет. Зато когда станешь всесильным, — будешь в суть вещей вникать и верить угнетенным и несчастным, ибо сам теперь знаешь, почем фунт лиха. А до той поры терпи, Белый Арап, только терпеньем ты его доконаешь…
Что было сказать Белому Арапу? Возблагодарил он господа бога за все — за доброе и дурное, а также святую Пятницу за гостеприимство и помощь.
— Вот теперь разумно говоришь, сынок. Кто бы что ни толковал, а уж когда суждено с бедой повстречаться, догоняй, коли она впереди, а если позади, то дожидайся. Да что говорить? Таков мир, и как ты ни крути, таким он и останется. Плечом не повернешь его, хоть разорвись. Но подумаем лучше, как нам быть с Оленем; поди, безбородый ждет тебя, не дождется. А разве он не господин? Ты его слушать обязан. Как говорится: там коня привязывай, где хозяин велит.
И вот достает невесть откуда святая Пятница маску и меч Стату-Палма-Барба-Кота
[15] вручает Белому Арапу и говорит:
— Бери, Белый Арап, очень тебе это пригодится там, куда мы пойдем. А теперь — за мной. С божьей помощью справимся и с этим делом.
Когда запели петухи, отправились святая Пятница и Белый Арап в Оленью рощу, выкопали яму в рост человека у источника, к которому всегда в полдень приходил Олень воду, пить; напившись, ложился тут же и спал непробудно до заката солнца. Потом вставал, уходил восвояси и не показывался больше у источника до следующего полудня.
— Вот и готова яма, — сказала святая Пятница. — Ты, Белый Арап, оставайся в ней весь день. Вот что тебе делать надо. Надень маску и не выпускай меча из рук. В полдень придет Олень к источнику воду пить. Когда ляжет он и заснет по своему обыкновению, с открытыми глазами, ты из ямы тихонько вылезешь и так изловчишься, чтобы одним взмахом меча голову ему снять. Потом обратно бросайся в яму и не выходи оттуда, пока не зайдет солнце. Будет тебя Оленья голова по имени звать, будет просить, чтобы показался ты, но не вздумай этого делать: как уставится она на тебя смертоносным взглядом — прощайся с жизнью. Когда же закатится солнце, знай, что умер Олень. Смело тогда выходи, шкуру с него сдери, голову бери целиком, как есть, и приходи ко мне.
Святая Пятница вернулась домой, а Белый Арап засел в своей яме. К самому полудню слышит Белый Арап приглушенный рев — Олень приближается. Подошел Олень к источнику, жадно потянул студеную воду; опять взревел и снова воду пьет, и снова ревет, и снова пьет, пока мочи не стало. Принялся он тогда, словно бык, через голову землю бросать, а потом, трижды землю копытом взрыв, тут же на лужайке растянулся; пожевал жвачку, пожевал, да так захрапел, что только держись.
Услыхал Белый Арап, вышел тихонько из ямы и как рубанет мечом по оленьей шее — далеко откатилась голова от туловища. А сам, себя не помня, бросился обратно в яму, как научила его святая Пятница. Брызнула оленья кровь, забулькала, растеклась во все стороны, хлынула в яму, где Белый Арап стоял, едва не захлестнула его; забилась голова Оленья в предсмертных судорогах, жалобно застонала:
— Белый Арап, Белый Арап! Много я о тебе наслышан, а самого не видал. Выйди, Белый Арап, покажись хоть раз, только бы увидеть тебя, узнать, что достоин ты тех сокровищ, что тебе оставляю. Увижу тебя — с радостью умру.
Но Белый Арап словно воды в рот набрал, сидит себе в яме, еле ногами шевелит в запекшейся крови, что яму почти до краев заполнила.
Кричала голова, кричала, а Белый Арап знай молчит, не показывается. Вот, наконец, наступила тишина. А когда закатилось солнце, вышел Белый Арап из ямы, шкуру с Оленя осторожно снял, чтобы камушка с места не сдвинуть, голову взял целиком, как была, и отправился к святой Пятнице.

— Ну, Белый Арап, — сказала святая Пятница, — выходит, что и с этим делом мы тоже управились.
— Да, — отвечал Белый Арап, — с помощью божьей и твоей удалось нам, бабуся, послужить безбородому, сроду бы мне его не знать, видеть бы мне его как свои уши, да и того не надо, потому что в глазах у меня и так темно.
— Бог с ним, Белый Арап, не горюй, найдётся и на него управа, ибо какова заслуга, такова и награда, — сказала святая Пятница. — Ступай, отнеси ему все, рано или поздно выйдет оно ему боком.
Поблагодарил Белый Арап святую Пятницу, поцеловал у нее руку, вскочил на коня -
И отправился в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Не короткий до развязки…
И где только он ни проезжал, со всех сторон народ сбегался, ибо камень большой во лбу Оленя так сверкал, что, казалось, Белый Арап солнце с неба достал и в дорогу с собою взял…
Короли и цари выходили Белому Арапу навстречу, наперебой умоляли отдать им сокровища, предлагая взамен: кто — денег без счета, кто — дочь свою и полцарства, а кто — дочь и все свое царство, но Белый Арап бежал от них, как от огня, продолжая путь к своему господину.
Однажды вечером, когда сидел безбородый вместе с дядей и сестрицами в высокой башне, увидели они вдалеке сверкающий сноп лучей — чем больше он приближался, тем сиял ярче и ослепительнее. И внезапно все живое пришло в движение, толпы за толпами сбегались, недоумевая, что за диво приключилось. А это Белый Арап шагом ехал на своем коне со шкурой и головой Оленя. А когда приехал, все безбородому и отдал.
При виде таких сокровищ все словно окаменели, не зная, что и сказать. И было чему подивиться!
Но безбородый не растерялся. С обычным своим коварством обратился он к царю:
— Ну, дядя, что теперь скажешь? Сбылись мои слова или нет?
— Что сказать, племянничек? — развел руками царь. — Скажу, что будь у меня столь добрый и верный слуга, усадил бы я его за стол рядом с собою, ибо дорогого он стоит.
— Не дождется, — злобно сказал безбородый. — Этого не сделаю хоть бы он выше себя подскочил. Кто он — брат моей мамы, что ли, чтоб ему почести воздавать? Я так думаю, дядя, что слуга есть слуга, а хозяин — хозяин, и все тут. Потому и приставил его ко мне отец, что смышленый он, а иначе на кой он мне дался? Эге-ге, не знаете вы, что за чертово семя этот Белый Арап. Пока уломал я его, душу он из меня вымотал. Только меня и боится. Как говорят: страх огороды бережет. Другой господин на моем месте каши не сварил бы с Белым Арапом во веки веков. Зря ты всем потакаешь, дядя. Ты, я вижу, слишком к людям доверчив. Потому и не дают тебе олени драгоценных каменьев и медведи — салата. Зато мне никто на борщ дуть не станет. Увижу, что кошка балуется, так хвост прищемлю, что траву будет грызть и не пикнет. Ежели,
дядя, с божьей помощью меня поскорее на свое место посадишь, увидишь тогда, как переменится царство: не будет застоя в делах, как теперь. Знаешь ведь, как говорится: человек место красит… Может, и был ты в молодости резв, да на старости изъездился. Немудрено, что и в делах порядка нет…
Под конец замолол у безбородого язык, словно жернов, так что голова у царя кругом пошла; позабыл он и Белого Арапа, и Оленя, и все на свете.
А царевны смотрели на братца, как собака на кошку, и был он им люб, как соль в глазу. Чуяло их сердце, что человек он без чести и совести. Но как было наперекор отцу идти? Что ж, гуляй безбородый… Как говорится: нашел село без собак и гуляет без палки. Иначе не скажешь.
Несколько дней спустя устроил царь в честь племянника большой пир, на который созвал самых знатных гостей: царей, королей, воевод, правителей городов и других именитых людей.
Незадолго до пира стали царевны безбородого упрашивать, чтобы позволил он Белому Арапу за столом служить. Не посмел безбородый отказать им, позвал Белого Арапа и в присутствии царевен дал согласие, но с уговором: пусть все время за спиной своего господина стоит, а на других чтоб и глаза поднять не смел; а не то он ему на месте голову снесет.
— Слышал, слуга недостойный, что я сказал? — закричал безбородый, показывая клинок, на котором Белый Арап поклялся ему когда-то в верности и послушании.
— Да, господин, — со смирением отвечал Белый Арап. — Как твоей милости будет угодно.
А царевны и на этом сказали безбородому спасибо.
В самый разгар пира, когда гости, отведав доброго вина, порядком уже захмелели, постучалась вдруг вещая птица в окно; постучалась и говорит женским голосом:
— Кушаете вы, пьете и веселитесь, а о дочери Рыжего царя и думать не думаете!
И тут же вылетел хмель из всех голов, пропало у гостей веселье, и каждый понес, что только на ум пришло: одни говорили, будто Рыжий царь, у которого лютое сердце, льет кровь человеческую, как воду; другие — что дочь его ведьма и что это по ее вине столько людей погибает, третьи поддакивали, уверяя, что она-то и прилетела в облике птицы и стучится теперь в окно, чтобы и тут людям покоя не давать. Еще другие говорили, что как бы то ни было, а уж птица-то не к добру и что, видать, кем-то она подослана выследить, что в домах у людей делается. Кто потрусливее, тот себе за пазуху плевал, заклиная птицу обернуться на голову того, кто ее подослал. Словом, одни твердили одно, другие другое, и немало было сказано про дочь Рыжего царя, но никто толком не знал, где правда и где ложь.
Безбородый, внимательно выслушав всех, покачал головой и сказал:
— Упаси, боже, от людей, которые даже тени своей боятся, Видать, вы честные гости, утят пасете, если не знаете, чьих это рук дело.
И внезапно, устремив взгляд на Белого Арапа, безбородый подметил — или только показалось так — на лице его улыбку.
— Ах ты, слуга коварный и лживый! Значит, известно тебе обо всем, а от меня утаил! Иди же немедля, что хочешь делай, разорвись, а доставь мне сюда дочь Рыжего царя! Ступай и не вздумай ослушаться, а не то в порошок сотру!
Повесил голову Белый Арап, пошел на конюшню, потрепал по гриве коня, поцеловал и сказал так:
— Дорогой друг, снова ввергнул меня в беду безбородый. Новое теперь выдумал: вынь да положь ему дочь Рыжего царя. Совсем как говорится:
Прошу покорно за стол,
Коль со своим угощеньем пришел…
Видать, конец мне приходит. Кто знает, что еще со мной приключится. С безбородым худо-плохо, но как-то тянул лямку. А от Рыжего, ей-богу, не знаю, унесу ли голову. И бес его ведает, где этот Рыжий царь находится с дочкой своей, что к тому же и лютая ведьма, каких больше нет! Будто черт наколдовал — не успеешь из одной беды выкарабкаться, попадаешь в другую. Видать, родила меня матушка в недобрый час, или как уж сказать, чтобы перед господом богом не согрешить. Знаю я хорошо, что мне сделать надо, чтобы раз навсегда от всего избавиться… Но привык я влачить жалкую жизнь мою. Как говорится: не дай человеку, боже, сколько он вытерпеть может.
— Господин мой, — сказал конь, нетерпеливо заржав. — Полно тебе сетовать. Настанет после непогоды и вёдро. Если бы вздумал каждый по всякому случаю себя жизни решать, на всех бы дорогах только трупы валялись. Имей же терпенье! Почем знать, может и обернется к тебе счастье лицом. Человек, пока сил хватает, с волнами жизни бороться должен, ибо знаешь ведь поговорку: не приносит год, что приносит час. Кому жить суждено и удача назначена, тот сквозь огонь и воду пройдет, невредимым останется. Как в песне поется:
Был бы я счастливым сроду,
А уж там — в огонь и воду.
Положись на меня, хозяин, знаю я, как тебя к Рыжему царю доставить. Уж носила меня нелегкая в те края, вместе с отцом твоим, когда молод он был. Садись же на меня и хорошенько держись, ибо теперь сразу покажу я чудесную силу мою, безбородому назло, чтобы сердце у него ядом облилось.
Вскочил на коня Белый Арап, громко заржал конь и взвился вместе с ним.
Над лесными чащами
До высот заоблачных;
а после прямиком
От небесных туч до солнца.
Мимо месяца златого,
Мимо ярких звезд лучистых.
И вот уже начал опускаться плавно, как песнь, и, опустившись,
Дальше двинулись в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Не короткий до развязки…
А покамест посмотрим, что произошло за столом у царя, когда умчался Белый Арап.
"Ах, так! — подумал безбородый, дрожа от злости. — Не знал я, кто ты таков, а то давно бы тебя порешил!.. Но если жив буду и не умру, отплачу тебе, голубчик!.. Достанет тебя мой меч!"
— Смотрите же, дядя, и вы, честные гости, как черта выкармливают, не зная, с кем дело имеют! Уж на что я, кажись, малый не промах, а одурачил меня Белый Арап! Хорошо сказал, кто сказал: где крепость сильнее, там и черт злее воюет.
Царь, дочери его и гости так и обомлели от этих слов. Безбородый продолжал браниться, не в силах сдержать свою ярость, а в это время Белый Арап, тревожась о том, что ожидает его впереди, ехал да ехал по пустынным и трудно проходимым местам.
Только собрался он по мосту через широкую реку переправиться — ан, муравьиная свадьба через мост спешит. Что было делать Белому Арапу? Остановил он коня, сам с собою совет держит: пройду по мосту — кучу мурашек растопчу; в воду кинусь — на дно вместе с конем пойду. А всё-таки лучше уж в воду, чем столько неповинных тварей загубить. Сказав "господи, помоги", бросился он в воду с конем, вплавь перебрался на тот берег и невредимым продолжал свой путь. Едет он, едет, как вдруг догоняет его летающий муравей, говорит ему:
— Белый Арап, коли уж ты добрый такой, на мосту над нами сжалился и веселья нашего не омрачил, то и я хочу сослужить тебе службу. Возьми это крылышко, и если понадобится тебе моя помощь, подпали его. Я тогда со всем своим племенем к тебе на выручку поспешу.
Взял Белый Арап крылышко, за пазуху спрятал, муравью спасибо сказал за обещанную помощь и поехал дальше.
Едет он, едет, вдруг слышит жужжание. Смотрит вправо — ничего не видит, влево — и того меньше. После вверх посмотрел — что такое? Над головой пчелиный рой кружится, мечется как ошалелый, не знает, куда опуститься. Сжалился Белый Арап над пчелами, снял с головы шляпу, положил на землю, а сам отошел в сторонку. До чего же обрадовались пчелы!
Вмиг слетелись они и всем роем собрались в шляпе. Белый Арап, очень довольный, кинулся туда-сюда, не успокоился, пока не отыскал гнилую колоду, выскоблил в ней для летка отверстие, как сумел; колышков потом понатыкал, протер изнутри мятой, желтым донником, мелиссой, вьюнком и другими пахучими травами, приятными для пчел, взвалил колоду на плечи, высыпал осторожно пчел из шляпы в колоду, опрокинул улей отверстием вниз, лопуха настлал на него от дождя и солнца и, оставив его посреди поля, меж цветов, поехал дальше.
Едет он, едет, радуясь, что доброе дело сделал, как вдруг прилетает царица пчел и говорит:
— Белый Арап, раз уж ты добрый такой, ради нас потрудился, нам жилье построил, то хочу и я услугу тебе оказать. Возьми это крылышко. Если понадобится тебе моя помощь, подожги его и я тотчас же к тебе на выручку поспешу.
С радостью взял Белый Арап крылышко, спрятал за пазуху, поблагодарил царицу пчел за обещанную помощь и поехал дальше.
Едет он, едет, видит — сидит у лесной опушки великан, греется у костра из двадцати четырех саженей дров и, знай, кричит во всю глотку, что погибает от стужи. Выглядел он страшилищем: лопоухий, губы толстые, отвислые. Когда дул он, то верхняя губа выворачивалась за макушку, а нижняя накрывала брюхо. Все, к чему прикасалось его дыхание, вмиг покрывалось инеем толщиной в ладонь. Невозможно было к нему подойти, ибо дрожал он так сильно, что, казалось, сам черт его тряс. И хоть бы дрожал он один, а то ведь вся природа, все твари окрест тряслись ему в лад: ветер стонал, как безумный, охали деревья в лесу, вопили камни, выл хворост, и даже дрова на костре трещали вовсю от мороза. В дуплах деревьев прижимались друг к дружке белки, дули себе в когти, рыдали в кулак, проклиная час своего рождения. Словом, мороз на весь мир — и все тут. Постоял Белый Арап чуток, поглядел — уже на губах у него сосульки выступили. И не в силах удержаться от смеха, изумленно сказал:
— Чего только не увидит человек, пока живет! Ну-ка, адово семя, сознавайся, не Жерила
[16] ли ты? Молчишь? Видать, так оно и есть, коли сам огонь вблизи тебя замерзает, до того ты тепленький!
— Смейся, Белый Арап, смейся, — отвечал Жерила, весь дрожа. — Но только там, куда едешь, все равно без меня не обойдешься.
— Так ступай со мной, — сказал Белый Арап. — Еще и согреешься в пути, вредно тебе на одном месте стоять.
Увязался Жерила за Белым Арапом. Вместе кусок пути отмахали, видит Белый Арап новое диво, еще большее: пожирает великанище борозды за двадцатью четырьмя плугами и вовсю кричит, что с голоду подыхает.
— И смех, и грех, — говорит Белый Арап. — Чего только не бывает на свете! Наверное, это Флэмынзила
[17], обжора, бездонный мешок, ненасытная утроба, которую вся земля прокормить не в силах.
— Смейся, Белый Арап, смейся, — говорит Флэмынзила. — Только там, куда идешь, без меня дела не сделаешь.
— Если так, ступай и ты с нами, — сказал Белый Арап, — не на спине же тебя таскать.
Увязался Флэмынзила за Белым Арапом, втроем дальше отправились. Прошли немного — видит Белый Арап новое диво, еще большее: стоит чудище воду выхлебал из двадцати четырех прудов и одной речки, на которых полтыщи мельниц вертелись, и во все горло кричит, что сохнет от жажды.
— Вот чертова образина, — говорит Белый Арап. — Лютое брюхо, бездонная бочка, которых не могут напоить все источники земли! Экое болото, верно, в желудке у него! Видать, это и есть знаменитый Сетила
[18], пожиратель вод, сын засухи, под зодиаком Водолея рожденный, знаком жажды безмерной отмеченный.
— Смейся, Белый Арап, смейся, — сказал Сетила, пуская воду из ноздрей и ушей, как из мельничного желоба. — Но только без меня все равно зря едешь!
— Так ступай же и ты с нами, — отвечает Белый Арап. — Перестанешь в воде плесневеть, от лягушечьей пакости избавишься, мельницам дашь вертеться, хватит дурака валять! Господи, боже мой, от этакой сырости лягушки в животе разведутся!
Увязался Сетила за Белым Арапом, дальше отправились вчетвером. Еще кусок пути отмахали, видит Белый Арап новое чудо, еще чудесней: стоит уродина, с одним только глазом во лбу, а глаз — с решето. Откроет уродина глаз — ничего не видит, тычется сослепу, а закроет — все видит, хоть днем, хоть ночью землю до самых недр проглядывает.
— Все на свете, — заорал он как полоумный, — вижу я продырявленным, что твое решето, и прозрачным, как вода; над головой тьму-тьмущую вижу видимого и невидимого; видно мне, как трава из земли растет; как солнце за гору катится; как месяц и звезды в море тонут. Вижу деревья вершинами вниз, скотину — ногами вверх и людей — с головой меж плеч; и еще вижу, чего видеть никому не желаю — рты вижу, на меня разинутые, и невдомек мне, чему вы дивитесь — своей красоте, что ли?
Хлопнул себя Белый Арап ладонью по губам и говорит:
— Не приведи господь с сумасшедшим встретиться, уж очень беднягу жаль! Хоть смейся над ним, хоть плачь. Но видать, уж таков он отроду. Может, это и есть знаменитый Окила, родной брат Орбилы, двоюродный брат Кьорилы, племянник Пындилы, из деревни Китилы, через дорогу от Нимерилы, или из города Сэ-л-каць, по соседству с Каутац-ши-де-ур-мэ-ну-й-май-даць
[19]. Словом, один только есть на земле Окила, что весь свет навыворот видит — не так, как все люди, только себя не видит — до чего пригож! Урод — кривой рот, во лбу один глаз, чтоб не сглазить как раз!
— Смейся, Белый Арап, смейся, — покосился на него Окила, — только там, куда идешь, не поздоровится без меня. Не так-то легко дочь Рыжего царя раздобыть, как тебе кажется. На чертов праздник отдаст тебе ее царь, если меня там не будет.
— Ступай же и ты с нами, — сказал Белый Арап. — Не за ручку же тебя вести, как слепого.
Увязался Окила за Белым Арапом. Дальше отправились впятером. Отшагали еще кусок пути, видит Белый Арап новую диковину, всех чудней: ублюдок какой-то из лука на птиц охотится. И думаете, вся его сила и сноровка в одном только луке? Не тут-то было! Владел он таким искусством и такой прытью, каких сам черт не вообразит: когда хотел, так раздавался вширь, что всю землю руками охватывал. Или так страшно вытягивался, что рукою доставал до луны, до звезд, до солнца и до чего хотел. И ежели случалось ему, стреляя из лука, промахнуться, то птица все равно от него не спасалась: рукою хватал ее на лету, сворачивал шею со злости и живьем проглатывал вместе с перьями. Вот и на этот раз лежала перед ним груда птиц, которых пожирал он с алчностью изголодавшегося орла. Изумился Белый Арап и спросил:
— А этого, черт возьми, как еще звать?
— Вспомни, тогда скажу, — ответил Окила, улыбаясь себе в усы.
— Поди догадайся, как его окрестить. Назову Пэсэрилой
[20] — не ошибусь… Лэцилой — и того меньше… Лунжилой — тоже… А вот — Пэсэрь-Лэци-Лунжила — самое, пожалуй, подходящее имя при его повадках да нраве, — сказал Белый Арап, тронутый участью бедных пташек. — Видать, это и есть знаменитый Пэсэрь-Лэци-Лунжила, сын стрелка и внук лучника, пояс земли и небесная лестница, гибель пернатых и бич людей, а то как же назвать иначе?
— Смейся надо мной, Белый Арап, смейся, — сказал Пэсэрь-Лэци-Лунжила, — а лучше бы над собой посмеялся, ибо не знаешь ты, какая беда тебя ждет. Думаешь, так уж и дастся тебе в руки дочь Рыжего царя? Видать, неведомо тебе, что за чертова ведьма она: захочет — жар-птицей обернется, хвост покажет — ищи ветра в поле. Если меня там не будет, то зря себе ноги бьешь.
— Ступай же и ты с нами, — ответил Белый Арап. — Может статься, ухватишь Жерилу за чуб, носом в солнце уткнешь, пусть хоть на столечко согреется, перестанет лязгать зубами, как старый аист, у меня от этого спину сводит.
Увязался Пэсэрь-Лэци-Лунжила за Белым Арапом, дальше отправились вшестером. Где пройдут — беда и разор: Жерила леса и рощи огню предает, Флэмынзила землю с глиной пожирает и клянется, что помирает с голоду, Сетила воду выхлебывает из болот и прудов, так что рыба на суше бьется, лягушки стоном стонут, сетуя на жестокую засуху, Окила все навыворот видит и такую несет околесицу, что только держись:
Плел такие небылицы,
Что со смеху подавиться.
Тыщи глупостей таких,
Что хоть выноси святых,
А Пэсэрь-Лэци-Лунжила приманивал пернатых и глотал без разбору — с пером, без пера — так что никто уже не отваживался домашнюю птицу близ дороги держать.
Один только Белый Арап зла никому не причинял. Но как товарищ все с ними делил, и убыток и прибыток, и приветлив был с каждым, ибо нуждался в них, направляясь к Рыжему царю, о котором твердила молва, что был он лют и жесток до крайности — с людьми обращался хуже, чем с собаками. Но как говорится: на бездушного бессовестный нужен. Думаю, из пяти неумытых, что за Белым Арапом пошли, хоть один на Рыжего управу найдет. Нарвется Рыжий царь и на людей, не только на чурбанов, как до сих пор. Однако не стану вперед забегать. Кто его знает, как еще оно обернется?
В этом мире, как на грех,
Все идет ногами вверх,
Лишь немногим суждено
Молоть на мельнице зерно.
Зато уж у тех немногих — и хлеб, и нож в руках; режет как и сколько хочет, комар носа не подточит. Как говорится: кто может — кости гложет, а что нет — не разжует и котлет. Вот то-то же и с Белым Арапом и его товарищами: может, удастся им дочь Рыжего царя добыть, а может и нет; покамест идут они да идут, а уж дальше будет, как счастье присудит. Мне-то что? Мое дело — сказку сказывать, а ваше — слушать.
Идет Белый Арап со своими товарищами, идет и наконец-то
К царству привела дорога,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Не короткий до развязки…
И как только прибыли, все шестеро — на царский двор: Белый Арап впереди, остальные позади, один другого наряднее и пригожее — нитки и лохмотья за ними стелются, как за войском папуковым
[21].
Явился Белый Арап к Рыжему царю, поведал, кто они, откуда и зачем прибыли. Изумился царь дерзости и бесстыдству оборванцев, пришедших за его дочерью от кого бы то ни было. Однако не ответил он ни так, ни этак, только попросил переночевать под его крышей, надеясь, что до утра надумает, как ему быть… А сам втихомолку вызвал своего верного слугу и приказал уложить гостей в доме из раскаленной меди, чтобы заснуть им навеки, по примеру других женихов, может, почище этих.
Разжег царский слуга под медным домом костер — двадцать четыре сажени дров; огненным жаром раскалился дом. Когда же настал вечер, приходит слуга к гостям, просит располагаться на ночлег, а вещий Жерила товарищей в сторону отводит, на ухо им шепчет:
— Мэй, как бы не дернул вас черт раньше меня сунуться, куда поведет нас слуга рыжего пса, а то не видать вам завтрашнего дня. Один только на свете Рыжий царь. Славен он в этом краю невиданной добротой своей и неслыханным милосердием. Известно мне, как радушен он и щедр… за чужой счет. Вот бы только околеть ему поскорее; пусть живет три дня, считая с позавчерашнего. А дочка-то, дочка его! Приказал дьявол, она и родилась. Вылитый батька во весь рост, и даже почище… Как говорится: козел — через стол, а козленок — через дом. Но нашла коса на камень. Если уж я с ними в эту ночь не слажу, то, значит, и сам сатана не справится.
— Я тоже так думаю, — сказал Флэмынзила. — Запряг Рыжий царь волов в упряжку с чертом, но только выпряжет их без рогов.
— И еще, может, в придачу и плуг и телегу отдаст, лишь бы от нас избавиться, — добавил Окила.
— Слушайте, — сказал Жерила, — язык наш — враг наш. Пошли лучше спать, а то нас царский слуга ожидает, стол накрыл, объятья раскрыл. Ну-ка! Навостри зубы и марш за мной!
Затопали они — топ, топ, топ! Дошли до двери, остановились маленько. Как подул Жерила трижды — стал дом и не горячим и не студеным, как раз впору спать в нем. Ввалились они гурьбой, улеглись кто где — и молчок. А царский прислужник, проворно дверь заперев снаружи, злобно сказал:
— Вот и разделался я с вами. Спите, голубчики, вечным сном непробудным, потому постелил я вам на славу. До утра как раз в пепел успеете обратиться.
Сказал — и отправился восвояси. А Белому Арапу с друзьями и горя мало. Поразмякли у них от теплыни кости, стали друзья потягиваться и нежиться, назло Рыжему царю и его дочери. Один Жерила от холоду ежится, колени ко лбу поджал, сам ворчит:
— Только ради вас я дом остудил. Для меня он как раз впору был. Вот с недоносками спутался! Да ладно, отзовется вам это счастье. Вам, значит, млеть от тепла, а мне от стужи трястись? Не бывать этому, не стану себя покоя лишать ради черт знает кого. Сейчас вас за волосы таскать буду, никого не пощажу. Раз уж мой сон по ветру развеяли, пускай и от вашего проку не будет!
— Придержи-ка язык, эй, Жерила! — закричали остальные. — Ночь на исходе, а ты все языком треплешь. Чертово племя! Хватит, уже голова от тебя распухла! Кому еще взбредет с тобою связываться, тот пускай и несет свой крест, а нас ты совсем заговорил, ни минуты от тебя покоя! Словно разбитая мельница. Мелет и мелет по всякому пустяку, будто умом повредился. В лесу тебе жить, с волками и медведями, а не в царских палатах с порядочными людьми!
— Но-но-но! Вы с каких это пор помыкать мною стали, — обиделся Жерила. — А ну-ка, потише со мной, не то плохо придется. Я добр, пока добр. А попробуй меня из терпенья вывести…
— А ты не шутишь, эй, Губастый? Тьфу ты, храбрый какой! Как осерчает, так и в штаны делает, — сказал Флэмынзила. — До чего ж ты мне люб. Сунул бы тебя за пазуху, да уши не лезут. Лучше успокойся маленько, язычок придержи за зубами. Просто так, чтобы после не жалеть — ведь не один же ты в этом доме.
— Ах так! Как сказано: одолжи добром, уплатят злом, — сказал Жерила. — Поделом мне, зачем вас вперед себя не пустил? Будет мне наука. И пускай все так поплатятся, кто поступит, как я!
— Верно говоришь, Жерила, только зря не лечишься, — молвил Окила. — Проболтал ночь напролет, загубил нам сон. Ты бы что сказал, если бы тебе сон разбили? Скажи спасибо, что на кротких напал, другие бы тебе всыпали по десятое число!
— Вы что ж, не замолчите? Вот я сейчас протиснусь сквозь стены, выйду с крышей на голове, — сказал Лэци-Лунжила. — И как это вас даже в эту пору черт унять не может? Эй, Губастый, сдается мне, ты один тут причина раздора.
— А то кто же? — сказал Окила. — Придется ему, кажется, прописать средство.
— Причеши-ка ему вихор, поиграй на спине, попляши на брюхе, — молвил Сетила. — Иначе шалопая не угомонишь.
Увидал Жерила, что все против него, как хватит по стенам инеем в три ладони толщиной — все затряслись от стужи, зуб на зуб не попадает.
— Нате! Проучил я вас! В другой раз сами скажете, чего вам надобно, — расхохотался Жерила. — Как тут со смеху не лопнуть? Ну, о Белом Арапе другой разговор, но вы-то, кривляки, негодники, сколько ночей в соломе, на свалке отхрапели, — иметь бы мне столько монет в кошельке, больше не надо! Так пристало ли вам, валетам червонным, на кухне рожденным, из себя благородных корчить!
— Снова семя раздора ищешь, эй, Губастый! — сказали остальные. — Черт бы побрал тебя и весь род твой, на веки вечные, аминь!
— Вот и я тоже о том вашей милости бью челом, отправить бы вас на слом, — сказал Жерила. — А теперь давайте-ка спать, а то скоро вставать, Белому Арапу помогать, верой и правдой ему служить, меж собою дружить, ибо спорами да раздорами рая нам не нажить.
Бубнили они, бубнили, а тут и заря занялась!.. А когда занялась, то царский слуга, считая, что от гостей начисто избавился, явился золу во двор выметать. И что же он видит? Медный дом, с вечера как жар раскаленный, ледяной глыбой стоит; не отличишь подо льдом, где тут двери, где решетки, где ставни на окнах — ничего! А из дому — шум столбом валит. Это гости по дверям что есть мочи колотят, как шальные орут:
— Что за царь, нас без капли огня оставил! Этак и вовсе замёрзнуть можно. В самых убогих лачугах так на дрова не скупятся. Вот беда, так беда! Да у нас язык к нёбу пристыл, мозг в костях перемерз!..
Царский слуга, услыхав такое, перепугался не на шутку, но и злость его тоже взяла. Силится дверь открыть на ходу. С петель сорвать — и того меньше. Что тут делать? Бежит к царю, обо всем докладывает. Тут и царь прибегает, и пропасть народу, с кирками острыми, с котлами кипятку. Одни лед кирками ломают, другие льют кипяток на дверные петли и в замочную скважину. Изрядно намаявшись, с большим трудом открывают двери, гостей выпускают из дому, а гости-то, гости! Головы у них, и бороды, и усы в инее, не поймешь, люди это, или черти, или призраки какие… Дрожмя дрожат — зубы так и лязгают. А Жерилу словно все черти ада трясут; такое губами выделывал, что сам Рыжий царь ужаснулся при виде его красы.
Выступил Белый Арап вперед, поклонился царю и сказал:
— Ваше величество! Его светлость, племянник могущественного Зелен-царя, верно, ждет меня, не дождется. Теперь-то уж, думаю, отдадите мне вашу дочь, а мы вас в покое оставим и уйдем восвояси.
— Что ж, удалец, — хмуро ответил царь, — придет и такое время. А пока подкрепиться вам надо, чтоб никто не сказал потом, что ушли вы из дворца моего, как из голодного дома.
— Золотые слова, ваше величество, — сказал Флэмынзила, — давно уже у нас с голодухи кишки марш играют.
— Может, и выпивка будет, ваше величество? — спросил Сетила, — а то ведь глотки у нас пересохли от жажды.
— Перестаньте, — сказал Окила, то и дело моргая, — знает его величество, чего нам надо.
— Так и я думаю, — сказал Пэсэрила, — не зря же попали мы в царский дворец. Не бойтесь, не допустит его величество, чтоб терпели мы голод, стужу и жажду.
— Какой тут может быть разговор? — вмешался Жерила, лязгая зубами. — Разве не знаете, что его величество — отец голодных и жаждущих? Оттого-то и радуюсь при мысли, что наконец-то согреюсь малость, хлебнув крови господней.
— Придержите-ка языки, — сказал Флэмынзила. — Довольно одной палки на целый воз горшков. Не приставайте к его величеству, тоже ведь он человек… Нашему брату, бедняку, не под силу, конечно, дело такое провернуть, а для царства это все равно, как если бы блоха укусила: даже и незаметно.
— Я так думаю, что еда — пустая забава, — сказал Сетила. — вот выпить — другое дело. Я попросил бы его величество, если уж угодно попотчевать нас, пускай поднажмет на выпивку, ибо в ней вся суть и сила. Но сдается мне, слишком мы заболтались, так что его величество и не знает как нам угодить.
— Да хоть бы уж дали поскорей, что дать решено, — сказал Флэмынзила. — Так и сосёт с голодухи под ложечкой.
— Потерпите маленько, — сказал Окила. — Не мыши у вас ночевали в желудке. Сейчас и вино подадут и еду, только брюхо готовь.
— Тотчас же все поднесут, — сказал им царь, — лишь бы вам управиться! Не покажете себя едоками и выпивалами — на себя пеняйте. Хлебнёте со мной горя.
— Другой заботы не дай нам, боже, — сказал Флэмынзила, держась за живот.
— А его величеству дай он мысли благие и щедрую руку, чтоб побольше перепало нам еды и питья, — сказал Сетила, у которого слюнки так и текли. — Потому что по этой части едва ли нас кто за пояс заткнет. Зато на работе мы на рожон не лезем.
Царь слушает все это молча, с досады слюной давится. А сам про себя думает:
"Ладно, ладно, пытайте пальцем море. Выйдет вам все это боком".
Повернулся и пошел домой.
Проходит немного времени, подкатывают двенадцать фургонов с хлебами, и тут же приносят двенадцать жареных коров и двенадцать бочек крепленого вина, от которого, только глотни, ноги вдруг отнимаются, глаза стекленеют, язык прилипает к нёбу и начинаешь лопотать по-турецки, не зная ни бельмеса. Сетила с Флэмынзилой сказали тогда остальным:
— Ну-ка, поначалу ешьте и пейте вы, сколько влезет. Но не вздумайте всю еду и питье ухлопать, не то узнаете, почем фунт лиха.
Сели Белый Арап, Жерила, Окила и Пэсэрь-Лэци-Лунжила за стол, наелись, напились досыта. Но куда там! И незаметно, откуда ели-пили, ведь еды там было и питья со всего царства, не шутка!
— А ну-ка, бездельники, в сторону! Только еду искромсали, — сказали Флэмынзила и Сетила, которым от голода и жажды совсем невмоготу стало.
И как начнет Флэмынзила в рот себе по фургону хлеба сразу пихать, да по целой корове, знай жует да глотает, жует да глотает. Глядишь, словно их и не было. А Сетила как выбьет днище из бочки — одним глотком осушает. Раз-раз, все бочки подряд выхлебал — капли вина не осталось на клепках.
Стал тогда Флэмынзила орать, что, дескать, пропадет с голоду, начал швырять костями в царских людей.
А Сетила тоже вопит, что от жажды ему конец приходит, и тоже клепки и днища во все стороны, как полоумный, швыряет.
Услыхал царь такой шум, выбежал из дому. Как увидел, за голову схватился.
— Вот беда на мою голову! — сказал он, вне себя от досады. — Видно, не сдобровать мне — нашла коса на камень!
Тогда подошел к нему Белый Арап, поклонился и сказал;
— Ваше царское величество! Теперь, я думаю, отдадите вы мне свою дочь, а мы вас в покое оставим и отправимся восвояси, ибо племянник Зелен-царя, верно, ждет не дождется нас…
— Что ж, придет и такое время, удалец, — пробормотал царь сквозь зубы. — Однако ж имейте терпенье, дочь моя не из тех ведь, что на перекрестках валяются — только подбирай. Как же так получается? Правда, ели и пили вы каждый за десятерых, а все же дело еще не сделано. Вот вам мера макова семени, перемешанная с мерой тонкого песка. До утра надо вам мак от песка отобрать, зернышко к зернышку. Если найду хоть зернышко мака в песке или в маке одну песчинку — не будет меж нами мира. Головой поплатитесь за свою дерзость, чтобы и другим не повадно было глядя на вас. Если же с делом управитесь, тогда еще погляжу я…
И ушел, предоставив им головы себе ломать сколько влезет.
Белый Арап с товарищами только плечами пожали, не зная, как им быть.
— Вот так штука! Коварен все-таки этот Рыжий царь, — сказал Окила. — Я-то, конечно, и в темень легко различаю маковины от песчинок; но муравьиная тут сноровка нужна, чтобы за этакий срок всю мелочишку отобрать Верно сказал кто-то, что остерегаться нужно рыжего человека, потому что и впрямь сатана он во весь рост.
Вспомнил тогда Белый Арап про муравьиное крылышко, достал и высек искру из кремня, поджег крылышко трутом. И чудо чудное! Откуда ни возьмись, тучами муравьи собрались. Было их, сколько пыли и пепла, травы и листьев. Шли они под землей и по земле, летели по воздуху, и не видно было им ни конца, ни края. В миг они отобрали песок от мака. Тысячи лей
[22] отдай — не отыщет никто маковины в песке или песчинки в маке. А на зорьке, когда сон до того сладок, что сама земля под человеком спит, видимо-невидимо муравьев, самых мелких, проникли в царскую спальню и давай кусать царя — словно огнем его жгут. Чувствуя зуд во всем теле, поспешно поднялся царь с постели — нечего было и думать, чтобы спокойно поспать, как в другие дни, до полудня. Встал, всю постель перерыл — что бы это было? Однако ничего не нашел, муравьи словно сквозь землю провалились.
— Экая чертовщина! Глянь, сыпь какая на теле выступила. Неужто без всякой причины? Что-то не верится. Но кто его знает?.. Либо я ошибаюсь, либо это к перемене погоды, — сказал царь, — одно из двух непременно. А покамест пойду, посмотрю, выбрали из мака песок те бездельники, что уши мне прожужжали — отдай да отдай им дочку?
Пошел он, а когда увидел, что отменно выполнен его приказ, возрадовался… И не зная, к чему бы еще придраться, задумался.
А Белый Арап выступил вперед, поклонился царю и сказал:
— Ваше царское величество, теперь, я думаю, отдадите мне вашу дочь, а мы оставим вас с миром и уйдем туда, откуда пришли.
— Что ж, придет и такое время, удалец, — обронил царь, словно нехотя, — однако до того еще дельце есть. Дочь моя вечером спать ляжет, где всегда ложится, а вы ее охраняйте всю ночь. Если к утру будет она все там же, то, может, я ее и отдам; а нет — на себя пеняй. Понял?
— Так точно, великий царь, — ответил Белый Арап. — Только бы нам не слишком замешкаться. Господин мой ждет меня не дождется, и, боюсь, страшная кара может меня постигнуть, если опоздаю.
— До твоего господина мне дела нет. Что тебе от него достанется, то будет впридачу, — хмуро сказал царь. — Пусть хоть шкуру сдирает с вас, я-то тут причем? Вы старайтесь меня не прогневать. Стерегите дочь мою, как зеницу ока. А нет, напрасна вся ваша прыть — не сносить вам головы.
Сказал — и отправился восвояси, оставив их в полном смятении.
— В этом деле тоже, конечно, черт замешан, — сказал Жерила, качая головой.
— И даже старый чертяка — Ночная стрела или Южный бес, — отвечал Окила. — Однако сдаётся мне, недолго уже ему дурака валять.
Но вот наступает вечер, царевна ложится спать, Белый Арап становится на страже у самых ее дверей, остальные выстраиваются один за другим до самых ворот.
А перед самой полуночью оборачивается царевна пташкой-невидимкой, пролетает мимо пяти сторожей. Долетела до Окилы, а тот ее сразу приметил, Пэсэриле подмаргивает:
— Ишь, обвела нас царская дочка вокруг пальца. Чертова девка! Обернулась пташкой, стрелой мимо наших дружков пролетела, а они хоть бы что! Ну и ну! Положись на них, если без головы остаться желаешь. Только нам под силу теперь ее обнаружить и обратно доставить. Никому ни слова — и за ней! Я тебе покажу, где она прячется, а ты знай хватай ее, да шею маленько намни, чтобы в другой раз не повадно было людей морочить.
Отправились за нею, много не прошли, и говорит Окила:
— Глянь, Пэсэрила, где она! Позади земли, под заячьей тенью! Хватай ее, не упускай!
Как раздался вширь Пэсэрила что было мочи, поворошил бурьяны, только изловчился — збрр! вспорхнула пичуга на вершину горы, за скалой схоронилась.
— Вот она, — говорит Окила, — на вершине горы, за той скалою!
Приподнялся маленько Пэсэрила, стал шарить за скалами; только изловчился — збрр! и оттуда упорхнула, за самый месяц спряталась.
— Вон она где, Пэсэрила! За месяцем притаилась, — говорит Окила, — жаль, не дотянусь, а то бы задал ей трепку.
Тут как вытянулся Пэсэрила, — до месяца достал, обхватил месяц руками, нащупал птичку, ухватил за хвост, еще немного — шею свернул бы. Тогда обернулась птичка девушкой, закричала в испуге:
— Не губи ты меня, Пэсэрила, а я тебя милостями осыплю и дарами царскими; честью тебе клянусь.
— Вот уж осыпала бы ты меня царскими милостями и дарами, кабы не приметил я тебя, ведьма! — ответил Окила. — Здорово намаялись, пока тебя изловили. Ну-ка, спать отправляйся, а то вот-вот рассветет. После разберемся.
Подхватили ее, один под одну руку, другой — под другую, и ходу! На рассвете добрались до дворца, прошли мимо стражи, втолкнули царевну в спальню.
— Ну, Белый Арап, — сказал Окила, — не будь меня с Пэсэрилой, что бы с вами теперь сталось? Видишь ли, есть у каждого человека и прок и упрек. И где прока больше, там на упрек не смотрят.
Да, прока не было б от вас,
Не будь сегодня, к счастью, нас.
Вы нам едва не удружили
Тем, как царевну сторожили!
Что могли ответить на это Белый Арап и другие? От стыда повесили они головы и сказали спасибо Пэсэриле и знаменитому Окиле за то, что были им как братья.
А тут и сам царь явился, орел орлом, дочь свою отобрать; как увидел ее под стражей, так глаза у него засверкали от гнева, но делать было нечего.
Подошел Белый Арап к царю, поклонился ему и сказал:
— Пресветлый царь, на этот раз, думаю, отдадите вы мне дочь, а мы оставим вас с миром и пойдем восвояси.
— Ладно, удалец, — нахмурился царь, — придет и такое время. Но только есть у меня еще и приемная дочь, одних годов с родной моей дочерью, и ничем они друг от дружки не отличаются — ни красотой, ни ростом, ни обращением. Сумеешь отгадать, которая из них мне родная, бери ее и ступай от меня прочь, а то я уже поседел от вас. Ну, пойду, подготовлю их, а ты приходи немного погодя. Отгадаешь — твое счастье, а нет — забирайте свои пожитки и убирайтесь отсюда скорее, потому что встряли вы у меня поперек горла.
С этими словами ушел царь к дочерям. Велел их на один лад причесать и нарядить, а потом послал за Белым Арапом, чтобы тот отгадал, которая из них царская дочь.
Видит Белый Арап, что плохо ему приходится, не знает, что делать, куда податься, чтобы теперь, под самый конец, маху не дать. Стоит он, задумавшись, и вспоминает вдруг про пчелиное крылышко. Достает он то крылышко, высекает искру из кремня, трутом крылышко поджигает. Откуда ни возьмись — перед ним царица пчел.
— По какой нужде позвал ты меня, Белый Арап? — спрашивает она, садясь к нему на плечо. — Говори, я готова служить тебе.
Рассказывает ей Белый Арап обо всем, слезно просит помочь ему.
— Не печалься, Белый Арап, — говорит ему царица пчел. — Помогу тебе царевну из тысячи узнать. Смело входи в дом, я тоже там буду. Как войдешь, стой и смотри на обеих. Которая платочком помашет — та и есть царская дочь.
Входит Белый Арап с пчелой на плече, а там уже царь его поджидает с обеими дочерьми. Отошел Белый Арап в сторонку, то на одну глядит, то на другую. А царица пчел между тем как вспорхнет, да как сядет на царевнину щечку, вздрогнула царевна, вскрикнула — и давай ее гнать платком. Только того и надо было Белому Арапу. Приблизился он проворно к ней, взял ее легонько за руку, говорит царю:
— Светлейший царь, теперь, я думаю, не станете вы мне больше препятствий чинить, раз уж я выполнил все, что вы повелели.
— Что до меня, то хоть сейчас ее забирай, Белый Арап, — ответил царь, бледнея от стыда и досады. — Коли не сумела она вас перехитрить, сумей хоть ты владеть ею, а я теперь от всего сердца ее тебе отдаю.
Поблагодарил Белый Арап царя и говорит царевне:
— Что ж, пойдем, пожалуй, а то господин мой, его светлость племянник Зелен-царя, поди, состарился, меня поджидаючи.
— Погоди-ка маленько, нетерпеливый ты этакий, — молвила царская дочь и, взяв с руки горлинку, что-то ей на ухо шепнула и нежно поцеловала. — Поспешишь, людей насмешишь. Еще нам толковать с тобой надо. Пусть твой конь и моя горлица отправятся сперва за тремя яблоневыми веточками и за живой и мертвой водой туда, где горы меж собою смыкаются. Если прилетит моя горлинка первой с веточками и водой, тогда и думать обо мне позабудь, не пойду, упаси господь! Если ж посчастливится тебе и первым конь твой воротится и все принесет, знай, что пойду за тобой хоть на край света. Вот тебе мой последний сказ!
И тут же, с места, пустились конь и горлинка наперегонки — по воздуху, по земле ли, как придется.
Легкая горлинка примчалась первой и, уловив мгновение, когда солнце достигло высоты и отдыхали горы, ринулась, будто через пламя, к трем яблоневым веточкам и живой и мертвой воде, схватила и стрелой полетела назад. Но вот у горных ворот выходит ей навстречу конь, ласково ей говорит:
— Гор-гор-горлинка хорошая, пташка пригожая, отдай-ка мне три яблоневые веточки и воду живую и мертвую, а сама вернешься, другие добудешь, и меня в пути догонишь, ибо резвее ты меня. Не раздумывай, дай поскорее, и будет тогда всем хорошо — и моему господину и твоей госпоже, и мне и тебе; а не отдашь — не сдобровать тогда моему господину, Белому Арапу, да и нам не сладко придется…
Горлинке вроде и не охота было, но не стал ее спрашивать конь; кинулся, выхватил воду и веточки, помчался обратно в путь к царевне и отдал ей все, а Белый Арап тут же стоял, и сердце его наполнилось радостью.
Скоро, правда, и горлинка прилетела, но что толку?
— Ах ты, изменщица, — сказала ей царевна. — Ловко же ты меня подвела. Но уж так и быть, тотчас же лети к Зелен-царю, дай знать ему, что мы за тобой следом прибудем.
Умчалась горлинка, а царевна бросилась отцу в ноги и сказала:
— Благослови меня, отец, и прощай! Так уж было мне, видно, на роду написано. Делать нечего, должна я с Белым Арапом пойти и все тут!
Собралась царевна в дорогу, села на вещего коня своего, а Белый Арап, забрав своих друзей, тоже вскочил на коня, и
Вместе двинулись в дорогу,
Мы ж положимся на бога,
Потому что путь у сказки
Не короткий до развязки…
Ехали они дни и ночи, а сколько — никто не знает; только однажды Жерила, Флэмынзила и Сетила, Пэсэрь-Лаци-Лунжила и вещий Окила:
Вдруг в пути остановились,
Поклонились, прослезились:
— Белый наш Арап, прощай,
Лихом нас не поминай.
— Лихо помнить не годится.
Иногда и лихо может пригодиться. —
Тот сказал и дальше едет
С девушкой в ночной тиши.
Им спасибо от души,
Месяц яркий в небе светит,
А в сердцах стучится кровь…
Возникает в них любовь,
Чувство яркое, как солнце,
Дорогое, как алмаз,
Что рождается от искры
Милых глаз!
Вот снова едут они, и чем дальше, тем больше забывает обо всем на свете Белый Арап, глядя на девушку — до того она была молода, хороша и полна очарования.
Салат из Медвежьего сада, шкуру и голову Оленя с радостью отдал он своему господину, но дочь Рыжего царя очень уж не хотелось ему отдавать, потому что полюбил он ее без ума. Была она как бутон майской розы, утренней росой умытый, первыми лучами солнца обласканный, дуновением ветра колеблемый, мотыльками не тронутый. Или по-нашему, по-простецки, — была она чертовски хороша; на солнце и то смотреть можно, а на нее — никак. Потому-то Белый Арап глаз с нее не сводил, от любви таял. Правда, и она подчас на Белого Арапа заглядывалась, и в сердце ее словно происходило что-то… Какое-то тайное чувство, которого не решалась она высказать. Как в песне говорится:
Уходи от меня, будь со мною!
Смирным будь, не давай мне покою!
Или как уж и сказать, чтоб не ошибиться? Одно знаю, что шли они, не чувствуя, что идут, и казался им путь коротким, а время и того короче, день — часом, а час — мигом; ну, как бывает с нами, когда идем мы в пути с любовью рядом.
Не знал, не гадал Белый Арап, бедняга, что его дома ждет; а кабы знал, не о том были бы его думы.
Как в песне сказано:
Знали б люди, что их ждет,
Береглись бы наперед!
Впрочем, не буду вперед забегать. Лучше о том расскажу, как прилетела горлинка к Зелен-царю и оповестила, что едет следом Белый Арап с дочерью Рыжего царя.
Стал Зелен-царь готовить для царской дочери достойную встречу, а безбородый зубами со злости скрипел, думая только о мести.
Едет, едет Белый Арап с дочерью Рыжего царя, и вот приезжает он, наконец, в то царство.
Выезжает навстречу ему Зелен-царь с дочерьми; с безбородым и всем царским двором. Увидел безбородый, до чего прекрасна дочь Рыжего царя, кинулся к ней с коня ее снять, на руках понести, а она оттолкнула его и воскликнула:
— Прочь от меня, безбородый! Не ради тебя прибыла я сюда, а ради Белого Арапа, племянника Зелен-царя!
Услыхав эти слова, обомлели Зелен-царь и его дочери; безбородый же, видя,
что обман и коварство ею раскрыты, кинулся, как бешеный пес, на Белого Арапа и одним ударом меча отсек ему голову.
— Вот тебе, пускай так погибнет каждый, кто нарушает клятву.
Тогда кинулся конь Белого Арапа на безбородого.
— Хватит, безбородый, — крикнул он, схватил его зубами за голову, взлетел вместе с ним до неба и выпустил. Упал безбородый на землю, в пыль и прах превратился.
А дочь Рыжего царя, в суматохе, голову Белого Арапа на плечи ему поставила, трижды вокруг шеи провела тремя веточками яблоневыми, мертвой водой окропила, чтобы кровь остановить и рубец зарубцевать, потом живой водой обрызгала, — и ожил Белый Арап. Протер он глаза, вздохнул и сказал:
— Крепко же я заснул!
— Спал бы ты долго и не проснулся, Белый Арап, не будь здесь меня, — сказала дочь Рыжего царя, нежно целуя его и возвращая ему меч.
Склонили они оба колени перед Зелен-царем, поклялись один другому в верности и тут же от дяди благословение приняли вместе с царством.
А потом стали свадьбу справлять — только держись!
Толпы народа ими любовались,
Месяц и солнце с неба улыбались.
И были приглашены на свадьбу:
Царица муравьиная,
Царица пчелиная,
И еще волшебница,
Фея милосердная
С цветущего острова!
И еще были приглашены:
Короли, цари, принцессы,
Богачи и люди с весом,
И рассказчик-горемыка,
Тот, что без гроша в кармане.
Все от мала до велика
Пили, ели и плясали.
И длилось то веселье целые годы и теперь еще длится. Кто туда ни приходит, пьет и ест. А у нас, кто имеет деньги, пьет и ест, а кто не имеет — смотрит и слюну глотает.

 ДОЧЬ СТАРУХИ И ДОЧЬ СТАРИКА
ДОЧЬ СТАРУХИ И ДОЧЬ СТАРИКА

Жили-были старик со старухой; и была у старика дочка, и у старухи тоже дочка. Старухина дочь была некрасива, ленива, заносчива и зла, но, будучи "маминой дочкой", пыжилась и кривлялась, как ворона в клетке, предоставив всю работу стариковой дочке. А старикова дочь была красива, прилежна, послушна и сердцем добра. Господь наделил ее всеми дарами. Но добрая девушка должна была сносить обиды и от сводной сестры и от мачехи. Счастье еще, что была она работящей и терпеливой, а иначе вовсе б ей не сдобровать.
Старикова дочь туда, старикова дочь сюда, и в лес ее по хворост, и на мельницу с мешком на спине, словом — во все стороны, хоть разорвись. День-деньской не присядет, не успеет с одной стороны прийти, как уже в другую гонят. Да еще баба с дочкой своей ненаглядной все ворчат да брюзжат, не угодишь на них. Для бабы была старикова дочка бельмом в глазу, а своя — душистым базиликом, — на икону вешать.
По вечерам, когда отправлялись девушки вдвоем на посиделки в деревню, старикова дочь не терялась, полное решето веретен напрядала, а старухина дочка с превеликим трудом — веретено-другое. Когда же возвращались они поздно ночью домой, то старухина дочка — шмыг через перелаз и берет у стариковой дочки решето с веретенами, — подержать, пока и та не перелезет. Берет, хитрюга, — и во всю прыть домой к старику и старухе рассказать, что это она веретена напряла. Напрасно уверяла старикова дочь, что все веретена ее руками напрядены: баба со своей дочкой тотчас же на нее набрасывались и хоть убей — на своем поставят. По воскресеньям, по праздникам старухина дочка ходила расфуфыренная да приглаженная, словно ей голову телята облизали. Ни одного жока, ни одной клаки
[23] не пропускала старухина дочка, а стариковой дочке строго настрого запрещалось все это. А когда домой приходил старик, то язык у старухи молол пуще мельницы: что, дескать, дочь его непослушна, и распущена, и ленива, и дурная трава она… и одно, и другое, и пусть он ее из дому прогонит, служить отправит, куда хочет, но только в дому ее больше держать нельзя, ибо может она и ее дочку испортить.
Старик, будучи раззявой или как уж его назвать, смотрел ей в рот, и что она говорила, то и было свято. Может, и хотелось ему поспорить, но уже запела курица у него в дому, и не было больше у петуха никакой власти; попробовал бы он полезть на рожон, крепко благословили бы его баба с дочкой. Однажды, когда уж вовсе невтерпеж стало от старухиных речей, подозвал он дочку свою и сказал:
— Доченька милая, все мне говорит твоя мать, что не слушаешься ты ее, что дерзкая ты и норовистая и что оставаться тебе больше в моем дому невозможно; вот я и думаю — ступай-ка ты, куда бог надоумит, чтобы не было больше раздора в семье из-за тебя. Но вот тебе мой наказ отцовский: куда ни пойдешь, будь послушна, кротка и прилежна; потому у меня в дому еще жилось тебе как жилось: что ни говори — под родительским крылышком! А ведь на чужбине господь его знает, с какими людьми повстречаешься. Не станут они от тебя терпеть, сколько мы терпели.
Бедная девушка, видя, что баба со своей дочкой во бы то ни стало хотят прогнать ее, поцеловала руку у отца и со слезами пошла, куда глаза глядят, покинув родительский дом без всякой надежды вернуться. Шла она, шла по дороге, пока не встретилась ей собачонка, больная, несчастная и такая худая, что хоть ребра у нее считай. Как увидела она девушку, говорит ей:
— Девушка пригожая, добрая, пожалей ты меня и выходи, а я тебе тоже когда-нибудь пригожусь.
Пожалела ее девушка, взяла на руки, вымыла и выходила. А потом продолжала свой путь, радуясь от души, что могла доброе дело сделать. Много не прошла, видит — развесистая груша, вся в цвету, а гусениц на ней видимо-невидимо. И говорит та груша девушке:
— Девушка пригожая, добрая, выходи ты меня и от гусениц избавь, а уж я тебе тоже когда-нибудь пригожусь.
Девушка, будучи работящей, старательно очистила грушу от сухих веток и гусениц и дальше пошла хозяина себе искать. Идет она по дороге, идет, видит — колодец заброшенный, весь в иле. Говорит ей колодец:
— Девушка пригожая, добрая, очисть меня, а уж я тебе когда-нибудь пригожусь.
Очистила девушка колодец и пошла дальше. Идет она, идет, видит — печь перед ней немазанная, вот-вот развалится. И говорит ей та печь:
— Девушка пригожая, добрая, обмажь ты меня, сделай милость, а уж я тебе тоже когда-нибудь пригожусь.
Девушка, которая знала, что от работы руки не валятся, засучила рукава, замесила глину и так обмазала печь, что любо-дорого посмотреть. Потом руки от глины чисто вымыла и снова пустилась в путь.
Шла она дни и ночи напролет и, неведомо как, заплуталась. Однако, не теряя надежды на бога, продолжала путь, пока в одно утро, блуждая по темному лесу, не вышла на чудесную поляну. И видит она на той поляне избушку под тенью раскидистых ив. Подошла она к избушке, а навстречу ей старуха выходит и говорит ласково так:
— Чего тебе надобно в этих местах, дитя мое, и кто ты такая?
— Кто я, бабушка? Я бедная девушка, без отца, без матери можно сказать. Господь бог знает, сколько натерпелась я с той поры, как матушка моя родимая глаза навеки закрыла! Ищу я хозяина; никого тут не знаючи, с места на место идучи, заблудилась я. Но, видно, сам бог направил меня к твоему дому. Прошу, приюти меня!
— Бедная девушка! — сказала старуха. — Поистине, сам господь направил тебя ко мне, избавив от опасностей. Я святая Пятница. Послужи мне сегодня и, поверь, — завтра не уйдешь от меня с пустыми руками.
— Хорошо, матушка, но скажи, что мне делать-то.
— Ребятишек моих умывать, которые спят теперь, и кормить их; еду мне готовить, чтобы она, когда из церкви приду, не была ни холодна, ни горяча, а как раз впору.
Сказала и отправилась в церковь, а девушка рукава засучила и за работу. Перво-наперво воду для мытья готовит; потом во двор выходит в давай ребят скликать:
— Ребятки, ребятки, ребятки! Бегите к маме, она вас умоет!
А когда посмотрела, что видит? Наполнился двор, и лес загудел от множества змей и всяческих тварей больших и малых; но девушка, твердо веруя и надеясь на бога, не оробела; взяла их одного за другим, умыла и привела в порядок как нельзя лучше. Потом принялась стряпать, а когда вернулась святая Пятница из церкви и увидела, что ребятишки чисто вымыты и вся работа сделана на славу, сердце ее исполнилось радости: отобедав, велела она девушке взобраться на чердак и выбрать себе там любой сундук в награду; но не открывать его, пока не вернется к отцу. Поднялась девушка на чердак, видит множество сундуков — одни постарей да поплоше, другие поновей да покрасивей. Не будучи жадной, выбирает она себе самый старый и некрасивый из всех. Когда сошла она с чердака, маленько нахмурилась святая Пятница, но, нечего делать, дает ей свое благословенье. А та взвалила себе сундук на спину и с радостью пустилась в обратный путь к отцовскому дому той же дорогой, которой пришла. И видит она по дороге ту самую печь, ею обмазанную — полным-полна та печь пышными, румяными пирогами. Поела девушка пирогов досыта, еще и в дорогу прихватила несколько и опять идет. Немного подальше — вот и колодец, ею чищенный, а теперь до самых краев полный воды, чистой и прозрачной, как слеза, студеной, как лед. А на срубе — два серебряных кубка, из которых напилась она и жажду утолила. Прихватила кубки с собой и дальше пошла. Идет она, идет и видит то дерево, ею выхоженное, а теперь грушами усыпанное, желтыми, как воск, и сладкими, как мед. Как завидела груша девушку, склонила ветви свои, и наелась она груш, да еще и в дорогу с собой прихватила, сколько понадобилось. Отправилась она дальше, и встречается ей в пути знакомая собачонка, но уже теперь здоровая и красивая, а на шее у нее ожерелье из золотых монет, которое и отдает она девушке в благодарность за то, что исцелила ее от болезни. Дальше идет девушка и приходит, наконец, в родительский дом. Как завидел ее старик, слезами наполнились глаза его и радостью — сердце. А дочь достает ожерелье и серебряные кубки и отдает отцу, а когда открыли они вдвоем сундук, то вышли из него бесчисленные табуны лошадей, стада коров и отары овец, так что на месте помолодел старик при виде такого богатства! А баба сидела, как ошпаренная, и с досады не знала, что ей делать. Собралась тогда с духом старухина дочка и говорит:
— Ничего, матушка, не всех еще богатств лишилась земля. Пойду и еще больше тебе принесу.
Отправилась она в путь, со злости рвет и мечет. Идет она, идет той же дорогой, которой и старикова дочка шла, и тоже встречается с больной собачонкой; попадается ей и груша, покрытая гусеницами, и колодец, заиленный, высохший и брошенный, и печь немазанная, готовая развалиться; когда же просили ее — и собачка, и груша, и колодец, и печь — помочь им, то отвечала она всем с насмешкой и злобой:
— Как бы не так! Стану я ручки свои холеные, маменькины и папенькины, ради вас пачкать! Много ли было у вас таких слуг, как я?
И все они, зная, что скорее от бесплодной коровы молоко получишь, чем добьешься услуги от ленивой и балованной дочки, оставляли ее идти своим путем и не просили больше помощи. И все шла она дальше, пока тоже не добралась до святой Пятницы. Но и здесь повела себя неприветливо, грубо и неумно. Вместо того, чтобы, по примеру стариковой дочки, наготовить вкусных блюд и вымыть детишек святой Пятницы, она всех их так ошпарила, что стали они кричать и метаться вне себя от зуда и боли. А еду задымила, высушила, сожгла — хоть в рот не бери… Когда вернулась святая Пятница из церкви, за голову схватилась, видя, что делается дома. Но, будучи кроткой и терпеливой, не стала святая Пятница пререкаться с неразумной и ленивой девчонкой, а послала ее на чердак выбрать себе сундук, который ей по вкусу придется, а после идти на все четыре стороны. Забралась девушка на чердак и забрала самый новый, самый красивый сундук, ибо любила она брать побольше, получше, да покрасивее, добрую службу служить не любила. Сошла она с чердака со своим сундуком и уже не идет к святой Пятнице прощаться и благословения просить, а уходит восвояси, как из пустого дома, и идет себе все вперед, да вперед: так спешит, что пятки сверкают, боится, как бы не раздумала святая Пятница, не пустилась за ней в погоню, чтобы настигнуть и сундук отобрать. Когда же добралась она до той печи, то увидела чудесные пироги в ней! Протянула за ними руку, чтобы голод утолить, а огонь ее жжет, не пускает. То же и у колодца. Серебряные-то кубки, правда, стояли на своем месте и сам колодец был полон воды до краев; но когда захотела она схватить кубок, чтобы воды набрать, тут же пошли они оба ко дну, вода в колодце тотчас же иссякла, и нечем было ей жажду утолить! А что до груши, то, слов нет, плодов на ней было полным-полно, словно лопатой набросано, но не подумайте, что хоть одну грушу она отведала. Потому что стало то дерево вдруг в тысячу раз выше, чем было до того, ветками в облака уперлось. Так что… ковыряй у себя в зубах, старухина дочка! Снова она пустилась в дорогу, и опять повстречалась ей та собачонка; а на шее у нее ожерелье из золотых монет; но когда потянулась девушка за ним, укусила ее собачонка так, что чуть пальца не оторвала, а к ожерелью не подпустила. Кусала теперь девушка свои пальцы холеные, маменькины и папенькины, со стыда и досады, но нечего было делать. Наконец-то, с большим трудом, добралась она домой к своей матери, но и тут не пошло им богатство впрок: когда открыли они сундук, выползло из него множество змей и на месте пожрали и старуху и дочку с потрохами, словно никогда их и не было, а после бесследно исчезли вместе с сундуком.
А старик, оставшись без бабы, зажил припеваючи, владея несметным богатством, и дочку свою выдал за человека доброго и работящего. Пели теперь петухи на вереях ворот, на крыльце и повсюду
[24], а куры уж не смели по-петушиному петь в доме у старика, — а то не видать бы им долгой жизни. Вот только остался старик лысым да сутулым, оттого что не в меру оглаживала его баба по голове да кочергой по спине пытала — испеклась ли лепешка.
 ИВАН ТУРБИНКА[25]
ИВАН ТУРБИНКА[25]

Сказывают, жил когда-то русский человек по имени Иван. Сызмальства оказался этот русский в армии. Прослужив несколько сроков кряду, состарился он. И начальство, видя, что выполнил он свой воинский долг, отпустило его, при всем оружии, на все четыре стороны, дав еще два рубля денег на дорогу.
Поблагодарил Иван начальников, попрощался с друзьями-товарищами, хлебнув с ними глоток-другой водки, и отправился в путь-дорогу, песню поет.
Идет Иван, пошатываясь, то по одной, то по другой обочине, сам не зная куда, а немного впереди идут по боковой тропинке господь со святым Петром. Услыхал святой Петр позади себя чье-то пение, оглянулся, видит — идет по дороге солдат, качается.
— Господи, — испугался святой Петр, — давай-ка поспешим или в сторону отойдем; как бы не оказался этот солдат забиякой, не попасть бы нам с тобой в беду. Ты же знаешь, уже случилось мне однажды от такого же забулдыги тумаков отведать.
— Не тревожься, Петр, — сказал господь. — Путника поющего бояться нечего. Этот солдат — человек добрый и милосердный. Смотри, у него за душой всего два рубля денег. Давай испытаем его. Сядь как нищий на одном конце моста, а я на другом сяду. Увидишь, что оба рубля свои он отдаст нам, бедняга! Вспомни, Петр, сколько раз говорил я тебе, что такие-то и унаследуют царствие небесное.
Сел святой Петр на одном конце моста, господь на другом, милостыню просят.
А Иван, взойдя на мост, достает из-за пазухи оба свои рубля, отдает один святому Петру, второй — господу и говорит:
— С миру по нитке — голому рубашка. Нате! Бог мне дал, я даю, и бог мне снова даст, потому имеет откуда.
Опять запевает песню Иван и дальше идет.
Удивился тогда святой Петр и сказал:
— Господи, поистине добрая у него душа, и не следовало бы ему без награды от Лица твоего уйти.
— Ничего, Петр, уж я позабочусь о нем.
Прибавили шагу господь со святым Петром, и вот нагоняют они Ивана, — а тот все песни горланит, словно он всему миру владыка.
— Добрый путь, Иван, — говорит господь. — Однако, поёшь-поёшь, не сбиваешься.
— Благодарствую, — ответил Иван с удивлением. — Но откуда тебе известно, что Иваном меня зовут?
— Уж если мне не знать, то кому же и знать-то? — сказал господь.
— А кто ты таков, — в сердцах спрашивает Иван, — что хвалишься, будто все знаешь?
— Я — тот нищий, которому ты милостыню подал, Иван. А кто бедному подает, тот господу взаймы дает, как говорится в писании. Получай обратно заем, ибо нам не нужны деньги. Я только Петру показать хотел, как велико милосердие твое. Знай, Иван, что я господь и все могу тебе дать, чего ни попросишь; ибо человек ты великодушный и праведный.
Задрожал Иван и вмиг отрезвел; бросился на колени перед господом, говорит:
— Господи, коли и вправду ты господь бог, благослови, будь добр, эту турбинку, чтобы кого ни захочу, мог сунуть в нее; и чтобы не мог никто выйти из нее против воли моей.
Улыбнулся господь, благословил турбинку и сказал:
— Когда наскучит тебе скитаться по свету, Иван, приходи служить у моих ворот, и будет тебе неплохо.
— С великой радостью, господи; обязательно приду, — ответил Иван. — А теперь хочу посмотреть, не попадется ли что в турбинку.
Сказал и пустился по полю — напрямик к большим дворам, что едва виднелись впереди, на вершине холма. Шел Иван, шел, пока не добрался под вечер к тем дворам. А добравшись, явился к боярину, у него пристанища просит. Боярин скуповат был, но видя, что Иван — царский солдат, понял, что делать нечего. Волей-неволей велел он слуге своему дать Ивану поесть, а после уложить в нежилом доме, куда он всех непрошенных гостей спроваживал. Слуга, выполняя боярский приказ, дал Ивану поесть и отвел его на ночлег.
"Уж тут-то выйдет ему отдых боком, — подумал боярин, отдав распоряжение. — Будет у него ночью хлопот полон рот. Посмотрим, кто кого? Он ли чертей, черти ли его одолеют?"
Ибо нужно вам знать, что дом тот стоял на отшибе, и обитала в нем нечистая сила. Там-то и приказал боярин уложить Ивана!
А Ивану и невдомек было. Как только доставил его боярский слуга на место, привел он в порядок оружие, сотворил, как обычно, молитву и улегся, одетый, как был, на диване, мягком, как вата, положив турбинку с двумя рублями в изголовье и собираясь задать храпака, ибо ноги едва держали его от усталости. Но куда там! Не успел бедняга погасить свечу, как кто-то — хвать у него подушку из-под головы и как швырнет ее в дальний угол! Схватил Иван саблю, проворно вскочил, зажег свечу и давай шарить по всему дому, но не нашел никого.
— Мэй! Что за притча? То ли дом заколдован, то ли земля ходуном ходит, если вылетела подушка у меня из-под головы и брожу я, как полоумный. Что за встряска такая? — сказал Иван, осеняя себя крестом и кладя земные поклоны, и снова лег спать. Но только задремал — слышит вдруг голоса один другого отвратнее: кто по-кошачьи мяучит, кто хрюкает, как свинья, кто квакает по-лягушечьи, кто по-медвежьи ревет; словом, такой поднялся галдеж, что хоть святых выноси! Тогда-то Иван смекнул, в чем дело.
— Ну, погодите же! Сейчас посчитаюсь с вами. — И вдруг как заорет: — Марш в турбинку, черти!
Стали бесы один за другим в турбинку лезть, словно их ветром несло. Когда все позалезли, начал их Иван по-русски дубасить. Потом завязал турбинку крепко-накрепко и положил себе в изголовье, отпустив чертякам сквозь турбинку таких русских пинков, что сердце у них зашлось. После того улегся Иван, положив голову на турбинку, и, ничем более не тревожимый, уснул сном праведника…
Уже незадолго до петухов видит Скараоский, начальник чертячий, что не вернулся кое-кто из его слуг, и бежит к знакомому месту искать. В один миг примчался, влетел неведомо как к Ивану в комнату и как даст ему, спящему, затрещину изо всех сил. Вскочил Иван, как ужаленный, заорал:
— Марш в турбинку!
Скараоский без лишних слов залезает в турбинку, на головы других бесов, ибо некуда деваться.
— Ладно, сейчас я с вами разделаюсь, нечистая сила; выбью из вас дурь, — осерчал Иван. — Вздумали со мной тягаться? Да я вас так проучу, что собаки смеяться над вами будут.
Одевается Иван, напяливает на себя оружие и, выйдя во двор, подымает такой переполох, что весь двор сбегается.
— Что с тобою, служивый? Встал ни свет ни заря, этакий шум подымаешь? — спрашивают боярские слуги, спросонок тычась один в другого, словно на них куриная слепота напала.
— Да вот, — говорит Иван, — наловил зайцев, ободрать их желаю.
Проснулся от такого шума сам боярин, спрашивает:
— Что за галдеж во дворе?
— Всю ночь не давал нам спать этот русский. Черт его знает, что с ним. Мол, наловил зайцев и ободрать их хочет, не во гнев вашей милости!
Тут и сам Иван к боярину является с турбинкой, полной чертей, а те словно рыбы в верше, мечутся.
— Видишь, хозяин, с кем я ночь напролет воевал… Зато очистил твой дом от нечистой силы. Вот она, у ног твоих лежит. Прикажи сюда палок подать, я их сквозь строй пропущу, чтобы помнили, сколько жить будут, что напоролись на Ивана, раба божьего.
Боярин и струхнул, и обрадовался, ибо немало сариндаров
[26] роздал он попам, чтобы только изгнали чертей из его дома, но так ничего и не добился. Видать, на этот раз пришел им конец от Ивана. Нашла коса на камень!
— Ладно, Иван, — сказал боярин, довольный. — Принесут тебе палок, сколько хочешь, и делай свое дело, как можешь, по крайней мере вздохну свободно!
Спустя немного подъезжает к Ивану воз, полный палок, как душа его пожелала. Берет он палки, связывает по две, по три вместе, по всем правилам искусства.
Между тем столпилось вокруг Ивана все село; кому не охота посмотреть на бесовы муки! Не шутка ведь! Развязывает Иван перед всеми турбинку ровно настолько, чтобы руку просунуть, одного за другим чертей за рожки достает и давай их палками колотить, — аж шкура горит. Учинит расправу и отпустит, однако с условием больше сюда глаз не казать.
— И не подумаю, Иван, сколько жить буду, — говорили нечистые, корчась от боли, и вылетали как из пушки. А люди смотрели и, особенно ребятишки, так и покатывались со смеху.
Под конец вытащил Иван самого Скараоского за бороду да как задал ему русскую порку!

— На ж тебе! Драки захотелось, получай драку, господин Скараоский. Пройдет охота другой раз людей мучить, бесово отродье! А теперь ступай! — и побежал Скараоский вслед за другими, только пятки засверкали…
— Дай тебе боже долгой жизни, — сказал боярин, обнимая и целуя Ивана. — Отныне живи у меня; за то, что избавил мой дом от чертей, будешь у меня как сыр в масле кататься.
— Нет, хозяин, — говорит Иван. — Пойду господу богу служить, владыке нашему.
С этим словами опоясался он саблей, прицепил турбинку к бедру, вскинул ранец за спину, ружье на плечо — и пошел к господу богу. А люди, сняв шапки, пожелали ему доброго пути, куда бы он ни направился.
— Скатертью дорога, — сказал боярин, — кабы остался, был бы мне, как брат; а не останешься — будешь как два.
Сдается мне, что самого боярина турбинка в страх вогнала, и не так-то уж он сожалел об Иване, сделавшем ему столько добра.
А Ивану и горя мало; шел он себе да шел, вопрошая в пути каждого встречного, где господь проживает. Но все как один пожимали плечами, не зная, что и ответить на такой чудной вопрос.
— Только святой Николай это знает, — сказал Иван, вынул образок из-за пазухи, облобызал с обеих сторон и — чудо! оказался у райских врат! Недолго думая, стал он в ворота стучать что было мочи, а святой Петр изнутри спрашивает:
— Кто там?
— Я.
— Кто я?
— Я, Иван.
— А чего тебе надобно?
— Табачок есть?
— Нету.
— Водка есть?
— Нету.
— Женщины есть?
— Нету.
— Музыканты есть?
— Нет, Иван, что ты мне голову морочишь?
— А где их найти-то?
— В аду, Иван, не здесь.
— Мэй! Хоть шаром покати тут, в раю, — говорит Иван. И, без лишних слов, отправляется в ад. Кто знает, где бродил, но только спустя немного, постучался он во врата адовы, кричит:
— Эй! Табачок есть?
— Есть, — отвечают изнутри.
— Водка есть?
— Есть.
— Женщины есть?
— А то как же?
— Музыканты есть?
— Сколько душе угодно!
— Вот хорошо! Это как раз по мне. Открывайте живее, — говорит Иван, притоптывая и потирая руки.
Черт, стоявший у ворот, думая, что это обычный их посетитель, открывает, видит — перед ним Иван Турбинка!
— Ой, беда нам, ой, беда! — заохали черти, почесывая головы. — Не сдобровать нам теперь!
А Иван велит поскорее подать водки и табачку и музыкантов привести, ибо охота ему "гулять".
Переглядываются чертяки, видят, что против Ивана им не устоять, и давай нести, кто откуда, водку, табак, музыкантов зовут, словом, все делают, что только его душе угодно. Мечутся во все стороны, волчком кружатся, угодить Ивану во всем стараются, ибо нагнала на них страху турбинка, пожалуй, больше святого креста.
Между тем напивается Иван вдрызг и давай по всему аду гикать, пляшет городинку и казачинку, хватает чертей и чертовок с собой в пляс; — опрокидывает стойки, все по сторонам разбрасывает — лопнуть можно со смеху. Что было чертям делать? Думают, гадают, и так и этак прикидывают, а никому невдомек, как от него избавиться. Адова Пятка, однако, — ведьма побашковитее других чертей, — говорит самому Скараоскому:
— Дурни безмозглые! Не будь здесь меня, не знаю, что бы с вами и сталось! Несите сюда живее кадку, собачью шкуру и две палки; я из этого такую игрушку смастерю, в два счета духа Иванова здесь не будет.
Принесли все, что она хотела, и тут же сколотила Адова Пятка барабан; тихонько пробралась мимо Ивана за ворота и давай барабанить будто в поход: там-тарарам!
Опомнился Иван, одним прыжком выскочил за ворота с ружьем на плече.
Адова Пятка тогда — прыг внутрь, черти ворота за Иваном захлопнули, засовы задвинули прочно, радуются — не нарадуются, что от турбинки избавились. Колотит Иван по воротам, что есть мочи, ружьем дубасит, ан нет — научились теперь черти уму-разуму.
— Ладно, рогатые! Попадетесь мне в руки — не даст вам турбинка спуску!
А черти на это — ни гу-гу.
Видит Иван, что ворота адские за семью засовами, железом окованы и не думают черти открывать, пропала у него охота и к музыке, и к табачку, и к водке, и ко всему; отправился снова в рай, господу богу служить.
Приходит он к райским воротам, становится на страже, стоит не смыкая глаз, дни и ночи кряду, с места не тронется.
Немного погодя является Смерть, хочет к господу богу пройти за приказаниями.
Приставляет Иван шпагу к ее груди, говорит:
— Что ты, ведьма, куда?
— К богу, Иван, за приказаниями.
— Нельзя, — говорит Иван, — сам пойду, ответ тебе принесу.
— Нет, Иван, сама я должна.
Видит Иван, что Смерть на него нахрапом лезет, как осерчает, как заорет:
— Марш, ведьма, в турбинку!
Смерть тогда, волей-неволей, в турбинку лезет, стонет, вздыхает, хоть плачь от жалости к ней. А Иван и в ус не дует, завязал турбинку, на дерево повесил и давай в ворота стучаться. Открывает святой Петр, смотрит — перед ним Иван.
— Что, Иван, — говорит, — еще не наскучило тебе по свету бродить, дурака валять?
— Еще как наскучило, святой Петр.
— И чего тебе надобно?
— К богу хочу пройти, два слова сказать.
— Что ж, Иван, иди, путь тебе не заказан, ты же у нас теперь свой.
Приходит Иван прямо к господу, говорит ему:
— Господи, известно тебе или нет, только я уже долгое время у райских ворот служу. А теперь Смерть пришла, спрашивает, что ты прикажешь?
— Передай ей, Иван, такой от меня приказ: чтоб три года кряду только такие, как ты, старики умирали… — говорит господь с доброй улыбкой.
— Хорошо, господи, — говорит Иван призадумываясь. — Пойду, передам твой приказ.
Пошел Иван, выпустил Смерть из турбинки, говорит:
— Приказал господь, чтобы питалась ты впредь три года подряд только старым лесом, а молодого не трогай! Понятно? Ступай, выполняй свой долг!
Пошла Смерть по лесам, злая-презлая, и давай грызть старые стволы, только челюсти трещат.
Ровно через три года пускается она снова к богу за приказаниями, но как вспомнит, что опять ей с Иваном дело иметь — ноги подкашиваются, спину сводит от страху.
— Турбинка! Турбинка проклятая в гроб меня вгонит, — охает Смерть. — Однако делать нечего, надо идти.
Идет она, идет, наконец до райских врат добирается. А там опять Иван стоит.
— Ты все тут, Иван.
— А то как же, — отвечает Иван, делая налево кругом и вставая прямо перед Смертью. — Где же мне быть-то, коли тут моя служба?
— Я думала, ты по свету шатаешься, дурака валяешь.
— Да ведь я от света бежал. Знаю, до чего он сладкий и горький, чтоб ему пусто было! Тошно от него стало Ивану! Но ты почему исхудала так, ведьма?
— По твоей милости, Иван! Но больше, надеюсь, не станешь терзать меня, пустишь к богу, важное у меня дело к нему,
— Еще бы, держи карман шире! Что за спешка, не пожар ведь! Уж не вздумала ли с господом лясы точить?
— Э-ге, слишком уж ты зазнаешься, Иван.
— Вот как? Еще передо мною нос задираешь? Марш в турбинку, ведьма!
Лезет Смерть в турбинку, а Иван колотит ее, приговаривает:
— Шутила с кем шутила, а с Иваном не шути!
Господу все это было ведомо, но желал он, чтоб и по воле Ивана было, а не все по воле Смерти, потому и она тоже немало на своем веку бед натворила.
— Ну-ка, святой Петр, отвори, — сказал Иван, постучав в ворота.
Открывает ему святой Петр, снова является к господу Иван и говорит:
— Господи, спрашивает Смерть, какие приказания будут? И, не во гнев твоей милости, очень уж она жадна и неугомонна, ждет, не дождется, ответа требует.
— Передай ей, Иван, приказ, чтобы отныне три года кряду одни молодые умирали; а другие три года одни только дерзкие дети.
— Слушаю, господи, — говорит Иван, кланяясь до земли. — Пойду, скажу, как ты повелел.
Идет, выпускает Смерть из турбинки, говорит:
— Приказал господь, чтобы впредь питалась ты три года кряду только молодым лесом; а затем три года лишь молодыми ветками, ракитой, лозняком, побегами всякими; старого леса не трогай, а то худо будет! Слыхала, ведьма? А теперь живее уноси ноги — выполняй приказ.
Проглотив обиду, понеслась Смерть по рощам, дубравам, кустарникам — злая-презлая. Но нечего делать, то погрызет молодые деревца, то лозу и побеги пожует, да так, что челюсти стучат, бока и затылок ломит — высоко к тополям тянуться, а за корнями кустарников и молодыми побегами нагибаться приходится. Утоляла голод, как могла. Промучилась три года кряду, и еще три года, и отбыв все шесть лет наказания, снова к господу за повелениями отправилась. Знала она, что ее ждет, но делать было нечего.
— Турбинка, огонь ее возьми! — говорила Смерть, отправляясь в рай, как на виселицу. — Не знаю, что уж и сказать про господа бога, чтобы не согрешить. Совсем, видать, впал он в детство, прости господи, если уж Ивану полоумному власть такую надо мною дал. Хотелось бы мне увидеть самого господа бога, великого и всемогущего, в Ивановой турбинке; или хоть святого Петра; уж тогда бы они мне поверили.
Идет она, бормоча и неся околесицу, доходит до райских врат. Как Ивана увидела, в глазах у нее потемнело, и говорит она со вздохом:
— Что ж, Иван, неужто снова мне жизни не будет от турбинки твоей?
— Эге-ге, имей я побольше власти, скажу по правде, глаза б тебе выколол, как черту, и на вертеле бы тебя изжарил, — отвечает Иван с досадой, — из-за тебя ведь столько народу погибло от Адама и до наших дней. Марш в турбинку, ведьма! А господу богу даже и не заикнусь про тебя, старую каргу! Ты да Адова Пятка — два сапога пара! Зубами бы вас растерзал, ласковых да пригожих. Но теперь продержу тебя взаперти, сколько влезет, сгною в турбинке!
Вздыхает, охает Смерть, да что толку? Словно и не видит, не слышит ее Иван. Но вот через сколько-то времени выходит к воротам господь — посмотреть, что еще вытворяет Иван со своей турбинкой.
— Ну, Иван, как живешь-можешь? Больше сюда Смерть не приходила?
Опустил Иван голову, молчит, только в лице меняется; а из турбинки Смерть говорит глухо:
— Вот я, господи, тут, взаперти. Выдал ты меня, бедную, Ивану полоумному на поругание!
Развязал господь турбинку, выпустил Смерть и говорит Ивану:
— Ну, Иван, хватит! Свой хлеб съел, свою песню спел! Конечно, милосердный ты, сердце у тебя доброе, ничего не скажешь. Но с каких-то пор, с того дня, пожалуй, как благословил я твою турбинку, стал ты вроде не тот. Чертей боярских в бараний рог скрутил. В аду такого гуляя задал, что слава о тебе пошла, как о попе-расстриге. Со Смертью пустил я тебя вытворять все, что только вздумается. Но все до поры до времени, сынок. Пришла и тебе пора умирать. Что поделаешь? Каждому свое воздать следует, и у Смерти ведь свой расчет; не так уж попусту ей воля дана, как ты думаешь.
Иван, видя, что дело не шуточное, падает на колени перед господом, молит его слезно:
— Господи! Прошу тебя, дай мне хоть три дня, о душе своей позаботиться, гроб себе слабой рукой изготовить и самому в него лечь, а тогда уж пусть делает со мной Смерть, что хочет, потому вижу я, что конец мне приходит: на глазах таю.
Согласился господь, отобрал у Ивана турбинку и ведьме велит через три дня за душой его прийти.
Остался Иван один, горем убитый, и задумался.
— Ну-ка, вспомню да подсчитаю, сколько радости имел я от всей моей жизни, — говорит сам себе Иван. — В армии — одно беспокойство: Иван туда, Иван сюда! После болтался без дела — наломал дров, будь здоров! В рай пошел, из рая в ад, оттуда опять в рай. И как раз теперь, значит, никакого мне утешения! Рай мне в такое время приспичил? Ну и бедность же в этом раю! Как говорится: слава большая, котомка пустая; денег полный карман, а душу утолить нечем. Хуже наказания не придумаешь. Водки нет, табачка нет, музыки нет, гуляя нет, ни черта нет! Три денька всего жить осталось, и все, Иван, конец. Не схитрить ли как-нибудь, пока не поздно?
Сидит Иван задумавшись, лоб рукой подперши, и вдруг мысль его осеняет:
— Стой! Нашел, кажется, выход. Будь что будет, но только зря не будет… Все равно один мне конец!
Покупает Иван на свои два рубля плотницкий инструмент, два горбыля толстых, четыре дверные петли, гвоздей, два кольца и замок здоровенный. Раз-два, смастерил себе гроб на славу, хоть царя в него клади.
— Вот, Иван, последнее твое убежище, — сказал он. — Три локтя земли — все, что тебе осталось! Видишь теперь сам, сколько проку от всей этой жизни!
Не успел Иван слова эти вымолвить, глядь — Смерть тут как тут:
— Ну, Иван, готов?
— Готов, — отвечает Иван, улыбается.
— Если готов, то хорошо. Живее в гроб ложись, а то мне некогда. Меня, может, еще и другие ждут, чтобы благословила я их в дорогу.
Лег Иван в гроб лицом вниз.
— Не так, Иван, — говорит Смерть.
— А как же?
— Ложись, как мертвому подобает.
Повернулся Иван набок, ноги свесил.
— Ты что ж это, Иван? Тебе стрижено, а ты брито; долго ли меня держать будешь? Ложись, брат, как следует!
Повернулся Иван снова лицом вниз, голову — набок, ноги свесил.
— Ой, беда мне с тобою! Неужто и этого не умеешь? Видать, только на бесчинства всякие и был ты годен на этом свете. Ну-ка, вылезай, покажу тебе, безмозглая твоя башка!
Вылезает Иван из гроба, стоит пристыженный. А Смерть, решив по доброте своей научить Ивана, ложится в гроб лицом вверх, ноги вытянула руки на груди сложила, закрыла глаза, говорит:
— Вот так и ложись, Иван.
Тут Иван, не долго думая, — хлоп! — крышку закрыл, запер на замок, взвалил гроб на плечи, понес и пустил его по широкой и быстрой реке, приговаривая:
— Тут-то я тебя и прикончил. Катись, пропадай! Выйдешь из гроба, когда тебя бабушка из могилы выкопает. Отобрал у меня господь турбинку из-за тебя, так и я ж тебе удружил.
— Видишь, господи боже, — сказал апостол Петр, смеясь, — чего еще надумал Иван, любимчик твоей милости? Хорошо сказал тот, кто сказал: дай дурню волю, заведет в неволю.
Узрел господь дерзость Иванову, забеспокоился. Приказал он тот гроб отыскать, открыть и выпустить Смерть; а она пускай отомстит Ивану. Сказано — сделано, и когда уже и не снилось Ивану, что придется еще повстречаться со Смертью, выходит она к нему лицом к лицу и говорит:
— Что ж, Иван, разве таков был наш уговор?
Опешил Иван, слова вымолвить не может.
— Еще дурачком прикидываешься? Эх, Иван, Иван, только долготерпение и бесконечная доброта господня могут превозмочь твои преступления и упрямство твое. Давно бы ты сгинул и стал у чертей посмешищем кабы не полюбил тебя господь, как сына родного. Знай же, Иван, что отныне сам ты будешь смерти желать, на четвереньках за мною ползать, умолять будешь душу твою прибрать, а я прикинусь, будто вовсе и забыла про тебя, оставлю тебя жить, сколько жить будут стены Голии
[27] и город Нямц, чтоб увидел ты, как несносна жизнь в глубокой старости!
И оставила его Смерть неприкаянным жить.
С той поры, как создан свет,
На полатях ветра нет.
А когда увидел Иван, что конец ему не приходит, сказал он сам себе:
— Неужто я колом себе голову прошибу из-за ведьмы? И не подумаю. Пускай она себе это сделает, коли охота.
И с той поры, сказывают, пустился он, Смерти назло, махоркой дымить и цуйку
[28] с горелкой тянуть, словно его огонь сжигал.
— Гуляй да гуляй, Иван, не то с тоски свихнешься! — говорил он.
И что было делать бедняге, когда Смерть будто ослепла, его не примечает?
Так вот и жил Иван, не знающий смерти, век за веком без числа, и может и поныне живет, если не умер.
 СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ
СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ

Жил-был в одном селе человек ужасно ленивый, до того ленивый, что даже пищу не разжевывал. И село, видя, что человек этот не хочет работать, хоть убей, решило повесить его, чтоб и другим не повадно было. Выбрали двух поселян, пришли они к лентяю домой, схватили его, взвалили на телегу с волами, как чурбан бесчувственный, и повезли на виселицу.
Так уж было заведено в то время.
Повстречалась им по дороге барыня в коляске. Увидала барыня в телеге человека, похожего на больного, пожалела его и спросила у провожатых:
— Люди добрые! Видно, человек у вас в телеге больной и везете вы его, беднягу, в больницу на излечение?
— Вовсе нет, барыня, — отвечал один из крестьян. — Не во гнев твоей милости, уж это такой лентяй, которому равного, верно, в целом свете нет; а везем мы его на виселицу, чтобы избавить село от лодыря.
— Ай-ай-ай, люди добрые, — сказала барыня, содрогнувшись. — Не жалко разве, если погибнет бедняга, как бездомная собака? Отвезите-ка лучше его ко мне в имение; вот она, усадьба, на откосе. Есть там у меня амбар, полный сухарей. Так, на черный день припасено, избави боже! Пускай себе ест сухари и живет при моем доме. В конце-то концов, не обеднею я из-за кусочка хлеба. Должны же мы помогать друг другу.
— Эй, ты, лентяй, слыхал, что барыня сказывает? — спросил один из крестьян. — Посадит тебя на откорм в амбар с сухарями. Экое счастье тебе привалило, побей тебя гром, пакость ты этакая! Скорее слезай с телеги, кланяйся барыне, ведь она тебя от смерти спасла; будешь теперь жить припеваючи у нее под крылышком. Мы-то думали тебя мылом да веревкой наградить, а барыня в милосердии своем приют тебе дает и сухари в придачу; век живи, не умирай! Заступиться за такого и кормить, как трутня, — чудеса в решете! Хорошо сказал, кто сказал: волы пашут, а лошади жрут. Да ну же, отвечай барыне либо так, либо этак, потому нет у нее времени с нами тут толковать.
— А сухари-то моченые? — спросил лодырь, едва раскрывая рот и не двигаясь с места.
— Что он сказал? — спрашивает барыня.
— Да что сказал, милостивая барыня, — ответил второй крестьянин. — Спрашивает, сухари моченые ли?
— Вот тебе и на, — удивилась барыня, — еще такого никогда не слыхала. А сам он мочить их не может?
— Слышь ты, лодырь: берешься ли сам сухари мочить?
— Не берусь, — отвечал лентяй. — Везите лучше дальше. Уж больно много хлопот ради брюха поганого!
Говорит тогда один из крестьян:
— Ваша воля, милостивая барыня, только зря вы ячмень на гусей переводите. Сами видите, неспроста, не за здорово живешь мы его на виселицу везем. Вы как думаете? Разве не взялось бы все село дружно, как один, кабы можно было его на путь направить? Но кому помогать-то? Лень — сударыня знатная, локти у ней заплатаны…
У барыни тогда, при всей ее доброте сердечной, пропала охота к благодетельству, и сказала она:
— Люди добрые, делайте, как бог на душу положит!
А крестьяне повезли лентяя на место и повесили. Так избавился лентяй от крестьян и крестьяне от лентяя.
Пусть теперь пожалуют другие лентяи в то село, если с руки им и если духу хватит.
А я на седло сел, сказку сказал, как сумел.
 ПЯТЬ ХЛЕБОВ
ПЯТЬ ХЛЕБОВ

Как-то шли по дороге двое знакомых. У одного в котомке было три хлеба, а у другого два.
Проголодавшись, уселись они в тени ветвистой ракиты, у колодца. Достал каждый свой хлеб, и собрались они вместе пообедать, чтобы веселее было. Только вынули хлеб из котомок, подходит к ним незнакомый прохожий, здоровается и просит его попотчевать: очень ему есть захотелось, а с собой съестного из дому не прихватил и купить негде.
— Садись, добрый человек, и кушай с нами, — сказали путники. — Где двое едят, там и на третьего еды станет.
Не заставил себя незнакомец долго упрашивать, рядышком сел, и стали они все трое голый хлеб уписывать, студеной водой колодезной запивать, ибо другого питья у них не было.
Ели они, ели втроем, пока не исчезли все пять хлебов, словно их и не было. Вынул тогда незнакомец из кошелька пять лей, протянул их наугад — тому, у кого три хлеба было, и сказал:
— Возьмите, люди добрые, в благодарность за то, что накормили меня досыта; выпейте в пути по стаканчику вина или делайте с этими деньгами, что заблагорассудится. Не знаю, как и отблагодарить вас за услугу, у меня ведь от голода в глазах темно было.
На первых порах не хотели они брать денег, но незнакомец настаивал, и в конце концов они согласились. Вскоре попрощался он с ними и пошел восвояси, а те остались еще — немного отдохнуть в тени под ракитой. Слово за слово, говорит один другому:
— На тебе, брат, два лея. Это твоя доля, делай с ней, что хочешь. Было у тебя два хлеба, значит два лея тебе по праву и
следует. А себе я три лея оставлю, потому что у меня три таких же хлеба было.
— Как это? — возмутился второй. — Почему мне только два лея, а не два с половиной, сколько причитается каждому из нас? Он ведь мог ничего нам не дать, и как бы тогда было?
— Тогда, — ответил первый, — моя часть услуги равнялась бы трем долям, а твоя только двум, и все тут. А этак мы и поели бесплатно и деньги у нас в кошельке с избытком: у меня три лея и у тебя два — каждому по числу его хлебов. Думаю, сам господь бог не поделил бы справедливее.
— Нет, дружище, — возразил второй. — Я так считаю, что ты меня обираешь. Давай лучше в суд обратимся, и как скажет судья, так тому и быть.
— Что же, давай судиться, — сказал первый, — если ты недоволен. Я уверен, что суд будет на моей стороне. Правда, от роду не таскался я по судам.
Так и продолжали они путь, решив судиться; прибыли в город, где находился суд, явились к судье и рассказали ему подробно, один за другим все, как было: как шли они вместе, как сели в дороге обедать, сколько хлебов было у каждого, как поел незнакомец наравне с ними, как в благодарность оставил им пять лей и как решил один из них поделить деньги.
Судья, выслушав внимательно обоих, сказал тому, кто был недоволен разделом:
— Ты, значит, считаешь, что тебя обидели?
— Да, господин судья, — ответил тот, — Мы и не думали брать у незнакомца деньги за еду; но раз уж так случилось, то надо было поровну поделить подарок нашего гостя. Так, по-моему, следовало поступить по справедливости.
— Если уж поступить по справедливости, — сказал судья, — то будь добр, верни один лей, раз у него было три хлеба.
— Вот уж этого никак не ожидал я от вас, господин судья. — возмутился истец. — Я пришел в суд справедливости добиться, а вы, блюститель закона, еще хуже меня обижаете. Если таков будет и божий суд, то не сдобровать нам всем.
— Так тебе кажется, — хладнокровно возразил судья, — а на самом деле вовсе не так. Было у тебя два хлеба?
— Да, господин судья, два у меня было.
— А у спутника твоего было три?
— Да, господин судья, три.
— Питья ни у кого из вас не было?
— Ничего, господин судья, кроме хлеба и студеной воды из колодца, да вознаградит господь того, кто выкопал его прохожим на радость.
— Ты, кажется, сам говорил, что все поровну поели, не так ли?
— Да, господин судья.
— Давайте тогда подсчитаем, сколько каждый хлеба съел: предположим, что каждый хлеб был разрезан на три равных куска. Сколько кусков получилось бы из твоих двух хлебов?
— Шесть кусков, господин судья.
— А у спутника твоего, из трех хлебов?
— Девять, господин судья.
— А всего сколько бы кусков получилось? Шесть и девять?
— Пятнадцать кусков, господин судья.
— Много ли человек съело эти пятнадцать кусков?
— Три человека, господин судья.
— Так! По сколько же кусков пришлось на каждого?
— По пять кусков, господин судья.
— Теперь припомни, сколько было у тебя кусков?
— Шесть кусков.
— А съел ты сколько?
— Пять кусков, господин судья.
— Значит, сверх того сколько осталось?
— Один только кусок, господин судья.
— А теперь перейдем к твоему спутнику. Вспомни, сколько кусков получилось бы из его трех хлебов?
— Девять кусков, господин судья.
— А сколько из них он съел?
— Пять кусков, как и я, господин судья.
— А лишку сколько осталось?
— Четыре куска, господин судья.
— Верно! Давайте, теперь разберемся. Выходит, что у тебя один только кусок остался, а у товарища твоего — целых четыре. А всего у вас у обоих пять кусков осталось сверх того, что сами съели.
— Именно пять, господин судья.
— Верно ли, что пять кусков эти гость ваш поел и в благодарность за это пять лей вам оставил?
— Верно, господин судья,
— Ну, значит, тебе один только лей причитается за тот кусок, что у тебя лишку остался, а товарищу твоему за четыре его куска четыре лея причитается. Так что будь добр, верни ему один лей. Если же ты считаешь мой суд неправильным, то ступай к самому богу, и пусть рассудит он справедливее меня.
Истец, видя, что крыть ему нечем, вернул, скрепя сердце, один лей и, пристыженный, ушел восвояси.
А товарищ его, восхищенный столь мудрым решением, поблагодарил судью и вышел, разводя руками и приговаривая:
— Если бы повсюду были такие судьи, которые себе очки втереть не дадут, на веки вечные закаялись бы неправедные люди по судам таскаться.
Пустобрехи, именуемые защитниками, утратив возможность жить одним обманом, либо за дело бы взялись, либо всю жизнь горе бы мыкали.
А добрые люди от этого бы только выиграли.

Михаил Эминеску
 ФЭТ-ФРУМОС ИЗ СЛЕЗЫ РОЖДЕННЫЙ
ФЭТ-ФРУМОС ИЗ СЛЕЗЫ РОЖДЕННЫЙ

Давным-давно, когда люди, такие, каковы они нынче, были еще делом будущего… в те давние времена жил-был царь, мрачный и задумчивый, как полночь, и была у него царица, молодая и смеющаяся, как ясный полдень.
Пятьдесят лет царь воевал с одним из своих соседей. Сосед давно уже умер, но оставил в наследство сыновьям и внукам своим лютую ненависть и кровавую вражду. Пятьдесят лет прошло, ослаб он от битв и страданий, как состарившийся лев. Никогда в своей жизни царь смеха не ведал, никогда не улыбнулся ни чистой детской песне, ни полной любви улыбке своей молодой жены, ни старинным побаскам и шуткам поседевших в битвах и горестях воинов. Видел он, что слабеет, чуял приближение смертного часа, а завещать свою ненависть было некому. Грустный покидал он молодую царицу на царском ложе, — ложе золоченом, но бесплодном, неблагословенном, — грустный, с тяжелым сердцем отправлялся на битву; а царица, оставшись одна, оплакивала свое одиночество горькими вдовьими слезами. Ее русые, как чистое золото, волосы спадали на белые, округлые груди, а из больших голубых глаз по белому, словно серебро лилии, лицу ручьями катились жемчужины слез. И большие синие круги ложились у нее под глазами, а на ясном лице проступали голубые прожилки, уподобляя его живому мрамору.
Однажды, едва встав с постели, бросилась она ничком на каменные плиты перед глубокой нишей, в которой мерцала лампада и вечно бодрствовал одетый в серебро образ матери всех печалей. И вот мольба коленопреклоненной царицы тронула холодную икону, и из черного глаза матери божьей покатилась слеза. Царица поднялась во весь свой величественный рост, прикоснулась пересохшими губами к холодной слезе и проглотила ее. С этого мгновения она зачала.
Прошел месяц, прошло два, пролетело девять, и царица родила сына, белоликого, как пена молочная, с золотистыми, точно лучи солнца, волосами. Засмеялся царь, даже солнце улыбнулось в своем огненном царстве и остановилось в небе, так что трое суток ночь не наступала, а стоял ясный и веселый полдень. Вино рекой текло из бочонков, и веселые клики потрясали свод небес.
И окрестила мать ребенка именем Фэт-Фрумос из слезы рожденный.
Фэт-Фрумос рос не по дням, а по часам и вырос большим и стройным, что сосна лесная.
Став достаточно взрослым, повелел он кузнецам сковать палицу железную. Когда палица была готова, подбросил он ее так высоко, что расколол свод небес, а затем поймал мизинцем. Палица не выдержала удара и разломилась пополам. Тогда Фэт-Фрумос велел сделать другую, потяжелее, и забросил ее до самого облачного терема луны; упав на землю, палица не сломилась о мизинец богатыря.
Довольный, Фэт-Фрумос распрощался со своими родителями и пошел войной — один против всего войска врага отцова. Надел он на тело свое царское пастушью одежду — льняную сорочку, орошенную слезами матери, шляпу, украшенную цветами, лентами и бусами, взятыми у царевен, воткнул за пояс зеленый два флуера — один для дойн, другой для хор — и, чуть забрезжила заря, пошел шагом богатырским по белу свету.
В дороге он все играл дойны да хоры, да бросал вверх палицу, рассекая тучи, так что она падала далеко впереди — за день пути. Горы и долы дивились его песням, реки вздымали свои волны повыше, чтобы послушать его, ключи выворачивали из глубин свои воды, чтобы каждая капля его услышала и потом те же песни шептала долинам и цветам.
Ручьи перекатывались пониже, к подножью задумчивых скал, чтобы перенять у царя-пастуха дойну любви, а сидевшие на высоких серых вершинах орлы учились у него крику боли и печали.
Все вокруг замирало в удивлении, когда проходил царевич-пастух, наигрывая дойны и хоры; черные глаза девушек наливались слезами тоски, а в сердцах молодых пастухов, стоявших, опершись одной рукой о скалу, а другой о дубину, зарождалась еще более глубокая, еще более сильная тоска — тоска по жизни богатырской!
Все замирало, только Фэт-Фрумос все шел да шел, песней обгоняя тоску души своей, а глазами следя за полетом палицы, сверкавшей в воздухе, словно стальной орел, словно волшебная звезда.
К вечеру третьего дня палица ударилась о медные ворота; раздался сильный, долго не утихавший гул. Ворота разлетелись в щепки, и богатырь проник во двор. Взошедшая из-за гор луна купалась в большом и светлом, как ясное небо, озере, таком прозрачном, что виден был блеск золотого песка на его дне; а посреди озера, на изумрудном острове, в густой зеленой роще гордо высился беломраморный замок, столь белый и столь блестящий, что в его стенах, словно в зеркале, отражались озеро и берега, луг и роща.
У ворот замка, на ясной глади озера, покачивалась золоченая ладья; в чистом вечернем воздухе звенели веселые, прекрасные звуки песен, несшихся из замка. Фэт-Фрумос вскочил в ладью и стал грести к мраморной лестнице замка.
Поднявшись по лестнице, он увидел в двух нишах канделябры с сотнями светильников. В каждом светильнике горела огненная звезда. Он вошел в просторную залу, потолок которой опирался на высокие колонны и арки из чистого золота. Посреди залы стоял чудесный стол, покрытый белыми скатертями и уставленный тарелками, каждая из которых была сделана из цельного куска жемчуга. А сидевшие за столом разодетые в золоченое платье бояре были лучезарны, как дни молодости, и веселы, как добрая хора. Особенно один из них, в блестящих одеждах и с золотым, усыпанным самоцветами обручем на челе был прекрасен, как месяц тихой летней ночью. Но Фэт-Фрумос был еще прекраснее.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос! — молвил царь. — Слыхал я о тебе не раз, а видеть до сих пор не приходилось.
— Рад, что застал тебя в добром здравии, государь, хотя боюсь, что не таким тебя оставлю. Пришел я звать тебя на битву тяжкую. Довольно лукавил ты против отца моего.
— Нет, не лукавил я против отца твоего, а бился с ним в битвах честных. Но с тобою биться не стану. Повелю я лучше лэутарам, дабы передали купарам, чтоб налили нам кубки, полные вина. И свяжемся мы с тобой на братство крестовое до самой гробовой доски.
Облобызались царевичи под радостные клики бояр, выпили вина и стали совет держать.
Спрашивает царь Фэт-Фрумоса:
— Ты кого на свете больше всего боишься?
— Не боюсь я никого, кроме бога одного. А ты?
— И я не боюсь никого, кроме бога да Лесовой. Эта свирепая старая ведьма страшным смерчем носится по моему царству. Где ее нога ступит, там лицо земли иссыхает, звезды в небе исчезают и города превращаются в развалины. Ходил я на нее войной, да так ничего и не добился. И чтобы не погубить все царство, пошел я с ней скрепя сердце на мировую. Вот и плачу теперь дань тяжкую — отдаю ей каждого десятого новорожденного младенца в моем государстве. Нынче она как раз должна явиться за данью.
Когда пробило полночь, лица сидевших за столом помрачнели. Ибо в полночь, несясь на крыльях вихревых, со сморщенным, точно изборожденная ручьями скала, лицом, с густым темным лесом вместо волос на голове, бешено проревела над островом Лесовая. Ее глаза — две беспросветные ночи, рот ее — бездонный хаос, зубы ее — два ряда мельничных жерновов.
Подлетела она с дикими воплями, да вдруг Фэт-Фрумос перехватил ее чуть пониже пояса и швырнул, что было силы, в большую каменную ступу, затем навалил на ступу кусок скалы и приковал семью железными цепями. Ведьма внутри выла и рвалась, точно ветер, в плен попавший, да ничего поделать не смогла.
И снова все уселись пировать. Вдруг, взглянув в окно, увидели бояре в свете луны, как на озере вздымаются две длинные горы воды. Что бы это могло быть? А это Лесовая, не сумев выбраться из капкана, переплывала озеро, сидя в ступе, рассекая воду на две горы волн. И так она все мчалась — чертовой скалой пробивая путь по лесам, бороздя за собой землю, пока исчезла в ночной дали.
Фэт-Фрумос пировал, сколько пировал, а потом, взвалив палицу на плечо, двинулся по широкому свежему следу. Шел он, шел, пока дошел до сверкавшего в лучах луны белого дома, вокруг которого раскинулся цветник. Цветы на зеленых грядках светились голубым, темно-синим и белым светом, а меж ними порхали мельчайшие мотыльки, яркие, как золотые звезды. Свет, благоуханье и нескончаемая, тихая сладкая песня, рожденная роями мотыльков и пчел, пьянили сад и дом. У входа стояли две бочки с водой, а на завалинке сидела и пряла прекрасная девица. Ее длинное белое платье казалось облачком, сотканным из света и теней; ее золотистые волосы ниспадали на спину двумя тяжелыми косами, а на светлом челе белел венок, сплетенный из ландышей. Освещенная лучами луны, она казалась окутанной золотистым туманом. Белыми, точно из белого воска, пальцами девица держала золотое веретено, второй рукой щипала серебристо-белую шерсть и пряла сверкающую тонкую нить, скорее похожую на живой луч луны, носящийся по воздуху, чем на обыкновенную пряжу.
Заслышав легкие шаги Фэт-Фрумоса, девица подняла на него голубые, как озерная вода, очи.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос, — молвила она, прикрыв ресницами ясные очи. — Как давно я вижу тебя в своих снах! Пока мои пальцы пряли нить, думы мои ткали сон, прекрасный сон, в котором мы с тобой любили друг друга. Фэт-Фрумос, я пряла золотым веретеном, чтоб потом соткать тебе платье волшебное, счастьем подбитое. Будешь носить его… и меня любить. Из пряжи своей я сотку тебе платье, из жизни своей — жизнь, полную ласки нежной.
Девица с умилением глядела на Фэт-Фрумоса, пока веретено не вывалилось у нее из рук и прялка не упала к ногам. Тогда она встала, словно смутившись сказанным, руки ее повисли, как у напроказившего ребенка, и большие глаза склонились долу. Фэт-Фрумос подошел, одной рукой обвил ее стан, второй нежно погладил волосы и лоб и прошептал:
— Как ты прекрасна, как я люблю тебя! Чья ты, красавица?
— Я дочь Лесовой, — вздохнула она. — Станешь ли ты любить меня и сейчас, когда узнал, кто я?
Она обвила обнаженными руками его шею и долго глядела ему прямо в очи.
— Какое мне дело до того, кто ты! — ответил он. — Я знаю, что люблю тебя.
— Коль любишь меня, давай убежим отсюда, — сказала она, прильнув к его груди. — Потому что застанет тебя мать, — убьет, а когда ты погибнешь, так и я сойду с ума или тут же в могилу лягу.
— Не бойся, — улыбнулся Фэт-Фрумос, высвобождаясь из объятий девы. — Где твоя мать?
— С тех пор, как вернулась, все мечется в ступе, в которую ты ее засадил, и грызет зубами цепи.
— Фэт-Фрумос, — добавила девица, и две большие слезы засверкали в ее глазах, — подожди, не ходи к ней. Прежде я научу тебя, как победить мою матушку. Видишь вот эти два бочонка? В одном из них вода, в другом — сила. Давай-ка мы их поменяем местами. Матушка, когда устает в сражении со своими врагами, кричит: "Погоди, давай-ка испьем водицы!" Тогда она пьет силу, а враг ее — простую воду. Вот мы и поменяем бочонки местами, а она, не зная об этом, во время боя с тобой будет пить простую воду.
Сказано — сделано.
Бросился Фэт-Фрумос туда, где ведьма в ступе ворочалась.
— Как дела, старуха? — крикнул он ей.
Ведьма со злобы рванулась всей силой, цепи на ступе оборвались, и она подскочила до самых туч.
— А! Добро, что ты явился, — молвила она, вернувшись на землю. — Ну, теперь выходи на бой, сейчас посмотрим, кто из нас сильнее.
— Давай! — согласился Фэт-Фрумос.
Перехватила его Лесовая вокруг пояса, мигом вытянулась до самой тучи и швырнула вниз так, что он вошел в землю по щиколотки.
Фэт-Фрумос тоже схватил ее и так ударил об землю, что вбил по колени.
— Погоди, давай испьем водицы! — попросила уставшая Лесовая.
Остановились они передохнуть. Ведьма выпила простой воды, а Фэт-Фрумос испил силы; благодатный огонь разлился у него по жилам и укрепил ослабевшие мышцы.
С удвоенной силой железными руками схватил он старуху и вбил ее в землю по самое горло. Затем треснул палицей по голове и мозги по ветру развеял.
Хмурые тучи обволокли небо, застонал холодный ветер, маленький домик содрогнулся и заскрипел всеми стропилами. Червонные змеи с треском рванули черные полы тучи, волны потоков зарокотали, зловеще загрохотал гром, словно пророча гибель. Сквозь густую, непроглядную тьму Фэт-Фрумос разглядел белеющую рядом серебристую тень — бледную, с распущенными золотыми волосами, с поднятыми ввысь руками. Он подошел к ней и обнял. Подавленная страхом, дева припала к нему и спрятала холодные руки у него на груди. Желая ее разбудить, от стал целовать ее глаза. Тучи в небе разорвались в клочья, пламенно-красная луна выглянула в просвет. И Фэт-Фрумос увидел, как на его груди зажигаются две голубые звездочки, ясные и удивленные, — глаза его любимой. Он схватил ее на руки и побежал сквозь бурю. А она положила голову к нему на грудь и казалась спящей. Добежав до царского сада, Фэт-Фрумос уложил ее в ладью, нарвал травы и цветов и, устроив ей мягкое ложе, перевез через озеро, словно в колыбели.
Взошедшее на востоке солнце любовно на них глядело. Ее намокшее от дождя платье прилипло к округлому, стройному телу, ее влажное лицо было бледно, точно белый воск, сплетенные руки лежали на груди, рассыпавшиеся волосы закрывали шею, глубоко впавшие глаза была закрыты — она была прекрасна, но казалась мертвой. Фэт-Фрумос положил на ее ясный белый лоб несколько голубых цветков, затем сел рядом и заиграл тихую дойну. Небо ясное, как море, жгучий шар солнца, благоуханье свежей травы и цветов усыпили девицу глубоко, и видела она ясные сны под сладкую мелодию флуера. Солнце достигло зенита, все вокруг молчало и Фэт-Фрумос прислушивался к ее спокойному дыханию, теплому и влажному. Он тихо склонился и поцеловал ее в щеку. Тогда она открыла глаза, из которых еще не исчезли видения сна, и, сладко потянувшись, спросила, улыбаясь:
— Ты здесь?
— Нет, меня здесь нет, разве ты не видишь, что меня здесь нет? — ответил Фэт-Фрумос, плача от счастья. Она протянула руку и обняла его.
— Вставай, вставай! — сказал Фэт-Фрумос, лаская ее. — Видишь, уже полдень.
Она встала, откинула волосы со лба на спину, Фэт-Фрумос обнял ее стан, она обвила его шею рукою, и так они прошли по грядкам цветов и вошли в мраморный царский дворец.
Фэт-Фрумос подвел девицу к царю и сказал, что это его нареченная. Царь улыбнулся, затем взял Фэт-Фрумоса за руку, словно хотел ему поведать тайну, и отвел к большому окну, сквозь которое было видно обширное озеро. Не сказал царь Фэт-Фрумосу ни слова, а только глядел в удивлении на озерную гладь и в глазах его появились слезы. Белый лебедь, раскинув крылья, точно серебристые паруса, и окунув голову в воду, рассекал ясное зеркало озера.
— Ты плачешь, царь? — спросил Фэт-Фрумос. — Отчего же?
— Фэт-Фрумос, — ответил царь, — добро, которое ты мне сделал, я не смогу оплатить даже собственной жизнью, как бы она мне ни была дорога. И все же я попрошу у тебя еще большего.
— Чего именно, государь?
— Видишь ты этого лебедя, влюбленного в волну? Я молод, мне следовало бы любить жизнь, и все же сколько раз мне хотелось наложить на себя руки. Люблю я девицу-красавицу с задумчивыми глазами, милую, как прекрасный сон. Она дочь Лютня, человека гордого и дикого, который всю жизнь охотится по лесам вековечным. О! Насколько он свиреп, настолько прекрасна его дочь. Все мои попытки похитить ее оказались тщетными. Попытайся это сделать ты!
Фэт-Фрумосу не хотелось и с места сдвинуться. Но, как и всякий витязь, он дорого ценил братство крестовое, дороже собственной жизни, дороже любимой невесты.
— Царь пресветлый, много счастья у тебя было в жизни, но в одном тебе особенно повезло: в том, что побратался ты с Фэт-Фрумосом. Ладно, пойду похищать дочь Лютня!
Выбрал себе Фэт-Фрумос коней ретивых, коней с ветровой душою, и стал готовиться в поход. Тогда его нареченная — звали ее Иляной — прошептала ему на ухо, нежно целуя:
— Не забывай, Фэт-Фрумос, что пока тебя здесь не будет, я не перестану плакать.
Глянул он на нее с жалостью, приласкал и, вырвавшись из ее объятий, вскочил в седло и умчался.
Ехал он по кодрам пустынным, по горам с заснеженным челом. Ночью, когда меж древних скал появилась бледная, как лицо мертвой девы, луна, перед его глазами проплывали то повисшие в небе чудовищные лохмотья, окутывающие вершину какой-нибудь горы, то мрачная руина былого — разрушенный, разнесенный по камешкам замок.
Когда рассвело, Фэт-Фрумос увидел, что цепь гор переходит в необозримое зеленое море, гладь которого лениво и звучно бороздят тысячи искристых волн; и сколько ни глядел он вдаль — только синее небо да море зеленое. В конце горного кряжа прямо над морем нависла величественная гранитная скала. А на ней, точно птичье гнездо, приютилась прекрасная крепость, столь белая, что казалась посеребренной. В арчатых стенах сверкало множество окон; одно из них было открыто, и Фэт-Фрумос увидел среди горшков с цветами смуглую голову девушки, с мечтательным, как летняя ночь, лицом. Это была дочь Лютня.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос, — вскрикнула девушка и, соскочив с окна, открыла ему ворота замка, в котором она жила одна-одинешенька, точно дух пустыни. — Этой ночью мне снилось, будто говорила я со звездой, и звезда мне поведала, что ты придешь посланцем от царя, который меня любит.
В большой зале замка, в пепле очага, сидел на страже кот семиглавый. Когда одна голова мяукала, слышно было за день пути, а когда все семь мяукало, слышно было за семь дней пути.
Лютень, днем и ночью пропадая на своей дикой охоте, отдалился от замка на день пути.
Фэт-Фрумос взял девицу на руки, посадил ее на коня, и помчались они вдвоем вдоль пустынного берега морского, точно две едва уловимые воздушные тени.
Но у Лютня, высокого и сильного человека, был волшебный конь о двух сердцах. Кот в замке замяукал одной головой, а конь Лютня заржал своим бронзовым голосом.
— В чем дело? — спросил Лютень коня своего волшебного. — Иль тебе добрая жизнь надоела?
— Не надоела мне добрая жизнь, а вот с тобой худо приключилось. Фэт-Фрумос дочь твою увез.
— Сильно нам нужно спешить, чтобы нагнать их?
— Можно и поспешить, а можно и не очень. Нагнать их нетрудно.
Вскочил Лютень в седло и помчался, точно страшное привидение. Вскоре он догнал беглецов. Биться с Фэт-Фрумосом Лютень не стал, так как сам был христианином и нечистой силы в нем не было.
— Фэт-Фрумос, — молвил Лютень, — больно уж ты красив, и мне тебя жаль. Теперь я тебе ничего не сделаю, но в другой раз… помни!
И, посадив дочь к себе на коня, исчез, будто ветер, будто его и вовсе не было.
Но Фэт-Фрумос не зря был богатырем и не зря запомнил дорогу назад. Он вернулся и снова застал девушку одну. И хотя та была еще более грустна и заплакана, теперь она казалась еще красивее. Лютень опять уехал на охоту за два дня пути. На сей раз Фэт-Фрумос взял других коней, прямо из конюшни Лютня, и увез девицу ночью.
Мчались они, как быстрые лучи луны по высоким морским волнам, мчались сквозь холодную и пустынную ночь, как мчится милый сон; но в беге своем расслышали длинное двуголовое мяуканье кота, что остался в замке. Затем им показалось, будто и шагу дальше ступить не могут, подобно тому, как порой хочешь побежать во сне и не можешь. Затем их обволокло облако пыли — это Лютень мчался к ним во весь опор.
Брови его были насуплены, лицо было страшным. Не проронив ни звука, он схватил Фэт-Фрумоса, подбросил до самых черных грозовых облаков и, забрав свою дочь, растаял в ночи.
Фэт-Фрумоса сожгли молнии и только оставшаяся от него горсточка пепла упала на горячий песок пустыни. Но из пепла возник хрустальный ручей и потекли его воды по алмазным песчинкам; и выросли по берегам ручья густые зеленые деревья, окутав его прохладной тенью и приятным благоуханьем. Если бы кто-нибудь мог понять голос ручья, он узнал бы, что тот в нескончаемой дойне оплакивает златокудрую Иляну, нареченную Фэт-Фрумоса. Да кто может понять голос ручья в этой пустыне, куда до сих пор нога человечья не ступала?
В те давние времена господь ходил еще по земле. Однажды шли по пустыне два человека… Это были господь и святой Петр. У ручья господь напился воды и освежил лицо и руки. А когда они пошли дальше, святой Петр сказал:
— Господи, сделай так, чтоб этот ручей стал тем, чем он был раньше.
— Аминь! — сказал господь, подняв руку, и путники ушли.
Как по мановению волшебного жезла, исчезли и деревья и ручей, а Фэт-Фрумос, очнувшись от долгого сна, встал и огляделся вокруг… Тут он вспомнил, что пообещал похитить дочь Лютня, а коль богатырь пообещал сделать что-либо, нелегко ему от своего отступиться.
Пошел он снова в путь-дорогу и к вечеру добрался до замка Лютня, огромной тенью высившегося в вечерних сумерках. Вошел в замок и застал дочь Лютня всю в слезах. Как увидела она Фэт-Фрумоса, посветлело ее лицо, точно волна под ярким лучом. Рассказал он ей, как воскрес, а она ему и говорит:
— Украсть ты меня все равно не сможешь, пока не добудешь такого же коня, как у моего батюшки, — о двух сердцах в груди. Но я сегодня выведаю у отца, где он взял своего коня, дабы и ты себе добыл такого. А пока суд да дело, чтобы отец не застал тебя со мной, я превращу тебя в цветок.
Сел Фэт-Фрумос на стул, девица пошептала над ним заклинание нежное, и превратился он в темно-алый, точно спелая вишня, цветок. Упрятала его дочь Лютня среди прочих цветов на подоконнике и весело запела, так что весь замок зазвенел.
Как раз в это время вернулся и Лютень.
— Веселишься, дочь моя?.. А отчего ты так весела? — спросил он.
— Оттого, что нет больше на свете Фэт-Фрумоса и некому меня похищать, — ответила она ему смеясь.
Сели они ужинать.
— Отец, — спросила дочь, — а где ты взял того коня, на котором на охоту ездишь?
— Тебе-то зачем знать? — насупил брови Лютень.
— Ты прекрасно понимаешь, — ответила дочь, — что мне захотелось узнать это просто так. Теперь ведь нет уже Фэт-Фрумоса и некому меня похищать.
— А ты знаешь, что я ни в чем не могу тебе противиться, — сказал Лютень. — Далеко-далеко у берега морского живет одна старушка, у которой есть семь кобыл. Она нанимает людей, чтоб стерегли табун по году (хотя год у нее длится только три дня). Коли кто хорошо стережет, она разрешает ему выбрать себе в награду жеребенка, а коль плохо — убивает его и голову на кол сажает. Но даже и тех, кто хорошо стережет, она все равно старается обхитрить: вытаскивает из всех коней сердца и отдает их одному, так что человек почти всегда выбирает себе коня без сердца, который будет похуже любой обыкновенной клячи… Ты довольна, дочь моя?
— Довольна, — ответила она улыбаясь.
В тот же миг Лютень набросил ей на лицо легкий и пахучий красный платок. Дочь долго глядела отцу в глаза, как человек, который пробуждается от глубокого сна и ничего вспомнить не может. Она забыла все, о чем ей рассказал отец. Но цветок на окне подслушивал и подглядывал сквозь листву, точно красная звезда сквозь просветы в облаках.
На следующее утро Лютень снова уехал на охоту.
Девица поцеловала цветок, зашептала над ним заклинание, и Фэт-Фрумос возник перед ней, будто из-под земли.
— Ну, что ты узнала? — спросил он.
— Ничего не помню, — с грустью ответила девица, приложив ладонь ко лбу. — Все забыла.
— А я все слышал. Прощай, дитя мое. Скоро увидимся снова.
Сказав это, Фэт-Фрумос вскочил на коня и умчался в пустыню.
Солнце пекло немилосердно. Неподалеку от леса Фэт-Фрумос увидел вдруг в раскаленном песке комара, корчившегося в смертных муках.
— Фэт-Фрумос, — пропищал комар, — возьми меня с собой и отвези в лес. Когда-нибудь и я тебе сгожусь. Я царь комаров.
Взял Фэт-Фрумос комара и довез до леса, через который пролегал его путь.
Проехал он лес, выехал на пустынный берег морской и вдруг увидел в песке обожженного солнцем рака; рак совсем уж обессилел и не мог сам до воды дотащиться.
— Фэт-Фрумос, — проговорил рак. — Брось меня в море. И я тебе когда-нибудь сгожусь. Я царь раков.
Бросил его Фэт-Фрумос в море и поехал своей дорогой.
Под вечер подъехал он к ветхой землянке, крытой конским навозом. Вокруг землянки вместо забора торчали длинные острые колья и на шести из них болтались человечьи головы, а седьмой без головы покачивался на ветру и кричал: "Голову! голову! голову! голову!"
На завалинке, на драном тулупе, лежала сморщенная старуха, положив седую, как пепел, голову на колени служанке. Служанка искала у нее в волосах.
— Желаю вам здравствовать, — молвил Фэт-Фрумос.
— Добро пожаловать, парень, — ответила старуха, вставая. — С чем пожаловал? Чего здесь ищешь? Не хочешь ли кобыл моих покараулить?
— Хочу!
— Мои кобылы пасутся только ночью… Вот прямо сейчас можешь их выгонять на пастбище… Эй, девка! Накорми-ка парня той едой, что я состряпала и отправь его.
Рядом с землянкой был погреб. Фэт-Фрумос вошел туда и увидел семь чудесных черных кобыл, как семь черных ночей; они еще отроду не видывали света белого. Кобылы ржали и рыли землю копытами.
Весь день проведя натощак, Фэт-Фрумос поел то, что дала ему старуха, затем, сев верхом на одну из кобыл, погнал табун в прохладную ночную тьму. Вскоре им стал овладевать свинцовый сон, в глазах помутилось и Фэт-Фрумос повалился на траву, точно мертвый. Проснулся он только перед рассветом следующего дня. Глянул вокруг, а кобыл и след простыл. Он уж представлял свою голову на колу, как вдруг вдали, на опушке леса, появились все семь кобыл, гонимые целым роем комаров. Фэт-Фрумос услышал тонкий голосок:
— Ты мне сделал добро, и я тебе добром отплатил.
Как увидела старуха, что табун домой возвращается, чуть не взбесилась от злости. Стала она все вверх ногами переворачивать и ни в чем не повинную девушку колотить.
— Что с вами, матушка? — спросил Фэт-Фрумос.
— Ничего, — ответила старуха. — Так вот, напало на меня. На тебя я не сержусь… даже премного тобой довольна.
Подалась затем она на конюшню и стала кобыл колотить да покрикивать:
— Прячьтесь получше, побей вас кочерга, чтоб он не мог вас найти, заешь его леший, задави его смерть!
Поехал Фэт-Фрумос табун пасти и в следующий вечер, да опять свалился в траву и проспал чуть не до утра. Проснулся — кобыл и след простыл. Хотел он было в отчаянии бежать, куда глаза глядят, да вдруг видит — поднимаются кобылы со дна морского и тьма-тьмущая раков их клешнями подгоняет.
— Ты мне добро сделал, — расслышал Фэт-Фрумос чей-то голос, — и я тебе тем же отплатил.
Погнал он коней домой, и снова повторилось все, как в прошлый раз.
А днем подошла к нему служанка и, пожимая руку, шепнула:
— Я знаю, что ты Фэт-Фрумос. Ты не ешь тех яств, что старуха стряпает, она в них сонного зелья кладет. Я тебе другую еду принесу.
Приготовила служанка втайне еду, накормила Фэт-Фрумоса, а под вечер, когда он стал табун на пастбище выгонять, то почувствовал себя бодрым, как никогда. В полночь вернулся он домой, загнал кобыл на конюшню, запер их и сам вошел в землянку. В печи еще тлело несколько углей. Старуха лежала, растянувшись на лавке, и казалась мертвой. Фэт-Фрумос подумал, что она и впрямь умерла и стал ее трясти. А она продолжала лежать неподвижно, как бревно. Тогда он разбудил спавшую на печи служанку.
— Взгляни-ка. — сказал он ей, — старуха-то умерла.
— Вот еще! Так она и умрет! — вздохнула девушка. — Теперь она, верно, кажется мертвой. Сейчас полночь… смертный сон сковал ей тело… а душа ее, кто знает, по каким путям-дорогам носится да черное колдовство ткет. До самых петухов будет она сосать кровь умирающих или опустошать души несчастных… Да, бэдика, завтра исполняется год твоей службы. Возьми ты и меня с собой, могу тебе в пути сгодиться. Избавлю я тебя от многих бед, которые старуха тебе готовит.
Служанка достала со дна ветхого ларя точильный камень, щетку и платок и отдала ему.
На следующее утро вышел срок службы Фэт-Фрумоса. И должна была старуха отдать ему одного из своих коней и отпустить с миром. Пока он завтракал, ведьма ушла на конюшню, вытащила сердца у всех семи кобыл и вложила их в жалкого трехлетка — кожа да кости. Фэт-Фрумос встал из-за стола и, по уговору со старухой, пошел себе коня выбирать. Черные кобылы, у которых старуха вытащила сердца, лоснились от жиру. А тощий трехлеток, хранивший все сердца, лежал в углу на куче навоза.
— Вот этого беру, — сказал Фэт-Фрумос, показывая на трехлетка.
— Как же, прости господи, что же ты у меня — даром служил? — воскликнула хитрая старуха. — Как же тебе не получить то, что причитается? Выбери одну из этих прекрасных кобыл, бери любую, какая приглянется.
— Нет, мне этот приглянулся, — настаивал Фэт-Фрумос на своем.
Старуха бешено заскрипела зубами, но затем сжала челюсти, точно старые мельничные жернова, чтоб не брызнул изо рта яд ее души презлющей.
— Ладно, бери, — согласилась она наконец.
Фэт-Фрумос вскочил на коня, вскинул палицу на плечо и полетел со скоростью мысли, так что, казалось, будто вихрь несется по пустыне, вздымая тучею песок.
На опушке леса его ожидала сбежавшая служанка. Он поднял ее на коня, усадил за своей спиной и снова понесся во весь опор.
Ночь обволокла землю черной своей прохладой.
— Мне спину жжет! — вскрикнула вдруг девушка.

Фэт-Фрумос оглянулся и увидел, что их нагоняет огромный зеленоватый смерч с двумя неподвижными огненными глазами. Красные лучи этих глаз жарким пламенем пронизывали девушку насквозь.
— Брось щетку! — сказала девушка.
Фэт-Фрумос послушался. И сразу же за ними вырос дремучий черный лес, полный шепота листьев и завывания голодных волков.
— Вперед! — крикнул Фэт-Фрумос своему коню, — и конь понесся в ночной тьме, будто демон, гонимый проклятьем. Бледная луна проглядывала сквозь серые облака, словно ясный лик сквозь смутные и холодные сны.
Фэт-Фрумос все летел и летел.
— Мне спину жжет! — глухо простонала девушка, словно долго уже терпела молча.
Фэт-Фрумос оглянулся и увидел огромную серую сову со сверкающими красными глазами, точно две молнии, прикованные к туче.
— Брось точильный камень! — велела девушка, и Фэт-Фрумос бросил камень.
И сразу, как из-под земли, выросла за ними исполинская серая скала, прямая, недвижная, словно застывшая в страхе, с вершиной, упершейся в облака.
Фэт-Фрумос несся по воздуху так быстро, что ему казалось, будто он не на коне скачет, а падает с небесных высот в бездонную пропасть.
— Жжет меня! — снова вскрикнула девушка.
Ведьма просверлила скалу и теперь пролезала в отверстие струйкой дыма, на переднем конце которой пылал уголек.
— Брось платок! — сказала девушка, и Фэт-Фрумос послушался.
Вдруг он увидел за собой обширное прозрачное и глубокое озеро. На его лучистом, как зеркало, дне купались серебряная луна и огненные звезды.
Тут Фэт-Фрумос расслышал в вышине колдовские звуки и поднял взор к облакам. Высоко в небе, за два часа пути, тихо-тихо плыла на медных крыльях старуха Полночь.
Когда ведьма бешеными взмахами доплыла до середины белого озера, Фэт-Фрумос бросил свою палицу ввысь и перебил Полночи крылья. Та камнем повалилась к земле и жалобно прокаркала двенадцать раз.
Луна спряталась за тучи, и ведьма, охваченная своим свинцовым сном, погрузилась на волшебное дно неведомого озера. И всплыла над водой длинная черная трава. Эта была проклятая душа ведьмы.
— Мы спасены! — сказала девушка.
— Мы спасены! — сказал конь о семи сердцах. И добавил: — Хозяин, ты сбил Полночь на землю на два часа раньше положенного ей срока, и я чувствую, что у меня под ногами песок колеблется. Сейчас скелеты, похороненные в песках пустыни, восстанут из могил и полетят на луну справлять шабаш. В такое время опасно ездить. Ядовитый и холодный дух мертвецов может нас убить. Лучше ложитесь спать, а я тем часом слетаю обратно к матери, пососу молока огненного из ее сосков и снова стану красивым на диво.
Фэт-Фрумос послушался коня, соскочил с седла и расстелил свой плащ на горячем еще песке.
Но странное дело… У девушки глаза углубились в орбиты, скулы обострились, смуглая кожа стала синей, рука стала тяжелой, как свинец, и холодной, как лед.
— Что с тобой? — спросил Фэт-Фрумос.
— Ничего, ничего, — ответила она угасающим голосом и прилегла на песок, дрожа, точно в горячке. Фэт-Фрумос отпустил коня и лег на плащ.
Вскоре он уснул. И все же ему казалось, будто он не спит. Будто веки его покраснели и стали прозрачными и он видел сквозь них, что луна становится все больше и больше, опускаясь к земле, и, наконец, превращается в подвешенную к небу сверкающую крепость, в которой трепещут огнем тысячи красных окон. А от луны нисходит к земле царская дорога, покрытая серебряной галькой, посыпанная пылью лучей…
Затем ему почудилось, будто лежавшая рядом с ним девушка тихо поднимается, тело ее распыляется по воздуху и остаются одни только кости; окутанная серебряным плащом, она выходит на сверкающую дорогу, ведущую к луне, и уходит в неясный мир теней, откуда сошла на землю, дав себя сманить колдовством старой ведьмы.
Затем его веки позеленели, почернели, и больше он уж ничего не увидел.
Когда он открыл глаза, солнце стояло высоко в небе. Девушки не было и наяву. Но в горячей пустыне ржал его красивый, сверкающий конь, опьяненный золотым светом солнца, который ему теперь впервые довелось увидеть.
Фэт-Фрумос вскочил в седло и, едва успев продумать две-три радостные думы, очутился перед замком Лютня.
На сей раз Лютень оказался далеко, за семь дней пути.
Взял Фэт-Фрумос его дочь и усадил на коня, впереди себя. Она обвила руками его шею и спрятала голову у него на груди. Длинные полы ее белого платья касались в полете песка пустыни. Они так быстро летели, что казалось, будто пустыня и волны морские бегут вспять, а они стоят на месте. И только еле-еле доносилось мяуканье всех семи голов кота.
Далеко в лесу Лютень услыхал ржанье своего коня.
— Что случилось? — спросил он.
— Фэт-Фрумос украл твою дочь, — ответил вещий конь.
— Догоним мы его? — удивленно спросил Лютень. Он ведь знал, что убил Фэт-Фрумоса.
— Ей-же-ей, нам его не догнать, — ответил конь. — Теперь он скачет, верхом на одном из моих братьев о семи сердцах, а я только о двух.
Лютень вонзил коню шпоры глубоко в бока и тот, вздрогнув, помчался как вихрь. Завидев Фэт-Фрумоса далеко в пустыне, Лютень и говорит коню своему:
— Крикни своему братцу, пусть забросит седока в облака и идет служить ко мне. Буду я его кормить орехами лущеными и поить молоком сладким.
Проржал конь Лютня своему братцу то, что ему было велено, а тот и передал все Фэт-Фрумосу.
— Передай своему братцу, — велит Фэт-Фрумос коню, — пусть забросит седока в облака и идет ко мне служить. Буду я его кормить углями раскаленными, буду я его поить пламенем жгучим.
Проржал конь Фэт-Фрумоса братцу своему, что было велено, и тот забросил Лютня в облака. Окаменели тучи небесные и превратились в красивый серый замок; а сквозь два просвета в тучах глядели голубые, как небо, глаза и метали длинные молнии. Это были глаза Лютня, сосланного в царство поднебесное.
Фэт-Фрумос приструнил скакуна и пересадил девицу на коня ее отца. Еще день пути, и подъехали к прекрасному царскому замку. А там все считали Фэт-Фрумоса погибшим и поэтому, когда распространилась весть о его возвращении, день нарядился в воздушное платье из прозрачного света, а люди толпились и гомонили, точно нива пшеничная на ветру.
Но что стало за это время с Иляной?
Едва только Фэт-Фрумос уехал, она закрылась в саду с высоким железным забором, и там, ступая по холодным каменным плитам или склонив голову на кусок кремня, все лила жемчужные слезы и собирала их в золотую лохань.
За цветами в саду никто не ходил, никто их не поливал: на голом камне, под палящим зноем дня и сухим холодом ночи выросли бледные и хилые цветы с желтыми листьями — цветы горя.
Глаза царицы Иляны ослепли от слез и ничего уже не видели; ей только казалось, будто в сверкающей лохани, полной ее слез, она видит милый образ нареченного. Наконец глаза ее, два пересохших ручья, перестали лить слезы. Кто бы увидел ее длинные распущенные волосы, точно складки золотой мантии спадавшие на холодную грудь, кто бы увидел ее лицо, на котором словно долотом было высечено беспредельное горе, тот мог бы ее счесть окаменевшей феей озера, лежавшей в песчаной могиле.
Но едва она заслышала шум приближения Фэт-Фрумоса, как лицо ее прояснилось; она зачерпнула из лохани горсть слез и обрызгала сад. Словно по волшебству, желтые листья деревьев и цветов стали изумрудно- зелеными. Грустные и блеклые цветы побелели и засверкали жемчужинами, и от этого крещения слезами родились белые ландыши.
Слепая царица тихо двинулась между грядок и, собрав множество ландышей, расстелила их около лохани, соорудив ложе из цветов.
В этот миг вошел Фэт-Фрумос.
Она бросилась к нему на шею, онемев от счастья, и стала разглядывать его своими закрытыми слепыми глазами, которыми ей так бы хотелось впитать его душу. Затем она взяла его за руку и подвела к лохани, полной слез.
Ясная луна всходила на небе, словно лик золотой. В вечерней тиши Фэт-Фрумос умыл лицо в лохани со слезами, укутался плащом, сотканным Иляной из лунных лучей, лег на ложе из цветов и уснул. Царица легла рядом с ним и снилось ей, будто две голубые звезды сорвались с неба и сели к ней на лоб.
Наутро она проснулась зрячей.
На следующий день была помолвка царя с дочерью Лютня.
А еще через день была назначена свадьба Фэт-Фрумоса.
Рой лучей слетел с неба, и рассказали лучи лэутарам, как поют ангелы при посвящении в сан святого; несметные волны поднялись со дна озера и рассказали, как поют нимфы, когда желают добра людям. И так лэутары научились мастерски играть и хоры, и здравицы.
Пламенная роза, серебряные лилии, белые, как жемчуг, ландыши и все другие цветы собрались на совет, и каждый цветок высказал своим запахом мнение о том, каким должно быть платье невесты. Тайну свою они поведали любезному мотыльку в
синем, расшитом золотом платье. А тот полетел и стал кружиться над лицом спящей царицы, пока она не увидела в ясном сне, точно в зеркале, как ей следует одеться. Увидев себя столь прекрасной, она улыбнулась.
Жених надел сорочку, сотканную из лунных лучей, пояс, сплетенный из нитей жемчуга, и плащ, слепленный из белых снежинок.
И сыграли они свадьбу славную и прекрасную, подобной которой до тех пор свет не видывал.
И прожили потом в мире и покое много счастливых лет; а если верно то, что говорят люди, будто для Фэт-Фрумоса бег времени нипочем, то, может быть, живут еще и поныне.

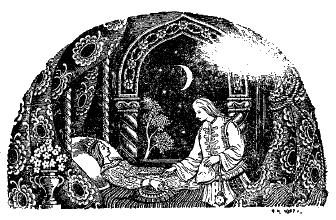 КЭЛИН ДУРЕНЬ
КЭЛИН ДУРЕНЬ

Жил-был царь, и имел он трех дочерей. До того были прекрасны царевны, что солнце красотой своей затмевали. Впрочем, старшая и младшая еще так-сяк, а средняя была так красива, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Много царевичей и сынков генеральских сватали ее, только царь никому отдать не захотел. Вот однажды пришли к нему три витязя сватать царевен, но он и им отказал. Вышли они на улицу, и стал один из них свистеть. Свистел он, свистел, пока собралось облако большое, укрыло и их, и царевен, и похитили парни дочерей царских.
Тогда царь разослал по всему царству гонцов с такой вестью: кто найдет царевен, за того он их замуж выдаст. И всем, кто пойдет царевен искать, будет выдано денег немного и платье в дорогу. А в одном из селений этого царства жил-был мужик и имел он трех сыновей. Двое были так-сяк, а третий — дурак, сидел день-деньской у печи, в золе ковырялся. И прозвали его Кэлин дурень. Вот говорят старшие братья:
— Пойдем-ка и мы царевен искать.
А Кэлин себе:
— Возьмите и меня с собой.
Братья согласились:
— Идем.
Смастерили братья лук и договорились: куда стрела долетит, там и привал делать. Выстрелил старший, шли они дня два, пока до стрелы дошли. Выстрелил средний и опять дня два прошли. А как выстрелил Кэлин дурень, пришлось им идти днем и ночью целых три месяца. Так долго они шли, что стерся кремень и огниво сбилось. Только-только и хватило в последний раз костер разжечь.
И порешили братья так: пока двое будут спать, пусть третий огонь караулит. А коли погаснет костер, виновному голову отрубить. Улеглись младшие братья спать, а старший караулить остался. Вдруг в полночь слышит он вой страшнющий. Это прилетел дракон трехголовый.
— Как ты смел без позволения ступить в мою вотчину? Выходи на бой!
— Давай!
Бились, бились, пока он одолел дракона и посек его головы на три груды мяса. Тут проснулись младшие братья.
— Вот вы спали, а я, глядите, какой бой выдержал.
На следующую ночь остался средний караулить. И опять в полночь раздался страшный вой. Это прилетел дракон четырехголовый.
— Как ты смел без позволения ступить в мою вотчину? Выходи на бой!
— Давай!
Убил парень дракона и головы его посек на четыре груды мяса.
А когда проснулись братья, стали старшие наказывать Калину дурню, как следует огонь караулить. На третью ночь его черед был. Только полночь пробила, слышит он вой престрашный. На сей раз прилетел дракон о восьми головах.
— Давай, — говорит Кэлин дурень, — выходи на бой!
А дракон был волшебный и знал о нем.
— Давай!
Бились они, бились, начал уже дракон поддаваться. Да отсек у него Кэлин дурень ухо, хлынула кровь и костер загасила. Стали они в темноте биться и, наконец, одолел Кэлин дурень дракона и посек его головы на восемь груд мяса.
Теперь как быть? Огня нет. Пошел он, горемычный, по лесу, пока дошел до дерева высокого, залез на самую макушку и увидел вдали отсвет пламени. Слез с дерева и пошел туда огня добывать. Глядь, а навстречу человек.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Ты кто будешь?
— Я Добрый вечер.
Связал его Кэлин дурень по рукам и по ногам, привязал к дереву и пошел дальше. Шел он, шел и опять человека встретил.
— Доброй ночи.
— Доброй ночи.
— Ты кто будешь?
— Я Полночь.
Связал Кэлин дурень и этого и пошел дальше. Идет и опять человека встречает.
— Доброй ночи.
— Доброй ночи.
— Ты кто будешь?
— Я Рассвет.
Связал — и третьего. А связал он их, чтобы утро не наступило, пока он не вернется с огнем.
Дошел он, наконец, до места. Глядит — яма вырыта, а над ней, на треноге — котел огромный. В котле варились две, а то и три коровы, а около треноги пеклась лепешка большущая. Вокруг костра спали двенадцать драконов и две драконши-матери.
Положил Кэлин дурень пару угольков в жестянку да в трубку уголек и пустился было в обратный путь. Тут ему в нос такой вкусный запах ударил, что он вытащил кусок мяса из котла да невзначай капнул кипятком одному дракону на ухо. Дракон страшно взвыл, все проснулись и схватили Кэлина дурня. Порешили драконы убить его, а он им и говорит:
— Прошу вас, господа почтенные, отпустите меня с миром, бедный я человек.
Отвечают ему драконы:
— Коли приведешь нам дочь Рыжего царя, отпустим.
— А отчего вы ее сами себе не возьмете? — спрашивает Кэлин. — Вас много, и вы сильнее.
— Оттого, что мы нечистые духи, а у царя есть волшебные петух и щенок. Только мы ко дворцу подходим, петух начинает кукарекать, а щенок лаять, и приходится нам бежать. А тебе сподручнее будет, ты человек обыкновенный.
Но Кэлин дурень хитрый был:
— Пойдемте и вы со мной, я человек обыкновенный, и петух не запоет, и щенок не залает.
Тут Кэлин дурень увидел какого-то добра молодца, за руки привязанного к дереву, а как двинулись они в путь, добрый молодец рванулся, что было сил, руки оторвались и на дереве повисли, а сам он удрал.
Шли они, шли да и дошли до ворот царского дворца. То были большущие железные ворота, и никто, кроме Кэлина дурня, перелезть через них не мог. Залез он на ворота да и говорит драконам:
— Давайте-ка я вас по одному во двор перенесу.
Стал он их по одному переносить да во дворе головы им мечом рубить, пока всех не перебил. Потом сам во двор зашел. А царь так надеялся на крепость стен и ворот, что ни одну дверь во дворце не запирал. Поднялся Кэлин дурень по лестнице, — ступеньки все золотые, самоцветами разукрашенные, — и вошел в опочивальню царевны. На дворе ночь была лунная, ясная. Луна и опочивальню царевны освещала. Так была хороша царевна, что и в сказке не рассказать. Поцеловал Кэлин дурень царевну, снял у нее с пальца перстенек и вышел.
Проходя мимо порубленных змеев, отрезал у всех двенадцати кончики языков, завязал в узелок и спрятал; потом перелез через ворота и пошел своей дорогой. Шел он, шел, пока до котла дошел. Одну драконшу ему удалось поймать, и он сварил ее, а вторая сбежала. Взял он одним мизинцем лепешку, вторым — котел с мясом, набрал в жестянку углей и пошел дальше.
Дошел до Рассвета, дал ему кусок мяса и кусок хлеба, развязал и говорит:
— Теперь ступай!
Пошел он дальше, а как дошел до Полночи, дал и этому кусок мяса и кусок лепешки и отпустил и его.
Пока дошел до Доброго вечера, тот уже был чуть жив — так долго пролежал он связанный. Дал Кэлин и ему кусок мяса, кусок лепешки и сказал:
— Ступай с миром!
Вот дошел он до места привала и едва успел костер разжечь, как солнце поднялось. Братья так долго проспали, что на сажень в землю ушли. Проснулись они и говорят:
— Эгей, Кэлин дурень, до чего эта ночь долгой была!
Кэлин дурень ни слова им не сказал о том, что с ним за ночь приключилось. Стали братья снова в путь собираться, и опять Кэлин дурень из лука выстрелил; шли они шли, пока дошли до Золотого леса. Тут Кэлин дурень и говорит:
— Братцы, вам сквозь этот лес не пробиться. Постройте здесь шалаш и оставайтесь, я один пойду.
Так и сделали. Дошел он до середины леса и видит: старшая царевна дракону обед готовит.
— Добрый день, царская дочь.
— Здравствуй, Кэлин дурень. Имя твое я слыхала, а видеть тебя не видела. Да только беги отсюда, а то застанет тебя дракон и убьет.
— А сколько твой дракон еды съедает? Царевна отвечает:
— Четыре печи хлеба, четыре жареных коровы, да четыре бочки вина выпивает.
— Ну-ка я погляжу, — говорит Кэлин дурень, — смогу ли столько осилить.
Кэлин дурень сел и съел все, что было. Вот является дракон.
— Добрый день, дракон-собака.
— Здравствуй, Кэлин дурень.
— Пришел я отнять у тебя царевну. Ну, выходи на бой!
— Погоди, дай мне покушать.
— Да вот, ей-ей, съел я всю твою еду.
— Тем лучше, — говорит дракон. — Буду я драться налегке. Схватились они, стали биться, и убил его Кэлин дурень. Потом говорит царевне:
— Оставайся здесь, а я побегу, вызволю остальных твоих двух сестер. Шел он, шел, пока дошел до середины Серебряного леса. А здесь средняя царевна тоже обед варила. Как глянул на нее Кэлин дурень, полюбил без памяти.
— Добрый день, царская дочь.
— Здравствуй, Кэлин дурень. Имя твое я слышала, а вот видеть не видела.
Но и Кэлин дурень был красив и пришелся он по сердцу царевне. Говорит она:
— Беги отсюда, а то застанет тебя дракон и убьет.
— А сколько дракон еды съедает?
— Восемь печей хлеба, восемь жареных коров, да восемь бочек вина выпивает.
— Неси все сюда, посмотрим, съем ли я столько. Съел он все. Тут и дракон явился.
— Добрый день, дракон-собака!
— Здравствуй, Кэлин дурень.
— Выходи на бой.
— Погоди, дай мне поесть.
— А я всю твою еду съел.
— Легче мне в бою будет.
Схватились они, бились, бились, и убил его Кэлин дурень. И так ему полюбилась царевна, что взял он ее с собою в Медный лес. В середине леса младшая царевна тоже обед варила. Не знала она Кэлина дурня, да как увидела с сестрой, все поняла.
— Где твой муж?
— На охоте, Кэлин дурень. Но ты беги отсюда, не то он убьет тебя.
— Сколько он еды съедает?
— Двенадцать печей хлеба, двенадцать жареных коров и двенадцать бочек вина выпивает.
— Ну-ка, посмотрим, съем ли я столько.
Ел Кэлин дурень, ел, все одолел, а последнюю бочку вина не смог выбить и говорит:
— Вот на столько дракон меня сильнее.
Тут явился дракон.
— Добрый день, дракон-собака!
— Здравствуй, Кэлин дурень.
— Пришел я отнять у тебя царевну.
— Нет, царевну не отнимешь.
— Выходи на бой!
— Вот только покушаю.
— Я твою еду всю съел.
— Мне будет легко, тебе тяжело.
— Выходи на бой!
— Давай!
Бились они, бились, чуть было дракон не поддался да и говорит:
— Давай я обернусь красным пламенем, а ты зеленым.
Но ошибся дракон, потому что красное пламя мягче, зеленое тверже.
Тут высоко над ними пролетел ворон, и змей ему крикнул:
— Ворон, ворон, окуни свои крылья в воду и погаси это зеленое пламя.
А Кэлин дурень крикнул:
— Пресветлый царь, окуни свои крылья в воду и погаси это красное пламя.
Как услышал ворон такие слова, — понимаете, как его возвысили! — сразу полетел по воду. Полил ворон воду на красное пламя, и столько из него крови потекло, что дошла Кэлину дурню по колена.
Взял он царевен и пошел в обратный путь.
Прошел мимо Золотого леса, взял и старшую царевну и привел всех братьям. И сказал им так:
— Братцы, этих двух берите вы, а средняя моя.
Легли они все спать. А старшие братья порешили меж собой: убить Кэлина дурня невозможно; отрежут они ему ноги, заберут царевен, отнесут к царю и скажут, что сами их вызволили.
Пока Кэлин дурень спал, отрезали они ему ноги, забросили их далеко (а то бы он их приклеил, так как был заколдован), забрали царевен и ушли. А он так истомился в битвах, что и не почувствовал ничего.
Проснулся Кэлин дурень наутро и видит — ноги у него отрублены. Что тут делать? Пополз он потихоньку и дополз до Золотого леса. Потом полз еще три дня и три ночи и очутился перед распрекрасным замком — гляди, не наглядишься.
Вдруг слышит: в замке кто-то так жалобно поет, что сердце разрывается. Полез он потихоньку по лестнице и увидел того добра молодца, который руки себе оторвал у драконов.
— Добрый день, богатырь.
— Здравствуй, Кэлин дурень. Что с тобой случилось?
Рассказал ему Кэлин дурень все, что с ним приключилось.
— Давай побратаемся!
— Давай!
— А ты кто такой? — спрашивает его Кэлин дурень.
— Я, — говорит, — царский сын, и все эти леса были вотчиной отца моего, но драконы их у нас отняли; да с тех пор, как ты перебил драконов, мы снова получили власть над лесами. Только я, как безрукий, проживаю здесь.
Обхватил Кэлин дурень руками царевича за шею, тот его взвалил на спину и так они гуляли по лесу. Вот однажды заслышали они возню в кустарнике. Говорит побратим Кэлину дурню:
— Я поднесу тебя тихонько, а ты хватай руками, что там будет.
Поднес он Кэлина дурня, а тот схватил драконшу, что в тот раз от него сбежала. И говорит ей:
— Приделай мне ноги, а ему руки, не то убьем тебя.
— Вот там, — отвечает драконша, — в сажени отсюда есть озерцо; окунись в него и отрастут у тебя ноги, а у этого руки.
А Кэлин дурень хитрый был:
— Окунись прежде ты.
— Нет, окунитесь вы.
Сорвал Кэлин дурень веточку зеленую, окунул ее в воду и веточка мигом засохла; стал он осыпать драконшу тумаками за то, что та их иссушить хотела.
— Ай, ай, прошу, не бей меня, вот справа другое озеро.
Окунул в него Кэлин дурень сухую веточку и вытащил зеленую. Тогда он и сам полез в воду и вылез с ногами, а побратим его с руками. Взяли они да и убили драконшу, а то она бы им все равно козни чинила.
Отошли они оттуда, и говорит Кэлин дурень:
— Теперь мне надо идти жену искать, но прежде пойдем в другое место, к Рыжему царю, о котором я тебе рассказывал.
Собрались они в путь и пошли. Когда проходили по лесу вблизи царского двора, набрал Кэлин дурень полный платок орешков. Дошли до ворот дворца и слышат гомон великий. Они-то были одеты в платье крестьянское — ицары да кожухи, кимирами подпоясанные. А старуха, что у ворот стояла, наша, простая баба была.
— Добрый вечер, тетушка.
— Здравствуй, добрый молодец.
— А что это за шум там раздается?
— Дочь царская замуж выходит.
— И кто ее берет?
— Цыган-повар, он двенадцать драконов убил.
Тогда Кэлин дурень говорит старухе:
— Тетушка, дам я тебе ковш червонцев, только исполни, что велю.
Диву далась старуха, услыхав о ковше червонцев.
— Все исполню, добрый молодец.
Взял он платок с орешками (а был тот платок из наших — черный, цветочками обшитый), положил туда перстенек и молвил так:
— Отнеси это, тетушка, и положи перед царем. А хоть и тумаков получишь, хоть и гнать тебя будут, все равно пробейся.
Вошла старуха, тумаков получила, как там водится, положила платок на стол и вышла. И как она обрадовалась, когда Кэлин дурень дал ей ковш червонцев; она не то что не имела таких денег, а и не видела в жизни.
Взял царь платок, орешки высыпались на стол, а перстень остался. Говорит царевна:
— Вот, отец, мой перстенек, который я невесть как потеряла.
Закричал царь:
— Кто принес платок с орешками?
Слуги сказали, что старуха-привратница. Крикнули ей, чтоб привела того, кто платок принес. Тут Кэлин дурень и вошел в трапезную. А жених-цыган сидел на трех перинах пуховых. Как переступил Кэлин дурень порог, одна перина из-под него вылетела. Как дошел он до середины комнаты, вылетела и вторая, а цыган проговорил:
— Осторожно, не свали меня на пол.
Как дошел он до царя, вылетела и третья перина… Спрашивает царь:
— Как это, богатырь, попал к тебе перстенек моей дочери?
— Пресветлый царь! Вот так-то и так.
А цыган свое:
— Что ты врешь, это я убил драконов.
— Государь, — говорит Кэлин, — вели принести всех драконов, посмотри. есть ли у них кончики языков.
Принесли драконов, а кончиков языков и впрямь не оказалось. Тогда он вынул их и показал всем.
Тут царь велел вывести из конюшни самого резвого коня. Привязали к конскому хвосту цыгана и мешок орехов и погнали скакуна кнутами. Где падал орех, там отваливался и от цыгана кусок.
Молвит царь:
— Теперь, добрый молодец, будешь ты мне зятем.
А Кэлин в ответ:
— Нет, государь, я другую люблю. Но есть у меня побратим, бери его в зятья.
Царевне больше пришелся по сердцу Кэлин дурень, да что поделаешь, коли другой был ее суженым. И закатили они свадьбу расчудесную и пировали целых три недели. Иллюминации, лэутары — чего там только не было! А после свадьбы сказал Кэлин дурень:
— Ну, пойду я теперь жену свою искать.
Сколько ни плакали хозяева, сколько ни просили его остаться, уговорить не смогли, так он и ушел. Дошел он до места, где был дом отцовский, там высится дворец чудесный и рядом мальчик лет семи стадо свиней пасет. А с тех пор, как Кэлину дурню ноги отрубили, прошло лет восемь.
— День добрый, малыш!
— Здравствуйте, баде.
— Кто в этом дворце живет?
— Да вот два богатыря, которые драконов победили и поженились не царевнах.
— А как они живут, каких царевен взяли?
— Старший взял старшую, а средний — меньшую.
— А среднюю?
— Они ее заставили за курами ходить.
— А сам ты чей?
— Мама говорит, что я Кэлина дурня. Кто его знает, что за человек,
Услышал Кэлин такие слова, и только он знает, как у него сердце забилось: оно так, почтенные мои, прошу у вас прощения, это был его сын.
— Прошу вас, баде, помогите мне свиней загнать.
Свиньи все заходили в загон, заходили, а одна свинья зайти не захотела.
Взял Кэлин дурень дубину и бросил в нее. Подняла свинья страшный визг, завизжало и все стадо. Услышали это хозяева, выбежали во двор и крик подняли:
— Кто это там свиней бьет?
Тут Кэлин дурень вошел во двор. Они его как увидели, так сразу и узнали. Побежали навстречу, бросились перед ним на колени.
— Прости нас, братец, сознаем вину свою.
А Кэлин им в ответ:
— Нет, не так, братцы. Давайте сделаем ядро железное, перекрестимся им и один из вас пусть его бросит вверх; а мы все станем рядом, и на кого из нас падет ядро, тот и виноват.
Подбросили они ядро, упало оно на старших двух братьев и расплющило их в лепешку.
И справил он свадьбу распрекрасную… Сердце у него было не жестокое, не стал он обращаться с невестками так худо, как они с его женой обращались. Обращался он с ними, как и должно с невестками, и закатил пир горой… и я пошел было к ним на поклон, да выгнали меня вон, а я с досады пошел на конюшню и выбрал себе скакуна с золотым седлом, со стальным телом, с восковыми ногами, с кукольными глазами, да поехал быстро по скале кремнистой: ноги таяли, хвост трещал, глаза лопались; а я оседлал палку без норова и соврал вам здорово; а потом оседлал жеребца и сказку довел до конца.

 НОРА ВЕТРА
НОРА ВЕТРА

Жил-был бедный-пребедный человек, и была у него целая куча детей. Вот выдался в стране большой голод, и пришлось ему проработать целую неделю за ковшик зерна. Понес он зерно на мельницу, смолол его, а как вынес на улицу муку в ковшике, поднялся сильный ветер и развеял ее всю до крупинки. Страшно разгневался бедняк:
— Я этого так не оставлю!
Скрутил он жгут соломенный и пустился в путь-дорогу.
Спрашивает его прохожий:
— Куда путь держишь, кум?
— Иду заткнуть нору ветра. Он мне всю муку из ковшика выдул.
— А где же ты ее найдешь?
— Где она есть, там и найду.
Прошел он пути немало и настиг господа бога и святого Петра, которые тогда по земле ходили.
— Куда путь держишь, человече?
— Иду заткнуть нору ветра. Он мне всю муку из ковшика выдул.
А бог ему и говорит:
— Не ходи ты дальше, человече. Вот тебе орех, да смотри, пока домой не дойдешь, не говори: "Орех, отворись!"
Повернул бедняк назад, шел, шел и дошел до какой-то избы. Попросился к хозяину в избу, переночевать.
— Откуда путь держишь, баде? — спрашивает его хозяин.
— Шел я заткнуть нору ветра, да вот нагнал в пути какого-то дурня, который дал мне орех и велел не говорить "Орех, отворись!" Что бы это могло значить?
А хозяйка была хитрющая, достала из мешка орех, да и говорит:
— А ну-ка покажи свой орех!
Взяла она у мужика орех да и обменяла на свой. А потом ушла в загон и шепнула:
— Орех, отворись.
Только она эти слова вымолвила, посыпалось из ореха видимо-невидимо скота: овцы, кони, ягнята — богатство великое!
А бедняк пришел домой и ничего от ореха не получил.
— Гей, покарай, господь бог, ветер, а старика пусть черт поберет! Пойду я заткну нору ветра и старика изобью за то, что надул меня.
Встретился он снова с богом.
А бог, знаете силу господню, теперь уже иначе выглядел… Не узнал его бедняк.
— Куда путь держишь, баде?
— Иду заткнуть нору ветра и убить старика за то, что обдурил меня.
— На тебе, баде, осла. Но пока не дойдешь домой, не говори: "Осел, делай деньги!"
— Не скажу.
Вернулся он тем же путем и опять забрел к прежнему хозяину. Тот стал его угощать, вином потчевать так, что захмелел бедняк и уснул на лавке. А рядом стоял шатер цыганский, и был у цыган осел. Купил хозяин осла и обменял на того, которого привел бедняк.
Наутро бедняк проснулся, взял осла, пришел домой и говорит:
— Осел, делай деньги!
Куда там! Взял бедняк дубину и побил осла.
— Ну, теперь уж я ему не спущу!
Пошел он снова нору ветра затыкать да старика искать и опять встречает бога.
— На тебе, баде, костыль, но пока не дойдешь домой, не говори: "Костыль, костыляй!"
Взял бедняк костыль да и пришел с ним к прежнему хозяину. Тот на сей раз закатил пир горой, а с женой сговорился так: если удастся забрать и костыль, надо убить бедняка, дабы не стал он их подозревать в воровстве.
Говорит хозяин жене:
— Слушай, жена, давай унесем костыль в сарай, запрем двери и потом скажем: "Костыль, костыляй!"
Сказано-сделано. Стал костыль их лупить немилосердно.
— Баде, — кричат, — отдадим мы тебе и осла и орех, только спаси нас.
Но бедняк дал костылю поработать вволю и только потом забрал осла, орех и костыль и вернулся домой.
И так он разбогател теперь, что весть о его богатстве долетела до царского двора. Столько у него было денег, что он их посеял на ниве и вырастил золотую пшеницу. Послал к нему царь слуг своих золотых семян попросить: и ему захотелось золото пожинать.
— Скажи царю — не хочу я ему дать. Посмотрим, что он мне сделает.
Как услышал царь такое, загорелся гневом, собрал войско и пошел на мужика войной. Царь, конечно, как старший, ехал впереди. Доехал он до избы мужика и кличет его, чтобы вышел. А мужик все еще носил наше платье, не городское. Спрятал он костыль под полу сукмана и вышел на улицу. Поглядел царь, что мужик один, и совестно ему стало против одного целое войско вести. Вот он и говорит:
— Ну-ка, человече, покажи, какая у тебя сила.
— Ладно, государь, пожалуй. Костыль, костыляй — девять на царскую спину да каждому солдату — половину.
Пошел тут костыль по головам лупить. Одурели солдаты и царь, побежали кто куда и оставили мужика в покое. И зажил он прекрасно. Дай бог и моим детям такую жизнь.

 КРАСА МИРА
КРАСА МИРА

Легко сказка сказывается, да нелегко дело делается.
Жил был охотник, бедный-пребедный, и было у него трое детей. Кормились они чем попало — подстрелит охотник где птицу, продаст ее, вот всем и пропитание. А вблизи от его дома лес обширный раскинулся, и звался он Черным лесом. Поговаривали сельчане, будто нельзя к лесу и близко подойти. До того был лес тот пустынен, что прошел слух, будто в полночь там черти собираются. Вот однажды бедняк и говорит своей жене:
— Вот что, жена, семи смертям не бывать, а одной не миновать; схожу-ка я в лес да посмотрю, не найду ли там чего.
Положила ему жена лепешку в торбу, вскинул он ружье на плечо и пошел. Дошел до леса, и великий страх его обуял… Но бедного человека нужда куда хочешь толкнет.
Шел он так, шел и дошел до высокого дерева с густой-прегустой листвою, а как оно зовется, я и сам не знаю. Глядь — а в листве птица прекрасная, перья из чистого золота. Задумался бедняк, как бы ее не застрелить, а живьем поймать; за живую-то больше денег дадут. Стал он гонять ее по дереву, влезла птица в дупло — тут он ее и поймал.
Не хотел бедняк ночи дожидаться, очень уж он лешего боялся, а взял добычу и отнес домой. Смастерил клетку хорошую и посадил в нее птицу. И хоть заметил он у птицы на зобу письмена какие-то, прочесть их не смог, так как грамоты не знал.
Поймал-то он птицу в субботу, а в воскресенье утром она снесла яйцо. Говорит охотник жене:
— Не стану я эту птицу продавать; видишь, она несется. Будем мы яйцами кормиться.
Взял охотник яйцо и понес его на базар. Спрашивает его купец:
— Что продаешь и сколько просишь?
— Продаю яйцо, а прошу за него тысячу лей.
А купец — они-то всегда хитрее — и говорит ему:
— Ну-ка покажи, что за яйцо.
Как увидел купец, что яйцо золотое и стоит много больше, тут же отсчитал тысячу лей.
Накупил охотник жене и детям всякой всячины и вернулся домой.
На следующее воскресенье птица снова снесла золотое яйцо. Пошел охотник на базар и опять запросил тысячу лей. Только, обратите внимание, и на сей раз ему попался тот же купец.
А когда охотник пришел и на третье воскресенье, купец призадумался да и стал расспрашивать, кто он да откуда. Надумал купец сходить посмотреть, откуда у бедняка яйца золотые.
Зашел к охотнику в избу и сразу заметил в углу клетку с птицей. Купец знал грамоту и прочел на птичьем зобу вот что: "Кто съест мое сердце, станет царем; кто съест мой пупок, сколько раз бы ни проснулся ночью, будет находить под подушкой набитый кошель; кто съест мою печень, тому во всем везти будет — на всех его путях и во всех его делах счастье ему будет сопутствовать".
Задумал купец обхитрить бедняка:
— Продай мне эту птицу.
— Не могу, господин. Она нужна мне и моим детям.
Бился с ним купец, бился, а бедняк все не соглашается птицу продать.
На следующий день охотник встал на заре, взял ружье и ушел на охоту. А хитрый купец пришел к его глупой жене да и говорит ей:
— Зачем тебе жить с бедняком, выходи лучше за меня. У меня и тебе, и детям твоим хорошо будет. А чтоб можно было нам пожениться, дай-ка я убью твоего мужика.
Подсыпал купец охотнику зелья в еду, и тот умер. Тогда купец и говорит жене:
— Я на тебе женюсь, но прежде зарежь и поджарь эту птицу. Только смотри, чтоб все в ней было на месте, мы ее сейчас же и съедим.
Глупая женщина согласилась. Зарезала птицу, поджарила и в печь убрала, а сама пошла хлопотать по хозяйству. Тут вошли в избу дети. Говорит один:
— Страшно я голоден! Мама изжарила птицу, давайте съедим по кусочку.
— Так она ведь для купца ее жарила, гляди, еще колотушек получим, — возразил другой. — А то давайте съедим то, что у нее внутри, и никто ничего не заметит.
Съел старший сердце, средний пупок, а младший печень. А без внутренностей птица теперь уж гроша ломаного не стоила.
Наевшись, мальчишки порешили: "Давайте, спрячемся, а то быть нам битыми". И, выбежав из дому, забились в яму на огороде.
Пришел купец, схватил птицу, а в ней самого главного и нет. Стал он кричать да лупить бедную женщину. Та и говорит:
— Никак дети съели, больше никто в избу не заходил.
Стал купец звать детей, думал зарезать их и съесть. Звал он их, звал, на печке искал, да так и не нашел. И ушел купец восвояси, покинув женщину в ветхой избе. Он так и думал сделать с самого начала, да решил господь, что уж лучше детям скушать волшебную птицу, чем купцу ее отдать.
Вот самый старший походил сколько походил по свету да и стал царем. А самый младший, тот, что съел печень, все сидел за столом, где уж ему счастья искать — был он ленив сверх всякой меры. А тот, что съел пупок, все находил под подушкой кошельки с деньгами и стал вскоре злейшим человеком. Любил он только пировать да, простите за выражение, за красивыми барыньками увиваться. Была в той стране дочь боярская, прекрасная-распрекрасная, так что все ее звали Красой мира. Стал он обивать пороги боярину, просить у него дочь, но тот и слушать не хотел. Вот пришел он однажды домой да и говорит матери:
— На что мне, матушка, деньги, коли не могу я жениться на той, что сердцу мила.
А мать ему в ответ:
— Милый сын, сходи еще разок, авось встретишься с ней.
Тем временем малыш, съевший печень, играл во дворе с другими мальчишками. Вот подошел к нему какой-то старичок и говорит:
— Милый мальчик, что ты здесь делаешь?
— Играю, дедушка.
— А пойдем с дедом, дам я тебе яблок и груш.
Мальчик, как мальчик, пошел за стариком, а тот его обманул. Это был страшный колдун, море мог заморозить. Он все колдовал в Черном лесу, да вдруг наткнулся на такое дело, которое только с помощью ребенка мог сделать. Повел он малыша в чащу лесную, довел до камня большого. Ударил старик трижды по камню, и земля в том месте разверзлась. Вот он и говорит мальчику:
— Сойди, мальчик, по этой лестнице под землю (там была лестница), дойдешь до сада дивного и увидишь там домик. Войдешь в домик и на печной трубе найдешь ключ. Возьми его, заткни за пояс и возвращайся ко мне. Но прихвати с собой вот эту палочку железную, без нее тебе не войти в дом (видать дело-то было на том свете).
Пошел мальчик потихоньку и дошел до сада.
И такая была красота в том саду — все золотые деревья кругом, — что мальчик диву дался. И, как любой ребенок, позабыл он, зачем пришел, и бросился собирать яблоки да груши. А там, знаете, как это делается — была на нем рубаха, ремешком подпоясанная, вот он и насыпал полную пазуху плодов. Пошел он уж было обратно, да тут вспомнил о ключе и вернулся за ним. Ключ был ржавый-прержавый… Побрел мальчик потихоньку обратно, к лестнице, у вершины которой ждал его дед. Хоть старик и обладал силой великой, да в рай ему пути были заказаны, потому и послал он ребенка. Дошел малыш до выхода, а старик кричит:
— Мэй, не выходи! Дай сюда ключ.
А мальчик в ответ:
— Не дам я тебе ключа, пока не выпустишь отсюда.
— Я тебя убью.
— Убей, если можешь.
Пнул старик ногой землю, и земля закрылась.
Что тут делать бедному мальчику? Подумал он было вернуться в тот сад, где раньше побывал. Да при закрытой земле дивный сад исчез. Мальчик горько заплакал. Вытирая слезы, потер железную палочку, которую дал ему старик, и вдруг вырос перед ним железный человек. Это был нечистый дух.
— Эй, мальчик, как ты сюда попал?
— Так, мол, и так, — рассказал ему мальчик.
— Я тебя вынесу отсюда, малыш, но прежде зажарь мне десятка два коров, дабы мне хватило еды в пути.
Посадил он мальчика на голову, взвалил на одно плечо двадцать жареных коров, на другое — несколько бочонков то ли с водой, то ли с вином — не знаю, дал мальчику нож и ковшик и двинулся в путь, говоря:
— Когда мне захочется есть, отрежешь ножом кусок мяса и накормишь меня; а когда меня будет мучить жажда, наберешь в ковшик воды и напоишь меня.
Шел он, шел, шел днем и ночью Дело было в преисподней, и стояла там такая тьма кромешная, что не видно было ни зги. Видит мальчик — кончается мясо и вода питьевая кончается. А нечистый дух ему и говорит:
— Коль повезет тебе, и хватит мне еды и питья, не съем я тебя. А коли не хватит — съем. Погляди-ка вверх, не видать ли солнца?
— Вижу что-то вроде огонька от спички.
Шел он еще, шел и осталось только пол жареной коровы. А дорога еще дальняя.
Дошел он уж было совсем близко к щели в земной коре, вода еще осталась, а еда уже вся вышла.
— Дай мне кушать, я голоден.
Что делать мальчику? Взял он нож, отрезал кусок собственного бедра, дал нечистому духу; тот съел, запил водой и пошел дальше. Вот вышли они на поверхность земли. Ссадил он мальчика на землю, да и спрашивает:
— Скажи правду, чем ты меня накормил в последний раз?
— Если говорить правду, отрезал я кусок от своего бедра.
— Если говорить правду, коли б я знал, что ты так сладок, я б не вынес тебя наверх.
— Теперь-то уж ты меня съесть не можешь. Здесь мне привольно, а тебе муторно…
И железный человек исчез.
А мальчик страшно проголодался, бедняга, только забыл он о грушах и яблоках, что держал за пазухой, да и о ключе позабыл. Встал он, побежал и явился домой к матушке. Хоть и был он лодырь, да ума ему не занимать стать. Вошел в избу, а матушка его жила бедно-пребедно. Знаете, как оно бывает, когда человек на большое панство вознесется: хоть один сын у нее царем был, другой богатеем, а мать содержать некому.
— Мама, нет ли у тебя огарка свечи, чтоб зажечь?
— Есть, мальчик мой.
Зажгла она огарок, а сын ей и говорит:
— Господи, мама, как я голоден. Вот у меня яблоки да груши, но теперь жалко мне будет их есть.
Он, бедный, и не заметил, что плоды золотые, и положил их под лавку.
— А еще у меня есть ключ, да очень уж он поржавел. Ты протри его, мама, да продай и купи мне хлеба.
Потерла она ключ разок-другой и явились к ним железные люди.
— Чего прикажете, хозяева? (А это был ключ от ада и давал он власть над нечистыми).
Женщина страх как испугалась, а мальчик сразу понял, что к чему.
— Обед нам подайте да вина доброго.
Мигом явились повара и стали столы накрывать. Чего только там не было! Попировали они вволю, а потом мальчик прибрал ключ и говорит:
— Ну, мама, этому ключу я теперь хозяин!
Прошло время, вырос он, хоть сейчас в женихи. Как-то раз сказал он матери:
— Слыхал я, мама, что у царя дочь — красавица. Хочу ее взять в жены.
— Милый мой, как же ты, такой бедный парень, возьмешь царскую дочь? Что за глупости ты болтаешь?
— А коль так мне захотелось? Будь мне, мама, свахой.
— Да как же я, мальчик мой, попаду туда?
— Иди, иди, мама!
— Как же мне идти с пустыми руками?
— А погляди-ка, не сгнили ли те яблоки да груши? Отнеси их царю.
— Верно сказываешь, сыночек мой.
Собрала старуха плоды в платок, перевязалась полотенцем и пошла. Вот и ворота царского дворца. Сидит царь на золотом крылечке и видит, как стража борется с женщиной, не дает ей войти. А царь был добрый, не такой, как нынешний. Подумал он, что женщина пришла к нему с челобитной.
— Впустите ее, эй! Чего тебе, тетушка?
— Так и так, пресветлый царь, пришла я по важному делу.
— По какому такому делу?
— Возьми вот прежде калачи.
Увидел царь золотые яблоки и груши и диву дался, что наша простая баба принесла ему такие плоды, какие и при царских дворах не водятся.
— Хочет мой сын на твоей дочери жениться, государь.
Подумал царь чуток да и решил: спятила баба!
— Коли твой сын, — говорит, — до завтрашнего утра вместо вашей избушки построит такой же дворец, как мой, и сад такой, как мой, да протянет до моего дворца дорогу, обсаженную деревьями, да на каждом дереве птицы петь будут, — отдам я ему дочь свою.
— Будь здоров, государь, — сказала женщина и вернулась домой.
— Вот, мальчик мой, что он сказал.
— Ладно, мама, до завтрашнего дня все сделаю.
Потер он ключ, и снова явилось пятеро железных людей.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Чтоб до завтрашнего утра здесь стоял дворец стеклянный, золотом крытый, и чтоб вела от него дорожка, обсаженная деревьями, и чтоб одни деревья расцветали, другие листья распускали, с третьих листья бы опадали, — все чтоб были разные. А дорожка чтоб была бархатной, а трава шелковой, и у каждого дерева чтоб стоял солдат с саблей наголо, а птицы чтоб пели сладко-пресладко и царю с царевной спать не давали!..
Ну вот! Задолго до рассвета все было готово. Проснулся царь утром и говорит дочери:
— С коих пор живу в этом дворце, никогда птицы так сладко не пели, как нынче. (Он никак не ожидал того, что случилось, а думал, что это в его саду птицы поют.)
А как вышел он во двор и увидел все, сказал:
— Уж большая у этого человека сила!
Говорит парень:
— Пойди, мама, и попроси у него дочь, пусть отдаст ее мне!
Пошла старуха к царю, а тот водит ее за нос, не хочет отдавать дочь за простого парня.
— Так вот что, тетушка: коли он ровно через неделю приедет ко мне в золотой карете, запряженной лошадьми, которые ели бы угли и пили бы пламя, отдам я ему дочь.
А царевна как раз в тот день должна была пойти под венец с неким царевичем.
— Выполню я и это, мама.
Вдруг слышит парень гул толпы с улицы.
— Что бы это могло быть, мама?
А мать отвечает:
— Это царская дочь замуж выходит.
— А кто ее берет?
— Такой-то царевич. Видишь, милый мой, зря ты меня на посмешище выставил.
— Ладно, мама, все равно он ее мне отдаст.
А время было зимнее. Взял он ключ, потер, и явился железный человек.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Царевна сегодня венчается. Когда молодые уснут, возьмешь жениха и вынесешь его во двор, а невесту снесешь в погреб. А на заре отнесешь обоих на место.
Наутро вошел царь в опочивальню молодых и спрашивает:
— Ну, милые мои, как вы спали?
— Мне, отец, было страшно холодно.
— А я, ей-богу, не знаю, где была. Хотела зажечь свечу, да не могла ее найти, и ни кровати не было, ни камина.
— Снилось это вам!
— Что ты, отец! Я вот даже кончики пальцев обморозил.
— А я отдышаться никак не могу.
— Что же вы не велели слуге, чтоб затопил камин? Ничего с вами не станется.
На следующий вечер парень снова потер ключ.
— Что прикажешь, хозяин?
— Ступай, и как только зять царев уснет, уложи его в снежный сугроб, а нареченную его вынеси на крышу.
Холодно было на крыше, но снега все же не было. Царевич совсем замерз, а царевну парень пожалел. Только полночи велел ее на крыше держать. Жениха утром нашли в постели окоченелого. Собрались лекари, да делать уж было нечего — помер, бедняга.
Вот прошла неделя. Взял парень ключ и снова вызвал слугу своего.
— Завтра утром доставишь мне карету золотую да коней таких, чтоб угли ели и пламя пили, да самое красивое платье на свете мне принесешь.
Сел он на следующее утро в карету и отправился к царю.
— Что скажешь, богатырь? — спрашивает царь.
— Приехал я дочь твою сватать.
Он, видите, прикинулся, будто ничего не знает о первом зяте. Отдал ему царь дочь, сыграли они свадьбу славную, и отвез ее парень к себе во дворец — души в ней не чаял, глаз с нее не сводил.
Только дознался колдун, что парень из преисподни вышел. Что же ему такое сделать, чтоб одолеть парня? Он-то, хоть и был колдуном великим, но имел в услужении только двух леших, а тот ключом от ада владел. И ключ он всегда клал на печной карниз. Только один слуга знал о нем. Да слуга-то был умом обижен.
Колдун собрал множество ключей, золотых да серебряных, и однажды, когда парень ушел с царевной на прогулку, явился к воротам замка и стал кричать:
— Кто мне даст ржавый ключ, получит взамен золотой!
И слуга, так как был он умом обижен, надумал сослужить хозяину службу добрую, обменять ржавый ключ на золотой. Так он и сделал. Эгей! Забрал колдун ключ и с ним всю силу у парня отнял.
Пришел тот с прогулки, а от замка и следа не осталось. И остался он, бедняга, без крова в чистом поле — и избушки-то старой уже не было. А царь послал ему через слугу такую весть, что коли через три дня не будет замка на старом месте, не видать ему больше царевны. Вы-то уже знаете, что лучше бы у парня жизнь отняли, чем жену любимую. Да и царевна его очень любила… А любовь — большое дело! Как тут быть? Пролетели назначенные три дня, а он так и не смог замок на место поставить. Распростился он с женой — ну и слёз там было!
— Пойду я теперь по белу свету!
Шел он, шел и дошел до какого-то пруда.
— Ну, делать мне теперь нечего, утоплюсь!
Но так как потирал он руки о палочку, которую дал ему колдун, когда в преисподню опускал, глядь — стоит перед ним железный человек.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Достань мне ключ от ада.
— Ключа от ада не могу я тебе достать.
— Что же мне делать? Скажи мне хоть, где он лежит.
— Колдун, дабы никто до него не добрался, поставил свой замок посреди Прута
[29]. А ключ он держит в головах, под подушкой.
— Что же мне делать, как добраться туда?
— Возьми вот этот кусок железа, перекувырнись через него трижды и обернешься мухой.
И железный человек исчез. Взял парень железо, перекувырнулся через него трижды, обернулся мухой и полетел к Пруту. Прилетел он к замку, а колдун после обеда спать лег. Стал парень думать, как в замок проникнуть. На окнах — ставни глухие, как бывало встарь.
— Пролезу в замочную скважину!
Пролез он и сел на край печи. Тут колдун проснулся и стал колотить молотками по полу. Как полезут из-под пола черт за чертями, муху дрожь прошибла. Стал их колдун рассылать кого куда на лихие дела… Покончив с этим, колдун вышел из опочивальни. Взвилась муха, схватила ключ из-под подушки и полетела прочь. И так рад был парень, что сможет снова жить с царевной, — просто передать трудно! Он ведь не о себе пекся, за нее душа болела. Потер он ключ, явились железные люди.
— Поставьте мне снова замок, точно такой, как был прежде.
А колдуну что делать?
Жила в том свете святая дева. В те времена люди были добрыми, не то что нынешние, были среди них святые. Как заболеет кто — святая дева только рукой коснется, и все пройдет.
Тут как раз заболела царевна, жена нашего парня. Болезнь не страшная, не болеть бы мне хуже, да стоило ей только "ой" сказать, а парень уже убивался.
Позвали к ней деву святую. А колдун взял да переоделся в ее одежды и явился вместо нее во дворец. Положил он царевне руку на лоб, будто заклинание творит, а как только парень вышел из опочивальни, говорит:
— Господи, ваше величество, сколько у тебя в доме прекрасных распрекрасных вещей, а вот дивного яйца мраморного и нету.
— А что это за яйцо, тетушка?
— То, которое лежит в сердце земли.
— Вот скажу я мужу, чтоб послал кого-нибудь найти его.
Ушел колдун. Вошел парень в дом.
— Ну, — говорит ему жена, — вот что сказала мне дева святая.
— Сейчас я ключ потру, дорогая.
Потер он ключ, явились два железных человека.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Достаньте мне из-под земли яйцо мраморное.
— Побей тебя кочерга, сколько мы тебе дел переделали, даже ключ от ада отдали, а теперь ты хочешь всю нашу силушку забрать? (Видите ли, колдун нарочно так подстроил, надеясь, что лешие удавят парня). Убили бы мы тебя, да знаем, что не твоя в этом вина, и прощаем. Только знай: это колдун к вам приходил под видом святой девы. Сегодня он явится снова, принесет с собой большущий нож, и, притворяясь, будто кладет руку на голову царевны, убьет ее.
Сказали это железные люди и исчезли.
Услышал парень такое и весь задрожал. Приготовил он свой ятаган, а как пришел колдун, заставил слуг раздеть его донага. И впрямь, нашли на нем нож большущий, вроде садового. Разрубил его парень ятаганом на мелкие кусочки.
Зажили теперь
молодые счастливо, позабыли вкус горя-горького. И однажды сказал он жене:
— Душенька, поедем-ка разыскивать братьев моих. (Матушка его умерла уже.)
Собрались они в путь-дорогу и поехали. Ехали, ехали, пока доехали до брата-царя.
А царь в это время вел войну тяжкую с соседним государем. И так ему было худо, что передать трудно. Увидев брата, обрадовался он очень:
— Раз уж ты царским зятем стал, помоги мне врага одолеть.
Собрали они войско пребольшое и, наконец, одержали победу.
Вот теперь оба брата счастливы были. Только гот, что пупок проглотил, еще горе мыкал. Пошел он следом за Красой мира. Вздумал было войти в терем боярский, да слуги его не пустили. Тогда он закатил бал невиданный, на который приехала и Краса мира. И была она так красива, что только вошла в залу — весь бал осветила. Да вот… прошу у вас прощения, под утро, после гулянки, велел хозяин принести столы и засели гости за карты. Хозяин сделал все возможное, чтобы сесть за один стол с красавицей. И хотя ему и везло, а прикинулся, будто проигрывает, и все ей отдавал. Очень уж любил он ее.
А Краса мира, увидев такие кучи денег, подивилась да и говорит отцу своему:
— Давай, отец, пригласим его к нам. (Знаете вы, как женщины, хоть наши, хоть ваши… до денег падки.)
Вот пришел он к ней однажды вечером, принес с собой шесть кошелей с золотыми, сел играть в карты и все ей отдал, даже пятачка себе не оставил. Увидела красотка, что парень остался без гроша, и потеряла к нему всякий интерес. Только на улице дождь лил, как из ведра, и волей-неволей пришлось его пригласить, чтоб остался ночевать. Лег он спать и сколько раз за ночь просыпался, столько раз находил под подушкой новый кошель с золотыми.
Наутро слуга принес воду, умылся он и дал слуге двадцать золотых на чай. Побежал слуга рассказать хозяйке. А она себе думает:
"Откуда у этого человека столько денег берется?"
Пошла она к нему в опочивальню и говорит:
— Выйду я за тебя замуж, коли ты мне скажешь, где деньги берешь.
Он, глупый, возьми да и расскажи. А она приготовила ему кофе да подсыпала туда какого-то зелья. Заболел парень, стало его тошнить и вытошнило пупок. Красотка его схватила, омыла бог знает чем, духами надушила и проглотила, а парня выгнала. Захотелось ей самой деньги под подушкой находить… У него только и осталось, что десяток кошелей с золотыми от последней ночи. Сел он на коня и поехал, куда глаза глядят. Ехал он, ехал да выехал на цветущее поле. Нагнулся конь, пощипал цветов и превратился в осла.
Тогда парень сорвал букетики цветов и положил в карман. Поехал он дальше верхом на осле и доехал до пруда. Осел нагнулся, воды напился и снова стал конем.
— Эге! — говорит парень. — И это неплохо.
Набрал он бутылку воды и повернул обратно. Доехал туда, где жила Краса мира, и на остаток денег снова закатил бал невиданный. Прибежала она, чтоб узнать, откуда у него деньги взялись.
— Где ты деньги добыл?
— Вот из этого букетика.
Дал он ей понюхать цветы, и она превратилась в ослицу. Оставил он ее в доме, а сам вышел.
Слуга ждал, ждал на улице свою хозяйку, да вот горе — словно в воду канула. Вошел он в дом и нашел там только ослицу.
А парень сел на нее верхом, отвез домой да и дает ей сена…
Говорит ослица:
— Никогда я тебя больше обманывать не буду и пупок верну, только сделай меня снова такой, какой я была прежде.
Однако много она ему зла причинила, и решил парень поехать на ней верхом к своему брату-царю. Там он застал и третьего брата, женатого на царевне. Когда рассказал он братьям, что ослица — это Краса мира, стали они его упрашивать:
— Прости ее!
Простил он Красу мира, дал ей испить воды волшебной, и она снова обернулась человеком.
И стало теперь три царя в одной стране, и все они были счастливы. А я рассказал вам сказку, дайте мне бубликов вязку.

 КРЕСТНИК БОЖИЙ
КРЕСТНИК БОЖИЙ
Сказка, сказка, — да я-то не в те времена родился, а чуть попозже. Только однажды пошел я к теще и нашел у нее мешок, полный сказок. Понес домой, да упустил. Развязался мешок, и с тех пор разлетелись сказки по свету. Я тоже одну запомнил и вам ее расскажу.
Жил-был мужик, и было у него два сына. Да вот жена зачала и родила ему еще третьего, а он был так беден, что не на что было крестины справить.
Проходил мимо бог и святой Петр. Крестил ему бог сына, и стал мальчик вещим.
После мальчика родилась у них дочь, и была она так прекрасна, что солнце перед нею меркло. Велели ей носить обед на пашню. Несла однажды девушка еду, увидел ее дракон и поклялся во что бы то ни стало похитить. А божий крестник был вещим и сказал сестре, что протянет плугом борозду от кухни до самой пашни, чтоб ходила она к братьям только по борозде. Но и дракон сразу узнал, что замыслил божий крестник, и протянул борозду от кухни к своему дому. Вот и понесла девушка обед прямо в замок дракона.
Ждали ее братья, ждали — нет и нет!
— Эх, мать моя, пойду я сестру искать, похитил ее дракон, — сказал крестник божий.
Сковал он себе у цыгана ядро железное, чтобы проводником служило: бросал его вперед, а сам шел следом.
Дошел крестник божий до какого-то дерева. Сел под ним отдохнуть немного и вдруг слышит сверху:
— Боже, боже, хоть бы скорее матушка вернулась, а то он меня сейчас съест.
— Кто это там говорит?
Залез он на дерево и видит трех птенцов.
— Деточки, а где тот дракон, который вас съесть хочет?
— Вот здесь, в колодце.
— Много птенцов он до сих пор съел?
— Двадцать четыре.
— Ладно, я вас спасу.
Забрался он на самую вершину и сел рядом с птенцами. Только дракон вытянул голову, чтобы схватить птенца, а он ее мечом и отсек. Протянул дракон вторую голову, а он и вторую отсек. Так что птенцы от радости и не знали, как его отблагодарить. Говорит один:
— Сколько нас братьев было, всех он съел, только мы трое и уцелели. Как прилетит мама, она на радостях тебя проглотит. Спрячься под моим крылом.
Залез он под крыло и спрятался. Вот раздался страшный вой, это возвращалась птица, а была она матерью ветра.
— Милые мои, не съел он вас?
— Крестник божий нас спас.
— Где он, проглочу его на радостях.
— Прошу тебя, мама, если проглотишь его, чтоб потом опять выпустила на волю.
— А где он?
— Пошел на восток.
Помчалась она с воем на восток, а птенцы говорят божьему крестнику:
— Пока мама долетит до востока, авось пройдет у нее пыл и не проглотит тебя.
Вернулась птица.
— Нет его там, птенцы мои.
— Вот он.
Птица его раз — и проглотила. А когда выпустила на волю, стал он таким красавцем, что все вокруг осветил своей красотой.
— Чем отплатить тебе за добро, которое ты мне сделал, детей спасая? — спросила птица.
— Скажи мне, куда дракон сестру мою дел.
— И не видела я, и не слышала.
— Иначе не отблагодаришь меня.
— Дай-ка я свистну, позову сына моего, Ветра с востока.
Свистнула она, и явился человек: сам с ноготок, борода с локоток, верхом на зайце хромом. Говорит ему птица:
Мужичок-с-ноготок,
Борода-с-локоток,
Что скачешь верхом
На зайце хромом,
где живет змей, что девицу похитил, сестру крестника божьего?
— И не видел я, и не слышал. Может брат мой Ветер с юга знает?
Свистнул он разок, явился еще один человек: роста высокого, губы толстые, а сам слепой. Но стоило ему подуть, на краю света слышно было.
— Не видал ли ты, не слыхал ли ты, где живет змей, что девицу похитил, сестру крестника божьего?
— И не видел, и не слышал.
— Что нам делать? — спрашивает птица.
— А может знают наши братья с другой стороны
— Эти далеко отсюда. Долго до них добираться. Вот тебе волосок с моей головы да вот волосок из его бороды, возьми и ступай, парень, в путь-дорогу. Коль случится нужда какая, сложи волоски втрое и свистни, мы придем тебе на помощь…
Взял он волоски и пошел. Дошел до леса и в самой чаще набрел на такой дым, что чуть не задохнулся. Подошел поближе и разглядел сквозь дым мать дракона: это ей очень жарко стало, невмоготу прямо, так она шерсть на ногах обжигала.
— День добрый, тетушка.
— Здравствуй, витязь. Куда путь держишь?
— Ищу драконов замок, тетушка.
— И-и, парень! Долго тебе идти придется, пока дойдешь, и лишишься ты жизни, коли близко подойдешь.
— Прошу тебя, тетушка, укажи мне только дорогу, а я не боюсь… дойду.
— Я дороги не знаю, милый мой.
Пошел он дальше и вдруг слышит — кто-то кричит:
— Ай-ай, ай-ай, я страшно есть хочу!
Подошел парень поближе.
— Что бы это могло быть?
Глядит: сидит человек на земле, поджав по-турецки ноги.
— Чего ты стонешь, баде?
— С девяти полей собрал я урожай, из него хлеб испек, съел до крошки, а все еще голоден.
— Пойдем со мной.
— Пойдем.
Идут они дальше и вдруг слышат голос человеческий:
— Страшно я пить хочу.
— День добрый, человече! Отчего ты пить хочешь? Неужели воды не найдешь, чтобы напиться?
— Сколько прудов было в этом лесу, я все осушил, а все еще пить хочу.
Пошли они дальше втроем и вскоре добрались до другого леса. Слышат — под кустом кто-то возится. Кто бы это мог быть? А это был губастый Ветер с юга.
— День добрый, ветер, чего ты здесь делаешь?
— Креплюсь, чтобы не подуть, хочу комара прихлопнуть. Да так прихлопнуть, чтоб кожа на нем не лопнула,
— А где же комар, я его не вижу.
— Вон, под солнцем.
— Брось, пойдем лучше со мной.
— Нет уж. Я пойду за комаром, а вы ступайте вперед.
Пошли они дальше и дошли до драконова замка. Дракон был на охоте, а девушка сидела на крыльце.
— Добрый день, сестра моя.
— Сказал мне дракон, что ты придешь. Но вернись лучше, он тебя погубит.
— Не боюсь я его.
— Он сейчас вернется с охоты.
Вернулся змей.
— Добро пожаловать, крестник божий.
— Здравствуй, дракон-собака.
— Давай биться!
— Давай!
Бились они три дня и три ночи, и никто одолеть не мог: не поддавался ни дракон, ни крестник божий.
Подул крестник божий на волосы, примчались Ветер с востока и Ветер с юга, сложили оба ветра губы втрое и как подули — пополам дракона разорвали. Одна половина с одной головой замертво упала, а вторая, с двумя головами, удрала. Дракон-то был о трех головах. Стал крестник божий просить Мужичка-с-ноготок добить дракона.
— Ничем не могу тебе помочь… Теперь выкручивайся сам, как знаешь.
Взял крестник божий сестру свою и пошел. Дошел до двора царского, а добраться до царя никак не может — доступа нет. Стал он обходить дворец и набрел на озеро. А на берегу трое мальчишек дерутся — никак кушму, кнут и шило не поделят.
— Отчего вы деретесь, ребята?
— Вот это досталось нам в наследство от отца, а мы; никак поделить не можем.
— А зачем вам все это?
— Тот, кто кушму наденет, станет невидимкой, тот, кто кнутом ударит, влетит во дворец царский, тот, кто скажет: "шило-шильце", мигом очутится на стеклянной горе.
— А что там есть на стеклянной горе, зачем вам туда захотелось?.
— На стеклянной горе царь дочь свою прячет.
— А почему он ее там прячет?
— Чтоб дракон не украл.
— И до каких пор так будет?
— Пока не сыщется такой добрый молодец, чтоб дракона убил. Тому, кто дракона убьет, царь дочь свою отдаст.
— Мэй, ребята, поделю я вам вещи по справедливости: полезайте все в озеро, а я их брошу на дно, и кто что поймает, тем и владеть будет.
Полезли мальчики в озеро, а он, хитрец, взял вещи в руки, ударил кнутом и взлетел на гору, во дворец царский.
Царский дворец был так прекрасен, что и в сказке не рассказать. Сам царь — старик сидел во дворе и трубку посасывал.
— День добрый, государь!
— Здравствуй, добрый молодец. Силен ты, должно быть, коли до меня добрался.
— Верно, государь, Пришел я дракона убить и дочь твою выручить.
— Дракон ко мне не скоро явится. Но ходят слухи, будто он прячется неподалеку, в озере, и по ночам пытается взобраться на стеклянную гору, царевну украсть.
— Так прощай, государь.
— Счастливого пути, добрый молодец.
— Пойду дракона искать. Коли убью его, отдашь мне дочь?
— Отдам.
Дошел он до озера, где с мальчишками повстречался. Надел кушму на голову, стал невидимкой и спрятался в кустах. А на озере плыло дном кверху корыто. В полночь раздается там страшный шум. Это был купол ада. Вот примчался Скараоский, сел на корыто верхом. Свистнул, что есть мочи, и явились два хромых черта. Спрашивает их Скараоский, какие дела за сутки сделали.
— Я встретил трех мальчишек, которые чуть было не поубивали друг друга. Жаль очень, что подошел крестник божий и отнял у них…
— А ты?
— Я повстречался с Южным ветром, а он разорвал пополам дракона трехглавого и одна половина умерла.
— Ничего вы путного не сделали. Вот я вас научу, как дело делать. Чуть в стороне от этого озера спрятан большой клад. Клад этот принадлежит одному старику, а старик умрет будущей ночью. Ступайте и откопайте деньги.
— А коли их возьмет кто другой, божьей силой наделенный?
— Никто приблизиться не сможет, коли мы клад украдем или только руку на него положим.
— Никто, никто на свете не сможет?
— Нет, один сможет… Вот как. Коли нагрянет крестник божий до того, как вы клад заберете, и принесет с собой воду от своего крещения и брызнет на нас — ошпарит и деньги заберет.
А тот все слышит. Встал он на рассвете и побежал домой. Очень уж ему денег захотелось. Дошел и говорит:
— Мама, где та вода, которой меня крестили?
Пошла мать в церковь, принесла ему воду и вернулся он назад. Вот и место, где клад зарыт. Все черти там собрались. Подошел он к ним и стал кропить. Кричат черти:
— Смилуйся, крестник божий, что хочешь проси, только не жги нас.
— Коли приведете ко мне удравшего дракона, отпущу вас.
— Ладно, сейчас его приведем. Только живым вряд ли сможем доставить.
— Мертвого не хочу, живьем приведите.
Взялись черти, а была их тьма-тьмущая, соорудили железный бочонок, чтоб дракона в него посадить, и пошли за драконом. Принесли его, а он был так тяжел, что только чертям под силу было поднять.
— Кладите сюда!
Ударил крестник божий кнутом и поднялся во дворец вместе с бочонком.
Царь спрашивает:
— Что у тебя там?
— Здесь вся моя сила, государь… Покажи мне царевну или я бочку откупорю.
Царь было перепугался, а потом (хитрый он был) привел дочь показать парню. А как царь взбирался на стеклянную гору, никто не знал, была у него страшная сила, никому не ведомая. Увидел парень царевну и одурел, так она ему полюбилась. Да, простите пожалуйста, и он ей по сердцу пришелся.
— Добрый молодец, женишься ты на моей дочери, только скажи, как ты силу свою на волю выпускаешь.
А парень от любви к царевне совсем разум потерял.
— Государь, обманул я тебя, здесь дракон спрятан.
Отбежал царь в сторону:
— Убей его, витязь, не то он сейчас бочку сломает. Я его поймал однажды, так он из бочки вырвался.
От радости, что женится на царевне, стал парень дракона приканчивать. Обмазал ему голову смолой, и дракон так сильно закричал, что царский дворец зашатался. Умер дракон, и пошел из него такой дым густой и такой дух тяжелый, что витязь свалился без чувств. Царь обрадовался, положил его в бочку и скатил с горы, а дочь свою взял и снова на стеклянной горе спрятал. Очнулся бедный витязь, а шило-то в царском дворце осталось… Что тут делать? Стал он бить, что есть мочи по бочонку, а разбить не может. Тогда подул он на волосок из бороды Мужичка-с-ноготок и тот прискакал на хромом зайце.
— Выручи меня.
Ударил заяц ногой и разбил бочонок. Вышел витязь на волю, а Мужичок-с-ноготок ему говорит:
— Еще один раз можешь меня позвать на помощь, а больше не зови. Должен я тебя выручить только три раза.
Ударил витязь кнутом и явился к царю… А царь притворился, будто ничего не помнит и не хочет ему дочь отдать.
— Дам я тебе дочь, коли ты поднимешься на Цветочную гору и принесешь мне цветок из самой середины сада.
Пустился крестник божий в путь-дорогу. Шел, шел, целый год прошел. Дошел до Цветочной горы, а кто ее караулит? Мужичок-с-ноготок.
— Ну, добрый молодец, ты и сюда ко мне пришел?
— Пришел. Обещал ты меня еще раз выручить. Дай мне цветок из середины сада.
Тот ему дал. И так благоухал цветок, что голова кружилась. Вернулся витязь к царю и отдает ему цветок.
— Сделай еще одно дело, и я отдам тебе дочь. Зажарю я стадо коров, и, коли ты их съешь за ночь, получишь царевну.
Так и сделали, как царь повелел. Позвал крестник божий своего вечно голодного побратима и тот все за ночь съел. И не только насытился, а до утра лопнул. Но с такой он жадностью ел, что и столбы у амбара обглодал. Подивился царь такой силе.
— Коли выпьешь ты целый колодец воды, отдам тебе дочь.
Позвал витязь второго побратима, того, что никак напиться не мог, и тот выпил колодец, но тоже лопнул.
За царским дворцом стоял лес дремучий.
— Коли подуешь ты разок у опушки моего леса и все комары соберутся у дверей дворца моего, отдам тебе дочь.
Позвал витязь Ветер с юга. Сложил тот губы вчетверо и как подул — все комары слетелись. Испугался царь — так много их было и так сильно они гудели…
— Велика твоя сила! Вели комарам, пусть уберутся отсюда.
— Не велю, пока мне дочь не отдашь.
Стал его царь обхаживать и обманул. Велел витязь ветру подуть обратно, и все комары улетели.
— Отдам я тебе дочь, коли поднимешься на гору стеклянную и сам ее возьмешь.
— Я здесь шило оставил.
— А я его не видел.
Думал витязь, думал три дня и три ночи: что теперь делать? И надумал снова позвать Ветер с юга. И сказал ему ветер:
— Вот что, еще раз сослужу тебе службу. Заберусь на крыльцо дворца царского и стану дуть.
Подул Ветер с юга, дворец зашатался, чуть не обрушился.
— Государь, отдай мне дочь, и ветер дуть перестанет.
— Пусть лучше дворец обрушится, а дочери я тебе не отдам.
Говорит витязь ветру:
— Стань перед самой дверью и дуй прямо в покои.
Сложил ветер губы вчетверо и принялся дуть еще пуще. Царь отскакивал от стены к стене.
— Государь, отдай мне дочь, и ветер дуть перестанет.
— Поднимись на гору стеклянную.
— Отдай мне шило, государь.
— Шило я забросил в середину озера, около корыта, там, где черти водятся.
Царь-то лег на пол и ветер ему был теперь нипочем…
Пошел парень к озеру и увидел чудный замок, чертями выстроенный. Они там клады свои хранили. А на воде плыл домик чудесный, в котором кто-то горько плакал. Сел витязь в ладью и подплыл к домику. А там черти держали в плену царевича и мучили его что ни день.
— Что ты тут делаешь, баде?
— Да вот поймали меня черти, когда я деньги брал, и мучают теперь. А у меня царство великое и прекрасное. Давай брататься.
— Давай.
— Теперь будем побратимами, только беги отсюда, а то полночь близко и черти явятся.
А у нашего витязя еще осталась вода от крещения. Подождал он, пока полночь пробила, явились черти, а он давай на них воду лить.
— Смилуйся, крестник божий, проси, чего угодно, только оставь нас.
— Достаньте шило со дна озера.
Нырнул один черт и достал шило.
— Теперь отнесите нас обоих во дворец царский, и я перестану лить воду.
Черти со страху отнесли их. Говорит витязь:
— Шило, шильце, подними меня на гору стеклянную.
Взлетел он на гору, а там царевна столько по нему плакала, что бадью слез собрала.
Некуда было царю деться, пришлось отдать дочь. Сыграли они свадьбу распрекрасную, а к зиме привез витязь сестру свою и выдал ее замуж за побратима.
Митрофан Опря
 ИОН МУГУРЯНУ
ИОН МУГУРЯНУ

В некотором царстве, в некотором государстве жили были старик со старухой, и было у них сто детей. А спустя некоторое время родился у них еще один.
Все дети имели крестных отцов, все были крещеными, а для последнего не нашелся крестный отец, никто крестить его не хотел.
Посоветовались между собой старик со старухой и порешили, что пойдет старуха по свету искать ребенку отца крестного. Недолго думая, собралась она в путь-дорогу.
Шла старуха, шла и встречает охотника. Рассказала ему о своей беде и спрашивает
— Скажи, охотник, хочешь ли ты быть моим кумом?
А охотник ей в ответ:
— Возвращайся домой, а в воскресенье утром разведи хороший огонь в печи и жди, пока не въедет к тебе во двор телега с волами.
В воскресенье утром, как и сказал охотник, к старикам во двор приехала телега, запряженная волами, а в телеге сидели охотник и его жена.
Распряг охотник волов, пригнал их к яслям и попросил хозяина не давать им кукурузных стеблей, а только корзину с горящими углями; другого корма волы не ели.
Затем вошел охотник к старикам в хату и окрестил им ребенка. Нарекли мальчика Ионом Мугуряну да подарил ему охотник телегу с волами, которые ели горящие угли, ружье, меч и копье, и сказал старику и старухе, что Ион Мугуряну, когда вырастет большим, будет охотником.
Так оно и сталось. Рос Ион Мугуряну не по дням, а по часам, а как вырос добрым молодцем, стал ходить на охоту. Каждый день по утрам уходил, а вечером домой возвращался. Однажды на заре собрался Ион, как всегда, на охоту и говорит своим старикам:
— Дорогие мои родители! Я ухожу на охоту и на этот раз скоро не вернусь; коли увидите, что меня все нет да нет, посмотрите на это копье, которое я втыкаю сейчас в крышу, и если с него будет капать кровь, то знайте, что я мертв. Тогда запрягите волов, сядьте в телегу и никуда не сворачивайте: волы вас сами привезут прямо ко мне.
Сказав это, пустился Ион в путь-дорогу. Лес, где он собрался на этот раз охотиться, был очень далеко, пришлось Иону заночевать в дороге у одного боярина. У боярина этого была дочь. А так как Ион Мугуряну был статным и красивым молодцем, пришелся он по сердцу дочке боярской; но и девица была не из последних, так что Ион, как глянул на нее, почуял занозу в сердце. Не имея ничего против этой любви, родители девушки вскоре сыграли свадьбу. И остался Ион Мугуряну жить в усадьбе боярина.
Жил Ион Мугуряну с дочерью боярской в любви и согласии. Но в народе говорят, нет счастья без несчастья, как нет неба без земли, гор без долин и рек без воды.
Не привык Ион Мугуряну сидеть сложа руки, и уходил он на охоту на весь день, а дочь боярская оставалась дома и от безделья и скуки места себе не находила.
Не раз просила она Иона, чтоб он не ходил на охоту, а сидел бы с нею дома. А Ион Мугуряну отвечал своей жене, что жить без работы не может, и никогда, до самой смерти не оставит любимое дело свое — охоту. Но чтобы она не скучала дома одна, он обещал купить еще одно ружье и брать ее с собой на охоту.
Как услышала дочь боярская слова такие, сильно разгневалась на Иона Мугуряну и сказала:
— Не для того я за тебя замуж выходила, чтобы бродить по лесах? и полям да дичь стрелять. Я боярская дочь, а не черт знает кто.
Ничего не ответил ей Ион Мугуряну на эти слова, но продолжал ходить, как и раньше, на охоту, а дочь боярина по-прежнему оставалась дома, и чахла от скуки да тоски.
Однажды дочь боярская встретилась с богатеем Тэвэлуком и сказала ему, что разлюбила Иона Мугуряну, и коли Тэвэлук его убьет, то она выйдет за него замуж.
Обрадовался богатей Тэвэлук и стал собирать войско несметное; знал он, что Ион Мугуряну человек невиданной силы и убить его не так-то просто.
Вот собрал Тэвэлук войско огромное и повел его на Иона Мугуряну. Подъехал он к его окошку и кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся по доброй воле, а не то — не жилец ты на свете.
Услышал это боярин, тесть Иона Мугуряну, и спрашивает его:
— Скажи, Ион Мугуряну, нужна ли тебе моя помощь, дать тебе мое войско?
А Ион Мугуряну отвечает ему:
— Спасибо тебе, тесть, не нужно мне твое войско, я и один устою перед ратью Тэвэлука.
А Тэвэлуку на улице не терпится, вот он опять кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, по доброй воле, иначе не жилец ты на свете.
Тогда Ион Мугуряну ему отвечает:
— Погоди, не выйду я к тебе, пока не умоюсь.
Сказав это, Ион Мугуряну снял со стены меч и вышел к Тэвэлуку. Бросился он на войско Тэвэлука, взмахнул мечом и скосил одним махом всю рать несметную. Страшно испугался Тэвэлук, задал стрекача, тем и спас свою жизнь.
На вторую ночь собрал Тэвэлук еще большее войско. Приблизился он к окну Иона Мугуряну и крикнул:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся по доброй воле — не уйти тебе от нас живым.
Услыхал это старый боярин, тесть Иона Мугуряну, и говорит ему:
— Дам я тебе, Ион Мугуряну, свое войско, потому что собрал Тэвэлук теперь еще большую рать, чем в первый раз, смотри, как бы он тебя не одолел.
А Ион Мугуряну отвечает ему:
— Спасибо, тесть, мне войско не надобно, я и один устою против Тэвэлука.
А Тэвэлук, потеряв терпение, спять кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся, никуда ты от нас не уйдешь
Тогда ему Ион Мугуряну отвечает:
— Погоди, пока не умоюсь, не выйду.
Сказав это, Ион Мугуряну снял со стены меч и вышел. Бросился он на войско Тэвэлука, взмахнул мечом и скосил всех до единого.
Пуще прежнего испугался Тэвэлук и опять поспешным бегством спас свою жизнь.
Возвратился Тэвэлук домой, но войска уже не стал собирать. На другой день, пока Ион Мугуряну был на охоте, Тэвэлук встретился с дочерью боярской и спрашивает ее:
— Как мне убить Иона Мугуряну? В бою я его не могу победить, он и так почти все мое войско уничтожил.
А дочь боярина отвечает ему:
— Пока ты не отберешь у него волшебный меч, не сможешь его одолеть. Мне его не взять, потому что Ион Мугуряну не расстается с ним ни днем, ни ночью, и даже если он его и повесит на стену — стережет пуще зеницы ока, не отходит от него ни на пядь.
Выслушал Тэвэлук дочь боярскую и говорит ей:
— Иди домой и притворись больной, а я пришлю старуху-знахарку, чтоб она тебя лечила. И когда Ион Мугуряну уснет, она заменит его меч другим, а волшебный меч Иона Мугуряну принесет мне; тогда я его с землей смешаю.
Как договорились, так и сделали.
Вечером, перед приходом Иона Мугуряну с охоты, прикинулась дочь боярская больной, легла в постель и стала охать и стонать.
Вошел Ион Мугуряну в дом, а старуха, присланная Тэвэлуком, встречает его такими словами:
— Слушай, Ион Мугуряну, жена твоя захворала тяжко и выздоровеет она, только если ты ляжешь возле нее.
Подошел Ион Мугуряну к своей жене, поглядел на нее, поглядел и говорит:
— Нет, не лягу я возле тебя, а лягу на завалинке во дворе, не хочу тебя будить, коли снова враг нагрянет.
Как сказал, так и сделал. А утром, проснувшись, ушел на охоту.
Тогда старуха и говорит дочери боярской:
— Этим вечером прикинься, будто тебе еще хуже стало, может он оставит меч на стене и ляжет подле тебя.
Возвратился Ион Мугуряну вечером домой, видит — жена в постели и пуще прежнего охает и стонет. Подошел Ион Мугуряну к жене, долго успокаивал и ласкал ее, но лечь подле нее так и не решился. И опять лег он, не раздеваясь, на той же завалинке, положив меч рядом. Утром, проснувшись, ушел, как всегда, на охоту.
Ничего из задуманного не вышло, и старуха опять принялась поучать боярскую дочь:
— Вечером прикинься, будто и впрямь умираешь, не разговаривай, закатывай глаза, а я приведу с собой еще двух женщин, и, может, нам удастся заставить Иона Мугуряну лечь возле тебя.
Так и сделали.
Вечером, возвратясь с охоты, Ион Мугуряну увидел, что в доме собралось много народа; одни громко причитали, другие охали да ахали. А жена его лежит пластом на постели ни жива, ни мертва, не разговаривает, глаза на лоб закатила. Увидав Иона Мугуряну, все женщины стали его просить, молить:
— Слушай, Ион Мугуряну, жена твоя при смерти; не ест, не пьет, слова не вымолвит. Ложись возле нее — может ей полегчает немного и станет она разговаривать, а ежели ты этого не сделаешь, то знай, что не дожить ей до утра.
Послушался их на этот раз Ион Мугуряну, разделся, повесил меч на стену и лег возле жены. А старуха, присланная Тэвэлуком, схватила быстро меч и повесила на его место другой. Потом она незаметно вышла из дому и принесла Тэвэлуку меч волшебный.
Наутро проснулся Ион Мугуряну и сразу увидел, что меч подменили; тут он понял, что его волшебный меч попал в руки к врагу — Тэвэлуку. Опечалился сильно Ион Мугуряну, но, подумав, решил: "Будь, что будет — стану драться с Тэвэлуком и этим мечом".
Видит боярин, что Ион Мугуряну такой опечаленный и говорит ему:
— Соберу я, Ион Мугуряну, тебе свое войско, потому что скоро должен прийти со своей ратью Тэвэлук, и как бы он не убил тебя.
Выслушал Ион Мугуряну тестя, но помощи его не захотел принять.
А Тэвэлук тем временем собрал опять войско большое и повел его к дому Иона Мугуряну. Подошел Тэвэлук под окно и кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, да сдавайся по доброй воле, не то не жить тебе на свете.
Отвечает ему Ион Мугуряну:
— Погоди, вот умоюсь и выйду.
Сказав это, он взял меч и вышел к Тэвэлуку.
Обрушился Тэвэлук со своим войском на Иона, и завязалась битва жестокая. Долго дрался Ион Мугуряну с войском Тэвэлука, многих воинов уложил он на месте, дрогнули воины Тэвэлука, не выдержали натиска и стали разбегаться кто куда, чуя свой смертный час. Увидел это Тэвэлук, бросился к Иону Мугуряну с волшебным мечом и разрубил его на куски.
Одержав победу, Тэвэлук увез дочь боярина, решив вскоре сыграть свадьбу.
А боярин собрал в чан изрубленное тело Иона Мугуряну и положил в холодный погреб, чтобы сохранить в свежести.
В это время отец Иона Мугуряну вышел из своего дома во двор и вдруг видит: из копья кап! кап! — падают капли крови.
Понял все отец Иона Мугуряну, быстро вбежал он в дом и рассказал об этом жене своей; не медля, они тут же запрягли волов, сели в телегу и поехали. Ни направо, ни налево не сворачивали и вскоре подъехали к усадьбе боярина. Соскочил отец Иона Мугуряну с телеги и спрашивает боярина:
— Где Ион Мугуряну?
А боярин печально отвечает ему:
— Покажу ли я тебе его или нет — все равно, потому что он мертв, да еще на кусочки изрублен.
Отвечают боярину отец и мать Иона Мугуряну:
— Отдай нам хотя бы куски изрезанного тела. И нам, и волам очень жаль Иона Мугуряну и тяжело пережить такое горе.
Открыл боярин погреб, а отец Иона Мугуряну взял чан с кусками разрубленного тела и вынес во двор и поставил перед волами. Волы подули раз, другой, третий на разрубленные куски тела, и Ион Мугуряну стал медленно, медленно воскресать. Ожил Ион Мугуряну, но сразу же обернулся в красивого коня. И приказал Ион Мугуряну отцу своему отвести его на базар и продавать лишь тому, кто осыпет его золотом с ног до головы.
Так и сделал отец, как приказал Ион Мугуряну.
Собравшиеся вокруг чудесного коня богатые купцы не могли налюбоваться им, но никто не мог его купить, потому что не имел столько золота.
Только богатей Тэвэлук, как увидел коня, сразу осыпал его золотом и купил.
Привел Тэвэлук коня домой и поставил в конюшню, а сам поспешил поскорей в дом и говорит жене:
— Слушай жена, если бы ты видела, какого дивного коня я купил сейчас.
А жена ему отвечает:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не увижу.
Пошла она на конюшню коня посмотреть. Оглядела его со всех сторон, даже на копыта взглянула и, возвратившись в дом, говорит своему мужу:
— Это Ион Мугуряну конем обернулся. Коли ты его не уничтожишь, не жить нам на свете
А Тэвэлук ей отвечает:
— Если это правда, то до утра и пепла от него не останется.
Этот разговор слышала служанка Тэвэлука. Чуть погодя отправилась она на конюшню поглядеть на коня и, увидев, как он красив, сказала:
— Гляди, какой чудесный конь, а они говорят, что до утра пепел его развеют.
Услыхал конь эти слова и спрашивает ее:
— Что ты сказала, девушка?
— Боярин и боярыня между собой говорят, что до утра пепел твой развеют.
Тогда конь вырвал из гривы два волоска, дал девушке и говорит:
— Возьми эти два волоска и, если меня убьют, посади один из них у одного угла дома, а другой — у другого.
Ночью Тэвэлук убил коня, сжег его, а пепел развеял. Утром, когда он проснулся, то увидел, что по углам дома из волос, посаженных работницей, выросли две красивые ветвистые яблони.
Увидел эти яблони Тэвэлук, поспешил в дом сообщить жене, а та ему говорит:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не увижу их своими глазами, потому что это Ион Мугуряну яблонями обернулся.
Вышла она во двор, посмотрела на деревья, а когда возвратилась в дом, сказала мужу:
— Посмотри-ка туда, где гуще листва на дереве: там его глаза. Это Ион Мугуряну превратился в деревья. Он следит за нами, и коли ты его не уничтожишь — ждать нам смерти неминучей.
Тогда Тэвэлук говорит ей:
— Не беспокойся жена, коли это правда, то до утра и пепла от него не останется.
А работница слышала весь этот разговор и, выйдя во двор, подошла к деревьям и говорит:
— Погляди-ка, какие ветвистые и красивые яблони, а боярин сказал, что до утра от них и пепла не останется.
Как услышали яблони эти слова, сорвали они два яблока, протянули их работнице и сказали:
— Возьми эти два яблока, и, как только нас спилят, брось их в сад боярина.
На следующую ночь Тэвэлук спилил оба дерева, сжег их и пепел развеял.
Проснулся Тэвэлук утром и видит, что из яблок, брошенных работницей, откуда ни возьмись, вырос в саду прекрасный монастырь. Как увидел Тэвэлук этот монастырь, поспешил опять к жене и рассказал ей, а она ему в ответ:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не пойду и не погляжу. Это никак опять Ион Мугуряну монастырем обернулся.
Выбежала она из дома в сад, подошла к монастырю, обошла его несколько раз, оглядела хорошенько, даже внутрь заглянула и, возвратившись домой, сказала мужу:
— Я видела человеческие глаза в лампадке, глаза Иона Мугуряну. Это он, и никто иной обернулся монастырем и следит за нами. Если его не уничтожишь, не жить нам на свете.
— Не беспокойся жена, коли так, то я до утра уничтожу монастырь и пепел его развею.
И на этот раз работница оказалась в доме и подслушала их разговор; побежала она в сад и, подойдя к монастырю, сказала:
— Какой монастырь красивый, а боярин говорит, будто до утра уничтожит его и пепел развеет.
Услыхал монастырь слова работницы, вырвал две доски, протянул их ей и говорит:
— Возьми эти две доски и, как только меня подожгут, быстро беги к Днестру и брось их в воду.
Ночью Тэвэлук сжег монастырь и пепел его развеял.
На другой день утром, когда Тэвэлук и его жена проснулись и увидели, что на этот раз Ион Мугуряну нигде не объявился, радости их не было конца. Не ожидая больше преследований со стороны Мугуряну, они в полдень пошли к Днестру, купаться.
Подошел Тэвэлук с женой к берегу Днестра, а возле самого берега плывут две красивые-красивые утки.
Понравились очень боярыне эти две утки, и говорит она Тэвэлуку:
— Слушай, муженек! Разденься быстренько и поймай мне этих уточек. Уж очень они мне по душе пришлись.
Снял с себя Тэвэлук меч волшебный, разделся и пустился вплавь за утками. Утки спокойно продолжали плавать, подпустили к себе Тэвэлука близко-близко, но только он протянул руку, как они мигом отплыли. Снова Тэвэлук погнался за ними, и опять утки подпустили его близко-близко, а как только он протянул к ним руку, мигом отплыли от него. Так продолжалось долго, утки подпускали к себе Тэвэлука, потом удалялись, пока не завлекли его на самое глубокое место. А как достиг Тэвэлук глубины, одна утка взметнулась в воздух и быстро полетела к берегу. Только она опустилась на землю, как превратилась в Иона Мугуряну. Взял витязь волшебный меч в руки и говорит:
— Не умер Ион Мугуряну — жив он еще!
Зарубил Ион Мугуряну Тэвэлука и дочь боярина и тела их бросил в Днестр. Потом возвратился в усадьбу Тэвэлука и женился на работнице. И стали они жить-поживать, добро наживать, лихо забывать.
Вскоре родился у них ребенок, и устроили они пир на весь мир. И я там был, даже вино пил, по усам текло, а в рот не попало.

 БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА О ДВУХ ДЕВИЦАХ
БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА О ДВУХ ДЕВИЦАХ

Жили-были старик со старухой, и имели они двух дочерей. Одна дочь была старика, а другая — старухи.
Жили они, жили, да вдруг и опомнились, что дочери уже совсем взрослые и пришло время выдать их замуж. Стали старик со старухой по ярмаркам ходить, разные вещи покупать, приданое дочерям готовить. Старуха все о своей дочери заботилась, а о падчерице ей горюшка мало. То купит для своей доченьки платье, то муслиновый платок, то пештиман
[30] или бусы, — что на глаза попадется, но с пустыми руками никогда не возвращалась. А дочь старика глядит на эти подарки и горько ей и больно становится.
Видя такую несправедливость, старик однажды не вытерпел и разругался со старухой. Но старуха была чертовски хитра. На другой день пошла она на базар и купила обеим девушкам орехи, чтобы старику очки втереть. А как только пришла домой, своей дочери дала много орехов, а падчерице — только один; села дочь старухи орехи щелкать, от радости смехом заливается, а дочь старика грустно глядит на свой единственный орех. Что же ей с таким добром делать? Взяла она да и закопала орех в землю, чтоб дерево выросло, а сама сидит над ним и слезы льет. Так она каждый день к своему ореху приходила, слезами поливала. И выросло вскоре большое красивое ореховое дерево. Прошло еще некоторое время, и дерево начало плодоносить: красуются на ветвях большие орехи с крепкими ядрами, да только дочь старика могла плоды срывать. Стоило дочери старухи подойти к дереву, как ветки поднимались, и она никак не могла дотянуться до них.
По воскресным дням дочь старухи наряжалась, как только могла, и шла с матерью в церковь, надеясь приглянуться кому-нибудь из парней. Уж очень она боялась, как бы сводная сестра не опередила ее. А дочь старика всегда дома оставалась, обед стряпала, за скотом ходила, в доме прибирала, птицу кормила, — одним словом, делала все работы по хозяйству. И все она должна была успеть, а чуть чего не сделает, так ей крепко за это попадало: колотила ее нещадно проклятая старуха! Но падчерица была такая проворная, что всегда кончала работу к выходу народа из церкви, и старуха никак не могла найти предлог, чтобы придраться к ней. С каждым днем падчерица становилась все красивее и проворнее. Была она румяной и пригожей, такой красавицей, что любо-дорого поглядеть. Очень это не нравилось старухе. Вот она и лезла из кожи вон, все приискивая какой-нибудь предлог, чтобы поколотить да покалечить падчерицу, и, наконец, придумала, как это сделать.
Однажды воскресным утром, перед тем, как пойти со своей дочерью в церковь, рассыпала старуха на чердаке мешок пшеницы, смешала ее с золой, и велела падчерице собрать пшеницу по зернышку в мешок, состряпать обед, присмотреть за скотом, прибрать в доме, накормить птицу — и все это выполнить до ее возвращения из церкви.
Видя такую несправедливость со стороны родных, особенно со стороны старухи, горько заплакала бедная девушка: как ей было выбрать из золы пшеницу по зернышку да еще вдобавок выполнить все другие работы до возвращения старухи?
Но делать было нечего. Взобралась она на чердак и начала пшеницу по зернышку из золы выбирать. Перебирает она так, перебирает зерна и горькими слезами заливается. В это время прилетели к ней два орла, поглядели на нее и спрашивают:
— О чем ты плачешь, дитя, о чем горюешь?
А дочь старика им отвечает:
— Как мне не плакать, как не горевать, орлята мои, когда на меня свалилось столько бед и несчастий. А теперь мне велели еще и эту пшеницу перебрать и по хозяйству управиться.
Говорят ей тогда орлы:
— Не плачь, милая девушка, не горюй. Ступай другую работу делать, а мы переберем тебе всю пшеницу в мешок, ты только приди и завяжи его.
Поблагодарила их дочь старика от всей души и пошла по хозяйству управляться. И так как была она очень трудолюбива и старательна, то вскоре всю работу и сделала. А в церкви тем временем богослужение еще продолжалось. Это очень обрадовало дочь старика, и помчалась она в сад поглядеть на свой орех. Только она к нему подошла, как дерево вдруг раскололось пополам, и — о, чудо! — внутри его лежали груды всевозможного девичьего убранства: бусы, кольца, золотые серьги, платье, пылающее, как солнце, платье, сияющее, как утренняя заря, платье светящее, как луна, платье, сверкающее, как звезды, дивные цветы…. Стоит она так, как зачарованная, и глядит на все эти украшения, а дерево ей говорит человеческим голосом:
— Надень платье, сверкающее, как звезды, нарядись во все самое красивое, возьми букетик цветов в руки и ступай в церковь. И дай всем, кто там будет, по цветку, только старухе и ее дочери ничего не давай.
Так она и сделала.
Как только она вошла в церковь, все взоры к ней устремились, все стали ее осматривать со всех сторон, так как ни одна другая девушка не была так наряжена и так красива, как она, и только звезды могли бы с ней сравняться.
Войдя в церковь, она раздала всем по цветку, а проходя мимо старухи и ее дочери, даже не взглянула на них.
Незадолго до конца богослужения дочь старика незаметно вышла из церкви и побежала домой, чтобы ее никто не увидел. Дома она разделась, повесила платье в орех и снова надела свою старенькую, поношенную одежду. Затем поднялась на чердак и, когда остальные возвратились домой из церкви, она, как ни в чем не бывало, мешок перевязывала.
Весь день кругом только и разговору было, что о девушке, появившейся в церкви: какое у нее платье, сверкающее, как звезды, да какая она красавица — другой такой, мол, не сыскать во всем мире. Об одном сожалела дочка старухи, что та девушка, которая была, небось, царевной, всем подарила по цветку, а ей — нет. А дочка старика радовалась от души, слушая это, и думала: "А как бы вы заговорили, коли б узнали, что это я была?"
На следующее воскресенье старик, старуха и ее дочь снова пошли в церковь, а все работы поручили сделать дочке старика. И была бы лишь в этом беда! Но мачеха опять рассыпала по двору мешок с пшеном и приказала ей собрать его по зернышку до их прихода из церкви, иначе не сдобровать ей.
Видя, что опять ей задали работу непосильную, стала дочь старика горько плакать и стонать. В то время, как она так плакала, прилетело несколько голубей. Узнав, что с ней приключилось, они ей велели заняться другими делами, говоря, что сами соберут пшено по зернышку, а ей останется только мешок перевязать.
На этот раз девушка закончила работу намного раньше, чем в прошлое воскресенье, и побежала в сад к ореху. Как только она подошла к нему, раскололось
дерево пополам, и она вновь увидела бесподобное девичье убранство. Глядит девушка, как зачарованная, на все эти украшения, а дерево ей говорит человеческим голосом:
— Надень платье, сияющее, как утренняя заря, нарядись покрасивее, шею и руки укрась камнями драгоценными и ступай в церковь.
Девушка так и сделала.
Войдя в церковь, она, как и в прошлый раз, всем подарила по цветку, а проходя мимо старухи и ее дочери, даже не взглянула на них. Когда она сидела в церкви, все, особенно холостяки, глаз от нее оторвать не могли и все спрашивали друг друга: "Кто же эта красавица?" Но никто не знал, и это было ее счастье, потому что все это кончилось бы печально для бедняжки: ей ведь строго-настрого запретили показываться среди людей. Не ожидая и теперь окончания богослужения, она незаметно вышла из церкви и побежала домой. Дома она разделась, положила платье на место в дерево, которое снова сомкнулось. Затем дочка старика одела свои будничные одежды и побежала поглядеть, не надо ли еще чего по хозяйству сделать. Вскоре пришли и остальные из церкви и застали все в полнейшем порядке, даже пшено было собрано в мешок до последнего зернышка. Старуха никак не могла надивиться и все гадала, как это падчерица успевает все сделать, но более всего ее удивляло, что у девушки совсем не усталый вид после такой тяжелой и изнурительной работы.
Как только дочка старика увидела, что они возвратились из церкви, сейчас же накрыла на стол. За столом опять зашел разговор о девушке, что в церковь явилась и на этот раз была одета в светлое платье, цвета утренней зари, и все думали-гадали, кто она такая.
Более всех удивлялись холостяки, особенно тому, что из церкви девушка выходила обыкновенно раньше всех, и потому они теряли ее из виду, не знали, в какую сторону она скрывается. И вот однажды они собрались, чтобы посоветоваться между собой, как им узнать, кто эта раскрасавица, посещающая церковь. Посоветовавшись между собой, порешили, что в будущее воскресенье, после прихода девушки в церковь, они смажут порог церкви смолой, а когда она будет уходить, то нога ее завязнет в смоле и туфелька приклеится к порогу; затем тот из них, кто найдет туфельку, будет ее примерять всем девушкам села: на чью ногу она налезет, та девушка и есть владелица туфельки.
Как решили, так и сделали.
В следующее воскресенье старик, старуха и ее дочка нарядились и снова в церковь пошли. Перед самым уходом старуха задала падчерице работу по дому, чтобы на целый день хватило, да, кроме того, рассыпала по всему двору мешок мака, сказав, что коли она не управится со всеми делами и не соберет в мешок весь мак до единого зернышка, пусть пеняет на себя — шкуру с нее спустит.
Теперь старуха и ее дочь были безмерно рады, так как заранее знали, что дочь старика не сумеет собрать весь мак, и тогда вольно им будет поколотить бедную и поиздеваться над нею; давненько уж они ее не колотили, и поэтому дочка старика росла красивой и крепкой, а старухе и ее дочери это не нравилось.
Когда увидела бедная девушка, сколько маку рассыпано по всему двору, стала горько плакать и стенать. Где уж ей было такую работу выполнить, да еще в столь короткий срок. Но делать было нечего! Принялась она за дело, и закипела работа в ее руках. Работает она, работает, вдруг видит, кружится над ней стайка воробьев; покружились они, покружились да и спрашивают человеческим голосом:
— О чем ты плачешь, деточка, о чем горюешь?
Отвечает им дочь старика:
— Как мне не плакать, как мне не горевать, воробьи-воробышки, когда столько бед и несчастий на мою долю выпало: А теперь мне еще велено весь этот мак собрать и всю работу по хозяйству сделать.
Утешили ее воробьи:
— Не плачь, милая, не горюй. Иди другую работу делай, а мы соберем тебе весь мак со двора. Ты только завязать мешок приходи.
Сделала так дочка старика, как ей велели воробьи, и вскоре управилась по хозяйству. В церкви богослужение еще продолжалось. Дочка старика очень обрадовалась, что и в это воскресенье пойдет в церковь и побежала в сад к дереву. Еще не успела она хорошенько приблизиться к ореху, как он уже раскололся пополам, и она опять увидела перед собой различные украшения. Стоит она так и ждет, что ей велит орех, а он и заговорил человеческим языком:
— Надень платье лунного сияния, возьми украшения богатые и ступай в церковь. Когда будешь выходить из церкви, то у тебя завязнет в смоле туфелька и останется там. Ты ее не вытаскивай, а кинь в нее свое кольцо.
Так она и сделала: нарядилась и отправилась в церковь. Войдя в церковь, она подарила всем по цветку, а когда проходила мимо старухи и ее дочери, даже не взглянула на них. На этот раз все люди, особенно холостяки, смотрели на нее пуще прежнего, так как она была еще красивее, еще наряднее. Ее платье сияло, как луна. Все неженатые парни даже службу в церкви не слушали, а только и делали, что глядели на нее во все глаза — так она их всех очаровала своей красотой. Не ожидая и теперь конца богослужения, она опять вышла раньше, чтобы никто не заметил ее ухода. Но при выходе из церкви, на пороге, левая нога завязла, а когда она сделала попытку вытащить ее, туфелька пристала к смоле. Тогда она сняла кольцо с пальца и кинула его в туфельку, а сама быстро побежала домой.
Туфельку вместе с кольцом поднял сын боярский. Недолго думая, он сразу пошел по селу из дома в дом, примеряя туфельку девушкам, думая найти красавицу и посватать ее.
Вышел народ из церкви, пришли домой и старик со старухой и ее дочерью и застали дочь старика в старом заплатанном платьице. Она как раз мешок с маком завязывала. Опять все удивились проворству девушки! Как она сумела все сделать к сроку? Завязав мешок, она подала к столу и, отойдя несколько, стала в стороне. Как служанка глядела она, как родичи пируют да слушала их рассказы о прекрасной незнакомке: как она пришла в церковь еще более красивая и нарядная, чем прежде, как потеряла туфельку, найденную сыном боярским, и что теперь, мол, он обходит все дома в селе в поисках девушки, на ногу которой налезет туфелька. Ее-то он и посватает.
Услышав эти слова, дочь старика вначале сильно испугалась, так как боялась, чтобы старуха с дочерью не убили ее, когда узнают, что именно она та девушка, но потом приободрилась и подумала: "Авось удастся выпутаться и на сей раз".
Поднявшись со стола, старуха посоветовала своей дочери обтесать себе ногу, чтоб стала поменьше, ибо туфелька была очень мала, а нога старухиной дочери — велика да безобразна. Как только мать сказала это своей дочери, та принялась сейчас же тесать себе ногу. Тешет, тешет, а в это время вошел сын боярина в их дом. Увидела его старуха и забегала по комнате как угорелая, не зная, куда усадить свою дочь, чтобы на показ ее выставить, а падчерицу спрятала в сенях за дверью, дабы сын боярский не примерил туфельку и ей: вдруг, не приведи господь, окажется ей туфелька впору. А в сенях на шестке волшебный петух сидел и все это видел.
Дочь старухи уже приготовилась, сидит на лавке, выставила обтесанную ногу, и ждет прихода парня, чтобы примерить туфельку. Только вошел сын боярский с туфелькой в руке, а она уж ногу сует; примерили туфельку — не лезет, еще раз попробовали — не тут-то было. Тогда бросилась сама старуха туфельку ей надевать, но все напрасно — не налезает туфелька на дочкину ногу. А тут вдруг волшебный петушок в сенях как закричит:
— Кукареку! Дочь старика сидит в сенях за дверью.
Услышав слова петуха, старуха сильно перепугалась, как бы парень не нашел падчерицу и не примерил ей туфельку, бросилась в сени и кричит: "Кыш! Чтоб тебя черт побрал, пакость!"
Затем взяла кочан и швырнула в него. Петух притих, но как только старуха вошла в дом, снова закукарекал:
— Кукареку! Дочь старика сидит в сенях за дверью.
Старуха быстро выскочила в сени и начала кричать на петуха: "Кыш! Чтоб тебя черт побрал, пакость!"
Только на этот раз услышал его сын боярский и бросился в сени поглядеть, верно ли кричал петух. Выглянул в сени и видит: сидит за дверью дочь старика. Подозвал он ее к себе и примерил туфельку. А туфелька как вылитая на ноге, будто по ней сшита. Чтобы убедиться, что именно она владелица туфельки, он вынул из кармана то кольцо, которое нашел в туфельке, и примерил на средний палец левой руки — и кольцо, как и туфелька, пришлось как нельзя лучше.
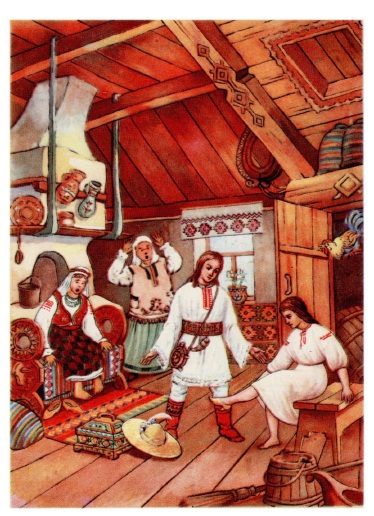
Затем сын боярина спросил ее, откуда к нее такие туфельки и платья и где вторая туфелька? Тогда дочь старика ему все рассказала: как издевались над ней старуха и ее дочь, как ее оставляли по воскресным дням дома, как заставляли ее работать, как она выполняла эту работу, а потом наряжалась и шла в церковь.
Парень выслушал ее и молвил:
— Видишь, моя милая! Тот, кто машет руками, не тонет, а быстрее добирается к берегу! Ты оказалась трудолюбивой и старательной, потому тебе положено раньше выйти замуж. Хочешь быть моей женой?
Дочь старика очень смутили такие речи, и она ему ни слова не ответила. Понял парень ее молчание и попросил ее руки у родителей. Те поначалу и слушать не хотели и стали уговаривать молодца взять дочь старухи, мол, она раньше должна выйти замуж. Да сын боярский и глядеть не захотел на дочь старухи, и родителям пришлось согласиться и отдать ему в жены дочь старика.
На следующее воскресенье дочь старика надела платье, пылающее, как солнце, и повенчалась с сыном боярина, а дочь старухи осталась доживать свой век в доме стариков.
После венчания сыграли и свадьбу. Шафера село обегали, всех на свадьбу позвали, только старуху и ее дочь не пригласили.
Счастливо зажила дочь старика со своим мужем после свадьбы, и прожили они так целый год. Но вот случилось так, что муж ее должен был уехать куда-то по делу. А старуха и ее дочь, ставшие посмешищем всей округи, все время искали случая отомстить дочери старика. И решили они переодеться нищенками, проникнуть к ней в дом, и, пока муж в отъезде, отомстить бедняжке.
Так они и сделали. Переоделись в лохмотья и пошли к дочке старика. Подошла старуха к калитке и говорит:
— Осиротели мы бедные и ходим по миру с сумой нищенской. Вот стемнело, а нам негде голову на ночь прислонить. Сжалься над нами, никогда мы твою милость не забудем, вечно будем бога молить за твое здоровье.
Дочь старика имела доброе сердце и впустила их в дом переночевать. Но ночью они проснулись, когда хозяйка спала, и разрезали ее на кусочки. Даже изрезанная дочь старика, как засмеялась — цветы выросли, как заплакала — алмазы посыпались из глаз.
В это время шел мимо человек и вдруг видит — в окне то цветы показываются, то алмазы сверкают. "Что за чудо!" — подумал прохожий и вошел в дом. А дочь старика, изрезанная на кусочки, как увидела его, стала просить, чтоб отнес ее к волшебному ореху. Сделал тот человек так, как его просила дочь старика. Понес ее к дереву, а дерево, как увидело ее, сразу раскололось, пополам. Внутри его оказались разные целебные воды и травы. Обратился тогда орех к доброму человеку и сказал, чтоб он взял живую воду и окропил дочь старика. Как только он ее окропил, красавица в тот же миг воскресла, только была она еще очень слаба, на ногах не держалась. Но орех ей дал две былинки, съела она их, и силы к ней вернулись. Потом она вынула из ореха нитку жемчуга и подарила доброму человеку в благодарность за то, что тот спас ее от смерти. Человек взял подарок и пошел своей дорогой. Затем, когда дочь старика осталась одна, орех велел ей надеть поношенное платье и немного времени спустя пойти к своему мужу и наняться в работницы.
Тем временем муж вернулся домой да вместо настоящей жены встретила его старухина дочь. Только он ее не узнал, ибо она переоделась в платье дочери старика и украшения ее надела. Успел только муж заметить, что жена бездельничает весь день-деньской, а в доме не подметено и не прибрано. Но тут же подумал, что пока сам он по делам ездил, жена тосковала по нем и работать разучилась.
Однажды пришла к ним нищенка и стала просить:
— Возьмите меня в прислуги.
Обрадовалась ей очень дочь старухи, но еще больше обрадовался сын боярский, так как видел, что жена разучилась работать и без прислуги теперь не обойтись. Нищенку — а это была дочь старика — приняли на работу без долгих разговоров. Управлялась она со всем хозяйством — и обед стряпала, и в доме прибирала, и полы натирала, и птиц кормила, и ягнят пасла. А старуха и ее дочь бездельничали, ели да пили да в мягких постелях почивали.
Вот наступило воскресенье, и велели они прислуге плацынды испечь. Состряпала та плацынды и в одну положила то кольцо, которое когда-то оставила в туфельке, на пороге церкви. Посадив блины в печь, отправилась прислуга гусей пасти.
Вот хозяйка отодвинула заслонку, чтобы посмотреть, не спеклись ли плацынды, и муж вдруг увидел в печи какой-то непонятный блеск. Спрашивает он жену:
— Слушай, жена, что это?
А та ему отвечает:
— Что-то такое блестит в одной плацынде. Никак прислуга что-то в ней запекла.
— Что за диво, ну-ка давай посмотрим!
Вынули они из печи плацынду, разломили ее, и увидел хозяин то кольцо, которое нашел тогда в туфельке. Спрашивает он тогда жену, чье это кольцо, а та опять ему отвечает — служанкино, мол. Тогда он понял, что служанка и есть его настоящая жена, с которой он обвенчался, и мигом побежал к ней на луг, где гуси паслись.
Приблизившись к ней, он взял два камня, начал тереть их один о другой и приговаривать: "Терпи камень столько, сколько терпел и я, а если не можешь, то тресни, как и я чуть не треснул". Так он дважды повторил, а когда произнес это в третий раз, кинулся к ней, заключил ее в объятья и начал ее целовать и плакать, приговаривая: "Дорогая моя, милая моя! Ты была моей женой, ты и останешься ею!"
Тут дочь старика и рассказала ему всю правду, как было дело.
Возвратились они домой, взял муж старуху, привязал ее к хвосту скакуна, быстрого, как ветер, погнал коня на все четыре стороны. И там, где ударялась старуха оземь ногой, появлялись овраги, где спиной — буераки, а где головой — красные маки.
А дочь старухи вывел боярин во двор, повел ее на середину села и сказал: "Да не будет тебе покоя ни в земле, ни под землей!" Только он слова эти вымолвил, разверзлась земля и поглотила ее по самую шею, только голова над землей осталась. Завидев ее, прохожие шарахались и обходили стороной.
Тут и сказки конец,
Кто слушал — молодец.
А я сел на колесо
И поведал вам все,
Да коня оседлал,
И чуть-чуть вам соврал
[31].

 УМНАЯ ДЕВИЦА
УМНАЯ ДЕВИЦА

Жил-был царь, и имел он единственного сына. Рос царевич не по дням, а по часам. Царь и не заметил, как вырос сын большим, красивым и смелым. Только был он, бедняжка, с изъяном: глуп, как темная ночь.
И вот задумал царь женить своего сына. Оповестил он народ, что ищет царевичу невесту, только, мол, должна она быть умнейшей во всем мире девицей. Вскоре узнал царь, что в далеком селе проживает бедный человек, единственная дочь которого так красива и умна, что нет ей равной на земле. Решил тогда царь послать к ней гонца, которому приказал:
— Как найдешь девицу, передай, что я ее прошу пожаловать ко мне — ни пешком, ни верхом, ни по воздуху, ни по земле, ни с гостинцем, ни без гостинца, ни раздетой, ни одетой.
Вскоре явился гонец к девице и передал слова царя. А девица ему в ответ:
— Поняла я слова царя и прибуду к нему так, как велено.
Возвратился гонец к царю и докладывает:
— Нашел я девицу, к которой ты меня послал. Готовься, мудрейший царь, к встрече, она пожалует не мешкая.
Долго раздумывал царь, как встретить гостью, и с нетерпением ждал ее прихода, чтобы посмотреть, как она выполнит его повеление.
А девушка, как только ушел гонец, крепко задумалась: что делать и как быть, чтоб царю угодить и явиться к нему, как велено.
Поймала она голубя, завязала его в платочек, чтоб не явиться к царю без гостинца. Затем разыскала сетку, сшила себе из нее одежду, села верхом на хромого зайца и пустилась в путь.
Тем временем царь и его придворные вышли на дорогу невесту встречать. Да вдруг видят: движется к царству странное чучело, ни мужчина, ни женщина, ни верхом, ни пешком, ни по земле, ни по воздуху, ни голое, ни одетое, ни с гостинцем, ни без гостинца. Как глянул гонец, посланный с повелением царя, сразу узнал в чучеле ту самую девицу, которую царь к себе пригласил.
Приблизилась девица к царской свите, а царь ее и спрашивает:
— Кто ты и откуда путь держишь?
— Я та девица, которую ваше величество пригласили в царский дворец.
Подивился царь и снова спросил:
— А зачем ты так нарядилась?
Отвечает ему девица:
— Ведь вы ж мне сами велели, ваше величество, явиться: ни верхом, ни пешком, ни по воздуху, ни по земле. Так я и сделала.
Царь окинул ее пытливым взглядом и сказал, еще более удивляясь ее мудрости:
— Хорошо, хорошо, что ты так пришла. А что у тебя в руке?
— В руке у меня гостинцы, как вы велели, ваше величество. Пожалуйста, получайте.
Но едва царь протянул руку принять гостинец, как девица развязала платочек, и голубь взмахнул крыльями и умчался ввысь.
Тогда царь ее спрашивает:
— Что же это за гостинец?
— Вы ведь так велели, ваше величество, — ответила девица. — Явиться ни с гостинцем, ни без гостинца.
Убедился тут царь, что девица очень умна и хитра, и что явилась именно так, как он велел.
— Пойдем в дом и сядем к столу, — сказал он девице.
Вошли они в дом и сели к столу. В то время, как они ели и пили, царь сказал девице:
— Если ты так умна, посмотри-ка, сможешь ли выполнить еще одно мое повеление. У меня единственный сын, которого я хочу женить, и если ты сделаешь так, как мне угодно, я женю его на тебе.
Подумала девица и ответила:
— Может я и выполню ваше повеление, ваше величество, но пусть прежде пожалует сюда ваш сын, хочу взглянуть на него и поговорить с ним.
Велел царь позвать сына. Поглядев на царевича и поговорив с ним, девица подумала про себя, что его впору только в телегу запрячь, а не на ней женить. А царь говорит девушке:
— Милая девица, это мой сын. Мое царство тебе ведомо. Все оно перейдет к нему. Если сделаешь то, что я тебе велю, я тебя выдам замуж за него.
Взял царь три катушки ниток, дал их девушке и сказал:
— Видишь эти катушки? Смастери из них столько одежды, чтобы хватило для всего населения страны.
Взяла девица все три катушки и ответила царю:
— Я могу, ваше величество, выполнить ваше повеление, да не хватает мне пустяка: работать мне нечем, инструмент-то я дома оставила. Пусть мне сын вашего величества изготовит инструменты, да из того материала, который я ему дам, а не из того, что ему бы хотелось.
Тут она вырвала из веника три прутика и протянула их царю, говоря:
— Давно я ищу жениха, и сколько их приходило, никто мне не был по душе. Ну а сын вашего величества, потому что он царский сын, сможет стать им, если, конечно, он выполнит ту работу, которую я ему задам.
С тех пор и поныне царский сын все мастерит инструменты и никак не может закончить работу. Из-за этого и девица не смогла выполнить повеление царя. Царь постарел и так и не женил своего сына на умной девице. А девица вышла замуж за парня бедного, но умного и трудолюбивого
А царевич еще и поныне ищет себе невесту, но никто за него выйти не хочет, видя, до чего он глуп.

 СКАЗКА О ЖАДНОМ ВОЛКЕ
СКАЗКА О ЖАДНОМ ВОЛКЕ

Видать, было когда-то так на свете, а коли не было бы, не сказывали бы сказку эту. Рыскал однажды по лесу серый волк в поисках добычи. Долго брел он так, пока не набрел на стадо заблудившихся овец. Подошел волк к овцам и говорит:
— Овечки, овечки, я вас съем.
— Почему, волк? Какое мы тебе зло сделали? — спросили его овцы.
— А потому, что я голоден, овечки. Тогда овцы ему отвечают:
— Волченька, серенький! Уже более двух недель прошло с тех пор, как мы отбились от стада и пастух не может нас разыскать. А мы все — ярочки. Весной у нас будут ягнята. Ты лучше попаси нас до тех пор. И весной, когда мы окотимся, хватит тебе баранинки на целый год. А мясо молодых ягнят куда слаще мяса старых овец.
Стоит волк, слушает эти слова и думает:
"А и верно говорят овцы. Не придется мне впредь голодать. Круглый год буду питаться молодой баранинкой. Так я и сделаю…".
Только волк это подумал, откуда ни возьмись, появился пастух с толстой дубинкой в руках и, завидев волка, ринулся на него. Но волк не стал мешкать и пустился наутек. Долго бежал он, пока не очутился на другом конце леса; отдышавшись, он вновь побрел искать себе пищу.
Бредет волк по лесу, вдруг видит: стоит у дуба супоросная свинья и желуди ест. Сильно обрадовался волк, увидев свинью, и уже было совсем приготовился разорвать ее, но тут свинья ему говорит:
— Волченька, серенький! Вижу, ты едва не валишься с ног от усталости и голода. Ты ищешь добычу, а добыча вот она — перед тобой. Давно уж я блуждаю по этому лесу, и была бы очень рада, если бы нашелся какой-нибудь хозяин, который взял бы меня к себе, потому что не сегодня-завтра я приведу на свет поросят… Возьми меня к себе, волк, а я тебе буду приносить каждый год двенадцать поросят, и ты будешь круглый год есть их мясо молодое.
Слушает волк, слушает речи эти и про себя думает: "А и верно говорит свинья. Не придется мне впредь голод терпеть. Всегда у меня будет мясо молодых поросят. К тому же и свинья будет в хозяйстве…"
Не успел волк так подумать, как вдруг, откуда ни возьмись, появился человек с ружьем и прицелился в него — вот-вот выстрелит. Видать, это и был хозяин свиньи. Как увидел его волк, пустился наутек, только пятки засверкали.
Долго бежал волк по лесу, пока не свалился с ног от усталости и голода. Лег он на землю и отдыхает. Отдыхал волк, отдыхал и снова пошел добычу искать.
Бредет волк по лесу, еле ноги волочит, а навстречу ему осел. Кинулся к нему волк, задрать собрался и говорит:
— Длинноухий осел, я тебя съем.
А осел ему в ответ:
— Волченька, серенький! Я счастлив быть тебе пищей, только выслушай меня, прежде чем съесть… Все говорят, будто ослы всегда были ослами, а я вот многих от беды спас. Если хочешь, могу и тебя выручить.
Слушает волк осла, разинув пасть. А осел продолжает свое:
— С каких пор существуют небо и земля, волк был волком, а осел — ослом. Известно, что попы ближе всех находятся в родстве с ослиным племенем, поэтому ослы им больше по сердцу, и они всегда ездят верхом на нас. Я сам работал у попа, но недавно поп умер, и я вот от радости резвлюсь и гуляю себе по лесу. Село теперь осталось без попа. Если хочешь, вырядись попом, садись на меня верхом, а я тебя свезу в село. Люди обрадуются тебе и встретят как нельзя лучше, подарят тебе всякой всячины и заживешь ты, как у бога за пазухой.
Вырядился волк попом, сел на осла и поехал в село. Только они в село въехали, а осел как завопит: "Волк! Волк!"
На крик осла мигом сбежался народ и давай бить волка, чуть дух из него не вышибли, едва ноги унес.
И опять бродит волк по лесу, ни жив ни мертв от голода. Уже начало темнеть, когда навстречу ему попалась лошадь, до того тощая и слабая кляча, что еле на ногах держалась. Обрадовался тут волк: "Ну теперь уж я утолю голод…"
Да только он подошел к лошади, чтоб задрать, как та, недолго думая, хлобысь его копытами! — прямо по морде. Полетел волк кувырком, все зубы у него повыпали… А лошадь щиплет себе травку, как ни в чем не бывало. Опомнился волк от удара, сидит злой-презлой, но ни сил, ни клыков уже нет, задрать ему коня никак нельзя. А тут и хозяин лошади появился и, увидев волка, ударил его дубиной по голове и убил на месте.
Привез хозяин волка домой, содрал шкуру и сшил себе шубу, а мне — две заказал за то, что я сказку вам рассказал.

Трифан Балтэ
 ВАСИЛЕ-ДУРАЧОК
ВАСИЛЕ-ДУРАЧОК
Жил-был бедный человек, и было у него три сына. Два старших были сильными да проворными, а третий, младший, весь день-деньской сидел у печи и в золе ковырялся; вот и прозвали его Василе-дурачком.
Был у нашего человека клочок поля, который он засевал просом. Да так уж всегда случалось, что в ночь, когда зерна начинали наливаться соком, забирался в поле какой-то табун лошадей и все пожирал. Долго думал мужик, как быть, что делать, чтобы урожай спасти. И вот послал он на ночь старшего сына поле караулить. Вышел парень в чисто поле, уселся на меже и крепко заснул. Проснулся на рассвете, а просо наполовину съедено.
Видит отец — никакого с него проку, послал среднего сына поле караулить. Этот тоже вышел в чисто поле, уселся на меже и стал зорко оглядываться. Но едва пробило полночь, как и его сон свалил. Проснулся на рассвете, а от проса только несколько рядков осталось.
Увидел это отец, стал его ругать:
— Горе мне с такими сыновьями! Вижу — пользы от вас, что с козла молока. Будем теперь зимой голодать.
А младший сын встал из-за печи, стряхнул с себя золу и говорит:
— Позволь, отец, я пойду на ночь поле караулить.
Старшие братья так и покатились со смеху, а отец только рукой махнул.
— Раз уж старшие братья не смогли уберечь просо, то тебе и подавно не справиться. Возись-ка ты лучше в своей золе.
Но Василе-дурачок стоит на своем.
— Пойду да пойду и я ночь покараулить.
Надоели отцу его приставания.
— Ну ступай, карауль, только не морочь мне голову.
Нарвал Василе-дурачок крапивы пучок, наломал терновника охапку и отправился в поле. Здесь он разделся до пояса, уселся на кочку, справа от себя положил крапиву, слева — терновник. Как стало его в сон клонить, повалился он на крапиву и проснулся, потом повалился на терновник и снова проснулся. Так он маялся, маялся, но зато сон его не брал. Вот пропели первые петухи и вдруг видит он, что в просо забрался гнедой конь, а из ноздрей у коня пламя так и пышет. Тут Василе подлетел к коню и — цап! — схватил его за гриву.
— Стой, — говорит, — попался, скакун, теперь ты от меня не уйдешь.
Взмолился конь:
— Отпусти меня с миром, Василе-богатырь, будем мы с тобой в дружбе, сослужу я тебе добрую службу.
Услыхал Василе такие речи, премного подивился и отпустил коня. Тогда Гнедой говорит:
— Вырви волосок из моей гривы и спрячь его. А будет у тебя нужда какая, подуй в него чуток, и я тут же прискачу, из беды тебя выручу.
Вырвал Василе-дурачок волосок из гривы Гнедого и домой отправился. Увидал отец, что просо все цело, изумился такому диву и отпустил Василя еще на одну ночь поле караулить.
Василе снова уселся между крапивой и терновником и до самого рассвета глаз не сомкнул. А на рассвете видит — вошел в просо конь вороной, из ноздрей пламя так и пышет. Поймал его Василе за гриву, Вороной и взмолился:
— Отпусти меня с миром, Василе-богатырь, будем мы с тобой в дружбе, сослужу я тебе добрую службу. Вырви из моей гривы волосок, а попадешь в беду — подуй в него чуток.
Вырвал Василе-дурачок волосок из гривы Вороного и домой отправился.
И на третью ночь пошел он поле караулить. Совсем уж было его сон одолевать стал, да вдруг видит — вошел в просо конь буланый, красивый, как в сказке. А из ноздрей буланого тучи пламени вырываются. Подскочил к нему Василе-дурачок, схватил за гриву и говорит:
— Не уйдешь теперь от меня, добрый скакун! А то повадился ты с твоими братьями поедать наше просо, вот и гуляет ветер у нас в горшках.
Буланый и взмолился:
— Отпусти меня с миром, Василе-богатырь. Сделай такую милость, а я тебе послужу, как тебе и не снилось. Вырви из моей гривы волосок, при нужде подуй в него чуток, и я тут же прискачу, из беды тебя выручу.
Отпустил Василе Буланого и вернулся домой, в золе копается.
А тем временем разнеслась по всему царству, по всему государству весть, что царь замуж дочь свою отдает. Была царевна так прекрасна, что только солнце могло с нею сравниться. Да ставил царь такое условие: дочь он свою выдает только за того богатыря, который сможет кольцо у нее на пальце обменять. А царевна сидела в высоком тереме, под самыми тучами — попробуй достань.
Много добрых молодцев пыталось добраться до царевны, кольцо у нее с пальца снять, да все зря трудились. Стала царевна тосковать да горевать, что суженого никак себе не может сыскать.
Дошла эта весть и до бедного мужика. И сказал он старшим сынам своим:
— Детки вы мои дорогие, ступайте-ка и вы, счастье попытайте. Как знать, может и выпадет вам удача. Верно, дурной бросит камень в колодец, а десятеро разумных маются и никак не вытащат. Да ведь и то сказать — попытка не пытка.
Оседлали двое старших сыновей двух скакунов и поехали к царскому двору — счастье свое пытать.
А младший и говорит отцу:
— Батюшка, хочется и мне повидать прекрасную царевну. Дай и мне коня.
Смеется отец:
— Где же это слыхано, чтоб такой замухрышка, как ты, хотел с царем в одну упряжку попасть?
Но Василе-дурачок стоит на своем:
— Хочу и я ко двору и баста!
Видит старик, что никак ему сына не унять и говорит:
— Ну ладно, дурачок, возьми себе осла и ступай ко двору, людям на потеху. Видал уж я таких героев: "Мэй, Ион, ты девушек любишь?" — "Люблю!" — "А они тебя?" — "И я их".
Вскочил Василе на осла, доехал до лесочка, что за селом, и стреножил его на полянке. Затем вынул волосок, вырванный из гривы гнедого скакуна, и подул на него. Мигом вырос перед ним красавец Гнедой. Дышит он огнем и спрашивает: "Что тебе, хозяин?" — "Да вот так-то и так-то, — рассказывает ему Василе все, как было. — Хочу я снять кольцо с руки царевны".
— Эх, хозяин, хозяин, тяжелую ты мне задал задачу, — ответил ему волшебный Гнедой. — Да уж ладно, как-нибудь выпутаемся. Влезь-ка, говорит, ко мне в левое ухо, вылезь в правое, захвати с собой все, что найдешь там, а потом садись на меня верхом.
Влез Василе в левое ухо, вылез в правое, вытащил оттуда блестящее платье, из серебра сотканное, волшебную булаву да меч богатырский. Оделся он, как полагается, и вскочил в седло. "Лети, мой конь!" Пришпорил он Гнедого, и понес его конь, ветер буйный обгоняя. Стали они приближаться к царскому терему, вдруг видит Василе на дороге своих братьев. Приструнил он коня, подъехал к ним поближе и спрашивает:
— Откуда путь держите, ребята!
— Да вот из такого-то села, — отвечают братья, которые не узнали Василе-дурачка. — А вы откуда будете?
— Из Щелчкова! — и хлоп! дал им Василий по щелчку, да по такому, что шишки вскочили.
Доехал Василе до царского терема, а там народу — видимо-невидимо. И никто до царевны добраться не может. Как свистнет Василе богатырским посвистом, — Гнедой взвился ввысь и чуть-чуть не допрыгнул до крыльца из самоцветов, на котором царевна восседала, шерсть золотым веретеном пряла.
— Не могу я выше подняться, хозяин! — говорит Гнедой.
Повернул Василе домой. Как доехал до лесочка, отпустил Гнедого, одел свое старое платье и сел верхом на осла. Приехал он домой, сел за печь в золу и ждет старших братьев.
Вот вернулись и старшие братья, а отец и спрашивает:
— Ну как там, детки, что люди толкуют? Не нарвались ли вы на беду какую?
— Да недолго было и до беды, только вышли мы сухими из воды. — И стали они рассказывать все, как было: как нагнал их по дороге какой-то Фэт-Фрумос, как он им дал по щелчку. И как потом этот Фэт-Фрумос чуть было до царевны не добрался.
Прошло еще немного времени, и старшие сыновья опять решили поехать к царскому двору. А младший оседлал своего осла и двинулся за ними следом. Спутал он осла на полянке, подул на другой волосок, в тот же миг вырос перед ним волшебный Вороной. И говорит:
— Приказывай, хозяин.
Пролез Василе через его уши, надел золотое платье и вскочил в седло. Вскоре догнал он своих братьев и спрашивает их:
— Откуда путь держите?
— Из такого-то села. А вы откуда?
— Из Кулакова! — и хлоп! двинул каждого кулаком, да так, что у них искры из глаз посыпались.
Прискакал Василе к царскому терему, свистнул богатырским посвистом, и Вороной подпрыгнул до самого крыльца. Но не успел Василе коснуться царевнина кольца, как лошадь снова опустилась на землю.
Вернулся он домой, как и в первый раз, и братьев поджидает. А те приехали и рассказывают все, как было.
Поехали они и в третий раз счастье свое попытать. Теперь Василе подул на волосок из гривы буланого коня.
— Приказывай, хозяин! — говорит вещий Буланый. — Пролезь сквозь мои уши, надень платье из самоцветов, садись на меня верхом и держись покрепче — не шутка лететь на коне таком.
Нагнал Василе своих братьев и спрашивает:
— Откуда путь держите, олухи?
— Из такого-то села. А вы откуда будете?
— Из Плеткина, извиняюсь! — и хлоп! их плеткой по спинам.
Добрался Василе до терема, свистнул богатырским посвистом, взвился Буланый, долетел до чердака и подождал, пока Василе кольцо у царевны с пальца снял.
Повернул Василе домой, в лесочке отпустил Буланого, сел верхом на осла и двинулся восвояси. Спрятал он кольцо за пояс и возится снова в золе. Вскоре вернулись домой и старшие братья да стали рассказывать, какое чудо видели. А Василе и говорит:
— И я был при дворе, и я видел царевну.
Братья так и покатились со смеху.
— Да помолчи ты, дурачок, не болтай глупостей!
Тем временем царь все ждал да ждал жениха, а как увидел, что богатыря, забравшего кольцо, и след простыл, разослал гонцов по всей стране, чтоб нашли его и во дворец привезли. Но сколько ни искали царские посланцы, а витязя, одетого в платье из самоцветов, так и не нашли. Вот добрались они и до избы нашего бедного мужика.
Смеряли они всех трех парней долгим взглядом — ни один из них на богатыря не похож. Стали посланцы спрашивать парней, не знают ли они, где царевнино кольцо. Старшие братья ничего знать не знали, а Василе-дурачок говорит:
— У меня кольцо.
Посмеялись царские посланцы до коликов в боку и стали прощаться. А один из них возьми да скажи так, между прочим:
— Мэй, дурень, коль у тебя кольцо, что ж ты его не кажешь?
— Сейчас! — ответил им Василе, развернул пояс и достал царевнино кольцо. Ну и подивились же посланцы! Взяли они кольцо и, хочешь не хочешь, пришлось им отвести Василе к царю.
Как увидал его царь, чуть не лопнул с досады.
Кручинился он, сердился, да делать нечего. Вот он и говорит своей дочери:
— Ну, коль так уж тебе суждено было, дочь моя, так ступай с ним жить вон в ту избушку, где живут царские свинопасы. Хоть столько-то с него пользы будет — пусть моих свиней пасет.
Царь такого зятя и видеть не хотел, не то чтобы жить с ним под одной крышей.
Пожили молодые в землянке сколько пожили, но вот стала царевна мужа своего распекать: "Я, мол, не хочу больше быть женой свинопаса, забирай свои манатки и убирайся восвояси". Обиделся Василе, только не ответил ей ничего. Положил он в сумку еды немного и пошел пешком по свету — полезней таких прогулок нету. И где он ни проходил, всюду слыхал стоны, всюду видел слезы и обиды. Потому что был тот царь жадным и злым, обложил народ данью большой да виселицы всюду понаставил.
Ходит Василе из села в село, людей ободряет, сирот утешает, а про себя думает: "Ладно, царь, дойдет и до тебя черед горе мыкать".
Потом вернулся он в отчий дом и опять стал в золе возиться. И, может, долго бы там в золе просидел, если б у рубежей царства не заварилась битва большая. Призвал царь в войско всех молодых людей, чтоб царство от врагов отстоять.
Пошли в войско и старшие сыновья бедного мужика. А Василе-дурачок и говорит:
— Отпусти, батюшка, и меня воевать, а не то придется нам горе горевать.
Смеется над ним отец:
— Что же ты на войне делать будешь, дурачок? Таким воякам, как ты, одно только остается: "Воевать, так воевать, пиши в обоз".
— А ты отпусти меня, отец, и увидишь, какие я подвиги совершу.
Видит старик — пристал к нему младший сын, как банный лист, — да и говорит:
— Ладно уж, бери осла и делай, как знаешь.
Оседлал Василе осла, выехал на край села и спутал его на поляночке. Затем достал волосок из конской гривы и подул на него. Оглянулся — а Гнедой тут как тут.
— Я здесь, хозяин, послужу тебе верой и правдой и в битве. Влезай ко мне в левое ухо, да вылезь через правое. Надень доспехи серебряные, возьми оружие булатное и садись верхом.
Так Василе и сделал и на битву помчался.
Приехал он на поле битвы, а там врагов — что листьев в лесу, что травы на лугу.
Стал Василе крошить их слева и справа, в хвост и в гриву, так что вскоре вражья кровь все поле залила, Гнедому по колено дошла. Тогда Гнедой ему и говорит:
— Ну, хозяин, довольно, тронемся в путь-дорогу, оставь и на завтра немного, а то брату моему делать будет нечего.
На следующий день подул Василе на волосок из гривы Вороного, оседлал коня и снова ринулся на битву.
А царь стоит, глядит и глазам своим не верит.
— Эко чудо! — молвит царь. — Кто бы мог быть этот храбрый витязь в золотых доспехах?
Вот дошла кровь Вороному по грудь, конь и говорит:
— Ну, хозяин, довольно, тронемся в путь-дорогу, оставь и на завтра немного, а то брату моему делать будет нечего.
На третий день Василе прискакал на волшебном Булане. И столько он врагов покрошил, что кровь их поднялась коню по гриву, богатырю — по пояс. Кончилась битва лютая, началось веселье славное. Подъехал тогда царь к Василе-дурачку, поблагодарить его за службу и видит, что витязь ранен в руку, кровь так и льется. Тут царь достал свой платок и перевязал ему рану.
Вернулся Василе домой, на полянке отпустил Булана и пересел на осла. Вернулись домой и старшие братья да стали отцу рассказывать о виденном чуде. "Так, мол, и так, — говорят они, — какой-то Фэт-Фрумос крошил врагов, как капусту, и развеял их, как мякину. И царь собственноручно ему рану перевязал".
А Василе с печи говорит:
— И я был на войне, и я врагов крошил.
Братья смеются, по полу катаются.
— Да помолчи ты, дурачок, ерунды не мели.
А царь на радостях решил в честь победы заказать пир на весь мир и созвал ко двору молодежь со всего царства.
Поехали на пир и сыновья бедного мужика. Старшие братья уселись поближе к середине стола, а младшего задвинули на самый край.
Пировали они сколько пировали, да вдруг царю захотелось поговорить с богатырем, который спас царство, и спасибо ему сказать. Но где ж его взять, коли нет его нигде. Ходил царь сколько ходил промеж столов и вдруг видит свой платочек на руке у Василе-дурачка.
— Да ведь это зять мой, — говорит царь. И спрашивает его: — Как к тебе этот платок попал, дурачок?
А Василе не скрывает, отвечает:
— Ваше величество мне его в битве подарили, когда меня вороги ранили.
Царь ушам своим не верит.
— Мэй, не иначе, как здесь нечистая сила замешана. Не верю я, чтоб ты был тем витязем.
И, помолчав, добавил царь:
— Коль ты уже так искусен, так вот сооруди-ка за ночь золотой дворец, да чтоб от него и до моего двора хрустальный мост был перекинут. А вдоль моста чтоб росли деревья с золотыми плодами, а на деревьях чтоб пели золотые птицы. Если выполнишь все это, отдам я тебе дочь да еще полцарства впридачу.
— Ладно, сделаю, — ответил Василе и поспешил домой.
Подул он на все три волоска сразу, и волшебные кони тотчас к нему явились.
— Ну вот, хозяин, настало нам время послужить тебе в третий и в последний раз. Что прикажешь сделать?
— Вот так и так, — говорит им Василе, — соорудите мне до утра золотой дворец с крыльцом из самоцветов. А от дворца и до царского замка перекиньте мост хрустальный. Вдоль моста насадите деревья, да не простые: чтоб одни цвели, на других чтоб плоды наливались, на третьих чтоб спелые уже висели. А на ветках деревьев чтоб качались птицы златокрылые да песнями душу услаждали.
— Ладно, хозяин, — говорят кони волшебные. — Ступай, ложись спать и будь спокоен: до утра все будет сделано.
Проснулся Василе утром и видит чудо невиданное, диво неслыханное. Стоит дворец, весь вылитый из золота, а от него ведет вдаль мост хрустальный. Ступил Василе на мост и зашел во дворец. А во дворце роскошь и богатство, по мягким коврам ступать жалко, и всюду стоят столы, всякими яствами уставленные. На крыльце музыка играет, а на деревьях золотые птички резвятся и чирикают.
Спрашивает Василе людей, где царь-государь. Показали ему люди башню каменную без входа, без выхода, с одним только окошком, забранным стальной решеткой. А в башне той сидел царь, которого волшебные кони в свинью обратили.

И сказал тогда Василе:
— Так судили кони волшебные, значит быть по сему. Потому что много зла причинил царь народу и вел он себя с людьми, как настоящая свинья.
И созвал Василе тьму-тьмущую народу и закатил пир горой.
И я на том пиру был,
Много ел да пил,
Ложку оседлал
И сказку вам рассказал.

 СКАЗКА О ШТЕФЭНЕЛЕ
СКАЗКА О ШТЕФЭНЕЛЕ

Жили-были мужик да баба, бедные-пребедные. Вот сидят они однажды зимним днем у жаркой печи и вдруг слышат с улицы страшный стон; даже сердца у них зашлись от жалости.
— Что бы это могло быть, муженек? — говорит баба. — Сходил бы ты, поглядел, может в беду кто попал.
Вышел мужик на двор, глядь — прямо перед ним, на высокой акации, сидит свернувшаяся в клубок большущая птица-орел и замерзает на холоде. Вскарабкался мужик на дерево, снял орла и отнес его в избу. Сидит себе птица тихонько, у огня отогревается да вдруг как заговорит человеческим голосом:
— Баде Некулай, — так нашего мужика-то звали, — встретил ты счастье свое, сняв меня с дерева.
Испугался Некулай, услыхав такое чудо. Сидит, молчит, — что тут скажешь? Слыханное ли дело, чтоб птица человечьим голосом говорила?.
Но орел уже совсем пришел в себя, расправил крылья и молвит:
— Хочу я тебя наградить, баде Некулай, за добро добром отплатить.
И стал орел рассказывать, кто он, да откуда и по какому делу по свету бродит.
— Я, говорит, не птица, а царевич. Были у отца моего три дочери, прекрасные, как звезды в небе ясном. И вот однажды посватали моих сестер три дракона, выдававшие себя за царевичей. Отец мой хотел им отдать дочерей, да я воспротивился. И тогда мать этих драконов обратила меня в орла. А драконы забрали своих жен и — поминай как звали. Много воды утекло с тех пор в Дунае, а о сестрах моих — ни слуху ни духу. Сам же я только тогда стану человеком, когда какому-нибудь земному существу удастся завладеть волшебной шкатулкой одной из
моих сестер.
Сказав это, стал орел просить Некулая, чтобы тот сел к нему на крылья а полетел с ним к его сестрам. Сестры обрадуются, увидев земляка, и непременно захотят его наградить подарками. И если Некулай не согласится брать ничего, кроме волшебной шкатулки, может, он ее и получит.
Попрощался Некулай с женой, сел верхом на орла и полетели они над черною тучей, под солнцем жгучим. Облетели тридевять земель, тридевять морей, а края земли все еще не видать. Только под вечер увидел Некулай черный лес, а посреди леса — медный дворец с крышей серебряной.
Говорит ему орел:
— Вот в этом дворце живет моя младшая сестра. Ты только не забудь, что не должен от нее брать никаких подарков, кроме шкатулки волшебной.
Приземлился орел у самого дворца. Некулай сошел на землю и в ворота постучал. Младшая царевна открыла ворота и как увидела перед собой земляка — от радости обомлела. Обнимала она его и целовала, долгого века желала, да еще и приговаривала:
— Эге-гей, мать родная, сколько лет, сколько зим не видывала я живого человека. Проходи скорее в дом, будь гостем за столом, да расскажи мне, земляк, что там на свете и как. А то сердце мне дотла тоска лютая сожгла.
Посидел Некулай сколько посидел с ней за столом, отведал угощений всяких, рассказал десять коробов вестей со всего света, а под конец встал и говорит:
— Ну, так будь здорова, а мне домой пора. Некогда мне время терять, подковы с дохлых коней собирать.
А царевна залилась слезами кровавыми и отвечает ему:
— Попросила бы я тебя, добрый человек, еще со мной побыть, обо всем поговорить, да не смею. Мужу моему, дракону, возвращаться пора пришла, боюсь, как бы не причинил он тебе какого зла. Так что, — говорит, — выбери в моих хоромах любую драгоценную вещь, я с дорогой душой подарю ее тебе.
Огляделся Некулай вокруг, а там всюду — на столах, на полочках, на печах — одни только золотые вещи да каменья драгоценные.
Наконец, заметил он на печном карнизе волшебную шкатулку.
— Я человек бедный, и ни золота, ни самоцветов мне не надобно, — говорит Некулай. — А дай-ка ты мне вот эту шкатулку, я ее жене отнесу, пусть мониста в ней держит.
Испугалась царевна не на шутку и молвит в ответ:
— Выбери, добрый человек, все, что хочешь и сколько хочешь, только не эту шкатулку. Потому что она досталась мне на память от покойной матушки, да будет ей земля пухом.
Некулай стоит на своем, хоть режь, — подай ему шкатулку и только. Но напрасны были все его просьбы: царевна не соглашается ни в какую.
Тогда он распрощался с ней и ушел несолоно хлебавши. Орел поджидал его у ворот.
— Эх, — говорит орел, — худо, что не дала она тебе шкатулки. Но полетим дальше, авось у средней сестры выпросишь.
Взобрался Некулай орлу на спину, и полетели они над морями-океанами, пока снова долетели до черного леса. А посреди леса высился серебряный дворец с золоченой крышей.
Сошел Некулай на землю, постучал в ворота. Открыла ему средняя царевна:
— Эге-гей, мать родная, не видала я живого человека бог знает сколько времени. — Царевна его в хоромы пригласила, за стол усадила, стала расспрашивать о том, о сем — обо всем, а он на все дает ей ответы, рассказывает, что творится на свете. Говорили они, говорили, а царевне все кажется мало, так страшно она по людям тосковала.
Наконец Некулай поднялся и стал собираться в путь-дорогу.
— Ну так прощай, красавица, а мне пора домой отправиться. Дальняя отсюда дороженька, ох и устанут мои ноженьки.
А царевна и не знает, каким его дорогим подарком наградить; льет она слезы кровавые и говорит ему:
— Выбери себе в моем доме все, что твоей душе захочется, выбрать-то есть из чего.
И верно, выбрать было из чего: на сундуках да на лавках столько понаставлено всяких золотых вещей да камней-самоцветов — глаза разбегаются.
Но Некулай подошел к печному карнизу и говорит:
— Я человек бедный, золотых вещей мне не надо. А дай мне, коли не жалко, вот эту шкатулку, отнесу домой, жену обрадую.
Только царевна ни в какую не соглашается шкатулку ему отдать. Видит Некулай — ничего у него не выходит, попрощался с царевной и ушел ни с чем. Только за ворота вышел, а орел его встречает словами:
— Эх, милый мой, худо очень, что не дала она тебе шкатулки. Одна надежда нам осталась — на старшую сестру. А ежели и та не даст, то я уже не знаю, как нам быть.
— Ну так полетим к ней, — говорит Некулай. — И чему бывать, не миновать. Не стану же я из-за каких-то жадных баб волосы на себе рвать.
Летели они снова, летели над морями-океанами, и вот показался вдали черный лес, а посреди леса — дворец весь из чистого золота с башнями из самоцветов.
Постучал Некулай в ворота, открыла ему старшая царевна. Как увидела она земляка — от радости тут же свалилась без памяти. А как очнулась, стала его обнимать и целовать, века долгого желать да приговаривать:
— Эге-гей, добрый человек, живо, знать, еще мое счастье, раз ты добрался до меня. Я ведь здесь не то что человека, а птичьего пера еще не видела.
Позвала она его в дом, чтоб был гостем за столом, во все глаза на него глядела, наглядеться не могла. Наконец Некулай поднялся из-за стола и стал готовиться в путь-дорогу.
— Ну, будь здорова, добрая душа, а мне домой пора поспешать. Дальняя отсюда дороженька, ох и устанут мои ноженьки.
Старшая царевна и так и этак старается ему угодить, только бы посидел хоть еще чуточку. А как увидела, что больше ей его не удержать, стала слезы лить, причитать:
— Ох, горе мне, далеко же я от света заброшена, и кто знает, когда еще доведется увидеть здесь живого человека. Так уж, видно, на роду мне написано — всю жизнь тосковать, до самой смерти.
Затем велела она Некулаю, чтоб выбрал себе в подарок какую-нибудь из ее вещей.
Подошел Некулай к печному карнизу и говорит:
— Не нужны мне, царевна, ни золото, ни самоцветы. А дай-ка ты эту шкатулочку в дар мне, отнесу я ее жене, и будет она тебе всю жизнь благодарна.
Не захотела царевна ни в какую отдавать ему шкатулку.
— Она мне, — говорит, — досталась от матери, да будет ей земля пухом.
Но затем, как увидела, что Некулай ей в ноги повалился, пожалела его и молвит:
— Ну, ладно, возьми себе шкатулку, я-то все равно стара, не много осталось моего веку. Только знай, шкатулка эта не простая, а волшебная. Стоит тебе сказать: "Шкатулочка, отворись!" — и она тут же откроется и даст тебе все, что душа твоя пожелает.
Едва Некулай взял в руки шкатулку, как раздался страшный грохот и рухнул золотой дворец, и предстал пред ним прекрасный могучий царевич, говоря:
— Спасибо тебе, баде Некулай, за то, что помог мне рассеять чары злые, причинившие нам столько горя. Узнай же, что и мои сестры были опутаны колдовством лютой ведьмы — матери драконов, а теперь и они свободны.
Вывел царевич из конюшни белого арабского скакуна, посадил на него сестру, сам вскочил в седло и умчался. Видать, от радости великой забыл он сказать Некулаю, какой дорогой домой добираться.
Куда ни глянет Некулай, окрест — все лес да лес густой, и кто его знает, в какую сторону податься. Наконец, заметил он тропинку и пошел по ней. Шел, шел, а как дошел до какого-то ручейка, почуял, что голод сосет под ложечкой. Достал он свою шкатулку и только успел промолвить: "Шкатулочка, отворись!", как она тут же отворилась и полезли из нее крытые столы со всякими яствами, так что у бедного даже слюнки потекли, а рядом где-то раздались звуки прекрасной, баюкающей музыки. Наелся Некулай до отвалу, напился водицы ключевой, а как стал шкатулку закрывать — не тут-то было. Мучался, мучался, никак не догадается, какими словами закрыть ее.
Сидит он, призадумался, пригорюнился; вдруг перед ним, словно из-под земли, баба-яга вырастает и говорит:
— Я скажу тебе, как закрыть шкатулку, но ты мне за то отдашь то, что у тебя есть дома, а ты о нем не знаешь.
А баба-яга была матерью драконов и леса. И замыслила она отомстить Некулаю за то, что тот помог царевичу от чар ее избавиться.
Посмотрел Некулай на ведьму, подумал: что бы такое у него могло быть дома, о чем бы он не ведал? "Какое у меня дома богатство? — спросил он себя. — Человек я бедный и, кроме жены, вроде ничего у меня и нету".
— Ладно, мегера, согласен, — говорит Некулай. — Научи меня, как закрыть шкатулку.
А баба-яга в ответ:
— Скажи: "Шкатулочка, затворись!"
Сказал Некулай: "Шкатулочка, затворись!" — и тут же все столы исчезли, а шкатулка закрылась. Взял Некулай свою шкатулку и пошел своей дорогой, а ведьма кричит ему вослед:
— Как пройдет семь лет, приду я к тебе за расчетом.
Пришел Некулай домой, а дома у него пир горой. Родила ему жена сына златокудрого. Некулай-то, уходя из дому, не знал, что жена тяжела была. От горя своего горького стал он биться, что рыба на песке. Только теперь понял, какую цену взяла с него ведьма. Хочешь-не хочешь, хлебай, Григорий, горе!
А парень рос не по дням, а по часам, и был он красив и умен на диво. И чем старше становился Штефэнел-Фэт-Фрумос, тем больше мрачнел его отец. Как пошел ему седьмой год, Некулай стал за ним ходить по пятам, глаз с него не спускал, все боясь, как бы не похитила его баба-яга. Осунулся Некулай, пожелтел, как воск, не пил, не ел ничего…
В день, когда мальчику исполнилось семь лет, вышел он поиграть на крылечке. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел черный смерч, подхватил его и мигом унес.
Очнулся Штефэнел-Фэт-Фрумос в черном лесу, в избушке бабы-яги. Ведьма подозвала его к себе и говорит:
— Должна я тебя, парень, в дракона обратить, и будешь ты мне всю свою жизнь службу служить. Вот задам я тебе три задания. Выполнишь их — твое счастье, бери свою торбу и убирайся домой. А не сможешь выполнить — пеняй на себя. Искупаю в этом котле со смолой и обращу в дракона.
И мегера показала ему котел со смолой.
— Теперь, — говорит баба-яга, — ступай в лес и чтоб к утру приволок мне десять тысяч возов дров, я смолу вскипятить хочу.
Взял Штефэнел топорик и побрел в лес. Идет и горькую думу думает: "Не умер Данило, так болячка задавила. Вот и кончился, Штефэнел, счет твоим дням".
Как ему за одну ночь такую тьму-тьмущую дров нарубить?
Вдруг пересекла ему дорогу девушка, красивая, как цветок, и говорит:
— Не горюй, Штефэнел-Фэт-Фрумос, я помогу тебе. Баба-яга — моя мачеха, ей бы и меня хотелось заживо в землю вогнать: задумала она выдать меня за дракона. Ты ложись и спи спокойным сном, до утра весь лес будет порублен.
Не поверил ей Штефэнел, да терять-то ему было нечего: хоть так, хоть этак, сам-то все равно не сможет выполнить задание ведьмы. Улегся он и уснул. А девушка достала флуер, заиграла на нем, и сразу собралось вокруг нее множество драконов. — Что прикажешь, хозяйка? — спросили они. Девушка-то была феей. И говорит она драконам: — Чтобы вы до утра весь лес порубили, пусть баба-яга насытится, подавиться бы ей этими дровами!
Наутро баба-яга проснулась, глянула на двор, а там дров — что листьев в лесу и травы на лугу. Проснулся и Штефэнел и удивился еще больше. "А гляди-ка, — подумал он про себя, — чудеса-то какие! Видать, эта девушка и в самом деле мне друг". И пошел он благодарить ее. Тут увидела его ведьма и говорит:
— Как ты дело это сделал — ума не приложу, но посмотрим, выполнишь ли второе мое задание. Вот здесь десять тысяч мешков муки. Замеси-ка ты до утра тесто и хлеб испеки. А коль не выполнишь, придется тебе свести знакомство со смолой горячей.
Вечером ведьма улеглась на печь и захрапела беззаботно, а Штефэнел кручинится, места себе не находит.
И опять пришла к нему фея и говорит:
— Не горюй, Штефэнел-Фэт-Фрумос, выручу я тебя и с хлебом, как выручила с дровами.
Заиграла она на флуере, слетелись драконы и до утра испекли весь хлеб на диво.
Увидела мегера и это чудо, чуть не лопнула со злости. Позвала она к себе Штефэнела и говорит:
— Не знаю я, парень, помог ли тебе кто или нет. Только дам я тебе еще одно задание и коль выполнишь — твое счастье! Посажу я тебя в бочонок, закупорю хорошенько дно, и если удастся тебе до утра из него выбраться — ступай, куда глаза глядят.
Притащила ведьма большущий бочонок, посадила в него Штефэнела, закупорила, сверху еще и просмолила и бросила в море.
"Вот тут-то мне и крышка, — подумал Штефэнел, сидя в бочонке. — Придется мне узнать, где раки зимуют".
Но фея, увидев, что Штефэнела нет нигде, созвала всех драконов и приказала:
— Хоть землю всю переверните, а без Штефэнела не возвращайтесь.
Обшарили драконы всю землю, вернулись и говорят, что нигде его не нашли.
— Ищите его под землей! — велела фея.
Искали его драконы под землей, искали — ни слуху ни духу.
— Ищите его по всем морям, по всем океанам! — приказала тогда Фея.
Полетели драконы искать и в полночь вытащили бочонок на берег. Фея дно выбила и выпустила Штефэнела на волю.
— Как мне отблагодарить тебя, прекрасная фея, за добро, которое ты мне сделала?
А фея ему в ответ:
— Не благодари, Штефэнел-Фэт-Фрумос, нет у нас на это времени. Давай-ка лучше поскорее удирать отсюда, а то мегера гонится за нами по пятам, и горе нам, коль поймает.
Побежали они, что есть духу, но вскоре стало их настигать пламя жгучее. Когда пламя было совсем уж близко, фея остановилась и говорит:
— Погоди, Штефэнел, пропустим проклятую ведьму вперед.
Фея коснулась флуером земли, и Штефэнел обратился в ветряную мельницу, а она сама — в старого, столетнего деда. Долетела баба-яга до мельницы и спрашивает мельника:
— Послушай-ка старый хрыч, не проходили ли здесь чертовка девка да проклятый парень?
А дед, то есть фея, отвечает:
— Э-ге, вроде как проходили, только давненько то было, лет двадцать назад.
Помчалась мегера дальше. А фея взяла Штефэнела за руку и повела его другой дорогой. Бежали они бежали, да вдруг фея снова остановилась и говорит:
— Штефэнел-Фэт-Фрумос, опять нас ведьма настигает: чую, как жжет мне спину ее дыхание.
Оглянулся Штефэнел, видит — появилось вдали страшное облако, и мечет оно молнии и громами громыхает, аж земля дрожит.
Фея коснулась флуером земли, и Штефэнел превратился в пшеничное поле, а она сама в старую старушку.
Остановилась баба-яга у нивы и спрашивает, скрипя зубами:
— Послушай-ка, глупая старуха, не проходили ли здесь ведьма-девка да парень-разбойник?
А старушка, половшая ниву, то есть фея, отвечает:
— Э-ге, вроде как проходили, только давненько то было, лет триста назад…
Пустилась ведьма лютая дальше в погоню. Фея взяла Штефэнела за руку, и пошли они своей дорогой.
Прошло еще немного времени, и фея опять заговорила:
— Постой, Штефэнел-Фэт-Фрумос, жжет меня дыхание ведьмы. Вот она уже совсем близко.
Оглянулся Штефэнел и увидел, что баба-яга вихрем мчится к ним. Ведьма их уже заметила, прятаться поздно. Тогда фея бросила флуер на землю и превратила его в большой пруд. Чуть было ведьма не сцапала парня и девушку, но они обернулись двумя лебедями и нырнули в воду. Баба-яга, недолго думая, обернулась гуской и поплыла за ними
Но лебеди живо выплыли на берег, обернулись снова людьми, поймали гуску и свернули ей шею. Затем фея облегченно вздохнула и сказала:
— Ну, вот мы и избавились от нашего врага. Теперь ты, Штефэнел- Фэт-Фрумос, свободен и можешь вернуться к своим родителям.
Слушал Штефэнел ее речи и не знал, что и ответить, больно уж ему полюбилась девушка.
— Скажи, — спросил он ее, — как тебя зовут и где тебя найти? Я люблю тебя больше света белого, больше самой жизни и хочу на тебе жениться.
Отвечала ему фея:
— Штефэнел-Фэт-Фрумос, меня зовут Мэриоара-Цветик. Давай обменяемся перстнями и не беспокойся, настанет время — мы непременно встретимся.
Обменялись они кольцами и расстались.
Штефэнел вернулся домой к своему батюшке, к своей матушке, которые чуть не обезумели от радости, увидев его. Пожил Штефэнел у своих родителей в холе и в радости год, два а то и больше. И вот в один прекрасный день решил он, что пришло ему время жениться. Нашел себе девушку славную и стал к свадьбе готовиться. Как раз в эти дни остановилась в их доме какая-то незнакомка. Зашла она на кухню и стала просить, чтобы ей разрешили помочь калачи печь да галушки варить. Мать Штефэнела и не подозревала, кто эта девушка, приняла ее с дорогой душой. Вылепила девушка из теста двух голубков и посадила их в печь. Только голубки подружились, а тут и Штефэнел вернулся с поля усталый да голодный. Накрыла матушка на стол и подала свежеиспеченных голубков.
Штефэнел надломил одного из них и нашел в нем свой перстень. Вспомнил он тогда Мэриоару-Цветика и вскрикнул:
— Мама, не видела ли ты здесь такой-то и такой-то девушки?
— На кухне у нас эта девушка, — ответила ему мать. — Помогает мне галушки стряпать.
Бросился Штефэнел на кухню и, как увидел Мэриоару, залился слезами.
— Ты, говорит, положила кольцо в тесто?
— Я, — отвечает ему Мэриоара. — Коль ты забыл меня, то я тебя не забыла.
Повалился Штефэнел на колени и стал просить:
— Прости мне, Мэриоара, мою подлость. Теперь я тебя люблю еще пуще прежнего, так будь же моей женою.
Но фея глянула ему в глаза и сказала:
— Если бы ты меня и вправду любил, ты бы не смог меня забыть. А если забыл теперь, значит и впредь забывать будешь. Я спасла тебе жизнь, но ничего не прошу у тебя взамен. Будь здоров и счастлив.
И сказав это, фея исчезла.
А я веретено оседлал
И сказку вам рассказал.

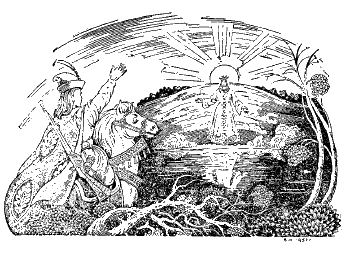 ФИЛИМОН И АРАП
ФИЛИМОН И АРАП

Жил-был царевич. Вот исполнилось ему восемнадцать лет, и выехал он в поле поглядеть, каково оно, так же ли красиво, как город, или еще краше.
Только он в поле очутился, попалась ему навстречу прекрасная девица — это была Краса Веков Аромат Цветов. Увидев царевича, девушка повернула обратно, но он, пораженный ее красотой, пришпорил коня и помчался вдогонку. Настигнув красавицу, положил он свою левую руку ей на плечо. Девушка смутилась и, недолго думая, обратилась в бегство, так как знала, что этот царь станет ее свекром. Сам же царевич этого не ведал. Обернулась Краса Веков быстроногой ланью и скрылась в чаще лесной. На этот раз царевич уже не смог ее настичь. Вернулся он домой хмурый и злой оттого, что не узнал, кто эта дивная красавица, и слег в постель от тяжкого недуга. Никто не знал, что с ним случилось. Многих лекарей к ложу его позвали, да только самый старый из них догадался, в чем недуг искать. И сказал он старому царю:
— Пресветлый царь, болезнь твоего сына не смертельна. Там, где он был, повстречалась ему девица, вот откуда недуг. Но он умрет, если ты его поскорее не оженишь.
— Боже мой! — воскликнул царь. — Я ли не хочу его оженить?
И разослал он немедленно гонцов во все царства-государства, повелев им всюду искать царевичу невесту подстать. Узнали гонцы, что у одного царя есть дочь на выданье. Женился на ней царевич, а потом и года не прошло, родила она ребенка и нарекли его Филимоном Фэт-Фрумосом. В тот день, когда родился младенец, в царском саду лань объявилась. Поселилась она там и день-деньской следила за Филимоном: как он купается в стеклянном корыте и как у него с каждым часом силы прибавляются. Когда Филимон вырос, попросил он своих родителей выдать ему платья на дорогу и денег немного, потому что решил он выехать в поле и поглядеть, что там и как. Слышал он, что в юности его отец встретил в поле девицу прекрасную. Услыхала лань этот разговор, и на второй день, когда Филимон поехал в поле, она в обход побежала. На выходе из города пути их скрестились. Филимон был вооружен ружьем, мечом и копьем. Завидев лань, бросился он ее преследовать. Но не хотел царевич ни рубить ее, ни стрелять, ни пронзить копьем, а только поймать живьем, привезти домой и родителям показать. Преследуя ее, Филимон дошел до большой реки: лань ее мигом перескочила, а Филимон остался на этом берегу. Тут лань ударилась оземь и обернулась красной девицей, до того красивой и статной, что Филимон глаз от нее оторвать не мог. И сказала ему девица:
— Филимон Фэт-Фрумос, поднимись под облака, пронесись над водой и подойди ко мне. Тебя обниму я, в уста расцелую, долгие лета даруя.
Пришпорил Филимон коня и пронесся над рекой. Девушка обняла его, расцеловала, сняла кольцо с пальца и подарила ему вместе с платочком. Отдал ей и Филимон кольцо свое и платочек, а потом спросил:
— Почему ты раньше была ланью, а теперь обернулась красной девицей?
— Твой отец тому виной. Он положил свою руку мне на плечо. А мне было стыдно сказать ему, что в будущем он будет моим свекром. Я ведь заранее знала, что он вскоре женится и ты родишься у него, а ты мой суженый. Ну а теперь пойдем, у меня тоже есть родители, надо пойти поглядеть, живы ли они еще.
Под вечер пришли они домой к девице и узнали, что мать умерла от тоски по ней, а отец в живых остался. До чего же удивился отец, увидев ее:
— Ты ли это, Краса Веков?
— Я, отец.
— А где ты пропадала столько времени, доченька?
— Я была очень далеко.
— А кто это с тобой?
— Филимон Фэт-Фрумос, Красный Царь. Встретились мы с ним и поговорили по душам. Он сказал, что хочет жениться на мне. А я ему ответила, что хочу прежде испросить вашего согласия.
— Ну, раз так, зови его в дом и сажай за стол.
Усадили они Филимона Фэт-Фрумоса за стол, три дня и три ночи кормили и поили, а он ел, пил, да более всего на девушку глядел.
— Вот что, Филимон, — сказал ему будущий тесть. — Иди домой и скажи твоему отцу, что он мне отныне свояк, и я отдаю свою дочь за тебя. Пусть присылает поскорее свое войско — артиллерию и кавалерию, а я их приму с хлебом-солью, с большой любовью.
Филимон так и поступил, и вскоре возвратился со всем войском. Но было уже слишком поздно… В его отсутствии к Красе Веков пришел свататься другой жених из другого царства, однорукий и одноногий Хромой Владыка. Девушка ему очень понравилась, глядел он на нее, поглядывал и все смеялся от радости. А когда смеялся, изо рта его золото лилось.
А отец девицы ходил в это время по комнате и говорил:
— Краса Веков Аромат Цветов, Филимон Фэт-Фумос красив и храбр. Но вы будете "жить не тужить", по царским балам ходить и промотаете все состояние. Таковы уж цари да бояре, когда напиваются пьяными. А этому уроду, когда нужно будет, стоит только засмеяться, и изо рта у него польется золото. И будешь ты с ним жить безбедно.
— Отец, лучше бы мать меня удавила при родах, чем выйти мне замуж за такого урода. Но коли ты того хочешь, я твою волю выполню…
И вот прибыл Филимон Фэт-Фрумос с войском девицу сватать. Вышел царь ему навстречу, коврами путь устелил. Вошел Филимон с войском в дом и ищет глазами невесту. А царь ему говорит:
— Я, как тебе говорил, так и сделал, Филимон Фэт-Фрумос… Но Краса Веков нашла себе другого суженого и ушла с ним.
Выслушал Филимон Фэт-Фрумос слова того, кто должен был стать его тестем, оседлал коня и крикнул воинам:
— Возвращайтесь, ребята, домой к отцу. Возвращайтесь без меня, а я поеду, куда глаза глядят — судьбу свою искать… — И уехал. Ездил он так три дня и три ночи, пока достиг высокой горы. А как взобрался на вершину, видит — человек спит. Подумал Филимон: "Смотри, как он крепко спит. Была бы охота, мигом изрубил бы его в капусту, не успел бы он даже пикнуть, да жалко ни за что ни про что жизнь его загубить. Лучше и я прилягу рядом да сосну, а когда он проснется, померимся с ним силами в честном бою".
Первым проснулся Арап Могучий. Захотел он было тут же убить Филимона, но, подумав, перерешил: "Зачем его убивать, коли он меня не убил? Разбужу его и спрошу, чего ему надо!" Крикнул тогда Арап, что есть мочи:
— Гей, Филимон Фэт-Фрумос! Вставай!
— Эге, долгонько я спал!..
— Спал бы ты сейчас вечным сном, но не захотел я этого сделать. Что ж, на саблях сразимся или в борьбе силами померимся?
— Лучше поборемся, честнее будет, — ответил Филимон Фэт-Фрумос.
Схватились они и начали бороться. Три дня и три ночи боролись, искры из скал высекали, а одолеть друг друга не смогли. В конце концов решили они отдохнуть. Спрашивает Арап Могучий Филимона Фэт-Фрумоса:
— Есть у тебя брат?
— Нет.
— Ну, так давай побратаемся.
Поцеловав клинки, обменялись они ими и поклялись быть братьями на всю жизнь.
— Ты про Хромого Владыку слыхал? — спросил Филимон Арапа.
— Слыхал. Он женится на Красе Веков. Неплохо было бы и нам пойти попировать на свадьбе.
По дороге к царству Хромого Владыки попалась им навстречу старуха.
— Здравствуй, бабушка. Принеси-ка нам платок и два калача, орехи и фисташки. Мы тебе хорошо заплатим.
— Оставьте меня в покое, странники, некогда мне с вами возиться.
После долгих просьб согласилась все-таки старуха и принесла им, что просили. Растянул тогда Филимон Фэт-Фрумос платок, положил в него калачи и накрыл платочком Красы Веков, который та ему подарила у реки. На платочке он разложил изюм, инжир и орехи. Потом расколол один орех, ядро поделил с Арапом Могучим, а в скорлупу спрятал кольцо Красы Веков. И, отдав все старухе, велел отнести невесте, авось узнает она кольцо свое и платок.
Так оно и случилось. Расколола Краса Веков орех зубами, а из него кольцо выпало. Тогда велела она позвать старуху.
— Скажи, старушка, кто тебя послал ко мне с гостинцами?
— Какие-то люди…
— Говори правду, не бойся. Я знаю, тебя послал Филимон Фэт-Фрумос. Передай ему, чтоб поберегся, однорукий и одноногий Хромой Владыка большой подлец. Пусть остерегается его. А коли он словам моим не поверит, то скажи ему, чтоб он хотя бы не спал, а взлетел за облака, я тем временем прикреплю солнце ко лбу, луну к груди, утреннюю зарю — к плечу, платье звездами обошью и ослеплю Хромого Владыку. Коли и это не поможет, пусть Арап Могучий окутает черным туманом вселенную.
Не послушался Арап Могучий старухи, велел Филимону ждать его, а сам направился к Хромому Владыке. Пришпорил он коня доброго, полетел стрелою над облаками, над войсками, и в страшной сече половину воинов Хромого Владыки порубил. А устав от битвы, вернулся и сказал Филимону:
— Порубил я половину войска и с Хромым Владыкой знакомство свел. Ступай, братец, и ты.
Послушался Филимон Фэт-Фрумос, налетел на войско и перебил его до единого человека. Хромого Владыку сжег и пепел по ветру развеял. Взял он Красу Веков и пустился в обратный путь, туда, где ждал его Арап. Вдруг запала ему в голову дума горькая: "Нет у меня счастья. От одного я спас Красу Веков, а другому ее отдаю!" Добрался он до горы, а Арап Могучий сидит мрачнее черной тучи.
— Добрый вечер, братец, добрый вечер! Что же ты, брат, не отвечаешь?
— Как же тебе ответить? Мы с тобой поклялись быть братьями, а ты в дороге худо обо мне думал.
Устыдился тут Филимон Фэт-Фрумос и попросил прощения. Теперь, когда трудности остались позади, пустились они втроем в дорогу к дому Красного Царя. Очень обрадовался отец Филимона, завидев его, закатил пир на весь мир, а затем послал их отдохнуть. Пока они отдыхали, царь воздвиг дом с толстыми трехметровыми стенами и развел там огонь. Вишь, задумал он сжечь живьем Арапа Могучего и сына своего, чтобы затем жениться на Красе Веков. Но замыслы его не осуществились. Арап Могучий был волшебником. Проснулся он и мигом холод напустил, все кругом заморозил.
Видя такое дело, царь пустился на другую хитрость: послал он к ним старуху с отравой. Вышел Арап Могучий старухе навстречу и как щелкнул ее по лбу — в землю вогнал. Но царь и на этот раз не успокоился. Взял он хлеб, котомку с маслинами и флягу с водой и, придя к сыну, говорит:
— Так ты женился? А моего согласия испросил? Ну-ка пойдем со мной, я тебя научу, как государством править!
— Слушай, брат Арап, — сказал Филимон своему побратиму на прощание. — Береги Красу Веков.
Повел отец Филимона по пустынным местам и девять дней есть не давал.
— Отец, дай мне чего-нибудь поесть.
Дал ему отец кусок хлеба с солеными маслинами.
— Отец, дай мне немножко водицы, не то умру от жажды!
— Дай я тебе выколю глаз, и получишь водичку.
Стал Филимон Фэт-Фрумос на колени, а отец ему глаз выколол. Затем говорит ему:
— Вставай и пойдем дальше.
— Иду, но дай мне сперва еще глоток воды.
— Дам, но прежде и второй глаз выколю.
— Ну, что ж, коли, вижу, ты хочешь меня калекой оставить, а не учить, как государством править.
Жадно глотал Филимон воду из фляги и поехал дальше наудачу, так как не видел, куда его конь несет. Ехал он, ехал и доехал до леса дремучего. Ветки ему лицо царапают, платье на нем рвут. Измучился он скоро и закричал:
— Погоди, мой конь, дальше мне не под силу ехать. — Разнуздал он скакуна, меч к седлу привесил и так его напутствовал: — Иди мой конь, на все четыре стороны. Кто укроет тебя от холода и спасет от голода, тому и служи.
Конь вскоре пристал к монастырскому табуну. А Филимон Фэт-Фрумос остался жить в лесу, покинутый всеми, даже и отцом родным, который поспешно возвратился домой, чтобы расправиться с Арапом Могучим.
Питался Филимон гнилушками, пил воду из ручья и птичьему языку учился.
И вот однажды услыхал он, о чем говорят две птицы, кружившиеся над ним: "Какой он красавец! Если бы еще и глаза имел, то был бы самым красивым молодцем на свете. Вот если бы он лег навзничь и лежал бы так, мы живо полетели бы за живой водой, окропили бы его глазницы и тогда прозрел бы он снова".
Филимон понял разговор птиц и 12 дней и 12 ночей лежал недвижим. Наконец птицы прилетели с живой водой, окропили его, и он стал видеть. Поблагодарил он пташек и в путь пустился. Шел он так, шел, пока добрался до табуна лошадей, которых сторожил старик. Попросил Филимон у старика помощи, а тот ему и говорит:
— Что ж, выбери себе коня по душе.
Долго выбирал Филимон Фэт-Фрумос и, наконец, выбрал дряхлую клячу.
— Эгей, — молвил старик. — На таком коне далеко не уедешь. Он стар и едва ноги волочит.
Но решение Филимона было непоколебимо. Положил он руку на коня, погладил его, и вдруг, — о чудо! — конь перекувыркнулся и молодым красавцем обернулся.
— А оружие коня не сохранилось? — спросил Филимон Фэт-Фрумос.
— Как же. Конечно, сохранилось. На пыльном чердаке лежит. — Тут старик принес ему меч, помог оседлать коня и уже было хотел открыть ворота, но Филимон пришпорил скакуна, взвился в воздух и полетел прямо в свое царство. А там по-прежнему царь с Арапом Могучим войну вели.
Когда явился Филимон Фэт-Фрумос во дворец, Краса Веков как раз совет держала с Арапом — как дальше быть. Тут и вошел к ним Филимон и молвил:
— Я возвратился и остаюсь с вами, если не прогоните.
В ответ они его только обняли. Недолго думая, Филимон вышел, вытащил отца из постели и привязал его к хвосту коня, семь лет не видавшего солнечного дня. Как только конь почуял свободу, пустился он бежать. И там, где падала рука царя — там появлялся колодец, где отлетала нога — ручей, а где осталось его тело — пропасть.
А Арап Могучий, видя, что друзья его избавлены от мук, распрощался с ними и домой отправился. Жена его встретила насупившись и дала ему поесть те кушанья, которые были им оставлены семь лет тому назад. Поел Арап Могучий и покрылся весь язвами. Невмоготу стала ему пытка эта, и пошел Арап на все четыре стороны. Шел, шел, пока не добрался до царского дворца. Здесь он попросил одного пастуха дать ему поесть чего-нибудь со свадебного стола. В ведре пастух принес ему крошки. Арап Могучий отказался принять эту еду и сказал слуге:
— Иди, парень, и скажи своему хозяину, что я ему служил семь лет, как брат, и не мне он должен посылать такие блюда.
Слуга передал все, что ему велели. Как узнал Филимон Фэт-Фрумос об этом, сам бросился к нему навстречу, повел во дворец и усадил на семи перинах во главе стола. И закатили они пир на весь мир. Исцелился Арап и остался жить в царстве Филимона Фэт-Фрумоса.
А Краса Веков Аромат Цветов вскоре родила мальчика златокудрого. На радостях закатили они пир на весь мир, авось и сейчас еще пируют.

Народные сказки
 ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА
ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА
В ее косе
Роза в росе.

Жил-был на свете богатый человек. Всего у него было в доме вдоволь, одного не хватало: хоть и был он в возрасте, а жена все ему детей не приносила. Однажды говорит ему жена:
— Погляди-ка, муженек, сколько у нас добра всякого, а дитя нам господь не дал. И на старости лет не на кого нам будет опереться, некого будет приласкать. Хуже, кажись, ничего и нет на свете. Ступай-ка ты к лекарям, не дадут ли они тебе снадобья какого, чтобы и нам детей иметь.
Поплелся горемыка по свету, у многих лекарей побывал, всяких снадобьев жене принес, но прошел год, прошел второй, а она все детей не родит.
Ни один лекарь им так и не помог. Тогда жена ему опять говорит:
— Ступай-ка, муженек, к знахаркам, попробуем и их снадобьев, авось повезет…
Ходил, ходил наш молдаван, пока набрел на искусную знахарку. Выслушала его старуха и так велела:
— Ты, человече, не кручинься. Ступай домой и спроси у жены, чего бы ей покушать хотелось, а дома того нет. А потом придешь ко мне и скажешь.
Вернулся муж домой и стал жену расспрашивать, чего бы ей покушать хотелось, а дома того нет.
— Да у нас, чай, дом — полная чаша, — говорит жена. — Мне и не придумать такого, всего у нас вдоволь.
— А ты подумай, подумай, авось вспомнишь.
Думала жена, думала да вдруг вспомнила, что хотелось бы ей покушать рыбки-уклейки. Услыхал муж такое, побежал к знахарке и все ей поведал.
— Вот и ладно, — говорит знахарка. — Это и будет тебе снадобьем. Ступай на ярмарку. По дороге встретишь рыбака. Купи у него рыбку-уклейку и дай жене покушать.
Муж так и сделал: пошел на ярмарку и встретил дорогой рыбака.
— Мэй, рыбаче, не продашь ли ты мне рыбки немножко, мне на лекарство нужно
— И продал бы, мил человек, да все уже продано.
— А ты посмотри хорошенько в корзине, авось хоть что-нибудь найдешь. Мне немного надобно.
Порылся рыбак в корзине и нашел под листьями двадцать одну уклейку. Взял у него муж рыбу и заплатил за нее не скупясь. А потом в радости великой домой вернулся, велел жене уху сварить и все съесть. Жена так и сделала и с того часа зачала. Ну и радости же у них было…
Промелькнуло девять месяцев, пришло жене время рожать. Родила она сына, родила второго, потом третьего, четвертого… К вечеру появился на свет и двадцать первый, и тогда только роды кончились.
А муж сидит во второй комнате и по писку новорожденных считает. Как насчитал он двадцать одного сына, схватился за голову и воскликнул сдавленным голосом:
— Дети мне нужны были?.. Такая орава съест меня с потрохами! Бог их послал, пусть бог о них и заботится, а я пойду куда глаза глядят.
Выбежал он из дому и шел не оглядываясь, пока достиг дремучего леса. В глухой чащобе срубил себе избушку и стал жить. Питался он мхами да кореньями, пил воду ключевую, людям на глаза не показывался и вскоре совсем одичал.
А жена его с сыновьями тем временем кое как из нужды выкарабкалась. Стали мальчики подрастать, работали дружно и опять на славу зажили. Были они проворными и смекалистыми, так что вскоре трудами своими нажили в двадцать раз больше добра, чем прежде отец их имел.
А как стали совсем взрослыми парнями, начали по праздникам на охоту ходить в самые далекие и глухие места. Вот однажды, охотясь, набрели они на избушку, в которой жил дикий человек. Очень это их удивило, стали они расспрашивать всех встречных и поперечных, что это за человек, пока дознались, что он их отец. Тогда парни вернулись домой, рассказали обо всем матери и все вместе принялись думу думать: как ухитриться и отца домой вернуть, чтоб их никто не смел сиротами считать.
И умудрила их старуха таким советом:
— Вы, сынки, глядите, отца не испугайте. Он одичал совсем и коли вы навалитесь на него кучей, может с ума сойти со страху и убежать еще дальше. А понесите ему краюху хлеба, вина баклажку да один сапог, такой, чтобы одной ноге в нем было просторно, а двум — тесно. Сложите все в избушке и поглядите, что дальше будет.
Парни так и сделали.
Вот вернулся дикарь в избушку и сразу же краюху увидел; накинулся на нее и стал жадно есть, приговаривая:
— Такой хлеб я едал, когда дома жил.
Жует он, жует, да вдруг и баклагу замечает.
— Вот добро! Тут, оказывается, и вино есть. А я его уж сколько лет не пивал.
Глотнул он из баклаги разок-другой и захмелел. Только вздумал на постель повалиться, да вдруг сапог заметил.
— Мэй, гляди-ка — сапог!.. А где же его пара?
Искал мужик, искал, все уголки обшарил, да пары не нашел. Тогда он натянул сапог на одну ногу — велик. И вздумалось ему сунуть в сапог и вторую ногу. Сунуть-то сунул, а вытащить никак не может. Тут и сыновья из засады выскочили и, окружив его, говорят:
— Довольно тебе, отец, в дикости жить, пойдем с нами домой.
Привели сыновья отца домой, умыли, остригли, одели и, как стал он в себя приходить, такую речь повели:
— Отец, ты нас на свет привел, а потом бросил на произвол судьбы. Хоть теперь об нас подумай. Ступай по свету да сосватай нам двадцать одну сестру, чтобы мы могли своим хозяйством осесть. А коли и этого для нас не сделаешь, не сносить тебе головы.
Пошел бедняга по свету, много дорог исходил, в каких только местах не побывал, а двадцать одну сестру нигде не нашел. Однажды шел по лесной тропинке, понурив голову, думу горькую думал, да и встретился с какой-то старухой. Рассказал он старухе, какая его участь ждет, а та его пожалела и такой совет дала:
— Ступай по этой дороге и иди все вперед, пока дойдешь до дворца Иляны Косынзяны — в ее косе роза в росе. На всем свете только у нее ты найдешь двадцать одну дочь. Попробуй посватать ее дочерей, авось выйдет дело.
Послушался старик совета, шел он, шел все на север, пока добрался до прекрасного дворца, каких раньше ему видеть не приходилось, сколько ни бродил по свету.
Проник он в ворота золоченые, пересек двор, выложенный камнями самоцветами, и перед лестницей мраморной остановился. Над головой у него зазвенел серебряный колокольчик, и за дверью раздался голос Иляны Косынзяны:
— Коли добрый ты человек — входи; коли лютый — ступай своей дорогой, не то выпущу на тебя волшебный палаш двенадцати ока весом и посечет он тебя, как капусту.
— Я добрый человек.
— Так входи. А чего тебе у меня надобно?
— Есть у меня двадцать один парень, а у твоей милости двадцать одна девица. Не угодно ли со мною породниться?
— Речь мне твоя приятна, но прежде хочу на женихов поглядеть.
Обрадовался старик и домой вернулся.
— Ну что, нашел нам невест? — спрашивают его сыновья.
— Нашел. Пойдемте к Иляне Косынзяне.
Парни тоже обрадовались, стали наряжаться, в путь-дорогу собираться. Побежали они к табуну, скакунов добрых себе выбрали. А тому, кто последним родился — коня не досталось.
— Не горюй, Петря, — говорят ему братья. — Бери любого коня.
— Где ж я его возьму? Ваших мне не надо, а в табуне только клячи остались. Съезжу я на ярмарку, куплю себе коня по сердцу.
Нагрузил он две десаги золота и в путь пустился. Долго искал Петря, пока увидел серого жеребца в яблоках, стройного могучего красавца. Пришелся ему по душе конь богатырский.
— Сколько просишь за коня, купец?
— Меру золота.
Петря торговаться не стал, золото отсыпал, вскочил на коня и в обратный путь подался. А конь-то был волшебный. Только они от ярмарки отъехали, он и заговорил человечьим голосом.
— Куда ехать собрался, хозяин?
— Едем мы все братья к Иляне Косынзяне, чтоб жениться на ее двадцати одной дочери.
— Коли хотите живыми остаться, — говорит тогда конь, — так меня слушайтесь. Коней во двор не вводите, а привяжите за оградой. Только меня с собой возьми. Иляна Косынзяна вас примет ласково, за стол усадит и дочерей вам отдаст. Потом вы все уляжетесь спать, каждый со своей нареченной. Только прежде наденьте на жен своих платье богатырское, а сами в женские тряпки обрядитесь. А как трону я тебя копытом, кликни всех братьев, садитесь на коней и скачите что есть духу прочь от волшебного дворца. Теперь же вели как тебя нести: быстрее ветра или быстрее мысли?
— Неси так, как добру молодцу ездить пристало.
Понесся конь под самыми облаками, земля под копытами мелькала, и недалече от дворца нагнал остальных двадцать братьев.
— А вот и наш Петря!
— Да, братцы, догнал я вас. Теперь глядите, делайте так, как я вас научу, иначе нам не сдобровать.
И Петря передал им все, что сам от коня услышал. Пришпорили парни скакунов и вскоре остановились перед дворцом Иляны Косынзяны. Все братья привязали коней за оградой, только Петря ввел своего скакуна во двор.
Иляна Косынзяна с дочерьми вышли им навстречу, приняли их ласково, и каждый выбрал себе невесту по сердцу.
Уселись они за стол, ели яства редкие, пили вина добрые, а после пира каждый из братьев взял свою нареченную, с тещей попрощался и спать отправился. Как остались они одни, парни и говорят своим женам:
— Вот что, женушки, в нашем краю есть такой обычай: в первую брачную ночь муж с женой платьем обмениваются. Негоже нам старинным обычаем пренебрегать, давайте и мы так сделаем.
Обменялись они платьем, женщины кушмы на голову нахлобучили, а мужчины повязались платками. Так и спать улеглись.
А Иляна Косынзяна тем временем позвала палаш свой волшебный двенадцати ока весом и велела ему отсечь головы всем двадцати одному братьям. Принялся палаш за дело и снес все головы, на которых были кушмы.
Тут волшебный конь коснулся Петри копытом, тот вскочил, как ужаленный, и крикнул братьям:
— Айда, братцы!
Сели они на коней и поскакали восвояси.
Но топот коней разбудил Иляну Косынзяну, побежала она поглядеть, что стряслось, да и увидела своих дочерей мертвыми. А парней и след простыл. Вскрикнула Иляна, взъярилась и велела палашу догнать беглецов и отомстить им смертью лютой.
Палаш было погнался за братьями, но они уже успели пересечь рубеж Иляниного царства, а за этим рубежом палаш силы не имел. Так спаслись братья от смерти неминучей, но ни с чем домой вернулись. Подумали они, как быть, и опять говорят отцу:
— Не повезло нам у Иляны Косынзяны, теперь уже столько сестер нам нигде не сыскать. Ступай отец и ищи нам невест — по две, по три сестры, где сколько будет.
— Так, ребята, куда лучше, вижу, набрались вы ума-разума.
— А я, отец, не стану тебя беспокоить, — говорит Петря. — Пойду сам себе невесту искать.
Недолго он собирался, сел на коня и пустился в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли ехал, вдруг глядь — блестит что-то на дороге. Перегнулся парень с седла, поднял золотое перышко и коня своего спрашивает:
— Взять мне
его или бросить?
— Коли возьмешь, раскаешься; коли бросишь, тоже раскаешься. Лучше уж возьми, раз хоть так, хоть этак раскаиваться придется.
Петря спрятал перышко и дальше двинулся. Ехал он сколько ехал и опять видит — блестит что-то посреди дороги. Перегнулся с седла и поднял золотую подкову.
— Взять мне ее, конь мой, или бросить?
— Коли возьмешь, раскаешься; коли бросишь, тоже раскаешься. Лучше уж возьми, раз хоть так, хоть этак раскаиваться придется.
Спрятал Петря в сумку и подкову, пришпорил коня и дальше поскакал. Ехал, ехал и вскоре опять видит — блестит что-то на дороге. Перегнулся с седла и достал золотой платок, сверкавший точно солнце.
— Взять его, конь мой, или бросить?
— Коли возьмешь, раскаешься; коли бросишь, тоже раскаешься. Лучше уж возьми, раз хоть так, хоть этак раскаиваться придется.
Взял Петря платок и дальше поскакал.
Так он ехал без передышки, пока добрался до дворца богатого-пребогатого боярина. Увидел боярин Петрю и спрашивает:
— Чего тебе надобно, парень?
— Хочу к хозяину в услужение наняться,
— Могу тебя нанять в кучера. Согласен?
— Ладно.
Положил ему боярин жалованье, но с таким уговором: чуть он в чем-либо волю боярскую не выполнит — голову с плеч долой.
Поставил Петря коня своего в конюшню, а сам за дело принялся, работа у него в руках горела.
Однажды заглянула в конюшню дочь боярская и увидела: на стене что-то ослепительно сверкает. Побежала она к отцу и молвит:
— Батюшка, а у нашего кучера есть какая-то сверкающая вещь, какой у нас во всем дворце нет.
Нахмурился боярин:
— Вели ему, пусть тотчас принесет эту вещь ко мне.
Кучер и принес ему золотое перышко. Поглядел на него боярин, озлился и кричит:
— Где хочешь найди мне птицу, у которой это перо вырвали, иначе не сносить тебе головы.
Загрустил Петря, закручинился, пошел к своему коню совет держать.
— Пустяки, хозяин, не кручинься. Ступай, проспись хорошенько, а как только смеркнется, седлай меня и поедем птицу добывать.
Петря так я сделал, под вечер оседлал скакуна и поехал путями давно не езжеными, не хожеными. Дорогой конь ему говорит:
— Петря, золотая птица находится во дворце Иляны Косынзяны в чудесной клетке, что в десять раз красивее и драгоценнее самой птицы. Ты птицу возьми, а клетку не трогай, не то худо будет. Пройдешь двенадцать покоев, которые сторожат двенадцать стражников, и только в тринадцатом покое птицу найдешь. А стражников не бойся, я их усыплю, так что переступай смело прямо через их тела.
Пробрался Петря во дворец Иляны Косынзяны, прошел двенадцать покоев и в тринадцатом нашел птицу в чудесной клетке. Птицу он взял, а клетку не тронул. Потом выбежал из дворца, вскочил на коня и во весь опор помчался восвояси.
Очень обрадовался боярин, когда Петря вручил ему птицу невиданную, схватил ее, а кучера на конюшню отправил.
Через неделю дочь боярская опять на конюшню заглянула, а там блестит что-то еще пуще прежнего. Кинулась она к отцу и кричит:
— Батюшка, а у Петри на конюшне что-то еще пуще прежнего блестит.
— Вели ему, чтоб ко мне принес.
Явился Петря перед боярином и показывает подкову золотую. А тот недолго думает и велит кучеру:
— Приведи ко мне коня, который подкову эту потерял, иначе не сносить тебе головы, лопух!
Закручинился Петря, слезы на глаза навернулись, и побежал к коню своему о новом горе поведать.
— Не кручинься, хозяин. Мы и коня найдем у Иляны Косынзяны. Под вечер в дорогу пустимся.
Как стало темнеть, оседлал Петря коня, пустился в дорогу дальнюю. Да ему не привыкать стать.
Стали они ко двору Иляны Косынзяны приближаться, а волшебный скакун и говорит:
— Конь, которого мы ищем, стоит в конюшне и горящие угли глотает, выдерни три волоска из моей гривы и брось на угли. Он вдохнет дым от горящих волос и не станет ржать, когда ты его из конюшни выводить будешь.
Петря послушался скакуна своего, все так и сделал, благополучно вывел из конюшни волшебного коня с золотистой гривой и привел его к боярину. Тот глаза выпучил от удивления.
Через неделю боярская дочь опять заглянула на конюшню и чуть не ослепла: такое там было сияние. Побежала она к отцу.
— Батюшка, у нашего Петри есть такие вещи, каких и в царском дворце не сыщешь.
— Вели ему, пусть несет их сюда.
Петре некуда деваться, несет боярину золотой платок.
Глянул мироед, диву дался, и велел кучеру:
— Ступай, куда хочешь, весь мир обойди, а приведи ко мне хозяйку этого платка, не то не сносить тебе головы.
Тут Петря совсем приуныл, побежал к коню совет держать.
— Не теряй надежды, хозяин, авось и с этим делом справимся.
Ночью оседлал Петря коня и опять пустился в путь ко дворцу Иляны Косынзяны.
— Петря, как войдешь ты в опочивальню Иляны Косынзяны, застанешь ее спящей. А у ног ее увидишь стакан питья волшебного и у головы — другой стакан. Выпей вначале тот стакан, что у ног, затем тот, что у головы, и силы твои удесятерятся. Тогда возьми ее с постелью, со всем, садись на меня верхом и в путь.
Петря тихонько пробрался во дворец, выпил оба стакана питья волшебного, поднял, словно перышко, Иляну Косынзяну вместе с ее ложем, вынес из дворца, вскочил на коня и припустил во все лопатки. Так и довез ее, не разбудив, до замка боярского. Тут он тихонько поставил кровать Косынзяны рядом с кроватью боярина, а сам ушел к себе на конюшню.
Наутро боярин проснулся и диву дался. Глядит не наглядится на Косынзяну, была она такой красивой, что с солнцем красотой поспорить могла бы.
Вскоре проснулась и Иляна, огляделась вокруг, все поняла и в сердцах закричала:
— Только Петря мог сыграть со мной такую злую шутку. Велите его позвать ко мне.
Мигом перед нею кучер явился.
— Вот что, Петря, ты убил моих дочерей, ты украл мою золотую птичку, ты увел моего коня волшебного. Мало тебе было этого, так ты и меня вынес из дворца моего, лишив меня покоя и радости. Теперь настал час и мне отыграться. Помни, коли не приведешь ко мне мой табун лошадей, что пасется на дне морском, не сносить тебе головы.
Побежал Петря к коню и передал приказ Иляны. А конь ему говорит:
— Пойди, потребуй у нее двенадцать телег смолы, двенадцать телег рогожи и двенадцать телег ряден.
Выслушала Иляна слова кучера и велела дать ему все, что просит.
Тогда конь велел Петре:
— Смажь мне спину смолой, положи рогожу, потом опять смажь смолой и положи рядно и так, пока не уложишь все, что есть на возах.
Петря уложил коню на спину все рогожи и рядна, так что тот стал с дом величиной. Потом сам залез на самую верхушку и в путь двинулся.
Долго ли, коротко ли они ехали, наконец добрались до высокого берега морского. А по берегу зияло много пещер, в которых можно было легко спрятаться.
— Ты, Петря, спрячься в одну из пещер и жди там, пока я не одолею жеребца со дна морского, — велел конь. — Коли удастся мне его одолеть, выходи, надень на него узду и в обратный путь поедем, а коли он меня свалит, гляди, не выходи, не то худо тебе будет.
Петря спрятался, а конь заржал так, что море всколыхнулось, и тоже укрылся за скалой. Тут со дна морского выплыл страшный жеребец, мигом обежал весь берег, но никого не увидел и опять кинулся в воду.
Петрин конь из убежища своего вышел, еще пуще заржал и опять скрылся. Снова выскочил из волн морских злой жеребец, дважды весь берег обежал, но никого не увидел и в море кинулся. Тут Петрин конь в третий раз заржал — горы всколыхнулись.
Выскочил жеребец, совсем разозлился, трижды весь берег обежал, землю копытами роет. Видит Петрин конь — устал жеребец изрядно. Только теперь он посмел выйти ему навстречу. Схватились они не на жизнь, а на смерть, грызут один другого зубами. Только Петрин конь живое мясо рвет, а жеребец — рогожку да дерюгу. Ясно стало Петре, конь его жеребца одолевает, тогда он и сам выбежал из засады и взнуздал пленника. Затем вскочил на коня своего волшебного и помчался в обратный путь, ведя жеребца в поводу.
Скакали они, скакали, да вот конь говорит Петре:
— Оглянись-ка, Петря, не увидишь ли чего за нами.
Петря оглянулся и далеко-далеко увидел что-то вроде стаи журавлей.
— Ну, что видишь?
— Никак стая журавлей летит за нами.
А это табун со дна морского за своим жеребцом бежал. Конь сразу догадался и говорит:
— Ну-ка стегни меня плетью разок, а жеребца стегни дважды да покрепче.
Так Петря и сделал и понеслись они пуще прежнего. Через некоторое время конь опять молвит:
— Ну-ка, Петря, оглянись, не увидишь ли чего.
Оглянулся парень и увидел что-то вроде стада овец.
— Ну, что видишь?
— Никак стадо овец нас догоняет.
— Ладно. Стегни разок меня плетью, а жеребца трижды, да покрепче, чтоб не плелся в хвосте.
И опять они мчались не переводя дыхания, пока конь не велел:
— Оглянись-ка, Петря, не увидишь ли еще чего.
Оглянулся Петря и увидел табун страшных лошадей. Мчатся за ними, землю едят.
— Что видишь, Петря?
— Большой табун страшных лошадей нас догоняет.
— Вот теперь стегни меня плетью дважды, а жеребца четырежды.
Петря послушался и погнал скакунов еще сильнее.
Иляна Косынзяна уже знала, что табун скоро прибудет, и велела загоны построить. Только Петря явился, она всех кобыл в загон загнала, а жеребца в конюшню поставила.
— Вот, — говорит Петря, — доставил я тебе табун.
— Но от меня все еще не избавился. Теперь подои кобыл, вскипяти их молоко в котле и искупайся в нем.
Видит Петря, что Иляна хочет во что бы то ни стало жизни его порешить. Никогда ему еще так горько не было. Пришел он к коню хмурой тучей, а конь его и спрашивает:
— Что с тобой, хозяин?
— Вот что Иляна велела мне сделать, — и все коню рассказал.
— А ты ступай к Иляне и попроси позволения, чтобы и я с тобой пошел, поглядел, как ты мучиться будешь.
Пошел Петря к Иляне и стал просить:
— Вижу, пробил мой час последний, и очень прошу тебя, позволь, чтобы конь мой верный при мне был, когда я дух испускать буду.
— Ладно, — согласилась Иляна.
Под вечер Петря залил загон, где стоял табун, водой. А ночью мороз ударил и кобылы в лед вмерзли по самые колени.
Утром Петря подоил их, вылил молоко в большой котел, а как стало оно закипать, вывел коня своего из конюшни и привязал к ушку котла.
Подул конь зимней ноздрей и молоко застыло, потом подул летней и отогрел его — точь-в-точь как вода в пруду летним днем. Петря искупался и вылез из котла жив и невредим. Увидела это Иляна и приказала:
— Завтра опять кобыл подоишь и молоко вскипятишь. Я в нем купаться буду. А к котлу привяжи моего жеребца.
Парень сделал все, как она велела. А ее жеребец тоже был волшебный. Подул он на молоко зимней ноздрей и заморозил; затем подул летней ноздрей и отогрел. Искупалась Иляна, как в пруду среди лета, позвала Петрю и опять повелела:
— Теперь приготовь такую же купель и для боярина, а к котлу привяжи его коня.
Подоил Петря кобыл, молоко вскипятил, а к ушку котла привязал коня боярского. Да то был конь простой и ничего с молоком поделать не смог.
Боярин очень уж возгордился золотой птицей, златогривым конем и пленницей своей Иляной Косынзяной. Не хотел он от простого кучера в доблести отстать и побежал в молоке купаться. Только он прыгнул в котел, тут же сварился и дух испустил.
А Иляна Косынзяна позвала Петю и такую речь повела:
— Ну, Петря, теперь мы от боярина избавились и стали вольными птицами. Ты холостяк, а я вдовица, давай поженимся и будем вместе век свой коротать
Закатили они свадьбу веселую, пир горой, и я там был, ел и пил, а потом удрал и сказку вам рассказал.
 ТЕБЕ ДОСТАЛАСЬ ОДНА ДУША, А МНЕ — ДВЕ
ТЕБЕ ДОСТАЛАСЬ ОДНА ДУША, А МНЕ — ДВЕ

Жил-был бедный-пребедный парень. С малых лет остался он сиротой, без отца, без матери. Пришлось ему в батраки наняться. Батрачил он, батрачил, горе мыкал, спину на хозяев гнул, да никакого толку в жизни не добился. Вот решил он бросить хозяина и податься, куда глаза глядят. Идет по дороге и сам себе говорит:
— На многих я спину гнул, только черту еще не служил. Послужу-ка теперь и ему, авось и мне что-нибудь достанется. Тут ему дьявол вышел навстречу да и спрашивает:
— Пойдешь ко мне в услужение?
— А чего бы и нет? За этим-то я и пошел, куда глаза глядят.
— Ну, так ступай за мной!
Пошел парень за чертом, и тот привел его к себе в дом.
— Вот что, парень, — говорит ему черт. — Снимай свою одежку да надень то, что я тебе дам. Целый год тебе запрещено переодеваться, умываться, стричься и бриться. А как пройдет год, так и службе твоей конец.
Парень так и сделал. Выстроил черт большую лавку у самой городской площади, забил ее всякими товарами красными, а парня посадил деньги принимать да счет им держать.
Принялся наш парень за дело. Приказчики снуют, товар продают, а он весь день-деньской на стульчике сидит, денежки считает.
Торговля шла бойко, деньги рекой текли, а Сатана каждый день приходит, казну себе забирает.
В один прекрасный день пришел к парню какой-то боярин и просит у него две тысячи рублей взаймы.
— Приходи под вечер, может и дам.
Только боярин вышел, и черт тут как тут. Парень его и спрашивает, как быть.
— Дай ему денег! — велел черт.
Под вечер опять боярин в лавку явился.
— Ну что, надумал? Дашь мне денег?
— Пиши расписку, — отвечает парень. — Деньги вот они.
Боярину того только и надо было. Написал он расписку, схватил деньги и побежал с другими боярами в карты играть. Да недолго он радовался, скоро все до копейки от него и уплыло.
И неделя не прошла, как боярин опять явился в лавку и попросил десять тысяч рублей взаймы; и опять велел ему парень прийти под вечер.
Пришел Сатана, а парень у него и спрашивает, как быть.
— Дай ему денег! — велел Сатана.
Вечером явился боярин, написал расписку, и парень отсчитал ему десять тысяч рублей.
Только мироед и эти деньги быстро спустил и через месяц опять к парню явился, да на сей раз уже сто тысяч просит.
— Приходи под вечер, — говорит ему парень.
Пришел черт, парень ему все рассказал, подумал, подумал нечистый дух да и говорит:
— Ладно, дай ему, сколько просит.
И опять парень отсчитал боярину деньги, взяв взамен расписку.
Прошло несколько месяцев, боярин все деньги пустил по ветру и остался без ничего. Тросточка в руке — вот и все его имение. Ходит он по городу без дела и посвистывает.
Тут и парню исполнился год службы у Сатаны. Пошел он к хозяину, отчет отдал, все честь честью. Только он был честным человеком и напомнил черту:
— Не хватает здесь тех денег, которые я боярину взаймы дал.
— Ладно, не тревожься, он заплатит все сполна.
— Тогда и ты мне уплати за службу и пойду я восвояси.
— А ты повремени дня два-три, тогда и рассчитаемся.
На другой день сел черт в карету, поехал к должнику своему. Прижал он боярина к стенке, тот тык-мык, а платить-то нечем.
— Ладно, — говорит черт, — мне твоих денег не надо, только выдай одну из своих дочерей вот за этого парня.
Тут нечистый достал из кармана портрет страшилища: одет в отрепья, грязный, небритый, борода спутана, на пальцах — когти длиннющие. У боярина волосы дыбом встали, да деться-то ему некуда. Позвал он трех своих дочерей и рассказал им, что и как. Две старшие дочери руками и ногами отбиваются, а младшая и говорит:
— Я за него выйду, батюшка. Будь со мной, что будет, только бы мои родители на старости лет в долговую тюрьму не попали.
— Ну так готовьтесь к свадьбе. Через два дня я вам и жениха привезу, — сказал черт и исчез.
Принялись старшие сестры над младшей насмехаться, женихом-уродом ее корить, а та молчит и к свадьбе готовится.
А нечистый тем временем парня помыл, постриг, приодел и стал он таким красавцем, каких свет не видывал.
Настал день свадьбы, и вот дьявол привел в дом к боярину парня. А там все глядят на него, дивятся, глазам своим не верят.
Тесть и спрашивает:
— Да где же жених?
— А вот он, — отвечает черт и толкнул вперед красавца.
Такое зло, такая досада разобрала старших дочерей, что они забились в свои покои и тут же повесились.
А парень сыграл свадьбу, черт его на прощанье казной богатой наградил и так сказал:
— Ты мне честно служил, но тебе все же досталась одна душа, а я заработал целых две.

 ЛЕЙСЯ СВЕТ ВПЕРЕДИ, ТЬМА СТЕЛИСЬ ПОЗАДИ
ЛЕЙСЯ СВЕТ ВПЕРЕДИ, ТЬМА СТЕЛИСЬ ПОЗАДИ

Сказку я вам расскажу, ничего не утаю, так, как сказывали мне вечерами на селе.
Жили-были муж да жена — люди, как люди, ни плохого о них, ни хорошего ничего не скажешь. Поженились они в молодости и прижили одну дочку. Росла дочка красавицей-раскрасавицей, как солнышко ясное, как ягодка красная; кто видел ее хоть раз, поверьте, не мог уже позабыть до самой смерти. Как подросла дочка, разнеслась о ней молва по всему белу свету; из-за тридевяти земель приезжали юноши поглядеть на ее красоту и наглядеться не могли. Только о ней все и говорили да спорили. А те, кому жениться пора пришла, все мешкали, все надеялись: и она ведь девушка, как все девушки, когда-никогда придется ей жениха себе выбрать.
Только, как говорится, каждое семя легко всходит да зеленеет, да нелегко цветет и зреет. Бывает, дожди и ветры злые гнут росток к земле, рвут его и ломают, и тяжко ему снова в себя прийти, чело к солнцу поднять.
Так настали тяжелые дни и для бедной девушки. Ни с того, ни с сего заболела ее матушка, застонала, заохала и богу душу отдала. Только и успела достать из-за пазухи перстень, отдать его дочке да промолвить:
— Видишь этот перстень? Береги его, как зеницу ока. Кто бы тебя ни сватал, надень ему перстень на палец: коли впору придется, выходи за него, а коль нет, так и не думай.
Похоронила она матушку, покручинилась, погоревала, прошло немного времени, и опять стали ее женихи донимать. Много их приходило, днем и ночью пороги обивали; примеряла она всем перстень, да никому он впору не приходился. Ходили к ней женихи, ходили, а потом стали все реже и реже заявляться, когда-никогда какой-нибудь завернет, да и тот недотёпа. А суженого все нет и нет. По всему белу свету парни думали да гадали: кого же она наконец в мужья себе выберет?
Жил в те времена Мужичок-с-ноготок-борода-с-локоток и был у него внук, не к ночи будь помянут, уродливый да страшный, как нечистая сила.
Лишь глаза он открывал,
Сад цветочки осыпал,
Птицы петь переставали,
Тучи месяц закрывали,
Солнце с неба уходило, —
Вот каким уродом был он!
Должно же было так случиться, чтобы чудище Мужичок-с-ноготок проведал, каков размер перстня, а проведав, развел он костер жаркий и заставил внука девять дней да девять ночей держать руку в огне-пламени: когда размякла рука, положил ее Мужичок-с-ноготок на наковальню и трах-таррарах — стал ковать девятью молотами. Ковал, ковал, пока не подогнал палец внука под размер перстня.
Тогда нарядил Мужичок-с-ноготок своего внука в платье, золотом и серебром шитое, самоцветами украшенное, и послал его красну-девицу сватать. Поклонился тот девице, протянул палец… и пришелся ему перстень впору.
Горе-горюшко, у бедной девицы слезы ручьем полились. Не ждала она, не гадала, что такой жених ей достанется. Но коль матушка на смертном одре так наказала, некуда ей было деться. Плакала она, причитала, но никто ее горю помочь не мог, никто ее не мог утешить. А дракон глаз с нее не сводит: едва он на нее глянул, так сердце любовью и загорелось.
Как уж она там крутилась-вертелась, а удалось ей скрыться с глаз дракона и, никем не замеченная, побежала к матушкиной могиле и стала горько плакать:
Ой, земля ты черная,
Ой, могила темная,
Хоть бы дождь тебя размыл,
Хоть мороз бы расщепил,
К матушке на дно земли,
Стоны чтоб мои дошли.
День-деньской я слезы лью,
Пусть услышит боль мою!
— Что с тобой сталось, доченька милая, — раздался голос, глухой, точно стон.
— Ой, матушка родимая, оставила ты мне перстень на горе-злосчастье, не нашелся по нему жених, как все женихи, а пришелся он впору чудищу дракону. Научи меня, матушка, уму-разуму, как мне от дракона избавиться, а то нежели мне выйти замуж за такое лихо, лучше с тобой рядышком в могилку лечь.
— Доченька моя, ступай домой и скажи жениху, что коль сошьет он тебе платье прекрасное, как небо на заре, как солнце в полдень, как вечер на закате, выйдешь за него, а коль не сможет, пусть убирается восвояси.
Возвратилась девица домой и отрезала змею прямо в лицо, что коль сошьет ей такое платье, выйдет за него замуж, а не выполнит наказ, пусть и на порог не является.
Внук Мужичка-с-ноготок послал эту весть в змеиное царство, и сшили там из золота и самоцветов такое платье, какого ни до того, ни после белый свет не видывал.
Вернулся дракон с платьем, с поклоном отдал его девушке. Когда она его надела, то платье сидело на ней, как вылитое. И как ни славилась девица красотой, а в платье том в семь раз красивее стала. На груди, на плечах, на подоле три солнца блестели; восходящее, полуденное и заходящее.
Дракон ликует, а девушка чахнет и горюет. Лицо ее из золотистого стало землистым, по щекам ручьем слезы льются; увидала она, что свадьба готовится, и побежала тайком на могилу своей матушки, да так горько заплакала и запричитала, что сердце разрывалось:
Ой, земля ты черная,
Ой, могила темная,
Ты разверзнись подо мной,
Лягу, матушка, с тобой,
Твоей шалью поутру
Слезы я свои утру.
А коль нет, из-под земли
Добрый мне совет пошли:
Что мне делать, как мне быть,
Умереть мне или жить?
И снова донесся из-под земли глухой голос:
Дочь моя печальная,
Отчего ты слезы льешь,
Мне покою не даешь?
— Матушка, матушка, — молвила девица, — змей мне платье пошил, теперь со свадьбой торопит.
— А ты скажи жениху, пусть сошьет еще одно, и чтоб было оно прекрасно, как утро ясное, и пронизано лучами и усыпано цветами во всей их красе при утренней росе, цвет их взоры чтоб манил, запах душу бы пьянил. И коль пошьет он тебе такое платье, выходи за него, а коль нет, вели ему и близко к дому не подходить.
Воротилась девушка домой и говорит дракону:
— Коль люба я тебе, дракон, и хочешь, чтобы я твоей невестой стала, одень меня прежде в платье прекрасное, как утро ясное, пронизанное лучами, усыпанное цветами во всей их красе при утренней росе, цвет их чтоб взоры манил, запах душу пьянил, а коль нет…
Не успела она договорить, как внук Мужичка-с-ноготок уже умчался в царство драконов и поднял на ноги золотарей да портных — лучших мастеров своих. Три дня они цветы собирали, три дня нить шелковую пряли, три дня самоцветы да крупинки золота подбирали и пошили такое платье, что не сыщешь второго на свете; глядя на него, птицы щебетали, люди трепетали, глаз оторвать не могли, на лицах улыбки цвели. Как надела его девушка… ух… братец ты мой!.. Ни прекрасный май, ни цветущий край, ни любимый взгляд, ни солнечный сад, ни кодры на горе на утренней заре — ничто с ней сравниться не могло. Только с песней, только с мечтой сравнить ее можно было. Кто на нее глядел, от любви к ней млел, а девушка ходит хмурою тучею да плачет слезами горькими. Опустили все вокруг головы и стоят, точно каменные, никто не знает, чем ее утешить, как горю помочь, никто не смеет ее приголубить.
Пошла девушка опять тайком на могилу матушки и плачет, рыдает, горе в слезах выливает:
Ой, земля ты черная,
Ой, могила темная,
Давишь маме ты на плечи,
Но печаль моя не легче,
Черным-черна ночь твоя,
Черней долюшка моя.
Ты, могила, расступись,
Матушка, ко мне явись.
В третий раз хочу спросить:
Умереть мне или жить?
— Что случилось, доченька родная?
— Пошил дракон платье и ждет, чтобы я ему руку подала, под венец с ним шла.
— Красавица ты моя, вели дракону сшить тебе третье платье, прекрасное, как ночь-кудесница, со звездным небом и полным месяцем, и коль и с этим он справится и платье всем понравится, сделай вид, что покоряешься, начинай свадьбу веселую; а как выйдешь во двор танцевать, приложи руку к цветку на груди и молви: "Лейся свет впереди, тьма стелись позади", — и ступай, куда глаза глядят. Станешь ты вольной, как птичка небесная, как ветер весенний, никто не найдет ни следов твоих, ни тени.
Передала девушка дракону свой наказ, а чудище ничего не ответил, он решил и эту задачу выполнить во славу рода драконова. "Ладно, — думает, — не сегодня, так завтра, а будешь ты моих драконов забавлять". Отправился он и сшил ей третье платье, да такое прекрасное, что целого дня не хватило бы на его описание да и времени на это у нас нету. Пришел внук Мужичка-с-ноготок к девице, она убралась в новый наряд и стала писаной красавицей; на ее плечах два драгоценных камня сверкали, как две утренние звезды, на кушаке рубиновые и изумрудные гроздья, на груди полный месяц светел и велик, но все же прекрасней девичий лик.
Не много времени прошло, и завели они свадьбу. Гостей съехалось видимо-невидимо, пошел пир да веселье. Музыка заиграла, пляс разгорелся, а никому невдомек было, что на том и свадьбе конец.
Вот пришло время выводить невесту из дома, по древнему обычаю. Во дворе музыка играла, ноги сами в пляс рвались. Только стали гости место для хоры очищать, невеста руку к цветку на груди приложила и молвила:
— Лейся свет впереди, тьма стелись позади!
Сказала, и след ее простыл. Остался змей с носом, только глаза вытаращил. А народ над ним насмехается да дивится волшебству прекрасной невесты. Всем хотелось знать, куда она делась, да так никто ничего и не разведал.
Невеста же, отойдя от дома, пошла по краю неба, по звездным лучам и дошла до старого леса дремучего; дело было к вечеру, и решила она подыскать себе в чаще местечко для ночевки.
Солнце вечером заходит, всходит утром рано, а гроза и дождь, когда им вздумается, могут нагрянуть.
Добрался внук Мужичка-с-ноготок в царство драконов, те не дали ему на печи засиживаться, а снарядили быстро еще одного дракона с двумя злыми-презлыми собаками и послали девушку искать. Собаки — нос в землю, хвост трубой — повели их по свету, повели по свежему следу. Бегут псы впереди, а драконы со свирепыми рожами позади, оба машут кулаками, скрежещут зубами, воют вурдалаками, несутся они во весь опор и наяву мечтают и во сне им снится, как бы скорее получить красу-девицу.
Вскоре добежали собаки до леса, залаяли и бросились в заросли, где девушка спряталась. Бедняжка со страху обомлела, хотелось ей сквозь землю провалиться.
Схватил ее свирепый внук Мужичка-с-ноготок за руку, хотел из кустов выволочь, тянет-потянет, а она и шелохнуться не хочет. А второй дракон, недолго думая, хвать! девушку саблей по рукам и обрубил их но самые локти. Упала девушка наземь, заплакала, а внук Мужичка-с-ноготок бросил одну руку одной собаке, вторую — другой, кивнул своему спутнику, повернул восвояси и был таков.
Осталась красна девица одна со своим горем, со своей печалью. Побрела она по лесу, а кровь так и хлещет, и силы слабеют; вдруг, откуда ни возьмись, разразилась гроза, поднялась буря страшная, ветер лютует, деревья корчует. Укрылась девушка от ненастья, как смогла, а тут — трах! — обломилась вершина дерева, а на ней было гнездо с птенцами. Ветер гнездо распотрошил, и посыпались птенцы, кто куда. Лежат, бедные, такой писк поднимают, что и камню впору от жалости к ним заплакать.
Тронул девушку крик птенцов, стала она по лесу метаться, собрала их обрубками рук, присела над ними и укрыла, пока гроза и дождь не стихли. Только она оставить их вздумала, как вдруг слышит — птица какая-то над головой крыльями шелестит. Пи-пи, пи-пи! Запищали птенцы и потянулись к матери.
— Ох, милые мои пташечки, родные мои деточки, что с вами случилось? — запричитала птица.
— Ветер дерево сломал, гнездо разрушил, и пришлось бы нам утонуть под ливнем, не будь этой девушки, что укрыла нас, — защебетали хором птенцы.
Глянула птица на девушку, увидала ее без рук — сердце скорбью налилось, а глаза — слезами.
— Чем же тебе отплатить за сделанное добро?
— Чем тебе не жалко.
— Ой, родненькая моя, рада бы тебе руки отрастить, да нет у меня воды чистой, как слеза, из родника родников, что бьет из-под драконовой скалы, и добыть ее не в силах: до родника того птице не долететь, человеку не дойти, зверю не добежать. Одарила бы я тебя богатством богатств, благом земным, но ни к чему оно тебе: владеть им ты не сумеешь, прокормиться не сможешь. Лучше позабочусь я о тебе, как забочусь о птенцах своих: как их холю, и тебя холить буду.
— Какое бы ты мне добро ни сделала, мне от него все добро.
Расправила птица крыло, повела им над девушкой и обернула ее в птенца, как две капли воды похожего на остальных.
Выкормила она их, выходила, а как подросли птенцы, песней веселой солнце встречали, над привольными полями порхали. Держались они стайкой, сами пищу добывали, сами на ночлег летали.
А неподалеку от леса, в котором жили птенцы, рос большой прекрасный сад Зелен-царя.
Повадились пташки в тот сад летать, червяков, жучков клевать, пока в один прекрасный день не приметили яблоньку ветвистую, красавицу-раскрасавицу. А яблонька та была не простая: утром листья распускались, в полдень ветви цветом покрывались, через день плоды наливались, да такими они были сладкими, вкусными и сочными — язык проглотишь. Как приметили они то дерево, так только на нем яблоки и клевали.
Зелен-царь терпел день, терпел два, но, видя, что так ему не собрать урожая, созвал трех сыновей своих и молвил:
— Сыны мои, коль яблоки есть хотите, покараульте дерево от птиц небесных.
— Покараулим, батюшка, — ответили в один голос сыновья.
В первый вечер отправился караулить старший сын, да только недолго он бодрствовал: сковал его сон, да такой крепкий, что с трудом солнце красное утром разбудило.
Со стыда не знал он, куда и деться: смеялись над ним и царь, и братья, и весь двор.
На второй вечер отправился караулить средний сын. Боролся он со сном, боролся, а когда сумерки совсем спустились, заснул еще крепче брата. На следующий день опять было над кем посмеяться.
На третий вечер отправился караулить младший сын. Взял он с собою оружие молодецкое, подобрал местечко укромное и сел в засаду. Просидел он недолго — над землею ночь опустилась. Вдруг, в воздухе крылышки зашелестели, пташки всей стайкой на яблоню сели и ну плоды клевать! Поднял царевич лук, прицелился, да только заметила это девушка, в птицу превращенная, и закричала:
— Стой, царевич, не стреляй!.. Коль нас убьешь, ничего не выгадаешь, только радости лишишься.
Испугался царевич, лук опустил, а пташка скок, скок! с ветки на ветку, все ниже и ниже, и, как только земли достигла, обернулась опять красавицей-раскрасавицей, а платье на ней так ярко светило, что и солнцу так бы сад не осветить. Пташки защебетали, листья на деревьях заплясали, ветви наземь опустились, пред девицей расстилались. А она шла к царевичу, шла и очаровывала его. Глаза ее молниями пронизывали, огнями горели. Лоб сиял золотом, брови черные — дугой, щеки румяные, как зори ранние, губы — соты медовые, русые волосы шелковые, бусы — цветы алые, а платье и совсем небывалое!..
Красиво солнце, когда тучи его опоясывают, но еще краше, когда плывет по небу ясному. Красной была девушка в золоте, серебре и самоцветах, красивыми были лицо ее и осанка, но еще краше была бы, коль руки б имела.
У царевича сердце зашлось от любви к ней. Но как увидел ее безрукой, заплакал горько; заплакала и девушка вместе с ним. Лились слезы ручьями, но пламя любви их быстро высушило. И поведала ему девушка жизнь свою, жизнь горькую-прегорькую, омраченную псом-драконом.
— Души б своей не пожалел, пташечка моя, только бы видеть тебя с руками. Возможно ль это?
— Слыхала я молву, будто возможно; птица, обернувшая меня в птенца, сказывала, что коль привезет кто воды чистой, как слеза, из родника родников, что бьет из-под скалы драконовой, смогу я исцелиться, и отрастут у меня руки такими, как были.
— Красавица моя, пойдем во дворец моего батюшки; там ты заживешь припеваючи, будут тебя кормить, холить.
— Не пойду, — ответила девушка. — Зелен-царь велит покарать нас обоих.
— Не бойся, пташечка. Пока ты живешь в моем сердце, никто тебя коснуться не посмеет.
— Не хочу я свое горе, печаль свою на тебя взвалить.
Осмотрелся царевич, увидал в саду среди деревьев цветущий красный мак, сорвал его и приколол девушке на грудь.
— Возьми этот цветок, а я отправлюсь в путь-дорогу. Как соскучишься по мне, брось цветок в прозрачную воду: коль потонет — не жди меня более, коль поплывет по воде — жди меня хоть целый век, а подплывет к берегу — жди меня год один…
— Куда же ты собрался?
— Иду, чтобы сделать тебя такой, какой ты хочешь быть.
— Милый мой, на смерть ты идешь.
— А коль вернусь, где тебя искать?
— Буду я по утрам в твоем саду песней восход солнца встречать.
Рассталась красавица с сыном Зелен-царя, прыгнула на веточку и опять пташкой обернулась.
Потом взяла она маковый цветок в клюв, полетела к ручью прозрачному, бросила его в воду и с трепетом глядела, что с ним станется. Поплыл было цветок по течению, потом к берегу и пристал, точно весь свой век там рос. Обрадовалась птичка и быстро полетела ко дворцу посмотреть, там ли еще молодец, а он уж далеко ушел, путь держал к царству драконов, к роднику родников с водою, как слеза.
Запела птичка песню расставания, песню добрых встреч, а царевич все шел да шел — лесами, горами, местами, где драконы обитали, и в один прекрасный день добрался до глубокого страшного оврага, на дне которого три черта драку затеяли, за чубы тягались да такой вой подняли, — хоть святых выноси.
— Отдай мне!
— Э, нет, — мне!
— Мое это!
— Нет, не твое!
— Не толкайся. — Хлоп! Трах! Бах! — … — Ой-ой-ошеньки!
Дрались они так, дрались и вдруг заметили, путник подходит. Выпялили они на него очи и, как были — избитые, несчастные, посиневшие, как ягоды терновые, выскочили ему навстречу и принялись упрашивать:
— Добрый человек, коль привел тебя случай к нам, смилостивься и рассуди нас: больно крепок орешек, нам самим его не раскусить.
— Что же случилось, рогатые, что вы рыла себе изукрасили, ребра дубинами пересчитали?
— Отец наш на смертном одре завещал нам три вещи, и вот мы никак наследство не поделим.
— Что же он вам оставил?
— Пару постолов, кушму и флуер. Но вещи эти не простые, а волшебные. Коль обуешь постолы, можешь в них ходить по воде, как по суше. Кушму как наденешь на голову, идешь своей дорогой и горя тебе мало — никто тебя не увидит, а на флуере как заиграешь, сразу очутишься там, где душе твоей угодно.
— Тяжелую загадку вы мне задали, но постараюсь рассудить вас. Видите ли, что толку, коль каждый из вас получит по одной вещи? Один по воде пойдет, другой — сам черт не ведает куда. Вот коли б один из вас всем завладел, это было бы дело.
— Так оно и есть! — выскочил один из чертей с шишками на лбу.
— Вот я думаю сделать так, чтобы все одному досталось. Теперь слушайте меня. Оставьте вещи здесь, в овраге, и бегите до того холма, что виднеется там вдали. Кто быстрее туда добежит да назад воротится, тому владеть всеми вещами.
— Ладно, — согласились черти.
— Ну, становитесь в ряд и марш!
Как припустили они… гей-гей… батюшки, такую пыль подняли, что на десять верст вокруг кодры припорошили. Бегут черти, а царевич в ус посмеивается. Обул он постолы, надел кушму на голову, заиграл на флуере и только успел подумать, как очутился у скалы драконовой, у родника родников с водою, как слеза.
Учуяли драконы, что кто-то из родника воду берет, и мигом собрались стар и млад. Глянули, а там ни живой души. А сами чуют — берет кто-то воду. Вот напасть! Окружили они родник, глаза пялят, но никого не видят.
Наклонился один дракон над родником, а невидимый царевич как размахнется булавой и хвать! его по затылку, чуть со свету не сжил.
— Ой-ой, кто меня ударил, очи б ему повылазили! — завыл дракон и хвать! хвать! того, что позади него стоял, думая, что тот его огрел; тот тоже обидчика не приметил и ударил другого. Стали драконы дубасить один другого, затеяли драку, да такую, что ни неба, ни земли не видно. Горы вокруг задрожали от рева и проклятий. Казалось, земля провалится, так они швыряли друг друга. Вскоре то один, то другой начали они падать, дух испускать, и так остался только один дракон, да и тот со страху дрожит, зуб на зуб не попадает. Царевич с волшебной кушмой на голове был невидим и смотрел на него да удивлялся, что тот в живых остался. Замахнулся он и ударил дракона изо всех сил булавой, так что тот грохнулся оземь, точно дерево, молнией расщепленное. Но стоило молодцу отвернуться, как дракон был уже на ногах — цел и невредим, будто ничего с ним не случилось — вот какая волшебная сила была в нем. Молодец ударил его второй раз… двадцать второй, девяносто девятый, но все было напрасно. С досады, со злости, разгоряченный, схватил себя молодец за пояс, чтобы потуже его стянуть, да и нащупал флуер. Как вспомнил он об его волшебной силе, тотчас же обрадовался. И подумал, что колючий кустарник бури не ломают, а осенние заморозки помалу уничтожают. Коль не сокрушила дракона сила булавы, пусть сокрушат его стены тюрьмы да темнота подвалов. Приставил молодец флуер к губам и пожелал очутиться вместе со змеем при царском дворе. Не успел он и песни спеть, как был уже дома. Посадил дракона под замок, за семью запорами, под охрану стражников, а сам направился прямо в сад, где в зеленой листве пела птичья стайка; приметив его, птичка сразу поскакала с ветки на ветку, пока на земле не очутилась, и как только прикоснулась к земле, обернулась красной девицей. От радости царевич смеялся, а девица плакала. Засучил он ей рукава по самые плечи и трижды смочил обрубки водой родниковой. Тут же у девушки руки отросли такими, как были, и засияла она от счастья. Прекрасно солнце, когда вырвется из-за горных круч, из-за черных туч, прекрасен цветок, когда ветер над ним не веет, дождь польет и солнце пригреет, прекрасен цветущий луг в мае, когда теплый ветерок его ласкает. Такой же красивой была и девица с отросшими руками, с радостью на сердце и улыбкой на лице.
Пошли они вместе во дворец, а Зелен-царь от радости, что сын возвратился, да еще с такой девицей-красавицей, кинулся им навстречу. Но не успел он их обнять, как стражники закричали от ужаса: начали рушиться стены, да ломаться запоры темницы: это дракон из плена вырывался. Мать моя, какой страх всех охватил! Многие разбежались, а царевич надел кушму на голову и, как подошел к нему разъяренный дракон… хвать! его булавой по одному виску, потом по другому так, что уложил его на месте. Подошла к дракону девушка, узнала его и затряслась; чудище собралось с силами да протянуло руки, схватить ее. Но тут девушка приметила у него на пальце свой перстень и раз! — сорвала его. Тем же мигом дракон в прах превратился, только куча костей на землю свалилась — давно ему пора была умирать.

Повелел тут Зелен-царь своей челяди кости сжечь, а пепел по ветру пустить, чтобы и следа драконова не осталось, а потом затеял свадьбу с музыкой неслыханной, с яствами невиданными, и гостей созвали со всего света. Приехал на свадьбу из дальнего царства и отец девицы: за ним первым послали карету с двенадцатью конями. И разгорелся там пир — на весь мир! Уж кто садился за стол, голодным и трезвым не вставал.
Счастье привело и меня на их свадьбу. Погулял я на ней, повеселился и видел, как они зажили в мире и согласии.
 КЫРМЫЗА
КЫРМЫЗА

О чем сказ поведу, ребята, все так и было когда-то, а коль не было б, по свету не сказывали б сказку эту.
Жил-был большой барин, имел он богатства несметные, поместья беспредельные. Дворец его был сложен из камней-самоцветов и ночью светился, как в солнечный полдень. Под стенами его притаилось девяносто девять погребов, доверху набитых золотом и серебром, а вокруг дворца раскинулся роскошный сад, в котором росли деревья со всех концов света. Но не золотом и не дворцом, не садами и не поместьями более всего дорожил барин. Дочь Кырмыза — вот что было самым ценным его достоянием. Была она красна, как сама весна, улыбка ее — точно солнечный восход ясна, очи — две звезды среди ночи, стан ее тонкий — точно колос звонкий, что колышется вечерком под тихим ветерком, голос серебристый — точно звон мониста, и платье на ней — такая краса, точно цветы, когда их омоет утренняя роса.
Семнадцати лет Кырмыза многих лишила покоя, оставила им взамен смятение. Барин все это видел и решил не выдавать дочь замуж за первого встречного-поперечного, а только за избранного жениха. Женихи к ним валом валили из-за тридевяти земель, из-за тридевяти морей. Надумал барин испытать их всех. Построил из камней-самоцветов высокую-превысокую лестницу от земли до вершины башни — шириной в две пяди и со ступеньками из стекла. Усадил он Кырмызу в башню, а женихам так сказал:
— Кто взберется верхом по этой лестнице, доберется до Кырмызы, снимет перстень с пальца да назовет ее по имени, тому она и достанется.
Помчались юноши во все лопатки волю барина выполнять, но все спотыкались на первой ступеньке. Многие изувечились и еще немало шею бы сломало, да вдруг объявился дракон на льве верхом, грива на льве торчком, когти крючком; ступенька за ступенькой поднялся он по лестнице до самой Кырмызы; дракон перстень с ее руки снял, по имени назвал.
Привел барин дочь во дворец, позвал дракона, обручил их, благословил и началась свадьба, какой белый свет не видал. Весь люд веселится, пирует, дракон-уродина ликует, а невеста горюет, горько рыдает, как цветок увядает. Почуяла бедная девушка, что лют он, этот пес-дракон. Грустила девица, тосковала, да улучив минутку, из хором удрала и побежала на конюшню к своему любимцу Гайтану — волшебному коню и горько заплакала.
Конь заржал и спросил ее:
— Чего ты слезы льешь, добрая Кырмыза?
— Как же мне не плакать, когда отдает меня отец за дракона с чужой дальней стороны; ему не живые, мертвые нужны.
— Молчи, не плачь, не причитай: когда жизнь мила — добро побеждает, а зло отступает. Завтра, как прикажет тебе змей в путь-дорогу собираться, отсыпь мне меру углей горячих, надень на меня узду золотую с
серебряными удилами да и отправляйся с ним. В пути все время отставай от него на три шага. Он тебя спросит: "Почему, дорогая Кырмыза, ты позади меня едешь?" Ты отвечай, что женщине следует позади мужа ехать. А как перестанет он тебя замечать, достань саблю из ножен и держи ее в правой руке на высоте шеи. Да покрепче за седло цепляйся, я поскачу вперед, а дракон мертвым на дорогу упадет.
Успокоилась Кырмыза, вернулась в хоромы и кое-как выждала до следующего вечера, когда дракон велел ей в путь собираться. Быстренько взяла она меру, наполнила ее полыхающими углями и понесла Гайтану. Волшебный конь мигом съел все угли. Затем она надела на него узду золотую с серебряными удилами. И вот сел дракон на льва верхом, а Кырмыза на Гайтана — волшебного коня, и отправились они к хваленому, да отдаленному замку мужа — пса-дракона. Невеста — цок, цок, цок, цок — все отстает от дракона на три шага. А дракон все оборачивается да спрашивает:
— Отчего ты, Кырмыза милая, отстаешь?
— Так уж следует женщине позади мужа ехать.
Дракон громко расхохотался и, вглядевшись вдаль, поскакал как ветер, только пыль столбом поднялась. А красавица Кырмыза дернула волшебного Гайтана за повод, вынула саблю из ножен, взяла ее в правую руку, подняла на уровень драконовой шеи и фьют!.. голову ему с плеч долой. Понесся лев через горы, через долы и привез обезглавленный труп прямо в замок, где драконша-мать все глаза проглядела, сынка с красавицей-рабыней ожидаючи. Рано она радовалась, теперь горевать пришлось и от злости драконша руки перекусала, волосы повырывала. И вот с того дня стала она жечь дрова в большой кремневой печи, так как надумала красавицу Кырмызу изловить, живой или мертвой, привести да сжечь. Горел огонь круглый год, ни днем, ни ночью не угасая. А сама драконша рыскала по белу свету, а найти Кырмызу не могла.
А краса-девица, ясная зарница, заботу сбросила с плеч, вложила в ножны меч и поскакала на волшебном коне Гайтане по зеленой поляне, по высоким горам, по глубоким долам, через поле чистое, через кодры тенистые, через реки широкие, через воды глубокие. И к рассвету следующего дня она прискакала в село, вроде наших Барабоен. Случилось это в среду, день был ярмарочный, и съезжались туда жители окрестных сел. А так как настала уже пора отдохнуть, то остановила Кырмыза коня на окраине села на базарной площади.
В одном из соседних сел, назовем его Фрасинешты, жил в ту пору парень по имени Ион; сам он был статен, красотою не обижен, да вот грех какой — никак жениться не удавалось. Те, кого он сватал, не соглашались, а те, что сами набивались, ему не по душе были. Встревожился Ион и пошел к знахарке, что гадала по звездам, кто для кого создан, бобы бросала да счастье узнавала. И вот что поведала парню ворожея:
— Отправляйся в среду затемно в Барабоены на ярмарку и первого приехавшего туда, не задумываясь, бери, будь то старуха или дед, мужик или баба, парень или девица. Веди его домой и живи с ним вместе: так бобы говорят, счастье тебе сулят.
Чуть забрезжил рассвет, парень уже к Барабоенской ярмарке подъезжал.
Гайтан — волшебный конь — знал о том, что Ион выехал из Фрасинешт, и говорит Кырмызе:
— Хозяйка, хозяйка, сунь руку в мое правое ухо, достань оттуда одежду да надень ее.
Протянула Кырмыза руку и достала пару чабанских шаровар, длинную крестьянскую рубаху с вышитым воротом и рукавами, красный, как огонь, пояс, высокую островерхую кушму и пару постолов с вздернутыми носками — все новое. Кырмыза оделась, косы под кушму спрятала и стала походить на доброго юношу, стройного, как ель, красивого на диво.
Как начали звезды на небе гаснуть да туман пополз из долины к вершинам холмов, подъехал и Ион, весь в поту.
— С добрым утром, парень, — молвил Ион издали.
— Доброе утро! — тот ему в ответ. Слово за слово, а Ион и говорит прямо:
— Поехали ко мне жить.
Один уговаривает, другой отнекивается, один уговаривает, другой отнекивается, и, наконец, после долгих споров, отправились вместе во Фрасинешты.
Но как бы тучи ни заволакивали небо, земля нет-нет да и увидит солнечный луч. Так и до Иона время от времени доходили то взгляд, то улыбка, то слово понежнее, и сердце говорило ему, что не парень с ним едет, а девица, да все не верилось. Думал он, гадал, совсем растерялся и опять пошел к знахарке.
— Бабуся, — говорит он, — нет мне покою от парня, что привел я сегодня с ярмарки: гляжу на него и все мне мерещится, будто девица это.
Зажгла старуха уголек, поглядела на пламя и отвечает:
— Коль сомневаешься, испытай его. Выезжайте вдвоем верхами в чисто поле, поскачите вперегонки. Если обгонит тебя — не иначе как парень, а коль отстанет, так и знай, что девка проклятая.
Вернулся Ион домой и, увидев, что парень призадумался, сказал:
— Давай верхами покатаемся.
— Чего же, можно!
Выехав в поле, Ион встал в стременах и показал ему вдали большой курган.
— Давай, парень, спорить: кто первый объедет тот курган, да сюда вернется?
Кырмыза прошептала: "Скачи, волшебный конь Гайтан!" И только он ее и видел; а Ион:
— Но, лошадка! Но, скачи… троп, троп, троп, троп… — плетью хлещет, да куда ему, не та прыть! Давно уж потерял он парня из виду и встревожился, а вдруг тот не вернется. Стал он подъезжать к холму, а парень ветром навстречу несется.
Повернул Ион коня и хлесть, хлесть! хлыстом, раз, два, по коню, но куда там! Пока объезжал он курган, тот уже семь курганов объехал и давно ожидал его на старом месте.
Слишком отстал Ион от парня и теперь, опустив голову, стоял опечаленный, пристыженный. Только не успокоился он и опять пошел к старухе. Вновь она раздула уголек и говорит ему:
— Лежит у тебя во дворе пара возов жердей. Подведи его к ним да спроси: "Для чего сгодятся эти жерди?" Коль девка, так сразу ответит: "Что за кудельники для прялки, какой челнок, какое веретено можно изготовить". Коль парень он хозяйственный, так скажет: "Ясли добры смастерить, али дом огородить!".
Как говорится: курице просо снится. Возвращается Ион домой и подводит как бы невзначай приятеля своего к жердям.
— Хороши жерди! Что бы нам из них смастерить?
— Эгей, братец! Ясли добрые могли бы мы сделать да плетень хороший. А какой домище таким плетнем огородить можно — с крылечком да пристройками!
Ион только очи выпялил да опять к знахарке побежал, а та, узнав в чем дело, так молвила:
— Ступай домой да возле сабель, стрел, копий и булавы развесь на стене полотенца цветастые, салфетки вышитые да пару мотков шерсти. Как выполнишь это, веди гостя, пусть поглядит. Коль на оружие глянет, знай, что мужчина, а коль засмотрится на вышивки да на мотки шерсти — не иначе как женщина.
Вернулся Ион одним духом домой, выполнил наказ знахарки, а потом зовет товарища, вроде как бы оружие показать. Тот уставился на оружие, снимал его со стены, в руках вертел, осматривал, ржавчину счистить да смазать велел, и тут же послал его за паклей да смазкой, чтоб за работу взяться. На остальное он даже не взглянул. Вышел Ион из дому опечаленный и в четвертый раз пошел к знахарке с поклоном.
Сморщенная старуха в печь подула, заговор свой нашептала, в ладони погадала да потом сказала:
— Иди-ка домой да брось метлу на порог. А парня-то возьми с собой да поведи, куда душе угодно. А как будете возвращаться да в дом входить, в оба гляди: коль наступит он на метлу, аль перешагнет через нее, знай, что мужчина, а коль поднимет да подметет, а потом в уголок поставит палкой кверху, не иначе как девка.
Выполнил он старухи наказ. Обошли они все село и вот возвращаются домой. "Сейчас или никогда", — думал Ион. Вошел он в дом и на метлу наступил, а товарищ его схватил метлу за палку, подмел кругом да и поставил в уголок. Тогда Ион обернулся и обнял девицу.
— Любимая ты моя, жизнь ты моя, как тебя звать?
И тут сняла Кырмыза кушму с головы. Длинные волосы шелковые украсили ее девичье лицо, и стала она похожа на солнышко ясное. Посмотрела она ему в глаза — сама жизни рада, улыбка во взгляде — и ответила:
— Кырмызой звать меня.
Сыграли они настоящую молдавскую свадьбу, устроили пир на весь мир, танцевали остропец, за неделю сто дружек настряпали гору галушек, сто шаферов понесли по свету весть, где можно попить, поесть, мол, в Фрасинештах гуляют, на свадьбу всех приглашают.
Зажили они после свадьбы мирно и дружно. Ради Кырмызы работящий, старательный Ион трудился от темна до темна. Долго ли, коротко ли прожили они так, да вдруг вспыхнула война. Тут и Иона взяли, только он наказать успел: "Батюшка да матушка? Берегите Кырмызу, работой тяжелой не донимайте, поласковей будьте с ней. Коль счастье от меня не отвернется и вернусь я домой живой-здоровый, буду вас на старости так холить лелеять, что захочется вам еще век жить, не тужить".
Отправился Ион и как в воду канул — ни слуху ни духу. Не знали, жив ли он или голову сложил, но ждали его дома, как дитя весну ждет.
Средь сабельных боев да посвиста стрел удалось ему письмецо написать: "Батюшка да матушка, берегите Кырмызу. Скоро закончится кровопролитие и я вернусь домой. Желаю вам здоровья".
Старики помнили наказ сына и не давали девице-красе соломину с пола поднять. Так холили ее, так лелеяли, что в огонь были готовы идти за нее.
А тот человек, что письмо вез, долго ли, коротко ли ехал и попал он в полночь в лес дремучий. Вокруг тьма-тьмущая, хоть глаз выколи. Набрел он на дом драконши да и решил постучаться, на ночлег проситься.
Открыла драконша дверь, впустила его, накормила, затем принялась письма читать да и нашла то, где о Кырмызе написано. Тогда старая карга прикинулась радушной хозяйкой, принесла старого вина, что в кубке играет, напоила бедного человечка в доску, и пока тот спал мертвым сном, сожгла письмо о Кырмызе и написала другое: "Батюшка да матушка, как дойдет до вас это письмо, привезите девятнадцать возов дров, запалите их да сожгите Кырмызу. Она с драконом всю жизнь проплутала, а потом ко мне пристала. Я скоро домой вернусь, и коль не выполните мою волю, не задумываясь, сожгу вас живьем на большом костре". Утром человек отправился в путь. Долго ли, коротко ли шел он и принес письмо родителям Иона. Прочитали они письмо и залились слезами. Услышав их причитания, прибежала Кырмыза, прочитала письмо и тоже горько заплакала. Потом вышла к волшебному коню Гайтану, а тот заржал и спросил ее:
— Чего, Кырмыза дорогая, слезы льешь?
— Как же мне не плакать, коль вот что со мной стряслось, — и поведала коню, что в письме говорится.
— Не плачь, не горюй!.. Вели родителям, пусть делают, как в письме написано, а только костер буйным пламенем разгорится, скажи им, что вместе с конем умирать хочешь. Подведи меня к костру и вытащи из правого уха платок свернутый, кинь его в огонь и смело скачи верхом прямо в пламя.
Заплаканный старик привез девятнадцать возов дров, сложил пребольшую поленницу, зажег ее и так разгорелся костер, что небу жарко стало. Взяла Кырмыза коня под уздцы, подвела к костру, пламя которого так и рвалось во все стороны. А когда родители лицо руками закрыли, чтобы не видеть, как она горит, Кырмыза выхватила из правого уха волшебного коня Гайтана платок и бросила его в грозное пламя. Огонь сразу стих, как водой залитый, а Кырмыза вскочила в седло, понеслась сквозь дым, взвилась к солнцу, полетела над тучами, над горными кручами, над цветущими полями, над дремучими лесами, потом опустилась на землю и поехала легкой рысью. У встретившегося им на склоке холма родника Кырмыза остановила коня, соскочила на землю и легла на траву.
— Ох, дорогой мой конь, волшебный мой Гайтан, пришло мне время рожать, — молвила она.
— А мне пришло время помирать, — ответил конь и, трижды заржав, повалился замертво.
Кырмыза сейчас же уснула, а как проснулась, увидела себя в большом красивом замке. Лежала она на кровати и держала на руках двух красавцев-сыновей, златокудрых богатырей. У изголовья повитуха стояла. Все это сделал волшебный конь Гайтан. Оберегал он красавицу Кырмызу и после смерти: грудь его стала замком с золотыми башнями, со стенами из драгоценных камней, с серебряными дверьми, жемчугом украшенными, голова стала столом, уставленным яствами всякими; глаза да уши — двумя свирепыми волкодавами, что бегали вокруг замка; из шерсти Гайтана перед замком вырос сад прекрасный с деревьями разными, плодами усыпанными, и птицами-певуньями, а из одного копыта появилась морщинистая и сгорбленная старуха. Она повивала младенцев, купала да кормить Кырмызе подавала.
Долго ли, коротко ли прожили они так, сыновья росли не по дням, а по часам и стали красивыми, как два цветка. В один прекрасный день, когда они по двору бегали, подошла к воротам старуха. Учуяли ее собаки, стали по сторонам ворот и не впускают. Тут старуха и говорит:
— Подойдите сюда, ребятишки мои милые!
Ребята добежали к воротам, а старая карга достала три волосинки из-за одного пояса да три из-за другого пояса, отдала их ребятам и сказала:
— Возьмите! Ты брось их вон на ту собаку, а ты кинь на шею другой.
И как только бросили их ребята, три волосинки превратились в три толстые тяжелые железные цепи, приковавшие собак к столбам у ворот, а старая карга, что
Злобною рожей
На черта похожа,
Лоб, точно глыба,
Волосы дыбом,
Кулаки сжимает,
Глазами сверкает
кинулась к дверям замка. Собаки лаяли, рвались и вдруг цепи разорвали. Не успела старуха за щеколду ухватиться, а волкодавы вцепились ей в спину и ну рвать ее да кромсать, так отделали, мать родная не узнала бы. А ребята увидали все это, испугались да закричали:
— Матушка, матушка! Выйди быстрее! Собаки старуху разорвали!
Кырмыза выбежала из замка и как увидела в крови злое-презлое лицо признала в старухе проклятую драконшу, пришедшую путями нехожеными, чтоб убить ее. Подняла она ребят на руки, приголубила и сказала:
— И поделом ей. Всю жизнь она за мной по пятам ходила, мечтала загнать в могилу.
Не дали они черной язве перед замком залеживаться, а поволокли ее кости далеко, на высокую гору, и бросили там
Под солнцем жгучим,
В песке сыпучем.
Чтоб ветры стегали,
Дожди размывали
И бури терзали,
Чтоб мир забыл ее злые
делишки,
Ни дна ей, ведьме,
ни покрышки.
А теперь вернемся назад и вспомним Иона: далеко ведь мы со сказкою ушли. А он тем временем воротился с войны цел и невредим, приструнил коня у ворот и кричит:
— Выходи из хаты, Кырмыза дорогая! Гостей принимай, мужа встречай!
Где уж Кырмызе было мужа встречать, когда она за тридевять земель от него ушла. Вышли родители, заплакали от радости, слезами Кырмызу помянули. Ион же, узнав о горе своем да прочитав письмо, повернул коня и поехал землю колесить вдоль и поперек: на запад и восток, на север и на юг, но жену повстречать так ему и не удалось. Утомился он от стольких дорог нехоженых, поистратил силушку в местах, где ноги человеческой сроду не бывало, бросил поводья на луку седла и дал коню волю. А было это в Кырмызиной долине, и вскоре, как из-под земли, выросли перед ним две собаки. Зарычали да залаяли они то с одного, то с другого бока на всадника и погнали его прямо к замку, не позволяя с пути свернуть. Ребята в то время во дворе играли и, увидев всадника, закричали:
— Матушка, матушка, выйди поглядеть: к нам всадник какой-то прискакал.
Вышла Кырмыза на улицу, ладонь козырьком к глазам приложила, увидала его и узнала.
— Ах, сыночки вы мои милые, то батюшка ваш едет, — и принялась кричать: — Ион! Ион!
Тут и он ее узнал да ответил:
— Эгей, Кырмыза милая, много стран я обошел, наконец тебя нашел!
— Ионел, любый мой, давно тебя сыночки ожидают.
Поднял он ребят на руки, поцеловал, и сели они вчетвером за стол. Попили, поели, а затем о житье-бытье своем рассказывать стали: три дня все говорили, наговориться не могли, да сладкий сон глаза им закрыл. А как проснулись, увидели себя в чистом поле, да не в постели, а на голой земле, головами на бугре. Подивились они, по сторонам поглядели и увидали вдруг, что издалека к ним играючи пара коней скачет. Один из них был караковый Иона, а второй волшебный конь Гайтан. Вскочили они на коней, взяли на руки сыновей и домой поехали.
А я в седло доброе сел —
Сказку вам рассказал, как умел,
А потом оседлал котел
И сказку до конца довел.

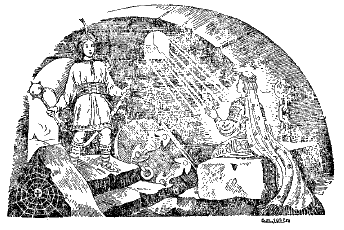 ФЭТ-ФРУМОС И СОЛНЦЕ
ФЭТ-ФРУМОС И СОЛНЦЕ

Давно ли, недавно ли, а было такое время, когда Солнца не было на свете. Кругом царила бесконечная ночь, да такая темная-претемная, что хоть топором ее руби. Толковали старики, будто сказывали когда-то прадеды их прадедам, что Солнце драконы украли, а куда его схоронили, никто не знал. И вот бедовал несчастный народ — ох, как бедовал!
Так вот в те времена, на опушке леса дремучего, у берега реки могучей жили в маленькой хатенке муж да жена. Жили они бедно-пребедно, ни хлеба в доме, ни соли, а скотинки — и хвоста в помине не было. Так они и жили, перебиваясь с хлеба на воду. В один прекрасный день зачала жена ребенка. А муж был работящий, телом ладный, семьянин хороший. Пока жена дома сидела, он полсвета обошел, работал рук не покладая, воду из камня выжимал, но с пустыми руками к жене не возвращался. Ходил он так по всему царству вдоль и поперек, многих людей в пути встречал, совет с ними держал, рассказы слушал. И вот пошла по свету молва, будто Солнце не совсем с земли украдено. Начали тут люди друг друга подбадривать, мол, если солнце спасти да на небо вознести, светлой и щедрой станет земля, зелень заполнит поля, пойдет такой урожай — только убирать поспевай, станет легко дышать, заживет привольно всякая душа.
Тогда собралось человек тридцать, а может быть и сорок (меж ними был и наш человек), и решили они пойти Солнце из неволи вызволить и вернуть его на небо. Горько плакала да причитала жена, все мужа просила, чтоб не оставлял ее одну-одинешенку. Да не тут-то было! Чем громче она причитала, тем тверже он на своем стоял. Пошел он в путь-дорогу — поминай, как звали. Знала жена только день его ухода, а о возвращении и до сих пор слуху никакого нет. Да и все остальные, кто с ними пошел, точно в воду канули.
Немного времени прошло, и родила женушка сыночка — пухленького крепыша. Рос мальчик не по дням, а по часам. За день вырастал настолько, насколько другие за год, так что к вечеру первого дня уже бегать стал. Как подрос он немного, взялся за работу: то одно мастерит, то другое. Но со временем увидел, хоть он бьется, как рыба об лед, а дела идут все хуже и хуже. Вот и спросил он мать свою:
— Скажи, мать, что делал отец мой? Стану и я делать то же, авось хоть тогда выйдем мы на светлый путь.
— Горе нам, сыночек; помнится мне, что не приходилось ему вольно вздохнуть: всю жизнь он метался, по свету слонялся, а светлого пути так и не удалось найти.
— Так что же он сделал в конце концов?!
— Горе мне, дитя мое, горе-горькое, — запричитала мать, и по лицу ее покатились горошины слез. А когда поуспокоилась, ответила ему по совести: — Боюсь я тебе рассказывать, как бы и ты не пошел по свету скитаться.
— Расскажи, мать, расскажи!
Растроганная мать стала рассказывать, душу отводить:
— Много ли, мало ли мы прожили, все с горем пополам крохи добывали. И вот как-то дошла до нас молва, будто есть на свете Солнце, которое людям и свет и тепло приносит, а земля от него плодоносит; вот и пошел твой отец со многими другими смельчаками Солнце искать, счастье пытать. И нет о них до сих пор ни слуху, ни духу.
Закручинился сын, узнав о горькой доле отца, опечалили его слезы материнские, но с той минуты загорелось в его сердце желание пойти искать Солнце, и коль лежит оно в темнице на самом донце, решил он на железо ржу наложить, дерево грибком поразить, камень лишайником раздробить, чтоб железо ржавело, дерево гнило, камень рассыпался, и тогда достанет он Солнце и выпустит на небо светило, чтоб землю согрело и озарило.
И с тех пор Солнце было у него на уме и во сне и наяву. Сложил он себе песню и распевал ее день-деньской:
День и ночь кромешна мгла,
Нет ни света, ни тепла,
Подрасту и в путь пойду,
Солнце дивное найду.
Я темницу сокрушу,
Солнце в небо отпущу,
И тепло свое и свет
Пусть нам дарит много лет,
Расцветают пусть поля,
Сердце людям веселя.
Однажды, когда он пел свою песню, проезжал мимо Черный царь, правивший той страной, и услыхал его. Велел тогда царь остановить коней могучих и стал слушать слова песни жгучей. Прослушал он ее с начала до конца, а затем приказал кучеру:
— Живо сбегай да приведи ко мне певца.
Соскочил кучер с козел и кричит:
— Эге-гей, где ты? Постой!
— Здесь я!
И на ощупь они наткнулись друг на друга. Пока они до кареты добрались, царь сидел и думу думал: "Всего у меня вдоволь, чего душе угодно. Но будь еще у меня и Солнце, не было бы мне равного на свете".
— Вот здесь царь, становись на колени! — сказал кучер, подходя к карете.
— Кто ты такой? — спросил царь.
— Сын бедняцкий, — ответил мальчик.
По голосу царь решил, что ему не более десяти — пятнадцати лет.
— Кто тебя обучил этой песне?
— Сам придумал, сам и пою. Как подрасту, вызволю Солнце, заточенное испокон века в темницу вместе со светом и теплом своим.
— Как звать тебя, мальчик?
— Ионика Фэт-Фрумос.
— А где живут твои родители?
— У меня только мать, и живем мы в лесу, неподалеку отсюда, с тех пор, как я себя помню; только не жизнь это, а горе беспросветное.
— Послушай, мальчик, коли ведаешь ты, где Солнце со светом и теплом своим заперто, идем жить ко мне во дворец; буду я тебя кормить да холить, а как почуешь в себе вдоволь сил, дам тебе коня доброго да денег на дорогу с уговором, что привезешь мне Солнце со всем его светом да теплом.
— Светлейший царь, коли желаешь, чтобы я за тобой во дворец последовал, вели привести ко двору и матушку мою, иначе иссохнется у нее сердце от горя и печали, пока будет искать меня по стежкам-дорожкам.
— Быть по сему, — сказал царь, и кучер тут же побежал за матерью. Прийти, однако, она отказалась, порадовалась весточке, что Ионика Фэт-Фрумос живет-здравствует.
Когда мальчик подрос и почуял в крови молодецкий закал, а камни рукой в порошок растирал, заявил он, что отправляется Солнце вызволять, и попросил царя снарядить его в путь-дорогу.
— Выбери себе в конюшие коня по сердцу, бери денег немного да платья в дорогу, саблю да булаву и оправляйся.
Взял Фэт-Фрумос узду, серебром шитую, и пошел выбирать коня по сердцу. Все конюшни обошел, ни один конь не дал взнуздать себя. Только в глубине одной из конюшен попалась ему коняга, еле державшаяся на ногах от худобы. Как увидала она Фэт-Фрумоса, так голову и протянула к узде.
— Тпру… жалкая кляча, не по тебе я плачу.
Обошел Ион Фэт-Фрумос еще несколько раз конюшни, и опять ни один конь не дал взнуздать себя; только клячонка голову к узде протягивала.
— Так и быть, — решил Ион Фэт-Фрумос и взнуздал клячу. Конь, почувствовав узду, встряхнулся трижды, и из несчастной клячи обернулся славным скакуном, таким, что земля под копытами дрожала; и как почуял на себе седло, а в седле седока, заговорил человеческим голосом:
— Скажи, хозяин, как тебя везти? Хочешь, ветром расстелюсь, хочешь, как мечта помчусь.
— Ты ветром не стелись, как мечта не мчись, а понеси меня помалу, как добру молодцу ездить пристало.
Побежал конь рысью, земля под ногами дрожала. Проскакали они через горы высокие, через овраги глубокие и доехали до какой-то кузницы. Фэт-Фрумос и кричит кузнецу, с коня не слезая:
— Кузнец, кузнец, мастер-удалец, скуй мне булаву, ни малу, ни велику, как подобает моему сану и лику, да смастери петли и засовы на двери, чтобы запиралась кузница крепко-накрепко, и не мог бы зайти в нее страшный дракон Лимба-Лимбэу.
— Ладно, путник, пусть твой конь попасется малость, я живо все сделаю.
— Я дальше поеду, а ты делай, как я велел; как вернусь, чтоб все было готово. Возьми деньги вперед да гляди, делай вещи получше: в огне калеными, заклепками укрепленными.
Принялся кузнец за работу, а Фэт-Фрумос пришпорил коня и дальше отправился.
Ехал он, ехал, долго ли, коротко ли, да и решил отдохнуть у моста. Вот лежит он у края дороги, и вдруг слышит стук конских копыт по ту сторону моста. Как ступил конь на мост — захрапел, назад попятился. Всадник плетью его лупит да кричит:
Тьфу ты, кляча, конь паршивый!
Чтоб тебе лишиться гривы,
Волки мясо б твое съели,
Кости бы в земле истлели!
Я когда купил тебя,
Хвастал ты вовсю трубя:
— Не боюсь я никого;
Фэт-Фрумоса одного!
Тут Фэт-Фрумос вскочил на ноги и говорит:
Пес-дракон, не лайся, плут,
Фэт-Фрумос — он тут как тут!
Как услыхал всадник его речь, рассмеялся так, что горы окрестные затряслись:
Гей, дурак, да ты смешок.
Думаешь, что я дракон,
И тебе и невдомек
Что я храбрый Вечерок,
Тот, что Солнце с неба снял
И в полон его угнал.
Наяву или во сне
Ты посмел перечить мне,
Встать мне поперек пути?
Ну, теперь уж не уйти!
Раз пошло такое дело,
Выходи на битву смело,
Коль преодолеешь страх,
Будем биться на мечах.
— Нет, поборемся, коль смеешь,
Ведь борьба всего честнее!
Тогда Вечерок кинулся на Фэт-Фрумоса, схватил его за пояс, поднял над головой и бросил его с такой силой, что тот по щиколотки в землю ушел. Фэт-Фрумос вскочил сердитый, схватил Вечерка за пояс и вогнал его в землю по колени. Поднялся разъяренный Вечерок, да с такой силой кинул Иона Фэт-Фрумоса, что вогнал его в землю по пояс. Ион Фэт-Фрумос встал на ноги, трясясь от ярости, схватил Вечерка за пояс да всадил его в землю по самую шею. Потом выхватил он саблю и отрубил врагу голову, а коня так ударил булавой, что с землею его смешал.
Отдохнул Фэт-Фрумос, набрался новых сил, вскочил на коня и отправился дальше. Ехал он, ехал на коне своем быстроногом, пока доехал до второго моста и опять надумал отдохнуть. Пустил он коня на луг траву пощипать, а сам присел у обочины дороги и запел:
День и ночь кромешна мгла,
Нет ни света ни тепла.
Исхожу я все пути,
Солнце б только мне найти,
Я темницу сокрушу,
Солнце в небо отпущу,
И тепло свое и свет
Пусть нам дарит много лет,
Расцветают пусть поля,
Сердце людям веселя.
Поет он свою песню и вдруг: цок, цок — слышит цоканье копыт по ту сторону моста Как подъехал тот конь к мосту, тут же захрапел, назад попятился. Нахлестывает его всадник плетью, кричит:
Тьфу ты, кляча, конь паршивый,
Чтоб тебе лишиться гривы,
Волки б мясо твое съели,
Кости бы в земле истлели!
Я когда купил тебя.
Хвастал ты, вовсю трубя:
— Не боюсь я никого, Фэт-Фрумоса одного!
Фэт-Фрумос, как услышал щелканье плети да речь дракона, вскочил на ноги и заговорил:
Пес-дракон, не лайся, плут,
Фэт-Фрумос — он тут как тут|
Тут всадник соскочил с коня, хохочет над ним, куражится:
Гей, дурак, да ты смешон,
Думаешь, что я дракон,
А того, поди, не знаешь,
Что с Ночилою болтаешь?
Как разок подует он —
Землю сковывает сон!
Наяву или во сне
Ты посмел перечить мне,
Встать мне поперек пути?
Что ж, иди сюда, иди!
Раз пошло такое дело,
Выходи на битву смело,
Коль преодолеешь страх,
Будем биться на мечах.
— Нет, поборемся, коль смеешь,
Ведь борьба всего честнее!
Схватил Ночила Иона Фэт-Фрумоса за пояс и бросил его с такой силой, что по щиколотки в землю вбил. Фэт-Фрумос вскочил в пылу, схватил Ночилу за пояс и вогнал его в землю по колени. Поднялся разъяренный Ночила да так кинул Фэт-Фрумоса оземь, что тот ушел в нее по пояс. Ион Фэт-Фрумос встал на ноги, трясясь от ярости, схватил Ночилу за пояс да вогнал его в землю по самую шею. Потом выхватил саблю и отрубил ему голову, а коня так ударил булавой, что с землей его смешал.
Отдохнул Фэт-Фрумос, почуял, что силы вернулись к нему, вскочил на коня и поскакал дальше.
Ехал он, ехал по горам, по лесам, по бескрайним полям, по оврагам и скалам, перебрался за высокие горы с острыми, как булат, вершинами и, добравшись до третьего моста, опять вздумал отдохнуть.
Пустил он коня траву пощипать, а сам сел у обочины дороги, оперся на локоть и запел:
День и ночь кромешна мгла,
Нет ни света ни тепла,
Исхожу я все пути,
Солнце б только мне найти,
Я темницу сокрушу,
Солнце в небо отпущу,
И тепло свое и свет
Пусть нам дарит много лет,
Расцветают пусть поля,
Сердце людям веселя.
Только песню он свою закончил, слышит цоканье копыт по ту сторону моста. Как подъехал конь к мосту, захрапел, назад попятился. Хлещет его всадник плетью, кричит:
Тьфу ты, кляча, конь паршивый,
Чтоб тебе лишиться гривы,
Волки б мясо твое съели,
Кости бы в земле истлели!
Я когда купил тебя,
Хвастал ты, вовсю трубя:
— Не боюсь я никого, Фэт-Фрумоса одного!
Фэт-Фрумос, услышав, как он плетью щелкает и проклятьями сыплет, вышел ему навстречу:
Пес-дракон, не лайся, плут,
Фэт-Фрумос — он тут как тут|
Соскочил всадник с коня, наступает на Фэт-Фрумоса, а сам смеется да хвастает:
Гей, дурак, да ты смешон!
Думаешь, что я дракон?
Пред тобою, мальчуган,
Полуночник-великан.
Солнца я лишаю доли,
Так с тобой не справлюсь, что ли?
Наяву или во сне
Ты посмел перечить мне,
Стать мне поперек пути?
Что ж, иди сюда, иди!
Раз пошло такое дело,
Выходи на битву смело,
Коль преодолеешь страх,
Будем драться на мечах!
— Нет, поборемся, коль смеешь,
Ведь борьба всего честнее.
Полуночник схватил Иона Фэт-Фрумоса, поднял его да так бросил, что тот по щиколотки в землю ушел. Тогда Ион Фэт-Фрумос ухватил Полуночника и вогнал его в землю по колени. Вскочил рассвирепевший Полуночник, да как кинет Иона Фэт-Фрумоса, — забил его в землю по самый пояс. Фэт-Фрумос поднялся в гневе, ухватил Полуночника и так его бросил, что тот по пояс в землю ушел. Тут он и хотел голову ему отрубить, а Полуночник из земли вырвался и с саблей на него кинулся. Бились они, бились, пока от усталости не повалились в разные стороны.
Небо чуть-чуть посветлело. В серых облаках кружился орел. Полуночник, как увидел его, закричал:
— Орел мой, орленок, окропи меня водой, чтоб силы ко мне вернулись. За добро твое и я тебе добром отплачу: труп подарю.
Ион Фэт-Фрумос тоже стал просить орла о помощи:
— Орел мой, орленок, окропи меня водой, чтоб силы ко мне вернулись. За добро твое и я тебе добром отплачу: два трупа подарю, да к тому же на небе Солнце зажгу. Осветит оно и согреет просторы, по которым носят тебя крылья.
Кинулся орел вниз, нашел воду, смочил ею крылья, набрал водицы в клюв, стрелой полетел к Иону Фэт-Фрумосу, сел над ним, похлопал по нему мокрыми крыльями, потом дал воды испить. Ион Фэт-Фрумос тотчас вскочил на ноги и почувствовал в себе силы больше, чем прежде было. Одним ударом рассек он пса-дракона с головы до ног, потом рассек коня драконова и оставил их орлу.
Вскочил Фэт-Фрумос на коня и поскакал вперед, пока доехал до густого-прегустого леса дремучего, в котором росли деревья могучие. Здесь он пустил коня пастись, а сам, став на одну ногу, трижды покружился и обернулся в золотистого петуха с красным гребешком. Захлопал он крыльями, закукарекал, а как закукарекал, обернулся петух в муху, а муха бзз, бзз, бзз — полетела ко дворцу Жар-птицы, до которого было недалече. Прилетела она во дворец, ткнулась в двери, ткнулась в окно, ткнулась под крышу, но пробраться в хоромы не могла: не нашла нигде лазейки. Тогда влетела муха в трубу, спустилась по ней и, выбравшись через печь, пролетела еще раз — другой по комнатам и примостилась в уголке. Оттуда она осмотрела комнату, в середине которой стоял стол, накрытый разными яствами и напитками. Смотрит, сидят вокруг стола четыре женщины: три молодые, а четвертая — ссохшаяся от старости. Глядела старуха, глядела на молодых и вдруг заговорила:
О, невестушки родные,
Вы красотки молодые,
Все с тоской глядите вдаль, —
А к лицу ли вам печаль?
— Сейчас вернутся ваши мужья и неладно будет, коли найдут вас заплаканными да опечаленными. Расскажите лучше о чем-нибудь — так и время пройдет. Начни ты, жена Вечерка, потом и другие расскажут.
Убрав со стола, жена Вечерка и говорит:
— Мой муж так силен, что коли повстречается с Ионом Бессчастным, одним духом в землю его вгонит и вовсе ему из нее не выбраться.
После нее речь повела другая, не иначе как жена Ночилы, потому что была она черна, как смола, только зубы да глаза поблескивали.
— А мой муж так силен, что коль повстречается с Ионом Бессчастным, одним дуновением станет его так мотать, как осенний ветер лист кукурузный мотает.
Тут заговорила и третья, самая страшная и уродливая с виду, с железными когтями на ногах и ножом булатным за поясом.
— А мой Полуночник так силен, что коль повстречается ему Ион Бессчастный, одним ударом превратит его в пепел да развеет по ветру, чтобы и следа от него на земле не осталось,
— Замолчите, не хвастайтесь. Ион Бессчастный тоже не лыком шит. Коль повстречается он на пути кому-либо из сыновей моих, придется им биться крепче, чем с любым богатырем земным.
— Не считай такого негодяя богатырем, — прервала ее Жена Вечерка, — коли станется худо с мужем моим, я сама убью этого дуралея. Обернусь на его пути колодцем с водой прохладной и, коль выпьет он хоть каплю, мясо его ветер развеет, кости в земле истлеют.
— А я могу обернуться яблоней, — поспешила вставить жена Ночилы, — и коль надкусит Ион Бессчастный яблоко, в тот же миг отравится.
— А моему мужу коль он зло содеет, — сказала жена Полуночника, — где бы ни был и куда бы ни направился Ион Бессчастный, я встречусь ему на пути в виде куста виноградного, усыпанного гроздьями. Попробует он хоть зернышко — тут же падет отравленным.
— Опять, доченьки, за хвастовство принялись; знаете ведь, родненькие, нет добра от хвастовства, оно хуже воровства. Откройте лучше кладовую да проверьте, там ли Солнце.
Услыхала это муха и сразу полетела сквозь дверную щель в соседнюю комнату.
Невестки заглянули в коробочку, посмеялись-поулыбались, и все в один голос ответили Жар-птице:
— Тут оно, Солнце! Как было здесь, так и сейчас есть. — И, прикрыв дверь, пошли по своим делам.
Ион Фэт-Фрумос, обращенный в муху, оставшись в кладовой, подлетел к коробочке, поднял крышку, думая поглядеть, что там внутри.
Но как только он крышку поднял, Солнце вырвалось из коробочки, стрелой пронеслось сквозь окно и поднялось в небесную высь.
Озарилась земля, мир повернулся к Солнцу лицом, радуясь его теплу и свету, и пошло кругом такое ликование, какого люд отродясь не видел. Чужие люди обнимались, точно братья. Все были счастливы, что избавились от тьмы, радовались Солнцу, которое грело и светило всем равно.
Черный царь, как увидел свет, выскочил на дворцовый балкон на девятом этаже и стал ловить Солнце руками, да свалился вниз головой. Так пришел ему конец.
А Ион Фэт-Фрумос пустился бежать от дворца Жар-птицы, боясь погони.
Пробежал он лес, вскочил на коня и крикнул:
— Неси меня быстрее ветра к кузнецу.
Помчался конь в дальние пределы, земля под копытами гудела. Скакал конь, скакал, пока увидел колодец у дороги и остановился на водопой. Но Ион Фэт-Фрумос с седла нагнулся, саблю всадил в колодец по самое дно; глядь, а оттуда хлынула кровь поганая, через сруб переливается, округу заливает.
Пришпорил Ион Фэт-Фрумос коня, щелкнул плетью и отправился далее.
Долго ли, коротко ли ехал он и вдруг посреди пути увидел ветвистое дерево, усыпанное царскими яблоками. Ветки так и гнулись под их тяжестью и вытягивались над дорогою. Были те яблоки такими крупными да румяными, да зрелыми, что как глянешь на них, так слюнки и потекут, и не могло быть человека, который прошел бы мимо да не попробовал хоть одного. А Ион Фэт-Фрумос, завидев яблоню, выхватил саблю и, объехав несколько раз вокруг дерева, отсек ему все веточки. Полился из обрубков зеленовато-желтый сок, куда капнет, там земля загорается и в окалину превращается.
Ион Фэт-Фрумос пришпорил коня и поскакал дальше.
Долго ли, коротко ли ехал он, и вот на его пути, на солнечном склоне холма появился виноградный куст, и сразу его взор привлекли огромные грозди с крупными янтарными зернами, налитыми соком. Понял Ион сразу, что дело нечисто, и решил ягоды не пробовать, а куст с лица земли стереть. Подъехал он поближе и искромсал лозу саблей; а из обрубков полился ядовитый сок, из которого вились языки пламени.
И снова Ион Фэт-Фрумос коня пришпорил, плетью хлестнул, чтобы скорее домой добраться, и в дальний путь помчался.
Солнечный свет и тепло переродили мир: прежде была черная земля, а теперь кругом зеленели поля и на всем лице земли сады дивные цвели. На глазах у Иона творились чудеса, росли-разрастались леса, появлялись тенистые дубравы, зеленели буйные травы.
Ехал Ион Фэт-Фрумос, ехал, и вдруг откуда ни возьмись подул ветер, суля беду всему свету: траву к земле пригибает, деревья в лесу ломает а позади черная туча, где она пролетит, земля выгорает.
Повернулся Фэт-Фрумос и сразу узнал Жар-птицу. Видать, пустилась она за ним в погоню, погубить задумала.
Пришпорил Ион коня, помчался стрелою и мигом доехал до кузницы. Не глянул он, есть ли кто в ней, нет ли, влетел с конем, запер окна и двери петлями да засовами, по его приказу покованными. А булаву с шипами, что лежала возле наковальни, в огонь сунул. Тут и Жар-птица вихрем подлетела, вокруг кузницы злобствует, а проникнуть в нее не может: кузница была на крепких запорах, двери, окна, ладно пригнаны, нигде не найти лазейки.
Взмолилась Жар-птица притворно ласковым голосом:
— Ион Фэт-Фрумос, сделай в стене щелочку, хоть одним глазом дай взглянуть, каков ты из себя, что сумел сыновей моих да невесток убить; а были-то они самыми храбрыми да самыми сильными на земле.
Ион Фэт-Фрумос подбросил еще угольев в горн, раздул его мехами, а когда булава накалилась добела, пробил в стене дыру и стал около нее с булавой.
Только Жар-птица приметила щелочку в стене, рот разинула да припала к ней глазом, чтобы рассмотреть молодца и погубить его, а Ион Фэт-Фрумос размахнулся булавой и разом — бах!.. метнул ее в щель и попал Жар-птице прямо в пасть. Проглотила Жар-птица булаву раскаленную да тут же и околела.
Ион Фэт-Фрумос отодвинул засовы и вышел вместе с конем на воздух. Небо прояснилось, ветер утих, казалось, Солнце светило еще ярче, а возле кузницы лежала, вытянувшись, мертвая Жар-птица.
Вскочил Ион Фэт-Фрумос на коня и поскакал дальше. Ехал он без забот, с радостью на сердце, песню свою напевая. Красота вокруг была неописуемая!
Над обширными полями,
Над цветущими лугами,
Ароматный, как цветок,
Пролетает ветерок.
Кодры буйно зеленеют,
Солнце все живое греет,
На траве горят бусинки —
Не бусинки, а росинки.
Ездил так Ион Фэт-Фрумос по белу свету, разыскивая то место, где Солнце в полдень отдыхает; слыхал он, будто живет там пес-дракон, Лимба-Лимбэу. Много горя и несчастий причинил дракон людям, и приходился он Жар-птице мужем, а покойным Вечерку, Ночиле и Полуночнику — отцом.
Поворотив коня к полдню, направился Ион по новому пути; много он пересек гор высоких, долин глубоких и бурных потоков. И кого в пути встречал, у всех вопрошал, где найти Лимба-лимбэу, пса-дракона.
На полпути повстречался ему витязь молодой, печальный и хромой, и поведал, что он дракона искал, да ногу в пути сломал. Рассказал он ему также, что пса-дракона Лимба-Лимбэу булава не берет, сабля не сечет, а сила и жизнь его спрятаны в свинье с поросятами, которая живет к северу от горы Каменной.
Повернул Фэт-Фрумос коня на север и поскакал, как ветер, так, что земля под копытами дрожала. А когда Солнце подошло к закату, решил он отдохнуть у лесной опушки на берегу озера. Лег он себе на бок, глядит на озеро да вдруг видит у берега свинью с поросятами. Тут он смекнул, что это и есть свинья с поросятами, о которой рассказывал ему бывалый молодец. Подошел Ион поближе и увидел страшилище:
В щетине — иголки,
Хвост — точно у волка,
Глаза огневые,
Копыта стальные,
Где ногой ступает,
Искры высекает.
Ион Фэт-Фрумос схватил булаву правой рукой, саблю — левой да так огрел свинью булавой, что та тут же дух испустила. Из нее выскочил заяц и хотел пуститься наутек, но Фэт-Фрумос отрубил ему голову саблей. Из заячьего тела вылетела утка; замахнулся Ион и отрубил и ей голову. Безголовая утка упала на землю и снесла яйцо; покатилось яичко по кочкам и разбилось, а из скорлупы вылетели три жука. Ион Фэт-Фрумос изловил двух и убил, но третьего упустил. Жук взметнулся вверх и след его простыл.
Пес-дракон Лимба-Лимбэу держал слугу-сторожа, который охранял его дворец и днем и ночью, без отдыха и перерыва. И наказал дракон:
— Кто бы ни явился: человек ли, птица ли, зверь или букашка, любое существо живое — ты приметить должен. И должно оно от твоей руки погибнуть, никто в замок не должен проникнуть.
Но забыл дракон предупредить сторожа о приметах жизни и силы своей, которые освобождались из свиньи, если кто ее убьет.
И вот прилетел жук к замку Лимба-Лимбэу, а сторож начал бить его, чем попало, через границу имения не пускать. Напрасно жалобно кричал жук:
— Пусти меня к Лимба-Лимбэу, хозяину моему да твоему. Жизнь его в большой опасности и дни его сочтены. Пропусти меня: как меня хозяин увидит, в руках чуток подержит — век ему жить, не тужить.
— Мое дело
приказ исполнить. Как пропущу кого через границу, снесет мне хозяин голову. — И шлепнув жука рукой, сбросил его на землю да истоптал ногами.
Потом, думая о случившемся, побежал с докладом к Лимба-Лимбэу. А Лимба-Лимбэу зубы стиснул, как воск пожелтел, да только и успел промолвить:
— Ой, горе ты мое, не следовало жука убивать.
Сказал и свалился замертво.
Вскоре Фэт-Фрумос добрался до замка и принялся за поиски: в одной из задних комнат замка он нашел бездыханного Лимба-Лимбэу, схватил его, бросил на кучу дров и поджог. А когда костер выгорел, развеял пепел по ветру.
— Вот и тело твое ветру досталось, чтоб следа от него на земле не осталось, — сказал Фэт-Фрумос, облегченно вздохнув, и повернулся к Солнцу лицом.
Вдруг из подвала замка донеслись до него жалобные причитания:
Мать, отец, сердешные,
Братья неутешные,
Сестрицы родимые,
Тоскою палимые,
Плачьте, причитайте,
Горе мое знайте:
Пес-дракон, я думаю,
Загубит красу мою.
Одним ударом Ион Фэт-Фрумос сбил замки да запоры и увидел на каменных плитах погреба девицу красную, точно Солнце ясное.
Вывел он ее на волю, взглянули они на Солнце, и на радостях поцеловала она Иона. Потом поведала ему все свои горести: как украл ее пес-дракон Лимба-Лимбэу, как требовал, чтобы она жила с ним, а она решила лучше умереть, чем ему достаться.
Недолго они промешкали, позвали быстренько родителей, братьев и сестер, наготовили к свадьбе яств разных да напитков, созвали певцов и музыкантов со всего света и свадьбу сыграли.
И кто бы ни пришел на свадьбу, всех за стол сажали, со всеми ласковы были, до отвала кормили и поили. Побывал и я на свадьбе Иона Фэт-Фрумоса. Со всеми там ел-пил, и сказку о нем не забыл.
 БАЗИЛИК ЗЕЛЕНЫЙ И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ
БАЗИЛИК ЗЕЛЕНЫЙ И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ

В некотором царстве жила-была бедная-пребедная женщина. Ко всем бедам, свалившимся на ее голову, была она еще и бездетной. Вот однажды поведала ей знахарка, что коль выпьет она настой травы, собранной в ночь на Ивана Купалу, то родит ребенка.
Сказано — сделано. И родила та женщина на старости лет ребенка такого красивого — глаз не оторвать. А так как трава, собранная в ночь на Ивана Купалу, была базиликом, то и нарекла она мальчика Базиликом Зеленым.
Рос ребенок не по дням, а по часам, так как берегла его сила волшебная. И где нога его ступала, базилик вырастал.
Так жил он, и не то, чтобы в довольстве, а в бедности. И долго бы еще пришлось ему горе мыкать, коли бы в царстве, в котором он жил с матерью, не приключилась беда. Повадился в их края дракон жестокий двадцатичетырехглавый и украл ключи от всех источников питьевой воды. Люди и скот изнывали от жажды и падали, как мухи. Царь и так и этак обломать его пытался, да дракона не возьмешь голыми руками. А когда узнал царь, что пока не отдаст дракону в жены дочь, не видать ему ключа, совсем занемог от горя и в постель свалился. Волей-неволей пришлось ему дочь отдать, чтобы спасти источники и самому не умереть от жажды. Как говорится, своя рубашка ближе к телу.
Вот какое горе-злосчастье обрушилось на это царство.
Однажды хлопотал Базилик Зеленый на скотном дворе, да вдруг слышит громкие речи на площади посреди села. А это были глашатаи, посланные царем во все концы царства оповестить народ, что тому, кто спасет его дочь от дракона, отдаст он ее в жены и полцарства впридачу.
Слушали это стар и млад, кто плечами пожимал, кто призадумывался, да так при думах своих и оставался — никто не решался счастье попытать, потому что грознее этого дракона не было ничего на свете. А людям, которые никак не могут побороть собственный страх, уж, конечно, с драконом не сладить. Только Базилик Зеленый, услышав, о чем речь, бросился со всех ног к своей матери и молвит:
— Так, мол, и так, матушка, иду выручать царскую дочь.
Залилась мать горючими слезами и говорит ему:
— Куда ты пойдешь, сын мой дорогой, и зачем покидаешь меня на старости лет на произвол судьбы? Видишь, чай, добрые молодцы идти не решаются, а тебе куда уж…
Но Базилик Зеленый и не думал от решения своего отказываться и тут же стал себе подбирать оружие под силу.
Года два слонялся он по свету, пока нашел мастера-кузнеца, который взялся выковать ему оружие по душе, и заказал ему обоюдоострый меч такой величины, чтоб сто молодцев не могли его сдвинуть с места. Возвратился он домой, завалился спать и проспал целых три дня, — шутка ли, странствовать два года! Проснувшись, собрал он в котомку еды немного в дальнюю дорогу, распрощался с матерью и пустился в путь. Шесть месяцев ходил он так дорогами нехожеными по пустыням и лесам. Уже и еда кончилась, и жил он на одной воде. Так прошел он еще немало дней и ночей. В один прекрасный день он дошел до какого-то леса, но, устав от ходьбы, не добрался до края, а решил присесть и отдохнуть где попало. Так его голод мучил, что стал он, бедняга, листья жевать. Вдруг его осенила мысль взобраться на верхушку дерева и поглядеть, далеко ли еще до края леса. Мигом вскарабкался он на высокое дерево и увидел вдали мерцание огонька. Соскочил он быстро с дерева и пошел на огонек. Шел он так, шел, пока, наконец, очутился перед замком дракона, где жила царская дочь. Призадумался Базилик Зеленый, как ему с драконом сразиться. Недолго он думал да и постучался в ворота. Услышав стук, царевна, — а она как раз была одна дома, — очень испугалась и дрожащим от страха голосом спросила:
— Кто там?
Услышав нежный серебристый женский голос, Базилик Зеленый повеселел и ответил:
— Открой, это я, Базилик Зеленый, я слышал про тебя от глашатаев отца твоего. И еще сказали глашатаи, что тот, кто избавит тебя от змея, получит тебя в жены и полцарства впридачу, но никто не отважился пойти за тобой. Только я на это решился. Два года я скитался, выковал себе оружие и пришел тебя выручить.
Тогда девушка отодвинула запоры, и добрый молодец вошел в дом. Увидев, какой он красивый и статный, девушка онемела от радости; но вскоре она пришла немного в себя и горько заплакала. Очень уж она боялась, что прилетят драконы и порешат Базилика Зеленого, и тогда уж больше некому будет ее выручить.
Стал Базилик Зеленый утешать ее:
— Не плачь, дай мне лучше чего-нибудь поесть, я так проголодался и устал, что даже говорить не могу.
Девушка накормила его, не мешкая, и молвит:
— Ложись и отдохни. Когда возвратятся змеи, я тебя разбужу, и ты вступишь с ними в бой.
Не успел Базилик Зеленый коснуться подушки, как его уж охватил глубокий сладкий сон. А девушка стояла рядом и не могла наглядеться на его красоту. Одно ее тревожило, что драконы скоро должны возвратиться.
Тем временем драконы домой летели, и от взмахов их крыльев земля дрожала, двери скрипели — все ходуном ходило. Подлетели они к порогу и сразу почуяли дух чужого человека… А девушка, как увидала их, потеряла голос от страха и не могла слова промолвить, только слезы из ее глаз катились. Вот горячая слеза упала на лицо Базилика Зеленого, проснулся он сразу и спросил тихонько:,
— Прилетели?
Девушка ничего ему не ответила, так как не могла говорить, а только головой кивнула и руками замахала: да, мол, змеи прилетели и стоят у дверей. Схватил Базилик Зеленый меч и кинулся к двери, где его драконы ждали. Двадцатичетырехглавый дракон, которому все остальные подчинялись, приказал шестиглавому пойти поглядеть, что за чужестранец проник в их дом.
Потоптался шестиглавый у дверей и, наконец, решился зайти посмотреть, кто это у них в доме находится, а остальные драконы отошли в сторонку, ожидая его с ответом.
Чуял шестиглавый дракон, что смертный час его близок, да раз старший повелел, некуда ему было деться.
Просунулся он наполовину в комнату, пасти широко раскрыл, языки высунул. Из пастей валит густой дым. Как увидел его Базилик Зеленый, нисколько не робея, вынул меч из ножен и пошел кромсать.
Взмахнул он разок мечом — и отрубил дракону головы, еще раз взмахнул — и тело его разрубил. Затем выбросил головы и куски тела в окно и опять стал за дверьми, ждет, что дальше будет. Ждали, ждали драконы во дворе возвращения шестиглавого, и, видя, что тот долго не идет с ответом, старший приказал отправиться двенадцатиглавому поглядеть, что там в доме происходит. Как дошел дракон до дверей, сразу почуял, что смертный час его близок, да не посмел ослушаться старшего. Толкнул он дверь, пасти раскрыл, языки высунул. А из пастей густой дым, как из трубы, валит. Как только он открыл дверь, Базилик Зеленый взмахнул мечом, разрубил его на части, тело швырнул туда же, куда и тело шестиглавого дракона. Потом придвинулся к двери и ждет двадцатичетырехглавого. Хотя тот и был грозой земли, Базилик его уже не страшился. Видя, что посланные им драконы не возвращаются, старший понял, что в доме что-то неладно. А потому решил он просунуть в дом сперва двенадцать голов, а остальные двенадцать оставить во дворе. И из его пастей валил дым густой да искры по всему дому летели. Взглянул на него Базилик Зеленый и подумал, что с этим нелегко будет справиться, но духом все же не пал.
Только дракон просунул в дверь свои двенадцать голов, Базилик Зеленый ударил по ним изо всей силы мечом и отрубил их одним махом… Змей, имевший, кроме отрубленных, еще двенадцать голов, почувствовал, как что-то горячее обожгло ему шею, но не догадался, что его двенадцать голов, находящихся в комнате, уже отрублены, а потому продолжал вползать, пока не проник полностью в дом. Базилик Зеленый снова поднял меч и с большим трудом отрубил ему оставшиеся двенадцать голов. Но тело змея, даже с отрубленными головами, продолжало сотрясаться, и от этого земля дрожала…

Только к утру оно замерло. Тут девица на радостях стала воспевать доблесть Базилика Зеленого и его бой с драконами. И говорит ей Базилик Зеленый:
— Ты примись обед стряпать, а я прилягу отдохнуть, больно уж утомился в бою.
Повеселев, состряпала царевна обед прекрасный, всяких яств приготовила. Была она вне себя от счастья, что Базилик Зеленый уничтожил всех драконов и освободил ее из их когтей и что вскоре станет она женою красивого и отважного витязя. Когда еда была готова, она разбудила Базилика и поели они вместе, затем начали готовиться в путь-дорогу к царским чертогам.
Невесть как узнал обо всем случившемся Получеловек. Был он одноногим, одноруким, полуголовым, одноглазым и одноухим. А как узнал, помчался быстро к замку драконов. Базилик Зеленый с царевной в путь собирались. И крикнул Получеловек
— Мэй, Базилик Зеленый, ну-ка выходи на бой! Поборемся мы с тобой, и пусть царевна победителю достанется.
Царевна уже слышала ранее про этого Получеловека, о нем много раз говорили драконы, а потому она горько заплакала, приговаривая:
— Базилик Зеленый, коль ты этого одолеешь, значит написано тебе на роду живым быть. И заживем мы тогда в счастье и согласии.
Взял Базилик Зеленый меч в руки и вышел во двор. Взмахнул мечом и отсек Получеловеку кусок головы. Но тот отбежал в сторону и опять принялся кричать:
— Выйди бороться со мной, Базилик Зеленый!
Испугался Базилик Зеленый, услыхав, что Получеловек его снова на борьбу вызывает. Подбежал он к чудищу и одним ударом отсек и оставшийся кусок головы, а тело изрубил на кусочки, а куски собрал и сложил их под порогом дома. И лишь тогда вошел в дом и сказал девушке:
— Изрезал я его на куски, теперь уж ему не воскреснуть.
Но Получеловек ожил и опять стал кричать:
— Базилик Зеленый, выходи поборемся!
На этот раз Базилик Зеленый перепугался насмерть. Но все же взял меч в руки и вышел драться. А Получеловек спрятался за дверью и, как только Базилик вышел, кинулся к нему, выхватил меч и отсек ему голову. Упал Базилик Зеленый замертво на землю.
Убив Базилика Зеленого, Получеловек кинул меч возле него, вошел в дом и сказал царевне:
— Пойдем к твоему отцу.
Горько оплакивала царевна смерть Базилика Зеленого, но делать было нечего, пришлось ей пуститься в дорогу с уродом. Шли они, шли, пока достигли царского дворца. Пришли туда темной ночью, и царевна крикнула своему отцу:
— Отец, впусти меня.
Как услышал ее голос царь, сразу узнал ее, выбежал навстречу и крепко обнял. Много лет прошло с тех пор, как он ее не видел. На радостях позвал он гостей в дом и стал расспрашивать о бое с драконами. Тут вступил в разговор Получеловек, но был он так уродлив и противен, что, глядя на него, царю становилось жутко. Да что тут поделаешь: дал слово — держись. Сговорились они быстро меж собой, что на второй день состоится заручение, а через год и свадьбу сыграют. После заручения жениха и невесту разлучили. Получеловек был весел, а царевна печальна — не могла она забыть Базилика Зеленого.
Тем временем мать Базилика Зеленого, истосковавшись по сыну, бросила свое маленькое и бедное хозяйство и пустилась в дорогу по его следам. Дорожка, по которой она шла, была усеяна базиликами, и как раз в тот день, когда царевна с Получеловеком ушли к царскому дворцу, мать Базилика Зеленого нашла мертвое тело сына.
Стала она его оплакивать. Но в это время проползали мимо муравьи, собиравшие пищу на зиму. Вдруг один муравей набросился на другого и оторвал ему голову, а третий, завидев это, подошел к убитому муравью, приложил голову к шее. Затем потер трижды рану листком базилика, и муравей ожил. Увидев это, мать Базилика Зеленого решила сделать то же самое. Очнулся Базилик Зеленый ото сна и очень обрадовался, увидев мать. Потом он ей рассказал о своей борьбе с драконами и Получеловеком, показал трупы убитых драконов и молвил:
— Иди домой, к нашему маленькому и бедному хозяйству, которое ты оставила без присмотра. А я пойду разыскивать Получеловека, убившего меня, и снова померюсь с ним силами.
Пустилась его мать домой, а Базилик Зеленый направился на запад. Шел он так день-деньской от зари до зари, пока добрался до какой-то избушки, в которой горел огонек. Только он подошел к избушке, у порога собака залаяла, и тут же послышался женский голос из дома:
— Коли ты добрый человек, входи, а коли нет, проходи. Дом мой стережет пес с железными когтями и стальными клыками и изорвет он тебя в клочья.
Базилик Зеленый, будучи человеком честным и с чистой душой, решил войти в избушку. Поклонился он женщине, жившей там в одиночестве, и рассказал ей все свои приключения от начала до конца. А она ему и говорит:
— Переночуй у меня, а утром я тебе скажу, в чем кроется сила Получеловека и как его одолеть можно.
Эта женщина была святая Пятница. На другой день утром проснулась святая Пятница и созвала всех птиц со всех концов света. Покормила их и спросила, не знают ли, где находится Получеловек. Птицы ей ответили, что не слышали ничего о нем.
Святая Пятница разбудила тогда Базилика Зеленого и сказала ему:
— Иди все на запад, пока найдешь мою сестру. Может, она знает кое-что о Получеловеке, а я ничем не могу тебе помочь.
И снова пустился в дорогу Базилик Зеленый. Два дня он шел, пока достиг дома сестры святой Пятницы, святой Троицы, и поведал ей о всех своих мытарствах. Она также велела ему подождать до утра. На другой день она встала чуть свет, созвала всех птиц со всего света и спросила их, не знают ли они, где находится Получеловек.
— Мы ничего не знаем, но нету здесь с нами голубя, может быть он знает.
Вскоре прилетел и голубь. Спросила его сестра святой Пятницы о том же, и голубь ответил:
— Получеловек находится при царском дворе. Заручился он с дочерью царя, а свадьбу сыграют через год. Царь решил найти таких музыкантов, от игры которых запляшет и стар и млад… А я, вот, принес с собой волшебную свирель, которую нашел в логове драконов: может, кому и пригодится. О силе Получеловека я узнал с его же слов. Он мне сказал, что его сила находится на востоке от царского двора. Надо пересечь девять рубежей, а в первом селе на девятом рубеже стоит высокая гора, на которой овцы пасутся. В этой горе имеется глубокая расщелина, в которой живет хромой заяц. В желудке этого зайца лежит золотое яблоко, а в нем находятся девять червей. Вот в этих девяти червях и кроется сила Получеловека, и кто доберется туда и убьет червей, убьет и Получеловека.
Сказав это, голубь улетел восвояси, а святая Троица вошла в избушку, разбудила усталого Базилика Зеленого и сказала ему:
— Возьми себе волшебную свирель и иди к царскому двору, там Получеловек, убивший тебя. Когда доберешься туда, оповестишь царя через его телохранителя, что хочешь играть на свадьбе его дочери. Видишь ли, царь ищет таких музыкантов, от игры которых заплясали бы и стар и млад, и горы, и реки. Поиграешь ему на свирели. После того, как сойдешься в цене с царем — покинешь царский двор, пойдешь на восток и пересечешь девять рубежей. И в первом селе за девятым рубежом наймешься пастухом. Затем возьмешь овец и поднимешься с ними на высокую гору, а взобравшись на гору, увидишь глубокую расщелину. Тогда заиграешь на свирели. Как только ты заиграешь, из расщелины выйдет хромой заяц, который начнет плясать под твою музыку, ты его мигом и убей. В нем ты найдешь золотое яблоко, а в яблоке — девять червей. Вот в этих девяти червях и кроется сила Получеловека. Как только ты убьешь червей, он тут же умрет, а царевна, которую ты спас от смерти, тебе достанется. Но знай, что путь твой будет тяжким, страшные грозы, буйные потоки преграждают дорогу к силе Получеловека. Только если сумеешь преодолеть все эти препятствия, найдешь то, что ищешь.
Базилик Зеленый поблагодарил ее, поцеловал ей руку и пошел к царскому двору. Шел он, шел, пока дошел до дворца и через привратника передал царю, что желает играть на свадьбе.
Услышав это, царь велел впустить его во двор, а как увидел его, спросил, на каком инструменте он играет.
Базилик Зеленый ответил ему:
— Играю я не бог весть на каком инструменте — на свирели, но стоит мне тебе сыграть, как запляшут травы, и листья деревьев, и весь мир.
Засмеялся тогда царь:
— Такие музыканты, как ты, могут играть только овцам, но никак не на свадьбе моей дочери, впрочем… ну-ка сыграй, посмотрим, на что ты горазд.
Вынул Базилик Зеленый волшебную свирель и начал играть. И такие звуки полились, что пустились в пляс не только царь и придворные, но и деревья и камни мостовой. Это очень понравилось царю, дал он музыканту цену хорошую и велел ему прийти играть на свадьбе.
Базилик Зеленый попросил тогда разрешение повидать невесту, а царь ему ответил:
— Невесту увидишь, когда придешь играть.
Покинул Базилик Зеленый царский двор и направился на восток, к высокой горе, где была спрятана сила Получеловека.
Долго он шел, все трудности пути поборол, но когда дошел до девятого рубежа, поднялся такой сильный ураган, какого еще свет не видывал. Вдруг перед ним выросла водяная стена, а по воде плыли такие громадные черные змеи, что Базилика Зеленого охватила дрожь. Все же он бросился в воду, чтобы пересечь и этот рубеж, как пересек остальные. Пока он с волнами боролся, ураган сорвал плотину на пруде одного богатого боярина. В этом пруде было много рыбы, и одна большая рыбина кинулась к Базилику Зеленому, чтобы съесть его. Борясь с рыбиной, потерял он свирель, которую заткнул за пояс, но обнаружил эту пропажу только когда вышел на берег.
Разгневанный и удрученный, он сказал:
"Ну, а теперь иди дальше, если можешь!"
Вдохнул он воздуха побольше и опять бросился в воду искать свою волшебную свирель.
Пока он в воду нырял в поисках свирели, змеи подплыли и ринулись на него всей кучей, вот-вот погубят.
Но Базилик Зеленый знал, что змей не раскрывает пасти в воде и не обратил на них никакого внимания, а продолжал искать волшебную свирель. Долго он искал ее и, наконец, нашел под большим камнем. Стал он из воды на сушу выбираться, чтобы дальше к большой горе податься. Но змеи обвились вокруг его тела, рук и ног и только ждали, когда он из воды выйдет, чтобы вонзить в него свои ядовитые клыки… Базилик Зеленый не растерялся и как только вышел из воды, заиграл на волшебной свирели. Змеи принялись плясать, а он таким образом избавился от них. Затем он направился к первому селу девятого рубежа, туда, где находилась сила Получеловека. Прибыв в село, он попросился к одному человеку переночевать, с дороги отдохнуть. Человек его принял. После того как Базилик Зеленый отдохнул, хозяин спросил его, куда он путь держит и чего ищет? Отвечает Базилик Зеленый:
— Ищу хозяина, чтоб чабаном к нему наняться, овец пасти.
Пообещал хозяин определить его на место и повел к сельскому попу. Поп нанять его согласился и такую речь держал:
— Нанять я найму тебя, но знай, что ты мне головой за овец отвечаешь, гляди, как бы не отбилась какая-нибудь от стада.
Только Базилик Зеленый меньше всего об овцах думал. Поклонился он попу и пошел к большой горе, где овцы паслись. Придя туда, вынул из-за пояса свирель и заиграл, и до тех пор дудел, пока заяц не вышел и не принялся плясать. Тогда Базилик Зеленый кинулся к нему, схватил за уши, ударил свирелью по голове и размозжил ему череп. Затем рассек его тело пополам и нашел золотое яблоко, в котором были спрятаны девять червей. На радостях Базилик Зеленый, с места не сходя, двух червей убил. Получеловек сразу заболел. Спрятал Базилик Зеленый золотое яблоко в карман, и такая радость его охватила, что он играл, не переставая, на свирели до тех пор, пока половина овец от пляски не околела.
Затем он повернулся лицом к западу, откуда пришел, и пустился в обратный путь, ко двору царя, где жила любимая им девушка, ставшая невестой мерзкого Получеловека. А царевна сидела в тереме и думала о доле своей горькой: очень уж ей не хотелось за урода выходить.
Идя к царскому дворцу, Базилик Зеленый проходил мимо ярмарки и купил себе платье шелковое, какое в ту пору только врачи носили.
Тем временем царь, увидав, что Получеловек болен, созвал лучших врачей со всей вселенной. Вишь, боялся он, как бы в случае смерти зятя не стали его остальные цари обвинять в убийстве. Но ни один из врачей, осмотревших больного, не смог определить, какая хворь его одолела.
Тут и Базилик Зеленый добрался до царского двора и проник к царю под видом врача: будто пришел осмотреть больного Получеловека и исцелить его. Царь приказал, чтобы врача впустили к Получеловеку в комнату. Пока Базилик Зеленый ожидал приказа царского, вынул он яблоко и убил еще пятерых червей. А затем быстро прошел в комнату Получеловека, который лежал в постели с перевязанной головой, чуть дыша. Врач приблизился к нему, а Получеловек, как только взглянул на лекаря, то есть на Базилика Зеленого, сразу узнал его и крикнул:
— Откуда ты взялся? Ведь я тебя убил и тело твое под порог забросил.
Но Базилик Зеленый за словом в карман не полез:
— Я воскрес и научился врачевать, и вот пришел сюда лечить тебя так, как ты меня лечил, а ты позарился на чужой труд и забрал девушку, не считаясь с тем, что я победил драконов. От борьбы ты увильнул, а славы пожелал и хвастал, что именно ты победил драконов и тебе должна достаться царевна. Ну так знай, что человеческий труд никогда не пропадает даром. А я научился врачеванию и нашел источник твоей силы. И если хочешь его видеть, гляди — он у меня в кармане.
Вынул Базилик Зеленый последних червей из яблока и, положив на стол, прихлопнул. Тут Получеловек дух испустил. Царь и царица очень обрадовались и царевну быстро позвали. Вошла царевна в комнату и как увидела Базилика Зеленого, чуть в обморок не упала.
— Ты ли это, Базилик Зеленый, тот самый, который меня спас от смерти? — вскрикнула она.
Вскоре они и свадьбу сыграли, целый год да еще одну ночь плясали, а народ веселился и ликовал, что от дракона и чудища злого Получеловека избавился.
И я был на той свадьбе,
Век мне там гулять бы,
Съел быка одним духом —
Чуть не лопнуло брюхо.
Потом вскочил на жеребца
И сказку довел до конца.

 КРЕМЕНЬ-МОЛОДЕЦ
КРЕМЕНЬ-МОЛОДЕЦ

Жила-была женщина. Было у нее два сына и дочь. Однажды весной выехали братья в поле землю пахать. Пахали они, пахали, один загон еще остался, да показался им горше всей прежней работы — из сил уже выбились. И откуда силенке-то взяться, коли за целый день-деньской съедят они по корке черствого хлеба, закусят лебедой, запьют ключевой водой и пошел, пошел вперед! Однажды поутру собрались они в поле, положили на телегу плуг да борону и, прежде чем тронуться в путь, сказали матери:
— Матушка, сколько нам еще перебиваться всухомятку? Свари ты нам чего-нибудь да пошли с сестренкой на пашню.
— Ох, родимые мои, да как же я ее пошлю, бедняжку, в этакую даль; мала ведь она, заблудится, и не найдем ее более.
— Не заблудится, матушка. Мы вот волов запряжем да протянем борозду от дома до самого поля, она и пойдет все по борозде да прямо к нам и попадет.
— Что ж, ладно, — сказала мать и принялась стряпать, а сыновья взялись за плуг и начали прокладывать от дома борозду глубокую, дорогу широкую для милой сестренки своей. Спорилась работа в тот день, все ждали хлопцы, что принесет им сейчас сестричка покушать горяченького. Ведь в поле на работе и есть куда больше охота, да и похлебка куда вкуснее, когда сидишь себе на земле-матушке и ветерок прохладный тебя освежает.
Все поглядывали молодцы вдоль борозды и, чем выше солнце поднималось над головою, тем чаше они свои взоры обращали туда, откуда должна была показаться их долгожданная.
Да не всегда желания исполняются; бывает и так, что с одной стороны солнце пригреет, а с другой — тень сгущается.
Недалеко от их поля простирались владения дракона, старого-престарого, белого, как зима, и хмурого, как осень ненастная. Дознался дракон поганый, по какому пути девушка пойдет, и задумал заполонить ее, сделать рабыней при своем дворе. Порешил он так и, не мешкая, пустился в путь-дорогу. Дошел до борозды и стал ее засыпать, задувать, затаптывать. А как добрался до околицы села, сбросил со спины плуг с медным лемехом да и проложил до самого своего дворца борозду глубокую, крестьянскую. Вышла девушка за околицу и по борозде пошла, но не к братьям дошла, а прямо ко дворцу дракона страшного. Схватил ее дракон, запер в своих хоромах и стал задавать ей работу что ни день — все тяжелее. Велико было горе братьев и матери, когда, вернувшись домой, узнали они, что ушла их сестренка да пропала без вести. До самой полночи они думали-гадали, да так ничего путного не придумали. А наутро старший брат встал, собрал котомку да и отправился искать по белу свету, куда занес сестренку злой ветер. Увидел он борозду свежую и пошел по следу.
Как воды бурливые несут щепу легкую по течению да на вечное погребение, так и борозда дракона вела парня не к жизни веселой, а к смерти неминучей. И некому было вернуть его с дороги этой. Все быстрее шагал он по свежему следу сестры своей. Закончилась борозда и ступил парень в царство дракона.
Невдалеке раскинулся сад прекрасный, точно море зеленое, деревья — одно другого красивее. А посреди сада этого возвышался дворец золоченый, самоцветами убранный, сверкая, точно солнышко красное. Не оробел парень, а пошел шагом молодецким прямо ко дворцу. Тут голос девичий остановил его:
Парень милый, погоди,
Нету ко дворцу пути,
Не ходи в волшебный сад,
Будешь сам потом не рад.
Как увидит пес-дракон,
Что ты лезешь на рожон,
Горе горькое нас ждет —
Он тебя тотчас убьет!
Огляделся парень и увидел перед собой сестренку свою. Она также узнала его и подошла — лицо печальное, слезы рекой льются.
— Ох, братец мой, уходи скорее, а то нагрянет сейчас лютый дракон и когда увидит тебя — не сдобровать нам.
Сестрица, сестра,
Домой нам пopa!
Как ушла ты от нас
В тот недобрый день и час —
Солнца свет для всех погас,
Все мы слезы льем рекой,
Так идем скорей домой.
— Давай быстрее, — сказала она и, взявшись за руки, они бросились бежать. Но не успели они и трех шагов сделать, как упала прямо перед ними палица дракона — такая огромная, что ни обойти ее, ни объехать; тут в сам дракон-страшилище вырос перед ними и спрашивает, сжимая кулаки:
— Что же, хлопчик, бороться будем или бражничать?
Не нужна мне твоя брага,
Потягаемся в бою!
Выходи, дракон-собака,
Силу покажи свою.
Покосился дракон на меч, висевший у него на боку, и прокричал:
Меч мой, вылезай,
Ножны покидай,
С ног его сбивай!
Выскочил меч из ножен, просвистел в воздухе и отрезал парню ноги. Схватил дракон палицу свою, покружил над головой да закинул далеко-далеко, за дворец, за сад, на самый край царства. Ударилась оземь палица и яму глубокую вырыла. Бросил дракон туда парня несчастного и ноги его отрезанные.
Горько бедовал братец, а сестрица от печали великой таяла, как свеча. Каждый день пробиралась она к яме этой и бросала братцу чего-нибудь поесть.
Много ли, мало ли времени прошло, и вот тоска да печаль, да слезы матери толкнули и второго брата на ту же дорогу, пошел он вдоль борозды. Шел он с утра до полудня, обошел яму глубокую, вырытую палицей дракона, и дошел до сада. Только хотел в этот сад вступить, слышит голос девичий:
— Парень милый, погоди,
Нету ко дворцу пути,
Не ходи в волшебный сад,
Будешь сам потом не рад.
Как увидит пес-дракон,
Что ты лезешь на рожон.
Горе горькое нас ждет —
Он тебя тотчас убьет!
Оглянулся парень и сестрицу свою увидел. И она его узнала, подошла — лицо печальное, слезы ручьем льются и молвит:
— Ох, братец, уходи скорее, а то сейчас дракон нагрянет и не сносить тебе головы.
Сестрица, сестра,
Домой нам пора!
Как ушла ты от нас
В тот недобрый день и час —
Солнца свет для всех погас,
Все мы слезы льем рекой,
Так идем скорей домой.
— Нет спасенья мне. Сколько ни пыталась я бежать, все дороги преграждал мне змей проклятый, избивал меня и вновь служить заставлял.
— Уйдем же теперь вместе, покинь ты этот сад.
Только они два-три шага сделали, как откуда ни возьмись вновь дракон лютый дорогу им загородил.
— Стой, парнишка, и отвечай мне: драться будем или бражничать?
Отрезал ему парень:
Не нужна мне твоя брага,
Потягаемся в бою!
Выходи, дракон-собака,
Силу покажи свою.
Приказал тогда дракон мечу своему:
Меч мой, вылезай,
Ножны покидай,
С ног его сбивай!
Выскочил меч из ножен, просвистел в воздухе да отрезал парню ноги выше колен. Нагнулся змей и забросил его в ту же яму глубокую.
И до того горевала девушка, а теперь ее горю предела не было. Почернела она, как земля, проливая слезы кровавые, и каждый день пробиралась крадучись к яме глубокой и бросала братцам покушать.
А матушка все ждет не дождется, когда же вернется хоть один из детей. Однажды, проходя мимо колодца, захотелось ей испить воды студеной. Утолила жажду свою, присела отдохнуть немного на кремневых камнях, да и зачала от этого.
Родила она вскоре мальчика, прекрасного, как солнце ясное. Рос ее сын на глазах: другой за год так не вырастет, как он за день. И прозвала его Кремень-молодец. Едва ему две недели минуло, а он уж играл с десятилетними-двенадцатилетними ребятами. И никто с ним по силе тягаться не мог. Как-то разговорились между собой люди, на него глядя и силе его дивясь:
— Вот этот, коли пойдет, так братьев да сестру непременно разыщет.
Услыхал Кремень слова эти и что есть духу домой прибежал.
— Матушка, разве есть у меня братья и сестры?
Затуманилось чело материнское, задумалась она и промолвила:
— Нет у тебя больше никого, сын мой.
Только нелегко матери дитя свое обманывать — печаль ее так и гложет. А Кремень приметил, как мать опечалилась, и еще пуще поверил молве людской.
Однажды во время охоты забрел он на лужайку зеленую, со всех сторон скалами окруженную, и меж камней нашел железину. "Вот бы мне из нее палицу смастерить!" — подумал он да и отнес ее кузнецу.
Выковал кузнец такую палицу, что двенадцати мужикам ее не поднять бы. Взял ее Кремень, принес домой да как размахнется, как подбросит — скрылась палица за облаками. А парень дверь открыл и говорит матери:
— Я отдохнуть прилягу, а ты, как услышишь, что гудит палица, разбуди меня.
Проспал он три дня и три ночи. На четвертый день, заслышав свист пронзительный, разбудила его мать. Выскочил он на порог и подставил палице колено. Потом оглядел — согнулась палица: "Ковать еще следует", — подумал он и понес обратно в кузницу. А затем позвал мать и говорит:
— Снился мне, матушка, сон, будто бы пришел ко мне старик седой и посоветовал, чтобы полезла ты под избу и оттуда подала мне кусок лепешки, тобою испеченной, тогда и силы мои утроятся.
Что не сделают родители, только бы их дети сильней и красивей стали!
— Как же я, сыночек, под избу залезу?
— Я ее, матушка, приподниму сбоку, а ты залезай.
Поддел Кремень-молодец избу около завалинки, приподнял ее, а мать с лепешкой в руке под нее забралась и протягивает ее ему оттуда. А он тут стал полегоньку опускать избу на мать — все больше и больше. Терпела-терпела горемычная, да вскрикнула наконец:
— Кремень, Кремень, что ты делаешь?
— Скажи мне, матушка, есть у меня братья да сестры?
Застонала мать, заплакала:
— Да, мой дорогой, и братья и сестра у тебя есть.
Поведала она ему, как ушли они один за другим да и не вернулись.
— Ну, раз так, замеси мне на твоих слезах лепешек в дорогу дальнюю, пойду я по белу свету, авось на их след нападу.
Выбралась мать из-под избы, насыпала муки в квашню и замесила тесто, поливая его слезами горючими. Взял Кремень свежие лепешки да и пошел вдоль борозды, по следам своих братьев. Шел он, шел, обошел пропасть глубокую, палицей дракона вырытую, да и дошел до сада прекрасного. Только хотел вступить туда, как услыхал голос девичий:
Парень милый, погоди,
Нету ко дворцу пути,
Не ходи в волшебный сад,
Будешь сам потом не рад.
Как увидит пес-дракон,
Что ты лезешь на рожон,
Горе горькое нас ждет —
Он тебя тотчас убьет!
Остановился Кремень и, увидев девушку изможденную, бледную, заплаканную, пожалел ее и протянул кусок лепешки. Поднесла девушка лепешку ко рту, да и застыла вся, глаз не сводя с прохожего.
— Откуда у тебя эта лепешка?
— Из дому. Мне мать ее дала.
— Мать?.. Чья мать?
— Моя.
— Не может быть, ведь этот хлеб на слезах моей матушки испечен.
— На слезах твоей матушки? Значит, ты моя сестра.
Рассказал ей Кремень-молодец, как послала мать двух сыновей, молодых да красивых, чтоб дочь отыскали и домой привели.
— И вот ушли они, — говорит ей молодец, — как в воду канули, ни слуху о них, ни духу. Знает матушка лишь день, когда они ушли, а когда домой вернутся — кто ведает?
— Это я вдоль борозды из дому пошла, а за мною следом и братья мои. Встретиться-то мы встретились, но домой нам дракон вернуться не дал.
— Сестрица милая, давай убежим.
— Коли ты мне брат, то возвращайся скорее домой да о матушке позаботься, ибо нас навряд ли она увидит. Сколько раз ни пыталась я бежать, а едва три шага сделаю, как дракон меня уж ловит, избивает и обратно возвращает.
— А как мне его распознать?
— При встрече с чужим он всегда спрашивает: "Что ж, будем бороться или бражничать?" На ответ "давай бороться" приказывает он мечу своему:
"Меч мой, вылезай,
Ножны покидай,
С ног его сбивай!"
Так и подкосил он обоих братьев моих да забросил в яму.
Ну, а если ответ будет иным, да пожелает гость незваный "бражничать", ведет его змей во дворец, за стол усаживает и начинает потчевать — тремя волами жареными, вином да хлебом. И таков уж обычай его: как обглодает кость, так и огреет гостя по голове, чтобы разбить мосол и мозг из него высосать. А коли кто покрепче и выдержит такое обращение, то все одно ему конец придет, так как, покушав, дракон вновь к мечу обращается:
"Меч мой, вылезай,
Ножны покидай,
С ног его сбивай!"
Только девушка рассказ свой закончила, как вдруг поднялась вдали страшная туча черная, загремели громы грозные, а из-за тучи молнией ринулась на них палица дракона. Схватил ее Кремень-молодец одною рукою, повертел над головой да и кинул обратно. Почернела, помутнела еще больше туча и раздался гневный голос змея:
— Эх, недобрые гости ждут меня!
И прямо с горы вихрем скатился оборотень, пыль столбом вокруг себя вздымая, стукнулся оземь и обернулся драконом.
— Чего желаешь, добрый молодец, бороться или бражничать?
— Давай раньше поедим, за столом посидим, а потом и поборемся!
Вошли они во дворец, поставил змей на стол трех волов жареных, бочку вина и давай уплетать. Обглодал он кость, схватил ее, да хлоп! молодца по голове. Но тут коса на камень нашла! Обгрыз и Кремень-молодец кость да как влепит дракону прямо в лоб с такой силой, что у того искры из глаз посыпались. Пока змей очухался, Кремень выхватил у него меч из ножен, да об колено — вначале пополам, а затем на четыре, на восемь частей разломил. Бросил он куски на пол и ногами затоптал, чтобы следа не осталось. Очнулся дракон, хватился, а сабли уж не стало. Видит, что дело плохо, не удалась его хитрость, вышел он во двор да и заорал что есть мочи:
— Выходи, молодец, поборемся на току на медном.
Вышли они на медный ток, выкованный 99 змей-горынычами за 99 дней 99 молотами на стольких же наковальнях. Тут они схватились не на жизнь, а на смерть, ударили они палицами — вдребезги палицы разлетелись. Схватились они тогда врукопашную, кто кого одолеет — по праву сильного. Скалы крошились, горы сквозь землю проваливались, от деревьев щепки летели, в небе молнии сверкали, да громы гремели, так боролся дракон проклятый с Кремнем-молодцем. Боролись они, боролись, пока выбились из сил, и повалились наземь от усталости великой. И так они разгорячились, что из пасти дракона вырывалось пламя синее, а из уст Кремня-молодца зеленое пламя. Лежат они так, еле дух переводят и вдруг видят высоко в синем небе сокола сизого. Как завидел его змей, закричал, что есть мочи:
Сокол, слетай
На реку Дунай,
В бочке самой лучшей,
В клюве могучем
Воду принеси,
Пламя погаси.
За непослушанье
Жди ты наказанье —
Род твой сокрушу,
Жизни порешу
Соколов, синиц
И всех прочих птиц.
А сокол кружится над ними как ни в чем не бывало.
Тогда Кремень-молодец попросил его ласково:
Эх, соколик мой,
Воды ключевой
Притащи скорей
Да огонь залей,
Напои меня,
Прохлади меня.
Будут люди рады,
И тебе в награду
Дам я по закону
Падаль дракона.
Ты слегай, мой свет,
Будет здесь обед
Соколам, синицам
И всем прочим птицам.
Ринулся сокол на землю, пошарил где пошарил и появился вскоре, неся в когтях кувшин воды студеной, родниковой. Утолил он жажду добра молодца, побрызгал его, освежил. Почувствовав силу новую, вскочил Кремень, поднатужился, да как схватит дракона лютого, да как стукнет о сыру землю — тут и конец дракону пришел.

Покинули тучи небо ясное, показалось солнышко красное, ветер на крыльях своих принес полей благоуханье. Возвратился Кремень-молодец ко дворцу, нашел сестрицу свою, взял ее за руку и молвит:
— Теперь идем домой, свирепый дракон уж нас не остановит.
Прошла девушка несколько шагов, остановилась и заплакала.
— Ох, братец, не могу я уйти, покинув здесь братьев наших несчастных.
— Да где же они?
— В пропасти глубокой. Дракон покалечил их да бросил туда.
Спустился Кремень в пропасть и вскоре вынес на руках обоих братьев.
Бедняги держали в руках отрезанные ноги и были бледны и худы, жизнь едва в них теплилась. Положил их Кремень на траву зеленую, огляделся окрест да и направился прямо на восток. Шел он, шел по горам, по долинам, по лесам дремучим, по высоким кручам, и вот повстречалась ему в пути старушка.
— День добрый, бабушка!
— Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь?
— Ищу я мертвую да живую воду.
— Много тут родников всяких в этой долине, да нелегко будет найти мертвую и живую воду; почти во всех родниках вода отравленная.
Сел Кремень да призадумался. И тут родник, и там ключом вода бьет, а как же узнать, какая целебная? Не попробуешь ведь, благо попадешь на хорошую, а вдруг выпьешь яд и с жизнью расстанешься?
Ходит Кремень по этой долине, все поглядывает на родники и вдруг набрел на цветы. Стал он рвать их, собрал большой букет и вернулся к родникам; взял да и окунул в воду каждого родника по цветку. Как раз хватило ему цветов собранных. Повернул назад Кремень-молодец и смотрит: повсюду цветы завяли, захирели. Только в одном роднике цветок распустился пуще прежнего, а в другом корни в землю дал. Наполнил он два кувшина водой из этих родников да и пошел не оглядываясь. Затем приложил он братьям отрубленные ноги, побрызгал мертвой водой и срослись ноги, а когда побрызгал живой водой, то встали парни, как ни в чем не бывало. Счастью их не было конца. Обнялись они, расцеловались, да и пошли все четверо домой.
Как после ночи темной и холодной свет зари и солнечное тепло оживляет все окрест, так вернулись в душу матери любовь и счастье, когда увидела она детей своих дома. Стали они жить-поживать да добра наживать. У каждого из них был свой дом, свой стол, и жили они так счастливо и мирно много-много лет, а может, и сейчас живут, если не померли.

 ДАФИН И ВЕСТРА
ДАФИН И ВЕСТРА

Далеко-далеко, там, где солнце спать ложится, когда вдосталь на суету людскую надивится, простиралось большое царство. И жили в том царстве царь да царица. Давно уж отшумела их
молодость, но не было у них на старости лет ни опоры, ни услады — ни сына, ни дочери. И поэтому тоска их пуще старости к земле гнула. Одолела их злая кручина, плачут они, плачут, горе через край переливается, по всему миру разливается. Но вот нашелся старый-престарый отшельник, умевший снадобье всякое из травы варить, и пришел он ко дворцу царскому, утешить царя и царицу в их горе.
Проводили старца до трона царского, пал он на колени и протянул царице гроздь виноградную, что выросла на холмах у жаркого солнца на глазах; отведала царица винограда и зачала.
Будто солнце царю душу отогрело, опять мила стала ему жизнь и дела мирские. Кликнул царь людей своих, псарей да ловчих и на охоту отправился. Много всякой дичи настрелял: и волков, и лисиц, и зайцев; в пылу охоты забрался он далеко, за границу царства своего, да никто этого не приметил. Спустившись вниз со скалы крутой, увидали охотники крепость высокую, обширную и пустынную. Обошли ее кругом — всюду только камень да камень, и ни живой души.
— Пошли назад, — приказал царь.
Да не тут-то было. И след простыл той тропинки, по которой сошли они, и высилась перед ними скала гладкая, неприступная. Заметались охотники кто куда, как птица в силках, а выхода нигде не находят. День прошел, второй прошел, уже всю дичь поели, есть нечего, голод все крепче знать себя дает. Еще день да ночь прошли, а на рассвете глянули — черт по стене крепостной ходит, гуляет, трубкой попыхивает. Побежали псари, дали знать о том государю.
— Гляньте, ваше величество!
— Никак черт. Нечистая сила, леший.
Подошли воины к царю-государю да подбили спросить лукавого:
— Ваша темнейшая мерзость, чем не угодили мы тебе, что заточил ты нас в крепости этой?
— Не я вас заточил, сами вы сюда пришли, — отвечает бес им сверху.
— Так прояви злодейскую волю свою и проделай проход в стене, выпусти нас в поле чистое, на житье вольготное.
— Выполню, царь, просьбу твою, коль обещаешь мне подарочек.
— Какой же?
— Подари мне, что есть у тебя во дворце, а ты ни слухом, ни духом о нем не ведаешь, и я тебя мигом выпущу.
Задумался царь, видать, что-то нечистое лукавый замыслил, да очень не терпелось выбраться из тисков стен, вот он и отвечает:
— Согласен, быть по сему.
— Пиши грамоту на подарок, — требует бес.
Подозвал царь воина, письму обученного, укусил тот себя за палец, — чернил-то у них не было, — и написал. Только получил черт грамоту царскую, стены крепости тут же сквозь землю провалились. Обрадовались все да поскорее домой направились, а как доехал царь до владений своих, счастье безмерное охватило его. Родила ему царица сына круглолицего, и нарекли его Дафином, и рос он не по дням, а по часам, всем на диво. А царь с царицею глаз с него не сводили, все холили да ласкали, только им и жили, сердечные. За всю свою жизнь они столько не радовались, сколько теперь за день.
Но как хороши, как свежи цветы весенние, а заморозки их безжалостно убивают. Тут явился ко дворцу царскому черт да и потребовал не что иное, как самого Дафина. Не успели царь с царицею от ужаса в себя прийти, как бес схватил мальчонку за шиворот и понесся, — поминай, как звали! Дафин и не заметил, по каким путям-дорогам его пронесли и куда забросили. Здесь черт запряг мальчика в работу тяжкую, и чего только не пришлось испытать бедняжке Дафину! И голод, и холод, и ночи без сна — всего натерпелся. Но приходилось терпеть: беда, коль не выполнит воли лешего. Многое хотелось узнать Дафину, но пуще всего влекло его к ремеслам разным. Легко давались ему и языки всякие, так что вскоре стал он понимать и птиц, и животных, и малых букашек.
Однажды отправился нечистый в края дальние, а Дафин, оставшись один, работал, работал, пока пить захотел, и отправился к роднику. Присел он у ручья, в тени тополя высокого, напился, перекусил да и прилег отдохнуть немного. Тут сели на макушку тополя три птицы и, увидав молодца, заговорили меж собой:
— Посмотрите-ка, сестрицы, — молвила первая, — вот отдыхает добрый молодец, из далеких краев чертом привезенный. А знал бы он о горе-злосчастье Арапа, пошел бы, грехи б ему отпустил и избавил бы несчастного старика от кары дьявольской. Вот уж сто восемьдесят лет подряд все черпает он воду из колодца бездонного да льет ее в долину, где купается прекрасная Вестра, девушка, которую черт похитил и приворожил, чтоб сама бесовкой стала и по худому пути пошла.
Понял Дафин говор птичий и, сокрушаясь от таких козней дьявольских, вскочил на ноги да спросил птицу:
— А в каком краю, в какой стороне горе мыкает Арап?
— Ступай все под гору, иди три дня и три ночи и найдешь его, — ответили птицы.
Собрался Дафин в путь-дорогу да и пошел. Не присядет, не приляжет, все идет без устали. А на рассвете дня четвертого дошел он до пруда широкого-преширокого, ни конца ни края не видать. Вдали, на склоне горы колодец чернеет, а рядом человек стоит, то поднимает, то опускает длинный-предлинный журавель. Подошел Дафин поближе и увидел старца, как лунь белого, иссушенного долгими годами.
— Бог в помощь, дедушка!
— Спасибо, сынок.
— Что же ты так стараешься, дедушка, бадью за бадьей достаешь, будто всю воду вычерпать хочешь?
— Ох, добрый молодец, тяжкое проклятие свалил мне на голову дьявол. Осужден я воду черпать, чтоб лилась она с горы ручьем неиссякаемым и озеро расширяла. А ты кто будешь?
— Нездешний я, дедушка. Увел черт меня, и теперь ума не приложу, как мне из царства его выбраться да вольной жизни себе добыть.
Присел дед на сруб колодца, призадумался, стал перебирать в уме всякие способы спасения.
— Так вот, — сказал он наконец. — Можешь ты спастись отсюда только через Вестру, юную девицу, привезенную сюда дьяволом из-за тридевяти земель, тридевяти морей, чтоб стала она орудием зла. Переняла она уже от черта силу да искусство бесовское, но сердцем еще чиста, как младенец. Пройди-ка ты по ту сторону озера, подстереги ее, как купаться придет, схвати одежду ее и удирай, только упаси тебя боже оглянуться — сразу всю власть над нею потеряешь. Благословлю я вас, и, коль удастся от черта избавиться, век свой счастливо проживете.
Обрадовался Дафин, услыхав речь Арапа, будто рай земной воочию увидал. Пошел он берегом озера широкого легким шагом молодецким, дошел до места заветного, схоронился в кустах и сидит — не пикнет.
Красива заря вечерняя в синеве небес, но где ей тягаться с красавицей Вестрой, которая как раз спускалась с пригорка к озеру. Шла она походкой смелой, шагала лебедушкой белой. До озера дошла, платье скинула, окунулась в воду и сразу обернулась лебедем белоснежным. Тут она принялась купаться, баловаться, крыльями вздымать брызги алмазные и чудеса творить разные — глаз от нее не оторвать. Но Дафин не стал ее разглядывать, а схватил одежку, ноги на плечи, да был таков. Вышла Вестра на берег, хватилась, а одежды нету. С испугу сердце у нее зашлось. Поглядела на все четыре стороны да и заметила Дафина-молодца. Пошла она за ним следом, стала песни заводить, лаской ему льстить. Дафин то, Дафин се, а он бежит и бежит без оглядки, хоть и чует — загораются пятки. Еще пуще Вестра старается, песней сердечной его чарует:
Дафин, милый мой,
Цветок полевой.
Сладкий, как мед,
Не стремись вперед.
Ты не удирай.
Добра не бросай,
Оглянись назад.
Будешь встрече рад.
Тяжко Дафину, стоном стонет, до того оглянуться хочется, а все же осилил он сердце свое, не оглянулся. Добежал до колодца, стал перед Арапом, только тот положил ему руку на плечо — Вестра тут как тут. Вернул ей старик платье, поставил обоих на колени и благословил, чтоб жили-поживали, горя горького не знали. Затем достал он из-за пояса два колечка обручальных и надел молодым на пальцы. Встали молодые, поблагодарили и собрались было уже в путь-дорогу, как вспомнил Дафин птичий рассказ и промолвил:
— Будь же, дедушка, прощен и избавься от кары дьявольской.
Только прозвучали слова эти, как старик Арап исчез, будто сквозь землю провалился. В мгновенье ока не стало ни колодца, ни журавля, только след от них на примятой траве остался. Давно уж, видно, пора было им сгинуть с лица земли.
Дафин ходит женихом, а Вестра все грустнее становится и под конец молвит:
— Никогда нам не перейти предела царства этого без согласия дьявола. Пойди ты к нему, попроси руки моей.
Пошел Дафин ко дворцу чертову, долго пробирался он по скалам да оврагам, да диким буеракам, и вот встает перед ним крепость черная, как сажа. Вошел он и очутился перед нечистой силой.
— Здравствуй, бес.
— Здравствуй, — отвечает черт да спрашивает: — Каким гнусным ветром занесло тебя сюда?
— Пришел я попросить у тебя руки Вестры.
— Вестру я тебе отдам, коли выполнишь три моих приказа, а коль возьмешься за дело и не осилишь — прощайся с белым светом.
— Берусь, ваша темность, твои приказы выполнить.
— Хорошо, приходи вечерком.
Под вечер приходит Дафин к дьяволу. Вышел дьявол во двор, на запад глянул и спрашивает:
— Что ты там видишь?
— Край земли, — отвечает Дафин.
— А на юге?
— Тоже.
— Коли хочешь руки Вестры, так до утра вспаши мне все это поле, посей пшеницу, вырасти да пожни, сгреби да скопни, пшеницу намолоти, на мельницу отвези и с восходом солнца хлебца свежего мне отведать принеси.
Услышав приказ такой, испугался и загрустил Дафин и темнее ночи черной вернулся к Вестре. Закралась к нему и такая дума — не послала ли она его на гибель неминучую? Разве под силу кому такой приказ выполнить?
— Не тревожься ты, не печалься, — говорит ему Вестра. — Такой приказ легче легкого выполнить.
Взглянула Вестра на горы дальние, свистнула, что было мочи, и, откуда ни возьмись, налетело чертей видимо-невидимо, все поле кишмя кишело.
— До утра выполните мой приказ, — говорит им девушка. — От дворца его темнейшества на запад и на юг до края земли должны вы все поле вспахать, пшеницей засеять, урожай вырастить, собрать, помолотить, зерно смолоть и, едва день забрезжит, — хлеб горячий мне представить. Поняли?
— Да! Да! — закричали бесенята в один голос.
Принялись они за дело, все в руках у них кипело. Одни пахали, землю разворачивали, другие шли следом с бороною, третьи сеяли, четвертые ползком на четвереньках духом своим корни согревали. Чудесно поле преобрази- лося. К утру пшеница уже созрела, и взялись черти — кто косить, кто молотить, кто на мельницу возить, с первою же зарей хлеб был уже в печи.
Только солнышко красное всходить стало — и хлеб теплый, только что из печи, лежал уже пред добрым молодцем. Взял Дафин белый каравай, положил на полотенце да и отнес его черту.
— Вот, ваша темность, выполнил я приказ твой, получай каравай.
Нахмурился черт, как глянул на поля свои, но хлеб взял. Потом повел Дафина на склад оружейный и велит:
— Выбери себе оружие по нраву, второй приказ мой на охоте выполнишь. Приходи завтра да подстрели зайца в моем саду. Но помни, охотиться будешь только у меня в саду. Понял?
— Понял, ваша темность, — ответил Дафин и с радостью на душе отправился к Вестре.
— Отчего ты так веселишься? — спрашивает она.
— Как же мне не веселиться, когда бес так опростоволосился. Тоже мне приказ: подстрелить зайца в его саду.
— Не смейся, не веселись, Дафин, как бы потом плакать не пришлось. Ведь этот заяц будет не простой косой, а сам черт обернется зайцем. Завтра ты не гонись за ним с оружием, так ничего не добьешься, а садись у входа во дворце и жди. Я обернусь в борзую, стану за ним гнаться, ни в какой норе спрятаться не дам. Когда он из сил выбьется, то попытается проникнуть во дворец; тут ты его и хватай да и стукни изо всех сил головой о лестницу.
Спрятался на следующий день Дафин за дверью дворцовой, а борзая принялась гоняться за серым, вот-вот схватит и разорвет. Почувствовал заяц, что туго ему пришлось, не сдобровать видно, и бросился ко входу во дворце. Поймал его Дафин за уши, схватил за лапки задние и раз! — головой о лестницу. Взвыл заяц от боли. А Дафин, как ни в чем не бывало, знай себе — бьет его головой о кромку ступенек.
Такой шум и вой поднялся, что вышла из хоромов своих чертова жена да как увидела, что творится, чуть было за волосы не схватилась да не заголосила, только вовремя спохватилась и прикрикнула на Дафина:
— Что же ты, Дафин, такой шум-гам поднимаешь?
— Вот поручил мне их темность поймать ему зайца, выполнил я его наказ, а теперь хочу прикончить серого и на кухню отнести.
— Постой, не убивай его, дай мне его живым, я с него шкуру спущу и зажарю.
— Нет, я сам должен его их темности отдать.
— Как же ты дашь ему зайца, когда он только вечером вернется? Подай его сюда, я его поджарю на ужин, и ты тоже с нами поешь.
Отдал ей Дафин зайца да и пошел себе с чистой совестью отдыхать после трудов праведных. А под вечер пришел он к лешему во дворец жаркое заячье отведать. Принял его черт как ни в чем не бывало, угощает, притворяется, будто рад ему безмерно, а у самого голова перевязана, под глазами синяки. С трудом раскрывая рот, говорит дьявол Дафину, что согласен отдать ему Вестру, но надо прийти наутро и выбрать ее среди дочерей чертовых.
— Хорошо, — сказал Дафин и ушел, довольный тем, что избавился, наконец, от поручений дьявольских.
— Чего ты так радуешься? — спросила его Вестра, идя ему навстречу.
— Как же мне не радоваться, когда нечистый велел мне взять тебя да и пойти своей дорогою.
— Милый мой Дафин, не знаешь, как тяжело будет выполнить этот приказ. Тут плакать надо, а не радоваться. Завтра он тебя заставит искать меня средь сотен девушек, похожих на меня, как две капли воды, и лицом, и волосами, и платьем. Как же ты меня отличишь?
— Да будь вас хоть сколько звезд на небе, а тебя я все равно узнаю.
— Не говори так, а послушай-ка лучше, что я тебе скажу. Завтра гляди внимательно каждой в глаза да выбирай ту, у которой слезы польются.
Так они и порешили. На второй день пришел Дафин за своей Вестрой, а лукавый его отвел в комнату, где стояло множество девушек, — все одна в одну, вылитые Вестры. Долго глядел на них Дафин, да никак не мог найти свою суженую. Да как и отличить ее, когда стояли они, точно в поле пшеничном колосья золотые, соком налитые — все на одно лицо. Время шло, все сильнее сжималось его сердце от страха и печали, как вдруг заприметил: блестят на девичьих ресницах две жемчужины слез.
— Вот она, ваша темность! — воскликнул радостно молодец.
Посинел от злости дьявол, понял, что они в сговоре, накинулся на них с кулаками и, отлупив, заточил в темницу глубокую, за двенадцатью дверьми железными, тяжелыми запорами запертыми. Была в той темнице одна только крохотная щель, сквозь которую проникал к узникам тонкий, как ниточка, луч света. Горькая кручина свалилась на Дафина, но Вестра ударила кольцом оземь, да и превратились они в мошек малых и сквозь щелочку на волю выбрались. И полетели они что есть мочи через горы и долины подальше от беса проклятого. Но почуял бес, что нет уж их в тюрьме, огляделся вокруг да и заприметил их далеко-далеко, за горной кручей, за лесом дремучим. Послал он им вслед своих лучших всадников, чтоб задержали да обратно доставили.
Поскакали всадники пуще ветра быстрого, быстрей молнии лучистой и уже неподалеку от Дафина и Вестры стали пускать носом пламя.
— Ох, что-то жжет мне страшно спину, — сказал Дафин.
Обернулась Вестра да и признала всадников.
— Догоняют нас беса посланцы.
— Как же нам быть?
— Не бойся. Я превращусь в цветущий сад, ты же станешь стариком садовником. Как подъедут они да станут расспрашивать, ответь, что, мол, прошла какая-то пара мимо, но очень, очень давно, еще когда ты сад свой только садить начинал.
Сказала это Вестра и тут же превратилась в сад цветущий со множеством разных деревьев плодовых, а Дафин — в старого-престарого садовника.
Вихрем подлетели посланцы беса свирепые и спрашивают садовника:
— Не пробегали здесь девица да молодец?
— Давно, очень давно пробегали тут какие-то. Я как раз садил деревья эти. А с тех пор никто больше в этих краях не показывался.
Удивились всадники, услыхав такой ответ, да и вернулись ни с чем.
— Ваше ничтожество, — говорят они лукавому, — побывали мы там, куда ты нас послал, да никого не встретили, кроме садовника какого-то, что за садом своим ухаживал.
— Мэй, это ведь они были, вернитесь да поймайте их.
Вновь бросились всадники в погоню, еще быстрее прежнего летят и вскоре опять стали приближаться к Дафину и Вестре, которые также мчались, что есть мочи.
— Ох, опять что-то сзади жжет мне спину, — пожаловался Дафин.
Оглянулась Вестра и узнала посланцев дьявола.
— Догоняют нас. Ты вновь ответь им, как прежде, только теперь обернемся мы не садом и садовником, а пшеничным полем да стариком, готовым к жатве.
— Хорошо, — ответил Дафин и превратился вдруг в старика, с серпом в руке.
Только сорвал он несколько колосьев, да попробовал крепость зерен, всадники тут как тут.
— Скажи нам, старче, не видел ли ты здесь молодца с девицей?
— Видал я их, как же, видал, да давненько это было, как раз когда я сеял пшеничку, а с тех пор никого больше не видал.
Всадники уши развесили, поверили речам старца да и повернули назад.
— Ваше ничтожество, — молвили они, кланяясь дьяволу в ноги, — никак не догнать их. Встретили мы на пути старика, готовившегося к жатве, и сказал он нам, что видал беглецов, да больно давно, еще когда сеял пшеницу. Вот и вернулись мы назад. Кто их знает, куда они делись!
У черта сердце зашлось от злости:
— Дуралеи вы лопоухие, ведь это они и были!
Взвился он, точно страшный смерч, и помчался сам беглецов догонять. Летит он над землей, во всех ужас вселяя, и где ступает его нога, там пропасть раскрывается, где дохнет — земля в пепел превращается. Оглянулся Дафин, видит туча темная, мохнатая прямо на них надвигается, но признала Вестра черта лукавого, стукнула кольцом оземь да и превратила Дафина в реку глубокую, полноводную, а сама уточкой обернулась, по волнам поплыла.
Как дошел бес к реке той да как взглянул на уточку, сразу же признал Вестру. Начал он воздух в себя тянуть да и поднял бурю страшную, все уточку ко рту своему притянуть норовит. Но река волнами своими уточку заграждает, к другому берегу поворачивает.
Долго трудился бес, да все понапрасну. Видя, что так ему ничего не добиться, принялся он глотать воду речную, глотал, глотал, пока наглотался до отвалу и лопнул.
Как перед заблудшими в лесу дремучем вдруг неприметная тропка появится, так и перед Дафином и Вестрой ясная дорога широкая раскрылася.
Радостные пошли они в путь-дорогу и все шли да шли через тридевять земель, через тридевять морей к родному краю Дафина. А там старый царь с царицей все горюют да оплакивают судьбу сына своего несчастного. С тех пор, как забрал у них черт сына, не просыхали слезы в их глазах, улыбка лица не освещала, а сердца вздохов не вмещали. Но вот дожили они до того, до чего вовек не надеялись дожить. Дафин вернулся во дворец и предстал пред их очами.
Как солнце своими лучами разгоняет тьму ночную, так радость осветила лица родительские — и закатили они пир на весь мир и сыграли свадьбу сына своего с прекрасной Вестрой. Народу было тьма-тьмущая, и я там был, мед-пиво пил, но, узнав, что с ними приключилось, не высидел до конца, а
Сел на колесо верхом,
Покатился кувырком.
Передать чтоб всем те вести
О Дафине и о Вестре.

 БАЗИЛИК ФЭТ-ФРУМОС И ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА, СЕСТРА СОЛНЦА
БАЗИЛИК ФЭТ-ФРУМОС И ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА, СЕСТРА СОЛНЦА
Сказка — сказкой, былью — быль.
Не случись все это —
Не пошла б молва по свету.

Жили-были мужик да баба, и была у них дочь прекрасная, как утро ясное, проворная — на все руки мастерица и резвая, как весенний ветер. Кому случалось увидеть, как трудятся ее руки, как горят ее глаза, как пламенеют ее щеки, тому западала она в душу на всю жизнь; а у тех, кто помоложе — сердце начинало сильнее биться.
В один прекрасный день взяла она два кувшина и отправилась к колодцу по воду. А как наполнила кувшины, захотелось ей посидеть немного на срубе колодца. Глянула девушка вниз и увидела стебелек базилика. Недолго думая, девушка сорвала его, понюхала и от запаха базилика зачала ребенка.
Принялись родители девушку до того бранить да поносить, что свет ей стал немил, и порешила она удрать, куда глаза глядят. Собралась тихонько от всех, ушла — и след ее простыл.
Со страху да от обиды горючей шла девушка и шла без роздыха, пока дошла до леса дремучего и наткнулась там на пещеру. Подумала она отдохнуть в пещере и только порог переступила, а навстречу ей выходит, покашливая да покряхтывая, старый-престарый дед, спина горбом, ноги колесом, по колени борода, по плечи усы, по пятки волосы.
— Что ты за человек и как сюда попала? — спрашивает ее старик, поднимая костылем нависшие на глаза брови.
Заплакала девушка, застонала да потом и рассказала, что да как случилось и почему она в его пещере очутилась.
Услышал старик ее рассказ, и гора забот и хлопот с него свалилась. Усадил девушку на каменную лавку и стал ее добрыми речами утешать; так оно бывает: дождь охлаждает землю после зноя солнечного, а речи стариков услаждают души юношей при жизненных невзгодах. Утешил ее старец теплым сочувствием и уговорил пожить подольше в его пещере.
Так они и жили, девушка горе свое тешила, а дед — старость. По утрам к пещере подходили три козы. Старик доил их, и этим они кормились.
Вот пролетело время, и девушка родила мальчугана, такого пухленького и красивого, что даже солнце улыбалось, на него глядя. А старец-то, бедный, как счастлив был! Ноги его так и прыгали, а сердце помолодело, как у юноши. Как родился мальчик, искупали они его в утренней росе, чтоб никакое зло к нему не пристало, провели над ним огнем и железом, чтоб невредимым мог пройти сквозь всякие тяготы и всегда оставался бы чистым и ясным, как солнышко красное. Затем мать прочла заклинание, чтоб он был отважным, а дед пошарил по темным углам пещеры, достал палаш и палицу, оставшиеся ему от дней молодости, и подарил их младенцу, чтоб служили ему службу добрую. Не много на крестинах пили да ели, зато было много радости и веселья, и пожелали они мальчику счастья в жизни. Нарек его дед именем Базилик, от стебелька базилика, а мать еще добавила имя Фэт-Фрумос. Очень уж красивым казался ей сын драгоценный.
Время летело, старик ушел из жизни, а мальчик подрос, стал ходить на охоту и добывать для матери все, чего душа ее желала. Чем больше парень рос, тем светлее становилась жизнь матери — радовал он ее и утешал словами и делами своими.
Став совсем взрослым, Базилик Фэт-Фрумос начал ходить на охоту дальнюю, по кодрам и дубравам и заходил все дальше и дальше — сколько глаз видит.
Однажды забрел Базилик к устью какой-то долины и как глянул вдаль — показалось ему, будто видит обширное зеленое озеро, в котором солнце купается. А как подошел ближе, то увидел дворец из чистого золота и жемчуга, сиявший над бескрайним зеленым лесом, густым, точно щётка. Впервые в жизни увидел он красоту такую и, поправив за поясом палаш и палицу, направился прямо ко дворцу. Шел он недолго и вот переступил порог дворца. Окна и двери стояли открытыми, но ни во дворце, ни около него не видно было ни живой души. Прошел он по всему дворцу из покоя в покой, вышел во двор и опять огляделся вокруг — никого. Только вдруг слышит Базилик: загудел лес, затрещали деревья. Тут вышли из лесу семеро драконов престрашных:
Головы
козлиные,
копыта
ослиные,
пасти
волчьи,
глазища,
полные жёлчи.
Шли они вприпрыжку и несли на плечах трех человек, связанных по рукам и по ногам. Ввалились всей толпой во дворец, разложили огонь под большущим котлом, а как закипела вода, бросили в нее одного из тех людей, которых принесли с собой, сварили и слопали мигом, даже косточек не оставили. Так они одного за другим побросали в котел и остальных двух и с такой жадностью их жрали, что скулы трещали.
Базилик Фэт-Фрумос глядел на них с порога, спрятавшись за дверью, и диву давался. Пожрали все свирепые драконы, и тут один из них как-то обернулся и заметил Базилика. Подскочил он как ужаленный и закричал:
— Все на двор, все на двор, там еще один в котел к нам просится.
Драконы все вскочили и бросились к выходу. Но Базилик обнажил палаш и только кто из них выйдет за порог, он его — тюк! — и голова с плеч долой. Покатились головы по полу, точно срубленная капуста. Так он одного за другим обезглавил шестерых драконов. А как вышел седьмой, не взял его палаш.
Бил его Базилик и острием по шее, и плашмя по черепу, колол в самое сердце — ни в какую. Тогда Базилик Фэт-Фрумос, недолго думая, схватил палицу, развернулся и как ударит дракона в висок — у того в глазах потемнело. Завертелся дракон и стал отступать, то и дело головой на стены натыкаясь. Так он добрался до самой крайней комнаты, открыл люк в полу и по лестнице, покрытой мхом и паутиной, стал спускаться все ниже и ниже. А Базилик за ним следом идет, спуску не дает. Прошли они двенадцать дверей железных, пока до самого дна добрались. Здесь дракон прижался к стене, глаза вытаращил, зубы оскалил — вот-вот сердце в нем лопнет со страху. Оставил его Базилик в покое, захлопнул дверь, тяжелый засов задвинул и вернулся наверх. По пути задвинул он засовы на всех двенадцати дверях. На последней двери замок висел. Запер его Базилик, положил ключ за пазуху и, довольный тем, что доброе дело сделал, ушел восвояси.
Вернулся он с радостью великой в пещеру и говорит матери:
— Отныне, мать, будем жить в другом месте, оставим пещеру. Нашел я большой и прекрасный дворец.
Обрадовалась мать, пошла с Базиликом во дворец, из золота и жемчуга сделанный, и зажили они там хозяевами.
— Вот, — молвит Базилик Фэт-Фрумос, — все это наше. Но гляди, ни в коем случае не открывай дверь в последней комнате; там еще один дракон остался.
— Надейся на меня! Уж коли хотел он съесть тебя, то я сумею держать дверь на замке.
Взяла мать ключ, завязала в платок десятью узлами и так упрятала, чтоб его во веки веков никто найти не смог.
Стала теперь жизнь осыпать их добром да благом, словно из рога изобилия. И дом у них был великолепный, и охота богатая, и красота невиданная окрест.
Пожили они так не год и не два. Да вот, так же как весна порой негаданно-нежданно ласковое тепло приносит, так, бывает, и бури вдруг на землю обрушиваются, готовые разорвать ее в клочья.
Семь-то драконов родом были из другого царства. Вырастила их там старая ведьма Клоанца, черная, как смола, и такая злющая, что от одного ее взгляда земля выгорала. Ждала она сколько ждала драконов в гости, а как увидела, что их нет дольше обычного, злое предчувствие обожгло ей сердце. Заметалась Клоанца, точно змея на костре, и в страшном бешенстве помчалась к их дворцу, посмотреть, в чем дело.
Тут ведьма узнала, какая участь постигла драконов — за голову схватилась.
Вне себя от ярости бросилась она на мать Базилика, вырвала у нее ключ, схватила за руку и что было силы швырнула в подвал; а затем вызволила дракона и одну за другой заперла все двенадцать дверей.
Сели теперь ведьма с драконом совет держать: как Базилику отомстить, жизни его решить.
— Вызови его на битву.
— Боюсь, — говорит дракон. — Удар у него куда тяжелее моего. Я бы так рассудил: лучше нам уйти отсюда подобру-поздорову, на глаза ему не попадаться, а то не сдобровать и мне и тебе.
— Коли так, положись на меня. Доведу я его до того, что он в нору змеиную полезет, сам смерти искать будет.
Сказав это, спрятала она дракона, а сама закружилась волчком и приняла облик матери Базилика Фэт-Фрумоса. Потом притворилась, будто страдает и мучается болезнью тяжкой, и стала его ждать.
Прошел день, прошли два, и вернулся Базилик Фэт-Фрумос с охоты. Едва он порог переступил, ведьма принялась стонать и причитать:
— Горе мне, мальчик мой, ушел ты — точно в воду канул, не подумал поскорее домой вернуться. А я захворала тяжко, и некому было мне на помощь прийти. Вот была бы у меня хоть капля птичьего молока, я бы сразу хворь прогнала и на ноги встала.
С печалью великой выслушал Базилик Фэт-Фрумос весть о тяжком недуге матери, взял крынку и, обнадежив мать, что скоро вернется, ушел искать птичье молоко.
Шел он, шел по горам, по долам и дошел наконец до какого-то дворца. Постучался в ворота, а из-за них голос девичий раздается:
— Коли добрый ты человек — заходи, коли худой — проходи, а то мои собаки тебя в клочки растерзают.
— Добрый, добрый человек стучится в ворота вашей милости, — ответил Базилик Фэт-Фрумос.
Отворились перед ним ворота, увидел он дом с открытыми настежь дверьми и окнами и вошел.
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, — в ответ ему девица. Да что за девица! Солнце, луна, зори ясные тускнели перед ее красотой.
Поклонился ей Фэт-Фрумос и просит:
— Не позволишь ли мне переночевать здесь? Много я пути прошел и много еще пройти должен.
— С дорогой душой, — ответила ему девица, усадила на ковер парчовый и стала потчевать всякими яствами, как добрая и гостеприимная хозяйка.
За столом слово за слово завязалась беседа, рассказал Базилик Фэт-Фрумос, какая нужда его в путь погнала да и спрашивает:
— А не знаешь ли ты, случаем, где мне добыть молока птичьего?
— Сколь живу на свете, не слыхала я ни о еде такой, ни о таком снадобье. Но так как ты добрый человек, сделаю и я тебе добро — узнаю. Чуть попозже отправлюсь к моему брату — Красну-Солнышку, он-то знает где что находится на свете.
Вот оно как, попал Базилик Фэт-Фрумос к Иляне Косынзяне, сестре Солнца.
Попозднее, когда свалила путника усталость, пошла Иляна Косынзяна к брату и стала его расспрашивать:
— Не знаешь ли, братец, где можно найти на свете молока птичьего?
— Далеко, сестричка, далеко отсюда молоко птичье. Много недель надо идти туда — все на восток, за Медной горой. Но добыть его все равно нельзя, потому что птица эта — чудище невиданное, каждое крыло у нее, точно облако, а как поймает кого вблизи, так и тащит к себе в гнездо и отдает птенцам на растерзание.
Жалость и страх охватили сестру Солнца при мысли о судьбе путника, который шел на верную гибель, и решила она помочь ему. Наутро вывела она из конюшни коня двенадцатикрылого и отдала Базилику.
— Возьми, добрый человек, коня, сослужит он тебе службу добрую, из беды выручит. Да выпадет ли тебе удача, нет ли, а на обратном пути к нам заверни.
Хотелось Базилику Фэт-Фрумосу сердце свое положить к ногам этой приветливой и прекрасной девицы. Отблагодарил он ее горячо, вскочил на коня и двинулся в путь-дорогу.
Ехал он, ехал
через горы,
через долы,
по тропинкам тайным,
по лесам бескрайним,
пока увидел вдали что-то вроде медного вала. Стал приближаться, а вал все рос да рос, в горку перерос, а из горки — в огромную гору. Когда очутился Базилик у подножья Медной горы, то увидел, что она вершиной небо подпирает. Такую гору не часто увидишь! Оглядел Базилик Фэт-Фрумос гору, смерил ее взглядом от подножья до вершины и только тогда заметил высоко в небе огромную птицу с крыльями, что тучи. Птица покружилась, покружилась, свернула в сторону и исчезла с глаз.
Тогда Базилик Фэт-Фрумос натянул поводья и погнал коня вверх. Рап, тарап! Поскакал конь, прыгая с карниза на карниз, и довез его до самой вершины. Глянул он и такое диво увидел: сидят в медных гнездах еще не оперившиеся птенцы, каждый величиной с буйвола, и от голода воют наперебой. Огляделся Базилик Фэт-Фрумос вокруг и, найдя расщелину в медной скале, спрятался в ней вместе с конем. Немного времени прошло, прилетела птица, стала облетать гнезда, птенцов птичьим молоком поить. Подлетела птица к гнезду, вблизи которого спрятался Базилик Фэт-Фрумос, а тот, набравшись смелости, протянул крынку, и птица налила в нее молока. Тут он вскочил на коня и погнал — давай бог ноги. Птенец опять завыл от голода, а птица оглянулась и увидела Базилика. Бросилась она за ним следом, точно дух нечистый, но догнать не смогла. У нее-то была только одна пара крыльев, а у коня Базилика шесть пар, вот он и летел куда быстрее.
На обратном пути поехал он снова
через горы,
через долы,
по тропинкам тайным,
по лесам бескрайним,
пока добрался до Иляны Косынзяны. Та его радушно встретила и пригласила остаться передохнуть. Поел, попил Базилик Фэт-Фрумос и спать улегся, а Косынзяна, зная, как обстоят дела, спрятала птичье молоко и вместо него налила в крынку коровьего.
Проснулся Базилик Фэт-Фрумос и, взяв свою крынку, молвит:
— Добра ты ко мне, сестрица, хорошо мне почивать у тебя в доме, да лучше будет в пути-дороге. Меня ведь матушка хворая ждет не дождется.
А Косынзяна ему в ответ:
— Что ж, витязь, доброго тебе пути, да и к нам иной раз не забудь зайти.
Поклонился ей Базилик Фэт-Фрумос, распрощался и уехал. Подъехал ко дворцу, ведьма волчком завертелась, будто кто огненными стрелами ее пронзил — учуяла. Бросилась в постель, застонала, заохала, будто и впрямь при смерти:
— Ох, охти мне! Ох, охти мне!
Только Базилик порог переступил, а она его встречает:
— Хорошо, что ты вернулся, сыночек милый. Ох и долго же я тебя ждала! Принес ли мне лекарство?
— Принес, — ответил ей Базилик Фэт-Фрумос и протянул крынку.
Ведьма приложила крынку к устам и все молоко вылакала.
— Спасибо, милый сынок, теперь вроде легче стало.
Затем улеглась она спать, да только глаз не сомкнула, все думу думала: куда бы его услать так, чтоб и помину не осталось. Подумала сколько подумала, да вдруг прикинулась, будто просыпается еще более страждущей, заворочалась, застонала:
— Ох, сыночек мой милый, опять меня болезнь скрутила. И снилось мне, будто выздоровею, коли покушаю мяса дикого кабанчика.
— Что ж, пойду я, мама, раздобуду такого мяса, только бы ты выздоровела.
Вскочил он на коня и пустился в путь-дорогу. Ехал, ехал, пока опять приехал к Иляне Косынзяне.
— Рады гостям?
— Рада, с дорогой душой принимаю.
Присел он отдохнуть и стал рассказывать Косынзяне, какая новая беда на него обрушилась.
— Не знаешь ли, где бы мне найти дикого кабанчика? Опять мою матушку хворь одолела, и говорит она, мол, только мясо дикого кабанчика ее спасти может.
— Я-то не знаю, но ты пока отдохни, а вечером я выпытаю у брата моего, Солнца. Он-то уж наверняка знает, ему там наверху все видно и все ведомо.
Остался Базилик Фэт-Фрумос ночевать, а под вечер, уложив лучи свои на покой, пришел отдохнуть и брат Иляны.
Пошла Косынзяна к Солнцу, стала к нему ласкаться да выведывать:
— Слышала я разговор о диких кабанах; не знаешь ли ты, в каком краю света они водятся?
— Далеко, сестрица, далеко отсюда, все на север путь, за цветущим полем чистым, во большом лесу тенистом.
— А как бы там достать поросенка, чтоб поджарить?
— Никак этого сделать нельзя, сестрица. В те кодры, где они живут, и лучи мои пробиться не могут, не то что нога человека. Даже я, и то их вижу только в полдень, когда они выходят на опушку в болоте поваляться. Но зубы у них острые, кто бы ни подошел — раздерут в клочья.
Иляна Косынзяна слова эти передала Базилику, а тот, зная теперь, куда путь держать и что ждет его впереди, сел на коня и уехал. Ехал он, ехал через горы, через долы, через реки и овраги, проехал поле чистое и доехал до леса тенистого. Заехал он в лес, а там тьма такая, словно в преисподней. Взлетел конь, поднял его выше самых высоких деревьев, и тут Базилик увидел болото, о котором говорила ему Косынзяна. Солнце как раз подходило к полудню, в лесу раздалось громкое хрюканье, и стали выходить стада свиней в грязи поваляться. Высмотрел себе Базилик славного поросенка, подхватил его, взвалил на коня и давай бог ноги. Как схватятся свиньи и ну за ним гнаться — поймать норовят, землю едят. Не будь у Базилика Фэт-Фрумоса коня такого резвого, пришлось бы ему здесь костьми лечь. Спас его быстрый бег коня от острых клыков зверей свирепых. А теперь конь под ними играл, сам Базилик Фэт-Фрумос песни напевал, радовался, что и это дело довел до благополучного конца.
На обратном пути завернул он снова к Иляне Косынзяне и, как и прежде, остановился у нее передохнуть. Пока он ел, пил, пока сон сладкий видел, сестра солнца заменила его поросенка простым, домашним, а потом, не подавая виду, приветливо проводила в путь-дорогу.
Вернулся Базилик Фэт-Фрумос домой. Увидела его ведьма и так зубами заскрежетала, что искры посыпались, да тут же взяла себя в руки и встретила его, притворяясь смертельно больной:
— Ох, сыночек милый, спасибо, что довелось еще разок увидеть тебя. Коли бы ты еще немного задержался, не застал бы меня в живых. Забей скорее поросенка и дай мне мяса отведать.
Базилик Фэт-Фрумос заколол поросенка, изжарил на углях, подрумянил хорошенько и дал ей отведать.
— Вот теперь будто легче стало и в глазах посветлело, — притворилась ведьма, будто оживает. А когда съела все, опять заохала, еще пуще прежнего:
— Ох, сыночек милый, бедный мой мальчик, хлебнул уж ты горя в дорогах дальних, но коль хочешь, чтоб я и впрямь от хвори избавилась, поезжай еще разок. Опять мне хуже стало и, коль не привезешь мне живой и мертвой воды, не вырвешь из когтей смерти.
— Так я поеду, мама, — ответил Базилик Фэт-Фрумос и пустился в путь-дорогу.
Ехал он, ехал, а на душе горько да муторно — где достать то, что мать просила? Хмурым приехал он к Иляне Косынзяне, стал горько сетовать:
— Вот, милая сестрица, опять меня нужда погнала путями нехожеными. Никакие снадобья матери моей не помогают, и велела она мне теперь привезти мертвую и живую воду. Не знаешь ли ты, где воду ту искать, какими путями достать?
— Погоди малость, отдохни, может, помогу я тебе и на сей раз.
Пошла она под вечер к брату своему, который только-только присел с дороги.
— Братец Солнце, тебе с неба вся земля видна, не знаешь ли ты, в каком краю протекает мертвая и живая вода?
— Далеко, сестрица, далеко отсюда, за тридевять земель, за тридевять морей, у Владычицы полей. Но сколько людей за этой водой ни ходило, никто живым не вернулся, потому что стоит там на рубеже дракон свирепый. Зайти в царство дает, а выйти — не пускает. Мало того, что выпивает воду, а и смельчаков решает жизни. Вот уж сколько времени сушу я их кости.
Узнал Базилик Фэт-Фрумос, куда ему путь держать и что ждет его впереди, но не поддался страху, а только поправил палаш и палицу за поясом, распрощался с хозяйкой и, вскочив на коня, поехал. Путь был долгий, ехал он без передышки, моря объезжал, рубежи считал. Проехал он так тридевять морей, тридевять земель и добрался до дивного царства, и прелести земли здесь были в три раза прекраснее. Нигде ни единой сухой веточки, ни единой полегшей травинки. Все бурно росло, пышно цвело, богато плодоносило. Шел он по царству — душа от всего виденного радовалась — и дошел до двух скал, из которых били два ключа. "Вот они, ключи, которые мне нужны", подумал Базилик Фэт-Фрумос и, чтоб удостовериться, поймал мотылька, разорвал его в клочки, потом окунул в воду одного ключа, и мотылек склеился, как был, окунул в воду другого, и мотылек ожил. Обрадовался богатырь, набрал в две баклаги воду из ключей и повернул в обратный путь. Но едва он добрался до рубежа царства, как деревья вокруг затрещали, словно от бури, небо потемнело, и вырос перед ним, зло помахивая хвостом, дракон десятиглавый.
Базилик Фэт-Фрумос схватил в одну руку палицу, в другую палаш и только дракон протянул к нему одну из голов, ударил по ней палицей и палашом отрубил. Со второй головой тоже так, с третьей тоже… Увидел дракон, что конец его близок, взвился к небу; но конь богатыря взлетел еще выше. Отрубил Базилик Фэт-Фрумос все десять голов и поверг дракона наземь.
Теперь он беспрепятственно поехал дальше и прибыл к Иляне Косынзяне. После битвы тяжкой и пути дальнего прилег Базилик Фэт-Фрумос отдохнуть, а Иляна Косынзяна взяла да и подменила ему фляги, положив такие же, только наполненные простой водой.
Базилику Фэт-Фрумосу и в голову не пришло заподозрить в чем-то Иляну Косынзяну, которая ему столько раз помогала. Отдохнул он хорошенько, оседлал коня и поехал домой.
Как увидела его ведьма, с лица почернела, землистой стала. От злобы и досады сердце у нее налилось ядом. Выпила она воды, пришла немного в себя и снова стала перебирать в мыслях все способы, какими можно Базилика Фэт-Фрумоса смести с лица земли.
Дав ему передохнуть немного с дороги, позвала его ведьма и, лаская, молвила:
— Милый сыночек Базилик, сколь ходил ты по путям-дорогам, поистратил, небось, силушку. Ну-ка посмотрим, порвешь ли ты вот эту шелковую веревку?
И, достав веревку шелковую, обвязала его ею.
— Ну-ка поднатужься, милый, посмотрим, не рассеял ли ты силушку свою по белу свету, по дорогам нехоженым.
Напрягся Базилик Фэт-Фрумос и разорвал веревку в клочья.
— А теперь давай-ка посмотрим, порвешь ли ты две веревки, — опять захлопотала ведьма.
Порвал Базилик и две веревки.
— Есть еще, есть силушка молодецкая. Да посмотрим, вся ли она осталась.
И, сказав это, опутала его ведьма тремя веревками шелковыми.
Поднапрягся Базилик Фэт-Фрумос, рванул — ничего не вышло; поднатужился еще раз — тяжко сдавили веревки ему мышцы; в третий раз собрал он все свои силы и как рванется — врезались ему веревки шелковые в тело до самой кости, а целы остались.
От радости старая Клоанца запрыгала на одной ноге, волчком завертелась и кричит:
— Эй, дракон, где ты там спрятался, беги и разделайся с Базиликом Фэт-Фрумосом.
Дракон заржал от радости, покинул свой тайник и, схватив палаш, изрубил Фэт-Фрумоса, что твою капусту. Потом собрал все кусочки в рваные десаги, перекинул через седло, отстегал коня кнутом и, ликуя, крикнул:
— Гей, конь дурной, где возил живого, повези и мертвого.
Помчался конь, точно призрак, земля под копытами загудела, и направил свой бег туда, где вырос, где его кормили и ласкали: прямо перед дворцом Иляны Косынзяны остановился.
Косынзяна вышла на порог, но не увидела путника, пожелавшего отдохнуть с дороги, а увидела коня своего в мыле и в пятнах крови. В горе бросилась она к коню, сняла десаги и узнала в них останки Базилика Фэт-Фрумоса.
— Гей-гей, бедняга, вот какой смертью они тебя убили, — запричитала она и стала складывать кусок к куску, пока не сложила Базилика Фэт-Фрумоса таким, каким был он прежде.
Сделав это,
побежала в кладовку, принесла мертвую и живую воду, поросенка дикого и молоко птичье. Где не хватило кусков тела Базилика, приложила она по кусочку мяса поросенка, потом окропила мертвой водой, и все кусочки срослись, омыла живой водой, и богатырь воскрес. Вздохнул Базилик Фэт-Фрумос тяжко:
— Ох, и долго же я спал.
— Эгей, милый мой, спать бы тебе вечным сном, коли меня бы здесь не было, — ответила ему Иляна Косынзяна и поднесла к устам крынку с птичьим молоком.
Принялся Базилик Фэт-Фрумос молоко пить, с каждым глотком сил набирался. А как выпил все, таким могучим стал, каким и не был никогда прежде. Скалу кремневую мог бы одним ударом палицы в порошок раздробить.
Поднявшись с земли и стряхнув с себя слабость, вспомнил Базилик Фэт-Фрумос, как поглумился над ним дракон, схватил палаш и помчался ко дворцу.
Ливень, хлынувший с неба, никто задержать не может. Так и жажду мести, возникшую в груди Базилика, никто бы остановить не смог. Шел он, шел, на шаг налегал, дошел до дворца и видит: сидят за столом ведьма с драконом и весело пируют, а в стороне стоит с салфеткой в руках его матушка и прислуживает им.
Как вошел Базилик Фэт-Фрумос в трапезную, у гадин будто пропасть под ногами разверзлась; но не дал он им и ужаснуться как следует, схватил одного одной рукой, другую — другой, вытащил на двор и изрубил в кусочки. Потом затопил печь медную и сжег их дотла, чтоб и следа не осталось ни на земле, ни на воде, ни под черной тучей, ни под горной кручей.
И обнял Фэт-Фрумос мать свою и утешил ее ласкою сыновней.
Вскоре затем пришла к ним еще большая радость: Базилик Фэт-Фрумос попросил руки Иляны Косынзяны. Собралось народу видимо-невидимо, и сыграли они свадьбу развеселую. А во главе стола сидел сам братец Солнце, выпивал жбаны до конца, счастья всем желая, радость всем давая, веселье и пенье порою весенней.
После свадьбы зажили они в любви и согласии и живут, быть может, и поныне, если не умерли.

 МАРКУ БОГАТЕЙ
МАРКУ БОГАТЕЙ

Будет сказка занимательна, слушайте ее внимательно, кто уши хорошенько раскроет, много всякой всячины усвоит, а кто невзначай уснет, так ни с чем и уйдет.
Сказывают, жил-был когда-то боярин по имени Марку Богатей. Богатства его были так несметны, что он им и сам счет потерял. Имел он множество дворцов, хоромы несчетные, поля беспредельные, и на что бывало ни глянешь: лес ли, нива ли — все ему принадлежит. На лугах и лесных полянах паслись табуны его лошадей, стада волов и коров и отары овец.
Вот однажды задумал Марку Богатей закатить пир на весь мир, всех богатеев созвать и совет с ними держать, чтоб узнать, чье имение больше, чья казна богаче.
Ждали во дворце гостей, столы от яств и вин ломились: оглядел их Марку Богатей оком хозяйским и приказал стражникам, что на воротах стояли:
— Коль знатный боярин явится, пусть к столу скорее направится, а посмеет прийти бедняк — постолы да дряной кушак, — так вы его, не жалея, гоните батогами в три шеи. Так я хочу, за то вам деньги плачу.
Стали съезжаться фаэтоны да кареты, которым равных в мире нету, с колокольчиками, бубенцами, со знатными седоками — за три версты слышно: бояре едут!
Под вечер, когда день с ночью смешаются, а пиры боярские разгораются, подошел к воротам старичок в лохмотьях, такой древний да усталый, что ветром его качало.
— Назад, старик! — закричали стражники, едва его завидели.
— Позвольте мне пройти, авось боярин чем-нибудь пожалует.
— Назад, старый хрыч, не подходи к воротам, коли жизнь дорога!
Видит старик — шутки плохи, понурил голову и назад повернулся.
Свернул на дорогу в ближнее сельцо, вскоре подошел к крайней избушке и в дверь постучался, чтобы приюта на ночь попросить.
Вышла к нему на порог хозяйка.
— Вечер добрый, хозяюшка!
— Добрый вечер.
— А не пустишь ли меня в дом, переночевать?
— С дорогой душой. Только не обессудьте: изба моя детишек полна, мал мала меньше, ни накормить, ни одеть мне их нечем. На ночь их юбкой да платком укрываю, от холода оберегая.
— Что ж, невелика беда, лягу я за печью, коли тебя тем не обеспокою.
— Милости просим, какое уж тут беспокойство.
В избе, при свете лучины, показался ей старик очень странным, был он похож скорее на колдуна, чем на человека.
Улегся путник за печкой и, так как устал очень с дороги, сразу же захрапел. Легла и хозяйка и вскоре тоже уснула.
Вдруг в полночь слышит она: цок, цок, цок! — стучит кто-то в окошко. Глянула она и видит: слетела с неба сверкающая звезда, шепчет старику:
Древний Вещун,
Знатный колдун,
Знаешь ай нет:
Родился на свет
Новый человек!
Что сулит ему век?
А старик и отвечает из-за печи:
— Эгей, бедолага, будет он горе мыкать, за семерых спину гнуть и все без толку. Прижмет его нужда злая и запьет он горькую и до самой смерти не будет у него другого крова и пристанища, кроме корчмы.
Хозяйка прикинулась спящей, но все видела, все слышала и от страха вся дрожала, зуб на зуб не попадал.
Вскоре слышит она опять: цок, цок, цок! — в окошко. Это другая звезда прилетела и тоже молвит:
Древний Вещун,
Знатный колдун,
Знаешь ай нет:
Родился на свет
Новый человек!
Что сулит ему век?
— Эгей, бедолага, тяжка его доля. Будет он всю жизнь честен, как добрые весы, но в этом бесчестном мире честному только брань и побои достаются, когда он за правое дело стоит. Закуют его в кандалы и до самой смерти будут таскать по темницам.
На рассвете постучалась в окно звезда еще больше и красивее прежних я спросила:
Древний Вещун,
Знатный колдун,
Знаешь ай нет:
Родился на свет
Новый человек!
Что сулит ему век?
— Этому достанется все добро Марку Богатея, — ответил старик, перевернулся на другой бок и уснул.
Наутро старик поблагодарил хозяйку за гостеприимство и пустился в путь-дорогу, одному ему ведомо в какие края. А хозяйка осталась со своей нуждой и своим горем. Только солнышко взошло, отправилась она к Марку Богатею барщину отрабатывать. С тех пор, как на свет родилась, только и знала она, что спину гнуть от зари до темна, бывало ей и солоно и горько, пока добудет хлеба черствого корку.
Явилась она ко двору боярскому, а там пир стоит горой, от песен небо раскалывается. Вышел Марку на подворье, а женщина, как увидела его, вспомнила о словах ночного гостя и крикнула:
— Боярин Марку, боярин Марку!
Насупил боярин брови и напустился на нее с бранью:
— Чего тебе? Небось опять кушать попросишь, едят тебя черви могильные! Коли дело скажешь — говори, а коли попрошайничать вздумала — сгинь с глаз моих!
— Боярин Марку, я вот что тебе поведать хочу: этой ночью ночевал у меня какой-то странник, сама не знаю, откуда явился и куда путь держал. Показался он мне чудным каким-то, не то человек, не то колдун. А видать, он большущий пророк. Ночью, как где дитя нарождалось, тут же звездочка — в окошко стучалась и пытала его о судьбе младенца. Одному он предсказал, что станет горьким пьяницей, другому — что каторга по нему плачет. А под утро третий младенец на свет появился, и предсказал странник, мол, стать ему владельцем всего твоего добра.
— Ха-ха-ха! Какие это тебе чудные сны по ночам мерещатся.
— Боярин Марку, я своими ушами все слышала.
Почесал Марку затылок, будто комар его укусил, поправил кушак на вздутом точно бочка брюхе и махнул женщине рукой — принимайся, мол, за дело, а сам в хоромы отправился. Еще пуще пир разгорелся. Снедь на столах — горой, вино лилось рекой, Марку поднимал стаканы и кричал в угаре пьяном: гей, гоп, гоп, гоп!
Кончили бояре пировать только на второй день под вечер, и проводил Марку всех отпрысков боярских в путь. Но, как говорится — вода уходит, камни остаются. Так и угар пира прошел, а слова бедной женщины запали ему в сердце, покою не давали ни днем ни ночью. Ходил Марку Богатей хмурой тучей да и решил под конец съездить к повитухе, расспросить, кто в округе в такую-то ночь в такой-то час сына родил. Уж кому, как не повитухе, знать, кто когда на свет народился.
— В такую-то ночь в такой-то час родила сына жена Иона Бедняка. Бедная женщина, это у нее тринадцатое дитя, а в доме такая нужда, такая нищета, что глядеть на них жалко.
Боярин, не мешкая, велел гнать лошадей и остановил карету перед избушкой Иона Бедняка.
— День добрый, бедолага!
— Добрый день, боярин!
— Мэй Ион, слыхал я, будто жена твоя сына родила.
— Верно, боярин, родила жена тринадцатого ребенка. Велика семья моя, да еще больше нужда моя.
— Мэй Ион, отдай его мне. У меня-то своих детей нет, вот и выращу я его и будет он мне на старости лет опорой. А вам от этого честь большая.
— Не знаю, что еще жена скажет.
Позвали жену, а она как услышала о чем речь — в слезы ударилась.
— Ох, боярин, тринадцать детей у меня и живем мы в такой бедности, что еле-еле душа в теле. А все же дитя не могу тебе отдать, сердце за ним болит.
— Полно, женщина! У меня он будет жить в холе да в тепле, и сыт, и обут, и одет. А как подрастет, пошлю я его учиться и станет он одним из первых людей в государстве.
Так сладко пел Марку Богатей, все сулил: обуть, одеть их сына, учиться послать, в люди вывести, что в конце концов растрогал сердце бедняков, и продали они ему младенца за три кошеля денег.
Взял Марку Богатей ребенка на руки, стал качать да баюкать с притворной любовью, сел с ним в карету и отправился восвояси.
Едет он и думу думает: как бы этого младенца жизни решить. Вздумал он было удавить его, да страшно стало. Тут карета проезжала лесом, и решил боярин бросить дитя в заросли, авось какой-нибудь дикий зверь на него наткнется и разорвет. Как надумал, так и сделал: бросил ребенка под высоким толстым тополем, а сам в карету сел и весело домой покатил. Теперь уж, думал боярин, избавится он от тяжких дум и горьких сомнений.
А следом ехали батраки Марку Богатея, ко двору его дрова везли. Случилось так, что один из погонщиков кнут потерял, а волы, почуяв волю, стали то и дело к траве склоняться, с пути сбиваться и чуть было телегу не перевернули. Видит батрак, что дело худо, остановил волов, взял топорик и пошел в чащу прут хороший подыскать, чтобы было чем скотину погонять. Искал он, искал, пока не добрался до высокого толстого тополя, под которым увидел брошенного младенца. Взял он дитя на руки, огляделся, нет ли кого поблизости — ни живой души. Что делать? Понес он мальца к телеге. Собрались вокруг него остальные батраки и все прикидывают: кто бы это мог ребенка в чаще лесной бросить? Так никто и не додумался до правды, а тот, что нашел младенца, рад-радешенек: тридцать лет он с женой прожил и не подарила она ему ребенка. И так он сладко глядел на найденыша, так нежно ему улыбался и к груди прижимал, будто чистое золото в руках держал.
— Поглядите, мэй, как этот дурень обрадовался. Будто подарил ему кто полмира, — заметил один из батраков.
— Как же ему не радоваться, когда опору своей старости в руках держит, — ответил другой.
— Никогда не знаешь, под каким кустом счастье человека караулит, — бросил какой-то шутник и, хлестнув быков кнутом, вскочил на телегу.
— Гей, гей! Цоб, цобэ! — двинулись телеги дальше.
Приехав на подворье, батраки разгрузили дрова и стали ждать, какую работу задаст им хозяин на следующий день. Марку Богатей сам должен был работу им назначить, так как приказчик куда-то уехал по делам. Собрались батраки, хозяина слушают, а тот, что дитя нашел, все подходит к окошку, на телегу поглядывает. Видя такое дело, боярин его и спрашивает:
— Мэй, ты что там нашел, что места себе не сыщешь, все глаза в окошко пялишь.
— Эгей, боярин, что он там нашел, будет ему доброй находкой в жизни, — сказал один из батраков.
— Да что же он нашел? — выпучил боярин глаза.
— Нашел он мальчугана в таком-то месте.
Кольнула эта весть боярина в самое сердце, только он и виду не подал, а повернул дело очень хитро:
— Тьфу, побей тебя счастье, ты и не искал да нашел, а я вот с ног уже сбился и никак себе приемыша не найду. Продай его мне, мэй, у меня-то, нет парней.
— Как же мне его продать, когда у меня у самого тоже нет?
— Вот как, значит, не продашь?! Был бы он твоим, куда ни шло, а о найденыше чего тебе жалеть да горевать? Ну, продай, я тебе хорошую цену дам.
С боярином один на один лучше не связывайся — мигом удавит. Скрепя сердце, взял бедный человек деньги и отдал младенца.
Опять Марку Богатей призадумался, и так и этак прикидывал: как бы это с мальцом покончить, со свету его сжить. Всякие мысли ему в голову приходили, одна другой страшнее. Так уж дума толстосума: не жди от нее добра, зато на зло — щедра. Наконец, решил он положить мальца в бочонок, набить обручи потуже и пустить по реке. В тот же день замысел свой и исполнил. Ветер отогнал бочонок от берега на середину реки, волны быстрые его подхватили и понесли, а боярин с сердцем, злобой налитым, проклятие ему вослед послал:
— На вот, пропади ты пропадом, катись головой вниз, и когда вода та вспять повернет, тогда и ты вернись.
Потом сел Марку Богатей в карету и с радостью в душе домой вернулся.
Бочонок на волнах качается, о берег ударяется, плывет день и ночь от боярина прочь. В одном месте у излучины реки зацепился он о коряги и к берегу пристал. А неподалеку от этого места стояла на берегу сукновальня
[32], где суманы делали. Вскоре подошли к берегу два сукновальщика воду брать и наткнулись на бочонок. Раз, два — вытащили его из воды. Почувствовав, что бочонок не пуст, стали они осторожненько обручи ослаблять. Каково же было их удивление, когда обнаружили в бочонке славного, пухленького мальчугана. Взяли они ребенка и бегом отнесли в сукновальню. Холили его мастера, нежили, а как подрос, стали мастерству обучать. Парень оказался смышленым, все на лету хватал и крепко-накрепко запоминал. Весь день-деньской работал он в мастерской и вскоре не только научился всему, что старые мастера знали, но и намного их превзошел и стал вырабатывать сукно любого сорта и любой ширины. Не много времени прошло, и пронеслась по свету молва, что в такой-то сукновальне делают невиданное доселе сукно.
Народ валом валил, кто верхом, кто пешком — всем хотелось заиметь хоть кусок редкого сукна. Туда, сюда, дошли слухи о необыкновенном сукне и до Марку Богатея. В один прекрасный день велел он заложить в карету шестерку лошадей цугом, надеть на них новую сбрую и бубенцы подцепить, на козлы лучшего кучера посадить и, когда все было готово, двинулся к хваленой сукновальне с полными карманами денег — покупать сукно да войлок, получше да побольше. Прибыл Марку Богатей на сукновальню и был встречен с почетом, расчистили для него дорогу до самого порога, к старшему проводили, за стол усадили, потчуют таровато, как пристало потчевать бояр богатых. Слово за слово, зашла речь о сукне и сукновальне.
— Где это вы нашли таких мастеров знатных? — спросил Марку Богатей
— Мастер этот знатный сам к нам пришел.
— Видать, из стран заморских?
— Нет, боярин, вот послушай. Лет двадцать тому уж будет, пошли однажды два сукновальщика по воду. Глядь, а волны прибили к берегу какой-то бочонок. Вытащили они бочонок из воды, обручи сбили и нашли в нем мальца в пеленках.
Боярина будто кто кипятком ошпарил, еле-еле он сдержался, зубы стиснул, чтоб не выдать, как у него сердце горит.
— Вот мы его и вырастили, выучили, а он так ловок и так умен, что с тех пор как работать начал, стало наше сукно славиться по всему свету.
— Видать, он многому учился, книжную мудрость постиг и судейские дела тоже не худо знает? — спросил Марку Богатей.
— Верно, боярин, много всякой всячины он знает, — подтвердили мастера.
— А у меня как раз неполадки в имении. Не мог бы он пойти дела там распутать? И, коли время будет, пусть и дочь мою обучит всякой книжной мудрости, а то ей до сих пор попадались совсем никудышные учителя.
— Что ж, это можно. Сукновальня теперь уж и без него обойтись может, все налажено. Позвать его, что ли?
— Да, позовите.
Пока мастера искали юношу, чтобы поведать ему о желании боярина, Марку Богатей живо настрочил письмецо: "Боярыня-сударыня, как придет к тебе этот юноша с письмом, вели заковать его в кандалы. Потом вели привезти девять возов дров, сложить из них костер, а парня на том костре сжечь и пепел его по ветру развеять, чтоб ни имени, ни следа его на свете не осталось". Под письмецом подпись поставил: Марку Богатей.
Тут как раз юноша к столу подошел.
— Вот так-то и так-то, — объяснили ему мастера. — Ступай ко двору Марку Богатея.
— Ладно, я готов, — ответил парень.
Вручил ему боярин письмо и так напутствовал:
— Возьми вот, в знак, что я тебя послал. Как придешь, отдай моей боярыне письмо, пусть прочтет. Передай, что я еще задержусь немного из-за сукна и по всяким другим делам, но постараюсь поскорее домой возвратиться.
Спрятал парень письмо за пазуху и пустился в путь-дорогу. Шел он, шел и вот однажды, проходя мимо опушки леса, видит — медведь в дупло полез и мед у пчелок ворует. Десятки пчел мертвыми падают, оставляя свои жала в его шкуре, а медведь знай себе ворчит и дерево ломает, все глубже в дупло забирается. Увидев путника, одна пчелка подлетела к нему и говорит человечьим голосом:
— Добрый человек, избавь нас от этого горя-злосчастья, прогони медведя. Не пропадет твой труд, и мы тебе чем-нибудь отслужим, а коли в беду попадешь, из беды выручим.
Сломал путник толстую дубовую ветку, живо вырезал из нее дубину увесистую и пошел гулять ею по голове косолапого. Видит медведь — худо дело, тут уж не до жиру, быть бы живу, схватил ноги на плечи и — поминай как звали!
Устав от боя с медведем и дороги дальней, юноша прилег в тени дерева и тут же сон его одолел. А среди пчел была одна волшебная, и знала она, что кто замыслил и чем это кончится. Ну, а раз парень сделал добро пчелиному племени, решила и она ему добром отслужить, из беды тяжкой выручить. Вытащила она тихонько письмецо у парня из-за пазухи, а вместо него другое положила: "Боярыня-сударыня, как придет к тебе этот юноша, вели свести его в баню, дай ему платье самое лучшее и сыграйте свадьбу с моей дочерью, да берегите его от всякого зла пуще зеницы ока". Внизу стояла подпись Марку Богатей, точь-в-точь как у боярина.
Недолго путник почивал, проснулся, пчелы поблагодарили его за помощь, в путь проводили, а о письме ни словом не обмолвились. После нескольких дней пути прибыл юноша ко двору боярскому, показал слугам письмо, и те с поклонами проводили его к боярыне. Та на радостях сразу велела всякие яства да вина готовить, музыкантов звать, свадьбу боярскую играть. Такую свадьбу затеяли, целую неделю пировали да гуляли.
Улегся шум свадебного пира, а несколько дней спустя и Марку Богатей в карете домой вернулся. Как узнал он новость нежданную, стал волосы на себе рвать, чуть не лопнул со злости.
— Что вы натворили? — набросился он на жену и на дочь,
— Как ты в письме велел, так мы и сделали.
— Что же я вам в письме велел?
— Погляди-ка вот сам.
Как увидел Марку Богатей письмо да еще и подпись свою, пронзил его страх до мозга костей: никак и впрямь суждено этому парню на его добро руку наложить. И опять стал Марку Богатей думать, как бы поступить, чтобы зятя своего со свету сжить. Наконец, осенила его удачная мысль: послать юношу на тот свет к покойной матери за перстнем с печаткой боярской. Наутро позвал он к себе зятя и сказал ему голосом тихим, но полным угрозы:
— Потерял я печать свою боярскую, а другой у меня нет и никто сделать ее не может. Пока я ее имел, мне и в голову не пришло снять хотя бы слепок. Ну, да на наше счастье есть еще одна такая печать.
— Где, батюшка?
— На том свете. Матушка моя, значит, твоя бабушка, носит на пальце золотой перстень с печаткой рода нашего. Ступай к ней и забери перстень. Да помни, коли вернешься с пустыми руками, быть твоей голове там, где сейчас ноги.
Взял себе парень еду на дорогу, денег немного и пустился в путь с верой и надеждой вернуться обратно, добыв перстень с боярской печаткой. Долго ли, коротко ли он шел, а прошел хороший кусок пути, пока однажды в полдень добрался до какого-то пруда. Чем ближе он к пруду подходил, тем явственнее слышал странные звуки: будто кто-то что-то бормочет и хлебает впустую.
— Добрый человек, подойди ко мне, — донесся вдруг до него голос с самой середины пруда.
Присмотрелся путник и окаменел от ужаса. По воде плыл человек с обгоревшими от жажды губами и никак не мог наклониться, воды напиться.
— Что с тобой приключилось? — спросил его юноша.
— Тяжкое проклятие пало на мою голову. А ты, куда путь держишь?
— Иду на тот свет, взять у бабушки перстень с печаткой.
— Раз уж ты туда идешь, спроси и обо мне: долго ли мне еще так мучиться?
— Ладно, коли доберусь туда и о тебе не забуду.
Пошел зять Марку Богатея дальше, шел он, шел и наткнулся на два бочонка. Из одного вино через край лилось, а второй был совершенно пуст, даже клепки рассохлись. Глянул парень и подумал: "Кто это таких дел понаделал, в один бочонок столько вина налил, что через край льется, а другой рассыхается на солнце?" Поднял он полный бочонок, перевернул кверху дном над пустым, трясет, трясет, а ни капли вина в пустой бочонок не льется.
"Тьфу, напасть, это еще что за штука такая?" — подумал юноша и пошел своей дорогой. Шел он, шел без устали, пока дошел до какого-то овражка. Овражек, как овражек, да только на самом его дне лежит себе поп на спине. И до того тот поп отощал, что казался только тенью человека: скулы выперли, глаза впали, а он все кричит хриплым голосом: "Кушать, кушать"! Всякий раз, когда он губы размыкал, вываливалась изо рта страшная змея: трепыхнется разок-другой на воле и опять в рот убирается. Подумал было юноша к попу подойти, да преградили ему дорогу злые змеи ядовитые. Напуганный виденным, путник отступил и пошел дальше своей дорогой. Вскоре вышел он на большой луг, весь усыпанный цветами. Посреди луга стоял стол, ломившийся от всяких яств и напитков, а вокруг стола сидели люди, все такие бледные и худые, что и облик человеческий утратили. Руки их были привязаны к большущим половникам, но как они, бедняги, ни изворачивались, а донести пищу до рта не могли. Страшная эта была пытка! Все от голода зубами скрипели, глаза у них горели, кругом яства прекрасные, а они ни крошки в рот взять не могут! Узнав, куда юный странник путь держит, стали они его просить:
— Сделай милость, когда дойдешь до Вельзевула Древнего, узнай у него, долго ли нам еще эту пытку терпеть: сидеть голодными перед накрытым столом?
— Ладно, не забуду и о вас расспросить, — пообещал им зять Марку Богатея и пошел своей дорогой.
Долго ли он шел, нет ли, а дошел до крепости с высокими стенами, черными, как смола. У железных ворот стоял на страже солдат с палицей на плече и саблей на боку.
— Что ты здесь караулишь при таком оружии?
— Сотни лет стою я на страже у этих ворот, все жду не дождусь смены. А ты куда путь держишь?
— Иду я на тот свет, золотой перстень искать.
— Раз так, сделай милость, спроси там и обо мне: долго ли еще придется торчать здесь?
— Ладно, спрошу.
Вскоре, дошел наш парень до замка, тоже черного как смола. Видать, тут и была канцелярия адова и место сбора чертей. Застал он там только старую чертовку. Так ей наскучило одиночество, что, как увидела парня, так и заохала:
— Ох, ох, горе мне и еще раз горе! Но, видать, есть еще у меня капелька счастья, раз удалось повидать земнородного человека.
Усадила она парня на лавку, стала расспрашивать, откуда он и по какому делу пришел из далеких далей в этот мир печали. Узнав, какая нужда его в путь погнала, старуха ему и говорит:
— Подожди здесь до полуночи, пока явится Вельзевул Древний, самый главный сатана, которому сила зло творить дана. Я уж у него расспрошу обо всем, что ты узнать хочешь.
В полночь явился Вельзевул Древний, еле ноги волоча от усталости: много он в тот день всяких бед людям натворил. Старая чертовка хорошенько спрятала земнородного, а сама прикинулась, будто захворала тяжко, повалилась на пол и так застонала, словно час последний принимала.
— Да что с тобой приключилось? — спросил Вельзевул, входя. — Может, кто обидел или хворь какая одолела?
— Захворала я от горя и досады, что ты мне все никак не принесешь перстень Марку Богатея. Тебе хоть кол на голове теши, сколько раз говорила — все в одно ухо зайдет, в другое вылетит.
— Да стоит ли из-за пустяка так горевать? Я бы прямо сейчас и отправился за перстнем, но далеко ходить, до самой Пятки адовой. Но завтра ночью непременно принесу. Хорошо, что ты мне напомнила, а то ношусь весь день-деньской, как угорелый, и все на свете забываю.
— Ох, ох, Вельзевул рогатый! Сколько уж веков я здесь горе мыкаю, а все еще не знаю, что к чему в этом царстве адовом.
— Чего это ты не знаешь?
— Сколько раз я бывала у Соленого пруда в каменном ущелье, а ты мне так ни разу и не сказал, кто тот человек, что день и ночь в воде сидит и ни капли в рот взять не может?
— На земле он был большим богатеем.
— И чего он натворил, что на такую казнь осужден?
— Жил он в достатке, в яствах и винах катался, как масло в сметане, а слуг верных ни за что ни про что порол нещадно, в холодную закрывал и целыми днями ни есть ни пить им не давал. Нынче и ему пора пришла узнать, почем фунт лиха, огня жажды изведать.
— И долго он так мучиться будет?
— Во веки веков.
— А что это за два бочонка на Желтой ниве? Из одного через край вино льется, а второй на солнце рассыхается?
— Это значит, что на земле есть бедные и богатые. У одних столько добра, что девать его некуда, а другие с хлеба на воду перебиваются, весь свой век горе мыкают.
— А почему когда кто-нибудь пробует перелить вино из полной бочки в пустую, оттуда ни капли не льется?
— Потому, что сытый голодного не разумеет, и сколько бы бедняки не взывали к богатым о помощи, ничего они не получат. Скорее толстосум из бедняка душу выколотит, чем бедняк у него копейку.
— А кто тот поп, что лежит в Полынном овраге ни жив ни мертв от голоду и все кричит: "кушать, кушать!"
— Это поп Калач, который ездил на земле на горбу бедняков, всю жизнь драл шкуру с живых и мертвых, а теперь сам испытывает, каково было тем, у кого он кусок изо рта вырывал.
— А почему у него змей во рту сидит?
— Потому что был он сквернословом и лгуном. На земле у него был не человеческий, а змеиный язык, таким он и теперь остался.
— И долго он так мучиться будет?
— Во веки веков.
— Скажи мне еще, за какие грехи так казнятся люди на Голодном лугу и умирают с голоду и жажды, сидя за столом, который ломится от яств и напитков!
— Казнятся они, так как никому в голову не приходит накормить своего ближнего, чтобы и ближний его накормил. Только тогда жизнь чего-нибудь стоит, когда люди друг другу помогают.
— А кто тот человек, что стоит на страже у врат ада?
— Это тоже бывший толстосум, который много зла сотворил, живя на земле. Дня через три-четыре я его переведу на другую пытку, а его место займет Марку Богатей.
На следующую ночь Вельзевул Древний принес перстень с печаткой Марку Богатея. Взял его юноша и пустился в обратный путь. Вскоре дошел он до врат ада. Стражник завидел его еще издали и кричит:
— Что ты узнал обо мне, долго я еще здесь простою?
— Дня через три-четыре придет тебе на смену Марку Богатей.
Немного времени спустя добрался он и до Голодного луга, где его ждали с разинутыми ртами алчущие и жаждущие.
— Добрый молодец, что сказал Сатана о нашей участи?
— Люди добрые, пока каждый из вас думает только о своем брюхе, будете вы мучиться голодом и жаждой. Наберите полные половники и кормите друг друга, иначе вам не прожить.
С той минуты стали они кормить друг друга: кто лучше кормил, того тоже лучше кормили, кто ленился набрать полный половник, тому тоже меньше доставалось. На столах без конца появлялись новые яства и напитки, а они жили, как братья, и забыли о муках голода и жажды.
А наш юноша шел своей дорогой и вскоре добрался до озера, в котором боярин изнывал от жажды.
— Какие вести принес ты мне?
— Грустные, боярин. Слыхал я, что мука твоя будет вечной в наказание за те несправедливости, которые ты чинил людям на земле.
Отправился юноша дальше, шел он, шел и, наконец, пришел домой. Как увидел Марку Богатей, что зять вернулся домой жив, здоров да еще перстенек с печаткой принес, чуть не лопнул от досады и страха. Придраться было не к чему, вот он и стал расспрашивать зятя, где был и что видел.
— Эгей, сами знаете, как оно в дороге, — ответил зять. — Много всякой всячины увидишь и услышишь. У врат ада видел я стражника с палицей на плече и саблей на боку и ждет он, чтобы вы ему на смену пришли.
— Я?!
— Так он говорил.
— Никто в моем роду никогда в стражниках не ходил. Только меня и нашли?.. Да еще где стоять — у врат ада!.. Пойду сам погляжу и коли ложь это, коль хотел ты посмеяться надо мной, не миновать тебе петли.
Собрался Марку Богатей в путь-дорогу и пошел по следам зятя. Стал подходить к вратам ада, а стражник еще издали кричит:
— Стой, мэй, стой! Кто ты таков и куда путь держишь?
— Я Марку Богатей.
— Раз так, иди сюда.
Подошел Марку, а стражник ему говорит:
— На вот, подержи-ка палицу, саблю, одежду мою и обувку.
Не успел Марку Богатей разобраться, в чем дело, как стражник сунул все ему в руки и был таков. Одежда на него наделась, ремни подпоясали; почуял Марку — пятки печет, подскочил кверху и в сапогах очутился. Мигом был он одет, обут, до зубов вооружен и к месту пригвожден. Много лет подряд стерег он врата ада, ни днем ни ночью век не смыкая, и, может, и сейчас еще стережет, коли кто другой его не сменил.
А сын Иона Бедняка, завладев всем имуществом Марку Богатея, поделил его со своими братьями и всеми другими бедняками.
 ТРИ БРАТА
ТРИ БРАТА

Сказка сказкой, да эта не со сказочных времен, а чуть попозже ее сложили люди, в те времена, когда прадеды наши воду черпали решетом и солнце четвериком носили в дом.
Сказывают, жили-были в те времена три брата, три дюжих молодца, все похожие с лица. Отцу их и матери не посчастливилось на сыновей порадоваться, рано они руки на груди сложили. Начав сами хозяйничать, братья день и ночь трудились, вертелись, как белка в колесе, да проку немного было. Видят они, что везет им во всем, как утопленнику, и стали совет держать, как дальше быть.
— Мэй братцы, — говорит старший. — Пока отец с матерью жили, и мы дома в холе были. А с тех пор, как снесли мы их на погост, и дом опостылел, как горькая редька. Давайте-ка лучше пойдем по свету счастье искать, авось найдем где работу хорошую, будем помогать друг другу и в люди выбьемся.
— Ладно, — согласились младшие братья.
И вот в один прекрасный день пустились они в путь-дорогу от родного порога.
Шли они, шли, немало городов и сел обошли, а работы нигде не нашли. Однажды дошли они до какого-то перекрестка дорог: одна вела налево, другая — направо, а третья — прямо. Сели братья отдохнуть, слово за слово, и вот до чего договорились:
— Мэй, — сказал один. — Сколько уж мы времени по дорогам ноги бьем, а все никак работы не найдем. Давайте лучше разделимся, пойдем каждый своим путем, авось в одиночку легче будет работу найти.
— Так-то оно так, а как мы узнаем, что с кем сталось? — спросили остальные.
— Куда б мы работать ни поступили, наниматься будем только на один год, а потом снова соберемся на этом перекрестке, и кто что заработает, с остальными братьями поделит.
Сказано — сделано. Пошел старший брат направо, средний налево, а младший прямо. Старший вскоре нашел себе работу, в батраки нанялся, да не очень надрывался — только бы время пролетало да брюхо голоду не знало. Средний тоже в батраки нанялся, но оказался ленивым на диво, трудился нерадиво, все больше на братьев надеялся, авось побольше заработают и с ним поделятся. А младший все шел вперед от зари до темна и к ночи добрался до леса дремучего. Со всех сторон его окружали толстенные и высоченные деревья, дороге конца краю не видно, а тьма все сгущается. И такой страх охватил парня, что волосы у него дыбом встали. Устал он с дороги, теперь бы в самую пору прилечь отдохнуть, да как тут приляжешь, чего доброго, зверь какой налетит и в клочья разорвет. Так он мучился от усталости и страха, пока не пришла ему в голову спасительная мысль: забраться на самое высокое и толстое дерево и там переждать до восхода солнца. Взобрался он кое-как на вершину дерева, примостился на толстом суку и сидит — ни жив ни мертв от страха. Вдруг, примерно в полночь, слышит, идет кто-то. Сколько их там было: пятеро ли, шестеро — все хохочут, веселятся, громко бранятся. Под самым деревом, на которое взобрался младший брат, и остановились. Тут один из них, видать главный, спрашивает:
— Ну, нечистые, докладывайте, где побывали, что повидали, какое зло людям учинили? Пусть каждый дает ответ — заслужил он себе место в аду или нет?
— Ваша темнейшая низость, — говорит один, — много я дорог исходил по свету, но зато и сделал стоящее дело. Неподалеку отсюда раскинулось большое царство. Крутился я по нему, вертелся, да под конец ухитрился наслать страшный мор на скотину. Падают лошади, коровы, овцы, и никто не знает, как от несчастья избавиться. Людям и невдомек, что лекарство сделать очень просто: нужно отварить семя акации в молоке коровы первотелки и дать больной скотине три капли отвара и три семечка акации — хворь как рукой снимет.
— А ты, Сарсаила, что сотворил?
— Эгей, ваша низость, сдается мне, что такого еще ни один черт не натворил. На юг отсюда раскинулось большое царство. Много я там потрудился, но под конец удалось мне все же заговорить все реки и колодцы — кругом вся вода высохла. Ошалели люди от жажды, мрут как мухи, скот падает, а никому и невдомек трижды воткнуть копье в скалу, которая стоит между двумя горами Лобобойками.
— А ты, Никодица, чем похвастаешь?
— Челом тебе бью, ваша высочайшая подлость. Я также не зря по свету болтался. За три земли отсюда лежит царство Зелен-царя. Славился он поместьями обширными, казною богатой, но еще больше славился дочерью красною, как солнце ясное. Сохнут по ней зимой и летом добры молодцы со всего света. Но вот на той неделе удалось мне наслать на нее хворь тяжкую. Все кругом плачут, царевну жалеют, а никто помочь ей не умеет. Да и кому придет в голову, что лекарство найти очень просто: надо отмерить два шага от порога царского, выкопать яму в рост человеческий, поднять со дна ее красного червя полосатого, настоять его на шкалике водки и, продержав настой на солнце от зари до темна, дать его царевне три капли, — мигом бы выздоровела.
— Молодцы, рогатые, добрых вы дел понаделали, ступайте опять гулять по свету.
Разбежались тут нечистые кто куда, только им ведомыми дорогами.
Пока они говорили, младший брат словно прирос к дереву, дыхание затаил, уши раскрыл — не пропустил ни слова. Вот стихло все в лесу, поунялся страх у парня, стал он думу думать: "Мэй, если все, что они говорили, правда, то уж я им свинью подложу, все замыслы разрушу. Пусть потом говорят, что я сатанистее самого сатаны!"
На рассвете сошел он с дерева и в путь двинулся. Шел он, шел, через горы, через долы, и в один прекрасный день добрался до маленького сельца. А там стон стоит, люди от горя чернее земли стали — падает скот и никто спасения придумать не может.
— Люди добрые, — обратился наш парень к нескольким селянам. — А испытайте-ка такое-то лекарство.
— Эгей, парень! Сколько уж мы всяких лекарств испытывали, а пользы — что от козла молока.
— Но испытайте все же и это. Как знать, где счастье прячется.
Послушались горемыки совета, нашли первотелку, подоили, семя акации в молоке отварили и дали больной скотине по три семени и по три капли отвару. Скотина мигом повеселела и выздоровела, хворь как рукой сняло.
Сельчане и не знали, как отблагодарить парня за добрый совет, а он распростился с ними и пошел дальше. Так он шел от села к селу и всех учил, как скот лечить, добрые советы раздавал, благодарность людей собирал, пока дошел до края царства. Открылась теперь перед ним другая картина — кругом все выгоревшие поля, заброшенные колодцы, пересохшие реки. Нашел он мастера доброго, который сделал ему копье с железным наконечником, спросил дорогу к горам Лобобойкам и в путь отправился. Только он подошел к нужной ему скале, как горы над ней стали сшибаться лбами, искры высекая, страх в него вселяя. Бились они так три дня и три ночи, пока устали и остановились передохнуть. Тут парень стрелой метнулся к скале и трижды воткнул в нее копье. Вздрогнули горы, опять собрались лбами сшибаться, но из скалы хлынула струя могучая к самому небу и боевой их пыл охладила. Тем же мигом появилась вода во всех колодцах, ожили реки, зашептали свои песни ручьи горные. Напились люди воды, повеселели, парню дорогу цветами устелили. Пошел он дальше и вскоре добрался до другого царства. Здесь от мала до велика все женщины и мужчины поддались злой кручине: царская дочь — краса мира — захворала тяжко и лежала на смертном одре. Давно оповестили все гонцы царские, что тому, кто царевну исцелит, отдаст ее царь в жены да еще полцарства в придачу. Все врачи и знахарки испытали на ней свои травы и заговоры, да спасти ее никто не был в силах. Горько было царю и царице, дороже всего на свете была им дочь, и плакали они слезами кровавыми в три ручья, что дочка тает как свеча восковая. Вот в это-то время, когда всякие надежды угасли и они ждали с минуты на минуту смерти неминучей, вошел во дворец наш парень, поклонился царю и лекарям земным поклоном и испросил позволения царевну полечить.
— Эй, юноша, многие сюда приходили, многие вылечит ее сулили, да, видать, хворь царевны неисцелима.
— Пресветлый царь, многие приходили, многие исцелить ее сулили, позволь и мне силы попытать.
— К чему столько попыток, когда во всем этом нету надежды и просвета!
— Позволь и ему, государь, силы попытать, как знать, где счастье зарыто, — взмолились перед царем придворные.
— Ну что ж, пусть так, по крайней мере, буду знать, что все средства испытаны, — согласился царь.
Отмерил парень два шага от порога дворца, вырыл яму в рост человека, нашел красного червя полосатого, бросил его в шкалик водки и продержал на солнце от зари до темна. Потом дал царевне испить три капли настоя, и поднялась она с постели весела и здорова. Царь, не мешкая, созвал всех музыкантов и свадьбу сыграл. Был там пир на весь мир, все пили, ели, на молодых глядели, налюбоваться не могли. Целый месяц длилось веселье, а потом поутихло, и тут парень заявил царю, что есть у него свой дом и братья ждут его не дождутся. Напрасно молил его царь остаться, напрасно трон ему царский сулил, парень стоял на своем. Видя такое дело, велел царь нагрузить три телеги золотом и каменьями драгоценными, что по его подсчетам стоило с полцарства, дал молодым платье царское, золотом шитое, и, попрощавшись, отпустил их с миром в дальнюю дорогу. Пустился младший брат в обратный путь и ровно через год со дня разлуки с братьями добрался до заветного перекрестка дорог. А старшие братья уже тут как тут, младшего ждут. Сами они так ничем и не разжились, все лодыря валяли, надеясь каждый чужим трудом поживиться.
— Здравствуйте, братья дорогие!
— Добро пожаловать, братенек, — ответили старшие братья с жадностью оглядывая груженые телеги.
— Где ходили, где трудились, каким добром разжились?
— Э, братец, была у нас работа до седьмого пота, а разжиться мы ничем не разжились, только обносились.
— Ничего, братцы, как уговорились мы, прощаясь, так и сделаем: поделим все по-братски. Берите себе каждый телегу моего добра.
Обрадовались братья и побежали к телегам, да как увидели на последнем возу деву молодую, оба к нему бросились и заорали во всю глотку:
— Эта моя!
— Нет моя!
— Почему твоя?
— Потому что я первый к ней подбежал.
— Нет моя, потому что я старше.
— Стойте, братцы, не спорьте зря, это моя жена, — крикнул младший и, подбежав к телеге, забрал свою суженую.
Раскрыли старшие братья рты от удивления и стали его расспрашивать.
— Где ты работал, братец, что столько добра заработал, да еще… такую красотку-невесту нашел?
Стал им младший брат рассказывать все, как было, сколько он добра на свете сделал, сколько народу спас от смерти неминучей, а те переглянулись меж собой и заговорили оба сразу:
— Слушай, мэй, да разве любой из нас не может сделать то же, что и он, да заиметь не один воз золота, а целых три и прекрасную невесту в придачу?
— Ступайте же вот этой дорогой до леса дремучего и взберитесь на самое высокое и самое толстое дерево. Подождите там до ночи и узнаете, что вам делать следует, — сказал им младший брат и погнал волов домой.
А старшие кинулись во все лопатки к лесу, отыскали нужное дерево, с горем пополам взобрались на вершину, дыхание затаили, ждут прихода чертей. О полночь раздались в лесу голоса и топот копыт. Собрались нечистые, сколько их там было: — пять ли, шесть ли — у подножья дерева и стали жаловаться главному своему:
— Ох, ваша низость, хорошее я дело придумал и не зря ты меня похвалил, да вот не знаю, кто указал людям лекарство и весь скот выздоровел.
— Ваша высочайшая подлость, и мои все замыслы разрушены. Мог ли я и подумать, что найдется смертный, который это сделает? А вот нашелся такой, воткнул трижды копье в скалу, колодцы водой наполнились, реки и ручьи ожили, и люди избавились от засухи и жажды.
— Ваша низость, и мое злодейство ни к чему не привело. Исцелил кто-то больную царевну.
— Кто же это всё натворил?
— Уж не подслушал ли нас кто-нибудь в прошлый раз, когда мы здесь совет держали?
— А может, и сейчас кто-нибудь притаился на дереве и подслушивает?
— Ну-ка, поглядим.
Мигом трое нечистых взобрались на вершину дерева и, наткнувшись на старших братьев, закричали:
— Вот они, мэй!
— Ай, ай! Стойте! Это не мы!..
Только не стали их черти слушать, а схватили за загривки и сбросили с дерева вниз головой. Упали братья на землю и больше уж не поднялись.
А младший брат вскоре домой добрался и еще долго жил и добро творил.

 КРАСНОГЛАЗЫЙ МЕЛЬНИК
КРАСНОГЛАЗЫЙ МЕЛЬНИК

Жил-был на свете человек, и имел он единственного
сына. Как подрос мальчик, стал он отцу по хозяйству помогать. Вот однажды нагрузил отец полный воз мешков пшеницы да послал сына на мельницу муку смолоть.
— На какую же мне мельницу податься?
— На водяную.
— Ты ведь знаешь, что там немало водяных мельниц.
— Выбирай любую, только красноглазого мельника берегись.
Взялся парень за налыгач и — цоб, цобэ! — потихонечку доехал до мельницы. Тут выходит ему навстречу мельник, весь с ног до головы в муке, да и ласково зазывает.
— Подъезжай, заворачивай, мешки сбрасывай.
— А не много ли на мельнице народу?
— Никого нет, давай мешки да начнем муку молоть.
Как подошел парень поближе к мельнику, глядь, — а у того глаза красные, точно ошпаренные.
— Нет, не желаю я молоть у мельника красноглазого, — сказал парень да и повернул к другой мельнице.
Мельник же обогнал его и возле второй мельницы вновь выходит парню навстречу.
— Здравствуй, мельник.
— Здорово, паренек.
— Большой на мельнице наплыв?
— Да, страшное дело.
"Тьфу, беда! — подумал парнишка. — И наплыв большой, да и этот мельник красноглазый".
— Ну, раз так, поеду я к другой мельнице.
Мельник, однако, опять обогнал его и возле третьей мельницы вновь выходит ему навстречу.
— Как там у тебя, мельник, большой наплыв?
— А ты думал? Битком набита мельница мешками.
"Пока пшеницу смелешь, глаза на лоб вылезут, — говорит про себя парень. — А ведь и этот мельник красноглазый. Вернусь-ка я лучше к первому, там хоть наплыва нет, быстрее муку получу".
Повернул он подводу обратно, да вскоре и подъезжает к порогу первой мельницы.
— Вернулся я, мельник, обратно к тебе. Там у других мельниц народу тьма тьмущая, да и мельники все красноглазые.
— Ладно, парень, сыпь зерно в ящик, пока нет никого.
Много ли, мало ли времени прошло, и вот стоят мешки рядышком, доверху мукой полны.
— Ну, а теперь, — говорит мельник, — давай испечем каравай да покушаем.
— Давай.
— Привези-ка воз дров, а я тем временем тесто замешу.
Поехал парень по дрова, а мельник красноглазый притащил квашню, такую огромную, что целый мешок муки в ней скрылся, налил воды и принялся тесто замешивать. Привез парень дров, развели они огонь, испекли каравай, а как вытащили его из печи, мельник и говорит:
— Теперь, паренек, давай сказки сказывать. И кто такое понаскажет, что второй ему не поверит, тот и возьмет себе каравай.
Согласился парень, и вот мельник стал сказку сказывать.
— Помню, был я еще махоньким, когда отец мой огородничеством занимался. Посадил он однажды семечко арбузное, да и выросла ботва огромная, растянулась по всей стране, в одну сторону до Днестра, в другую до Прута, на север до Могилева, а на юг до Дуная. Кто бы ни проходил мимо, все арбузов наедались и все еще оставалось. Как-то раз один прохожий затерял ножик среди ботвы; стал искать — искал день, другой, третий, пока с отцом моим не повстречался.
— Мэй, чего ты все ищешь?
— Ножик потерял.
— Когда?
— Три дня тому назад.
— И целых три дня ножик ищешь?
— Да.
— Эх ты, я свой табун лошадей как-то затерял, и то не стал трех дней искать, а ты из-за жалкого ножика так убиваешься!
— Это и вся сказка?
— Вся.
— Ну и что в ней такого? Может, так оно и было на самом деле.
— Ну, тогда послушаем, что ты расскажешь.
— Помню, когда я был малюткой, отец мой обзавелся множеством ульев. И знал он всех своих пчелок наперечет, каждую по имени звал. Вот приметил как-то отец, что пчелка по имени Форноая пропала; день ее нет, другой нет, третий и так несколько дней подряд. Ждал он, ждал, не вернется ли пчелка — ни слуху, ни духу. А бедняжку поймали боярские прислужники да в плуг впрягли. Вернулась она к отцу моему вся измученная, с натертой шеей — так долго в ярме ходила. Опечалился отец, стал спрашивать то одну знахарку, то другую, как пчелку вылечить.
Вот и научила его старушка одна кормить пчелку сердцевиной ореха, на сладком молоке настоянной. Достал отец и орех и молочка сладкого, дал ей поесть, а пчелка возьми, да и подавись. Застрял орех в горле у нее — никак не вытащить. В теплоте да в сырости пустил орешек корешки да начал расти. Пророс он, вылез из головы пчелки, да как распустился ввысь да вширь, и превратился в большое, толстое ореховое дерево; а орехов на нем столько было, что ветки гнулись под их тяжестью. Поспели орехи, стали из своей зеленой кожуры вылезать, но налетели на них вороны черные да начали их клевать, уничтожать. Мы с отцом принялись было ворон гнать, швыряя в них комьями земли, да комья меж веток застревали. Столько мы тех комьев набросали, что на верхушке дерева целое поле раскинулось. Полез туда отец, вспахал землю да и засеял пшеницей. Как пришло время жатвы, полезли мы вдвоем быстрее хлеб собирать, дабы не намочил его дождь да град не побил. Сжали мы всю пшеницу, собрали, я слез на землю, а отец остался сноп один довязывать. Связал он сноп, на скирду положил и тоже собрался за мной. Сплел из соломы веревку длинную и толстую, стал спускаться, ан не хватило ему веревки, несколько саженей до земли не достало. Так и остался он висеть между небом и землей, ни туда, ни сюда двинуться не может. Пролетали тут пчелы наши, увидели отца и принялись кружить над ним. Кружили они, кружили, да начали откладывать соты с медом, все больше и больше. Отяжелел отец от меда, порвалась веревка соломенная, и упал он оземь, превратившись в большую лужу меда. Стали люди сюда приходить с посудой со всякой да меду себе набирать. Среди них и отец твой пришел с горшком большущим. Но к его приходу весь мед уже кончился. Поискал он, поискал, да вдруг видит кончик постола отца моего. Схватил постол, обрадовался, немного меду там осталось. Вот, подумал он, хоть немного принесу сынку моему, то есть тебе, полакомиться.
— Враки, не могло так быть.
— Не поверил ты сказке моей.
— А, так бы и сказал, что это сказка, тогда…
— Тогда, значит, выиграл я каравай.
Понял мельник красноглазый, что попал впросак, да деваться ему уж было некуда. А парень погрузил муку и каравай на телегу и поехал восвояси.

 КОГДА ЗА ДОБРО ЗЛОМ ПЛАТЯТ
КОГДА ЗА ДОБРО ЗЛОМ ПЛАТЯТ

Шел однажды человек по лесу, с работы домой возвращался. Дорога не ближняя, идет он, думу думает и вдруг видит впереди — дерево горит. Бушует пламя, объяло его снизу доверху, только веточки трещат. А на самой вершине змея предлинная корчится, извивается в огне лютом, мается и шипит, что есть мочи, от страшной боли. Заметила змея человека, запричитала жалобно-прежалобно:
— Помоги, добрый человек, спаси меня от смерти лютой.
Совестно стало человеку мимо пройти, не вызволить змею из беды; и она, чай, существо живое, тоже умирать не хочет. Протянул он посох свой длинный, и змея тихонько-легонько спустилась вниз, поползла по руке человека, да негаданно-нежданно и обвилась вокруг него.
Остолбенел бедняга от изумления.
Схватил было змею, крутит ее, рвет, чтоб избавиться, да не тут-то было! Змея только рассвирепела да еще пуще сдавила, чуть не удавила.
— Тьфу, напасть, — мечется человек. — Хотел змее добро сделать, а оно против меня же злом обернулось.
— Так оно и бывает всегда.
— Как это?
— Аль не знаешь ты, что за добро злом всегда платят?
— Откуда ты правило такое выкопала?
— Как это, откуда? Так уж водится, спроси хоть кого, никто не скажет тебе, чтоб за добро добром воздавали; а коль найдется хоть одно существо, которое думает иначе, сползу я с твоей шеи.
Пошел человек дальше, с горя в глазах потемнело, еле-еле дорогу видит. Идет он, идет и вдруг коня встречает.
— Здравствуй, конь.
— Здравствуй, прохожий.
— Послушай-ка, в какую беду я попал. Проходил я лесом и вот пожалел змею эту, из огня ее вытащил, а она вокруг шеи моей обвилась, и ношу я ее теперь на себе, словно крест тяжкий. Рассуди же нас, правильно ли это, что за добро злом мне платят.
— Эх, бедолага, понятна мне скорбь твоя, ведь и я едва на ногах держусь от горя-горького. В молодости кормил меня хозяин зерном отборным, поил да холил, а потом, бывало, вскочит верхом, и ношу я его по свету вдоль и поперек. Но только я состарился — погнал он меня на все четыре стороны. Нет во мне больше нужды. Вот как бывает на свете! Горе нам, несчастным, за добро нам злом платят.
— Ну что, аль не права я? Слышишь, что конь говорит? — злорадно зашипела змея.
Пошел человек дальше, и увидал он пса старого, тощего и шелудивого.
— Здравствуй, пес!
— Здравствуй.
— Подойди-ка поближе и послушай, какое у меня горе. Вот то-то и то-то со мной приключилось. — И поведал он псу все, как было.
— Эх, добрый человек, — могу я тебе только посочувствовать, ведь и на меня несчастье большое обрушилось. В молодости служил я хозяину, и кормил он меня хорошо; ловил я ему зайцев, лисиц, волков загонял; а как постарел и обессилел, прогнал меня хозяин, и теперь слоняюсь я, как неприкаянный, и на помойках роюсь, и мослы глодаю, забыл хозяин все услуги мои. Эгей, что и говорить, за добро злом платят.
— Слышишь, человече, что все говорят?
— Слышу, как же, слышу, но давай еще кого-нибудь спросим.
Пошли они своей дорогой, шли все вперед, пока дошли до другого леса.
Тут повстречался им добрый молодец, юный красавец со взором ясным, с палицей на плече и мечом на боку.
— Здравствуй, добрый молодец, — молвит человек.
— Здравствуй, горемыка.
— Послушай-ка про горести мои.
— Говори, что болит.
— Возвращался я с работы, да в лесу одном вытащил из огня-полымя эту змею подколодную, и вот обвилась она вокруг шеи моей, задушить норовит. Рассуди же нас, добрый молодец, скажи, можно ли за добро злом платить.
— Добрый человек, не могу вас рассудить, когда один на другом верхом сидит.
— Как же нам быть?
— Разойдитесь один по эту сторону дороги, другой по ту, тогда и рассужу я вас.
Змея — ни в какую. Сидит на шее человека, словно привороженная.
— Да слезь ты, змея проклятая, пусть рассудит нас добрый молодец, — закричал на нее человек.
Поползла змея вниз, направилась к обочине дороги. Тут добрый молодец засвистел что есть мочи, и вдруг как из-под земли вырос отряд витязей могучих, да стали змею топтать, избивать, на куски рубить, пока с землей не смешали.
Вот каков приговор, когда за добро злом платят.

 КОНЬ И МЕДВЕДЬ
КОНЬ И МЕДВЕДЬ

Жил-был мельник, и держал он при мельнице коня. Столько поездил мельник на нем, столько поклажи перевез, что остались от бедной скотины лишь кожа да кости. Увидал мельник, что не годится уж конь для работы, подвязал ему поводья к шее и отпустил — иди, мол, куда глаза глядят. Побрел конь по дороге и добрался до леса. Тут нашел он травку сочную, прохладу лесную, воду прозрачную, ключевую, и так все пасся, отдыхал да сил набирался: залоснилась шерсть, округлились бока, не проглядывают уж ребра сквозь кожу; хорошо, вольготно жилось коню, так что он по утрам да по вечерам даже резвиться начал, прыгать, на дыбы вздыматься, по траве зеленой кататься.
Но вот однажды наступили и для него дни тяжелые, увязался за ним медведь и все норовит поймать да съесть. Заржал конь:
— Выкинь ты дурь эту из головы, медведь, а то как бы не пришлось тебе проклясть тот миг, когда мы встретились с тобой
— Что ж по-твоему, у меня зубы сточились, и не могу я с тебя шкуру содрать да мясо сожрать?
— Неужто ты такой сильный?
— А как же.
— Тогда давай потягаемся. Покажи-ка, чего ты стоишь, — сказал конь.
Поглядел медведь окрест, увидал скалу поваленную, подошел к ней да как сжал в объятиях — в песок раскрошил и по ветру пустил.
— И это все? — спросил конь. — А я, как стукну копытом о камень, так не пыль — огонь высеку.
— Вижу, горазд ты хвастать, — рассердился медведь.
— А выйдем-ка на дорогу, сам увидишь.
Пошли они. Стал медведь на задние лапы, смотрит, а конь отошел подальше, а потом как разогнался — вихрем промчался, искры из камней высекая.
Медведь даже присел от удивления и страха.
— Ну, что ты скажешь?
— В самом деле, в тебе куда больше силы, чем во мне, — ответил медведь.
— Как же наказать тебя за то, что посмел зубы на меня скалить? Убить тебя и то мало!
— Не убивай меня, добрый конь. Какую хочешь службу тебе сослужу, только жизни меня не решай.
— Так вот, в наказание будешь водить меня на поводу, выискивать траву повкуснее, пока я не усну.
Медведь и не пикнул в ответ, боялся, как бы не поднял конь ногу да не протопал ему копытом аллилуя. Стал медведь коня пасти, пасет, пасет, а сам ждет — когда ж он, проклятый, заснет. Да не тут-то было! Изморился Мишка, зубами скрежещет, ругается на чем свет стоит, да все про себя, как бы конь не услыхал. Как-то раз набрался он духу и робко говорит коню:
— Ваша конская милость, неплохо бы отдохнуть тебе.
— А я и так слишком много отдыхаю.
— Когда же ты отдыхаешь, я ни разу не видел, чтоб ты прилег, глаза закрыл и хоть чуточку вздремнул.
— Разве не знаешь ты, что конь одним ухом спит, другим слышит?
— Но когда же ты спишь?
— Да вот, тогда и сплю, когда не пасусь, а так стою, с ноги на ногу переминаюсь.
Намотал себе медведь на ус слова эти, да и начал он примечать, когда пасется конь, как воду пьет, когда на месте застывает. Вот однажды увидал Мишка, что конь стоит без движенья, глаза в одну точку вперил да с ноги на ногу переминается, и попробовал выпустить из лап поводья. Стоит конь, как ни в чем не бывало. Медведь сделал шаг назад, другой, весь дрожит, потом обливается. Конь ни с места. Тогда Мишка — ноги на плечи и ну улепетывать. Бежит он так во все лопатки, не разбирая дороги, а навстречу волк.
— Что ты бежишь так, куманек, точно от смерти спасаешься?
— От нее и бегу.
— Неужто?
— Ей-ей! Тут неподалеку конь спит.
— Конь?!
— Да.
— Ну и что ж? Чай, не его испугался?!
— Вот именно его. Глядишь, проснется да как лягнет, тут тебе и смерть.
— Ну и трус же ты и глуп, Мишка! Где конь-то?
— Погляди-ка туда, откуда я прибежал.
— Не видно.
— Поднимись повыше.
— Ничего не видать.
Повернулся медведь, смотрит назад, на цыпочки поднимается, а ничего не видит. Конь-то за пригорком остался.
— Где же он? — не стерпел волк.
— Давай подниму я тебя, тогда увидишь.
Как обхватил он волка лапами своими могучими, чтоб поднять повыше, волк только пасть разинул, да так и дух испустил, не успев даже пикнуть. Но медведь и не почувствовал, как сжал его в своих лапах и смерть ему уготовил. А увидав, что волк сдох, вздохнул косолапый и молвит:
— Эх, бедняжка, ты только увидал коня, и то сдох, каково же мне, когда я его столько времени пас?
И, охваченный ужасом, пуще прежнего бросился медведь вновь наутек да, может, и поныне бежит без оглядки.

 СЛУГА И БАРИН
СЛУГА И БАРИН

Сказывают, жил когда-то барин, и было у него множество птичников, а в них несметное количество кур, уток и гусей. Нанял себе барин слугу, чтоб было кому заботиться о всей этой птице, кормить ее, поить, на ночь закрывать, а сам он, бывало, приходит раз в два-три дня да и пересчитывает птицу. И столько было там работы, что бедному слуге и передохнуть некогда было, не говоря уж о том, что курятины он и не нюхивал. Как же! Все барину доставалось. Думал слуга, думал об этой несправедливости, и вот однажды поймал он гуся да в горшок его, а потом съел, сердце свое усладил. Стал барин пересчитывать свою сотню гусей, а их только девяносто девять.
— Мэй (как, бишь, он его там назвал), нет одного гуся!
— Что вы, барин, все на месте.
— Где же все, когда их только девяносто девять.
— Нет, полная сотня, — не поддается слуга.
Сосчитал барин еще раз. Нет гуся и только!
— Мэй, лопни твои глаза, я из тебя гуся сделаю!
— Что вы привязались ко мне, барин, вся сотня на месте.
Так они долго друг с другом спорили, один говорит: нет! второй — свое: есть! Решил барин доказать свою правоту. Приказал он явиться к птичнику ста слугам своим, пересчитал их.
— Видишь сто слуг?
— Вижу.
— Раз ты говоришь, что здесь сто гусей, то на каждого слугу придется по одному гусю, не так ли?
— Так.
— Мэй, — велит барин слугам, — ну-ка, хватайте каждый по гусю, но только по одному.
Набросились слуги на гусей, гонялись за ними, гонялись и вскоре всех изловили. Девяносто девять молодцов стоят с гусями под мышкой, а один ни с чем остался.
— Теперь скажи, треклятый, почему этот без гуся остался?
— Так кто ж ему виноват, барин, коли он замешкался да не изловчился, чтоб и себе гуся поймать.

 ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ С КУПЦАМИ
ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ С КУПЦАМИ

Большим шутником слыл Леонтий Курэрару. Как отколет он шутку, то весть о ней облетит всю округу. Соберутся где-нибудь два-три человека, заходит речь о нем, и начинают перебирать без конца его выдумки, одна похлеще другой. Вот и это, к примеру, тоже про него рассказывают. Приехали как-то в наше село купцы и вот, закончив все свои дела, стали искать, кто бы их отвез на вокзал. Набрели они на Петрю Дудуку, у которого была пара кляч — кожа да кости — подстать своему горемычному хозяину, с ним и договорились. Положил Петря в телегу два мешка соломы вместо сидения, прикрыл их зипуном и — в путь-дорогу.
Дорога вначале была ровная, и Петря браво понукал лошадей. Но вот в трех верстах от вокзала начался крутой подъем; немало мужик, бывало, потрудится да накричится, пока наверх выберется.
У подножья горы остановил Петря лошадей передохнуть, поглядел на купцов, надеясь, что совесть в них заговорит, но те сидят себе, как ни в чем не бывало, и не думают с телеги сойти. Уперся Петря плечом в ручицу, щелкнул кнутом и лошадок понукает:
— Ну, лошадки, потихоньку, ну, вперед!
Стараются лошади, из сил выбиваются, тянут-потянут — где там! Больно подъем крутой, да и купцы сидят в телеге, как привороженные.
Посреди горы, глядь — показался Леонтий Курэрару, спускается под гору налегке, видать, тоже возил людей на вокзал и теперь домой возвращался. Как поравнялись телеги, попридержал коней Леонтий.
— Ты ли это, Петря?
— Я, братец Леонтий.
Поглядел тот на лошадей, на купцов и нахмурился.
— Стой, пропади ты пропадом, попался мне наконец!
Петря глаза вытаращил, ничего не понимает.
— Вчера, когда я поднимался в гору, вот на этом самом месте, почему ты исхлестал моих коней? Да еще притворяешься, что знать ничего не знаешь? Вот я сейчас твоих тоже кнутом попотчую.
Да как начал стегать, стегает куда попало, а попадало все больше по спинам купцов.
Извиваются купцы, вопят благим матом да побыстрее с телеги сигают, — кто куда, а Леонтий все еще кнутом настигает; исхлестал он их за милую душу, а потом как припустит лошадей да как полетит под гору — только спицы мелькают.
— Вот тебе, чтобы больше неповадно было!
Не захотелось больше купцам в подводу забираться, пошли они пешком, все отругиваясь и отплевываясь, а Петря Дудука усмехается да полегоньку лошадей погоняет.

 ПОВАР И БАРИН
ПОВАР И БАРИН

Однажды некий барин, отправляясь в карете на катание, велел повару своему зажарить к его возвращению гуся.
— Но если попутает тебя лукавый съесть хоть кусочек, прикажу я связать тебя по рукам и по ногам и столько палок отсчитать, пока распластаешься, как жаба, чтобы впредь неповадно было даже и думать о мясе.
— Понятно, барин.
— Гляди же, чтоб понятно, так понятно; а к моему приезду чтоб гусь был готов, не горячий, не холодный, в самый раз на желудок голодный.
Принялся повар за дело, зажарил гуся на славу, румяный, пахучий — у самого слюнки текут.
Терпел он, терпел, да не вытерпел, отрезал ножку гусиную и съел.
Приехал барин и, увидав, что гусь об одной ноге, чуть не лопнул от досады и гнева.
— Вот, значит, каков ты, жадина. Аль не наказывал я тебе не притрагиваться к гусю, если не хочешь бабушку с того света увидеть?
— Да ведь гусь-то цел, барин.
— А ножку кто слопал, едят тебя черви могильные?
— Барин, у гуся была только одна ножка.
— Да что ты там мелешь, мэй, где это видано, чтоб гуси одноногими были! — воскликнул барин, уписывая жаркое.
— Коли не веришь, барин, пойдем к пруду, своими глазами посмотри.
— Хорошо, но коли не так, то я уж знаю, что с тобой сделать.
Пошли они к пруду. Долго ли шли они, скоро ли, вот и на берег вышли. Солнце припекало вовсю, день был прекрасный, и гуси стояли все на одной ножке, клювами крылья теребили, охорашивались.
— Ну вот, барин, видишь, гуси все одноногие
А барин как хлопнет в ладоши, да как вскрикнет: хыш… халя… халя… халя…
Встрепенулись гуси, испугались и разбежались по берегу, кто куда.
— А видишь, мэй, у них у всех по две ноги.
— Так что ж, барин… почему же ты не крикнул и тому гусю: хыш… халя… халя… халя…
Уставился на него барин, а крыть нечем; понурил голову, промолчал, и с тех пор больше не наказывал повару не пробовать то, что стряпал.

 ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК

Жила-была женщина. Тягостно, все в бедности да в невзгодах проходили дни, и единственной радостью жизни ее был сын-подросток, который уже помогал ей то в одном, то в другом деле. Как-то в зиму одну лютую началась вьюга, метель разыгралась, сугробы намело громадные — света не видать. Поутру, когда затихла метелица и поднялось солнышко ясное, вышел паренек с лопатою снег отбросить, дорожку расчистить.
Работает он себе да вдруг слышит, как с дерева ворона закаркала:
— Киррр, кар, кар, кар… Киррр, кар, кар, кар. — Рыдает бедная ворона, сердце разрывается.
Мальчик выпрямился и прислушался:
— Кирр, кар, кар, кар,
Кирр, кар, кар, кар!
Ветер дует, задувает,
Снегом поле заметает,
Лют мороз и крутит вьюга,
Стонут все леса в округе,
А весна еще не скоро,
Есть мне нечего — вот горе!
Ох, тоска в моей груди,
Голод, холод впереди!
Кирр, кар, кар, кар,
Кирр, кар, кар, кар,
Кто меня сейчас спасет,
Счастье в жизни обретет.
Прослезился паренек и, хорошо зная почем фунт лиха, — не раз сидел он голодный, что и на белый свет глядеть не хотелось, — кинул он лопату из рук и крикнул:
— Эй, лети сюда, ворона,
Мне твои понятны стоны,
Позабочусь о тебе —
Зазимуй в моей избе.
Подлетела к нему ворона, и стал он с той поры кормить ее, холить. Не раз последний кусок ото рта отрывал и бедной птице отдавал. А когда пришла весна-кудесница да потекли, зазвенели ручейки, поблагодарила ворона парня от души и молвила:
— Друг ты мой, пойдем со мной в царство воронье, там живет моя матушка; за добро, что ты мне сделал, одарит она тебя всем, что есть лучшего под солнцем; даст она тебе имение, дворцы, казну богатую, но ты попроси одну лишь подушечку, на которой она стоит. Выслушал парень слова вороны, да и пошли они вдвоем в путь-дорогу дальнюю. Шли они, шли, не день и не два, пока вошли в царство этого рода птичьего. Обрадовалась им старая ворона, задала пир на весь мир, столы ломились от всяких яств и вин, песни чудесные звенели, ведь пели там жар-птицы звонкими голосами своими.
— Что же мне подарить тебе, парень милый, как отблагодарить тебя за дело доброе, за спасение жизни моего детеныша. Ты утолил мою скорбь и дал мне взамен счастье необъятное. Скажи, чего тебе хочется: имения, дворцы, казну богатую, все тебе дам…
— Не осмелюсь я таких богатств просить; сказать по правде, достаточно мне одной подушечки, что под ногами у тебя лежит, — ответил парень, с первого взгляда приметивший, что ворона то и дело прыгает на красивой подушечке.
— Проси, парень, чего душа твоя желает, дам тебе я сокровища несметные, станешь ты самым богатым человеком в мире, — настаивает вновь ворона-матушка.
— Ничего другого мне не надо, хочу я подушечку, на которой ты стоишь.
Увидала старая ворона, что парень стоит на своем, некуда ей деваться, отдала подушечку.
— Береги ее, как зеницу ока, — посоветовала она ему на прощание, — да смотри, не вздумай распороть ее, чтоб внутрь заглянуть. Как вернешься домой, построй видимо-невидимо загонов обширных, и тогда лишь можешь вспороть подушечку.
— Понятно, — ответил парень и отправился в путь-дорогу.
Шел он, шел, да все его гложет желание распороть хоть немного подушечку да заглянуть в нее. "Или обманули меня, или чудо большое в подушечку захоронено. Раз она посоветовала мне такие загоны большие приготовить, — думал парень, — значит, много всякого добра в подушечке спрятано, — давай-ка посмотрим". Только он чуть-чуть надпорол подушечку, а из нее как хлынут животные всякие: лошади, волы, коровы, стада овец, свиней… Мечется парень во все стороны, старается согнать их вместе, да не тут-то было — разбежались они, кто куда. Увидал горемычный, что ничем помочь себе не может, да и заплакал горькими слезами, даже траве вокруг жалко его стало. Охватила его тоска жгучая, так что и свет белый ему не мил. И вот, откуда ни возьмись, подошел к нему железный волк, такой большой, могучий, что от шагов его земля сотрясалась
— Чего ты, молодец, плачешь? — спросил волк, зубами щелкая.
— Как мне не плакать, если приключилось со мной несчастье такое, — и рассказал он волку все, что с ним произошло.
— А что ты мне дашь, если загоню весь скот обратно?
— Если сможешь сделать это, возьми себе свою долю, так чтобы и я не был в обиде, да и ты не прогадал.
— Взять я и без того могу, сколько мне захочется, и ты никак мне не помешаешь.
— Ничем другим отблагодарить тебя не могу. А тебе чего бы хотелось?
— Мне бы хотелось тебя съесть, когда жизнь тебе всего милее покажется.
Задумался парень, и так решил: будь потом, что будет, только бы скот загнать да матушку свою обрадовать, из бедности вызволить.
Обежал железный волк вокруг стад несметных, защелкал зубами, точно в колокола забил, да и загнал скот в подушечку.
На прощание вновь напомнил железный волк парню, что тогда за ним придет, когда жизнь ему всего милее покажется.
Пошел парень своей дорогой, а волк исчез по одному ему известным тропкам.
Вот пришел молодец домой, понастроил загоны большие-пребольшие, сколько взором с крыши мог охватить, затем распорол подушечку и выпустил стада несметные. Весть о чуде том весь мир облетела, и много бояр да царей думали его в зятья залучить, только он и слушать не хотел.
Все жил он с думкой горькою, в ожидании страшной минуты той, когда железный волк явится за обещанным и даже косточки от него не оставит. Увидали люди, что чахнет добрый молодец, как цветок от осенних заморозков, да и сказали ему без обиняков: "Женись, парень, чего мешкаешь". Он туда-сюда, все им зубы заговаривал. Но однажды так его прижали, что не смог отвертеться от ответа прямого, да и молвил:
— Эх, люди добрые, женился бы я, не задумался бы, да вот боюсь, что как затею свадьбу, придет железный волк и съест меня. — И рассказал он им все, как было.
— Ну, вот еще чего убоялся!
— Женись, парень, не посмеет волк сюда к нам прийти, а если и сунется, знаем мы, как шкуру серую с него содрать.
— Нашел, чего бояться, женись, не тужи, ну а волк пусть только появится, найдем мы на него управу.
— Не такие уж мы лопоухие, чтобы волк к нам сам на рожон шел; закатывай свадьбу, парень, не раздумывай.
Послушался парень советчиков своих да и решил жениться.
Веселье и радость царили на свадьбе этой, танцам не было конца, но только собрались все у столов накрытых, чтобы выпить в честь молодых, — как из-под земли железный волк вырос, вот-вот готовый жениха схватить.
Все окаменели от ужаса, никто ведь от сотворения мира не видал волка такого. Весь железный, клыки длинные и острые, глаза большие, как тарелки, хвост, что тополь, а сам такой тяжелый, что еле его земля носила.
— Ау-ау! жених счастливый, проглочу тебя я живо, — завыл волк, зубами щелкая.
А на столе перед женихом лежал каравай и, чувствуя, что будет худо, и свадьба сулит вместо радости влюбленных — слезы, стон и похороны; вместо песен, вместо скрипки — горестной вдовицы крики, заговорил каравай громким голосом:
— Остановись-ка, волк железный, потерпи немного да меня послушай.
Не очень-то хотелось волку слушать, но присел он и внимает.
— Перед тем, как в землю меня посадить, семена мои известкой посыпают, брызгают, протравляют, а я все терплю, терпи и ты, волк!
— Терплю! — воскликнул волк.
— Затем меня выносят в поле чистое, засыпают в сеялки лучистые да хоронят в землю теплую. А я терплю, терпи и ты волк!
— Терплю!
— А в земле я оживаю, все покровы пробиваю, поле зеленеет, земля молодеет, а зимою от морозов лицо мое леденеет. Затем снег меня укроет, злятся вихри надо мною, задувают, заметают, что и след мой исчезает, а я терплю, терпи и ты, волк!
— Терплю!
— А когда весна приходит, то согреет, то подморозит, а потом, как станет теплее, землю боронами разрыхляют и катком меня давят; я терплю, терпи и ты, волк!
— Терплю!
— А еще подожди, хлынут дожди, я расту все выше, ветры колосья колышут, к земле безжалостно гнут, а потом люди меня жнут, косами, серпами, комбайнами-молодцами, а затем меня молотят, по бокам колотят, насыпают в тары и везут в амбары, а я терплю, терпи и ты, волк!
— Терплю!
— А из амбаров меня на мельницу отвозят. Ох, не легок труд, жерновами трут, растирают, в муку превращают, а я терплю, терпи и ты волк!
— Терплю.
— С мельницы, волчонок мой, везут меня домой, на весах взвесят, в квашне замесят, на куски разрезают, в печь на угли сажают, а я терплю, терпи и ты, волк!
— Терплю.
— А вот, если легкая рука, то и хлеб хоть куда, а коль месят без уменья, то и хлеб весь никудышный, лопнувший. Лопни и ты, волк!
— Лопну! — и только промолвил это волк, тут же лопнул на мелкие кусочки.
Раздалось опять на свадьбе веселье. Целый месяц пиры не прекращались.
И я на той свадьбе был, там я сказку эту услыхал, да и вам точь-в-точь рассказал.

Примечания
1
М. Горький. Собр. соч. т. 27, 1953, стр. 299–300.
(обратно)
2
М. Горький. Собр. соч. т. 24, 1953, стр. 26.
(обратно)
3
А. И. Яцимирский. Румынские параллели и отрывки в некоторых произведениях А. С. Пушкина. Варшава (оттиск). 1901, стр. 29.
(обратно)
4
Н. Пиксанов. Горький и национальные литературы, М., 1946, стр. 17.
(обратно)
5
Бордей — землянка, погреб.
(обратно)
6
Тынжалэ — добавочное дышло при запряжке двух пар волов.
(обратно)
7
Перепеляк — в крестьянском дворе сучковатый кол, на котором хозяйки вешают горшки и посуду для просушки.
(обратно)
8
Думан, Телешман — клички волов.
(обратно)
9
Микидуца — так называют чертенят в молдавских сказках.
(обратно)
10
Лаица — вделанная в пол скамья-лежанка.
(обратно)
11
Фэт-Фрумос — прекрасный юноша, герой молдавских легенд и сказок.
(обратно)
12
Согласно распространенному в то время поверью, можно было обмануть смерть, переменив имя больного.
(обратно)
13
Муждей — тертый чеснок с уксусом и солью.
(обратно)
14
Жок — танцы в молдавской деревне.
(обратно)
15
Стату-Палма-Барба-Кот — легендарный персонаж молдавских народных сказок, о внешности которого говорит само его имя (Рост в Ладонь, Борода с Локоть).
(обратно)
16
Жерила — герой молдавских народных сказок, терпящий ужасные муки от мороза (жер по-молд. — мороз).
(обратно)
17
Флэмынзила — герой молдавских народных сказок, ненасытный обжора (флэмынд по-молд. — голодный).
(обратно)
18
Сетила — герой молдавских сказок, мучимый неутолимой жаждой (сете по-молд. — жажда).
(обратно)
19
Окила, Орбила, Кьорила, Пындила — герои молдавских сказок (окь — глаз; орб — слепой; кьор — кривой; пынди — подстерегать). Далее следуют вымышленные названия городов и сел (кити — искать; нимери — попадать; сэ-л-каць — ищи его; каутац-ши-де-ур-мэ-ну-й-май-даць — ищите да не отыщите).
(обратно)
20
Пэсэрэ по-молд. — птица; лэци — ширить; лунжи — удлинять.
(обратно)
21
Войско папуково — сброд, голытьба.
(обратно)
22
Леи — румынские деньги.
(обратно)
23
Клака — деревенское собрание, где веселятся и работают сообща.
(обратно)
24
Если в семье верховодит муж, говорят, что петух в доме поет, если жена, — говорят, что поет курица.
(обратно)
25
Турбинка — торба, котомка.
(обратно)
26
Сариндар — плата за церковную службу.
(обратно)
27
Голия — монастырь и дом умалишенных в Яссах.
(обратно)
28
Цуйка — сливовая водка.
(обратно)
29
Прут — река в Молдавии.
(обратно)
30
Пештиман — крестьянская юбка.
(обратно)
31
Здесь и дальше стихи даются в переводе А. Комаровского.
(обратно)
32
Валяльная мастерская, вырабатывающая войлок и грубое сукно.
(обратно)
Оглавление
МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ
Ион Крянгэ
СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ
КОЗА И ТРОЕ КОЗЛЯТ
КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ
ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК
СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ
СКАЗКА ПРО СТАНА — ВИДЫ ВИДАВШЕГО
СКАЗКА ПРО БЕЛОГО АРАПА
ДОЧЬ СТАРУХИ И ДОЧЬ СТАРИКА
ИВАН ТУРБИНКА[25]
СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ
ПЯТЬ ХЛЕБОВ
Михаил Эминеску
ФЭТ-ФРУМОС ИЗ СЛЕЗЫ РОЖДЕННЫЙ
КЭЛИН ДУРЕНЬ
НОРА ВЕТРА
КРАСА МИРА
КРЕСТНИК БОЖИЙ
Митрофан Опря
ИОН МУГУРЯНУ
БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА О ДВУХ ДЕВИЦАХ
УМНАЯ ДЕВИЦА
СКАЗКА О ЖАДНОМ ВОЛКЕ
Трифан Балтэ
ВАСИЛЕ-ДУРАЧОК
СКАЗКА О ШТЕФЭНЕЛЕ
ФИЛИМОН И АРАП
Народные сказки
ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА
ТЕБЕ ДОСТАЛАСЬ ОДНА ДУША, А МНЕ — ДВЕ
ЛЕЙСЯ СВЕТ ВПЕРЕДИ, ТЬМА СТЕЛИСЬ ПОЗАДИ
КЫРМЫЗА
ФЭТ-ФРУМОС И СОЛНЦЕ
БАЗИЛИК ЗЕЛЕНЫЙ И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ
КРЕМЕНЬ-МОЛОДЕЦ
ДАФИН И ВЕСТРА
БАЗИЛИК ФЭТ-ФРУМОС И ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА, СЕСТРА СОЛНЦА
МАРКУ БОГАТЕЙ
ТРИ БРАТА
КРАСНОГЛАЗЫЙ МЕЛЬНИК
КОГДА ЗА ДОБРО ЗЛОМ ПЛАТЯТ
КОНЬ И МЕДВЕДЬ
СЛУГА И БАРИН
ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ С КУПЦАМИ
ПОВАР И БАРИН
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК
*** Примечания ***  МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ
МОЛДАВСКИЕ СКАЗКИ
 СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ
СВЕКРОВЬ И ЕЕ НЕВЕСТКИ
 Жила-была старуха, и было у нее трое сыновей, высоких, как дубы, и очень послушных, но не очень-то умных.
Немалая усадьба крестьянская, дедовский дом со всем его скарбом, виноградничек да отличный плодовый сад, скотина и множество птицы составляли хозяйство старухи. К тому же и денежек белых отложила она про деньки черные, ибо десятью узлами вязала каждую денежку и тряслась над каждым грошем. Чтобы не отпускать от себя сыновей, поставила старуха еще два дома рядом — один справа, другой слева от дедовского. Но тут же накрепко решила сынов своих и будущих невесток возле себя держать, в дедовском доме, и никакого раздела не учинять до самой кончины своей. Так и сделала; и сердце ее смеялось и радовалось при одной только мысли о том, как счастлива будет она, когда станут ей сыны помогать, а будущие невестки ласкать ее да нежить. Нередко так про себя думала: "Буду за невестками приглядывать, за работу их засажу, в узде держать буду, а в отсутствии сыновей ни на шаг не позволю отойти от дому. Моя-то свекровь — да будет ей земля пухом! — так же со мной поступала. И мой муженек — упокой его, господи! — не мог пожаловаться, что я ему неверна была, или добро его по ветру пустила… хоть и были иногда подозрения… и корил он меня… но теперь это дело прошлое".
Все три старухины сына занимались извозом, зарабатывая немало денег. Но вот пришла пора старшему жениться: почуяла это дело баба, волчком завертелась, ища ему невесту. Пять ли, шесть ли сел обшарила, еле-еле невестку себе по вкусу нашла — не больно молодую, высокую, сухопарую, зато работящую и покорную. Не ослушался сын матери, справили свадьбу, и надела старуха свекровью рубаху, да еще с неразрезанным воротом, а это значит, что не должна быть свекровь сварливой и с утра до вечера всех поедом есть.
Как сыграли свадьбу, отправились сыновья по своим делам, а невестка со свекровью дома осталась. В тот же день принялась старуха невесткину жизнь налаживать. Считала она, что новому ситу не на полке место. "Зачем я ухват себе сделала? Чтобы не обжигаться" — говорила она. Залезает она проворно на чердак, спускает оттуда кадку с перьями, еще от покойной свекрови, несколько связок конопли и четверик-другой проса.
— Вот я, невестушка, придумала, что тебе по ночам делать-то. Ступку возьмешь в кладовой рядом, веретена в кубышке под лавкой, а прялку за печкой. Когда наскучит перья щипать, будешь зерно толочь, а муж с дороги вернется — приготовим пилав со свиными копчеными ребрышками и на славу полакомимся! Теперь же, чтобы передохнуть, сунь себе прялку за пояс, до утра пряжу спряди, общипи перья и зерно истолки. Сама я прилягу маленько, а то все кости трещат после свадьбы вашей. Знай однако же, что сплю я по-заячьи и окромя этой пары глаз есть у меня ещё на затылке и третий, который всегда открыт и видит и днем и ночью, что в доме творится. Понятно, что я сказала?
— Да, маменька. Вот бы только поесть чего…
— Поесть? Одной луковицы, головки чеснока, куска холодной мамалыги с полки за глаза хватит для такой молодухи, как ты. Молоко, брынзу, масло и яйца лучше соберем да на рынок отнесем, чтобы хоть сколько денег сколотить; в доме одним едоком больше стало, того и гляди, не на что будет поминки по мне справить.
Когда наступил вечер, улеглась баба в постель, лицом к стене, чтобы свет от коптилки не мешал, не забыв еще раз напомнить невестке, что будет за нею присматривать; но сон ее тут же сморил. Пока баба храпела, бедная невестка трудилась не покладая рук: то перья общипывала, то на пряжу поплевывала, то зерно толкла, шелуху веяла. Когда же сон ей глаза туманил, умывала она лицо студеной водой, чтобы не приметила чего недреманная свекровь да на нее не прогневалась. Промаялась бедняжка далеко за полночь, а к рассвету одолел ее сон, и заснула она посреди перьев, конопли, веретен с пряжей и просяной шелухи. Старуха же, поскольку с курами спать легла, поднялась ни свет, ни заря и давай по дому, топать да дверьми хлопать — бедная невестка и задремать не успела как следует, а волей-неволей пришлось встать, руку у свекрови поцеловать, показать, что за ночь наработала. Мало-помалу притерпелась невестка, и баба осталась довольна своим выбором.
Через несколько дней воротились сыновья домой, и молодая жена при виде мужа позабыла свои печали.
Вскоре пристроила баба и среднего сына. Невестку себе выбрала по образу и подобию первой. Правда, чуть постарше и немного косую при этом, зато работягу на редкость.
После свадьбы снова уехали сыновья в извоз, и опять остались невестки со свекровью дома. Как повелось, задала она им работу полной мерой, а сама, как свечерело, так и улеглась, наказав невесткам быть прилежными и не заснуть ненароком, ибо видит их око ее недреманное.
Старшая невестка рассказала другой про всевидящий глаз свекрови, стали они друг дружку подгонять, и с тех пор работа так и горела в их руках. А свекровь как сыр в масле каталась.
Однако не все коту масленица. Много ли, мало ли прошло, — наступает время и младшему жениться. Очень хотелось старухе неразлучную троицу невесток иметь, и приглядела она заранее девушку. Но не всегда так сбывается, как желается, выходит и так, как случается. В одно прекрасное утро приводит сынок невестку к маменьке в дом. Почесала старуха затылок, туда-сюда, ан делать нечего; хочешь не хочешь, справили свадьбу — и все тут!
После свадьбы снова разъехались мужья по своим делам, а невестки со свекровью дома остались. Опять задает им старуха работу, и лишь наступает вечер, спать укладывается, как обычно. Старшие невестки, видя, что молодая к работе не льнет, говорят:
— Ты не отлынивай, а то ведь маменька видит нас.
— Как так? Ведь она спит. И потом разве это дело — нам работать, а ей спать?
— Ты не смотри, что маменька храпит, — говорит средняя. — На затылке у нее недреманное око есть, которым видит она все, что мы делаем, а ведь ты маменьку нашу не знаешь, рассола ее еще не хлебала.
— На затылке?.. Все видит?.. Рассола ее не хлебала?.. Хорошо, что напомнили… Чего бы нам, девчата, поесть, а?
— Жареных слюнок, золовушка милая… А уж коли вовсе невтерпеж, возьми из шкафчика кусок мамалыги с луковицей и ешь.
— Лук с мамалыгой? Да в нашем роду испокон века такого никто не едал. Разве нету сала на чердаке? Масла нет? Яиц пег?
— Как же, все есть, — отвечают старшие, — да только маменькино это.
— Я так думаю — все, что маменькино, то и наше, а что наше, то и ее. Золовушки, ну-ка шутки в сторону. Вы работайте, а я чего-нибудь вкусненького настряпаю и вас позову.
— Да что ты в самом деле?! — испугались старшие. — Думаешь, нам жизнь надоела? На улицу баба выгонит…
— Ничего с вами не станется. Если начнет вас расспрашивать, все "а меня валите, я за всех отвечать буду.
— Ну… если так… делай, как знаешь; только нас, смотри, в беду не впутывай.
— Перестаньте, девчата, замолчите. Ни к чему мне мир, дорога ссора.
И вышла, напевая:
Жила-была старуха, и было у нее трое сыновей, высоких, как дубы, и очень послушных, но не очень-то умных.
Немалая усадьба крестьянская, дедовский дом со всем его скарбом, виноградничек да отличный плодовый сад, скотина и множество птицы составляли хозяйство старухи. К тому же и денежек белых отложила она про деньки черные, ибо десятью узлами вязала каждую денежку и тряслась над каждым грошем. Чтобы не отпускать от себя сыновей, поставила старуха еще два дома рядом — один справа, другой слева от дедовского. Но тут же накрепко решила сынов своих и будущих невесток возле себя держать, в дедовском доме, и никакого раздела не учинять до самой кончины своей. Так и сделала; и сердце ее смеялось и радовалось при одной только мысли о том, как счастлива будет она, когда станут ей сыны помогать, а будущие невестки ласкать ее да нежить. Нередко так про себя думала: "Буду за невестками приглядывать, за работу их засажу, в узде держать буду, а в отсутствии сыновей ни на шаг не позволю отойти от дому. Моя-то свекровь — да будет ей земля пухом! — так же со мной поступала. И мой муженек — упокой его, господи! — не мог пожаловаться, что я ему неверна была, или добро его по ветру пустила… хоть и были иногда подозрения… и корил он меня… но теперь это дело прошлое".
Все три старухины сына занимались извозом, зарабатывая немало денег. Но вот пришла пора старшему жениться: почуяла это дело баба, волчком завертелась, ища ему невесту. Пять ли, шесть ли сел обшарила, еле-еле невестку себе по вкусу нашла — не больно молодую, высокую, сухопарую, зато работящую и покорную. Не ослушался сын матери, справили свадьбу, и надела старуха свекровью рубаху, да еще с неразрезанным воротом, а это значит, что не должна быть свекровь сварливой и с утра до вечера всех поедом есть.
Как сыграли свадьбу, отправились сыновья по своим делам, а невестка со свекровью дома осталась. В тот же день принялась старуха невесткину жизнь налаживать. Считала она, что новому ситу не на полке место. "Зачем я ухват себе сделала? Чтобы не обжигаться" — говорила она. Залезает она проворно на чердак, спускает оттуда кадку с перьями, еще от покойной свекрови, несколько связок конопли и четверик-другой проса.
— Вот я, невестушка, придумала, что тебе по ночам делать-то. Ступку возьмешь в кладовой рядом, веретена в кубышке под лавкой, а прялку за печкой. Когда наскучит перья щипать, будешь зерно толочь, а муж с дороги вернется — приготовим пилав со свиными копчеными ребрышками и на славу полакомимся! Теперь же, чтобы передохнуть, сунь себе прялку за пояс, до утра пряжу спряди, общипи перья и зерно истолки. Сама я прилягу маленько, а то все кости трещат после свадьбы вашей. Знай однако же, что сплю я по-заячьи и окромя этой пары глаз есть у меня ещё на затылке и третий, который всегда открыт и видит и днем и ночью, что в доме творится. Понятно, что я сказала?
— Да, маменька. Вот бы только поесть чего…
— Поесть? Одной луковицы, головки чеснока, куска холодной мамалыги с полки за глаза хватит для такой молодухи, как ты. Молоко, брынзу, масло и яйца лучше соберем да на рынок отнесем, чтобы хоть сколько денег сколотить; в доме одним едоком больше стало, того и гляди, не на что будет поминки по мне справить.
Когда наступил вечер, улеглась баба в постель, лицом к стене, чтобы свет от коптилки не мешал, не забыв еще раз напомнить невестке, что будет за нею присматривать; но сон ее тут же сморил. Пока баба храпела, бедная невестка трудилась не покладая рук: то перья общипывала, то на пряжу поплевывала, то зерно толкла, шелуху веяла. Когда же сон ей глаза туманил, умывала она лицо студеной водой, чтобы не приметила чего недреманная свекровь да на нее не прогневалась. Промаялась бедняжка далеко за полночь, а к рассвету одолел ее сон, и заснула она посреди перьев, конопли, веретен с пряжей и просяной шелухи. Старуха же, поскольку с курами спать легла, поднялась ни свет, ни заря и давай по дому, топать да дверьми хлопать — бедная невестка и задремать не успела как следует, а волей-неволей пришлось встать, руку у свекрови поцеловать, показать, что за ночь наработала. Мало-помалу притерпелась невестка, и баба осталась довольна своим выбором.
Через несколько дней воротились сыновья домой, и молодая жена при виде мужа позабыла свои печали.
Вскоре пристроила баба и среднего сына. Невестку себе выбрала по образу и подобию первой. Правда, чуть постарше и немного косую при этом, зато работягу на редкость.
После свадьбы снова уехали сыновья в извоз, и опять остались невестки со свекровью дома. Как повелось, задала она им работу полной мерой, а сама, как свечерело, так и улеглась, наказав невесткам быть прилежными и не заснуть ненароком, ибо видит их око ее недреманное.
Старшая невестка рассказала другой про всевидящий глаз свекрови, стали они друг дружку подгонять, и с тех пор работа так и горела в их руках. А свекровь как сыр в масле каталась.
Однако не все коту масленица. Много ли, мало ли прошло, — наступает время и младшему жениться. Очень хотелось старухе неразлучную троицу невесток иметь, и приглядела она заранее девушку. Но не всегда так сбывается, как желается, выходит и так, как случается. В одно прекрасное утро приводит сынок невестку к маменьке в дом. Почесала старуха затылок, туда-сюда, ан делать нечего; хочешь не хочешь, справили свадьбу — и все тут!
После свадьбы снова разъехались мужья по своим делам, а невестки со свекровью дома остались. Опять задает им старуха работу, и лишь наступает вечер, спать укладывается, как обычно. Старшие невестки, видя, что молодая к работе не льнет, говорят:
— Ты не отлынивай, а то ведь маменька видит нас.
— Как так? Ведь она спит. И потом разве это дело — нам работать, а ей спать?
— Ты не смотри, что маменька храпит, — говорит средняя. — На затылке у нее недреманное око есть, которым видит она все, что мы делаем, а ведь ты маменьку нашу не знаешь, рассола ее еще не хлебала.
— На затылке?.. Все видит?.. Рассола ее не хлебала?.. Хорошо, что напомнили… Чего бы нам, девчата, поесть, а?
— Жареных слюнок, золовушка милая… А уж коли вовсе невтерпеж, возьми из шкафчика кусок мамалыги с луковицей и ешь.
— Лук с мамалыгой? Да в нашем роду испокон века такого никто не едал. Разве нету сала на чердаке? Масла нет? Яиц пег?
— Как же, все есть, — отвечают старшие, — да только маменькино это.
— Я так думаю — все, что маменькино, то и наше, а что наше, то и ее. Золовушки, ну-ка шутки в сторону. Вы работайте, а я чего-нибудь вкусненького настряпаю и вас позову.
— Да что ты в самом деле?! — испугались старшие. — Думаешь, нам жизнь надоела? На улицу баба выгонит…
— Ничего с вами не станется. Если начнет вас расспрашивать, все "а меня валите, я за всех отвечать буду.
— Ну… если так… делай, как знаешь; только нас, смотри, в беду не впутывай.
— Перестаньте, девчата, замолчите. Ни к чему мне мир, дорога ссора.
И вышла, напевая:
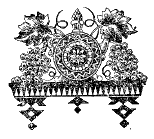
 КОЗА И ТРОЕ КОЗЛЯТ
КОЗА И ТРОЕ КОЗЛЯТ

 КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ
КОШЕЛЕК С ДВУМЯ ДЕНЕЖКАМИ

 ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК
ДАНИЛА ПРЕПЕЛЯК

 СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ
СКАЗКА О ПОРОСЕНКЕ
 Сказывают, жили когда-то дед да баба; деду сто лет исполнилось, а бабе девяносто. И оба они были белее зимы и пасмурнее ненастья оттого, что детей не имели. Очень уж хотелось иметь им ребенка, хоть одного, ибо дни и ночи напролет проводили они, как сычи, одиноко, даже в ушах от тоски звенело. Да и жили они не бог весть в каком достатке: лачуга никудышная, рваные тряпки на лаицах[10] — вот и все их добро. А с некоторых пор и вовсе тоска их загрызла, ибо ни одна душа к ним беднякам, как к зачумленным, не заглядывала.
Однажды вздохнула баба тяжко и говорит деду:
— Дед, а дед! С каких пор себя помним, никто нас "отцом-матерью" не назвал! Не грех ли этак и жить на белом свете? Потому я так думаю, что в доме, где нет детей, и благословения божьего быть не может.
— Так-то оно так, баба, да что против воли божьей поделаешь?
— Верно, старче, твоя правда. Только знаешь, что я ночью надумала?
— Буду знать, баба, коли скажешь.
— Завтра, как день забрезжит, встань и ступай, куда глаза глядят. И кто бы ни вышел первым тебе навстречу, человек ли, змея ли, другая ли тварь какая, клади в котомку и домой неси. Вырастим его как сумеем, и быть ему нашим дитятком.
Дед, которому тоже одиночество опостылело и детей иметь хотелось, встал на другой день чуть свет и с котомкой на палке пошел, как баба сказала… Идет он, идет по оврагам, пока не набрел на большую лужу, а в луже той свинья с двенадцатью поросятами барахтается, на солнце греется. Приметила свинья деда, захрюкала, прочь побежала, а поросята за ней. Только один, поплоше, сапной, шелудивый весь, увязнув в грязи, на месте остался.
Схватил его дед, сунул в котомку каким был — полным грязи и прочих прелестей — и домой.
"Слава тебе, господи, — думает дед, — что смогу моей бабе утешение доставить. Кто знает, бог ли, черт ли ее надоумил?…"
Вернулся дед домой, говорит:
— Вот, баба, какое дитятко я тебе, принес! Пусть будет жив и здоров! На славу сынишка, чернобровый, ясноглазый, лучше некуда! Весь в тебя, просто вылитый! А теперь готовь корыто и обмой его, как ребят обмывают, потому что, сама видишь, запылился малость малютка…
— Старче, старче, — говорит баба, — не смейся. Тоже это тварь божья, как и мы. Может, еще и безвиннее нашего.
Проворнее девчонки разводит она щелок, баньку готовит и, зная толк в повивальном деле, обмывает поросенка, маслом из коптилки хорошенько суставы смазывает, за нос его тянет, щекочет, чтобы от глаза заговорить. Щетинку потом расчесала и так за ним ухаживать стала, что через день-другой и вовсе его выходила. На очистках, на отрубях стал здороветь и расти поросенок на глазах, так что глядеть было любо-дорого. А баба не знала куда деваться на радостях, что такой у неё сынок — пригожий, упитанный, свежий, как огурчик. Хоть бы весь свет говорил, что некрасив он и груб, она одно заладила: мол, другого такого нет и быть не может! Одну только обиду носила баба на сердце: что не может сынок отцом-матерью называть их.
Собрался однажды дед в город купить кой-чего.
— Старче, — говорит баба, — не забудь стручков сладких для нашего мальчика купить, очень уж он их любит, малышенька наш.
— Ладно, старуха, — отвечает дед, а сам думает: "Леший его возьми, рыло свинячье, житья от него не стало. На себя хлеба и соли не хватает, а тут откармливай его сластями… Если стану старухе во всем потакать, дом прахом пойдет!"
Отправился дед в город, все дела свои сделал, вернулся домой, а баба спрашивает:
— Ну, старче, что в городе слышно?
— Да что слышно, старуха, не больно хорошо; хочет царь дочь свою замуж выдать.
— И что же в этом, старче, дурного?
— Погоди маленько, старуха, не об этом одном речь. От того, что услышал я, волосы на голове дыбом встали. Думаю, когда тебе все как есть расскажу, тоже дрожмя задрожишь!
— В чем же дело-то, старче? Ишь, беда какая!
— Ты же слушай, старуха. Послал царь по всему свету гонцов: кто от своего дома до царского дворца золотой мост проложит, каменьями драгоценными вымощенный, по обеим сторонам деревьями обсаженный, на которых бы всевозможные птицы распевали, каких больше нигде на свете нету, тому он дочь свою в жены отдаст да еще полцарства в придачу. А тому, кто осмелится руки царевниной просить, а моста такого, как велено, сделать не сможет, — на месте голову рубить будут. И как слышно, немало королевичей и царевичей невесть откуда понаехало, но ни один с тем не справился; и никому от царя пощады не было, всех казнить велел, и стонет народ от жалости к ним! Что ж ты, старуха, скажешь? Добрые разве это вести? Да еще говорят, сам-то царь заболел с горя!
— Ох, старче, ох! Болезни-то царские нашего здоровья здоровей! А вот царевичей жалко мне; сердце разрывается, когда подумаю, как страдают и горюют матери ихние! Хорошо, что наш сынок говорить не умеет и до всех этих страхов ему и дела нет.
— Это, конечно, неплохо, баба. Но еще лучше тому, чей сын тот мост построит и царскую дочку в жены получит; уж он-то нужду оседлает и славу большую добудет.
Пока старики вели беседу, поросенок лежал на подстилке под печкой, задрав рыльце кверху и не сводя с них глаз; слушал и только пофыркивал. И вдруг из-под печки доносится: "Отец, мать, я тот мост сделаю". Баба от радости языка лишилась. А дед, испугавшись нечистой силы, стал оглядываться, ищет, откуда тот голос. Никого не увидев, пришел он немножко в себя, а свиненок снова кричит:
— Не бойся, отец, я это… Успокой мать и ступай к царю, скажи, что я тот мост сделаю.
— А сумеешь ли сделать, дитятко милое? — изумился дед.
— Положись на меня, отец. Ступай да скажи царю, что я тебе велел.
Старуха, очнувшись, стала сынка целовать, уговаривать:
— Сыночек милый, родной! Не лезь головой в петлю! На кого нас покинешь? Останемся мы одни средь чужих людей, с разбитым сердцем, без опоры на старости лет.
— Не печалься, мать, не тревожься. Если буду жить и не умру, увидишь, кто я таков.
Что было старику делать? Расчесал он бороду, волосок к волоску, посох свой стариковский взял и пошел. Как прибыл в город, не мешкая во дворец явился. Один из стражников, увидев его, спрашивает:
— Чего тебе, старче, надобно?
— Да вот, дело у меня к царю. Сын мой берется мост ему сделать.
Стражник, зная приказ, без долгих слов доставляет деда к царю. Спрашивает царь у деда:
— Зачем, старче, ко мне пожаловал?
— Долгие годы жить тебе в счастье, великий и пресветлый государь? Сын мой, прослышав, что дочка у тебя на выданье, отправил меня к твоему царскому величеству доложить, что может он тот мост справить.
— Если может, то пусть делает, старче. Достанется ему тогда дочь моя и полцарства в придачу. А не сможет, пусть тогда на себя пеняет… Слыхал ведь, что с другими сталось, познатнее его? Так вот, если с руки тебе, то ступай, приводи сына. А нет, уходи подобру-поздорову, дурь из головы выкинь.
Поклонился дед до земли, домой пошел за сыном. Обрадовался поросенок, узнав о царских словах, стал играть и резвиться, под лаицами пробежался, рыльцем горшок-другой перевернул, говорит:
— Пойдем, отец, я царю представлюсь!
Заохала баба, запричитала:
— Видно, нет у меня счастья в жизни! Сколько натерпелась, пока сына вырастила, выходила. А теперь?.. Чует мое сердце, что без него останусь.
И со страху и горя чувств лишилась.
А старик, недолго думая, шапку на уши нахлобучил, взял свой посох, и говорит:
— Пойдем, сынок, матери невестку добудем!
Поросенок на радостях как пробежится под лаицами и за дедом следом. Бежит, визжит, землю нюхает, свинья-свиньей. Добрались они до дворцовых ворот, а стражники, как завидели их, меж собой переглядываются, со смеху покатываются.
— Это что же такое, старче? — спрашивает один из них.
— А это сынок мой, что берется для царя мост проложить.
— Господи, боже, — говорит один из стражников, постарше других, — не горазд же ты, старик, умом. Или жизнь тебе надоела?
— Да уж что суждено человеку, то на лбу у него написано. Двум смертям не бывать, одной не миновать.
— Ты, старик, видать, беды себе ищешь днем с огнем, — сказал стражник.
— До этого вам дела нет, — ответил дед. — Держите лучше язык за зубами и дайте знать царю, что явились мы.
Снова переглянулись стражники между собой, пожали плечами, и один из них отправился к царю доложить о старике и его поросенке. Вызывает их царь к себе. Дед, как вошел, в ноги поклонился, смирнехонько стал у двери. Поросенок же пробежался по коврам, захрюкал, весь дом обнюхивает.
Стало царю от такой дерзости смешно, а потом рассердился он и сказал:
— Ладно, старче, когда пришел ты в тот раз, вроде был в своем уме. — Да знаешь ли ты, куда свиней приводишь? Кто, скажи, тебя надоумил над самим царем шутки шутить?
— Упаси господи, великий государь, и подумать мне, старику, об этаком! Уж ты не прогневайся, великий государь, но только это сынок мой, который, ежели помнить изволишь, прислал меня однажды к тебе.
— Уж не он ли мне мост построит?
— Так мы с надеждой на бога думаем, великий государь.
— Тогда бери свинью твою и вон отсюда. А если до завтрашнего утра мост не будет готов, то быть голове твоей, старче, там, где пятки твои теперь. Понял?
— Милостив бог, великий государь. Зато если выполним повеление твое, государь, то уж не прогневайся, дочь свою шли к нам домой.
С этими словами поклонился старик низко, забрал поросенка и пошел домой. А за ним несколько солдат увязалось, ибо приказал царь взять его под стражу до утра, разузнать, как да что?… Потому что смех да толки, да расспросы пошли по дворцу и повсюду про такую неслыханную дерзость.
К вечеру явился дед с поросенком домой, и старуха так и затряслась со страху, заохала, застонала:
— Ой, старче, старче, что за беду ты мне в дом принес! Солдат мне только не хватало!
— Еще ты смеешь шуметь, старуха? Твоих это рук дело. Послушался я глупой твоей головы, пошел по оврагам приемыша тебе добывать. Вот и в беду попали! Потому не я привел солдат, а они меня привели. И голове моей, пожалуй, лишь до утра суждено там быть, где теперь она.
Между тем поросенок по хате бегает, ищет, чем поживиться, и никакого дела ему нет до всего, что натворил. Спорят старики меж собой, спорят, а под утро, как ни встревожены были, уснули. Поросенок тогда на лаицу тихонько взобрался, в окошке бычий пузырь выбил, дохнул — и словно два огненных вала потянулись от лачуги до самых царских палат. И в один миг чудо-мост был готов со всем, что ему полагалось. Лачуга же дедова превратилась во дворец, куда лучше и краше царского. Вскинулись старик со старухой — а на них одежды царские пурпурные, и все сокровища мира во дворце у них. А поросенок играет себе да резвится, да на мягких коврах нежится.
По всему царству разнесся слух про столь великое чудо. Сам царь и советники царские до смерти перепугались. Созвал царь совет и, решив дочь свою за старикова сына выдать, тут же и отослал ее. Потому что хоть и был он царь, а про все на свете забыл, кроме одного — страха!
Свадьбу не справляли, ибо с кем было справить? Царевне, когда к жениху приехала, по душе пришлись и дворец, и родители мужнины. Зато как жениха увидала — сама не своя стала. А потом повела плечами и подумала:
— Если так рассудили родители мои и господь бог, пусть так и остается!
И стала она хозяйничать в новом доме.
День-деньской поросенок, как и раньше, по дому рыскал, а к ночи свиную кожу с себя сбрасывал и становился прекрасным царевичем. Вскоре привыкла к нему молодая жена, и не так уже ей было тоскливо, как прежде.
Через неделю-другую соскучилась она по родителям и решила навестить их, а мужа дома оставила — не показываться же с ним на людях! Обрадовались ей отец с матерью, стали о хозяйстве, о муже расспрашивать, и рассказала она им все как есть. Тогда ей отец такой совет дал:
— Дочь моя милая! Упаси тебя бог мужу вред какой причинить, а то навлечешь на себя беду! Кто бы он ни был, а власть имеет большую, непостижимую, коли сумел дела совершить превыше сил человеческих.
Немного спустя вышли обе царицы в сад на прогулку, и тут-то и научила старая царица молодую совсем по-иному:
— Доченька милая! Никакой у тебя жизни не будет, если не сможешь с мужем на людях бывать. Вот тебе мой совет: прикажи огонь большой в печи развести, и когда муж уснет, возьми ту кожу свиную и швырни в огонь, чтобы раз навсегда от нее избавиться!
— Верно говоришь, маменька. А мне вот и в голову не пришло…
Сказывают, жили когда-то дед да баба; деду сто лет исполнилось, а бабе девяносто. И оба они были белее зимы и пасмурнее ненастья оттого, что детей не имели. Очень уж хотелось иметь им ребенка, хоть одного, ибо дни и ночи напролет проводили они, как сычи, одиноко, даже в ушах от тоски звенело. Да и жили они не бог весть в каком достатке: лачуга никудышная, рваные тряпки на лаицах[10] — вот и все их добро. А с некоторых пор и вовсе тоска их загрызла, ибо ни одна душа к ним беднякам, как к зачумленным, не заглядывала.
Однажды вздохнула баба тяжко и говорит деду:
— Дед, а дед! С каких пор себя помним, никто нас "отцом-матерью" не назвал! Не грех ли этак и жить на белом свете? Потому я так думаю, что в доме, где нет детей, и благословения божьего быть не может.
— Так-то оно так, баба, да что против воли божьей поделаешь?
— Верно, старче, твоя правда. Только знаешь, что я ночью надумала?
— Буду знать, баба, коли скажешь.
— Завтра, как день забрезжит, встань и ступай, куда глаза глядят. И кто бы ни вышел первым тебе навстречу, человек ли, змея ли, другая ли тварь какая, клади в котомку и домой неси. Вырастим его как сумеем, и быть ему нашим дитятком.
Дед, которому тоже одиночество опостылело и детей иметь хотелось, встал на другой день чуть свет и с котомкой на палке пошел, как баба сказала… Идет он, идет по оврагам, пока не набрел на большую лужу, а в луже той свинья с двенадцатью поросятами барахтается, на солнце греется. Приметила свинья деда, захрюкала, прочь побежала, а поросята за ней. Только один, поплоше, сапной, шелудивый весь, увязнув в грязи, на месте остался.
Схватил его дед, сунул в котомку каким был — полным грязи и прочих прелестей — и домой.
"Слава тебе, господи, — думает дед, — что смогу моей бабе утешение доставить. Кто знает, бог ли, черт ли ее надоумил?…"
Вернулся дед домой, говорит:
— Вот, баба, какое дитятко я тебе, принес! Пусть будет жив и здоров! На славу сынишка, чернобровый, ясноглазый, лучше некуда! Весь в тебя, просто вылитый! А теперь готовь корыто и обмой его, как ребят обмывают, потому что, сама видишь, запылился малость малютка…
— Старче, старче, — говорит баба, — не смейся. Тоже это тварь божья, как и мы. Может, еще и безвиннее нашего.
Проворнее девчонки разводит она щелок, баньку готовит и, зная толк в повивальном деле, обмывает поросенка, маслом из коптилки хорошенько суставы смазывает, за нос его тянет, щекочет, чтобы от глаза заговорить. Щетинку потом расчесала и так за ним ухаживать стала, что через день-другой и вовсе его выходила. На очистках, на отрубях стал здороветь и расти поросенок на глазах, так что глядеть было любо-дорого. А баба не знала куда деваться на радостях, что такой у неё сынок — пригожий, упитанный, свежий, как огурчик. Хоть бы весь свет говорил, что некрасив он и груб, она одно заладила: мол, другого такого нет и быть не может! Одну только обиду носила баба на сердце: что не может сынок отцом-матерью называть их.
Собрался однажды дед в город купить кой-чего.
— Старче, — говорит баба, — не забудь стручков сладких для нашего мальчика купить, очень уж он их любит, малышенька наш.
— Ладно, старуха, — отвечает дед, а сам думает: "Леший его возьми, рыло свинячье, житья от него не стало. На себя хлеба и соли не хватает, а тут откармливай его сластями… Если стану старухе во всем потакать, дом прахом пойдет!"
Отправился дед в город, все дела свои сделал, вернулся домой, а баба спрашивает:
— Ну, старче, что в городе слышно?
— Да что слышно, старуха, не больно хорошо; хочет царь дочь свою замуж выдать.
— И что же в этом, старче, дурного?
— Погоди маленько, старуха, не об этом одном речь. От того, что услышал я, волосы на голове дыбом встали. Думаю, когда тебе все как есть расскажу, тоже дрожмя задрожишь!
— В чем же дело-то, старче? Ишь, беда какая!
— Ты же слушай, старуха. Послал царь по всему свету гонцов: кто от своего дома до царского дворца золотой мост проложит, каменьями драгоценными вымощенный, по обеим сторонам деревьями обсаженный, на которых бы всевозможные птицы распевали, каких больше нигде на свете нету, тому он дочь свою в жены отдаст да еще полцарства в придачу. А тому, кто осмелится руки царевниной просить, а моста такого, как велено, сделать не сможет, — на месте голову рубить будут. И как слышно, немало королевичей и царевичей невесть откуда понаехало, но ни один с тем не справился; и никому от царя пощады не было, всех казнить велел, и стонет народ от жалости к ним! Что ж ты, старуха, скажешь? Добрые разве это вести? Да еще говорят, сам-то царь заболел с горя!
— Ох, старче, ох! Болезни-то царские нашего здоровья здоровей! А вот царевичей жалко мне; сердце разрывается, когда подумаю, как страдают и горюют матери ихние! Хорошо, что наш сынок говорить не умеет и до всех этих страхов ему и дела нет.
— Это, конечно, неплохо, баба. Но еще лучше тому, чей сын тот мост построит и царскую дочку в жены получит; уж он-то нужду оседлает и славу большую добудет.
Пока старики вели беседу, поросенок лежал на подстилке под печкой, задрав рыльце кверху и не сводя с них глаз; слушал и только пофыркивал. И вдруг из-под печки доносится: "Отец, мать, я тот мост сделаю". Баба от радости языка лишилась. А дед, испугавшись нечистой силы, стал оглядываться, ищет, откуда тот голос. Никого не увидев, пришел он немножко в себя, а свиненок снова кричит:
— Не бойся, отец, я это… Успокой мать и ступай к царю, скажи, что я тот мост сделаю.
— А сумеешь ли сделать, дитятко милое? — изумился дед.
— Положись на меня, отец. Ступай да скажи царю, что я тебе велел.
Старуха, очнувшись, стала сынка целовать, уговаривать:
— Сыночек милый, родной! Не лезь головой в петлю! На кого нас покинешь? Останемся мы одни средь чужих людей, с разбитым сердцем, без опоры на старости лет.
— Не печалься, мать, не тревожься. Если буду жить и не умру, увидишь, кто я таков.
Что было старику делать? Расчесал он бороду, волосок к волоску, посох свой стариковский взял и пошел. Как прибыл в город, не мешкая во дворец явился. Один из стражников, увидев его, спрашивает:
— Чего тебе, старче, надобно?
— Да вот, дело у меня к царю. Сын мой берется мост ему сделать.
Стражник, зная приказ, без долгих слов доставляет деда к царю. Спрашивает царь у деда:
— Зачем, старче, ко мне пожаловал?
— Долгие годы жить тебе в счастье, великий и пресветлый государь? Сын мой, прослышав, что дочка у тебя на выданье, отправил меня к твоему царскому величеству доложить, что может он тот мост справить.
— Если может, то пусть делает, старче. Достанется ему тогда дочь моя и полцарства в придачу. А не сможет, пусть тогда на себя пеняет… Слыхал ведь, что с другими сталось, познатнее его? Так вот, если с руки тебе, то ступай, приводи сына. А нет, уходи подобру-поздорову, дурь из головы выкинь.
Поклонился дед до земли, домой пошел за сыном. Обрадовался поросенок, узнав о царских словах, стал играть и резвиться, под лаицами пробежался, рыльцем горшок-другой перевернул, говорит:
— Пойдем, отец, я царю представлюсь!
Заохала баба, запричитала:
— Видно, нет у меня счастья в жизни! Сколько натерпелась, пока сына вырастила, выходила. А теперь?.. Чует мое сердце, что без него останусь.
И со страху и горя чувств лишилась.
А старик, недолго думая, шапку на уши нахлобучил, взял свой посох, и говорит:
— Пойдем, сынок, матери невестку добудем!
Поросенок на радостях как пробежится под лаицами и за дедом следом. Бежит, визжит, землю нюхает, свинья-свиньей. Добрались они до дворцовых ворот, а стражники, как завидели их, меж собой переглядываются, со смеху покатываются.
— Это что же такое, старче? — спрашивает один из них.
— А это сынок мой, что берется для царя мост проложить.
— Господи, боже, — говорит один из стражников, постарше других, — не горазд же ты, старик, умом. Или жизнь тебе надоела?
— Да уж что суждено человеку, то на лбу у него написано. Двум смертям не бывать, одной не миновать.
— Ты, старик, видать, беды себе ищешь днем с огнем, — сказал стражник.
— До этого вам дела нет, — ответил дед. — Держите лучше язык за зубами и дайте знать царю, что явились мы.
Снова переглянулись стражники между собой, пожали плечами, и один из них отправился к царю доложить о старике и его поросенке. Вызывает их царь к себе. Дед, как вошел, в ноги поклонился, смирнехонько стал у двери. Поросенок же пробежался по коврам, захрюкал, весь дом обнюхивает.
Стало царю от такой дерзости смешно, а потом рассердился он и сказал:
— Ладно, старче, когда пришел ты в тот раз, вроде был в своем уме. — Да знаешь ли ты, куда свиней приводишь? Кто, скажи, тебя надоумил над самим царем шутки шутить?
— Упаси господи, великий государь, и подумать мне, старику, об этаком! Уж ты не прогневайся, великий государь, но только это сынок мой, который, ежели помнить изволишь, прислал меня однажды к тебе.
— Уж не он ли мне мост построит?
— Так мы с надеждой на бога думаем, великий государь.
— Тогда бери свинью твою и вон отсюда. А если до завтрашнего утра мост не будет готов, то быть голове твоей, старче, там, где пятки твои теперь. Понял?
— Милостив бог, великий государь. Зато если выполним повеление твое, государь, то уж не прогневайся, дочь свою шли к нам домой.
С этими словами поклонился старик низко, забрал поросенка и пошел домой. А за ним несколько солдат увязалось, ибо приказал царь взять его под стражу до утра, разузнать, как да что?… Потому что смех да толки, да расспросы пошли по дворцу и повсюду про такую неслыханную дерзость.
К вечеру явился дед с поросенком домой, и старуха так и затряслась со страху, заохала, застонала:
— Ой, старче, старче, что за беду ты мне в дом принес! Солдат мне только не хватало!
— Еще ты смеешь шуметь, старуха? Твоих это рук дело. Послушался я глупой твоей головы, пошел по оврагам приемыша тебе добывать. Вот и в беду попали! Потому не я привел солдат, а они меня привели. И голове моей, пожалуй, лишь до утра суждено там быть, где теперь она.
Между тем поросенок по хате бегает, ищет, чем поживиться, и никакого дела ему нет до всего, что натворил. Спорят старики меж собой, спорят, а под утро, как ни встревожены были, уснули. Поросенок тогда на лаицу тихонько взобрался, в окошке бычий пузырь выбил, дохнул — и словно два огненных вала потянулись от лачуги до самых царских палат. И в один миг чудо-мост был готов со всем, что ему полагалось. Лачуга же дедова превратилась во дворец, куда лучше и краше царского. Вскинулись старик со старухой — а на них одежды царские пурпурные, и все сокровища мира во дворце у них. А поросенок играет себе да резвится, да на мягких коврах нежится.
По всему царству разнесся слух про столь великое чудо. Сам царь и советники царские до смерти перепугались. Созвал царь совет и, решив дочь свою за старикова сына выдать, тут же и отослал ее. Потому что хоть и был он царь, а про все на свете забыл, кроме одного — страха!
Свадьбу не справляли, ибо с кем было справить? Царевне, когда к жениху приехала, по душе пришлись и дворец, и родители мужнины. Зато как жениха увидала — сама не своя стала. А потом повела плечами и подумала:
— Если так рассудили родители мои и господь бог, пусть так и остается!
И стала она хозяйничать в новом доме.
День-деньской поросенок, как и раньше, по дому рыскал, а к ночи свиную кожу с себя сбрасывал и становился прекрасным царевичем. Вскоре привыкла к нему молодая жена, и не так уже ей было тоскливо, как прежде.
Через неделю-другую соскучилась она по родителям и решила навестить их, а мужа дома оставила — не показываться же с ним на людях! Обрадовались ей отец с матерью, стали о хозяйстве, о муже расспрашивать, и рассказала она им все как есть. Тогда ей отец такой совет дал:
— Дочь моя милая! Упаси тебя бог мужу вред какой причинить, а то навлечешь на себя беду! Кто бы он ни был, а власть имеет большую, непостижимую, коли сумел дела совершить превыше сил человеческих.
Немного спустя вышли обе царицы в сад на прогулку, и тут-то и научила старая царица молодую совсем по-иному:
— Доченька милая! Никакой у тебя жизни не будет, если не сможешь с мужем на людях бывать. Вот тебе мой совет: прикажи огонь большой в печи развести, и когда муж уснет, возьми ту кожу свиную и швырни в огонь, чтобы раз навсегда от нее избавиться!
— Верно говоришь, маменька. А мне вот и в голову не пришло…


 СКАЗКА ПРО СТАНА — ВИДЫ ВИДАВШЕГО
СКАЗКА ПРО СТАНА — ВИДЫ ВИДАВШЕГО
 СКАЗКА ПРО БЕЛОГО АРАПА
СКАЗКА ПРО БЕЛОГО АРАПА


 ДОЧЬ СТАРУХИ И ДОЧЬ СТАРИКА
ДОЧЬ СТАРУХИ И ДОЧЬ СТАРИКА
 ИВАН ТУРБИНКА[25]
ИВАН ТУРБИНКА[25]

 СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ
СКАЗКА ПРО ЛЕНТЯЯ
 ПЯТЬ ХЛЕБОВ
ПЯТЬ ХЛЕБОВ
 Как-то шли по дороге двое знакомых. У одного в котомке было три хлеба, а у другого два.
Проголодавшись, уселись они в тени ветвистой ракиты, у колодца. Достал каждый свой хлеб, и собрались они вместе пообедать, чтобы веселее было. Только вынули хлеб из котомок, подходит к ним незнакомый прохожий, здоровается и просит его попотчевать: очень ему есть захотелось, а с собой съестного из дому не прихватил и купить негде.
— Садись, добрый человек, и кушай с нами, — сказали путники. — Где двое едят, там и на третьего еды станет.
Не заставил себя незнакомец долго упрашивать, рядышком сел, и стали они все трое голый хлеб уписывать, студеной водой колодезной запивать, ибо другого питья у них не было.
Ели они, ели втроем, пока не исчезли все пять хлебов, словно их и не было. Вынул тогда незнакомец из кошелька пять лей, протянул их наугад — тому, у кого три хлеба было, и сказал:
— Возьмите, люди добрые, в благодарность за то, что накормили меня досыта; выпейте в пути по стаканчику вина или делайте с этими деньгами, что заблагорассудится. Не знаю, как и отблагодарить вас за услугу, у меня ведь от голода в глазах темно было.
На первых порах не хотели они брать денег, но незнакомец настаивал, и в конце концов они согласились. Вскоре попрощался он с ними и пошел восвояси, а те остались еще — немного отдохнуть в тени под ракитой. Слово за слово, говорит один другому:
— На тебе, брат, два лея. Это твоя доля, делай с ней, что хочешь. Было у тебя два хлеба, значит два лея тебе по праву иследует. А себе я три лея оставлю, потому что у меня три таких же хлеба было.
— Как это? — возмутился второй. — Почему мне только два лея, а не два с половиной, сколько причитается каждому из нас? Он ведь мог ничего нам не дать, и как бы тогда было?
— Тогда, — ответил первый, — моя часть услуги равнялась бы трем долям, а твоя только двум, и все тут. А этак мы и поели бесплатно и деньги у нас в кошельке с избытком: у меня три лея и у тебя два — каждому по числу его хлебов. Думаю, сам господь бог не поделил бы справедливее.
— Нет, дружище, — возразил второй. — Я так считаю, что ты меня обираешь. Давай лучше в суд обратимся, и как скажет судья, так тому и быть.
— Что же, давай судиться, — сказал первый, — если ты недоволен. Я уверен, что суд будет на моей стороне. Правда, от роду не таскался я по судам.
Так и продолжали они путь, решив судиться; прибыли в город, где находился суд, явились к судье и рассказали ему подробно, один за другим все, как было: как шли они вместе, как сели в дороге обедать, сколько хлебов было у каждого, как поел незнакомец наравне с ними, как в благодарность оставил им пять лей и как решил один из них поделить деньги.
Судья, выслушав внимательно обоих, сказал тому, кто был недоволен разделом:
— Ты, значит, считаешь, что тебя обидели?
— Да, господин судья, — ответил тот, — Мы и не думали брать у незнакомца деньги за еду; но раз уж так случилось, то надо было поровну поделить подарок нашего гостя. Так, по-моему, следовало поступить по справедливости.
— Если уж поступить по справедливости, — сказал судья, — то будь добр, верни один лей, раз у него было три хлеба.
— Вот уж этого никак не ожидал я от вас, господин судья. — возмутился истец. — Я пришел в суд справедливости добиться, а вы, блюститель закона, еще хуже меня обижаете. Если таков будет и божий суд, то не сдобровать нам всем.
— Так тебе кажется, — хладнокровно возразил судья, — а на самом деле вовсе не так. Было у тебя два хлеба?
— Да, господин судья, два у меня было.
— А у спутника твоего было три?
— Да, господин судья, три.
— Питья ни у кого из вас не было?
— Ничего, господин судья, кроме хлеба и студеной воды из колодца, да вознаградит господь того, кто выкопал его прохожим на радость.
— Ты, кажется, сам говорил, что все поровну поели, не так ли?
— Да, господин судья.
— Давайте тогда подсчитаем, сколько каждый хлеба съел: предположим, что каждый хлеб был разрезан на три равных куска. Сколько кусков получилось бы из твоих двух хлебов?
— Шесть кусков, господин судья.
— А у спутника твоего, из трех хлебов?
— Девять, господин судья.
— А всего сколько бы кусков получилось? Шесть и девять?
— Пятнадцать кусков, господин судья.
— Много ли человек съело эти пятнадцать кусков?
— Три человека, господин судья.
— Так! По сколько же кусков пришлось на каждого?
— По пять кусков, господин судья.
— Теперь припомни, сколько было у тебя кусков?
— Шесть кусков.
— А съел ты сколько?
— Пять кусков, господин судья.
— Значит, сверх того сколько осталось?
— Один только кусок, господин судья.
— А теперь перейдем к твоему спутнику. Вспомни, сколько кусков получилось бы из его трех хлебов?
— Девять кусков, господин судья.
— А сколько из них он съел?
— Пять кусков, как и я, господин судья.
— А лишку сколько осталось?
— Четыре куска, господин судья.
— Верно! Давайте, теперь разберемся. Выходит, что у тебя один только кусок остался, а у товарища твоего — целых четыре. А всего у вас у обоих пять кусков осталось сверх того, что сами съели.
— Именно пять, господин судья.
— Верно ли, что пять кусков эти гость ваш поел и в благодарность за это пять лей вам оставил?
— Верно, господин судья,
— Ну, значит, тебе один только лей причитается за тот кусок, что у тебя лишку остался, а товарищу твоему за четыре его куска четыре лея причитается. Так что будь добр, верни ему один лей. Если же ты считаешь мой суд неправильным, то ступай к самому богу, и пусть рассудит он справедливее меня.
Истец, видя, что крыть ему нечем, вернул, скрепя сердце, один лей и, пристыженный, ушел восвояси.
А товарищ его, восхищенный столь мудрым решением, поблагодарил судью и вышел, разводя руками и приговаривая:
— Если бы повсюду были такие судьи, которые себе очки втереть не дадут, на веки вечные закаялись бы неправедные люди по судам таскаться.
Пустобрехи, именуемые защитниками, утратив возможность жить одним обманом, либо за дело бы взялись, либо всю жизнь горе бы мыкали.
А добрые люди от этого бы только выиграли.
Как-то шли по дороге двое знакомых. У одного в котомке было три хлеба, а у другого два.
Проголодавшись, уселись они в тени ветвистой ракиты, у колодца. Достал каждый свой хлеб, и собрались они вместе пообедать, чтобы веселее было. Только вынули хлеб из котомок, подходит к ним незнакомый прохожий, здоровается и просит его попотчевать: очень ему есть захотелось, а с собой съестного из дому не прихватил и купить негде.
— Садись, добрый человек, и кушай с нами, — сказали путники. — Где двое едят, там и на третьего еды станет.
Не заставил себя незнакомец долго упрашивать, рядышком сел, и стали они все трое голый хлеб уписывать, студеной водой колодезной запивать, ибо другого питья у них не было.
Ели они, ели втроем, пока не исчезли все пять хлебов, словно их и не было. Вынул тогда незнакомец из кошелька пять лей, протянул их наугад — тому, у кого три хлеба было, и сказал:
— Возьмите, люди добрые, в благодарность за то, что накормили меня досыта; выпейте в пути по стаканчику вина или делайте с этими деньгами, что заблагорассудится. Не знаю, как и отблагодарить вас за услугу, у меня ведь от голода в глазах темно было.
На первых порах не хотели они брать денег, но незнакомец настаивал, и в конце концов они согласились. Вскоре попрощался он с ними и пошел восвояси, а те остались еще — немного отдохнуть в тени под ракитой. Слово за слово, говорит один другому:
— На тебе, брат, два лея. Это твоя доля, делай с ней, что хочешь. Было у тебя два хлеба, значит два лея тебе по праву иследует. А себе я три лея оставлю, потому что у меня три таких же хлеба было.
— Как это? — возмутился второй. — Почему мне только два лея, а не два с половиной, сколько причитается каждому из нас? Он ведь мог ничего нам не дать, и как бы тогда было?
— Тогда, — ответил первый, — моя часть услуги равнялась бы трем долям, а твоя только двум, и все тут. А этак мы и поели бесплатно и деньги у нас в кошельке с избытком: у меня три лея и у тебя два — каждому по числу его хлебов. Думаю, сам господь бог не поделил бы справедливее.
— Нет, дружище, — возразил второй. — Я так считаю, что ты меня обираешь. Давай лучше в суд обратимся, и как скажет судья, так тому и быть.
— Что же, давай судиться, — сказал первый, — если ты недоволен. Я уверен, что суд будет на моей стороне. Правда, от роду не таскался я по судам.
Так и продолжали они путь, решив судиться; прибыли в город, где находился суд, явились к судье и рассказали ему подробно, один за другим все, как было: как шли они вместе, как сели в дороге обедать, сколько хлебов было у каждого, как поел незнакомец наравне с ними, как в благодарность оставил им пять лей и как решил один из них поделить деньги.
Судья, выслушав внимательно обоих, сказал тому, кто был недоволен разделом:
— Ты, значит, считаешь, что тебя обидели?
— Да, господин судья, — ответил тот, — Мы и не думали брать у незнакомца деньги за еду; но раз уж так случилось, то надо было поровну поделить подарок нашего гостя. Так, по-моему, следовало поступить по справедливости.
— Если уж поступить по справедливости, — сказал судья, — то будь добр, верни один лей, раз у него было три хлеба.
— Вот уж этого никак не ожидал я от вас, господин судья. — возмутился истец. — Я пришел в суд справедливости добиться, а вы, блюститель закона, еще хуже меня обижаете. Если таков будет и божий суд, то не сдобровать нам всем.
— Так тебе кажется, — хладнокровно возразил судья, — а на самом деле вовсе не так. Было у тебя два хлеба?
— Да, господин судья, два у меня было.
— А у спутника твоего было три?
— Да, господин судья, три.
— Питья ни у кого из вас не было?
— Ничего, господин судья, кроме хлеба и студеной воды из колодца, да вознаградит господь того, кто выкопал его прохожим на радость.
— Ты, кажется, сам говорил, что все поровну поели, не так ли?
— Да, господин судья.
— Давайте тогда подсчитаем, сколько каждый хлеба съел: предположим, что каждый хлеб был разрезан на три равных куска. Сколько кусков получилось бы из твоих двух хлебов?
— Шесть кусков, господин судья.
— А у спутника твоего, из трех хлебов?
— Девять, господин судья.
— А всего сколько бы кусков получилось? Шесть и девять?
— Пятнадцать кусков, господин судья.
— Много ли человек съело эти пятнадцать кусков?
— Три человека, господин судья.
— Так! По сколько же кусков пришлось на каждого?
— По пять кусков, господин судья.
— Теперь припомни, сколько было у тебя кусков?
— Шесть кусков.
— А съел ты сколько?
— Пять кусков, господин судья.
— Значит, сверх того сколько осталось?
— Один только кусок, господин судья.
— А теперь перейдем к твоему спутнику. Вспомни, сколько кусков получилось бы из его трех хлебов?
— Девять кусков, господин судья.
— А сколько из них он съел?
— Пять кусков, как и я, господин судья.
— А лишку сколько осталось?
— Четыре куска, господин судья.
— Верно! Давайте, теперь разберемся. Выходит, что у тебя один только кусок остался, а у товарища твоего — целых четыре. А всего у вас у обоих пять кусков осталось сверх того, что сами съели.
— Именно пять, господин судья.
— Верно ли, что пять кусков эти гость ваш поел и в благодарность за это пять лей вам оставил?
— Верно, господин судья,
— Ну, значит, тебе один только лей причитается за тот кусок, что у тебя лишку остался, а товарищу твоему за четыре его куска четыре лея причитается. Так что будь добр, верни ему один лей. Если же ты считаешь мой суд неправильным, то ступай к самому богу, и пусть рассудит он справедливее меня.
Истец, видя, что крыть ему нечем, вернул, скрепя сердце, один лей и, пристыженный, ушел восвояси.
А товарищ его, восхищенный столь мудрым решением, поблагодарил судью и вышел, разводя руками и приговаривая:
— Если бы повсюду были такие судьи, которые себе очки втереть не дадут, на веки вечные закаялись бы неправедные люди по судам таскаться.
Пустобрехи, именуемые защитниками, утратив возможность жить одним обманом, либо за дело бы взялись, либо всю жизнь горе бы мыкали.
А добрые люди от этого бы только выиграли.
 ФЭТ-ФРУМОС ИЗ СЛЕЗЫ РОЖДЕННЫЙ
ФЭТ-ФРУМОС ИЗ СЛЕЗЫ РОЖДЕННЫЙ
 Давным-давно, когда люди, такие, каковы они нынче, были еще делом будущего… в те давние времена жил-был царь, мрачный и задумчивый, как полночь, и была у него царица, молодая и смеющаяся, как ясный полдень.
Пятьдесят лет царь воевал с одним из своих соседей. Сосед давно уже умер, но оставил в наследство сыновьям и внукам своим лютую ненависть и кровавую вражду. Пятьдесят лет прошло, ослаб он от битв и страданий, как состарившийся лев. Никогда в своей жизни царь смеха не ведал, никогда не улыбнулся ни чистой детской песне, ни полной любви улыбке своей молодой жены, ни старинным побаскам и шуткам поседевших в битвах и горестях воинов. Видел он, что слабеет, чуял приближение смертного часа, а завещать свою ненависть было некому. Грустный покидал он молодую царицу на царском ложе, — ложе золоченом, но бесплодном, неблагословенном, — грустный, с тяжелым сердцем отправлялся на битву; а царица, оставшись одна, оплакивала свое одиночество горькими вдовьими слезами. Ее русые, как чистое золото, волосы спадали на белые, округлые груди, а из больших голубых глаз по белому, словно серебро лилии, лицу ручьями катились жемчужины слез. И большие синие круги ложились у нее под глазами, а на ясном лице проступали голубые прожилки, уподобляя его живому мрамору.
Однажды, едва встав с постели, бросилась она ничком на каменные плиты перед глубокой нишей, в которой мерцала лампада и вечно бодрствовал одетый в серебро образ матери всех печалей. И вот мольба коленопреклоненной царицы тронула холодную икону, и из черного глаза матери божьей покатилась слеза. Царица поднялась во весь свой величественный рост, прикоснулась пересохшими губами к холодной слезе и проглотила ее. С этого мгновения она зачала.
Прошел месяц, прошло два, пролетело девять, и царица родила сына, белоликого, как пена молочная, с золотистыми, точно лучи солнца, волосами. Засмеялся царь, даже солнце улыбнулось в своем огненном царстве и остановилось в небе, так что трое суток ночь не наступала, а стоял ясный и веселый полдень. Вино рекой текло из бочонков, и веселые клики потрясали свод небес.
И окрестила мать ребенка именем Фэт-Фрумос из слезы рожденный.
Фэт-Фрумос рос не по дням, а по часам и вырос большим и стройным, что сосна лесная.
Став достаточно взрослым, повелел он кузнецам сковать палицу железную. Когда палица была готова, подбросил он ее так высоко, что расколол свод небес, а затем поймал мизинцем. Палица не выдержала удара и разломилась пополам. Тогда Фэт-Фрумос велел сделать другую, потяжелее, и забросил ее до самого облачного терема луны; упав на землю, палица не сломилась о мизинец богатыря.
Довольный, Фэт-Фрумос распрощался со своими родителями и пошел войной — один против всего войска врага отцова. Надел он на тело свое царское пастушью одежду — льняную сорочку, орошенную слезами матери, шляпу, украшенную цветами, лентами и бусами, взятыми у царевен, воткнул за пояс зеленый два флуера — один для дойн, другой для хор — и, чуть забрезжила заря, пошел шагом богатырским по белу свету.
В дороге он все играл дойны да хоры, да бросал вверх палицу, рассекая тучи, так что она падала далеко впереди — за день пути. Горы и долы дивились его песням, реки вздымали свои волны повыше, чтобы послушать его, ключи выворачивали из глубин свои воды, чтобы каждая капля его услышала и потом те же песни шептала долинам и цветам.
Ручьи перекатывались пониже, к подножью задумчивых скал, чтобы перенять у царя-пастуха дойну любви, а сидевшие на высоких серых вершинах орлы учились у него крику боли и печали.
Все вокруг замирало в удивлении, когда проходил царевич-пастух, наигрывая дойны и хоры; черные глаза девушек наливались слезами тоски, а в сердцах молодых пастухов, стоявших, опершись одной рукой о скалу, а другой о дубину, зарождалась еще более глубокая, еще более сильная тоска — тоска по жизни богатырской!
Все замирало, только Фэт-Фрумос все шел да шел, песней обгоняя тоску души своей, а глазами следя за полетом палицы, сверкавшей в воздухе, словно стальной орел, словно волшебная звезда.
К вечеру третьего дня палица ударилась о медные ворота; раздался сильный, долго не утихавший гул. Ворота разлетелись в щепки, и богатырь проник во двор. Взошедшая из-за гор луна купалась в большом и светлом, как ясное небо, озере, таком прозрачном, что виден был блеск золотого песка на его дне; а посреди озера, на изумрудном острове, в густой зеленой роще гордо высился беломраморный замок, столь белый и столь блестящий, что в его стенах, словно в зеркале, отражались озеро и берега, луг и роща.
У ворот замка, на ясной глади озера, покачивалась золоченая ладья; в чистом вечернем воздухе звенели веселые, прекрасные звуки песен, несшихся из замка. Фэт-Фрумос вскочил в ладью и стал грести к мраморной лестнице замка.
Поднявшись по лестнице, он увидел в двух нишах канделябры с сотнями светильников. В каждом светильнике горела огненная звезда. Он вошел в просторную залу, потолок которой опирался на высокие колонны и арки из чистого золота. Посреди залы стоял чудесный стол, покрытый белыми скатертями и уставленный тарелками, каждая из которых была сделана из цельного куска жемчуга. А сидевшие за столом разодетые в золоченое платье бояре были лучезарны, как дни молодости, и веселы, как добрая хора. Особенно один из них, в блестящих одеждах и с золотым, усыпанным самоцветами обручем на челе был прекрасен, как месяц тихой летней ночью. Но Фэт-Фрумос был еще прекраснее.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос! — молвил царь. — Слыхал я о тебе не раз, а видеть до сих пор не приходилось.
— Рад, что застал тебя в добром здравии, государь, хотя боюсь, что не таким тебя оставлю. Пришел я звать тебя на битву тяжкую. Довольно лукавил ты против отца моего.
— Нет, не лукавил я против отца твоего, а бился с ним в битвах честных. Но с тобою биться не стану. Повелю я лучше лэутарам, дабы передали купарам, чтоб налили нам кубки, полные вина. И свяжемся мы с тобой на братство крестовое до самой гробовой доски.
Облобызались царевичи под радостные клики бояр, выпили вина и стали совет держать.
Спрашивает царь Фэт-Фрумоса:
— Ты кого на свете больше всего боишься?
— Не боюсь я никого, кроме бога одного. А ты?
— И я не боюсь никого, кроме бога да Лесовой. Эта свирепая старая ведьма страшным смерчем носится по моему царству. Где ее нога ступит, там лицо земли иссыхает, звезды в небе исчезают и города превращаются в развалины. Ходил я на нее войной, да так ничего и не добился. И чтобы не погубить все царство, пошел я с ней скрепя сердце на мировую. Вот и плачу теперь дань тяжкую — отдаю ей каждого десятого новорожденного младенца в моем государстве. Нынче она как раз должна явиться за данью.
Когда пробило полночь, лица сидевших за столом помрачнели. Ибо в полночь, несясь на крыльях вихревых, со сморщенным, точно изборожденная ручьями скала, лицом, с густым темным лесом вместо волос на голове, бешено проревела над островом Лесовая. Ее глаза — две беспросветные ночи, рот ее — бездонный хаос, зубы ее — два ряда мельничных жерновов.
Подлетела она с дикими воплями, да вдруг Фэт-Фрумос перехватил ее чуть пониже пояса и швырнул, что было силы, в большую каменную ступу, затем навалил на ступу кусок скалы и приковал семью железными цепями. Ведьма внутри выла и рвалась, точно ветер, в плен попавший, да ничего поделать не смогла.
И снова все уселись пировать. Вдруг, взглянув в окно, увидели бояре в свете луны, как на озере вздымаются две длинные горы воды. Что бы это могло быть? А это Лесовая, не сумев выбраться из капкана, переплывала озеро, сидя в ступе, рассекая воду на две горы волн. И так она все мчалась — чертовой скалой пробивая путь по лесам, бороздя за собой землю, пока исчезла в ночной дали.
Фэт-Фрумос пировал, сколько пировал, а потом, взвалив палицу на плечо, двинулся по широкому свежему следу. Шел он, шел, пока дошел до сверкавшего в лучах луны белого дома, вокруг которого раскинулся цветник. Цветы на зеленых грядках светились голубым, темно-синим и белым светом, а меж ними порхали мельчайшие мотыльки, яркие, как золотые звезды. Свет, благоуханье и нескончаемая, тихая сладкая песня, рожденная роями мотыльков и пчел, пьянили сад и дом. У входа стояли две бочки с водой, а на завалинке сидела и пряла прекрасная девица. Ее длинное белое платье казалось облачком, сотканным из света и теней; ее золотистые волосы ниспадали на спину двумя тяжелыми косами, а на светлом челе белел венок, сплетенный из ландышей. Освещенная лучами луны, она казалась окутанной золотистым туманом. Белыми, точно из белого воска, пальцами девица держала золотое веретено, второй рукой щипала серебристо-белую шерсть и пряла сверкающую тонкую нить, скорее похожую на живой луч луны, носящийся по воздуху, чем на обыкновенную пряжу.
Заслышав легкие шаги Фэт-Фрумоса, девица подняла на него голубые, как озерная вода, очи.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос, — молвила она, прикрыв ресницами ясные очи. — Как давно я вижу тебя в своих снах! Пока мои пальцы пряли нить, думы мои ткали сон, прекрасный сон, в котором мы с тобой любили друг друга. Фэт-Фрумос, я пряла золотым веретеном, чтоб потом соткать тебе платье волшебное, счастьем подбитое. Будешь носить его… и меня любить. Из пряжи своей я сотку тебе платье, из жизни своей — жизнь, полную ласки нежной.
Девица с умилением глядела на Фэт-Фрумоса, пока веретено не вывалилось у нее из рук и прялка не упала к ногам. Тогда она встала, словно смутившись сказанным, руки ее повисли, как у напроказившего ребенка, и большие глаза склонились долу. Фэт-Фрумос подошел, одной рукой обвил ее стан, второй нежно погладил волосы и лоб и прошептал:
— Как ты прекрасна, как я люблю тебя! Чья ты, красавица?
— Я дочь Лесовой, — вздохнула она. — Станешь ли ты любить меня и сейчас, когда узнал, кто я?
Она обвила обнаженными руками его шею и долго глядела ему прямо в очи.
— Какое мне дело до того, кто ты! — ответил он. — Я знаю, что люблю тебя.
— Коль любишь меня, давай убежим отсюда, — сказала она, прильнув к его груди. — Потому что застанет тебя мать, — убьет, а когда ты погибнешь, так и я сойду с ума или тут же в могилу лягу.
— Не бойся, — улыбнулся Фэт-Фрумос, высвобождаясь из объятий девы. — Где твоя мать?
— С тех пор, как вернулась, все мечется в ступе, в которую ты ее засадил, и грызет зубами цепи.
— Фэт-Фрумос, — добавила девица, и две большие слезы засверкали в ее глазах, — подожди, не ходи к ней. Прежде я научу тебя, как победить мою матушку. Видишь вот эти два бочонка? В одном из них вода, в другом — сила. Давай-ка мы их поменяем местами. Матушка, когда устает в сражении со своими врагами, кричит: "Погоди, давай-ка испьем водицы!" Тогда она пьет силу, а враг ее — простую воду. Вот мы и поменяем бочонки местами, а она, не зная об этом, во время боя с тобой будет пить простую воду.
Сказано — сделано.
Бросился Фэт-Фрумос туда, где ведьма в ступе ворочалась.
— Как дела, старуха? — крикнул он ей.
Ведьма со злобы рванулась всей силой, цепи на ступе оборвались, и она подскочила до самых туч.
— А! Добро, что ты явился, — молвила она, вернувшись на землю. — Ну, теперь выходи на бой, сейчас посмотрим, кто из нас сильнее.
— Давай! — согласился Фэт-Фрумос.
Перехватила его Лесовая вокруг пояса, мигом вытянулась до самой тучи и швырнула вниз так, что он вошел в землю по щиколотки.
Фэт-Фрумос тоже схватил ее и так ударил об землю, что вбил по колени.
— Погоди, давай испьем водицы! — попросила уставшая Лесовая.
Остановились они передохнуть. Ведьма выпила простой воды, а Фэт-Фрумос испил силы; благодатный огонь разлился у него по жилам и укрепил ослабевшие мышцы.
С удвоенной силой железными руками схватил он старуху и вбил ее в землю по самое горло. Затем треснул палицей по голове и мозги по ветру развеял.
Хмурые тучи обволокли небо, застонал холодный ветер, маленький домик содрогнулся и заскрипел всеми стропилами. Червонные змеи с треском рванули черные полы тучи, волны потоков зарокотали, зловеще загрохотал гром, словно пророча гибель. Сквозь густую, непроглядную тьму Фэт-Фрумос разглядел белеющую рядом серебристую тень — бледную, с распущенными золотыми волосами, с поднятыми ввысь руками. Он подошел к ней и обнял. Подавленная страхом, дева припала к нему и спрятала холодные руки у него на груди. Желая ее разбудить, от стал целовать ее глаза. Тучи в небе разорвались в клочья, пламенно-красная луна выглянула в просвет. И Фэт-Фрумос увидел, как на его груди зажигаются две голубые звездочки, ясные и удивленные, — глаза его любимой. Он схватил ее на руки и побежал сквозь бурю. А она положила голову к нему на грудь и казалась спящей. Добежав до царского сада, Фэт-Фрумос уложил ее в ладью, нарвал травы и цветов и, устроив ей мягкое ложе, перевез через озеро, словно в колыбели.
Взошедшее на востоке солнце любовно на них глядело. Ее намокшее от дождя платье прилипло к округлому, стройному телу, ее влажное лицо было бледно, точно белый воск, сплетенные руки лежали на груди, рассыпавшиеся волосы закрывали шею, глубоко впавшие глаза была закрыты — она была прекрасна, но казалась мертвой. Фэт-Фрумос положил на ее ясный белый лоб несколько голубых цветков, затем сел рядом и заиграл тихую дойну. Небо ясное, как море, жгучий шар солнца, благоуханье свежей травы и цветов усыпили девицу глубоко, и видела она ясные сны под сладкую мелодию флуера. Солнце достигло зенита, все вокруг молчало и Фэт-Фрумос прислушивался к ее спокойному дыханию, теплому и влажному. Он тихо склонился и поцеловал ее в щеку. Тогда она открыла глаза, из которых еще не исчезли видения сна, и, сладко потянувшись, спросила, улыбаясь:
— Ты здесь?
— Нет, меня здесь нет, разве ты не видишь, что меня здесь нет? — ответил Фэт-Фрумос, плача от счастья. Она протянула руку и обняла его.
— Вставай, вставай! — сказал Фэт-Фрумос, лаская ее. — Видишь, уже полдень.
Она встала, откинула волосы со лба на спину, Фэт-Фрумос обнял ее стан, она обвила его шею рукою, и так они прошли по грядкам цветов и вошли в мраморный царский дворец.
Фэт-Фрумос подвел девицу к царю и сказал, что это его нареченная. Царь улыбнулся, затем взял Фэт-Фрумоса за руку, словно хотел ему поведать тайну, и отвел к большому окну, сквозь которое было видно обширное озеро. Не сказал царь Фэт-Фрумосу ни слова, а только глядел в удивлении на озерную гладь и в глазах его появились слезы. Белый лебедь, раскинув крылья, точно серебристые паруса, и окунув голову в воду, рассекал ясное зеркало озера.
— Ты плачешь, царь? — спросил Фэт-Фрумос. — Отчего же?
— Фэт-Фрумос, — ответил царь, — добро, которое ты мне сделал, я не смогу оплатить даже собственной жизнью, как бы она мне ни была дорога. И все же я попрошу у тебя еще большего.
— Чего именно, государь?
— Видишь ты этого лебедя, влюбленного в волну? Я молод, мне следовало бы любить жизнь, и все же сколько раз мне хотелось наложить на себя руки. Люблю я девицу-красавицу с задумчивыми глазами, милую, как прекрасный сон. Она дочь Лютня, человека гордого и дикого, который всю жизнь охотится по лесам вековечным. О! Насколько он свиреп, настолько прекрасна его дочь. Все мои попытки похитить ее оказались тщетными. Попытайся это сделать ты!
Фэт-Фрумосу не хотелось и с места сдвинуться. Но, как и всякий витязь, он дорого ценил братство крестовое, дороже собственной жизни, дороже любимой невесты.
— Царь пресветлый, много счастья у тебя было в жизни, но в одном тебе особенно повезло: в том, что побратался ты с Фэт-Фрумосом. Ладно, пойду похищать дочь Лютня!
Выбрал себе Фэт-Фрумос коней ретивых, коней с ветровой душою, и стал готовиться в поход. Тогда его нареченная — звали ее Иляной — прошептала ему на ухо, нежно целуя:
— Не забывай, Фэт-Фрумос, что пока тебя здесь не будет, я не перестану плакать.
Глянул он на нее с жалостью, приласкал и, вырвавшись из ее объятий, вскочил в седло и умчался.
Ехал он по кодрам пустынным, по горам с заснеженным челом. Ночью, когда меж древних скал появилась бледная, как лицо мертвой девы, луна, перед его глазами проплывали то повисшие в небе чудовищные лохмотья, окутывающие вершину какой-нибудь горы, то мрачная руина былого — разрушенный, разнесенный по камешкам замок.
Когда рассвело, Фэт-Фрумос увидел, что цепь гор переходит в необозримое зеленое море, гладь которого лениво и звучно бороздят тысячи искристых волн; и сколько ни глядел он вдаль — только синее небо да море зеленое. В конце горного кряжа прямо над морем нависла величественная гранитная скала. А на ней, точно птичье гнездо, приютилась прекрасная крепость, столь белая, что казалась посеребренной. В арчатых стенах сверкало множество окон; одно из них было открыто, и Фэт-Фрумос увидел среди горшков с цветами смуглую голову девушки, с мечтательным, как летняя ночь, лицом. Это была дочь Лютня.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос, — вскрикнула девушка и, соскочив с окна, открыла ему ворота замка, в котором она жила одна-одинешенька, точно дух пустыни. — Этой ночью мне снилось, будто говорила я со звездой, и звезда мне поведала, что ты придешь посланцем от царя, который меня любит.
В большой зале замка, в пепле очага, сидел на страже кот семиглавый. Когда одна голова мяукала, слышно было за день пути, а когда все семь мяукало, слышно было за семь дней пути.
Лютень, днем и ночью пропадая на своей дикой охоте, отдалился от замка на день пути.
Фэт-Фрумос взял девицу на руки, посадил ее на коня, и помчались они вдвоем вдоль пустынного берега морского, точно две едва уловимые воздушные тени.
Но у Лютня, высокого и сильного человека, был волшебный конь о двух сердцах. Кот в замке замяукал одной головой, а конь Лютня заржал своим бронзовым голосом.
— В чем дело? — спросил Лютень коня своего волшебного. — Иль тебе добрая жизнь надоела?
— Не надоела мне добрая жизнь, а вот с тобой худо приключилось. Фэт-Фрумос дочь твою увез.
— Сильно нам нужно спешить, чтобы нагнать их?
— Можно и поспешить, а можно и не очень. Нагнать их нетрудно.
Вскочил Лютень в седло и помчался, точно страшное привидение. Вскоре он догнал беглецов. Биться с Фэт-Фрумосом Лютень не стал, так как сам был христианином и нечистой силы в нем не было.
— Фэт-Фрумос, — молвил Лютень, — больно уж ты красив, и мне тебя жаль. Теперь я тебе ничего не сделаю, но в другой раз… помни!
И, посадив дочь к себе на коня, исчез, будто ветер, будто его и вовсе не было.
Но Фэт-Фрумос не зря был богатырем и не зря запомнил дорогу назад. Он вернулся и снова застал девушку одну. И хотя та была еще более грустна и заплакана, теперь она казалась еще красивее. Лютень опять уехал на охоту за два дня пути. На сей раз Фэт-Фрумос взял других коней, прямо из конюшни Лютня, и увез девицу ночью.
Мчались они, как быстрые лучи луны по высоким морским волнам, мчались сквозь холодную и пустынную ночь, как мчится милый сон; но в беге своем расслышали длинное двуголовое мяуканье кота, что остался в замке. Затем им показалось, будто и шагу дальше ступить не могут, подобно тому, как порой хочешь побежать во сне и не можешь. Затем их обволокло облако пыли — это Лютень мчался к ним во весь опор.
Брови его были насуплены, лицо было страшным. Не проронив ни звука, он схватил Фэт-Фрумоса, подбросил до самых черных грозовых облаков и, забрав свою дочь, растаял в ночи.
Фэт-Фрумоса сожгли молнии и только оставшаяся от него горсточка пепла упала на горячий песок пустыни. Но из пепла возник хрустальный ручей и потекли его воды по алмазным песчинкам; и выросли по берегам ручья густые зеленые деревья, окутав его прохладной тенью и приятным благоуханьем. Если бы кто-нибудь мог понять голос ручья, он узнал бы, что тот в нескончаемой дойне оплакивает златокудрую Иляну, нареченную Фэт-Фрумоса. Да кто может понять голос ручья в этой пустыне, куда до сих пор нога человечья не ступала?
В те давние времена господь ходил еще по земле. Однажды шли по пустыне два человека… Это были господь и святой Петр. У ручья господь напился воды и освежил лицо и руки. А когда они пошли дальше, святой Петр сказал:
— Господи, сделай так, чтоб этот ручей стал тем, чем он был раньше.
— Аминь! — сказал господь, подняв руку, и путники ушли.
Как по мановению волшебного жезла, исчезли и деревья и ручей, а Фэт-Фрумос, очнувшись от долгого сна, встал и огляделся вокруг… Тут он вспомнил, что пообещал похитить дочь Лютня, а коль богатырь пообещал сделать что-либо, нелегко ему от своего отступиться.
Пошел он снова в путь-дорогу и к вечеру добрался до замка Лютня, огромной тенью высившегося в вечерних сумерках. Вошел в замок и застал дочь Лютня всю в слезах. Как увидела она Фэт-Фрумоса, посветлело ее лицо, точно волна под ярким лучом. Рассказал он ей, как воскрес, а она ему и говорит:
— Украсть ты меня все равно не сможешь, пока не добудешь такого же коня, как у моего батюшки, — о двух сердцах в груди. Но я сегодня выведаю у отца, где он взял своего коня, дабы и ты себе добыл такого. А пока суд да дело, чтобы отец не застал тебя со мной, я превращу тебя в цветок.
Сел Фэт-Фрумос на стул, девица пошептала над ним заклинание нежное, и превратился он в темно-алый, точно спелая вишня, цветок. Упрятала его дочь Лютня среди прочих цветов на подоконнике и весело запела, так что весь замок зазвенел.
Как раз в это время вернулся и Лютень.
— Веселишься, дочь моя?.. А отчего ты так весела? — спросил он.
— Оттого, что нет больше на свете Фэт-Фрумоса и некому меня похищать, — ответила она ему смеясь.
Сели они ужинать.
— Отец, — спросила дочь, — а где ты взял того коня, на котором на охоту ездишь?
— Тебе-то зачем знать? — насупил брови Лютень.
— Ты прекрасно понимаешь, — ответила дочь, — что мне захотелось узнать это просто так. Теперь ведь нет уже Фэт-Фрумоса и некому меня похищать.
— А ты знаешь, что я ни в чем не могу тебе противиться, — сказал Лютень. — Далеко-далеко у берега морского живет одна старушка, у которой есть семь кобыл. Она нанимает людей, чтоб стерегли табун по году (хотя год у нее длится только три дня). Коли кто хорошо стережет, она разрешает ему выбрать себе в награду жеребенка, а коль плохо — убивает его и голову на кол сажает. Но даже и тех, кто хорошо стережет, она все равно старается обхитрить: вытаскивает из всех коней сердца и отдает их одному, так что человек почти всегда выбирает себе коня без сердца, который будет похуже любой обыкновенной клячи… Ты довольна, дочь моя?
— Довольна, — ответила она улыбаясь.
В тот же миг Лютень набросил ей на лицо легкий и пахучий красный платок. Дочь долго глядела отцу в глаза, как человек, который пробуждается от глубокого сна и ничего вспомнить не может. Она забыла все, о чем ей рассказал отец. Но цветок на окне подслушивал и подглядывал сквозь листву, точно красная звезда сквозь просветы в облаках.
На следующее утро Лютень снова уехал на охоту.
Девица поцеловала цветок, зашептала над ним заклинание, и Фэт-Фрумос возник перед ней, будто из-под земли.
— Ну, что ты узнала? — спросил он.
— Ничего не помню, — с грустью ответила девица, приложив ладонь ко лбу. — Все забыла.
— А я все слышал. Прощай, дитя мое. Скоро увидимся снова.
Сказав это, Фэт-Фрумос вскочил на коня и умчался в пустыню.
Солнце пекло немилосердно. Неподалеку от леса Фэт-Фрумос увидел вдруг в раскаленном песке комара, корчившегося в смертных муках.
— Фэт-Фрумос, — пропищал комар, — возьми меня с собой и отвези в лес. Когда-нибудь и я тебе сгожусь. Я царь комаров.
Взял Фэт-Фрумос комара и довез до леса, через который пролегал его путь.
Проехал он лес, выехал на пустынный берег морской и вдруг увидел в песке обожженного солнцем рака; рак совсем уж обессилел и не мог сам до воды дотащиться.
— Фэт-Фрумос, — проговорил рак. — Брось меня в море. И я тебе когда-нибудь сгожусь. Я царь раков.
Бросил его Фэт-Фрумос в море и поехал своей дорогой.
Под вечер подъехал он к ветхой землянке, крытой конским навозом. Вокруг землянки вместо забора торчали длинные острые колья и на шести из них болтались человечьи головы, а седьмой без головы покачивался на ветру и кричал: "Голову! голову! голову! голову!"
На завалинке, на драном тулупе, лежала сморщенная старуха, положив седую, как пепел, голову на колени служанке. Служанка искала у нее в волосах.
— Желаю вам здравствовать, — молвил Фэт-Фрумос.
— Добро пожаловать, парень, — ответила старуха, вставая. — С чем пожаловал? Чего здесь ищешь? Не хочешь ли кобыл моих покараулить?
— Хочу!
— Мои кобылы пасутся только ночью… Вот прямо сейчас можешь их выгонять на пастбище… Эй, девка! Накорми-ка парня той едой, что я состряпала и отправь его.
Рядом с землянкой был погреб. Фэт-Фрумос вошел туда и увидел семь чудесных черных кобыл, как семь черных ночей; они еще отроду не видывали света белого. Кобылы ржали и рыли землю копытами.
Весь день проведя натощак, Фэт-Фрумос поел то, что дала ему старуха, затем, сев верхом на одну из кобыл, погнал табун в прохладную ночную тьму. Вскоре им стал овладевать свинцовый сон, в глазах помутилось и Фэт-Фрумос повалился на траву, точно мертвый. Проснулся он только перед рассветом следующего дня. Глянул вокруг, а кобыл и след простыл. Он уж представлял свою голову на колу, как вдруг вдали, на опушке леса, появились все семь кобыл, гонимые целым роем комаров. Фэт-Фрумос услышал тонкий голосок:
— Ты мне сделал добро, и я тебе добром отплатил.
Как увидела старуха, что табун домой возвращается, чуть не взбесилась от злости. Стала она все вверх ногами переворачивать и ни в чем не повинную девушку колотить.
— Что с вами, матушка? — спросил Фэт-Фрумос.
— Ничего, — ответила старуха. — Так вот, напало на меня. На тебя я не сержусь… даже премного тобой довольна.
Подалась затем она на конюшню и стала кобыл колотить да покрикивать:
— Прячьтесь получше, побей вас кочерга, чтоб он не мог вас найти, заешь его леший, задави его смерть!
Поехал Фэт-Фрумос табун пасти и в следующий вечер, да опять свалился в траву и проспал чуть не до утра. Проснулся — кобыл и след простыл. Хотел он было в отчаянии бежать, куда глаза глядят, да вдруг видит — поднимаются кобылы со дна морского и тьма-тьмущая раков их клешнями подгоняет.
— Ты мне добро сделал, — расслышал Фэт-Фрумос чей-то голос, — и я тебе тем же отплатил.
Погнал он коней домой, и снова повторилось все, как в прошлый раз.
А днем подошла к нему служанка и, пожимая руку, шепнула:
— Я знаю, что ты Фэт-Фрумос. Ты не ешь тех яств, что старуха стряпает, она в них сонного зелья кладет. Я тебе другую еду принесу.
Приготовила служанка втайне еду, накормила Фэт-Фрумоса, а под вечер, когда он стал табун на пастбище выгонять, то почувствовал себя бодрым, как никогда. В полночь вернулся он домой, загнал кобыл на конюшню, запер их и сам вошел в землянку. В печи еще тлело несколько углей. Старуха лежала, растянувшись на лавке, и казалась мертвой. Фэт-Фрумос подумал, что она и впрямь умерла и стал ее трясти. А она продолжала лежать неподвижно, как бревно. Тогда он разбудил спавшую на печи служанку.
— Взгляни-ка. — сказал он ей, — старуха-то умерла.
— Вот еще! Так она и умрет! — вздохнула девушка. — Теперь она, верно, кажется мертвой. Сейчас полночь… смертный сон сковал ей тело… а душа ее, кто знает, по каким путям-дорогам носится да черное колдовство ткет. До самых петухов будет она сосать кровь умирающих или опустошать души несчастных… Да, бэдика, завтра исполняется год твоей службы. Возьми ты и меня с собой, могу тебе в пути сгодиться. Избавлю я тебя от многих бед, которые старуха тебе готовит.
Служанка достала со дна ветхого ларя точильный камень, щетку и платок и отдала ему.
На следующее утро вышел срок службы Фэт-Фрумоса. И должна была старуха отдать ему одного из своих коней и отпустить с миром. Пока он завтракал, ведьма ушла на конюшню, вытащила сердца у всех семи кобыл и вложила их в жалкого трехлетка — кожа да кости. Фэт-Фрумос встал из-за стола и, по уговору со старухой, пошел себе коня выбирать. Черные кобылы, у которых старуха вытащила сердца, лоснились от жиру. А тощий трехлеток, хранивший все сердца, лежал в углу на куче навоза.
— Вот этого беру, — сказал Фэт-Фрумос, показывая на трехлетка.
— Как же, прости господи, что же ты у меня — даром служил? — воскликнула хитрая старуха. — Как же тебе не получить то, что причитается? Выбери одну из этих прекрасных кобыл, бери любую, какая приглянется.
— Нет, мне этот приглянулся, — настаивал Фэт-Фрумос на своем.
Старуха бешено заскрипела зубами, но затем сжала челюсти, точно старые мельничные жернова, чтоб не брызнул изо рта яд ее души презлющей.
— Ладно, бери, — согласилась она наконец.
Фэт-Фрумос вскочил на коня, вскинул палицу на плечо и полетел со скоростью мысли, так что, казалось, будто вихрь несется по пустыне, вздымая тучею песок.
На опушке леса его ожидала сбежавшая служанка. Он поднял ее на коня, усадил за своей спиной и снова понесся во весь опор.
Ночь обволокла землю черной своей прохладой.
— Мне спину жжет! — вскрикнула вдруг девушка.
Давным-давно, когда люди, такие, каковы они нынче, были еще делом будущего… в те давние времена жил-был царь, мрачный и задумчивый, как полночь, и была у него царица, молодая и смеющаяся, как ясный полдень.
Пятьдесят лет царь воевал с одним из своих соседей. Сосед давно уже умер, но оставил в наследство сыновьям и внукам своим лютую ненависть и кровавую вражду. Пятьдесят лет прошло, ослаб он от битв и страданий, как состарившийся лев. Никогда в своей жизни царь смеха не ведал, никогда не улыбнулся ни чистой детской песне, ни полной любви улыбке своей молодой жены, ни старинным побаскам и шуткам поседевших в битвах и горестях воинов. Видел он, что слабеет, чуял приближение смертного часа, а завещать свою ненависть было некому. Грустный покидал он молодую царицу на царском ложе, — ложе золоченом, но бесплодном, неблагословенном, — грустный, с тяжелым сердцем отправлялся на битву; а царица, оставшись одна, оплакивала свое одиночество горькими вдовьими слезами. Ее русые, как чистое золото, волосы спадали на белые, округлые груди, а из больших голубых глаз по белому, словно серебро лилии, лицу ручьями катились жемчужины слез. И большие синие круги ложились у нее под глазами, а на ясном лице проступали голубые прожилки, уподобляя его живому мрамору.
Однажды, едва встав с постели, бросилась она ничком на каменные плиты перед глубокой нишей, в которой мерцала лампада и вечно бодрствовал одетый в серебро образ матери всех печалей. И вот мольба коленопреклоненной царицы тронула холодную икону, и из черного глаза матери божьей покатилась слеза. Царица поднялась во весь свой величественный рост, прикоснулась пересохшими губами к холодной слезе и проглотила ее. С этого мгновения она зачала.
Прошел месяц, прошло два, пролетело девять, и царица родила сына, белоликого, как пена молочная, с золотистыми, точно лучи солнца, волосами. Засмеялся царь, даже солнце улыбнулось в своем огненном царстве и остановилось в небе, так что трое суток ночь не наступала, а стоял ясный и веселый полдень. Вино рекой текло из бочонков, и веселые клики потрясали свод небес.
И окрестила мать ребенка именем Фэт-Фрумос из слезы рожденный.
Фэт-Фрумос рос не по дням, а по часам и вырос большим и стройным, что сосна лесная.
Став достаточно взрослым, повелел он кузнецам сковать палицу железную. Когда палица была готова, подбросил он ее так высоко, что расколол свод небес, а затем поймал мизинцем. Палица не выдержала удара и разломилась пополам. Тогда Фэт-Фрумос велел сделать другую, потяжелее, и забросил ее до самого облачного терема луны; упав на землю, палица не сломилась о мизинец богатыря.
Довольный, Фэт-Фрумос распрощался со своими родителями и пошел войной — один против всего войска врага отцова. Надел он на тело свое царское пастушью одежду — льняную сорочку, орошенную слезами матери, шляпу, украшенную цветами, лентами и бусами, взятыми у царевен, воткнул за пояс зеленый два флуера — один для дойн, другой для хор — и, чуть забрезжила заря, пошел шагом богатырским по белу свету.
В дороге он все играл дойны да хоры, да бросал вверх палицу, рассекая тучи, так что она падала далеко впереди — за день пути. Горы и долы дивились его песням, реки вздымали свои волны повыше, чтобы послушать его, ключи выворачивали из глубин свои воды, чтобы каждая капля его услышала и потом те же песни шептала долинам и цветам.
Ручьи перекатывались пониже, к подножью задумчивых скал, чтобы перенять у царя-пастуха дойну любви, а сидевшие на высоких серых вершинах орлы учились у него крику боли и печали.
Все вокруг замирало в удивлении, когда проходил царевич-пастух, наигрывая дойны и хоры; черные глаза девушек наливались слезами тоски, а в сердцах молодых пастухов, стоявших, опершись одной рукой о скалу, а другой о дубину, зарождалась еще более глубокая, еще более сильная тоска — тоска по жизни богатырской!
Все замирало, только Фэт-Фрумос все шел да шел, песней обгоняя тоску души своей, а глазами следя за полетом палицы, сверкавшей в воздухе, словно стальной орел, словно волшебная звезда.
К вечеру третьего дня палица ударилась о медные ворота; раздался сильный, долго не утихавший гул. Ворота разлетелись в щепки, и богатырь проник во двор. Взошедшая из-за гор луна купалась в большом и светлом, как ясное небо, озере, таком прозрачном, что виден был блеск золотого песка на его дне; а посреди озера, на изумрудном острове, в густой зеленой роще гордо высился беломраморный замок, столь белый и столь блестящий, что в его стенах, словно в зеркале, отражались озеро и берега, луг и роща.
У ворот замка, на ясной глади озера, покачивалась золоченая ладья; в чистом вечернем воздухе звенели веселые, прекрасные звуки песен, несшихся из замка. Фэт-Фрумос вскочил в ладью и стал грести к мраморной лестнице замка.
Поднявшись по лестнице, он увидел в двух нишах канделябры с сотнями светильников. В каждом светильнике горела огненная звезда. Он вошел в просторную залу, потолок которой опирался на высокие колонны и арки из чистого золота. Посреди залы стоял чудесный стол, покрытый белыми скатертями и уставленный тарелками, каждая из которых была сделана из цельного куска жемчуга. А сидевшие за столом разодетые в золоченое платье бояре были лучезарны, как дни молодости, и веселы, как добрая хора. Особенно один из них, в блестящих одеждах и с золотым, усыпанным самоцветами обручем на челе был прекрасен, как месяц тихой летней ночью. Но Фэт-Фрумос был еще прекраснее.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос! — молвил царь. — Слыхал я о тебе не раз, а видеть до сих пор не приходилось.
— Рад, что застал тебя в добром здравии, государь, хотя боюсь, что не таким тебя оставлю. Пришел я звать тебя на битву тяжкую. Довольно лукавил ты против отца моего.
— Нет, не лукавил я против отца твоего, а бился с ним в битвах честных. Но с тобою биться не стану. Повелю я лучше лэутарам, дабы передали купарам, чтоб налили нам кубки, полные вина. И свяжемся мы с тобой на братство крестовое до самой гробовой доски.
Облобызались царевичи под радостные клики бояр, выпили вина и стали совет держать.
Спрашивает царь Фэт-Фрумоса:
— Ты кого на свете больше всего боишься?
— Не боюсь я никого, кроме бога одного. А ты?
— И я не боюсь никого, кроме бога да Лесовой. Эта свирепая старая ведьма страшным смерчем носится по моему царству. Где ее нога ступит, там лицо земли иссыхает, звезды в небе исчезают и города превращаются в развалины. Ходил я на нее войной, да так ничего и не добился. И чтобы не погубить все царство, пошел я с ней скрепя сердце на мировую. Вот и плачу теперь дань тяжкую — отдаю ей каждого десятого новорожденного младенца в моем государстве. Нынче она как раз должна явиться за данью.
Когда пробило полночь, лица сидевших за столом помрачнели. Ибо в полночь, несясь на крыльях вихревых, со сморщенным, точно изборожденная ручьями скала, лицом, с густым темным лесом вместо волос на голове, бешено проревела над островом Лесовая. Ее глаза — две беспросветные ночи, рот ее — бездонный хаос, зубы ее — два ряда мельничных жерновов.
Подлетела она с дикими воплями, да вдруг Фэт-Фрумос перехватил ее чуть пониже пояса и швырнул, что было силы, в большую каменную ступу, затем навалил на ступу кусок скалы и приковал семью железными цепями. Ведьма внутри выла и рвалась, точно ветер, в плен попавший, да ничего поделать не смогла.
И снова все уселись пировать. Вдруг, взглянув в окно, увидели бояре в свете луны, как на озере вздымаются две длинные горы воды. Что бы это могло быть? А это Лесовая, не сумев выбраться из капкана, переплывала озеро, сидя в ступе, рассекая воду на две горы волн. И так она все мчалась — чертовой скалой пробивая путь по лесам, бороздя за собой землю, пока исчезла в ночной дали.
Фэт-Фрумос пировал, сколько пировал, а потом, взвалив палицу на плечо, двинулся по широкому свежему следу. Шел он, шел, пока дошел до сверкавшего в лучах луны белого дома, вокруг которого раскинулся цветник. Цветы на зеленых грядках светились голубым, темно-синим и белым светом, а меж ними порхали мельчайшие мотыльки, яркие, как золотые звезды. Свет, благоуханье и нескончаемая, тихая сладкая песня, рожденная роями мотыльков и пчел, пьянили сад и дом. У входа стояли две бочки с водой, а на завалинке сидела и пряла прекрасная девица. Ее длинное белое платье казалось облачком, сотканным из света и теней; ее золотистые волосы ниспадали на спину двумя тяжелыми косами, а на светлом челе белел венок, сплетенный из ландышей. Освещенная лучами луны, она казалась окутанной золотистым туманом. Белыми, точно из белого воска, пальцами девица держала золотое веретено, второй рукой щипала серебристо-белую шерсть и пряла сверкающую тонкую нить, скорее похожую на живой луч луны, носящийся по воздуху, чем на обыкновенную пряжу.
Заслышав легкие шаги Фэт-Фрумоса, девица подняла на него голубые, как озерная вода, очи.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос, — молвила она, прикрыв ресницами ясные очи. — Как давно я вижу тебя в своих снах! Пока мои пальцы пряли нить, думы мои ткали сон, прекрасный сон, в котором мы с тобой любили друг друга. Фэт-Фрумос, я пряла золотым веретеном, чтоб потом соткать тебе платье волшебное, счастьем подбитое. Будешь носить его… и меня любить. Из пряжи своей я сотку тебе платье, из жизни своей — жизнь, полную ласки нежной.
Девица с умилением глядела на Фэт-Фрумоса, пока веретено не вывалилось у нее из рук и прялка не упала к ногам. Тогда она встала, словно смутившись сказанным, руки ее повисли, как у напроказившего ребенка, и большие глаза склонились долу. Фэт-Фрумос подошел, одной рукой обвил ее стан, второй нежно погладил волосы и лоб и прошептал:
— Как ты прекрасна, как я люблю тебя! Чья ты, красавица?
— Я дочь Лесовой, — вздохнула она. — Станешь ли ты любить меня и сейчас, когда узнал, кто я?
Она обвила обнаженными руками его шею и долго глядела ему прямо в очи.
— Какое мне дело до того, кто ты! — ответил он. — Я знаю, что люблю тебя.
— Коль любишь меня, давай убежим отсюда, — сказала она, прильнув к его груди. — Потому что застанет тебя мать, — убьет, а когда ты погибнешь, так и я сойду с ума или тут же в могилу лягу.
— Не бойся, — улыбнулся Фэт-Фрумос, высвобождаясь из объятий девы. — Где твоя мать?
— С тех пор, как вернулась, все мечется в ступе, в которую ты ее засадил, и грызет зубами цепи.
— Фэт-Фрумос, — добавила девица, и две большие слезы засверкали в ее глазах, — подожди, не ходи к ней. Прежде я научу тебя, как победить мою матушку. Видишь вот эти два бочонка? В одном из них вода, в другом — сила. Давай-ка мы их поменяем местами. Матушка, когда устает в сражении со своими врагами, кричит: "Погоди, давай-ка испьем водицы!" Тогда она пьет силу, а враг ее — простую воду. Вот мы и поменяем бочонки местами, а она, не зная об этом, во время боя с тобой будет пить простую воду.
Сказано — сделано.
Бросился Фэт-Фрумос туда, где ведьма в ступе ворочалась.
— Как дела, старуха? — крикнул он ей.
Ведьма со злобы рванулась всей силой, цепи на ступе оборвались, и она подскочила до самых туч.
— А! Добро, что ты явился, — молвила она, вернувшись на землю. — Ну, теперь выходи на бой, сейчас посмотрим, кто из нас сильнее.
— Давай! — согласился Фэт-Фрумос.
Перехватила его Лесовая вокруг пояса, мигом вытянулась до самой тучи и швырнула вниз так, что он вошел в землю по щиколотки.
Фэт-Фрумос тоже схватил ее и так ударил об землю, что вбил по колени.
— Погоди, давай испьем водицы! — попросила уставшая Лесовая.
Остановились они передохнуть. Ведьма выпила простой воды, а Фэт-Фрумос испил силы; благодатный огонь разлился у него по жилам и укрепил ослабевшие мышцы.
С удвоенной силой железными руками схватил он старуху и вбил ее в землю по самое горло. Затем треснул палицей по голове и мозги по ветру развеял.
Хмурые тучи обволокли небо, застонал холодный ветер, маленький домик содрогнулся и заскрипел всеми стропилами. Червонные змеи с треском рванули черные полы тучи, волны потоков зарокотали, зловеще загрохотал гром, словно пророча гибель. Сквозь густую, непроглядную тьму Фэт-Фрумос разглядел белеющую рядом серебристую тень — бледную, с распущенными золотыми волосами, с поднятыми ввысь руками. Он подошел к ней и обнял. Подавленная страхом, дева припала к нему и спрятала холодные руки у него на груди. Желая ее разбудить, от стал целовать ее глаза. Тучи в небе разорвались в клочья, пламенно-красная луна выглянула в просвет. И Фэт-Фрумос увидел, как на его груди зажигаются две голубые звездочки, ясные и удивленные, — глаза его любимой. Он схватил ее на руки и побежал сквозь бурю. А она положила голову к нему на грудь и казалась спящей. Добежав до царского сада, Фэт-Фрумос уложил ее в ладью, нарвал травы и цветов и, устроив ей мягкое ложе, перевез через озеро, словно в колыбели.
Взошедшее на востоке солнце любовно на них глядело. Ее намокшее от дождя платье прилипло к округлому, стройному телу, ее влажное лицо было бледно, точно белый воск, сплетенные руки лежали на груди, рассыпавшиеся волосы закрывали шею, глубоко впавшие глаза была закрыты — она была прекрасна, но казалась мертвой. Фэт-Фрумос положил на ее ясный белый лоб несколько голубых цветков, затем сел рядом и заиграл тихую дойну. Небо ясное, как море, жгучий шар солнца, благоуханье свежей травы и цветов усыпили девицу глубоко, и видела она ясные сны под сладкую мелодию флуера. Солнце достигло зенита, все вокруг молчало и Фэт-Фрумос прислушивался к ее спокойному дыханию, теплому и влажному. Он тихо склонился и поцеловал ее в щеку. Тогда она открыла глаза, из которых еще не исчезли видения сна, и, сладко потянувшись, спросила, улыбаясь:
— Ты здесь?
— Нет, меня здесь нет, разве ты не видишь, что меня здесь нет? — ответил Фэт-Фрумос, плача от счастья. Она протянула руку и обняла его.
— Вставай, вставай! — сказал Фэт-Фрумос, лаская ее. — Видишь, уже полдень.
Она встала, откинула волосы со лба на спину, Фэт-Фрумос обнял ее стан, она обвила его шею рукою, и так они прошли по грядкам цветов и вошли в мраморный царский дворец.
Фэт-Фрумос подвел девицу к царю и сказал, что это его нареченная. Царь улыбнулся, затем взял Фэт-Фрумоса за руку, словно хотел ему поведать тайну, и отвел к большому окну, сквозь которое было видно обширное озеро. Не сказал царь Фэт-Фрумосу ни слова, а только глядел в удивлении на озерную гладь и в глазах его появились слезы. Белый лебедь, раскинув крылья, точно серебристые паруса, и окунув голову в воду, рассекал ясное зеркало озера.
— Ты плачешь, царь? — спросил Фэт-Фрумос. — Отчего же?
— Фэт-Фрумос, — ответил царь, — добро, которое ты мне сделал, я не смогу оплатить даже собственной жизнью, как бы она мне ни была дорога. И все же я попрошу у тебя еще большего.
— Чего именно, государь?
— Видишь ты этого лебедя, влюбленного в волну? Я молод, мне следовало бы любить жизнь, и все же сколько раз мне хотелось наложить на себя руки. Люблю я девицу-красавицу с задумчивыми глазами, милую, как прекрасный сон. Она дочь Лютня, человека гордого и дикого, который всю жизнь охотится по лесам вековечным. О! Насколько он свиреп, настолько прекрасна его дочь. Все мои попытки похитить ее оказались тщетными. Попытайся это сделать ты!
Фэт-Фрумосу не хотелось и с места сдвинуться. Но, как и всякий витязь, он дорого ценил братство крестовое, дороже собственной жизни, дороже любимой невесты.
— Царь пресветлый, много счастья у тебя было в жизни, но в одном тебе особенно повезло: в том, что побратался ты с Фэт-Фрумосом. Ладно, пойду похищать дочь Лютня!
Выбрал себе Фэт-Фрумос коней ретивых, коней с ветровой душою, и стал готовиться в поход. Тогда его нареченная — звали ее Иляной — прошептала ему на ухо, нежно целуя:
— Не забывай, Фэт-Фрумос, что пока тебя здесь не будет, я не перестану плакать.
Глянул он на нее с жалостью, приласкал и, вырвавшись из ее объятий, вскочил в седло и умчался.
Ехал он по кодрам пустынным, по горам с заснеженным челом. Ночью, когда меж древних скал появилась бледная, как лицо мертвой девы, луна, перед его глазами проплывали то повисшие в небе чудовищные лохмотья, окутывающие вершину какой-нибудь горы, то мрачная руина былого — разрушенный, разнесенный по камешкам замок.
Когда рассвело, Фэт-Фрумос увидел, что цепь гор переходит в необозримое зеленое море, гладь которого лениво и звучно бороздят тысячи искристых волн; и сколько ни глядел он вдаль — только синее небо да море зеленое. В конце горного кряжа прямо над морем нависла величественная гранитная скала. А на ней, точно птичье гнездо, приютилась прекрасная крепость, столь белая, что казалась посеребренной. В арчатых стенах сверкало множество окон; одно из них было открыто, и Фэт-Фрумос увидел среди горшков с цветами смуглую голову девушки, с мечтательным, как летняя ночь, лицом. Это была дочь Лютня.
— Добро пожаловать, Фэт-Фрумос, — вскрикнула девушка и, соскочив с окна, открыла ему ворота замка, в котором она жила одна-одинешенька, точно дух пустыни. — Этой ночью мне снилось, будто говорила я со звездой, и звезда мне поведала, что ты придешь посланцем от царя, который меня любит.
В большой зале замка, в пепле очага, сидел на страже кот семиглавый. Когда одна голова мяукала, слышно было за день пути, а когда все семь мяукало, слышно было за семь дней пути.
Лютень, днем и ночью пропадая на своей дикой охоте, отдалился от замка на день пути.
Фэт-Фрумос взял девицу на руки, посадил ее на коня, и помчались они вдвоем вдоль пустынного берега морского, точно две едва уловимые воздушные тени.
Но у Лютня, высокого и сильного человека, был волшебный конь о двух сердцах. Кот в замке замяукал одной головой, а конь Лютня заржал своим бронзовым голосом.
— В чем дело? — спросил Лютень коня своего волшебного. — Иль тебе добрая жизнь надоела?
— Не надоела мне добрая жизнь, а вот с тобой худо приключилось. Фэт-Фрумос дочь твою увез.
— Сильно нам нужно спешить, чтобы нагнать их?
— Можно и поспешить, а можно и не очень. Нагнать их нетрудно.
Вскочил Лютень в седло и помчался, точно страшное привидение. Вскоре он догнал беглецов. Биться с Фэт-Фрумосом Лютень не стал, так как сам был христианином и нечистой силы в нем не было.
— Фэт-Фрумос, — молвил Лютень, — больно уж ты красив, и мне тебя жаль. Теперь я тебе ничего не сделаю, но в другой раз… помни!
И, посадив дочь к себе на коня, исчез, будто ветер, будто его и вовсе не было.
Но Фэт-Фрумос не зря был богатырем и не зря запомнил дорогу назад. Он вернулся и снова застал девушку одну. И хотя та была еще более грустна и заплакана, теперь она казалась еще красивее. Лютень опять уехал на охоту за два дня пути. На сей раз Фэт-Фрумос взял других коней, прямо из конюшни Лютня, и увез девицу ночью.
Мчались они, как быстрые лучи луны по высоким морским волнам, мчались сквозь холодную и пустынную ночь, как мчится милый сон; но в беге своем расслышали длинное двуголовое мяуканье кота, что остался в замке. Затем им показалось, будто и шагу дальше ступить не могут, подобно тому, как порой хочешь побежать во сне и не можешь. Затем их обволокло облако пыли — это Лютень мчался к ним во весь опор.
Брови его были насуплены, лицо было страшным. Не проронив ни звука, он схватил Фэт-Фрумоса, подбросил до самых черных грозовых облаков и, забрав свою дочь, растаял в ночи.
Фэт-Фрумоса сожгли молнии и только оставшаяся от него горсточка пепла упала на горячий песок пустыни. Но из пепла возник хрустальный ручей и потекли его воды по алмазным песчинкам; и выросли по берегам ручья густые зеленые деревья, окутав его прохладной тенью и приятным благоуханьем. Если бы кто-нибудь мог понять голос ручья, он узнал бы, что тот в нескончаемой дойне оплакивает златокудрую Иляну, нареченную Фэт-Фрумоса. Да кто может понять голос ручья в этой пустыне, куда до сих пор нога человечья не ступала?
В те давние времена господь ходил еще по земле. Однажды шли по пустыне два человека… Это были господь и святой Петр. У ручья господь напился воды и освежил лицо и руки. А когда они пошли дальше, святой Петр сказал:
— Господи, сделай так, чтоб этот ручей стал тем, чем он был раньше.
— Аминь! — сказал господь, подняв руку, и путники ушли.
Как по мановению волшебного жезла, исчезли и деревья и ручей, а Фэт-Фрумос, очнувшись от долгого сна, встал и огляделся вокруг… Тут он вспомнил, что пообещал похитить дочь Лютня, а коль богатырь пообещал сделать что-либо, нелегко ему от своего отступиться.
Пошел он снова в путь-дорогу и к вечеру добрался до замка Лютня, огромной тенью высившегося в вечерних сумерках. Вошел в замок и застал дочь Лютня всю в слезах. Как увидела она Фэт-Фрумоса, посветлело ее лицо, точно волна под ярким лучом. Рассказал он ей, как воскрес, а она ему и говорит:
— Украсть ты меня все равно не сможешь, пока не добудешь такого же коня, как у моего батюшки, — о двух сердцах в груди. Но я сегодня выведаю у отца, где он взял своего коня, дабы и ты себе добыл такого. А пока суд да дело, чтобы отец не застал тебя со мной, я превращу тебя в цветок.
Сел Фэт-Фрумос на стул, девица пошептала над ним заклинание нежное, и превратился он в темно-алый, точно спелая вишня, цветок. Упрятала его дочь Лютня среди прочих цветов на подоконнике и весело запела, так что весь замок зазвенел.
Как раз в это время вернулся и Лютень.
— Веселишься, дочь моя?.. А отчего ты так весела? — спросил он.
— Оттого, что нет больше на свете Фэт-Фрумоса и некому меня похищать, — ответила она ему смеясь.
Сели они ужинать.
— Отец, — спросила дочь, — а где ты взял того коня, на котором на охоту ездишь?
— Тебе-то зачем знать? — насупил брови Лютень.
— Ты прекрасно понимаешь, — ответила дочь, — что мне захотелось узнать это просто так. Теперь ведь нет уже Фэт-Фрумоса и некому меня похищать.
— А ты знаешь, что я ни в чем не могу тебе противиться, — сказал Лютень. — Далеко-далеко у берега морского живет одна старушка, у которой есть семь кобыл. Она нанимает людей, чтоб стерегли табун по году (хотя год у нее длится только три дня). Коли кто хорошо стережет, она разрешает ему выбрать себе в награду жеребенка, а коль плохо — убивает его и голову на кол сажает. Но даже и тех, кто хорошо стережет, она все равно старается обхитрить: вытаскивает из всех коней сердца и отдает их одному, так что человек почти всегда выбирает себе коня без сердца, который будет похуже любой обыкновенной клячи… Ты довольна, дочь моя?
— Довольна, — ответила она улыбаясь.
В тот же миг Лютень набросил ей на лицо легкий и пахучий красный платок. Дочь долго глядела отцу в глаза, как человек, который пробуждается от глубокого сна и ничего вспомнить не может. Она забыла все, о чем ей рассказал отец. Но цветок на окне подслушивал и подглядывал сквозь листву, точно красная звезда сквозь просветы в облаках.
На следующее утро Лютень снова уехал на охоту.
Девица поцеловала цветок, зашептала над ним заклинание, и Фэт-Фрумос возник перед ней, будто из-под земли.
— Ну, что ты узнала? — спросил он.
— Ничего не помню, — с грустью ответила девица, приложив ладонь ко лбу. — Все забыла.
— А я все слышал. Прощай, дитя мое. Скоро увидимся снова.
Сказав это, Фэт-Фрумос вскочил на коня и умчался в пустыню.
Солнце пекло немилосердно. Неподалеку от леса Фэт-Фрумос увидел вдруг в раскаленном песке комара, корчившегося в смертных муках.
— Фэт-Фрумос, — пропищал комар, — возьми меня с собой и отвези в лес. Когда-нибудь и я тебе сгожусь. Я царь комаров.
Взял Фэт-Фрумос комара и довез до леса, через который пролегал его путь.
Проехал он лес, выехал на пустынный берег морской и вдруг увидел в песке обожженного солнцем рака; рак совсем уж обессилел и не мог сам до воды дотащиться.
— Фэт-Фрумос, — проговорил рак. — Брось меня в море. И я тебе когда-нибудь сгожусь. Я царь раков.
Бросил его Фэт-Фрумос в море и поехал своей дорогой.
Под вечер подъехал он к ветхой землянке, крытой конским навозом. Вокруг землянки вместо забора торчали длинные острые колья и на шести из них болтались человечьи головы, а седьмой без головы покачивался на ветру и кричал: "Голову! голову! голову! голову!"
На завалинке, на драном тулупе, лежала сморщенная старуха, положив седую, как пепел, голову на колени служанке. Служанка искала у нее в волосах.
— Желаю вам здравствовать, — молвил Фэт-Фрумос.
— Добро пожаловать, парень, — ответила старуха, вставая. — С чем пожаловал? Чего здесь ищешь? Не хочешь ли кобыл моих покараулить?
— Хочу!
— Мои кобылы пасутся только ночью… Вот прямо сейчас можешь их выгонять на пастбище… Эй, девка! Накорми-ка парня той едой, что я состряпала и отправь его.
Рядом с землянкой был погреб. Фэт-Фрумос вошел туда и увидел семь чудесных черных кобыл, как семь черных ночей; они еще отроду не видывали света белого. Кобылы ржали и рыли землю копытами.
Весь день проведя натощак, Фэт-Фрумос поел то, что дала ему старуха, затем, сев верхом на одну из кобыл, погнал табун в прохладную ночную тьму. Вскоре им стал овладевать свинцовый сон, в глазах помутилось и Фэт-Фрумос повалился на траву, точно мертвый. Проснулся он только перед рассветом следующего дня. Глянул вокруг, а кобыл и след простыл. Он уж представлял свою голову на колу, как вдруг вдали, на опушке леса, появились все семь кобыл, гонимые целым роем комаров. Фэт-Фрумос услышал тонкий голосок:
— Ты мне сделал добро, и я тебе добром отплатил.
Как увидела старуха, что табун домой возвращается, чуть не взбесилась от злости. Стала она все вверх ногами переворачивать и ни в чем не повинную девушку колотить.
— Что с вами, матушка? — спросил Фэт-Фрумос.
— Ничего, — ответила старуха. — Так вот, напало на меня. На тебя я не сержусь… даже премного тобой довольна.
Подалась затем она на конюшню и стала кобыл колотить да покрикивать:
— Прячьтесь получше, побей вас кочерга, чтоб он не мог вас найти, заешь его леший, задави его смерть!
Поехал Фэт-Фрумос табун пасти и в следующий вечер, да опять свалился в траву и проспал чуть не до утра. Проснулся — кобыл и след простыл. Хотел он было в отчаянии бежать, куда глаза глядят, да вдруг видит — поднимаются кобылы со дна морского и тьма-тьмущая раков их клешнями подгоняет.
— Ты мне добро сделал, — расслышал Фэт-Фрумос чей-то голос, — и я тебе тем же отплатил.
Погнал он коней домой, и снова повторилось все, как в прошлый раз.
А днем подошла к нему служанка и, пожимая руку, шепнула:
— Я знаю, что ты Фэт-Фрумос. Ты не ешь тех яств, что старуха стряпает, она в них сонного зелья кладет. Я тебе другую еду принесу.
Приготовила служанка втайне еду, накормила Фэт-Фрумоса, а под вечер, когда он стал табун на пастбище выгонять, то почувствовал себя бодрым, как никогда. В полночь вернулся он домой, загнал кобыл на конюшню, запер их и сам вошел в землянку. В печи еще тлело несколько углей. Старуха лежала, растянувшись на лавке, и казалась мертвой. Фэт-Фрумос подумал, что она и впрямь умерла и стал ее трясти. А она продолжала лежать неподвижно, как бревно. Тогда он разбудил спавшую на печи служанку.
— Взгляни-ка. — сказал он ей, — старуха-то умерла.
— Вот еще! Так она и умрет! — вздохнула девушка. — Теперь она, верно, кажется мертвой. Сейчас полночь… смертный сон сковал ей тело… а душа ее, кто знает, по каким путям-дорогам носится да черное колдовство ткет. До самых петухов будет она сосать кровь умирающих или опустошать души несчастных… Да, бэдика, завтра исполняется год твоей службы. Возьми ты и меня с собой, могу тебе в пути сгодиться. Избавлю я тебя от многих бед, которые старуха тебе готовит.
Служанка достала со дна ветхого ларя точильный камень, щетку и платок и отдала ему.
На следующее утро вышел срок службы Фэт-Фрумоса. И должна была старуха отдать ему одного из своих коней и отпустить с миром. Пока он завтракал, ведьма ушла на конюшню, вытащила сердца у всех семи кобыл и вложила их в жалкого трехлетка — кожа да кости. Фэт-Фрумос встал из-за стола и, по уговору со старухой, пошел себе коня выбирать. Черные кобылы, у которых старуха вытащила сердца, лоснились от жиру. А тощий трехлеток, хранивший все сердца, лежал в углу на куче навоза.
— Вот этого беру, — сказал Фэт-Фрумос, показывая на трехлетка.
— Как же, прости господи, что же ты у меня — даром служил? — воскликнула хитрая старуха. — Как же тебе не получить то, что причитается? Выбери одну из этих прекрасных кобыл, бери любую, какая приглянется.
— Нет, мне этот приглянулся, — настаивал Фэт-Фрумос на своем.
Старуха бешено заскрипела зубами, но затем сжала челюсти, точно старые мельничные жернова, чтоб не брызнул изо рта яд ее души презлющей.
— Ладно, бери, — согласилась она наконец.
Фэт-Фрумос вскочил на коня, вскинул палицу на плечо и полетел со скоростью мысли, так что, казалось, будто вихрь несется по пустыне, вздымая тучею песок.
На опушке леса его ожидала сбежавшая служанка. Он поднял ее на коня, усадил за своей спиной и снова понесся во весь опор.
Ночь обволокла землю черной своей прохладой.
— Мне спину жжет! — вскрикнула вдруг девушка.


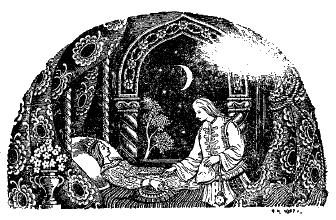 КЭЛИН ДУРЕНЬ
КЭЛИН ДУРЕНЬ

 НОРА ВЕТРА
НОРА ВЕТРА
 КРАСА МИРА
КРАСА МИРА
 Легко сказка сказывается, да нелегко дело делается.
Жил был охотник, бедный-пребедный, и было у него трое детей. Кормились они чем попало — подстрелит охотник где птицу, продаст ее, вот всем и пропитание. А вблизи от его дома лес обширный раскинулся, и звался он Черным лесом. Поговаривали сельчане, будто нельзя к лесу и близко подойти. До того был лес тот пустынен, что прошел слух, будто в полночь там черти собираются. Вот однажды бедняк и говорит своей жене:
— Вот что, жена, семи смертям не бывать, а одной не миновать; схожу-ка я в лес да посмотрю, не найду ли там чего.
Положила ему жена лепешку в торбу, вскинул он ружье на плечо и пошел. Дошел до леса, и великий страх его обуял… Но бедного человека нужда куда хочешь толкнет.
Шел он так, шел и дошел до высокого дерева с густой-прегустой листвою, а как оно зовется, я и сам не знаю. Глядь — а в листве птица прекрасная, перья из чистого золота. Задумался бедняк, как бы ее не застрелить, а живьем поймать; за живую-то больше денег дадут. Стал он гонять ее по дереву, влезла птица в дупло — тут он ее и поймал.
Не хотел бедняк ночи дожидаться, очень уж он лешего боялся, а взял добычу и отнес домой. Смастерил клетку хорошую и посадил в нее птицу. И хоть заметил он у птицы на зобу письмена какие-то, прочесть их не смог, так как грамоты не знал.
Поймал-то он птицу в субботу, а в воскресенье утром она снесла яйцо. Говорит охотник жене:
— Не стану я эту птицу продавать; видишь, она несется. Будем мы яйцами кормиться.
Взял охотник яйцо и понес его на базар. Спрашивает его купец:
— Что продаешь и сколько просишь?
— Продаю яйцо, а прошу за него тысячу лей.
А купец — они-то всегда хитрее — и говорит ему:
— Ну-ка покажи, что за яйцо.
Как увидел купец, что яйцо золотое и стоит много больше, тут же отсчитал тысячу лей.
Накупил охотник жене и детям всякой всячины и вернулся домой.
На следующее воскресенье птица снова снесла золотое яйцо. Пошел охотник на базар и опять запросил тысячу лей. Только, обратите внимание, и на сей раз ему попался тот же купец.
А когда охотник пришел и на третье воскресенье, купец призадумался да и стал расспрашивать, кто он да откуда. Надумал купец сходить посмотреть, откуда у бедняка яйца золотые.
Зашел к охотнику в избу и сразу заметил в углу клетку с птицей. Купец знал грамоту и прочел на птичьем зобу вот что: "Кто съест мое сердце, станет царем; кто съест мой пупок, сколько раз бы ни проснулся ночью, будет находить под подушкой набитый кошель; кто съест мою печень, тому во всем везти будет — на всех его путях и во всех его делах счастье ему будет сопутствовать".
Задумал купец обхитрить бедняка:
— Продай мне эту птицу.
— Не могу, господин. Она нужна мне и моим детям.
Бился с ним купец, бился, а бедняк все не соглашается птицу продать.
На следующий день охотник встал на заре, взял ружье и ушел на охоту. А хитрый купец пришел к его глупой жене да и говорит ей:
— Зачем тебе жить с бедняком, выходи лучше за меня. У меня и тебе, и детям твоим хорошо будет. А чтоб можно было нам пожениться, дай-ка я убью твоего мужика.
Подсыпал купец охотнику зелья в еду, и тот умер. Тогда купец и говорит жене:
— Я на тебе женюсь, но прежде зарежь и поджарь эту птицу. Только смотри, чтоб все в ней было на месте, мы ее сейчас же и съедим.
Глупая женщина согласилась. Зарезала птицу, поджарила и в печь убрала, а сама пошла хлопотать по хозяйству. Тут вошли в избу дети. Говорит один:
— Страшно я голоден! Мама изжарила птицу, давайте съедим по кусочку.
— Так она ведь для купца ее жарила, гляди, еще колотушек получим, — возразил другой. — А то давайте съедим то, что у нее внутри, и никто ничего не заметит.
Съел старший сердце, средний пупок, а младший печень. А без внутренностей птица теперь уж гроша ломаного не стоила.
Наевшись, мальчишки порешили: "Давайте, спрячемся, а то быть нам битыми". И, выбежав из дому, забились в яму на огороде.
Пришел купец, схватил птицу, а в ней самого главного и нет. Стал он кричать да лупить бедную женщину. Та и говорит:
— Никак дети съели, больше никто в избу не заходил.
Стал купец звать детей, думал зарезать их и съесть. Звал он их, звал, на печке искал, да так и не нашел. И ушел купец восвояси, покинув женщину в ветхой избе. Он так и думал сделать с самого начала, да решил господь, что уж лучше детям скушать волшебную птицу, чем купцу ее отдать.
Вот самый старший походил сколько походил по свету да и стал царем. А самый младший, тот, что съел печень, все сидел за столом, где уж ему счастья искать — был он ленив сверх всякой меры. А тот, что съел пупок, все находил под подушкой кошельки с деньгами и стал вскоре злейшим человеком. Любил он только пировать да, простите за выражение, за красивыми барыньками увиваться. Была в той стране дочь боярская, прекрасная-распрекрасная, так что все ее звали Красой мира. Стал он обивать пороги боярину, просить у него дочь, но тот и слушать не хотел. Вот пришел он однажды домой да и говорит матери:
— На что мне, матушка, деньги, коли не могу я жениться на той, что сердцу мила.
А мать ему в ответ:
— Милый сын, сходи еще разок, авось встретишься с ней.
Тем временем малыш, съевший печень, играл во дворе с другими мальчишками. Вот подошел к нему какой-то старичок и говорит:
— Милый мальчик, что ты здесь делаешь?
— Играю, дедушка.
— А пойдем с дедом, дам я тебе яблок и груш.
Мальчик, как мальчик, пошел за стариком, а тот его обманул. Это был страшный колдун, море мог заморозить. Он все колдовал в Черном лесу, да вдруг наткнулся на такое дело, которое только с помощью ребенка мог сделать. Повел он малыша в чащу лесную, довел до камня большого. Ударил старик трижды по камню, и земля в том месте разверзлась. Вот он и говорит мальчику:
— Сойди, мальчик, по этой лестнице под землю (там была лестница), дойдешь до сада дивного и увидишь там домик. Войдешь в домик и на печной трубе найдешь ключ. Возьми его, заткни за пояс и возвращайся ко мне. Но прихвати с собой вот эту палочку железную, без нее тебе не войти в дом (видать дело-то было на том свете).
Пошел мальчик потихоньку и дошел до сада.
И такая была красота в том саду — все золотые деревья кругом, — что мальчик диву дался. И, как любой ребенок, позабыл он, зачем пришел, и бросился собирать яблоки да груши. А там, знаете, как это делается — была на нем рубаха, ремешком подпоясанная, вот он и насыпал полную пазуху плодов. Пошел он уж было обратно, да тут вспомнил о ключе и вернулся за ним. Ключ был ржавый-прержавый… Побрел мальчик потихоньку обратно, к лестнице, у вершины которой ждал его дед. Хоть старик и обладал силой великой, да в рай ему пути были заказаны, потому и послал он ребенка. Дошел малыш до выхода, а старик кричит:
— Мэй, не выходи! Дай сюда ключ.
А мальчик в ответ:
— Не дам я тебе ключа, пока не выпустишь отсюда.
— Я тебя убью.
— Убей, если можешь.
Пнул старик ногой землю, и земля закрылась.
Что тут делать бедному мальчику? Подумал он было вернуться в тот сад, где раньше побывал. Да при закрытой земле дивный сад исчез. Мальчик горько заплакал. Вытирая слезы, потер железную палочку, которую дал ему старик, и вдруг вырос перед ним железный человек. Это был нечистый дух.
— Эй, мальчик, как ты сюда попал?
— Так, мол, и так, — рассказал ему мальчик.
— Я тебя вынесу отсюда, малыш, но прежде зажарь мне десятка два коров, дабы мне хватило еды в пути.
Посадил он мальчика на голову, взвалил на одно плечо двадцать жареных коров, на другое — несколько бочонков то ли с водой, то ли с вином — не знаю, дал мальчику нож и ковшик и двинулся в путь, говоря:
— Когда мне захочется есть, отрежешь ножом кусок мяса и накормишь меня; а когда меня будет мучить жажда, наберешь в ковшик воды и напоишь меня.
Шел он, шел, шел днем и ночью Дело было в преисподней, и стояла там такая тьма кромешная, что не видно было ни зги. Видит мальчик — кончается мясо и вода питьевая кончается. А нечистый дух ему и говорит:
— Коль повезет тебе, и хватит мне еды и питья, не съем я тебя. А коли не хватит — съем. Погляди-ка вверх, не видать ли солнца?
— Вижу что-то вроде огонька от спички.
Шел он еще, шел и осталось только пол жареной коровы. А дорога еще дальняя.
Дошел он уж было совсем близко к щели в земной коре, вода еще осталась, а еда уже вся вышла.
— Дай мне кушать, я голоден.
Что делать мальчику? Взял он нож, отрезал кусок собственного бедра, дал нечистому духу; тот съел, запил водой и пошел дальше. Вот вышли они на поверхность земли. Ссадил он мальчика на землю, да и спрашивает:
— Скажи правду, чем ты меня накормил в последний раз?
— Если говорить правду, отрезал я кусок от своего бедра.
— Если говорить правду, коли б я знал, что ты так сладок, я б не вынес тебя наверх.
— Теперь-то уж ты меня съесть не можешь. Здесь мне привольно, а тебе муторно…
И железный человек исчез.
А мальчик страшно проголодался, бедняга, только забыл он о грушах и яблоках, что держал за пазухой, да и о ключе позабыл. Встал он, побежал и явился домой к матушке. Хоть и был он лодырь, да ума ему не занимать стать. Вошел в избу, а матушка его жила бедно-пребедно. Знаете, как оно бывает, когда человек на большое панство вознесется: хоть один сын у нее царем был, другой богатеем, а мать содержать некому.
— Мама, нет ли у тебя огарка свечи, чтоб зажечь?
— Есть, мальчик мой.
Зажгла она огарок, а сын ей и говорит:
— Господи, мама, как я голоден. Вот у меня яблоки да груши, но теперь жалко мне будет их есть.
Он, бедный, и не заметил, что плоды золотые, и положил их под лавку.
— А еще у меня есть ключ, да очень уж он поржавел. Ты протри его, мама, да продай и купи мне хлеба.
Потерла она ключ разок-другой и явились к ним железные люди.
— Чего прикажете, хозяева? (А это был ключ от ада и давал он власть над нечистыми).
Женщина страх как испугалась, а мальчик сразу понял, что к чему.
— Обед нам подайте да вина доброго.
Мигом явились повара и стали столы накрывать. Чего только там не было! Попировали они вволю, а потом мальчик прибрал ключ и говорит:
— Ну, мама, этому ключу я теперь хозяин!
Прошло время, вырос он, хоть сейчас в женихи. Как-то раз сказал он матери:
— Слыхал я, мама, что у царя дочь — красавица. Хочу ее взять в жены.
— Милый мой, как же ты, такой бедный парень, возьмешь царскую дочь? Что за глупости ты болтаешь?
— А коль так мне захотелось? Будь мне, мама, свахой.
— Да как же я, мальчик мой, попаду туда?
— Иди, иди, мама!
— Как же мне идти с пустыми руками?
— А погляди-ка, не сгнили ли те яблоки да груши? Отнеси их царю.
— Верно сказываешь, сыночек мой.
Собрала старуха плоды в платок, перевязалась полотенцем и пошла. Вот и ворота царского дворца. Сидит царь на золотом крылечке и видит, как стража борется с женщиной, не дает ей войти. А царь был добрый, не такой, как нынешний. Подумал он, что женщина пришла к нему с челобитной.
— Впустите ее, эй! Чего тебе, тетушка?
— Так и так, пресветлый царь, пришла я по важному делу.
— По какому такому делу?
— Возьми вот прежде калачи.
Увидел царь золотые яблоки и груши и диву дался, что наша простая баба принесла ему такие плоды, какие и при царских дворах не водятся.
— Хочет мой сын на твоей дочери жениться, государь.
Подумал царь чуток да и решил: спятила баба!
— Коли твой сын, — говорит, — до завтрашнего утра вместо вашей избушки построит такой же дворец, как мой, и сад такой, как мой, да протянет до моего дворца дорогу, обсаженную деревьями, да на каждом дереве птицы петь будут, — отдам я ему дочь свою.
— Будь здоров, государь, — сказала женщина и вернулась домой.
— Вот, мальчик мой, что он сказал.
— Ладно, мама, до завтрашнего дня все сделаю.
Потер он ключ, и снова явилось пятеро железных людей.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Чтоб до завтрашнего утра здесь стоял дворец стеклянный, золотом крытый, и чтоб вела от него дорожка, обсаженная деревьями, и чтоб одни деревья расцветали, другие листья распускали, с третьих листья бы опадали, — все чтоб были разные. А дорожка чтоб была бархатной, а трава шелковой, и у каждого дерева чтоб стоял солдат с саблей наголо, а птицы чтоб пели сладко-пресладко и царю с царевной спать не давали!..
Ну вот! Задолго до рассвета все было готово. Проснулся царь утром и говорит дочери:
— С коих пор живу в этом дворце, никогда птицы так сладко не пели, как нынче. (Он никак не ожидал того, что случилось, а думал, что это в его саду птицы поют.)
А как вышел он во двор и увидел все, сказал:
— Уж большая у этого человека сила!
Говорит парень:
— Пойди, мама, и попроси у него дочь, пусть отдаст ее мне!
Пошла старуха к царю, а тот водит ее за нос, не хочет отдавать дочь за простого парня.
— Так вот что, тетушка: коли он ровно через неделю приедет ко мне в золотой карете, запряженной лошадьми, которые ели бы угли и пили бы пламя, отдам я ему дочь.
А царевна как раз в тот день должна была пойти под венец с неким царевичем.
— Выполню я и это, мама.
Вдруг слышит парень гул толпы с улицы.
— Что бы это могло быть, мама?
А мать отвечает:
— Это царская дочь замуж выходит.
— А кто ее берет?
— Такой-то царевич. Видишь, милый мой, зря ты меня на посмешище выставил.
— Ладно, мама, все равно он ее мне отдаст.
А время было зимнее. Взял он ключ, потер, и явился железный человек.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Царевна сегодня венчается. Когда молодые уснут, возьмешь жениха и вынесешь его во двор, а невесту снесешь в погреб. А на заре отнесешь обоих на место.
Наутро вошел царь в опочивальню молодых и спрашивает:
— Ну, милые мои, как вы спали?
— Мне, отец, было страшно холодно.
— А я, ей-богу, не знаю, где была. Хотела зажечь свечу, да не могла ее найти, и ни кровати не было, ни камина.
— Снилось это вам!
— Что ты, отец! Я вот даже кончики пальцев обморозил.
— А я отдышаться никак не могу.
— Что же вы не велели слуге, чтоб затопил камин? Ничего с вами не станется.
На следующий вечер парень снова потер ключ.
— Что прикажешь, хозяин?
— Ступай, и как только зять царев уснет, уложи его в снежный сугроб, а нареченную его вынеси на крышу.
Холодно было на крыше, но снега все же не было. Царевич совсем замерз, а царевну парень пожалел. Только полночи велел ее на крыше держать. Жениха утром нашли в постели окоченелого. Собрались лекари, да делать уж было нечего — помер, бедняга.
Вот прошла неделя. Взял парень ключ и снова вызвал слугу своего.
— Завтра утром доставишь мне карету золотую да коней таких, чтоб угли ели и пламя пили, да самое красивое платье на свете мне принесешь.
Сел он на следующее утро в карету и отправился к царю.
— Что скажешь, богатырь? — спрашивает царь.
— Приехал я дочь твою сватать.
Он, видите, прикинулся, будто ничего не знает о первом зяте. Отдал ему царь дочь, сыграли они свадьбу славную, и отвез ее парень к себе во дворец — души в ней не чаял, глаз с нее не сводил.
Только дознался колдун, что парень из преисподни вышел. Что же ему такое сделать, чтоб одолеть парня? Он-то, хоть и был колдуном великим, но имел в услужении только двух леших, а тот ключом от ада владел. И ключ он всегда клал на печной карниз. Только один слуга знал о нем. Да слуга-то был умом обижен.
Колдун собрал множество ключей, золотых да серебряных, и однажды, когда парень ушел с царевной на прогулку, явился к воротам замка и стал кричать:
— Кто мне даст ржавый ключ, получит взамен золотой!
И слуга, так как был он умом обижен, надумал сослужить хозяину службу добрую, обменять ржавый ключ на золотой. Так он и сделал. Эгей! Забрал колдун ключ и с ним всю силу у парня отнял.
Пришел тот с прогулки, а от замка и следа не осталось. И остался он, бедняга, без крова в чистом поле — и избушки-то старой уже не было. А царь послал ему через слугу такую весть, что коли через три дня не будет замка на старом месте, не видать ему больше царевны. Вы-то уже знаете, что лучше бы у парня жизнь отняли, чем жену любимую. Да и царевна его очень любила… А любовь — большое дело! Как тут быть? Пролетели назначенные три дня, а он так и не смог замок на место поставить. Распростился он с женой — ну и слёз там было!
— Пойду я теперь по белу свету!
Шел он, шел и дошел до какого-то пруда.
— Ну, делать мне теперь нечего, утоплюсь!
Но так как потирал он руки о палочку, которую дал ему колдун, когда в преисподню опускал, глядь — стоит перед ним железный человек.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Достань мне ключ от ада.
— Ключа от ада не могу я тебе достать.
— Что же мне делать? Скажи мне хоть, где он лежит.
— Колдун, дабы никто до него не добрался, поставил свой замок посреди Прута[29]. А ключ он держит в головах, под подушкой.
— Что же мне делать, как добраться туда?
— Возьми вот этот кусок железа, перекувырнись через него трижды и обернешься мухой.
И железный человек исчез. Взял парень железо, перекувырнулся через него трижды, обернулся мухой и полетел к Пруту. Прилетел он к замку, а колдун после обеда спать лег. Стал парень думать, как в замок проникнуть. На окнах — ставни глухие, как бывало встарь.
— Пролезу в замочную скважину!
Пролез он и сел на край печи. Тут колдун проснулся и стал колотить молотками по полу. Как полезут из-под пола черт за чертями, муху дрожь прошибла. Стал их колдун рассылать кого куда на лихие дела… Покончив с этим, колдун вышел из опочивальни. Взвилась муха, схватила ключ из-под подушки и полетела прочь. И так рад был парень, что сможет снова жить с царевной, — просто передать трудно! Он ведь не о себе пекся, за нее душа болела. Потер он ключ, явились железные люди.
— Поставьте мне снова замок, точно такой, как был прежде.
А колдуну что делать?
Жила в том свете святая дева. В те времена люди были добрыми, не то что нынешние, были среди них святые. Как заболеет кто — святая дева только рукой коснется, и все пройдет.
Тут как раз заболела царевна, жена нашего парня. Болезнь не страшная, не болеть бы мне хуже, да стоило ей только "ой" сказать, а парень уже убивался.
Позвали к ней деву святую. А колдун взял да переоделся в ее одежды и явился вместо нее во дворец. Положил он царевне руку на лоб, будто заклинание творит, а как только парень вышел из опочивальни, говорит:
— Господи, ваше величество, сколько у тебя в доме прекрасных распрекрасных вещей, а вот дивного яйца мраморного и нету.
— А что это за яйцо, тетушка?
— То, которое лежит в сердце земли.
— Вот скажу я мужу, чтоб послал кого-нибудь найти его.
Ушел колдун. Вошел парень в дом.
— Ну, — говорит ему жена, — вот что сказала мне дева святая.
— Сейчас я ключ потру, дорогая.
Потер он ключ, явились два железных человека.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Достаньте мне из-под земли яйцо мраморное.
— Побей тебя кочерга, сколько мы тебе дел переделали, даже ключ от ада отдали, а теперь ты хочешь всю нашу силушку забрать? (Видите ли, колдун нарочно так подстроил, надеясь, что лешие удавят парня). Убили бы мы тебя, да знаем, что не твоя в этом вина, и прощаем. Только знай: это колдун к вам приходил под видом святой девы. Сегодня он явится снова, принесет с собой большущий нож, и, притворяясь, будто кладет руку на голову царевны, убьет ее.
Сказали это железные люди и исчезли.
Услышал парень такое и весь задрожал. Приготовил он свой ятаган, а как пришел колдун, заставил слуг раздеть его донага. И впрямь, нашли на нем нож большущий, вроде садового. Разрубил его парень ятаганом на мелкие кусочки.
Зажили теперьмолодые счастливо, позабыли вкус горя-горького. И однажды сказал он жене:
— Душенька, поедем-ка разыскивать братьев моих. (Матушка его умерла уже.)
Собрались они в путь-дорогу и поехали. Ехали, ехали, пока доехали до брата-царя.
А царь в это время вел войну тяжкую с соседним государем. И так ему было худо, что передать трудно. Увидев брата, обрадовался он очень:
— Раз уж ты царским зятем стал, помоги мне врага одолеть.
Собрали они войско пребольшое и, наконец, одержали победу.
Вот теперь оба брата счастливы были. Только гот, что пупок проглотил, еще горе мыкал. Пошел он следом за Красой мира. Вздумал было войти в терем боярский, да слуги его не пустили. Тогда он закатил бал невиданный, на который приехала и Краса мира. И была она так красива, что только вошла в залу — весь бал осветила. Да вот… прошу у вас прощения, под утро, после гулянки, велел хозяин принести столы и засели гости за карты. Хозяин сделал все возможное, чтобы сесть за один стол с красавицей. И хотя ему и везло, а прикинулся, будто проигрывает, и все ей отдавал. Очень уж любил он ее.
А Краса мира, увидев такие кучи денег, подивилась да и говорит отцу своему:
— Давай, отец, пригласим его к нам. (Знаете вы, как женщины, хоть наши, хоть ваши… до денег падки.)
Вот пришел он к ней однажды вечером, принес с собой шесть кошелей с золотыми, сел играть в карты и все ей отдал, даже пятачка себе не оставил. Увидела красотка, что парень остался без гроша, и потеряла к нему всякий интерес. Только на улице дождь лил, как из ведра, и волей-неволей пришлось его пригласить, чтоб остался ночевать. Лег он спать и сколько раз за ночь просыпался, столько раз находил под подушкой новый кошель с золотыми.
Наутро слуга принес воду, умылся он и дал слуге двадцать золотых на чай. Побежал слуга рассказать хозяйке. А она себе думает:
"Откуда у этого человека столько денег берется?"
Пошла она к нему в опочивальню и говорит:
— Выйду я за тебя замуж, коли ты мне скажешь, где деньги берешь.
Он, глупый, возьми да и расскажи. А она приготовила ему кофе да подсыпала туда какого-то зелья. Заболел парень, стало его тошнить и вытошнило пупок. Красотка его схватила, омыла бог знает чем, духами надушила и проглотила, а парня выгнала. Захотелось ей самой деньги под подушкой находить… У него только и осталось, что десяток кошелей с золотыми от последней ночи. Сел он на коня и поехал, куда глаза глядят. Ехал он, ехал да выехал на цветущее поле. Нагнулся конь, пощипал цветов и превратился в осла.
Тогда парень сорвал букетики цветов и положил в карман. Поехал он дальше верхом на осле и доехал до пруда. Осел нагнулся, воды напился и снова стал конем.
— Эге! — говорит парень. — И это неплохо.
Набрал он бутылку воды и повернул обратно. Доехал туда, где жила Краса мира, и на остаток денег снова закатил бал невиданный. Прибежала она, чтоб узнать, откуда у него деньги взялись.
— Где ты деньги добыл?
— Вот из этого букетика.
Дал он ей понюхать цветы, и она превратилась в ослицу. Оставил он ее в доме, а сам вышел.
Слуга ждал, ждал на улице свою хозяйку, да вот горе — словно в воду канула. Вошел он в дом и нашел там только ослицу.
А парень сел на нее верхом, отвез домой да и дает ей сена…
Говорит ослица:
— Никогда я тебя больше обманывать не буду и пупок верну, только сделай меня снова такой, какой я была прежде.
Однако много она ему зла причинила, и решил парень поехать на ней верхом к своему брату-царю. Там он застал и третьего брата, женатого на царевне. Когда рассказал он братьям, что ослица — это Краса мира, стали они его упрашивать:
— Прости ее!
Простил он Красу мира, дал ей испить воды волшебной, и она снова обернулась человеком.
И стало теперь три царя в одной стране, и все они были счастливы. А я рассказал вам сказку, дайте мне бубликов вязку.
Легко сказка сказывается, да нелегко дело делается.
Жил был охотник, бедный-пребедный, и было у него трое детей. Кормились они чем попало — подстрелит охотник где птицу, продаст ее, вот всем и пропитание. А вблизи от его дома лес обширный раскинулся, и звался он Черным лесом. Поговаривали сельчане, будто нельзя к лесу и близко подойти. До того был лес тот пустынен, что прошел слух, будто в полночь там черти собираются. Вот однажды бедняк и говорит своей жене:
— Вот что, жена, семи смертям не бывать, а одной не миновать; схожу-ка я в лес да посмотрю, не найду ли там чего.
Положила ему жена лепешку в торбу, вскинул он ружье на плечо и пошел. Дошел до леса, и великий страх его обуял… Но бедного человека нужда куда хочешь толкнет.
Шел он так, шел и дошел до высокого дерева с густой-прегустой листвою, а как оно зовется, я и сам не знаю. Глядь — а в листве птица прекрасная, перья из чистого золота. Задумался бедняк, как бы ее не застрелить, а живьем поймать; за живую-то больше денег дадут. Стал он гонять ее по дереву, влезла птица в дупло — тут он ее и поймал.
Не хотел бедняк ночи дожидаться, очень уж он лешего боялся, а взял добычу и отнес домой. Смастерил клетку хорошую и посадил в нее птицу. И хоть заметил он у птицы на зобу письмена какие-то, прочесть их не смог, так как грамоты не знал.
Поймал-то он птицу в субботу, а в воскресенье утром она снесла яйцо. Говорит охотник жене:
— Не стану я эту птицу продавать; видишь, она несется. Будем мы яйцами кормиться.
Взял охотник яйцо и понес его на базар. Спрашивает его купец:
— Что продаешь и сколько просишь?
— Продаю яйцо, а прошу за него тысячу лей.
А купец — они-то всегда хитрее — и говорит ему:
— Ну-ка покажи, что за яйцо.
Как увидел купец, что яйцо золотое и стоит много больше, тут же отсчитал тысячу лей.
Накупил охотник жене и детям всякой всячины и вернулся домой.
На следующее воскресенье птица снова снесла золотое яйцо. Пошел охотник на базар и опять запросил тысячу лей. Только, обратите внимание, и на сей раз ему попался тот же купец.
А когда охотник пришел и на третье воскресенье, купец призадумался да и стал расспрашивать, кто он да откуда. Надумал купец сходить посмотреть, откуда у бедняка яйца золотые.
Зашел к охотнику в избу и сразу заметил в углу клетку с птицей. Купец знал грамоту и прочел на птичьем зобу вот что: "Кто съест мое сердце, станет царем; кто съест мой пупок, сколько раз бы ни проснулся ночью, будет находить под подушкой набитый кошель; кто съест мою печень, тому во всем везти будет — на всех его путях и во всех его делах счастье ему будет сопутствовать".
Задумал купец обхитрить бедняка:
— Продай мне эту птицу.
— Не могу, господин. Она нужна мне и моим детям.
Бился с ним купец, бился, а бедняк все не соглашается птицу продать.
На следующий день охотник встал на заре, взял ружье и ушел на охоту. А хитрый купец пришел к его глупой жене да и говорит ей:
— Зачем тебе жить с бедняком, выходи лучше за меня. У меня и тебе, и детям твоим хорошо будет. А чтоб можно было нам пожениться, дай-ка я убью твоего мужика.
Подсыпал купец охотнику зелья в еду, и тот умер. Тогда купец и говорит жене:
— Я на тебе женюсь, но прежде зарежь и поджарь эту птицу. Только смотри, чтоб все в ней было на месте, мы ее сейчас же и съедим.
Глупая женщина согласилась. Зарезала птицу, поджарила и в печь убрала, а сама пошла хлопотать по хозяйству. Тут вошли в избу дети. Говорит один:
— Страшно я голоден! Мама изжарила птицу, давайте съедим по кусочку.
— Так она ведь для купца ее жарила, гляди, еще колотушек получим, — возразил другой. — А то давайте съедим то, что у нее внутри, и никто ничего не заметит.
Съел старший сердце, средний пупок, а младший печень. А без внутренностей птица теперь уж гроша ломаного не стоила.
Наевшись, мальчишки порешили: "Давайте, спрячемся, а то быть нам битыми". И, выбежав из дому, забились в яму на огороде.
Пришел купец, схватил птицу, а в ней самого главного и нет. Стал он кричать да лупить бедную женщину. Та и говорит:
— Никак дети съели, больше никто в избу не заходил.
Стал купец звать детей, думал зарезать их и съесть. Звал он их, звал, на печке искал, да так и не нашел. И ушел купец восвояси, покинув женщину в ветхой избе. Он так и думал сделать с самого начала, да решил господь, что уж лучше детям скушать волшебную птицу, чем купцу ее отдать.
Вот самый старший походил сколько походил по свету да и стал царем. А самый младший, тот, что съел печень, все сидел за столом, где уж ему счастья искать — был он ленив сверх всякой меры. А тот, что съел пупок, все находил под подушкой кошельки с деньгами и стал вскоре злейшим человеком. Любил он только пировать да, простите за выражение, за красивыми барыньками увиваться. Была в той стране дочь боярская, прекрасная-распрекрасная, так что все ее звали Красой мира. Стал он обивать пороги боярину, просить у него дочь, но тот и слушать не хотел. Вот пришел он однажды домой да и говорит матери:
— На что мне, матушка, деньги, коли не могу я жениться на той, что сердцу мила.
А мать ему в ответ:
— Милый сын, сходи еще разок, авось встретишься с ней.
Тем временем малыш, съевший печень, играл во дворе с другими мальчишками. Вот подошел к нему какой-то старичок и говорит:
— Милый мальчик, что ты здесь делаешь?
— Играю, дедушка.
— А пойдем с дедом, дам я тебе яблок и груш.
Мальчик, как мальчик, пошел за стариком, а тот его обманул. Это был страшный колдун, море мог заморозить. Он все колдовал в Черном лесу, да вдруг наткнулся на такое дело, которое только с помощью ребенка мог сделать. Повел он малыша в чащу лесную, довел до камня большого. Ударил старик трижды по камню, и земля в том месте разверзлась. Вот он и говорит мальчику:
— Сойди, мальчик, по этой лестнице под землю (там была лестница), дойдешь до сада дивного и увидишь там домик. Войдешь в домик и на печной трубе найдешь ключ. Возьми его, заткни за пояс и возвращайся ко мне. Но прихвати с собой вот эту палочку железную, без нее тебе не войти в дом (видать дело-то было на том свете).
Пошел мальчик потихоньку и дошел до сада.
И такая была красота в том саду — все золотые деревья кругом, — что мальчик диву дался. И, как любой ребенок, позабыл он, зачем пришел, и бросился собирать яблоки да груши. А там, знаете, как это делается — была на нем рубаха, ремешком подпоясанная, вот он и насыпал полную пазуху плодов. Пошел он уж было обратно, да тут вспомнил о ключе и вернулся за ним. Ключ был ржавый-прержавый… Побрел мальчик потихоньку обратно, к лестнице, у вершины которой ждал его дед. Хоть старик и обладал силой великой, да в рай ему пути были заказаны, потому и послал он ребенка. Дошел малыш до выхода, а старик кричит:
— Мэй, не выходи! Дай сюда ключ.
А мальчик в ответ:
— Не дам я тебе ключа, пока не выпустишь отсюда.
— Я тебя убью.
— Убей, если можешь.
Пнул старик ногой землю, и земля закрылась.
Что тут делать бедному мальчику? Подумал он было вернуться в тот сад, где раньше побывал. Да при закрытой земле дивный сад исчез. Мальчик горько заплакал. Вытирая слезы, потер железную палочку, которую дал ему старик, и вдруг вырос перед ним железный человек. Это был нечистый дух.
— Эй, мальчик, как ты сюда попал?
— Так, мол, и так, — рассказал ему мальчик.
— Я тебя вынесу отсюда, малыш, но прежде зажарь мне десятка два коров, дабы мне хватило еды в пути.
Посадил он мальчика на голову, взвалил на одно плечо двадцать жареных коров, на другое — несколько бочонков то ли с водой, то ли с вином — не знаю, дал мальчику нож и ковшик и двинулся в путь, говоря:
— Когда мне захочется есть, отрежешь ножом кусок мяса и накормишь меня; а когда меня будет мучить жажда, наберешь в ковшик воды и напоишь меня.
Шел он, шел, шел днем и ночью Дело было в преисподней, и стояла там такая тьма кромешная, что не видно было ни зги. Видит мальчик — кончается мясо и вода питьевая кончается. А нечистый дух ему и говорит:
— Коль повезет тебе, и хватит мне еды и питья, не съем я тебя. А коли не хватит — съем. Погляди-ка вверх, не видать ли солнца?
— Вижу что-то вроде огонька от спички.
Шел он еще, шел и осталось только пол жареной коровы. А дорога еще дальняя.
Дошел он уж было совсем близко к щели в земной коре, вода еще осталась, а еда уже вся вышла.
— Дай мне кушать, я голоден.
Что делать мальчику? Взял он нож, отрезал кусок собственного бедра, дал нечистому духу; тот съел, запил водой и пошел дальше. Вот вышли они на поверхность земли. Ссадил он мальчика на землю, да и спрашивает:
— Скажи правду, чем ты меня накормил в последний раз?
— Если говорить правду, отрезал я кусок от своего бедра.
— Если говорить правду, коли б я знал, что ты так сладок, я б не вынес тебя наверх.
— Теперь-то уж ты меня съесть не можешь. Здесь мне привольно, а тебе муторно…
И железный человек исчез.
А мальчик страшно проголодался, бедняга, только забыл он о грушах и яблоках, что держал за пазухой, да и о ключе позабыл. Встал он, побежал и явился домой к матушке. Хоть и был он лодырь, да ума ему не занимать стать. Вошел в избу, а матушка его жила бедно-пребедно. Знаете, как оно бывает, когда человек на большое панство вознесется: хоть один сын у нее царем был, другой богатеем, а мать содержать некому.
— Мама, нет ли у тебя огарка свечи, чтоб зажечь?
— Есть, мальчик мой.
Зажгла она огарок, а сын ей и говорит:
— Господи, мама, как я голоден. Вот у меня яблоки да груши, но теперь жалко мне будет их есть.
Он, бедный, и не заметил, что плоды золотые, и положил их под лавку.
— А еще у меня есть ключ, да очень уж он поржавел. Ты протри его, мама, да продай и купи мне хлеба.
Потерла она ключ разок-другой и явились к ним железные люди.
— Чего прикажете, хозяева? (А это был ключ от ада и давал он власть над нечистыми).
Женщина страх как испугалась, а мальчик сразу понял, что к чему.
— Обед нам подайте да вина доброго.
Мигом явились повара и стали столы накрывать. Чего только там не было! Попировали они вволю, а потом мальчик прибрал ключ и говорит:
— Ну, мама, этому ключу я теперь хозяин!
Прошло время, вырос он, хоть сейчас в женихи. Как-то раз сказал он матери:
— Слыхал я, мама, что у царя дочь — красавица. Хочу ее взять в жены.
— Милый мой, как же ты, такой бедный парень, возьмешь царскую дочь? Что за глупости ты болтаешь?
— А коль так мне захотелось? Будь мне, мама, свахой.
— Да как же я, мальчик мой, попаду туда?
— Иди, иди, мама!
— Как же мне идти с пустыми руками?
— А погляди-ка, не сгнили ли те яблоки да груши? Отнеси их царю.
— Верно сказываешь, сыночек мой.
Собрала старуха плоды в платок, перевязалась полотенцем и пошла. Вот и ворота царского дворца. Сидит царь на золотом крылечке и видит, как стража борется с женщиной, не дает ей войти. А царь был добрый, не такой, как нынешний. Подумал он, что женщина пришла к нему с челобитной.
— Впустите ее, эй! Чего тебе, тетушка?
— Так и так, пресветлый царь, пришла я по важному делу.
— По какому такому делу?
— Возьми вот прежде калачи.
Увидел царь золотые яблоки и груши и диву дался, что наша простая баба принесла ему такие плоды, какие и при царских дворах не водятся.
— Хочет мой сын на твоей дочери жениться, государь.
Подумал царь чуток да и решил: спятила баба!
— Коли твой сын, — говорит, — до завтрашнего утра вместо вашей избушки построит такой же дворец, как мой, и сад такой, как мой, да протянет до моего дворца дорогу, обсаженную деревьями, да на каждом дереве птицы петь будут, — отдам я ему дочь свою.
— Будь здоров, государь, — сказала женщина и вернулась домой.
— Вот, мальчик мой, что он сказал.
— Ладно, мама, до завтрашнего дня все сделаю.
Потер он ключ, и снова явилось пятеро железных людей.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Чтоб до завтрашнего утра здесь стоял дворец стеклянный, золотом крытый, и чтоб вела от него дорожка, обсаженная деревьями, и чтоб одни деревья расцветали, другие листья распускали, с третьих листья бы опадали, — все чтоб были разные. А дорожка чтоб была бархатной, а трава шелковой, и у каждого дерева чтоб стоял солдат с саблей наголо, а птицы чтоб пели сладко-пресладко и царю с царевной спать не давали!..
Ну вот! Задолго до рассвета все было готово. Проснулся царь утром и говорит дочери:
— С коих пор живу в этом дворце, никогда птицы так сладко не пели, как нынче. (Он никак не ожидал того, что случилось, а думал, что это в его саду птицы поют.)
А как вышел он во двор и увидел все, сказал:
— Уж большая у этого человека сила!
Говорит парень:
— Пойди, мама, и попроси у него дочь, пусть отдаст ее мне!
Пошла старуха к царю, а тот водит ее за нос, не хочет отдавать дочь за простого парня.
— Так вот что, тетушка: коли он ровно через неделю приедет ко мне в золотой карете, запряженной лошадьми, которые ели бы угли и пили бы пламя, отдам я ему дочь.
А царевна как раз в тот день должна была пойти под венец с неким царевичем.
— Выполню я и это, мама.
Вдруг слышит парень гул толпы с улицы.
— Что бы это могло быть, мама?
А мать отвечает:
— Это царская дочь замуж выходит.
— А кто ее берет?
— Такой-то царевич. Видишь, милый мой, зря ты меня на посмешище выставил.
— Ладно, мама, все равно он ее мне отдаст.
А время было зимнее. Взял он ключ, потер, и явился железный человек.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Царевна сегодня венчается. Когда молодые уснут, возьмешь жениха и вынесешь его во двор, а невесту снесешь в погреб. А на заре отнесешь обоих на место.
Наутро вошел царь в опочивальню молодых и спрашивает:
— Ну, милые мои, как вы спали?
— Мне, отец, было страшно холодно.
— А я, ей-богу, не знаю, где была. Хотела зажечь свечу, да не могла ее найти, и ни кровати не было, ни камина.
— Снилось это вам!
— Что ты, отец! Я вот даже кончики пальцев обморозил.
— А я отдышаться никак не могу.
— Что же вы не велели слуге, чтоб затопил камин? Ничего с вами не станется.
На следующий вечер парень снова потер ключ.
— Что прикажешь, хозяин?
— Ступай, и как только зять царев уснет, уложи его в снежный сугроб, а нареченную его вынеси на крышу.
Холодно было на крыше, но снега все же не было. Царевич совсем замерз, а царевну парень пожалел. Только полночи велел ее на крыше держать. Жениха утром нашли в постели окоченелого. Собрались лекари, да делать уж было нечего — помер, бедняга.
Вот прошла неделя. Взял парень ключ и снова вызвал слугу своего.
— Завтра утром доставишь мне карету золотую да коней таких, чтоб угли ели и пламя пили, да самое красивое платье на свете мне принесешь.
Сел он на следующее утро в карету и отправился к царю.
— Что скажешь, богатырь? — спрашивает царь.
— Приехал я дочь твою сватать.
Он, видите, прикинулся, будто ничего не знает о первом зяте. Отдал ему царь дочь, сыграли они свадьбу славную, и отвез ее парень к себе во дворец — души в ней не чаял, глаз с нее не сводил.
Только дознался колдун, что парень из преисподни вышел. Что же ему такое сделать, чтоб одолеть парня? Он-то, хоть и был колдуном великим, но имел в услужении только двух леших, а тот ключом от ада владел. И ключ он всегда клал на печной карниз. Только один слуга знал о нем. Да слуга-то был умом обижен.
Колдун собрал множество ключей, золотых да серебряных, и однажды, когда парень ушел с царевной на прогулку, явился к воротам замка и стал кричать:
— Кто мне даст ржавый ключ, получит взамен золотой!
И слуга, так как был он умом обижен, надумал сослужить хозяину службу добрую, обменять ржавый ключ на золотой. Так он и сделал. Эгей! Забрал колдун ключ и с ним всю силу у парня отнял.
Пришел тот с прогулки, а от замка и следа не осталось. И остался он, бедняга, без крова в чистом поле — и избушки-то старой уже не было. А царь послал ему через слугу такую весть, что коли через три дня не будет замка на старом месте, не видать ему больше царевны. Вы-то уже знаете, что лучше бы у парня жизнь отняли, чем жену любимую. Да и царевна его очень любила… А любовь — большое дело! Как тут быть? Пролетели назначенные три дня, а он так и не смог замок на место поставить. Распростился он с женой — ну и слёз там было!
— Пойду я теперь по белу свету!
Шел он, шел и дошел до какого-то пруда.
— Ну, делать мне теперь нечего, утоплюсь!
Но так как потирал он руки о палочку, которую дал ему колдун, когда в преисподню опускал, глядь — стоит перед ним железный человек.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Достань мне ключ от ада.
— Ключа от ада не могу я тебе достать.
— Что же мне делать? Скажи мне хоть, где он лежит.
— Колдун, дабы никто до него не добрался, поставил свой замок посреди Прута[29]. А ключ он держит в головах, под подушкой.
— Что же мне делать, как добраться туда?
— Возьми вот этот кусок железа, перекувырнись через него трижды и обернешься мухой.
И железный человек исчез. Взял парень железо, перекувырнулся через него трижды, обернулся мухой и полетел к Пруту. Прилетел он к замку, а колдун после обеда спать лег. Стал парень думать, как в замок проникнуть. На окнах — ставни глухие, как бывало встарь.
— Пролезу в замочную скважину!
Пролез он и сел на край печи. Тут колдун проснулся и стал колотить молотками по полу. Как полезут из-под пола черт за чертями, муху дрожь прошибла. Стал их колдун рассылать кого куда на лихие дела… Покончив с этим, колдун вышел из опочивальни. Взвилась муха, схватила ключ из-под подушки и полетела прочь. И так рад был парень, что сможет снова жить с царевной, — просто передать трудно! Он ведь не о себе пекся, за нее душа болела. Потер он ключ, явились железные люди.
— Поставьте мне снова замок, точно такой, как был прежде.
А колдуну что делать?
Жила в том свете святая дева. В те времена люди были добрыми, не то что нынешние, были среди них святые. Как заболеет кто — святая дева только рукой коснется, и все пройдет.
Тут как раз заболела царевна, жена нашего парня. Болезнь не страшная, не болеть бы мне хуже, да стоило ей только "ой" сказать, а парень уже убивался.
Позвали к ней деву святую. А колдун взял да переоделся в ее одежды и явился вместо нее во дворец. Положил он царевне руку на лоб, будто заклинание творит, а как только парень вышел из опочивальни, говорит:
— Господи, ваше величество, сколько у тебя в доме прекрасных распрекрасных вещей, а вот дивного яйца мраморного и нету.
— А что это за яйцо, тетушка?
— То, которое лежит в сердце земли.
— Вот скажу я мужу, чтоб послал кого-нибудь найти его.
Ушел колдун. Вошел парень в дом.
— Ну, — говорит ему жена, — вот что сказала мне дева святая.
— Сейчас я ключ потру, дорогая.
Потер он ключ, явились два железных человека.
— Чего прикажешь, хозяин?
— Достаньте мне из-под земли яйцо мраморное.
— Побей тебя кочерга, сколько мы тебе дел переделали, даже ключ от ада отдали, а теперь ты хочешь всю нашу силушку забрать? (Видите ли, колдун нарочно так подстроил, надеясь, что лешие удавят парня). Убили бы мы тебя, да знаем, что не твоя в этом вина, и прощаем. Только знай: это колдун к вам приходил под видом святой девы. Сегодня он явится снова, принесет с собой большущий нож, и, притворяясь, будто кладет руку на голову царевны, убьет ее.
Сказали это железные люди и исчезли.
Услышал парень такое и весь задрожал. Приготовил он свой ятаган, а как пришел колдун, заставил слуг раздеть его донага. И впрямь, нашли на нем нож большущий, вроде садового. Разрубил его парень ятаганом на мелкие кусочки.
Зажили теперьмолодые счастливо, позабыли вкус горя-горького. И однажды сказал он жене:
— Душенька, поедем-ка разыскивать братьев моих. (Матушка его умерла уже.)
Собрались они в путь-дорогу и поехали. Ехали, ехали, пока доехали до брата-царя.
А царь в это время вел войну тяжкую с соседним государем. И так ему было худо, что передать трудно. Увидев брата, обрадовался он очень:
— Раз уж ты царским зятем стал, помоги мне врага одолеть.
Собрали они войско пребольшое и, наконец, одержали победу.
Вот теперь оба брата счастливы были. Только гот, что пупок проглотил, еще горе мыкал. Пошел он следом за Красой мира. Вздумал было войти в терем боярский, да слуги его не пустили. Тогда он закатил бал невиданный, на который приехала и Краса мира. И была она так красива, что только вошла в залу — весь бал осветила. Да вот… прошу у вас прощения, под утро, после гулянки, велел хозяин принести столы и засели гости за карты. Хозяин сделал все возможное, чтобы сесть за один стол с красавицей. И хотя ему и везло, а прикинулся, будто проигрывает, и все ей отдавал. Очень уж любил он ее.
А Краса мира, увидев такие кучи денег, подивилась да и говорит отцу своему:
— Давай, отец, пригласим его к нам. (Знаете вы, как женщины, хоть наши, хоть ваши… до денег падки.)
Вот пришел он к ней однажды вечером, принес с собой шесть кошелей с золотыми, сел играть в карты и все ей отдал, даже пятачка себе не оставил. Увидела красотка, что парень остался без гроша, и потеряла к нему всякий интерес. Только на улице дождь лил, как из ведра, и волей-неволей пришлось его пригласить, чтоб остался ночевать. Лег он спать и сколько раз за ночь просыпался, столько раз находил под подушкой новый кошель с золотыми.
Наутро слуга принес воду, умылся он и дал слуге двадцать золотых на чай. Побежал слуга рассказать хозяйке. А она себе думает:
"Откуда у этого человека столько денег берется?"
Пошла она к нему в опочивальню и говорит:
— Выйду я за тебя замуж, коли ты мне скажешь, где деньги берешь.
Он, глупый, возьми да и расскажи. А она приготовила ему кофе да подсыпала туда какого-то зелья. Заболел парень, стало его тошнить и вытошнило пупок. Красотка его схватила, омыла бог знает чем, духами надушила и проглотила, а парня выгнала. Захотелось ей самой деньги под подушкой находить… У него только и осталось, что десяток кошелей с золотыми от последней ночи. Сел он на коня и поехал, куда глаза глядят. Ехал он, ехал да выехал на цветущее поле. Нагнулся конь, пощипал цветов и превратился в осла.
Тогда парень сорвал букетики цветов и положил в карман. Поехал он дальше верхом на осле и доехал до пруда. Осел нагнулся, воды напился и снова стал конем.
— Эге! — говорит парень. — И это неплохо.
Набрал он бутылку воды и повернул обратно. Доехал туда, где жила Краса мира, и на остаток денег снова закатил бал невиданный. Прибежала она, чтоб узнать, откуда у него деньги взялись.
— Где ты деньги добыл?
— Вот из этого букетика.
Дал он ей понюхать цветы, и она превратилась в ослицу. Оставил он ее в доме, а сам вышел.
Слуга ждал, ждал на улице свою хозяйку, да вот горе — словно в воду канула. Вошел он в дом и нашел там только ослицу.
А парень сел на нее верхом, отвез домой да и дает ей сена…
Говорит ослица:
— Никогда я тебя больше обманывать не буду и пупок верну, только сделай меня снова такой, какой я была прежде.
Однако много она ему зла причинила, и решил парень поехать на ней верхом к своему брату-царю. Там он застал и третьего брата, женатого на царевне. Когда рассказал он братьям, что ослица — это Краса мира, стали они его упрашивать:
— Прости ее!
Простил он Красу мира, дал ей испить воды волшебной, и она снова обернулась человеком.
И стало теперь три царя в одной стране, и все они были счастливы. А я рассказал вам сказку, дайте мне бубликов вязку.

 КРЕСТНИК БОЖИЙ
КРЕСТНИК БОЖИЙ
 ИОН МУГУРЯНУ
ИОН МУГУРЯНУ
 В некотором царстве, в некотором государстве жили были старик со старухой, и было у них сто детей. А спустя некоторое время родился у них еще один.
Все дети имели крестных отцов, все были крещеными, а для последнего не нашелся крестный отец, никто крестить его не хотел.
Посоветовались между собой старик со старухой и порешили, что пойдет старуха по свету искать ребенку отца крестного. Недолго думая, собралась она в путь-дорогу.
Шла старуха, шла и встречает охотника. Рассказала ему о своей беде и спрашивает
— Скажи, охотник, хочешь ли ты быть моим кумом?
А охотник ей в ответ:
— Возвращайся домой, а в воскресенье утром разведи хороший огонь в печи и жди, пока не въедет к тебе во двор телега с волами.
В воскресенье утром, как и сказал охотник, к старикам во двор приехала телега, запряженная волами, а в телеге сидели охотник и его жена.
Распряг охотник волов, пригнал их к яслям и попросил хозяина не давать им кукурузных стеблей, а только корзину с горящими углями; другого корма волы не ели.
Затем вошел охотник к старикам в хату и окрестил им ребенка. Нарекли мальчика Ионом Мугуряну да подарил ему охотник телегу с волами, которые ели горящие угли, ружье, меч и копье, и сказал старику и старухе, что Ион Мугуряну, когда вырастет большим, будет охотником.
Так оно и сталось. Рос Ион Мугуряну не по дням, а по часам, а как вырос добрым молодцем, стал ходить на охоту. Каждый день по утрам уходил, а вечером домой возвращался. Однажды на заре собрался Ион, как всегда, на охоту и говорит своим старикам:
— Дорогие мои родители! Я ухожу на охоту и на этот раз скоро не вернусь; коли увидите, что меня все нет да нет, посмотрите на это копье, которое я втыкаю сейчас в крышу, и если с него будет капать кровь, то знайте, что я мертв. Тогда запрягите волов, сядьте в телегу и никуда не сворачивайте: волы вас сами привезут прямо ко мне.
Сказав это, пустился Ион в путь-дорогу. Лес, где он собрался на этот раз охотиться, был очень далеко, пришлось Иону заночевать в дороге у одного боярина. У боярина этого была дочь. А так как Ион Мугуряну был статным и красивым молодцем, пришелся он по сердцу дочке боярской; но и девица была не из последних, так что Ион, как глянул на нее, почуял занозу в сердце. Не имея ничего против этой любви, родители девушки вскоре сыграли свадьбу. И остался Ион Мугуряну жить в усадьбе боярина.
Жил Ион Мугуряну с дочерью боярской в любви и согласии. Но в народе говорят, нет счастья без несчастья, как нет неба без земли, гор без долин и рек без воды.
Не привык Ион Мугуряну сидеть сложа руки, и уходил он на охоту на весь день, а дочь боярская оставалась дома и от безделья и скуки места себе не находила.
Не раз просила она Иона, чтоб он не ходил на охоту, а сидел бы с нею дома. А Ион Мугуряну отвечал своей жене, что жить без работы не может, и никогда, до самой смерти не оставит любимое дело свое — охоту. Но чтобы она не скучала дома одна, он обещал купить еще одно ружье и брать ее с собой на охоту.
Как услышала дочь боярская слова такие, сильно разгневалась на Иона Мугуряну и сказала:
— Не для того я за тебя замуж выходила, чтобы бродить по лесах? и полям да дичь стрелять. Я боярская дочь, а не черт знает кто.
Ничего не ответил ей Ион Мугуряну на эти слова, но продолжал ходить, как и раньше, на охоту, а дочь боярина по-прежнему оставалась дома, и чахла от скуки да тоски.
Однажды дочь боярская встретилась с богатеем Тэвэлуком и сказала ему, что разлюбила Иона Мугуряну, и коли Тэвэлук его убьет, то она выйдет за него замуж.
Обрадовался богатей Тэвэлук и стал собирать войско несметное; знал он, что Ион Мугуряну человек невиданной силы и убить его не так-то просто.
Вот собрал Тэвэлук войско огромное и повел его на Иона Мугуряну. Подъехал он к его окошку и кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся по доброй воле, а не то — не жилец ты на свете.
Услышал это боярин, тесть Иона Мугуряну, и спрашивает его:
— Скажи, Ион Мугуряну, нужна ли тебе моя помощь, дать тебе мое войско?
А Ион Мугуряну отвечает ему:
— Спасибо тебе, тесть, не нужно мне твое войско, я и один устою перед ратью Тэвэлука.
А Тэвэлуку на улице не терпится, вот он опять кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, по доброй воле, иначе не жилец ты на свете.
Тогда Ион Мугуряну ему отвечает:
— Погоди, не выйду я к тебе, пока не умоюсь.
Сказав это, Ион Мугуряну снял со стены меч и вышел к Тэвэлуку. Бросился он на войско Тэвэлука, взмахнул мечом и скосил одним махом всю рать несметную. Страшно испугался Тэвэлук, задал стрекача, тем и спас свою жизнь.
На вторую ночь собрал Тэвэлук еще большее войско. Приблизился он к окну Иона Мугуряну и крикнул:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся по доброй воле — не уйти тебе от нас живым.
Услыхал это старый боярин, тесть Иона Мугуряну, и говорит ему:
— Дам я тебе, Ион Мугуряну, свое войско, потому что собрал Тэвэлук теперь еще большую рать, чем в первый раз, смотри, как бы он тебя не одолел.
А Ион Мугуряну отвечает ему:
— Спасибо, тесть, мне войско не надобно, я и один устою против Тэвэлука.
А Тэвэлук, потеряв терпение, спять кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся, никуда ты от нас не уйдешь
Тогда ему Ион Мугуряну отвечает:
— Погоди, пока не умоюсь, не выйду.
Сказав это, Ион Мугуряну снял со стены меч и вышел. Бросился он на войско Тэвэлука, взмахнул мечом и скосил всех до единого.
Пуще прежнего испугался Тэвэлук и опять поспешным бегством спас свою жизнь.
Возвратился Тэвэлук домой, но войска уже не стал собирать. На другой день, пока Ион Мугуряну был на охоте, Тэвэлук встретился с дочерью боярской и спрашивает ее:
— Как мне убить Иона Мугуряну? В бою я его не могу победить, он и так почти все мое войско уничтожил.
А дочь боярина отвечает ему:
— Пока ты не отберешь у него волшебный меч, не сможешь его одолеть. Мне его не взять, потому что Ион Мугуряну не расстается с ним ни днем, ни ночью, и даже если он его и повесит на стену — стережет пуще зеницы ока, не отходит от него ни на пядь.
Выслушал Тэвэлук дочь боярскую и говорит ей:
— Иди домой и притворись больной, а я пришлю старуху-знахарку, чтоб она тебя лечила. И когда Ион Мугуряну уснет, она заменит его меч другим, а волшебный меч Иона Мугуряну принесет мне; тогда я его с землей смешаю.
Как договорились, так и сделали.
Вечером, перед приходом Иона Мугуряну с охоты, прикинулась дочь боярская больной, легла в постель и стала охать и стонать.
Вошел Ион Мугуряну в дом, а старуха, присланная Тэвэлуком, встречает его такими словами:
— Слушай, Ион Мугуряну, жена твоя захворала тяжко и выздоровеет она, только если ты ляжешь возле нее.
Подошел Ион Мугуряну к своей жене, поглядел на нее, поглядел и говорит:
— Нет, не лягу я возле тебя, а лягу на завалинке во дворе, не хочу тебя будить, коли снова враг нагрянет.
Как сказал, так и сделал. А утром, проснувшись, ушел на охоту.
Тогда старуха и говорит дочери боярской:
— Этим вечером прикинься, будто тебе еще хуже стало, может он оставит меч на стене и ляжет подле тебя.
Возвратился Ион Мугуряну вечером домой, видит — жена в постели и пуще прежнего охает и стонет. Подошел Ион Мугуряну к жене, долго успокаивал и ласкал ее, но лечь подле нее так и не решился. И опять лег он, не раздеваясь, на той же завалинке, положив меч рядом. Утром, проснувшись, ушел, как всегда, на охоту.
Ничего из задуманного не вышло, и старуха опять принялась поучать боярскую дочь:
— Вечером прикинься, будто и впрямь умираешь, не разговаривай, закатывай глаза, а я приведу с собой еще двух женщин, и, может, нам удастся заставить Иона Мугуряну лечь возле тебя.
Так и сделали.
Вечером, возвратясь с охоты, Ион Мугуряну увидел, что в доме собралось много народа; одни громко причитали, другие охали да ахали. А жена его лежит пластом на постели ни жива, ни мертва, не разговаривает, глаза на лоб закатила. Увидав Иона Мугуряну, все женщины стали его просить, молить:
— Слушай, Ион Мугуряну, жена твоя при смерти; не ест, не пьет, слова не вымолвит. Ложись возле нее — может ей полегчает немного и станет она разговаривать, а ежели ты этого не сделаешь, то знай, что не дожить ей до утра.
Послушался их на этот раз Ион Мугуряну, разделся, повесил меч на стену и лег возле жены. А старуха, присланная Тэвэлуком, схватила быстро меч и повесила на его место другой. Потом она незаметно вышла из дому и принесла Тэвэлуку меч волшебный.
Наутро проснулся Ион Мугуряну и сразу увидел, что меч подменили; тут он понял, что его волшебный меч попал в руки к врагу — Тэвэлуку. Опечалился сильно Ион Мугуряну, но, подумав, решил: "Будь, что будет — стану драться с Тэвэлуком и этим мечом".
Видит боярин, что Ион Мугуряну такой опечаленный и говорит ему:
— Соберу я, Ион Мугуряну, тебе свое войско, потому что скоро должен прийти со своей ратью Тэвэлук, и как бы он не убил тебя.
Выслушал Ион Мугуряну тестя, но помощи его не захотел принять.
А Тэвэлук тем временем собрал опять войско большое и повел его к дому Иона Мугуряну. Подошел Тэвэлук под окно и кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, да сдавайся по доброй воле, не то не жить тебе на свете.
Отвечает ему Ион Мугуряну:
— Погоди, вот умоюсь и выйду.
Сказав это, он взял меч и вышел к Тэвэлуку.
Обрушился Тэвэлук со своим войском на Иона, и завязалась битва жестокая. Долго дрался Ион Мугуряну с войском Тэвэлука, многих воинов уложил он на месте, дрогнули воины Тэвэлука, не выдержали натиска и стали разбегаться кто куда, чуя свой смертный час. Увидел это Тэвэлук, бросился к Иону Мугуряну с волшебным мечом и разрубил его на куски.
Одержав победу, Тэвэлук увез дочь боярина, решив вскоре сыграть свадьбу.
А боярин собрал в чан изрубленное тело Иона Мугуряну и положил в холодный погреб, чтобы сохранить в свежести.
В это время отец Иона Мугуряну вышел из своего дома во двор и вдруг видит: из копья кап! кап! — падают капли крови.
Понял все отец Иона Мугуряну, быстро вбежал он в дом и рассказал об этом жене своей; не медля, они тут же запрягли волов, сели в телегу и поехали. Ни направо, ни налево не сворачивали и вскоре подъехали к усадьбе боярина. Соскочил отец Иона Мугуряну с телеги и спрашивает боярина:
— Где Ион Мугуряну?
А боярин печально отвечает ему:
— Покажу ли я тебе его или нет — все равно, потому что он мертв, да еще на кусочки изрублен.
Отвечают боярину отец и мать Иона Мугуряну:
— Отдай нам хотя бы куски изрезанного тела. И нам, и волам очень жаль Иона Мугуряну и тяжело пережить такое горе.
Открыл боярин погреб, а отец Иона Мугуряну взял чан с кусками разрубленного тела и вынес во двор и поставил перед волами. Волы подули раз, другой, третий на разрубленные куски тела, и Ион Мугуряну стал медленно, медленно воскресать. Ожил Ион Мугуряну, но сразу же обернулся в красивого коня. И приказал Ион Мугуряну отцу своему отвести его на базар и продавать лишь тому, кто осыпет его золотом с ног до головы.
Так и сделал отец, как приказал Ион Мугуряну.
Собравшиеся вокруг чудесного коня богатые купцы не могли налюбоваться им, но никто не мог его купить, потому что не имел столько золота.
Только богатей Тэвэлук, как увидел коня, сразу осыпал его золотом и купил.
Привел Тэвэлук коня домой и поставил в конюшню, а сам поспешил поскорей в дом и говорит жене:
— Слушай жена, если бы ты видела, какого дивного коня я купил сейчас.
А жена ему отвечает:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не увижу.
Пошла она на конюшню коня посмотреть. Оглядела его со всех сторон, даже на копыта взглянула и, возвратившись в дом, говорит своему мужу:
— Это Ион Мугуряну конем обернулся. Коли ты его не уничтожишь, не жить нам на свете
А Тэвэлук ей отвечает:
— Если это правда, то до утра и пепла от него не останется.
Этот разговор слышала служанка Тэвэлука. Чуть погодя отправилась она на конюшню поглядеть на коня и, увидев, как он красив, сказала:
— Гляди, какой чудесный конь, а они говорят, что до утра пепел его развеют.
Услыхал конь эти слова и спрашивает ее:
— Что ты сказала, девушка?
— Боярин и боярыня между собой говорят, что до утра пепел твой развеют.
Тогда конь вырвал из гривы два волоска, дал девушке и говорит:
— Возьми эти два волоска и, если меня убьют, посади один из них у одного угла дома, а другой — у другого.
Ночью Тэвэлук убил коня, сжег его, а пепел развеял. Утром, когда он проснулся, то увидел, что по углам дома из волос, посаженных работницей, выросли две красивые ветвистые яблони.
Увидел эти яблони Тэвэлук, поспешил в дом сообщить жене, а та ему говорит:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не увижу их своими глазами, потому что это Ион Мугуряну яблонями обернулся.
Вышла она во двор, посмотрела на деревья, а когда возвратилась в дом, сказала мужу:
— Посмотри-ка туда, где гуще листва на дереве: там его глаза. Это Ион Мугуряну превратился в деревья. Он следит за нами, и коли ты его не уничтожишь — ждать нам смерти неминучей.
Тогда Тэвэлук говорит ей:
— Не беспокойся жена, коли это правда, то до утра и пепла от него не останется.
А работница слышала весь этот разговор и, выйдя во двор, подошла к деревьям и говорит:
— Погляди-ка, какие ветвистые и красивые яблони, а боярин сказал, что до утра от них и пепла не останется.
Как услышали яблони эти слова, сорвали они два яблока, протянули их работнице и сказали:
— Возьми эти два яблока, и, как только нас спилят, брось их в сад боярина.
На следующую ночь Тэвэлук спилил оба дерева, сжег их и пепел развеял.
Проснулся Тэвэлук утром и видит, что из яблок, брошенных работницей, откуда ни возьмись, вырос в саду прекрасный монастырь. Как увидел Тэвэлук этот монастырь, поспешил опять к жене и рассказал ей, а она ему в ответ:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не пойду и не погляжу. Это никак опять Ион Мугуряну монастырем обернулся.
Выбежала она из дома в сад, подошла к монастырю, обошла его несколько раз, оглядела хорошенько, даже внутрь заглянула и, возвратившись домой, сказала мужу:
— Я видела человеческие глаза в лампадке, глаза Иона Мугуряну. Это он, и никто иной обернулся монастырем и следит за нами. Если его не уничтожишь, не жить нам на свете.
— Не беспокойся жена, коли так, то я до утра уничтожу монастырь и пепел его развею.
И на этот раз работница оказалась в доме и подслушала их разговор; побежала она в сад и, подойдя к монастырю, сказала:
— Какой монастырь красивый, а боярин говорит, будто до утра уничтожит его и пепел развеет.
Услыхал монастырь слова работницы, вырвал две доски, протянул их ей и говорит:
— Возьми эти две доски и, как только меня подожгут, быстро беги к Днестру и брось их в воду.
Ночью Тэвэлук сжег монастырь и пепел его развеял.
На другой день утром, когда Тэвэлук и его жена проснулись и увидели, что на этот раз Ион Мугуряну нигде не объявился, радости их не было конца. Не ожидая больше преследований со стороны Мугуряну, они в полдень пошли к Днестру, купаться.
Подошел Тэвэлук с женой к берегу Днестра, а возле самого берега плывут две красивые-красивые утки.
Понравились очень боярыне эти две утки, и говорит она Тэвэлуку:
— Слушай, муженек! Разденься быстренько и поймай мне этих уточек. Уж очень они мне по душе пришлись.
Снял с себя Тэвэлук меч волшебный, разделся и пустился вплавь за утками. Утки спокойно продолжали плавать, подпустили к себе Тэвэлука близко-близко, но только он протянул руку, как они мигом отплыли. Снова Тэвэлук погнался за ними, и опять утки подпустили его близко-близко, а как только он протянул к ним руку, мигом отплыли от него. Так продолжалось долго, утки подпускали к себе Тэвэлука, потом удалялись, пока не завлекли его на самое глубокое место. А как достиг Тэвэлук глубины, одна утка взметнулась в воздух и быстро полетела к берегу. Только она опустилась на землю, как превратилась в Иона Мугуряну. Взял витязь волшебный меч в руки и говорит:
— Не умер Ион Мугуряну — жив он еще!
Зарубил Ион Мугуряну Тэвэлука и дочь боярина и тела их бросил в Днестр. Потом возвратился в усадьбу Тэвэлука и женился на работнице. И стали они жить-поживать, добро наживать, лихо забывать.
Вскоре родился у них ребенок, и устроили они пир на весь мир. И я там был, даже вино пил, по усам текло, а в рот не попало.
В некотором царстве, в некотором государстве жили были старик со старухой, и было у них сто детей. А спустя некоторое время родился у них еще один.
Все дети имели крестных отцов, все были крещеными, а для последнего не нашелся крестный отец, никто крестить его не хотел.
Посоветовались между собой старик со старухой и порешили, что пойдет старуха по свету искать ребенку отца крестного. Недолго думая, собралась она в путь-дорогу.
Шла старуха, шла и встречает охотника. Рассказала ему о своей беде и спрашивает
— Скажи, охотник, хочешь ли ты быть моим кумом?
А охотник ей в ответ:
— Возвращайся домой, а в воскресенье утром разведи хороший огонь в печи и жди, пока не въедет к тебе во двор телега с волами.
В воскресенье утром, как и сказал охотник, к старикам во двор приехала телега, запряженная волами, а в телеге сидели охотник и его жена.
Распряг охотник волов, пригнал их к яслям и попросил хозяина не давать им кукурузных стеблей, а только корзину с горящими углями; другого корма волы не ели.
Затем вошел охотник к старикам в хату и окрестил им ребенка. Нарекли мальчика Ионом Мугуряну да подарил ему охотник телегу с волами, которые ели горящие угли, ружье, меч и копье, и сказал старику и старухе, что Ион Мугуряну, когда вырастет большим, будет охотником.
Так оно и сталось. Рос Ион Мугуряну не по дням, а по часам, а как вырос добрым молодцем, стал ходить на охоту. Каждый день по утрам уходил, а вечером домой возвращался. Однажды на заре собрался Ион, как всегда, на охоту и говорит своим старикам:
— Дорогие мои родители! Я ухожу на охоту и на этот раз скоро не вернусь; коли увидите, что меня все нет да нет, посмотрите на это копье, которое я втыкаю сейчас в крышу, и если с него будет капать кровь, то знайте, что я мертв. Тогда запрягите волов, сядьте в телегу и никуда не сворачивайте: волы вас сами привезут прямо ко мне.
Сказав это, пустился Ион в путь-дорогу. Лес, где он собрался на этот раз охотиться, был очень далеко, пришлось Иону заночевать в дороге у одного боярина. У боярина этого была дочь. А так как Ион Мугуряну был статным и красивым молодцем, пришелся он по сердцу дочке боярской; но и девица была не из последних, так что Ион, как глянул на нее, почуял занозу в сердце. Не имея ничего против этой любви, родители девушки вскоре сыграли свадьбу. И остался Ион Мугуряну жить в усадьбе боярина.
Жил Ион Мугуряну с дочерью боярской в любви и согласии. Но в народе говорят, нет счастья без несчастья, как нет неба без земли, гор без долин и рек без воды.
Не привык Ион Мугуряну сидеть сложа руки, и уходил он на охоту на весь день, а дочь боярская оставалась дома и от безделья и скуки места себе не находила.
Не раз просила она Иона, чтоб он не ходил на охоту, а сидел бы с нею дома. А Ион Мугуряну отвечал своей жене, что жить без работы не может, и никогда, до самой смерти не оставит любимое дело свое — охоту. Но чтобы она не скучала дома одна, он обещал купить еще одно ружье и брать ее с собой на охоту.
Как услышала дочь боярская слова такие, сильно разгневалась на Иона Мугуряну и сказала:
— Не для того я за тебя замуж выходила, чтобы бродить по лесах? и полям да дичь стрелять. Я боярская дочь, а не черт знает кто.
Ничего не ответил ей Ион Мугуряну на эти слова, но продолжал ходить, как и раньше, на охоту, а дочь боярина по-прежнему оставалась дома, и чахла от скуки да тоски.
Однажды дочь боярская встретилась с богатеем Тэвэлуком и сказала ему, что разлюбила Иона Мугуряну, и коли Тэвэлук его убьет, то она выйдет за него замуж.
Обрадовался богатей Тэвэлук и стал собирать войско несметное; знал он, что Ион Мугуряну человек невиданной силы и убить его не так-то просто.
Вот собрал Тэвэлук войско огромное и повел его на Иона Мугуряну. Подъехал он к его окошку и кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся по доброй воле, а не то — не жилец ты на свете.
Услышал это боярин, тесть Иона Мугуряну, и спрашивает его:
— Скажи, Ион Мугуряну, нужна ли тебе моя помощь, дать тебе мое войско?
А Ион Мугуряну отвечает ему:
— Спасибо тебе, тесть, не нужно мне твое войско, я и один устою перед ратью Тэвэлука.
А Тэвэлуку на улице не терпится, вот он опять кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, по доброй воле, иначе не жилец ты на свете.
Тогда Ион Мугуряну ему отвечает:
— Погоди, не выйду я к тебе, пока не умоюсь.
Сказав это, Ион Мугуряну снял со стены меч и вышел к Тэвэлуку. Бросился он на войско Тэвэлука, взмахнул мечом и скосил одним махом всю рать несметную. Страшно испугался Тэвэлук, задал стрекача, тем и спас свою жизнь.
На вторую ночь собрал Тэвэлук еще большее войско. Приблизился он к окну Иона Мугуряну и крикнул:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся по доброй воле — не уйти тебе от нас живым.
Услыхал это старый боярин, тесть Иона Мугуряну, и говорит ему:
— Дам я тебе, Ион Мугуряну, свое войско, потому что собрал Тэвэлук теперь еще большую рать, чем в первый раз, смотри, как бы он тебя не одолел.
А Ион Мугуряну отвечает ему:
— Спасибо, тесть, мне войско не надобно, я и один устою против Тэвэлука.
А Тэвэлук, потеряв терпение, спять кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, и сдавайся, никуда ты от нас не уйдешь
Тогда ему Ион Мугуряну отвечает:
— Погоди, пока не умоюсь, не выйду.
Сказав это, Ион Мугуряну снял со стены меч и вышел. Бросился он на войско Тэвэлука, взмахнул мечом и скосил всех до единого.
Пуще прежнего испугался Тэвэлук и опять поспешным бегством спас свою жизнь.
Возвратился Тэвэлук домой, но войска уже не стал собирать. На другой день, пока Ион Мугуряну был на охоте, Тэвэлук встретился с дочерью боярской и спрашивает ее:
— Как мне убить Иона Мугуряну? В бою я его не могу победить, он и так почти все мое войско уничтожил.
А дочь боярина отвечает ему:
— Пока ты не отберешь у него волшебный меч, не сможешь его одолеть. Мне его не взять, потому что Ион Мугуряну не расстается с ним ни днем, ни ночью, и даже если он его и повесит на стену — стережет пуще зеницы ока, не отходит от него ни на пядь.
Выслушал Тэвэлук дочь боярскую и говорит ей:
— Иди домой и притворись больной, а я пришлю старуху-знахарку, чтоб она тебя лечила. И когда Ион Мугуряну уснет, она заменит его меч другим, а волшебный меч Иона Мугуряну принесет мне; тогда я его с землей смешаю.
Как договорились, так и сделали.
Вечером, перед приходом Иона Мугуряну с охоты, прикинулась дочь боярская больной, легла в постель и стала охать и стонать.
Вошел Ион Мугуряну в дом, а старуха, присланная Тэвэлуком, встречает его такими словами:
— Слушай, Ион Мугуряну, жена твоя захворала тяжко и выздоровеет она, только если ты ляжешь возле нее.
Подошел Ион Мугуряну к своей жене, поглядел на нее, поглядел и говорит:
— Нет, не лягу я возле тебя, а лягу на завалинке во дворе, не хочу тебя будить, коли снова враг нагрянет.
Как сказал, так и сделал. А утром, проснувшись, ушел на охоту.
Тогда старуха и говорит дочери боярской:
— Этим вечером прикинься, будто тебе еще хуже стало, может он оставит меч на стене и ляжет подле тебя.
Возвратился Ион Мугуряну вечером домой, видит — жена в постели и пуще прежнего охает и стонет. Подошел Ион Мугуряну к жене, долго успокаивал и ласкал ее, но лечь подле нее так и не решился. И опять лег он, не раздеваясь, на той же завалинке, положив меч рядом. Утром, проснувшись, ушел, как всегда, на охоту.
Ничего из задуманного не вышло, и старуха опять принялась поучать боярскую дочь:
— Вечером прикинься, будто и впрямь умираешь, не разговаривай, закатывай глаза, а я приведу с собой еще двух женщин, и, может, нам удастся заставить Иона Мугуряну лечь возле тебя.
Так и сделали.
Вечером, возвратясь с охоты, Ион Мугуряну увидел, что в доме собралось много народа; одни громко причитали, другие охали да ахали. А жена его лежит пластом на постели ни жива, ни мертва, не разговаривает, глаза на лоб закатила. Увидав Иона Мугуряну, все женщины стали его просить, молить:
— Слушай, Ион Мугуряну, жена твоя при смерти; не ест, не пьет, слова не вымолвит. Ложись возле нее — может ей полегчает немного и станет она разговаривать, а ежели ты этого не сделаешь, то знай, что не дожить ей до утра.
Послушался их на этот раз Ион Мугуряну, разделся, повесил меч на стену и лег возле жены. А старуха, присланная Тэвэлуком, схватила быстро меч и повесила на его место другой. Потом она незаметно вышла из дому и принесла Тэвэлуку меч волшебный.
Наутро проснулся Ион Мугуряну и сразу увидел, что меч подменили; тут он понял, что его волшебный меч попал в руки к врагу — Тэвэлуку. Опечалился сильно Ион Мугуряну, но, подумав, решил: "Будь, что будет — стану драться с Тэвэлуком и этим мечом".
Видит боярин, что Ион Мугуряну такой опечаленный и говорит ему:
— Соберу я, Ион Мугуряну, тебе свое войско, потому что скоро должен прийти со своей ратью Тэвэлук, и как бы он не убил тебя.
Выслушал Ион Мугуряну тестя, но помощи его не захотел принять.
А Тэвэлук тем временем собрал опять войско большое и повел его к дому Иона Мугуряну. Подошел Тэвэлук под окно и кричит:
— Выходи, Ион Мугуряну, да сдавайся по доброй воле, не то не жить тебе на свете.
Отвечает ему Ион Мугуряну:
— Погоди, вот умоюсь и выйду.
Сказав это, он взял меч и вышел к Тэвэлуку.
Обрушился Тэвэлук со своим войском на Иона, и завязалась битва жестокая. Долго дрался Ион Мугуряну с войском Тэвэлука, многих воинов уложил он на месте, дрогнули воины Тэвэлука, не выдержали натиска и стали разбегаться кто куда, чуя свой смертный час. Увидел это Тэвэлук, бросился к Иону Мугуряну с волшебным мечом и разрубил его на куски.
Одержав победу, Тэвэлук увез дочь боярина, решив вскоре сыграть свадьбу.
А боярин собрал в чан изрубленное тело Иона Мугуряну и положил в холодный погреб, чтобы сохранить в свежести.
В это время отец Иона Мугуряну вышел из своего дома во двор и вдруг видит: из копья кап! кап! — падают капли крови.
Понял все отец Иона Мугуряну, быстро вбежал он в дом и рассказал об этом жене своей; не медля, они тут же запрягли волов, сели в телегу и поехали. Ни направо, ни налево не сворачивали и вскоре подъехали к усадьбе боярина. Соскочил отец Иона Мугуряну с телеги и спрашивает боярина:
— Где Ион Мугуряну?
А боярин печально отвечает ему:
— Покажу ли я тебе его или нет — все равно, потому что он мертв, да еще на кусочки изрублен.
Отвечают боярину отец и мать Иона Мугуряну:
— Отдай нам хотя бы куски изрезанного тела. И нам, и волам очень жаль Иона Мугуряну и тяжело пережить такое горе.
Открыл боярин погреб, а отец Иона Мугуряну взял чан с кусками разрубленного тела и вынес во двор и поставил перед волами. Волы подули раз, другой, третий на разрубленные куски тела, и Ион Мугуряну стал медленно, медленно воскресать. Ожил Ион Мугуряну, но сразу же обернулся в красивого коня. И приказал Ион Мугуряну отцу своему отвести его на базар и продавать лишь тому, кто осыпет его золотом с ног до головы.
Так и сделал отец, как приказал Ион Мугуряну.
Собравшиеся вокруг чудесного коня богатые купцы не могли налюбоваться им, но никто не мог его купить, потому что не имел столько золота.
Только богатей Тэвэлук, как увидел коня, сразу осыпал его золотом и купил.
Привел Тэвэлук коня домой и поставил в конюшню, а сам поспешил поскорей в дом и говорит жене:
— Слушай жена, если бы ты видела, какого дивного коня я купил сейчас.
А жена ему отвечает:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не увижу.
Пошла она на конюшню коня посмотреть. Оглядела его со всех сторон, даже на копыта взглянула и, возвратившись в дом, говорит своему мужу:
— Это Ион Мугуряну конем обернулся. Коли ты его не уничтожишь, не жить нам на свете
А Тэвэлук ей отвечает:
— Если это правда, то до утра и пепла от него не останется.
Этот разговор слышала служанка Тэвэлука. Чуть погодя отправилась она на конюшню поглядеть на коня и, увидев, как он красив, сказала:
— Гляди, какой чудесный конь, а они говорят, что до утра пепел его развеют.
Услыхал конь эти слова и спрашивает ее:
— Что ты сказала, девушка?
— Боярин и боярыня между собой говорят, что до утра пепел твой развеют.
Тогда конь вырвал из гривы два волоска, дал девушке и говорит:
— Возьми эти два волоска и, если меня убьют, посади один из них у одного угла дома, а другой — у другого.
Ночью Тэвэлук убил коня, сжег его, а пепел развеял. Утром, когда он проснулся, то увидел, что по углам дома из волос, посаженных работницей, выросли две красивые ветвистые яблони.
Увидел эти яблони Тэвэлук, поспешил в дом сообщить жене, а та ему говорит:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не увижу их своими глазами, потому что это Ион Мугуряну яблонями обернулся.
Вышла она во двор, посмотрела на деревья, а когда возвратилась в дом, сказала мужу:
— Посмотри-ка туда, где гуще листва на дереве: там его глаза. Это Ион Мугуряну превратился в деревья. Он следит за нами, и коли ты его не уничтожишь — ждать нам смерти неминучей.
Тогда Тэвэлук говорит ей:
— Не беспокойся жена, коли это правда, то до утра и пепла от него не останется.
А работница слышала весь этот разговор и, выйдя во двор, подошла к деревьям и говорит:
— Погляди-ка, какие ветвистые и красивые яблони, а боярин сказал, что до утра от них и пепла не останется.
Как услышали яблони эти слова, сорвали они два яблока, протянули их работнице и сказали:
— Возьми эти два яблока, и, как только нас спилят, брось их в сад боярина.
На следующую ночь Тэвэлук спилил оба дерева, сжег их и пепел развеял.
Проснулся Тэвэлук утром и видит, что из яблок, брошенных работницей, откуда ни возьмись, вырос в саду прекрасный монастырь. Как увидел Тэвэлук этот монастырь, поспешил опять к жене и рассказал ей, а она ему в ответ:
— Не буду я есть, не буду я пить, пока не пойду и не погляжу. Это никак опять Ион Мугуряну монастырем обернулся.
Выбежала она из дома в сад, подошла к монастырю, обошла его несколько раз, оглядела хорошенько, даже внутрь заглянула и, возвратившись домой, сказала мужу:
— Я видела человеческие глаза в лампадке, глаза Иона Мугуряну. Это он, и никто иной обернулся монастырем и следит за нами. Если его не уничтожишь, не жить нам на свете.
— Не беспокойся жена, коли так, то я до утра уничтожу монастырь и пепел его развею.
И на этот раз работница оказалась в доме и подслушала их разговор; побежала она в сад и, подойдя к монастырю, сказала:
— Какой монастырь красивый, а боярин говорит, будто до утра уничтожит его и пепел развеет.
Услыхал монастырь слова работницы, вырвал две доски, протянул их ей и говорит:
— Возьми эти две доски и, как только меня подожгут, быстро беги к Днестру и брось их в воду.
Ночью Тэвэлук сжег монастырь и пепел его развеял.
На другой день утром, когда Тэвэлук и его жена проснулись и увидели, что на этот раз Ион Мугуряну нигде не объявился, радости их не было конца. Не ожидая больше преследований со стороны Мугуряну, они в полдень пошли к Днестру, купаться.
Подошел Тэвэлук с женой к берегу Днестра, а возле самого берега плывут две красивые-красивые утки.
Понравились очень боярыне эти две утки, и говорит она Тэвэлуку:
— Слушай, муженек! Разденься быстренько и поймай мне этих уточек. Уж очень они мне по душе пришлись.
Снял с себя Тэвэлук меч волшебный, разделся и пустился вплавь за утками. Утки спокойно продолжали плавать, подпустили к себе Тэвэлука близко-близко, но только он протянул руку, как они мигом отплыли. Снова Тэвэлук погнался за ними, и опять утки подпустили его близко-близко, а как только он протянул к ним руку, мигом отплыли от него. Так продолжалось долго, утки подпускали к себе Тэвэлука, потом удалялись, пока не завлекли его на самое глубокое место. А как достиг Тэвэлук глубины, одна утка взметнулась в воздух и быстро полетела к берегу. Только она опустилась на землю, как превратилась в Иона Мугуряну. Взял витязь волшебный меч в руки и говорит:
— Не умер Ион Мугуряну — жив он еще!
Зарубил Ион Мугуряну Тэвэлука и дочь боярина и тела их бросил в Днестр. Потом возвратился в усадьбу Тэвэлука и женился на работнице. И стали они жить-поживать, добро наживать, лихо забывать.
Вскоре родился у них ребенок, и устроили они пир на весь мир. И я там был, даже вино пил, по усам текло, а в рот не попало.

 БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА О ДВУХ ДЕВИЦАХ
БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА О ДВУХ ДЕВИЦАХ
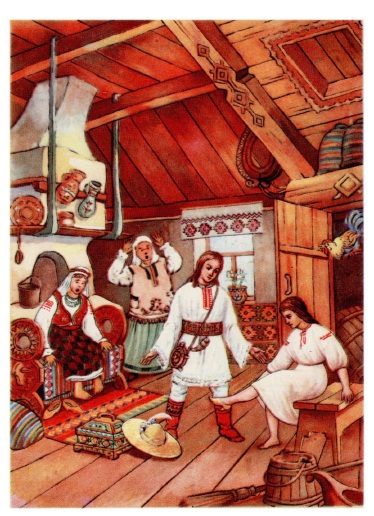 Затем сын боярина спросил ее, откуда к нее такие туфельки и платья и где вторая туфелька? Тогда дочь старика ему все рассказала: как издевались над ней старуха и ее дочь, как ее оставляли по воскресным дням дома, как заставляли ее работать, как она выполняла эту работу, а потом наряжалась и шла в церковь.
Парень выслушал ее и молвил:
— Видишь, моя милая! Тот, кто машет руками, не тонет, а быстрее добирается к берегу! Ты оказалась трудолюбивой и старательной, потому тебе положено раньше выйти замуж. Хочешь быть моей женой?
Дочь старика очень смутили такие речи, и она ему ни слова не ответила. Понял парень ее молчание и попросил ее руки у родителей. Те поначалу и слушать не хотели и стали уговаривать молодца взять дочь старухи, мол, она раньше должна выйти замуж. Да сын боярский и глядеть не захотел на дочь старухи, и родителям пришлось согласиться и отдать ему в жены дочь старика.
На следующее воскресенье дочь старика надела платье, пылающее, как солнце, и повенчалась с сыном боярина, а дочь старухи осталась доживать свой век в доме стариков.
После венчания сыграли и свадьбу. Шафера село обегали, всех на свадьбу позвали, только старуху и ее дочь не пригласили.
Счастливо зажила дочь старика со своим мужем после свадьбы, и прожили они так целый год. Но вот случилось так, что муж ее должен был уехать куда-то по делу. А старуха и ее дочь, ставшие посмешищем всей округи, все время искали случая отомстить дочери старика. И решили они переодеться нищенками, проникнуть к ней в дом, и, пока муж в отъезде, отомстить бедняжке.
Так они и сделали. Переоделись в лохмотья и пошли к дочке старика. Подошла старуха к калитке и говорит:
— Осиротели мы бедные и ходим по миру с сумой нищенской. Вот стемнело, а нам негде голову на ночь прислонить. Сжалься над нами, никогда мы твою милость не забудем, вечно будем бога молить за твое здоровье.
Дочь старика имела доброе сердце и впустила их в дом переночевать. Но ночью они проснулись, когда хозяйка спала, и разрезали ее на кусочки. Даже изрезанная дочь старика, как засмеялась — цветы выросли, как заплакала — алмазы посыпались из глаз.
В это время шел мимо человек и вдруг видит — в окне то цветы показываются, то алмазы сверкают. "Что за чудо!" — подумал прохожий и вошел в дом. А дочь старика, изрезанная на кусочки, как увидела его, стала просить, чтоб отнес ее к волшебному ореху. Сделал тот человек так, как его просила дочь старика. Понес ее к дереву, а дерево, как увидело ее, сразу раскололось, пополам. Внутри его оказались разные целебные воды и травы. Обратился тогда орех к доброму человеку и сказал, чтоб он взял живую воду и окропил дочь старика. Как только он ее окропил, красавица в тот же миг воскресла, только была она еще очень слаба, на ногах не держалась. Но орех ей дал две былинки, съела она их, и силы к ней вернулись. Потом она вынула из ореха нитку жемчуга и подарила доброму человеку в благодарность за то, что тот спас ее от смерти. Человек взял подарок и пошел своей дорогой. Затем, когда дочь старика осталась одна, орех велел ей надеть поношенное платье и немного времени спустя пойти к своему мужу и наняться в работницы.
Тем временем муж вернулся домой да вместо настоящей жены встретила его старухина дочь. Только он ее не узнал, ибо она переоделась в платье дочери старика и украшения ее надела. Успел только муж заметить, что жена бездельничает весь день-деньской, а в доме не подметено и не прибрано. Но тут же подумал, что пока сам он по делам ездил, жена тосковала по нем и работать разучилась.
Однажды пришла к ним нищенка и стала просить:
— Возьмите меня в прислуги.
Обрадовалась ей очень дочь старухи, но еще больше обрадовался сын боярский, так как видел, что жена разучилась работать и без прислуги теперь не обойтись. Нищенку — а это была дочь старика — приняли на работу без долгих разговоров. Управлялась она со всем хозяйством — и обед стряпала, и в доме прибирала, и полы натирала, и птиц кормила, и ягнят пасла. А старуха и ее дочь бездельничали, ели да пили да в мягких постелях почивали.
Вот наступило воскресенье, и велели они прислуге плацынды испечь. Состряпала та плацынды и в одну положила то кольцо, которое когда-то оставила в туфельке, на пороге церкви. Посадив блины в печь, отправилась прислуга гусей пасти.
Вот хозяйка отодвинула заслонку, чтобы посмотреть, не спеклись ли плацынды, и муж вдруг увидел в печи какой-то непонятный блеск. Спрашивает он жену:
— Слушай, жена, что это?
А та ему отвечает:
— Что-то такое блестит в одной плацынде. Никак прислуга что-то в ней запекла.
— Что за диво, ну-ка давай посмотрим!
Вынули они из печи плацынду, разломили ее, и увидел хозяин то кольцо, которое нашел тогда в туфельке. Спрашивает он тогда жену, чье это кольцо, а та опять ему отвечает — служанкино, мол. Тогда он понял, что служанка и есть его настоящая жена, с которой он обвенчался, и мигом побежал к ней на луг, где гуси паслись.
Приблизившись к ней, он взял два камня, начал тереть их один о другой и приговаривать: "Терпи камень столько, сколько терпел и я, а если не можешь, то тресни, как и я чуть не треснул". Так он дважды повторил, а когда произнес это в третий раз, кинулся к ней, заключил ее в объятья и начал ее целовать и плакать, приговаривая: "Дорогая моя, милая моя! Ты была моей женой, ты и останешься ею!"
Тут дочь старика и рассказала ему всю правду, как было дело.
Возвратились они домой, взял муж старуху, привязал ее к хвосту скакуна, быстрого, как ветер, погнал коня на все четыре стороны. И там, где ударялась старуха оземь ногой, появлялись овраги, где спиной — буераки, а где головой — красные маки.
А дочь старухи вывел боярин во двор, повел ее на середину села и сказал: "Да не будет тебе покоя ни в земле, ни под землей!" Только он слова эти вымолвил, разверзлась земля и поглотила ее по самую шею, только голова над землей осталась. Завидев ее, прохожие шарахались и обходили стороной.
Затем сын боярина спросил ее, откуда к нее такие туфельки и платья и где вторая туфелька? Тогда дочь старика ему все рассказала: как издевались над ней старуха и ее дочь, как ее оставляли по воскресным дням дома, как заставляли ее работать, как она выполняла эту работу, а потом наряжалась и шла в церковь.
Парень выслушал ее и молвил:
— Видишь, моя милая! Тот, кто машет руками, не тонет, а быстрее добирается к берегу! Ты оказалась трудолюбивой и старательной, потому тебе положено раньше выйти замуж. Хочешь быть моей женой?
Дочь старика очень смутили такие речи, и она ему ни слова не ответила. Понял парень ее молчание и попросил ее руки у родителей. Те поначалу и слушать не хотели и стали уговаривать молодца взять дочь старухи, мол, она раньше должна выйти замуж. Да сын боярский и глядеть не захотел на дочь старухи, и родителям пришлось согласиться и отдать ему в жены дочь старика.
На следующее воскресенье дочь старика надела платье, пылающее, как солнце, и повенчалась с сыном боярина, а дочь старухи осталась доживать свой век в доме стариков.
После венчания сыграли и свадьбу. Шафера село обегали, всех на свадьбу позвали, только старуху и ее дочь не пригласили.
Счастливо зажила дочь старика со своим мужем после свадьбы, и прожили они так целый год. Но вот случилось так, что муж ее должен был уехать куда-то по делу. А старуха и ее дочь, ставшие посмешищем всей округи, все время искали случая отомстить дочери старика. И решили они переодеться нищенками, проникнуть к ней в дом, и, пока муж в отъезде, отомстить бедняжке.
Так они и сделали. Переоделись в лохмотья и пошли к дочке старика. Подошла старуха к калитке и говорит:
— Осиротели мы бедные и ходим по миру с сумой нищенской. Вот стемнело, а нам негде голову на ночь прислонить. Сжалься над нами, никогда мы твою милость не забудем, вечно будем бога молить за твое здоровье.
Дочь старика имела доброе сердце и впустила их в дом переночевать. Но ночью они проснулись, когда хозяйка спала, и разрезали ее на кусочки. Даже изрезанная дочь старика, как засмеялась — цветы выросли, как заплакала — алмазы посыпались из глаз.
В это время шел мимо человек и вдруг видит — в окне то цветы показываются, то алмазы сверкают. "Что за чудо!" — подумал прохожий и вошел в дом. А дочь старика, изрезанная на кусочки, как увидела его, стала просить, чтоб отнес ее к волшебному ореху. Сделал тот человек так, как его просила дочь старика. Понес ее к дереву, а дерево, как увидело ее, сразу раскололось, пополам. Внутри его оказались разные целебные воды и травы. Обратился тогда орех к доброму человеку и сказал, чтоб он взял живую воду и окропил дочь старика. Как только он ее окропил, красавица в тот же миг воскресла, только была она еще очень слаба, на ногах не держалась. Но орех ей дал две былинки, съела она их, и силы к ней вернулись. Потом она вынула из ореха нитку жемчуга и подарила доброму человеку в благодарность за то, что тот спас ее от смерти. Человек взял подарок и пошел своей дорогой. Затем, когда дочь старика осталась одна, орех велел ей надеть поношенное платье и немного времени спустя пойти к своему мужу и наняться в работницы.
Тем временем муж вернулся домой да вместо настоящей жены встретила его старухина дочь. Только он ее не узнал, ибо она переоделась в платье дочери старика и украшения ее надела. Успел только муж заметить, что жена бездельничает весь день-деньской, а в доме не подметено и не прибрано. Но тут же подумал, что пока сам он по делам ездил, жена тосковала по нем и работать разучилась.
Однажды пришла к ним нищенка и стала просить:
— Возьмите меня в прислуги.
Обрадовалась ей очень дочь старухи, но еще больше обрадовался сын боярский, так как видел, что жена разучилась работать и без прислуги теперь не обойтись. Нищенку — а это была дочь старика — приняли на работу без долгих разговоров. Управлялась она со всем хозяйством — и обед стряпала, и в доме прибирала, и полы натирала, и птиц кормила, и ягнят пасла. А старуха и ее дочь бездельничали, ели да пили да в мягких постелях почивали.
Вот наступило воскресенье, и велели они прислуге плацынды испечь. Состряпала та плацынды и в одну положила то кольцо, которое когда-то оставила в туфельке, на пороге церкви. Посадив блины в печь, отправилась прислуга гусей пасти.
Вот хозяйка отодвинула заслонку, чтобы посмотреть, не спеклись ли плацынды, и муж вдруг увидел в печи какой-то непонятный блеск. Спрашивает он жену:
— Слушай, жена, что это?
А та ему отвечает:
— Что-то такое блестит в одной плацынде. Никак прислуга что-то в ней запекла.
— Что за диво, ну-ка давай посмотрим!
Вынули они из печи плацынду, разломили ее, и увидел хозяин то кольцо, которое нашел тогда в туфельке. Спрашивает он тогда жену, чье это кольцо, а та опять ему отвечает — служанкино, мол. Тогда он понял, что служанка и есть его настоящая жена, с которой он обвенчался, и мигом побежал к ней на луг, где гуси паслись.
Приблизившись к ней, он взял два камня, начал тереть их один о другой и приговаривать: "Терпи камень столько, сколько терпел и я, а если не можешь, то тресни, как и я чуть не треснул". Так он дважды повторил, а когда произнес это в третий раз, кинулся к ней, заключил ее в объятья и начал ее целовать и плакать, приговаривая: "Дорогая моя, милая моя! Ты была моей женой, ты и останешься ею!"
Тут дочь старика и рассказала ему всю правду, как было дело.
Возвратились они домой, взял муж старуху, привязал ее к хвосту скакуна, быстрого, как ветер, погнал коня на все четыре стороны. И там, где ударялась старуха оземь ногой, появлялись овраги, где спиной — буераки, а где головой — красные маки.
А дочь старухи вывел боярин во двор, повел ее на середину села и сказал: "Да не будет тебе покоя ни в земле, ни под землей!" Только он слова эти вымолвил, разверзлась земля и поглотила ее по самую шею, только голова над землей осталась. Завидев ее, прохожие шарахались и обходили стороной.

 УМНАЯ ДЕВИЦА
УМНАЯ ДЕВИЦА
 СКАЗКА О ЖАДНОМ ВОЛКЕ
СКАЗКА О ЖАДНОМ ВОЛКЕ
 ВАСИЛЕ-ДУРАЧОК
ВАСИЛЕ-ДУРАЧОК
 И сказал тогда Василе:
— Так судили кони волшебные, значит быть по сему. Потому что много зла причинил царь народу и вел он себя с людьми, как настоящая свинья.
И созвал Василе тьму-тьмущую народу и закатил пир горой.
И сказал тогда Василе:
— Так судили кони волшебные, значит быть по сему. Потому что много зла причинил царь народу и вел он себя с людьми, как настоящая свинья.
И созвал Василе тьму-тьмущую народу и закатил пир горой.

 СКАЗКА О ШТЕФЭНЕЛЕ
СКАЗКА О ШТЕФЭНЕЛЕ
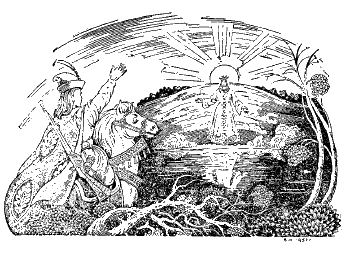 ФИЛИМОН И АРАП
ФИЛИМОН И АРАП
 ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА
ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА
 ТЕБЕ ДОСТАЛАСЬ ОДНА ДУША, А МНЕ — ДВЕ
ТЕБЕ ДОСТАЛАСЬ ОДНА ДУША, А МНЕ — ДВЕ

 ЛЕЙСЯ СВЕТ ВПЕРЕДИ, ТЬМА СТЕЛИСЬ ПОЗАДИ
ЛЕЙСЯ СВЕТ ВПЕРЕДИ, ТЬМА СТЕЛИСЬ ПОЗАДИ

 КЫРМЫЗА
КЫРМЫЗА
 О чем сказ поведу, ребята, все так и было когда-то, а коль не было б, по свету не сказывали б сказку эту.
Жил-был большой барин, имел он богатства несметные, поместья беспредельные. Дворец его был сложен из камней-самоцветов и ночью светился, как в солнечный полдень. Под стенами его притаилось девяносто девять погребов, доверху набитых золотом и серебром, а вокруг дворца раскинулся роскошный сад, в котором росли деревья со всех концов света. Но не золотом и не дворцом, не садами и не поместьями более всего дорожил барин. Дочь Кырмыза — вот что было самым ценным его достоянием. Была она красна, как сама весна, улыбка ее — точно солнечный восход ясна, очи — две звезды среди ночи, стан ее тонкий — точно колос звонкий, что колышется вечерком под тихим ветерком, голос серебристый — точно звон мониста, и платье на ней — такая краса, точно цветы, когда их омоет утренняя роса.
Семнадцати лет Кырмыза многих лишила покоя, оставила им взамен смятение. Барин все это видел и решил не выдавать дочь замуж за первого встречного-поперечного, а только за избранного жениха. Женихи к ним валом валили из-за тридевяти земель, из-за тридевяти морей. Надумал барин испытать их всех. Построил из камней-самоцветов высокую-превысокую лестницу от земли до вершины башни — шириной в две пяди и со ступеньками из стекла. Усадил он Кырмызу в башню, а женихам так сказал:
— Кто взберется верхом по этой лестнице, доберется до Кырмызы, снимет перстень с пальца да назовет ее по имени, тому она и достанется.
Помчались юноши во все лопатки волю барина выполнять, но все спотыкались на первой ступеньке. Многие изувечились и еще немало шею бы сломало, да вдруг объявился дракон на льве верхом, грива на льве торчком, когти крючком; ступенька за ступенькой поднялся он по лестнице до самой Кырмызы; дракон перстень с ее руки снял, по имени назвал.
Привел барин дочь во дворец, позвал дракона, обручил их, благословил и началась свадьба, какой белый свет не видал. Весь люд веселится, пирует, дракон-уродина ликует, а невеста горюет, горько рыдает, как цветок увядает. Почуяла бедная девушка, что лют он, этот пес-дракон. Грустила девица, тосковала, да улучив минутку, из хором удрала и побежала на конюшню к своему любимцу Гайтану — волшебному коню и горько заплакала.
Конь заржал и спросил ее:
— Чего ты слезы льешь, добрая Кырмыза?
— Как же мне не плакать, когда отдает меня отец за дракона с чужой дальней стороны; ему не живые, мертвые нужны.
— Молчи, не плачь, не причитай: когда жизнь мила — добро побеждает, а зло отступает. Завтра, как прикажет тебе змей в путь-дорогу собираться, отсыпь мне меру углей горячих, надень на меня узду золотую ссеребряными удилами да и отправляйся с ним. В пути все время отставай от него на три шага. Он тебя спросит: "Почему, дорогая Кырмыза, ты позади меня едешь?" Ты отвечай, что женщине следует позади мужа ехать. А как перестанет он тебя замечать, достань саблю из ножен и держи ее в правой руке на высоте шеи. Да покрепче за седло цепляйся, я поскачу вперед, а дракон мертвым на дорогу упадет.
Успокоилась Кырмыза, вернулась в хоромы и кое-как выждала до следующего вечера, когда дракон велел ей в путь собираться. Быстренько взяла она меру, наполнила ее полыхающими углями и понесла Гайтану. Волшебный конь мигом съел все угли. Затем она надела на него узду золотую с серебряными удилами. И вот сел дракон на льва верхом, а Кырмыза на Гайтана — волшебного коня, и отправились они к хваленому, да отдаленному замку мужа — пса-дракона. Невеста — цок, цок, цок, цок — все отстает от дракона на три шага. А дракон все оборачивается да спрашивает:
— Отчего ты, Кырмыза милая, отстаешь?
— Так уж следует женщине позади мужа ехать.
Дракон громко расхохотался и, вглядевшись вдаль, поскакал как ветер, только пыль столбом поднялась. А красавица Кырмыза дернула волшебного Гайтана за повод, вынула саблю из ножен, взяла ее в правую руку, подняла на уровень драконовой шеи и фьют!.. голову ему с плеч долой. Понесся лев через горы, через долы и привез обезглавленный труп прямо в замок, где драконша-мать все глаза проглядела, сынка с красавицей-рабыней ожидаючи. Рано она радовалась, теперь горевать пришлось и от злости драконша руки перекусала, волосы повырывала. И вот с того дня стала она жечь дрова в большой кремневой печи, так как надумала красавицу Кырмызу изловить, живой или мертвой, привести да сжечь. Горел огонь круглый год, ни днем, ни ночью не угасая. А сама драконша рыскала по белу свету, а найти Кырмызу не могла.
А краса-девица, ясная зарница, заботу сбросила с плеч, вложила в ножны меч и поскакала на волшебном коне Гайтане по зеленой поляне, по высоким горам, по глубоким долам, через поле чистое, через кодры тенистые, через реки широкие, через воды глубокие. И к рассвету следующего дня она прискакала в село, вроде наших Барабоен. Случилось это в среду, день был ярмарочный, и съезжались туда жители окрестных сел. А так как настала уже пора отдохнуть, то остановила Кырмыза коня на окраине села на базарной площади.
В одном из соседних сел, назовем его Фрасинешты, жил в ту пору парень по имени Ион; сам он был статен, красотою не обижен, да вот грех какой — никак жениться не удавалось. Те, кого он сватал, не соглашались, а те, что сами набивались, ему не по душе были. Встревожился Ион и пошел к знахарке, что гадала по звездам, кто для кого создан, бобы бросала да счастье узнавала. И вот что поведала парню ворожея:
— Отправляйся в среду затемно в Барабоены на ярмарку и первого приехавшего туда, не задумываясь, бери, будь то старуха или дед, мужик или баба, парень или девица. Веди его домой и живи с ним вместе: так бобы говорят, счастье тебе сулят.
Чуть забрезжил рассвет, парень уже к Барабоенской ярмарке подъезжал.
Гайтан — волшебный конь — знал о том, что Ион выехал из Фрасинешт, и говорит Кырмызе:
— Хозяйка, хозяйка, сунь руку в мое правое ухо, достань оттуда одежду да надень ее.
Протянула Кырмыза руку и достала пару чабанских шаровар, длинную крестьянскую рубаху с вышитым воротом и рукавами, красный, как огонь, пояс, высокую островерхую кушму и пару постолов с вздернутыми носками — все новое. Кырмыза оделась, косы под кушму спрятала и стала походить на доброго юношу, стройного, как ель, красивого на диво.
Как начали звезды на небе гаснуть да туман пополз из долины к вершинам холмов, подъехал и Ион, весь в поту.
— С добрым утром, парень, — молвил Ион издали.
— Доброе утро! — тот ему в ответ. Слово за слово, а Ион и говорит прямо:
— Поехали ко мне жить.
Один уговаривает, другой отнекивается, один уговаривает, другой отнекивается, и, наконец, после долгих споров, отправились вместе во Фрасинешты.
Но как бы тучи ни заволакивали небо, земля нет-нет да и увидит солнечный луч. Так и до Иона время от времени доходили то взгляд, то улыбка, то слово понежнее, и сердце говорило ему, что не парень с ним едет, а девица, да все не верилось. Думал он, гадал, совсем растерялся и опять пошел к знахарке.
— Бабуся, — говорит он, — нет мне покою от парня, что привел я сегодня с ярмарки: гляжу на него и все мне мерещится, будто девица это.
Зажгла старуха уголек, поглядела на пламя и отвечает:
— Коль сомневаешься, испытай его. Выезжайте вдвоем верхами в чисто поле, поскачите вперегонки. Если обгонит тебя — не иначе как парень, а коль отстанет, так и знай, что девка проклятая.
Вернулся Ион домой и, увидев, что парень призадумался, сказал:
— Давай верхами покатаемся.
— Чего же, можно!
Выехав в поле, Ион встал в стременах и показал ему вдали большой курган.
— Давай, парень, спорить: кто первый объедет тот курган, да сюда вернется?
Кырмыза прошептала: "Скачи, волшебный конь Гайтан!" И только он ее и видел; а Ион:
— Но, лошадка! Но, скачи… троп, троп, троп, троп… — плетью хлещет, да куда ему, не та прыть! Давно уж потерял он парня из виду и встревожился, а вдруг тот не вернется. Стал он подъезжать к холму, а парень ветром навстречу несется.
Повернул Ион коня и хлесть, хлесть! хлыстом, раз, два, по коню, но куда там! Пока объезжал он курган, тот уже семь курганов объехал и давно ожидал его на старом месте.
Слишком отстал Ион от парня и теперь, опустив голову, стоял опечаленный, пристыженный. Только не успокоился он и опять пошел к старухе. Вновь она раздула уголек и говорит ему:
— Лежит у тебя во дворе пара возов жердей. Подведи его к ним да спроси: "Для чего сгодятся эти жерди?" Коль девка, так сразу ответит: "Что за кудельники для прялки, какой челнок, какое веретено можно изготовить". Коль парень он хозяйственный, так скажет: "Ясли добры смастерить, али дом огородить!".
Как говорится: курице просо снится. Возвращается Ион домой и подводит как бы невзначай приятеля своего к жердям.
— Хороши жерди! Что бы нам из них смастерить?
— Эгей, братец! Ясли добрые могли бы мы сделать да плетень хороший. А какой домище таким плетнем огородить можно — с крылечком да пристройками!
Ион только очи выпялил да опять к знахарке побежал, а та, узнав в чем дело, так молвила:
— Ступай домой да возле сабель, стрел, копий и булавы развесь на стене полотенца цветастые, салфетки вышитые да пару мотков шерсти. Как выполнишь это, веди гостя, пусть поглядит. Коль на оружие глянет, знай, что мужчина, а коль засмотрится на вышивки да на мотки шерсти — не иначе как женщина.
Вернулся Ион одним духом домой, выполнил наказ знахарки, а потом зовет товарища, вроде как бы оружие показать. Тот уставился на оружие, снимал его со стены, в руках вертел, осматривал, ржавчину счистить да смазать велел, и тут же послал его за паклей да смазкой, чтоб за работу взяться. На остальное он даже не взглянул. Вышел Ион из дому опечаленный и в четвертый раз пошел к знахарке с поклоном.
Сморщенная старуха в печь подула, заговор свой нашептала, в ладони погадала да потом сказала:
— Иди-ка домой да брось метлу на порог. А парня-то возьми с собой да поведи, куда душе угодно. А как будете возвращаться да в дом входить, в оба гляди: коль наступит он на метлу, аль перешагнет через нее, знай, что мужчина, а коль поднимет да подметет, а потом в уголок поставит палкой кверху, не иначе как девка.
Выполнил он старухи наказ. Обошли они все село и вот возвращаются домой. "Сейчас или никогда", — думал Ион. Вошел он в дом и на метлу наступил, а товарищ его схватил метлу за палку, подмел кругом да и поставил в уголок. Тогда Ион обернулся и обнял девицу.
— Любимая ты моя, жизнь ты моя, как тебя звать?
И тут сняла Кырмыза кушму с головы. Длинные волосы шелковые украсили ее девичье лицо, и стала она похожа на солнышко ясное. Посмотрела она ему в глаза — сама жизни рада, улыбка во взгляде — и ответила:
— Кырмызой звать меня.
Сыграли они настоящую молдавскую свадьбу, устроили пир на весь мир, танцевали остропец, за неделю сто дружек настряпали гору галушек, сто шаферов понесли по свету весть, где можно попить, поесть, мол, в Фрасинештах гуляют, на свадьбу всех приглашают.
Зажили они после свадьбы мирно и дружно. Ради Кырмызы работящий, старательный Ион трудился от темна до темна. Долго ли, коротко ли прожили они так, да вдруг вспыхнула война. Тут и Иона взяли, только он наказать успел: "Батюшка да матушка? Берегите Кырмызу, работой тяжелой не донимайте, поласковей будьте с ней. Коль счастье от меня не отвернется и вернусь я домой живой-здоровый, буду вас на старости так холить лелеять, что захочется вам еще век жить, не тужить".
Отправился Ион и как в воду канул — ни слуху ни духу. Не знали, жив ли он или голову сложил, но ждали его дома, как дитя весну ждет.
Средь сабельных боев да посвиста стрел удалось ему письмецо написать: "Батюшка да матушка, берегите Кырмызу. Скоро закончится кровопролитие и я вернусь домой. Желаю вам здоровья".
Старики помнили наказ сына и не давали девице-красе соломину с пола поднять. Так холили ее, так лелеяли, что в огонь были готовы идти за нее.
А тот человек, что письмо вез, долго ли, коротко ли ехал и попал он в полночь в лес дремучий. Вокруг тьма-тьмущая, хоть глаз выколи. Набрел он на дом драконши да и решил постучаться, на ночлег проситься.
Открыла драконша дверь, впустила его, накормила, затем принялась письма читать да и нашла то, где о Кырмызе написано. Тогда старая карга прикинулась радушной хозяйкой, принесла старого вина, что в кубке играет, напоила бедного человечка в доску, и пока тот спал мертвым сном, сожгла письмо о Кырмызе и написала другое: "Батюшка да матушка, как дойдет до вас это письмо, привезите девятнадцать возов дров, запалите их да сожгите Кырмызу. Она с драконом всю жизнь проплутала, а потом ко мне пристала. Я скоро домой вернусь, и коль не выполните мою волю, не задумываясь, сожгу вас живьем на большом костре". Утром человек отправился в путь. Долго ли, коротко ли шел он и принес письмо родителям Иона. Прочитали они письмо и залились слезами. Услышав их причитания, прибежала Кырмыза, прочитала письмо и тоже горько заплакала. Потом вышла к волшебному коню Гайтану, а тот заржал и спросил ее:
— Чего, Кырмыза дорогая, слезы льешь?
— Как же мне не плакать, коль вот что со мной стряслось, — и поведала коню, что в письме говорится.
— Не плачь, не горюй!.. Вели родителям, пусть делают, как в письме написано, а только костер буйным пламенем разгорится, скажи им, что вместе с конем умирать хочешь. Подведи меня к костру и вытащи из правого уха платок свернутый, кинь его в огонь и смело скачи верхом прямо в пламя.
Заплаканный старик привез девятнадцать возов дров, сложил пребольшую поленницу, зажег ее и так разгорелся костер, что небу жарко стало. Взяла Кырмыза коня под уздцы, подвела к костру, пламя которого так и рвалось во все стороны. А когда родители лицо руками закрыли, чтобы не видеть, как она горит, Кырмыза выхватила из правого уха волшебного коня Гайтана платок и бросила его в грозное пламя. Огонь сразу стих, как водой залитый, а Кырмыза вскочила в седло, понеслась сквозь дым, взвилась к солнцу, полетела над тучами, над горными кручами, над цветущими полями, над дремучими лесами, потом опустилась на землю и поехала легкой рысью. У встретившегося им на склоке холма родника Кырмыза остановила коня, соскочила на землю и легла на траву.
— Ох, дорогой мой конь, волшебный мой Гайтан, пришло мне время рожать, — молвила она.
— А мне пришло время помирать, — ответил конь и, трижды заржав, повалился замертво.
Кырмыза сейчас же уснула, а как проснулась, увидела себя в большом красивом замке. Лежала она на кровати и держала на руках двух красавцев-сыновей, златокудрых богатырей. У изголовья повитуха стояла. Все это сделал волшебный конь Гайтан. Оберегал он красавицу Кырмызу и после смерти: грудь его стала замком с золотыми башнями, со стенами из драгоценных камней, с серебряными дверьми, жемчугом украшенными, голова стала столом, уставленным яствами всякими; глаза да уши — двумя свирепыми волкодавами, что бегали вокруг замка; из шерсти Гайтана перед замком вырос сад прекрасный с деревьями разными, плодами усыпанными, и птицами-певуньями, а из одного копыта появилась морщинистая и сгорбленная старуха. Она повивала младенцев, купала да кормить Кырмызе подавала.
Долго ли, коротко ли прожили они так, сыновья росли не по дням, а по часам и стали красивыми, как два цветка. В один прекрасный день, когда они по двору бегали, подошла к воротам старуха. Учуяли ее собаки, стали по сторонам ворот и не впускают. Тут старуха и говорит:
— Подойдите сюда, ребятишки мои милые!
Ребята добежали к воротам, а старая карга достала три волосинки из-за одного пояса да три из-за другого пояса, отдала их ребятам и сказала:
— Возьмите! Ты брось их вон на ту собаку, а ты кинь на шею другой.
И как только бросили их ребята, три волосинки превратились в три толстые тяжелые железные цепи, приковавшие собак к столбам у ворот, а старая карга, что
О чем сказ поведу, ребята, все так и было когда-то, а коль не было б, по свету не сказывали б сказку эту.
Жил-был большой барин, имел он богатства несметные, поместья беспредельные. Дворец его был сложен из камней-самоцветов и ночью светился, как в солнечный полдень. Под стенами его притаилось девяносто девять погребов, доверху набитых золотом и серебром, а вокруг дворца раскинулся роскошный сад, в котором росли деревья со всех концов света. Но не золотом и не дворцом, не садами и не поместьями более всего дорожил барин. Дочь Кырмыза — вот что было самым ценным его достоянием. Была она красна, как сама весна, улыбка ее — точно солнечный восход ясна, очи — две звезды среди ночи, стан ее тонкий — точно колос звонкий, что колышется вечерком под тихим ветерком, голос серебристый — точно звон мониста, и платье на ней — такая краса, точно цветы, когда их омоет утренняя роса.
Семнадцати лет Кырмыза многих лишила покоя, оставила им взамен смятение. Барин все это видел и решил не выдавать дочь замуж за первого встречного-поперечного, а только за избранного жениха. Женихи к ним валом валили из-за тридевяти земель, из-за тридевяти морей. Надумал барин испытать их всех. Построил из камней-самоцветов высокую-превысокую лестницу от земли до вершины башни — шириной в две пяди и со ступеньками из стекла. Усадил он Кырмызу в башню, а женихам так сказал:
— Кто взберется верхом по этой лестнице, доберется до Кырмызы, снимет перстень с пальца да назовет ее по имени, тому она и достанется.
Помчались юноши во все лопатки волю барина выполнять, но все спотыкались на первой ступеньке. Многие изувечились и еще немало шею бы сломало, да вдруг объявился дракон на льве верхом, грива на льве торчком, когти крючком; ступенька за ступенькой поднялся он по лестнице до самой Кырмызы; дракон перстень с ее руки снял, по имени назвал.
Привел барин дочь во дворец, позвал дракона, обручил их, благословил и началась свадьба, какой белый свет не видал. Весь люд веселится, пирует, дракон-уродина ликует, а невеста горюет, горько рыдает, как цветок увядает. Почуяла бедная девушка, что лют он, этот пес-дракон. Грустила девица, тосковала, да улучив минутку, из хором удрала и побежала на конюшню к своему любимцу Гайтану — волшебному коню и горько заплакала.
Конь заржал и спросил ее:
— Чего ты слезы льешь, добрая Кырмыза?
— Как же мне не плакать, когда отдает меня отец за дракона с чужой дальней стороны; ему не живые, мертвые нужны.
— Молчи, не плачь, не причитай: когда жизнь мила — добро побеждает, а зло отступает. Завтра, как прикажет тебе змей в путь-дорогу собираться, отсыпь мне меру углей горячих, надень на меня узду золотую ссеребряными удилами да и отправляйся с ним. В пути все время отставай от него на три шага. Он тебя спросит: "Почему, дорогая Кырмыза, ты позади меня едешь?" Ты отвечай, что женщине следует позади мужа ехать. А как перестанет он тебя замечать, достань саблю из ножен и держи ее в правой руке на высоте шеи. Да покрепче за седло цепляйся, я поскачу вперед, а дракон мертвым на дорогу упадет.
Успокоилась Кырмыза, вернулась в хоромы и кое-как выждала до следующего вечера, когда дракон велел ей в путь собираться. Быстренько взяла она меру, наполнила ее полыхающими углями и понесла Гайтану. Волшебный конь мигом съел все угли. Затем она надела на него узду золотую с серебряными удилами. И вот сел дракон на льва верхом, а Кырмыза на Гайтана — волшебного коня, и отправились они к хваленому, да отдаленному замку мужа — пса-дракона. Невеста — цок, цок, цок, цок — все отстает от дракона на три шага. А дракон все оборачивается да спрашивает:
— Отчего ты, Кырмыза милая, отстаешь?
— Так уж следует женщине позади мужа ехать.
Дракон громко расхохотался и, вглядевшись вдаль, поскакал как ветер, только пыль столбом поднялась. А красавица Кырмыза дернула волшебного Гайтана за повод, вынула саблю из ножен, взяла ее в правую руку, подняла на уровень драконовой шеи и фьют!.. голову ему с плеч долой. Понесся лев через горы, через долы и привез обезглавленный труп прямо в замок, где драконша-мать все глаза проглядела, сынка с красавицей-рабыней ожидаючи. Рано она радовалась, теперь горевать пришлось и от злости драконша руки перекусала, волосы повырывала. И вот с того дня стала она жечь дрова в большой кремневой печи, так как надумала красавицу Кырмызу изловить, живой или мертвой, привести да сжечь. Горел огонь круглый год, ни днем, ни ночью не угасая. А сама драконша рыскала по белу свету, а найти Кырмызу не могла.
А краса-девица, ясная зарница, заботу сбросила с плеч, вложила в ножны меч и поскакала на волшебном коне Гайтане по зеленой поляне, по высоким горам, по глубоким долам, через поле чистое, через кодры тенистые, через реки широкие, через воды глубокие. И к рассвету следующего дня она прискакала в село, вроде наших Барабоен. Случилось это в среду, день был ярмарочный, и съезжались туда жители окрестных сел. А так как настала уже пора отдохнуть, то остановила Кырмыза коня на окраине села на базарной площади.
В одном из соседних сел, назовем его Фрасинешты, жил в ту пору парень по имени Ион; сам он был статен, красотою не обижен, да вот грех какой — никак жениться не удавалось. Те, кого он сватал, не соглашались, а те, что сами набивались, ему не по душе были. Встревожился Ион и пошел к знахарке, что гадала по звездам, кто для кого создан, бобы бросала да счастье узнавала. И вот что поведала парню ворожея:
— Отправляйся в среду затемно в Барабоены на ярмарку и первого приехавшего туда, не задумываясь, бери, будь то старуха или дед, мужик или баба, парень или девица. Веди его домой и живи с ним вместе: так бобы говорят, счастье тебе сулят.
Чуть забрезжил рассвет, парень уже к Барабоенской ярмарке подъезжал.
Гайтан — волшебный конь — знал о том, что Ион выехал из Фрасинешт, и говорит Кырмызе:
— Хозяйка, хозяйка, сунь руку в мое правое ухо, достань оттуда одежду да надень ее.
Протянула Кырмыза руку и достала пару чабанских шаровар, длинную крестьянскую рубаху с вышитым воротом и рукавами, красный, как огонь, пояс, высокую островерхую кушму и пару постолов с вздернутыми носками — все новое. Кырмыза оделась, косы под кушму спрятала и стала походить на доброго юношу, стройного, как ель, красивого на диво.
Как начали звезды на небе гаснуть да туман пополз из долины к вершинам холмов, подъехал и Ион, весь в поту.
— С добрым утром, парень, — молвил Ион издали.
— Доброе утро! — тот ему в ответ. Слово за слово, а Ион и говорит прямо:
— Поехали ко мне жить.
Один уговаривает, другой отнекивается, один уговаривает, другой отнекивается, и, наконец, после долгих споров, отправились вместе во Фрасинешты.
Но как бы тучи ни заволакивали небо, земля нет-нет да и увидит солнечный луч. Так и до Иона время от времени доходили то взгляд, то улыбка, то слово понежнее, и сердце говорило ему, что не парень с ним едет, а девица, да все не верилось. Думал он, гадал, совсем растерялся и опять пошел к знахарке.
— Бабуся, — говорит он, — нет мне покою от парня, что привел я сегодня с ярмарки: гляжу на него и все мне мерещится, будто девица это.
Зажгла старуха уголек, поглядела на пламя и отвечает:
— Коль сомневаешься, испытай его. Выезжайте вдвоем верхами в чисто поле, поскачите вперегонки. Если обгонит тебя — не иначе как парень, а коль отстанет, так и знай, что девка проклятая.
Вернулся Ион домой и, увидев, что парень призадумался, сказал:
— Давай верхами покатаемся.
— Чего же, можно!
Выехав в поле, Ион встал в стременах и показал ему вдали большой курган.
— Давай, парень, спорить: кто первый объедет тот курган, да сюда вернется?
Кырмыза прошептала: "Скачи, волшебный конь Гайтан!" И только он ее и видел; а Ион:
— Но, лошадка! Но, скачи… троп, троп, троп, троп… — плетью хлещет, да куда ему, не та прыть! Давно уж потерял он парня из виду и встревожился, а вдруг тот не вернется. Стал он подъезжать к холму, а парень ветром навстречу несется.
Повернул Ион коня и хлесть, хлесть! хлыстом, раз, два, по коню, но куда там! Пока объезжал он курган, тот уже семь курганов объехал и давно ожидал его на старом месте.
Слишком отстал Ион от парня и теперь, опустив голову, стоял опечаленный, пристыженный. Только не успокоился он и опять пошел к старухе. Вновь она раздула уголек и говорит ему:
— Лежит у тебя во дворе пара возов жердей. Подведи его к ним да спроси: "Для чего сгодятся эти жерди?" Коль девка, так сразу ответит: "Что за кудельники для прялки, какой челнок, какое веретено можно изготовить". Коль парень он хозяйственный, так скажет: "Ясли добры смастерить, али дом огородить!".
Как говорится: курице просо снится. Возвращается Ион домой и подводит как бы невзначай приятеля своего к жердям.
— Хороши жерди! Что бы нам из них смастерить?
— Эгей, братец! Ясли добрые могли бы мы сделать да плетень хороший. А какой домище таким плетнем огородить можно — с крылечком да пристройками!
Ион только очи выпялил да опять к знахарке побежал, а та, узнав в чем дело, так молвила:
— Ступай домой да возле сабель, стрел, копий и булавы развесь на стене полотенца цветастые, салфетки вышитые да пару мотков шерсти. Как выполнишь это, веди гостя, пусть поглядит. Коль на оружие глянет, знай, что мужчина, а коль засмотрится на вышивки да на мотки шерсти — не иначе как женщина.
Вернулся Ион одним духом домой, выполнил наказ знахарки, а потом зовет товарища, вроде как бы оружие показать. Тот уставился на оружие, снимал его со стены, в руках вертел, осматривал, ржавчину счистить да смазать велел, и тут же послал его за паклей да смазкой, чтоб за работу взяться. На остальное он даже не взглянул. Вышел Ион из дому опечаленный и в четвертый раз пошел к знахарке с поклоном.
Сморщенная старуха в печь подула, заговор свой нашептала, в ладони погадала да потом сказала:
— Иди-ка домой да брось метлу на порог. А парня-то возьми с собой да поведи, куда душе угодно. А как будете возвращаться да в дом входить, в оба гляди: коль наступит он на метлу, аль перешагнет через нее, знай, что мужчина, а коль поднимет да подметет, а потом в уголок поставит палкой кверху, не иначе как девка.
Выполнил он старухи наказ. Обошли они все село и вот возвращаются домой. "Сейчас или никогда", — думал Ион. Вошел он в дом и на метлу наступил, а товарищ его схватил метлу за палку, подмел кругом да и поставил в уголок. Тогда Ион обернулся и обнял девицу.
— Любимая ты моя, жизнь ты моя, как тебя звать?
И тут сняла Кырмыза кушму с головы. Длинные волосы шелковые украсили ее девичье лицо, и стала она похожа на солнышко ясное. Посмотрела она ему в глаза — сама жизни рада, улыбка во взгляде — и ответила:
— Кырмызой звать меня.
Сыграли они настоящую молдавскую свадьбу, устроили пир на весь мир, танцевали остропец, за неделю сто дружек настряпали гору галушек, сто шаферов понесли по свету весть, где можно попить, поесть, мол, в Фрасинештах гуляют, на свадьбу всех приглашают.
Зажили они после свадьбы мирно и дружно. Ради Кырмызы работящий, старательный Ион трудился от темна до темна. Долго ли, коротко ли прожили они так, да вдруг вспыхнула война. Тут и Иона взяли, только он наказать успел: "Батюшка да матушка? Берегите Кырмызу, работой тяжелой не донимайте, поласковей будьте с ней. Коль счастье от меня не отвернется и вернусь я домой живой-здоровый, буду вас на старости так холить лелеять, что захочется вам еще век жить, не тужить".
Отправился Ион и как в воду канул — ни слуху ни духу. Не знали, жив ли он или голову сложил, но ждали его дома, как дитя весну ждет.
Средь сабельных боев да посвиста стрел удалось ему письмецо написать: "Батюшка да матушка, берегите Кырмызу. Скоро закончится кровопролитие и я вернусь домой. Желаю вам здоровья".
Старики помнили наказ сына и не давали девице-красе соломину с пола поднять. Так холили ее, так лелеяли, что в огонь были готовы идти за нее.
А тот человек, что письмо вез, долго ли, коротко ли ехал и попал он в полночь в лес дремучий. Вокруг тьма-тьмущая, хоть глаз выколи. Набрел он на дом драконши да и решил постучаться, на ночлег проситься.
Открыла драконша дверь, впустила его, накормила, затем принялась письма читать да и нашла то, где о Кырмызе написано. Тогда старая карга прикинулась радушной хозяйкой, принесла старого вина, что в кубке играет, напоила бедного человечка в доску, и пока тот спал мертвым сном, сожгла письмо о Кырмызе и написала другое: "Батюшка да матушка, как дойдет до вас это письмо, привезите девятнадцать возов дров, запалите их да сожгите Кырмызу. Она с драконом всю жизнь проплутала, а потом ко мне пристала. Я скоро домой вернусь, и коль не выполните мою волю, не задумываясь, сожгу вас живьем на большом костре". Утром человек отправился в путь. Долго ли, коротко ли шел он и принес письмо родителям Иона. Прочитали они письмо и залились слезами. Услышав их причитания, прибежала Кырмыза, прочитала письмо и тоже горько заплакала. Потом вышла к волшебному коню Гайтану, а тот заржал и спросил ее:
— Чего, Кырмыза дорогая, слезы льешь?
— Как же мне не плакать, коль вот что со мной стряслось, — и поведала коню, что в письме говорится.
— Не плачь, не горюй!.. Вели родителям, пусть делают, как в письме написано, а только костер буйным пламенем разгорится, скажи им, что вместе с конем умирать хочешь. Подведи меня к костру и вытащи из правого уха платок свернутый, кинь его в огонь и смело скачи верхом прямо в пламя.
Заплаканный старик привез девятнадцать возов дров, сложил пребольшую поленницу, зажег ее и так разгорелся костер, что небу жарко стало. Взяла Кырмыза коня под уздцы, подвела к костру, пламя которого так и рвалось во все стороны. А когда родители лицо руками закрыли, чтобы не видеть, как она горит, Кырмыза выхватила из правого уха волшебного коня Гайтана платок и бросила его в грозное пламя. Огонь сразу стих, как водой залитый, а Кырмыза вскочила в седло, понеслась сквозь дым, взвилась к солнцу, полетела над тучами, над горными кручами, над цветущими полями, над дремучими лесами, потом опустилась на землю и поехала легкой рысью. У встретившегося им на склоке холма родника Кырмыза остановила коня, соскочила на землю и легла на траву.
— Ох, дорогой мой конь, волшебный мой Гайтан, пришло мне время рожать, — молвила она.
— А мне пришло время помирать, — ответил конь и, трижды заржав, повалился замертво.
Кырмыза сейчас же уснула, а как проснулась, увидела себя в большом красивом замке. Лежала она на кровати и держала на руках двух красавцев-сыновей, златокудрых богатырей. У изголовья повитуха стояла. Все это сделал волшебный конь Гайтан. Оберегал он красавицу Кырмызу и после смерти: грудь его стала замком с золотыми башнями, со стенами из драгоценных камней, с серебряными дверьми, жемчугом украшенными, голова стала столом, уставленным яствами всякими; глаза да уши — двумя свирепыми волкодавами, что бегали вокруг замка; из шерсти Гайтана перед замком вырос сад прекрасный с деревьями разными, плодами усыпанными, и птицами-певуньями, а из одного копыта появилась морщинистая и сгорбленная старуха. Она повивала младенцев, купала да кормить Кырмызе подавала.
Долго ли, коротко ли прожили они так, сыновья росли не по дням, а по часам и стали красивыми, как два цветка. В один прекрасный день, когда они по двору бегали, подошла к воротам старуха. Учуяли ее собаки, стали по сторонам ворот и не впускают. Тут старуха и говорит:
— Подойдите сюда, ребятишки мои милые!
Ребята добежали к воротам, а старая карга достала три волосинки из-за одного пояса да три из-за другого пояса, отдала их ребятам и сказала:
— Возьмите! Ты брось их вон на ту собаку, а ты кинь на шею другой.
И как только бросили их ребята, три волосинки превратились в три толстые тяжелые железные цепи, приковавшие собак к столбам у ворот, а старая карга, что

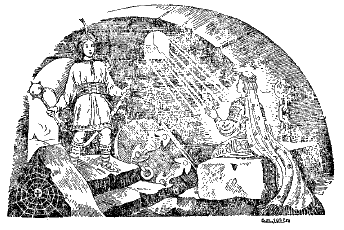 ФЭТ-ФРУМОС И СОЛНЦЕ
ФЭТ-ФРУМОС И СОЛНЦЕ
 БАЗИЛИК ЗЕЛЕНЫЙ И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ
БАЗИЛИК ЗЕЛЕНЫЙ И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ
 Только к утру оно замерло. Тут девица на радостях стала воспевать доблесть Базилика Зеленого и его бой с драконами. И говорит ей Базилик Зеленый:
— Ты примись обед стряпать, а я прилягу отдохнуть, больно уж утомился в бою.
Повеселев, состряпала царевна обед прекрасный, всяких яств приготовила. Была она вне себя от счастья, что Базилик Зеленый уничтожил всех драконов и освободил ее из их когтей и что вскоре станет она женою красивого и отважного витязя. Когда еда была готова, она разбудила Базилика и поели они вместе, затем начали готовиться в путь-дорогу к царским чертогам.
Невесть как узнал обо всем случившемся Получеловек. Был он одноногим, одноруким, полуголовым, одноглазым и одноухим. А как узнал, помчался быстро к замку драконов. Базилик Зеленый с царевной в путь собирались. И крикнул Получеловек
— Мэй, Базилик Зеленый, ну-ка выходи на бой! Поборемся мы с тобой, и пусть царевна победителю достанется.
Царевна уже слышала ранее про этого Получеловека, о нем много раз говорили драконы, а потому она горько заплакала, приговаривая:
— Базилик Зеленый, коль ты этого одолеешь, значит написано тебе на роду живым быть. И заживем мы тогда в счастье и согласии.
Взял Базилик Зеленый меч в руки и вышел во двор. Взмахнул мечом и отсек Получеловеку кусок головы. Но тот отбежал в сторону и опять принялся кричать:
— Выйди бороться со мной, Базилик Зеленый!
Испугался Базилик Зеленый, услыхав, что Получеловек его снова на борьбу вызывает. Подбежал он к чудищу и одним ударом отсек и оставшийся кусок головы, а тело изрубил на кусочки, а куски собрал и сложил их под порогом дома. И лишь тогда вошел в дом и сказал девушке:
— Изрезал я его на куски, теперь уж ему не воскреснуть.
Но Получеловек ожил и опять стал кричать:
— Базилик Зеленый, выходи поборемся!
На этот раз Базилик Зеленый перепугался насмерть. Но все же взял меч в руки и вышел драться. А Получеловек спрятался за дверью и, как только Базилик вышел, кинулся к нему, выхватил меч и отсек ему голову. Упал Базилик Зеленый замертво на землю.
Убив Базилика Зеленого, Получеловек кинул меч возле него, вошел в дом и сказал царевне:
— Пойдем к твоему отцу.
Горько оплакивала царевна смерть Базилика Зеленого, но делать было нечего, пришлось ей пуститься в дорогу с уродом. Шли они, шли, пока достигли царского дворца. Пришли туда темной ночью, и царевна крикнула своему отцу:
— Отец, впусти меня.
Как услышал ее голос царь, сразу узнал ее, выбежал навстречу и крепко обнял. Много лет прошло с тех пор, как он ее не видел. На радостях позвал он гостей в дом и стал расспрашивать о бое с драконами. Тут вступил в разговор Получеловек, но был он так уродлив и противен, что, глядя на него, царю становилось жутко. Да что тут поделаешь: дал слово — держись. Сговорились они быстро меж собой, что на второй день состоится заручение, а через год и свадьбу сыграют. После заручения жениха и невесту разлучили. Получеловек был весел, а царевна печальна — не могла она забыть Базилика Зеленого.
Тем временем мать Базилика Зеленого, истосковавшись по сыну, бросила свое маленькое и бедное хозяйство и пустилась в дорогу по его следам. Дорожка, по которой она шла, была усеяна базиликами, и как раз в тот день, когда царевна с Получеловеком ушли к царскому дворцу, мать Базилика Зеленого нашла мертвое тело сына.
Стала она его оплакивать. Но в это время проползали мимо муравьи, собиравшие пищу на зиму. Вдруг один муравей набросился на другого и оторвал ему голову, а третий, завидев это, подошел к убитому муравью, приложил голову к шее. Затем потер трижды рану листком базилика, и муравей ожил. Увидев это, мать Базилика Зеленого решила сделать то же самое. Очнулся Базилик Зеленый ото сна и очень обрадовался, увидев мать. Потом он ей рассказал о своей борьбе с драконами и Получеловеком, показал трупы убитых драконов и молвил:
— Иди домой, к нашему маленькому и бедному хозяйству, которое ты оставила без присмотра. А я пойду разыскивать Получеловека, убившего меня, и снова померюсь с ним силами.
Пустилась его мать домой, а Базилик Зеленый направился на запад. Шел он так день-деньской от зари до зари, пока добрался до какой-то избушки, в которой горел огонек. Только он подошел к избушке, у порога собака залаяла, и тут же послышался женский голос из дома:
— Коли ты добрый человек, входи, а коли нет, проходи. Дом мой стережет пес с железными когтями и стальными клыками и изорвет он тебя в клочья.
Базилик Зеленый, будучи человеком честным и с чистой душой, решил войти в избушку. Поклонился он женщине, жившей там в одиночестве, и рассказал ей все свои приключения от начала до конца. А она ему и говорит:
— Переночуй у меня, а утром я тебе скажу, в чем кроется сила Получеловека и как его одолеть можно.
Эта женщина была святая Пятница. На другой день утром проснулась святая Пятница и созвала всех птиц со всех концов света. Покормила их и спросила, не знают ли, где находится Получеловек. Птицы ей ответили, что не слышали ничего о нем.
Святая Пятница разбудила тогда Базилика Зеленого и сказала ему:
— Иди все на запад, пока найдешь мою сестру. Может, она знает кое-что о Получеловеке, а я ничем не могу тебе помочь.
И снова пустился в дорогу Базилик Зеленый. Два дня он шел, пока достиг дома сестры святой Пятницы, святой Троицы, и поведал ей о всех своих мытарствах. Она также велела ему подождать до утра. На другой день она встала чуть свет, созвала всех птиц со всего света и спросила их, не знают ли они, где находится Получеловек.
— Мы ничего не знаем, но нету здесь с нами голубя, может быть он знает.
Вскоре прилетел и голубь. Спросила его сестра святой Пятницы о том же, и голубь ответил:
— Получеловек находится при царском дворе. Заручился он с дочерью царя, а свадьбу сыграют через год. Царь решил найти таких музыкантов, от игры которых запляшет и стар и млад… А я, вот, принес с собой волшебную свирель, которую нашел в логове драконов: может, кому и пригодится. О силе Получеловека я узнал с его же слов. Он мне сказал, что его сила находится на востоке от царского двора. Надо пересечь девять рубежей, а в первом селе на девятом рубеже стоит высокая гора, на которой овцы пасутся. В этой горе имеется глубокая расщелина, в которой живет хромой заяц. В желудке этого зайца лежит золотое яблоко, а в нем находятся девять червей. Вот в этих девяти червях и кроется сила Получеловека, и кто доберется туда и убьет червей, убьет и Получеловека.
Сказав это, голубь улетел восвояси, а святая Троица вошла в избушку, разбудила усталого Базилика Зеленого и сказала ему:
— Возьми себе волшебную свирель и иди к царскому двору, там Получеловек, убивший тебя. Когда доберешься туда, оповестишь царя через его телохранителя, что хочешь играть на свадьбе его дочери. Видишь ли, царь ищет таких музыкантов, от игры которых заплясали бы и стар и млад, и горы, и реки. Поиграешь ему на свирели. После того, как сойдешься в цене с царем — покинешь царский двор, пойдешь на восток и пересечешь девять рубежей. И в первом селе за девятым рубежом наймешься пастухом. Затем возьмешь овец и поднимешься с ними на высокую гору, а взобравшись на гору, увидишь глубокую расщелину. Тогда заиграешь на свирели. Как только ты заиграешь, из расщелины выйдет хромой заяц, который начнет плясать под твою музыку, ты его мигом и убей. В нем ты найдешь золотое яблоко, а в яблоке — девять червей. Вот в этих девяти червях и кроется сила Получеловека. Как только ты убьешь червей, он тут же умрет, а царевна, которую ты спас от смерти, тебе достанется. Но знай, что путь твой будет тяжким, страшные грозы, буйные потоки преграждают дорогу к силе Получеловека. Только если сумеешь преодолеть все эти препятствия, найдешь то, что ищешь.
Базилик Зеленый поблагодарил ее, поцеловал ей руку и пошел к царскому двору. Шел он, шел, пока дошел до дворца и через привратника передал царю, что желает играть на свадьбе.
Услышав это, царь велел впустить его во двор, а как увидел его, спросил, на каком инструменте он играет.
Базилик Зеленый ответил ему:
— Играю я не бог весть на каком инструменте — на свирели, но стоит мне тебе сыграть, как запляшут травы, и листья деревьев, и весь мир.
Засмеялся тогда царь:
— Такие музыканты, как ты, могут играть только овцам, но никак не на свадьбе моей дочери, впрочем… ну-ка сыграй, посмотрим, на что ты горазд.
Вынул Базилик Зеленый волшебную свирель и начал играть. И такие звуки полились, что пустились в пляс не только царь и придворные, но и деревья и камни мостовой. Это очень понравилось царю, дал он музыканту цену хорошую и велел ему прийти играть на свадьбе.
Базилик Зеленый попросил тогда разрешение повидать невесту, а царь ему ответил:
— Невесту увидишь, когда придешь играть.
Покинул Базилик Зеленый царский двор и направился на восток, к высокой горе, где была спрятана сила Получеловека.
Долго он шел, все трудности пути поборол, но когда дошел до девятого рубежа, поднялся такой сильный ураган, какого еще свет не видывал. Вдруг перед ним выросла водяная стена, а по воде плыли такие громадные черные змеи, что Базилика Зеленого охватила дрожь. Все же он бросился в воду, чтобы пересечь и этот рубеж, как пересек остальные. Пока он с волнами боролся, ураган сорвал плотину на пруде одного богатого боярина. В этом пруде было много рыбы, и одна большая рыбина кинулась к Базилику Зеленому, чтобы съесть его. Борясь с рыбиной, потерял он свирель, которую заткнул за пояс, но обнаружил эту пропажу только когда вышел на берег.
Разгневанный и удрученный, он сказал:
"Ну, а теперь иди дальше, если можешь!"
Вдохнул он воздуха побольше и опять бросился в воду искать свою волшебную свирель.
Пока он в воду нырял в поисках свирели, змеи подплыли и ринулись на него всей кучей, вот-вот погубят.
Но Базилик Зеленый знал, что змей не раскрывает пасти в воде и не обратил на них никакого внимания, а продолжал искать волшебную свирель. Долго он искал ее и, наконец, нашел под большим камнем. Стал он из воды на сушу выбираться, чтобы дальше к большой горе податься. Но змеи обвились вокруг его тела, рук и ног и только ждали, когда он из воды выйдет, чтобы вонзить в него свои ядовитые клыки… Базилик Зеленый не растерялся и как только вышел из воды, заиграл на волшебной свирели. Змеи принялись плясать, а он таким образом избавился от них. Затем он направился к первому селу девятого рубежа, туда, где находилась сила Получеловека. Прибыв в село, он попросился к одному человеку переночевать, с дороги отдохнуть. Человек его принял. После того как Базилик Зеленый отдохнул, хозяин спросил его, куда он путь держит и чего ищет? Отвечает Базилик Зеленый:
— Ищу хозяина, чтоб чабаном к нему наняться, овец пасти.
Пообещал хозяин определить его на место и повел к сельскому попу. Поп нанять его согласился и такую речь держал:
— Нанять я найму тебя, но знай, что ты мне головой за овец отвечаешь, гляди, как бы не отбилась какая-нибудь от стада.
Только Базилик Зеленый меньше всего об овцах думал. Поклонился он попу и пошел к большой горе, где овцы паслись. Придя туда, вынул из-за пояса свирель и заиграл, и до тех пор дудел, пока заяц не вышел и не принялся плясать. Тогда Базилик Зеленый кинулся к нему, схватил за уши, ударил свирелью по голове и размозжил ему череп. Затем рассек его тело пополам и нашел золотое яблоко, в котором были спрятаны девять червей. На радостях Базилик Зеленый, с места не сходя, двух червей убил. Получеловек сразу заболел. Спрятал Базилик Зеленый золотое яблоко в карман, и такая радость его охватила, что он играл, не переставая, на свирели до тех пор, пока половина овец от пляски не околела.
Затем он повернулся лицом к западу, откуда пришел, и пустился в обратный путь, ко двору царя, где жила любимая им девушка, ставшая невестой мерзкого Получеловека. А царевна сидела в тереме и думала о доле своей горькой: очень уж ей не хотелось за урода выходить.
Идя к царскому дворцу, Базилик Зеленый проходил мимо ярмарки и купил себе платье шелковое, какое в ту пору только врачи носили.
Тем временем царь, увидав, что Получеловек болен, созвал лучших врачей со всей вселенной. Вишь, боялся он, как бы в случае смерти зятя не стали его остальные цари обвинять в убийстве. Но ни один из врачей, осмотревших больного, не смог определить, какая хворь его одолела.
Тут и Базилик Зеленый добрался до царского двора и проник к царю под видом врача: будто пришел осмотреть больного Получеловека и исцелить его. Царь приказал, чтобы врача впустили к Получеловеку в комнату. Пока Базилик Зеленый ожидал приказа царского, вынул он яблоко и убил еще пятерых червей. А затем быстро прошел в комнату Получеловека, который лежал в постели с перевязанной головой, чуть дыша. Врач приблизился к нему, а Получеловек, как только взглянул на лекаря, то есть на Базилика Зеленого, сразу узнал его и крикнул:
— Откуда ты взялся? Ведь я тебя убил и тело твое под порог забросил.
Но Базилик Зеленый за словом в карман не полез:
— Я воскрес и научился врачевать, и вот пришел сюда лечить тебя так, как ты меня лечил, а ты позарился на чужой труд и забрал девушку, не считаясь с тем, что я победил драконов. От борьбы ты увильнул, а славы пожелал и хвастал, что именно ты победил драконов и тебе должна достаться царевна. Ну так знай, что человеческий труд никогда не пропадает даром. А я научился врачеванию и нашел источник твоей силы. И если хочешь его видеть, гляди — он у меня в кармане.
Вынул Базилик Зеленый последних червей из яблока и, положив на стол, прихлопнул. Тут Получеловек дух испустил. Царь и царица очень обрадовались и царевну быстро позвали. Вошла царевна в комнату и как увидела Базилика Зеленого, чуть в обморок не упала.
— Ты ли это, Базилик Зеленый, тот самый, который меня спас от смерти? — вскрикнула она.
Вскоре они и свадьбу сыграли, целый год да еще одну ночь плясали, а народ веселился и ликовал, что от дракона и чудища злого Получеловека избавился.
Только к утру оно замерло. Тут девица на радостях стала воспевать доблесть Базилика Зеленого и его бой с драконами. И говорит ей Базилик Зеленый:
— Ты примись обед стряпать, а я прилягу отдохнуть, больно уж утомился в бою.
Повеселев, состряпала царевна обед прекрасный, всяких яств приготовила. Была она вне себя от счастья, что Базилик Зеленый уничтожил всех драконов и освободил ее из их когтей и что вскоре станет она женою красивого и отважного витязя. Когда еда была готова, она разбудила Базилика и поели они вместе, затем начали готовиться в путь-дорогу к царским чертогам.
Невесть как узнал обо всем случившемся Получеловек. Был он одноногим, одноруким, полуголовым, одноглазым и одноухим. А как узнал, помчался быстро к замку драконов. Базилик Зеленый с царевной в путь собирались. И крикнул Получеловек
— Мэй, Базилик Зеленый, ну-ка выходи на бой! Поборемся мы с тобой, и пусть царевна победителю достанется.
Царевна уже слышала ранее про этого Получеловека, о нем много раз говорили драконы, а потому она горько заплакала, приговаривая:
— Базилик Зеленый, коль ты этого одолеешь, значит написано тебе на роду живым быть. И заживем мы тогда в счастье и согласии.
Взял Базилик Зеленый меч в руки и вышел во двор. Взмахнул мечом и отсек Получеловеку кусок головы. Но тот отбежал в сторону и опять принялся кричать:
— Выйди бороться со мной, Базилик Зеленый!
Испугался Базилик Зеленый, услыхав, что Получеловек его снова на борьбу вызывает. Подбежал он к чудищу и одним ударом отсек и оставшийся кусок головы, а тело изрубил на кусочки, а куски собрал и сложил их под порогом дома. И лишь тогда вошел в дом и сказал девушке:
— Изрезал я его на куски, теперь уж ему не воскреснуть.
Но Получеловек ожил и опять стал кричать:
— Базилик Зеленый, выходи поборемся!
На этот раз Базилик Зеленый перепугался насмерть. Но все же взял меч в руки и вышел драться. А Получеловек спрятался за дверью и, как только Базилик вышел, кинулся к нему, выхватил меч и отсек ему голову. Упал Базилик Зеленый замертво на землю.
Убив Базилика Зеленого, Получеловек кинул меч возле него, вошел в дом и сказал царевне:
— Пойдем к твоему отцу.
Горько оплакивала царевна смерть Базилика Зеленого, но делать было нечего, пришлось ей пуститься в дорогу с уродом. Шли они, шли, пока достигли царского дворца. Пришли туда темной ночью, и царевна крикнула своему отцу:
— Отец, впусти меня.
Как услышал ее голос царь, сразу узнал ее, выбежал навстречу и крепко обнял. Много лет прошло с тех пор, как он ее не видел. На радостях позвал он гостей в дом и стал расспрашивать о бое с драконами. Тут вступил в разговор Получеловек, но был он так уродлив и противен, что, глядя на него, царю становилось жутко. Да что тут поделаешь: дал слово — держись. Сговорились они быстро меж собой, что на второй день состоится заручение, а через год и свадьбу сыграют. После заручения жениха и невесту разлучили. Получеловек был весел, а царевна печальна — не могла она забыть Базилика Зеленого.
Тем временем мать Базилика Зеленого, истосковавшись по сыну, бросила свое маленькое и бедное хозяйство и пустилась в дорогу по его следам. Дорожка, по которой она шла, была усеяна базиликами, и как раз в тот день, когда царевна с Получеловеком ушли к царскому дворцу, мать Базилика Зеленого нашла мертвое тело сына.
Стала она его оплакивать. Но в это время проползали мимо муравьи, собиравшие пищу на зиму. Вдруг один муравей набросился на другого и оторвал ему голову, а третий, завидев это, подошел к убитому муравью, приложил голову к шее. Затем потер трижды рану листком базилика, и муравей ожил. Увидев это, мать Базилика Зеленого решила сделать то же самое. Очнулся Базилик Зеленый ото сна и очень обрадовался, увидев мать. Потом он ей рассказал о своей борьбе с драконами и Получеловеком, показал трупы убитых драконов и молвил:
— Иди домой, к нашему маленькому и бедному хозяйству, которое ты оставила без присмотра. А я пойду разыскивать Получеловека, убившего меня, и снова померюсь с ним силами.
Пустилась его мать домой, а Базилик Зеленый направился на запад. Шел он так день-деньской от зари до зари, пока добрался до какой-то избушки, в которой горел огонек. Только он подошел к избушке, у порога собака залаяла, и тут же послышался женский голос из дома:
— Коли ты добрый человек, входи, а коли нет, проходи. Дом мой стережет пес с железными когтями и стальными клыками и изорвет он тебя в клочья.
Базилик Зеленый, будучи человеком честным и с чистой душой, решил войти в избушку. Поклонился он женщине, жившей там в одиночестве, и рассказал ей все свои приключения от начала до конца. А она ему и говорит:
— Переночуй у меня, а утром я тебе скажу, в чем кроется сила Получеловека и как его одолеть можно.
Эта женщина была святая Пятница. На другой день утром проснулась святая Пятница и созвала всех птиц со всех концов света. Покормила их и спросила, не знают ли, где находится Получеловек. Птицы ей ответили, что не слышали ничего о нем.
Святая Пятница разбудила тогда Базилика Зеленого и сказала ему:
— Иди все на запад, пока найдешь мою сестру. Может, она знает кое-что о Получеловеке, а я ничем не могу тебе помочь.
И снова пустился в дорогу Базилик Зеленый. Два дня он шел, пока достиг дома сестры святой Пятницы, святой Троицы, и поведал ей о всех своих мытарствах. Она также велела ему подождать до утра. На другой день она встала чуть свет, созвала всех птиц со всего света и спросила их, не знают ли они, где находится Получеловек.
— Мы ничего не знаем, но нету здесь с нами голубя, может быть он знает.
Вскоре прилетел и голубь. Спросила его сестра святой Пятницы о том же, и голубь ответил:
— Получеловек находится при царском дворе. Заручился он с дочерью царя, а свадьбу сыграют через год. Царь решил найти таких музыкантов, от игры которых запляшет и стар и млад… А я, вот, принес с собой волшебную свирель, которую нашел в логове драконов: может, кому и пригодится. О силе Получеловека я узнал с его же слов. Он мне сказал, что его сила находится на востоке от царского двора. Надо пересечь девять рубежей, а в первом селе на девятом рубеже стоит высокая гора, на которой овцы пасутся. В этой горе имеется глубокая расщелина, в которой живет хромой заяц. В желудке этого зайца лежит золотое яблоко, а в нем находятся девять червей. Вот в этих девяти червях и кроется сила Получеловека, и кто доберется туда и убьет червей, убьет и Получеловека.
Сказав это, голубь улетел восвояси, а святая Троица вошла в избушку, разбудила усталого Базилика Зеленого и сказала ему:
— Возьми себе волшебную свирель и иди к царскому двору, там Получеловек, убивший тебя. Когда доберешься туда, оповестишь царя через его телохранителя, что хочешь играть на свадьбе его дочери. Видишь ли, царь ищет таких музыкантов, от игры которых заплясали бы и стар и млад, и горы, и реки. Поиграешь ему на свирели. После того, как сойдешься в цене с царем — покинешь царский двор, пойдешь на восток и пересечешь девять рубежей. И в первом селе за девятым рубежом наймешься пастухом. Затем возьмешь овец и поднимешься с ними на высокую гору, а взобравшись на гору, увидишь глубокую расщелину. Тогда заиграешь на свирели. Как только ты заиграешь, из расщелины выйдет хромой заяц, который начнет плясать под твою музыку, ты его мигом и убей. В нем ты найдешь золотое яблоко, а в яблоке — девять червей. Вот в этих девяти червях и кроется сила Получеловека. Как только ты убьешь червей, он тут же умрет, а царевна, которую ты спас от смерти, тебе достанется. Но знай, что путь твой будет тяжким, страшные грозы, буйные потоки преграждают дорогу к силе Получеловека. Только если сумеешь преодолеть все эти препятствия, найдешь то, что ищешь.
Базилик Зеленый поблагодарил ее, поцеловал ей руку и пошел к царскому двору. Шел он, шел, пока дошел до дворца и через привратника передал царю, что желает играть на свадьбе.
Услышав это, царь велел впустить его во двор, а как увидел его, спросил, на каком инструменте он играет.
Базилик Зеленый ответил ему:
— Играю я не бог весть на каком инструменте — на свирели, но стоит мне тебе сыграть, как запляшут травы, и листья деревьев, и весь мир.
Засмеялся тогда царь:
— Такие музыканты, как ты, могут играть только овцам, но никак не на свадьбе моей дочери, впрочем… ну-ка сыграй, посмотрим, на что ты горазд.
Вынул Базилик Зеленый волшебную свирель и начал играть. И такие звуки полились, что пустились в пляс не только царь и придворные, но и деревья и камни мостовой. Это очень понравилось царю, дал он музыканту цену хорошую и велел ему прийти играть на свадьбе.
Базилик Зеленый попросил тогда разрешение повидать невесту, а царь ему ответил:
— Невесту увидишь, когда придешь играть.
Покинул Базилик Зеленый царский двор и направился на восток, к высокой горе, где была спрятана сила Получеловека.
Долго он шел, все трудности пути поборол, но когда дошел до девятого рубежа, поднялся такой сильный ураган, какого еще свет не видывал. Вдруг перед ним выросла водяная стена, а по воде плыли такие громадные черные змеи, что Базилика Зеленого охватила дрожь. Все же он бросился в воду, чтобы пересечь и этот рубеж, как пересек остальные. Пока он с волнами боролся, ураган сорвал плотину на пруде одного богатого боярина. В этом пруде было много рыбы, и одна большая рыбина кинулась к Базилику Зеленому, чтобы съесть его. Борясь с рыбиной, потерял он свирель, которую заткнул за пояс, но обнаружил эту пропажу только когда вышел на берег.
Разгневанный и удрученный, он сказал:
"Ну, а теперь иди дальше, если можешь!"
Вдохнул он воздуха побольше и опять бросился в воду искать свою волшебную свирель.
Пока он в воду нырял в поисках свирели, змеи подплыли и ринулись на него всей кучей, вот-вот погубят.
Но Базилик Зеленый знал, что змей не раскрывает пасти в воде и не обратил на них никакого внимания, а продолжал искать волшебную свирель. Долго он искал ее и, наконец, нашел под большим камнем. Стал он из воды на сушу выбираться, чтобы дальше к большой горе податься. Но змеи обвились вокруг его тела, рук и ног и только ждали, когда он из воды выйдет, чтобы вонзить в него свои ядовитые клыки… Базилик Зеленый не растерялся и как только вышел из воды, заиграл на волшебной свирели. Змеи принялись плясать, а он таким образом избавился от них. Затем он направился к первому селу девятого рубежа, туда, где находилась сила Получеловека. Прибыв в село, он попросился к одному человеку переночевать, с дороги отдохнуть. Человек его принял. После того как Базилик Зеленый отдохнул, хозяин спросил его, куда он путь держит и чего ищет? Отвечает Базилик Зеленый:
— Ищу хозяина, чтоб чабаном к нему наняться, овец пасти.
Пообещал хозяин определить его на место и повел к сельскому попу. Поп нанять его согласился и такую речь держал:
— Нанять я найму тебя, но знай, что ты мне головой за овец отвечаешь, гляди, как бы не отбилась какая-нибудь от стада.
Только Базилик Зеленый меньше всего об овцах думал. Поклонился он попу и пошел к большой горе, где овцы паслись. Придя туда, вынул из-за пояса свирель и заиграл, и до тех пор дудел, пока заяц не вышел и не принялся плясать. Тогда Базилик Зеленый кинулся к нему, схватил за уши, ударил свирелью по голове и размозжил ему череп. Затем рассек его тело пополам и нашел золотое яблоко, в котором были спрятаны девять червей. На радостях Базилик Зеленый, с места не сходя, двух червей убил. Получеловек сразу заболел. Спрятал Базилик Зеленый золотое яблоко в карман, и такая радость его охватила, что он играл, не переставая, на свирели до тех пор, пока половина овец от пляски не околела.
Затем он повернулся лицом к западу, откуда пришел, и пустился в обратный путь, ко двору царя, где жила любимая им девушка, ставшая невестой мерзкого Получеловека. А царевна сидела в тереме и думала о доле своей горькой: очень уж ей не хотелось за урода выходить.
Идя к царскому дворцу, Базилик Зеленый проходил мимо ярмарки и купил себе платье шелковое, какое в ту пору только врачи носили.
Тем временем царь, увидав, что Получеловек болен, созвал лучших врачей со всей вселенной. Вишь, боялся он, как бы в случае смерти зятя не стали его остальные цари обвинять в убийстве. Но ни один из врачей, осмотревших больного, не смог определить, какая хворь его одолела.
Тут и Базилик Зеленый добрался до царского двора и проник к царю под видом врача: будто пришел осмотреть больного Получеловека и исцелить его. Царь приказал, чтобы врача впустили к Получеловеку в комнату. Пока Базилик Зеленый ожидал приказа царского, вынул он яблоко и убил еще пятерых червей. А затем быстро прошел в комнату Получеловека, который лежал в постели с перевязанной головой, чуть дыша. Врач приблизился к нему, а Получеловек, как только взглянул на лекаря, то есть на Базилика Зеленого, сразу узнал его и крикнул:
— Откуда ты взялся? Ведь я тебя убил и тело твое под порог забросил.
Но Базилик Зеленый за словом в карман не полез:
— Я воскрес и научился врачевать, и вот пришел сюда лечить тебя так, как ты меня лечил, а ты позарился на чужой труд и забрал девушку, не считаясь с тем, что я победил драконов. От борьбы ты увильнул, а славы пожелал и хвастал, что именно ты победил драконов и тебе должна достаться царевна. Ну так знай, что человеческий труд никогда не пропадает даром. А я научился врачеванию и нашел источник твоей силы. И если хочешь его видеть, гляди — он у меня в кармане.
Вынул Базилик Зеленый последних червей из яблока и, положив на стол, прихлопнул. Тут Получеловек дух испустил. Царь и царица очень обрадовались и царевну быстро позвали. Вошла царевна в комнату и как увидела Базилика Зеленого, чуть в обморок не упала.
— Ты ли это, Базилик Зеленый, тот самый, который меня спас от смерти? — вскрикнула она.
Вскоре они и свадьбу сыграли, целый год да еще одну ночь плясали, а народ веселился и ликовал, что от дракона и чудища злого Получеловека избавился.
 КРЕМЕНЬ-МОЛОДЕЦ
КРЕМЕНЬ-МОЛОДЕЦ
 Покинули тучи небо ясное, показалось солнышко красное, ветер на крыльях своих принес полей благоуханье. Возвратился Кремень-молодец ко дворцу, нашел сестрицу свою, взял ее за руку и молвит:
— Теперь идем домой, свирепый дракон уж нас не остановит.
Прошла девушка несколько шагов, остановилась и заплакала.
— Ох, братец, не могу я уйти, покинув здесь братьев наших несчастных.
— Да где же они?
— В пропасти глубокой. Дракон покалечил их да бросил туда.
Спустился Кремень в пропасть и вскоре вынес на руках обоих братьев.
Бедняги держали в руках отрезанные ноги и были бледны и худы, жизнь едва в них теплилась. Положил их Кремень на траву зеленую, огляделся окрест да и направился прямо на восток. Шел он, шел по горам, по долинам, по лесам дремучим, по высоким кручам, и вот повстречалась ему в пути старушка.
— День добрый, бабушка!
— Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь?
— Ищу я мертвую да живую воду.
— Много тут родников всяких в этой долине, да нелегко будет найти мертвую и живую воду; почти во всех родниках вода отравленная.
Сел Кремень да призадумался. И тут родник, и там ключом вода бьет, а как же узнать, какая целебная? Не попробуешь ведь, благо попадешь на хорошую, а вдруг выпьешь яд и с жизнью расстанешься?
Ходит Кремень по этой долине, все поглядывает на родники и вдруг набрел на цветы. Стал он рвать их, собрал большой букет и вернулся к родникам; взял да и окунул в воду каждого родника по цветку. Как раз хватило ему цветов собранных. Повернул назад Кремень-молодец и смотрит: повсюду цветы завяли, захирели. Только в одном роднике цветок распустился пуще прежнего, а в другом корни в землю дал. Наполнил он два кувшина водой из этих родников да и пошел не оглядываясь. Затем приложил он братьям отрубленные ноги, побрызгал мертвой водой и срослись ноги, а когда побрызгал живой водой, то встали парни, как ни в чем не бывало. Счастью их не было конца. Обнялись они, расцеловались, да и пошли все четверо домой.
Как после ночи темной и холодной свет зари и солнечное тепло оживляет все окрест, так вернулись в душу матери любовь и счастье, когда увидела она детей своих дома. Стали они жить-поживать да добра наживать. У каждого из них был свой дом, свой стол, и жили они так счастливо и мирно много-много лет, а может, и сейчас живут, если не померли.
Покинули тучи небо ясное, показалось солнышко красное, ветер на крыльях своих принес полей благоуханье. Возвратился Кремень-молодец ко дворцу, нашел сестрицу свою, взял ее за руку и молвит:
— Теперь идем домой, свирепый дракон уж нас не остановит.
Прошла девушка несколько шагов, остановилась и заплакала.
— Ох, братец, не могу я уйти, покинув здесь братьев наших несчастных.
— Да где же они?
— В пропасти глубокой. Дракон покалечил их да бросил туда.
Спустился Кремень в пропасть и вскоре вынес на руках обоих братьев.
Бедняги держали в руках отрезанные ноги и были бледны и худы, жизнь едва в них теплилась. Положил их Кремень на траву зеленую, огляделся окрест да и направился прямо на восток. Шел он, шел по горам, по долинам, по лесам дремучим, по высоким кручам, и вот повстречалась ему в пути старушка.
— День добрый, бабушка!
— Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь?
— Ищу я мертвую да живую воду.
— Много тут родников всяких в этой долине, да нелегко будет найти мертвую и живую воду; почти во всех родниках вода отравленная.
Сел Кремень да призадумался. И тут родник, и там ключом вода бьет, а как же узнать, какая целебная? Не попробуешь ведь, благо попадешь на хорошую, а вдруг выпьешь яд и с жизнью расстанешься?
Ходит Кремень по этой долине, все поглядывает на родники и вдруг набрел на цветы. Стал он рвать их, собрал большой букет и вернулся к родникам; взял да и окунул в воду каждого родника по цветку. Как раз хватило ему цветов собранных. Повернул назад Кремень-молодец и смотрит: повсюду цветы завяли, захирели. Только в одном роднике цветок распустился пуще прежнего, а в другом корни в землю дал. Наполнил он два кувшина водой из этих родников да и пошел не оглядываясь. Затем приложил он братьям отрубленные ноги, побрызгал мертвой водой и срослись ноги, а когда побрызгал живой водой, то встали парни, как ни в чем не бывало. Счастью их не было конца. Обнялись они, расцеловались, да и пошли все четверо домой.
Как после ночи темной и холодной свет зари и солнечное тепло оживляет все окрест, так вернулись в душу матери любовь и счастье, когда увидела она детей своих дома. Стали они жить-поживать да добра наживать. У каждого из них был свой дом, свой стол, и жили они так счастливо и мирно много-много лет, а может, и сейчас живут, если не померли.
 ДАФИН И ВЕСТРА
ДАФИН И ВЕСТРА

 БАЗИЛИК ФЭТ-ФРУМОС И ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА, СЕСТРА СОЛНЦА
БАЗИЛИК ФЭТ-ФРУМОС И ИЛЯНА КОСЫНЗЯНА, СЕСТРА СОЛНЦА
 МАРКУ БОГАТЕЙ
МАРКУ БОГАТЕЙ
 Будет сказка занимательна, слушайте ее внимательно, кто уши хорошенько раскроет, много всякой всячины усвоит, а кто невзначай уснет, так ни с чем и уйдет.
Сказывают, жил-был когда-то боярин по имени Марку Богатей. Богатства его были так несметны, что он им и сам счет потерял. Имел он множество дворцов, хоромы несчетные, поля беспредельные, и на что бывало ни глянешь: лес ли, нива ли — все ему принадлежит. На лугах и лесных полянах паслись табуны его лошадей, стада волов и коров и отары овец.
Вот однажды задумал Марку Богатей закатить пир на весь мир, всех богатеев созвать и совет с ними держать, чтоб узнать, чье имение больше, чья казна богаче.
Ждали во дворце гостей, столы от яств и вин ломились: оглядел их Марку Богатей оком хозяйским и приказал стражникам, что на воротах стояли:
— Коль знатный боярин явится, пусть к столу скорее направится, а посмеет прийти бедняк — постолы да дряной кушак, — так вы его, не жалея, гоните батогами в три шеи. Так я хочу, за то вам деньги плачу.
Стали съезжаться фаэтоны да кареты, которым равных в мире нету, с колокольчиками, бубенцами, со знатными седоками — за три версты слышно: бояре едут!
Под вечер, когда день с ночью смешаются, а пиры боярские разгораются, подошел к воротам старичок в лохмотьях, такой древний да усталый, что ветром его качало.
— Назад, старик! — закричали стражники, едва его завидели.
— Позвольте мне пройти, авось боярин чем-нибудь пожалует.
— Назад, старый хрыч, не подходи к воротам, коли жизнь дорога!
Видит старик — шутки плохи, понурил голову и назад повернулся.
Свернул на дорогу в ближнее сельцо, вскоре подошел к крайней избушке и в дверь постучался, чтобы приюта на ночь попросить.
Вышла к нему на порог хозяйка.
— Вечер добрый, хозяюшка!
— Добрый вечер.
— А не пустишь ли меня в дом, переночевать?
— С дорогой душой. Только не обессудьте: изба моя детишек полна, мал мала меньше, ни накормить, ни одеть мне их нечем. На ночь их юбкой да платком укрываю, от холода оберегая.
— Что ж, невелика беда, лягу я за печью, коли тебя тем не обеспокою.
— Милости просим, какое уж тут беспокойство.
В избе, при свете лучины, показался ей старик очень странным, был он похож скорее на колдуна, чем на человека.
Улегся путник за печкой и, так как устал очень с дороги, сразу же захрапел. Легла и хозяйка и вскоре тоже уснула.
Вдруг в полночь слышит она: цок, цок, цок! — стучит кто-то в окошко. Глянула она и видит: слетела с неба сверкающая звезда, шепчет старику:
Будет сказка занимательна, слушайте ее внимательно, кто уши хорошенько раскроет, много всякой всячины усвоит, а кто невзначай уснет, так ни с чем и уйдет.
Сказывают, жил-был когда-то боярин по имени Марку Богатей. Богатства его были так несметны, что он им и сам счет потерял. Имел он множество дворцов, хоромы несчетные, поля беспредельные, и на что бывало ни глянешь: лес ли, нива ли — все ему принадлежит. На лугах и лесных полянах паслись табуны его лошадей, стада волов и коров и отары овец.
Вот однажды задумал Марку Богатей закатить пир на весь мир, всех богатеев созвать и совет с ними держать, чтоб узнать, чье имение больше, чья казна богаче.
Ждали во дворце гостей, столы от яств и вин ломились: оглядел их Марку Богатей оком хозяйским и приказал стражникам, что на воротах стояли:
— Коль знатный боярин явится, пусть к столу скорее направится, а посмеет прийти бедняк — постолы да дряной кушак, — так вы его, не жалея, гоните батогами в три шеи. Так я хочу, за то вам деньги плачу.
Стали съезжаться фаэтоны да кареты, которым равных в мире нету, с колокольчиками, бубенцами, со знатными седоками — за три версты слышно: бояре едут!
Под вечер, когда день с ночью смешаются, а пиры боярские разгораются, подошел к воротам старичок в лохмотьях, такой древний да усталый, что ветром его качало.
— Назад, старик! — закричали стражники, едва его завидели.
— Позвольте мне пройти, авось боярин чем-нибудь пожалует.
— Назад, старый хрыч, не подходи к воротам, коли жизнь дорога!
Видит старик — шутки плохи, понурил голову и назад повернулся.
Свернул на дорогу в ближнее сельцо, вскоре подошел к крайней избушке и в дверь постучался, чтобы приюта на ночь попросить.
Вышла к нему на порог хозяйка.
— Вечер добрый, хозяюшка!
— Добрый вечер.
— А не пустишь ли меня в дом, переночевать?
— С дорогой душой. Только не обессудьте: изба моя детишек полна, мал мала меньше, ни накормить, ни одеть мне их нечем. На ночь их юбкой да платком укрываю, от холода оберегая.
— Что ж, невелика беда, лягу я за печью, коли тебя тем не обеспокою.
— Милости просим, какое уж тут беспокойство.
В избе, при свете лучины, показался ей старик очень странным, был он похож скорее на колдуна, чем на человека.
Улегся путник за печкой и, так как устал очень с дороги, сразу же захрапел. Легла и хозяйка и вскоре тоже уснула.
Вдруг в полночь слышит она: цок, цок, цок! — стучит кто-то в окошко. Глянула она и видит: слетела с неба сверкающая звезда, шепчет старику:
 ТРИ БРАТА
ТРИ БРАТА
 КРАСНОГЛАЗЫЙ МЕЛЬНИК
КРАСНОГЛАЗЫЙ МЕЛЬНИК
 КОГДА ЗА ДОБРО ЗЛОМ ПЛАТЯТ
КОГДА ЗА ДОБРО ЗЛОМ ПЛАТЯТ
 Шел однажды человек по лесу, с работы домой возвращался. Дорога не ближняя, идет он, думу думает и вдруг видит впереди — дерево горит. Бушует пламя, объяло его снизу доверху, только веточки трещат. А на самой вершине змея предлинная корчится, извивается в огне лютом, мается и шипит, что есть мочи, от страшной боли. Заметила змея человека, запричитала жалобно-прежалобно:
— Помоги, добрый человек, спаси меня от смерти лютой.
Совестно стало человеку мимо пройти, не вызволить змею из беды; и она, чай, существо живое, тоже умирать не хочет. Протянул он посох свой длинный, и змея тихонько-легонько спустилась вниз, поползла по руке человека, да негаданно-нежданно и обвилась вокруг него.
Остолбенел бедняга от изумления.
Схватил было змею, крутит ее, рвет, чтоб избавиться, да не тут-то было! Змея только рассвирепела да еще пуще сдавила, чуть не удавила.
— Тьфу, напасть, — мечется человек. — Хотел змее добро сделать, а оно против меня же злом обернулось.
— Так оно и бывает всегда.
— Как это?
— Аль не знаешь ты, что за добро злом всегда платят?
— Откуда ты правило такое выкопала?
— Как это, откуда? Так уж водится, спроси хоть кого, никто не скажет тебе, чтоб за добро добром воздавали; а коль найдется хоть одно существо, которое думает иначе, сползу я с твоей шеи.
Пошел человек дальше, с горя в глазах потемнело, еле-еле дорогу видит. Идет он, идет и вдруг коня встречает.
— Здравствуй, конь.
— Здравствуй, прохожий.
— Послушай-ка, в какую беду я попал. Проходил я лесом и вот пожалел змею эту, из огня ее вытащил, а она вокруг шеи моей обвилась, и ношу я ее теперь на себе, словно крест тяжкий. Рассуди же нас, правильно ли это, что за добро злом мне платят.
— Эх, бедолага, понятна мне скорбь твоя, ведь и я едва на ногах держусь от горя-горького. В молодости кормил меня хозяин зерном отборным, поил да холил, а потом, бывало, вскочит верхом, и ношу я его по свету вдоль и поперек. Но только я состарился — погнал он меня на все четыре стороны. Нет во мне больше нужды. Вот как бывает на свете! Горе нам, несчастным, за добро нам злом платят.
— Ну что, аль не права я? Слышишь, что конь говорит? — злорадно зашипела змея.
Пошел человек дальше, и увидал он пса старого, тощего и шелудивого.
— Здравствуй, пес!
— Здравствуй.
— Подойди-ка поближе и послушай, какое у меня горе. Вот то-то и то-то со мной приключилось. — И поведал он псу все, как было.
— Эх, добрый человек, — могу я тебе только посочувствовать, ведь и на меня несчастье большое обрушилось. В молодости служил я хозяину, и кормил он меня хорошо; ловил я ему зайцев, лисиц, волков загонял; а как постарел и обессилел, прогнал меня хозяин, и теперь слоняюсь я, как неприкаянный, и на помойках роюсь, и мослы глодаю, забыл хозяин все услуги мои. Эгей, что и говорить, за добро злом платят.
— Слышишь, человече, что все говорят?
— Слышу, как же, слышу, но давай еще кого-нибудь спросим.
Пошли они своей дорогой, шли все вперед, пока дошли до другого леса.
Тут повстречался им добрый молодец, юный красавец со взором ясным, с палицей на плече и мечом на боку.
— Здравствуй, добрый молодец, — молвит человек.
— Здравствуй, горемыка.
— Послушай-ка про горести мои.
— Говори, что болит.
— Возвращался я с работы, да в лесу одном вытащил из огня-полымя эту змею подколодную, и вот обвилась она вокруг шеи моей, задушить норовит. Рассуди же нас, добрый молодец, скажи, можно ли за добро злом платить.
— Добрый человек, не могу вас рассудить, когда один на другом верхом сидит.
— Как же нам быть?
— Разойдитесь один по эту сторону дороги, другой по ту, тогда и рассужу я вас.
Змея — ни в какую. Сидит на шее человека, словно привороженная.
— Да слезь ты, змея проклятая, пусть рассудит нас добрый молодец, — закричал на нее человек.
Поползла змея вниз, направилась к обочине дороги. Тут добрый молодец засвистел что есть мочи, и вдруг как из-под земли вырос отряд витязей могучих, да стали змею топтать, избивать, на куски рубить, пока с землей не смешали.
Вот каков приговор, когда за добро злом платят.
Шел однажды человек по лесу, с работы домой возвращался. Дорога не ближняя, идет он, думу думает и вдруг видит впереди — дерево горит. Бушует пламя, объяло его снизу доверху, только веточки трещат. А на самой вершине змея предлинная корчится, извивается в огне лютом, мается и шипит, что есть мочи, от страшной боли. Заметила змея человека, запричитала жалобно-прежалобно:
— Помоги, добрый человек, спаси меня от смерти лютой.
Совестно стало человеку мимо пройти, не вызволить змею из беды; и она, чай, существо живое, тоже умирать не хочет. Протянул он посох свой длинный, и змея тихонько-легонько спустилась вниз, поползла по руке человека, да негаданно-нежданно и обвилась вокруг него.
Остолбенел бедняга от изумления.
Схватил было змею, крутит ее, рвет, чтоб избавиться, да не тут-то было! Змея только рассвирепела да еще пуще сдавила, чуть не удавила.
— Тьфу, напасть, — мечется человек. — Хотел змее добро сделать, а оно против меня же злом обернулось.
— Так оно и бывает всегда.
— Как это?
— Аль не знаешь ты, что за добро злом всегда платят?
— Откуда ты правило такое выкопала?
— Как это, откуда? Так уж водится, спроси хоть кого, никто не скажет тебе, чтоб за добро добром воздавали; а коль найдется хоть одно существо, которое думает иначе, сползу я с твоей шеи.
Пошел человек дальше, с горя в глазах потемнело, еле-еле дорогу видит. Идет он, идет и вдруг коня встречает.
— Здравствуй, конь.
— Здравствуй, прохожий.
— Послушай-ка, в какую беду я попал. Проходил я лесом и вот пожалел змею эту, из огня ее вытащил, а она вокруг шеи моей обвилась, и ношу я ее теперь на себе, словно крест тяжкий. Рассуди же нас, правильно ли это, что за добро злом мне платят.
— Эх, бедолага, понятна мне скорбь твоя, ведь и я едва на ногах держусь от горя-горького. В молодости кормил меня хозяин зерном отборным, поил да холил, а потом, бывало, вскочит верхом, и ношу я его по свету вдоль и поперек. Но только я состарился — погнал он меня на все четыре стороны. Нет во мне больше нужды. Вот как бывает на свете! Горе нам, несчастным, за добро нам злом платят.
— Ну что, аль не права я? Слышишь, что конь говорит? — злорадно зашипела змея.
Пошел человек дальше, и увидал он пса старого, тощего и шелудивого.
— Здравствуй, пес!
— Здравствуй.
— Подойди-ка поближе и послушай, какое у меня горе. Вот то-то и то-то со мной приключилось. — И поведал он псу все, как было.
— Эх, добрый человек, — могу я тебе только посочувствовать, ведь и на меня несчастье большое обрушилось. В молодости служил я хозяину, и кормил он меня хорошо; ловил я ему зайцев, лисиц, волков загонял; а как постарел и обессилел, прогнал меня хозяин, и теперь слоняюсь я, как неприкаянный, и на помойках роюсь, и мослы глодаю, забыл хозяин все услуги мои. Эгей, что и говорить, за добро злом платят.
— Слышишь, человече, что все говорят?
— Слышу, как же, слышу, но давай еще кого-нибудь спросим.
Пошли они своей дорогой, шли все вперед, пока дошли до другого леса.
Тут повстречался им добрый молодец, юный красавец со взором ясным, с палицей на плече и мечом на боку.
— Здравствуй, добрый молодец, — молвит человек.
— Здравствуй, горемыка.
— Послушай-ка про горести мои.
— Говори, что болит.
— Возвращался я с работы, да в лесу одном вытащил из огня-полымя эту змею подколодную, и вот обвилась она вокруг шеи моей, задушить норовит. Рассуди же нас, добрый молодец, скажи, можно ли за добро злом платить.
— Добрый человек, не могу вас рассудить, когда один на другом верхом сидит.
— Как же нам быть?
— Разойдитесь один по эту сторону дороги, другой по ту, тогда и рассужу я вас.
Змея — ни в какую. Сидит на шее человека, словно привороженная.
— Да слезь ты, змея проклятая, пусть рассудит нас добрый молодец, — закричал на нее человек.
Поползла змея вниз, направилась к обочине дороги. Тут добрый молодец засвистел что есть мочи, и вдруг как из-под земли вырос отряд витязей могучих, да стали змею топтать, избивать, на куски рубить, пока с землей не смешали.
Вот каков приговор, когда за добро злом платят.
 КОНЬ И МЕДВЕДЬ
КОНЬ И МЕДВЕДЬ
 СЛУГА И БАРИН
СЛУГА И БАРИН
 ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ С КУПЦАМИ
ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ С КУПЦАМИ
 ПОВАР И БАРИН
ПОВАР И БАРИН
 ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК

Последние комментарии
4 часов 38 минут назад
20 часов 42 минут назад
1 день 5 часов назад
1 день 5 часов назад
3 дней 12 часов назад
3 дней 16 часов назад