ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 19




ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
КНИГА ПЕРВАЯ «СЕВ»
Глава I
Единое на потребу[1]— Итак, я требую фактов. Учите этих мальчиков и девочек только фактам. В жизни требуются одни факты. Не насаждайте ничего иного и все иное вырывайте с корнем. Ум мыслящего животного можно образовать только при помощи фактов, ничто иное не приносит ему пользы. Вот теория, по которой я воспитываю своих детей. Вот теория, по которой я воспитываю и этих детей. Держитесь фактов, сэр! Действие происходило в похожем на склеп неуютном, холодном классе с голыми стенами, а оратор для пущей внушительности подчеркивал каждое свое изречение, проводя квадратным пальцем по рукаву учителя. Не менее внушителен, нежели слова оратора, был его квадратный лоб, поднимавшийся отвесной стеной над фундаментом бровей, а под его сенью, в темных просторных подвалах, точно в пещерах, с удобством расположились глаза. Внушителен был и рот оратора — большой, тонкогубый и жесткий; и голос оратора — твердый, сухой и властный; внушительна была и его лысина, по краям которой волосы щетинились, словно елочки, посаженные для защиты от ветра ее глянцевитой поверхности, усеянной шишками, точно корка сладкого пирога, — как будто запас бесспорных фактов уже не умещался в черепной коробке. Непреклонная осанка, квадратный сюртук, квадратные ноги, квадратные плечи — да что там! — даже туго завязанный галстук, крепко державший оратора за горло как самый очевидный и неопровержимый факт, — все в нем было внушительно. — В этой жизни, сэр, нам требуются факты, одни только факты! Все трое взрослых — оратор, учитель и третье присутствующее при сем лицо — отступили на шаг и окинули взором расположенные чинными рядами по наклонной плоскости маленькие сосуды, готовые принять галлоны фактов, которыми надлежало наполнить их до краев.
Глава II
Избиение младенцев[2]Томас Грэдграйнд, сэр. Человек трезвого ума. Человек очевидных фактов и точных расчетов. Человек, который исходит из правила, что дважды два — четыре, и ни на йоту больше, и никогда не согласится, что может быть иначе, лучше и не пытайтесь убеждать его. Томас Грэдграйнд, сэр — именно Томас — Томас Грэдграйнд. Вооруженный линейкой и весами, с таблицей умножения в кармане, он всегда готов взвесить и измерить любой образчик человеческой природы и безошибочно определить, чему он равняется. Это всего-навсего подсчет цифр, сэр, чистая арифметика. Вы можете тешить себя надеждой, что вам удастся вбить какие-то другие, вздорные понятия в голову Джорджа Грэдграйнда, или Огастеса Грэдграйнда, или Джона Грэдграйнда, или Джозефа Грэдграйнда (лица воображаемые, несуществующие), но только не в голову Томаса Грэдграйнда, о нет, сэр! Такими словами мистер Грэдграйнд имел обыкновение мысленно рекомендовать себя узкому кругу знакомых, а также и широкой публике. И, несомненно, такими же словами — заменив обращение «сэр» обращением «ученики и ученицы», — Томас Грэдграйнд мысленно представил Томаса Грэдграйнда сидевшим перед ним сосудикам, куда надо было влить как можно больше фактов. Он стоял, грозно сверкая на них укрывшимися в пещерах глазами, словно до самого жерла начиненная фактами пушка, готовая одним выстрелом выбить их из пределов детства. Или гальванический прибор, заряженный бездушной механической силой, долженствующей заменить развеянное в прах нежное детское воображение. — Ученица номер двадцать, — сказал мистер Грэдграйнд, тыча квадратным пальцем в одну из школьниц. — Я этой девочки не знаю. Кто эта девочка? — Сесси Джуп, сэр, — отвечала, вся красная от смущения, ученица номер двадцать, вскочив на ноги и приседая. — Сесси? Такого имени нет, — сказал мистер Грэдграйнд. — Не называй себя Сесси. Называй себя Сесилия. — Мой папа зовет меня Сесси, сэр, — дрожащим голосом отвечала девочка и еще раз присела. — Напрасно он так называет тебя, — сказал мистер Грэдграйнд. — Скажи ему, чтобы он этого не делал. Сесилия Джуп. Постой-ка. Кто твой отец? — Он из цирка, сэр. Мистер Грэдграйнд нахмурился и повел рукой, отмахиваясь от столь предосудительного ремесла. — Об этом мы здесь ничего знать не хотим. И никогда не говори этого здесь. Твой отец, верно, объезжает лошадей? Да? — Да, сэр. Когда удается достать лошадей, их объезжают на арене, сэр. — Никогда не поминай здесь про арену. Так вот, называй своего отца берейтором. Он, должно быть, лечит больных лошадей? — Конечно, сэр. — Отлично, стало быть, твой отец коновал — то есть ветеринар — и берейтор. А теперь определи, что есть лошадь? (Сесси Джуп, насмерть перепуганная этим вопросом, молчала.) — Ученица номер двадцать не знает, что такое лошадь! — объявил мистер Грэдграйнд, обращаясь ко всем сосудикам. — Ученица номер двадцать не располагает никакими фактами относительно одного из самых обыкновенных животных! Послушаем, что знают о лошади ученики. Битцер, скажи ты. Квадратный палец, двигаясь взад и вперед, вдруг остановился на Битцере, быть может только потому, что мальчик оказался на пути того солнечного луча, который, ворвавшись в ничем не занавешенное окно густо выбеленной комнаты, упал на Сесси. Ибо наклонная плоскость была разделена на две половины: по одну сторону узкого прохода, ближе к окнам, помещались девочки, по другую — мальчики; и луч солнца, одним концом задев Сесси, сидевшую крайней в своем ряду, другим концом осветил Битцера, занимавшего крайнее место на несколько рядов впереди Сесси. Но черные глаза и черные волосы девочки заблестели еще ярче в солнечном свете, а белесые глаза и белесые волосы мальчика, под действием того же луча, казалось, утратили последние следы красок, отпущенных ему природой. Пустые, бесцветные глаза мальчика были бы едва приметны на его лице, если бы не окаймлявшая их короткая щетина ресниц более темного оттенка. Коротко остриженные волосы ничуть по цвету не отличались от желтоватых веснушек, покрывавших его лоб и щеки. А болезненно бледная кожа, без малейших следов естественного румянца, невольно наводила на мысль, что если бы он порезался, потекла бы не красная, а белая кровь. — Битцер, — сказал Томас Грэдграйнд, — объясни, что есть лошадь. — Четвероногое. Травоядное. Зубов сорок, а именно: двадцать четыре коренных, четыре глазных и двенадцать резцов. Линяет весной; в болотистой местности меняет и копыта. Копыта твердые, но требуют железных подков. Возраст узнается по зубам. — Все это (и еще многое другое) Битцер выпалил одним духом. — Ученица номер двадцать, — сказал мистер Грэдграйнд, — теперь ты знаешь, что есть лошадь. Сесси снова присела и вспыхнула бы еще ярче, будь это возможно, — лицо ее и так уже пылало. Битцер, моргнув в сторону Томаса Грэдграйнда обоими глазами зараз, отчего ресницы его затрепетали на солнце, словно усики суетливых букашек, стукнул себя костяшками пальцев по веснушчатому лбу и сел на место. Вперед вышел третий джентльмен: великий мастер непродуманных решений, правительственный чиновник с повадками кулачного бойца, всегда начеку, всегда готовый насильно пропихнуть в общественное горло — словно огромную пилюлю, содержащую изрядную дозу яда, — очередной дерзновенный прожект; всегда во всеоружии, громогласно бросающий вызов всей Англии из своей маленькой канцелярии. Выражаясь по-боксерски, он всегда был в превосходной форме, где бы и когда бы он ни вышел на ринг, и не гнушался запрещенных приемов. Он злобно накидывался на все, что ему противодействовало, бил сначала правой, потом левой, парировал удары, наносил встречные, прижимал противника (всю Англию!) к канатам и уверенно сбивал его с ног. Он так ловко опрокидывал здравый смысл, что тот падал замертво и уже не мог подняться вовремя. На этого джентльмена высочайшей властью была возложена миссия — ускорить пришествие тысячелетнего царства, когда из своей всеобъемлющей канцелярии миром будут править чиновники[3]. — Отлично, — сказал джентльмен, скрестив руки на груди и одобрительно улыбаясь. — Вот что есть лошадь. А теперь, дети, ответьте мне на вопрос: стал бы кто-нибудь из вас оклеивать комнату изображениями лошади? После непродолжительного молчания одна половина хором закричала «да, сэр!». Но другая половина, догадавшись по лицу джентльмена, что «да» — неверно, по обычаю всех школьников дружно крикнула «нет, сэр!». — Конечно, нет. А почему? Молчание. Наконец один толстый медлительный мальчик, видимо страдающий одышкой, дерзнул ответить, что он вообще не стал бы оклеивать стены обоями, а выкрасил бы их. — Но ты должен оклеить их, — строго сказал джентльмен. — Ты должен оклеить их, — подтвердил Томас Грэдграйнд, — нравится тебе это или нет. И не говори, что ты не стал бы оклеивать комнату. Это еще что за новости? — Придется мне объяснить вам, — сказал джентльмен после еще одной длительной и тягостной паузы, — почему вы не стали бы оклеивать комнату изображениями лошади. Вы когда-нибудь видели, чтобы лошади шагали вверх и вниз по стене? Известен вам такой факт? Ну? — Да, сэр! — закричали одни. — Нет, сэр! — закричали другие. — Разумеется, нет, — сказал джентльмен, бросив негодующий взгляд на тех, кто кричал «да». — И вы никогда не должны видеть то, чего не видите на самом деле, и вы никогда не должны думать о том, чего у вас на самом деле нет. Так называемый вкус — это всего-навсего признание факта. Томас Грэдграйнд выразил свое полное согласие кивком головы. — Это новый принцип, великое открытие, — продолжал джентльмен. — Теперь я вам задам еще один вопрос. Допустим, вы захотели разостлать в своей комнате ковер. Стал бы кто-нибудь из вас класть ковер, на котором изображены цветы? К этому времени весь класс уже твердо уверовал в то, что на вопросы джентльмена всегда нужно давать отрицательные ответы, и дружное «нет» прозвучало громко и стройно. Только несколько голосов робко, с опозданием, ответило «да», — среди них голос Сесси Джуп. — Ученица номер двадцать, — произнес джентльмен, снисходительно улыбаясь с высоты своей непререкаемой мудрости. Сесси встала, пунцовая от смущения. — Итак, ты бы застелила пол в своей комнате или в комнате твоего мужа — если бы ты была взрослая женщина и у тебя был бы муж — изображениями цветов? — спросил джентльмен. — А почему ты бы это сделала? — Потому, сэр, что я очень люблю цветы, — отвечала девочка. — И ты поставила бы на них столы и стулья и позволила бы топтать их тяжелыми башмаками? — Простите, сэр, но это не повредило бы им. Они бы не сломались и не завяли, сэр. Но они напоминали бы о том, что очень красиво и мило, и я бы воображала… — Вот именно, именно! — воскликнул джентльмен, очень довольный, что так легко достиг своей цели. — Как раз воображать-то и не надо. В этом вся суть! Никогда не пытайся воображать. — Смотри, Сесилия Джуп, — нахмурившись, проговорил Томас Грэдграйнд, — чтобы этого больше не было. — Факты, факты и факты! — сказал джентльмен. — Факты, факты и факты, — как эхо откликнулся Томас Грэдграйнд. — Вы должны всегда и во всем руководствоваться фактами и подчиняться фактам, — продолжал джентльмен. — Мы надеемся в недалеком будущем учредить министерство фактов, где фактами будут ведать чиновники, и тогда мы заставим народ быть народом фактов, и только фактов. Забудьте самое слово «воображение». Оно вам ни к чему. Все предметы обихода или убранства, которыми вы пользуетесь, должны строго соответствовать фактам. Вы не топчете настоящие цветы — стало быть, нельзя топтать цветы, вытканные на ковре. Заморские птицы и бабочки не садятся на вашу посуду — стало быть, не следует расписывать ее заморскими цветами и бабочками. Так не бывает, чтобы четвероногие ходили вверх и вниз по стенам комнаты — стало быть, не нужно оклеивать стены изображениями четвероногих. Вместо всего этого, — заключил джентльмен, — вы должны пользоваться сочетаниями и видоизменениями (в основных цветах спектра) геометрических фигур, наглядных и доказуемых. Это и есть новейшее великое открытие. Это и есть признание факта. Это и есть вкус. Сесси опять присела и опустилась на свое место. Она была еще очень молода, и, видимо, картина будущего царства фактов не на шутку пугала ее. — А теперь, мистер Грэдграйнд, — сказал джентльмен, — если мистер Чадомор готов преподать свой первый урок, я рад буду исполнить вашу просьбу и ознакомиться с его методой. Мистер Грэдграйнд изъявил свою глубочайшую признательность. — Мистер Чадомор, прошу вас. Итак, урок начался, и мистер Чадомор показал себя с наилучшей стороны. Он был из тех школьных учителей, которых в количестве ста сорока штук недавно изготовили в одно и то же время, на одной и той же фабрике, по одному и тому же образцу, точно партию ножек для фортепьяно. Его прогнали через несметное множество экзаменов, и он ответил на бесчисленные головоломные вопросы. Орфографию, этимологию, синтаксис и просодию[4], астрономию, географию и общую космографию, тройное правило[5], алгебру и геодезию, пение и рисование с натуры — все это он знал как свои пять холодных пальцев. Путь его был тернист, но он достиг списка В, утвержденного Тайным советом ее величества[6], и приобщился к высшей математике и физическим наукам, усвоил французский язык, немецкий, греческий и латынь. Он знал все о всех водоразделах мира (сколько бы их ни было), знал историю всех народов, названия всех рек и гор, нравы и обычаи всех стран и что в какой производят, границы каждой из них и положение относительно тридцати двух румбов компаса. Не многовато ли, мистер Чадомор? Ах, если бы он чуть поменьше знал, насколько лучше он мог бы научить неизмеримо большему! На этом первом вводном уроке он поступил по примеру Морджаны из сказки про Али-Баба и сорок разбойников[7] — а именно, начал с того, что заглянул по очереди во все кувшины, выставленные перед ним, дабы ознакомиться с их содержимым. Скажи по совести, милейший Чадомор: уверен ли ты, что всякий раз, когда ты до краев наполнишь сосуд кипящей смесью своих знаний, притаившийся на дне разбойник — детское воображение — будет сразу умерщвлен? Или может случиться, что ты только искалечишь и изуродуешь его?
Глава III
ЩелкаМистер Грэдграйнд отправился из школы домой в превосходном расположении духа. Это его школа, и он сделает ее образцовой. Каждый ребенок в этой школе будет таким же образцовым ребенком, как юные отпрыски самого мистера Грэдграйнда. Юных отпрысков было пятеро, и все они до единого могли служить образцами. Просвещать их начали с самого нежного возраста; гоняли точно молодых зайцев. Едва они научились ходить без посторонней помощи, как их заставили ходить в классную комнату. Первый предмет, появившийся в поле их зрения и глубоко врезавшийся им в память, была большая классная доска, на которой страшный Людоед чертил зловещие белые знаки. Разумеется, отпрыски и не подозревали о существовании Людоеда и даже имени такого никогда не слышали. Боже упаси! Я просто пользуюсь этим словом, чтобы описать чудовище с несметным числом голов, втиснутых в одну, которое похищает детей и за волосы тащит их в статистические клетки своего мрачного замка учености. Никто из малолетних Грэдграйндов не говорил никогда, что луна улыбается: они знали все про луну еще до того, как научились говорить. Никто из них никогда не лепетал глупый стишок: «В небе звездочка зажглась, а откуда ты взялась?» — и никто из них никогда не задавал себе такого вопроса: пяти лет от роду они уже умели анатомировать Большую Медведицу не хуже профессора Оуэна[8] и водить звездный Воз[9], как машинист водит поезд. Ни один из малолетних Грэдграйндов, увидев корову на лугу, не вспоминал о всем известной корове безрогой[10], лягнувшей старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, или о той прославленной корове, что проглотила мальчика с пальчик; об этих знаменитостях они не знали ровно ничего, и для них корова была только травоядное жвачное четвероногое с несколькими желудками. Итак, мистер Грэдграйнд, весьма довольный собой, шествовал к своему дому — истинному кладезю фактов, — именуемому Каменный Приют. Он выстроил этот дом после того, как ушел на покой из принадлежащей ему оптовой торговли скобяным товаром, и теперь поджидал удобный случай увеличить собой сумму единиц, составляющих парламент. Каменный Приют стоял на пустоши в полутора милях от большого города, который в настоящем достоверном путеводителе носит название «Кокстаун». Каменный Приют являл собой весьма отчетливую особенность рельефа местности. Никакие ухищрения не смягчали и не затушевывали эту ничем не прикрытую деталь пейзажа — она утверждала себя как неумолимый и бесспорный факт: большое, похожее на ящик двухэтажное здание с массивной колоннадой, затеняющей нижние окна, как густые нависшие брови затеняли глаза его владельца. Все высчитано, все вычислено, взвешено и выверено. Шесть окон по одну сторону двери, шесть — по другую; итого по фасаду двенадцать в правом крыле, двенадцать в левом и соответственно — двадцать четыре в задней стене. Лужайка, сад и зачатки аллеи, разграфленные по линейке, словно ботаническая счетная книга. Газовое освещение, вентиляторы, канализация и водопровод — все безупречного устройства. Скобы и скрепы железные — полная гарантия от пожара; имеются механические подъемники для служанок с их швабрами, тряпками и щетками; словом — все, чего только можно пожелать. Все ли? По-видимому, так. Малолетним Грэдграйндам предоставлены пособия для всевозможных научных занятий. У них есть небольшая конхиологическая коллекция[11], небольшая металлургическая коллекция и небольшая минералогическая коллекция; образцы минералов и руд выложены в строжайшем порядке и снабжены ярлычками, и так и кажется, что они были отколоты от материнской породы при помощи их собственных головоломных названий. И ежели всего этого малолетним Грэдграйндам было мало, то чего же еще, скажите на милость, им было надобно? Родитель их возвращался домой не спеша, в самом радужном и приятном настроении. Он по-своему любил своих детей, был нежный отец, но сам (если бы от него, как от Сесси Джуп, потребовали бы точного определения), вероятно, назвал бы себя «в высшей степени практическим отцом». Он вообще чрезвычайно гордился выражением «в высшей степени практический», которое особенно часто применяли к его особе. Какое бы публичное собрание ни состоялось в Кокстауне, и о чем бы ни шла речь на этом собрании, можно было поручиться, что один из ораторов непременно воспользуется случаем и помянет своего в высшей степени практического друга Грэдграйнда. Практический друг неизменно слушал это с удовольствием. Он знал, что ему только воздают должное, но все же было приятно. Он уже достиг окраин Кокстауна и ступил на нейтральную почву, другими словами — очутился в местности, которая не была ни городом, ни деревней, но обладала худшими свойствами и города и деревни, когда до слуха его донеслись звуки музыки. Барабаны и трубы бродячего цирка, обосновавшегося здесь, в дощатом балагане, наяривали во всю мочь. Флаг, развевавшийся на вышке этого храма искусства, возвещал всему миру о том, что на благосклонное внимание публики притязает не что иное, как «Цирк Слири». Сам Слири, поставив возле себя денежный ящик, расположился — точно монументальная современная скульптура — в будке, напоминавшей нишу собора времен ранней готики, и принимал плату за вход. Мисс Джозефина Слири, как можно было прочесть на очень длинных и узких афишах, открывала программу своим коронным номером — «конно-тирольской пляской цветов». Среди прочих забавных, но неизменно строго-благопристойных чудес, — которые нужно увидеть воочию, чтобы поверить в них, — афиша сулила выступление синьора Джупа и его превосходно дрессированной собаки Весельчак. Кроме того, будет показан знаменитый «железный фонтан» — лучший номер синьора Джупа, состоящий в том, что семьдесят пять центнеров железа, подбрасываемые вверх его могучей рукой, сплошной струей подымаются в воздух, — номер, подобного которому еще не бывало ни в нашем отечестве, ни за его пределами, и который ввиду неизменного и бешеного успеха у публики не может быть снят с программы. Тот же синьор Джуп «в промежутках между номерами будет оживлять представление высоконравственными шутками и остротами в шекспировском духе[12]». И в заключение синьор Джуп сыграет свою любимую роль — роль мистера Уильяма Баттона с Тули-стрит в «чрезвычайно оригинальном и преуморительном ипповодевиле „Путешествие портного в Брентфорд“. Томас Грэдграйнд, разумеется, и не глянул на эту пошлую суету и проследовал дальше, как и подобает человеку практическому, стараясь отмахнуться от шумливых двуногих козявок и мысленно отправляя их за решетку. Но поворот дороги привел его к задней стене балагана, а у задней стены балагана он увидел сборище детей и увидел, что дети, в самых противоестественных позах, украдкой заглядывают в щелку, дабы хоть одним глазком полюбоваться волшебным зрелищем. Мистер Грэдграйнд остановился. — Уж эти бродяги, — проговорил он, — они соблазняют даже питомцев образцовой школы. Так как от юных питомцев его отделяла полоса земли, где между кучами мусора пробивалась чахлая травка, он вынул из жилетного кармана лорнет и стал вглядываться — нет ли здесь детей, известных ему по фамилии, которых он мог бы окликнуть и прогнать отсюда. И что же открылось его взорам! Явление загадочное, почти невероятное, хотя и отчетливо зримое: его родная дочь, металлургическая Луиза, прильнув к сосновым доскам, не отрываясь смотрела в дырочку, а его родной сын, математический Томас, самым унизительным образом ползал по земле, в надежде увидеть хоть одно копыто из «конно-тирольской пляски цветов»! Мистер Грэдграйнд в немом изумлении подошел к своим чадам, занятым столь позорным делом, и, тронув за плечо блудного сына и блудную дочь, воскликнул: — Луиза!! Томас!! Оба вскочили, красные и сконфуженные. Но Луиза смотрела на отца смелее, нежели Томас. Собственно говоря, Томас вовсе не смотрел на него, а покорно, словно машина, дал оттащить себя от балагана. — Вот она, праздность, вот безрассудство! — восклицал мистер Грэдграйнд, хватая обоих за руки и уводя их прочь. — Ради всего святого — что вы здесь делаете? — Хотели посмотреть, что там такое, — коротко отвечала Луиза. — Посмотреть, что там такое? — Да, отец. В обоих детях, особенно в девочке, чувствовалось какое-то угрюмое недовольство; но сквозь хмурое выражение ее лица пробивался свет, которому нечего было озарять, огонь, которому нечего было жечь, изголодавшееся воображение, которое как-то умудрялось существовать, и потому лицо Луизы все же казалось оживленным. Это было не то естественное, веселое оживление, которое свойственно счастливому детству, но опасливое, судорожное, болезненное, какое вспыхивает на лице слепого, ощупью бредущего по дороге.

Луизе шел шестнадцатый год; полуребенок, но недалек тот день, когда она внезапно превратится в женщину. Так думал ее отец, глядя на нее. Хороша собой. Была бы своевольна, будь она иначе воспитана (заключил он с присущей ему практичностью). — Томас! Даже имея перед глазами бесспорный факт, я едва могу поверить, что ты, с твоим воспитанием, с твоим умственным развитием, решился привести сестру в такое неподобающее место. — Это я привела Тома, — торопливо сказала Луиза. — Я позвала его с собой. — Грустно, очень, очень грустно. Это не уменьшает его вины, а твою увеличивает, Луиза. Она опять посмотрела ему в лицо, но глаза ее были сухи. — Подумай! Томас и ты, которым открыт доступ ко всем наукам; Томас и ты, которые, можно сказать, насыщены фактами; Томас и ты, которые приучены к математической точности; и вдруг — Томас и ты — здесь! — воскликнул мистер Грэдграйнд. — И за каким недостойным занятием! Уму непостижимо. — Мне было скучно, отец. Мне уже давно скучно, — сказала Луиза. — Надоело. — Надоело? Что же тебе надоело? — спросил изумленный отец. — Сама не знаю. Кажется, все на свете. — Довольно! — прервал ее мистер Грэдграйнд. — Это ребячество. И слушать не хочу. — Больше он ничего не прибавил и только после того, как они молча прошли с полмили, у него вырвались негодующие слова: — Что бы сказали твои друзья, Луиза? Разве ты не дорожишь их добрым мнением? Что скажет мистер Баундерби? При упоминании этого имени Луиза украдкой бросила на отца быстрый испытующий взгляд. Но мистер Грэдграйнд ничего не заметил, потому что она опустила глаза прежде, чем он посмотрел на нее. — Что скажет мистер Баундерби? — повторил он. И всю дорогу до дому, уводя в Каменный Приют обоих малолетних преступников, он время от времени повторял с возмущением: — Что скажет мистер Баундерби? — словно мистер Баундерби был вовсе не мистер и не Баундерби, а пресловутая миссис Гранди[13].
Глава IV
Мистер БаундербиА ежели мистер Баундерби не миссис Гранди, то кто же он такой? Мистер Баундерби, можно сказать, самый закадычный, самый близкий друг мистера Грэдграйнда, поскольку вообще уместно говорить об узах дружбы между двумя людьми, в равной мере лишенными теплых человеческих чувств. Именно такого близкого — или, если угодно, далекого — друга имеет мистер Грэдграйнд в лице мистера Баундерби. Мистер Баундерби — известный богач; он и банкир, и купец, и фабрикант, и невесть кто еще. Он толст, громогласен, взгляд у него тяжелый, смех — металлический. Сделан он из грубого материала, который, видимо, пришлось сильно натягивать, чтобы получилась такая туша. Голова у него большая, словно раздутая, лоб выпуклый, жилы на висках как веревки, кожа лица такая тугая, что кажется, будто это она не дает глазам закрыться и держит брови вздернутыми. В общем и целом, он сильно напоминает воздушный шар, который только что накачали и вот-вот запустят. Он очень не прочь похвастаться, и хвастает он преимущественно тем, что сам вывел себя в люди. Он неустанно, во всеуслышание — ибо голос у него что медная труба — твердит о своем былом невежестве и былой бедности. Чванное смирение — его главный козырь. Мистер Баундерби года на два моложе своего в высшей степени практического друга, но выглядит старше: к его сорока семи или сорока восьми годам можно бы свободно прибавить еще семь-восемь лет, ни в ком не вызвав удивления. Волос у него немного. Вероятнее всего, они повылезали со страху, что он заговорит их до смерти, а те, что остались, торчат во все стороны, потому что их постоянно треплют порывы его бурного бахвальства. В чопорной гостиной Каменного Приюта на коврике перед камином стоял мистер Баундерби и, греясь у огня, делился с миссис Грэдграйнд своими мыслями по поводу того, что нынче день его рождения. Стоял же он перед камином, во-первых, потому, что денек выдался хоть и солнечный, но еще по-весеннему прохладный; во-вторых, потому, что дух непросохшей штукатурки отказывался покинуть сумрачные покои Каменного Приюта; и в-третьих, потому, что таким образом он занимал господствующее положение и мог смотреть на миссис Грэдграйнд сверху вниз. — Что такое обувь, я знать не знал. А что до чулок, — даже слова такого никогда не слышал. День я проводил в канаве, а ночь в свинарнике. Именно так я отпраздновал свое десятилетие. Но канава не была мне в новинку. Я и родился в канаве. Миссис Грэдграйнд — маленькая, щуплая женщина, очень бледная, с красноватыми глазами, вся увязанная в платки и шали, равно немощная и плотью и духом, которая вечно без всякой пользы глотала лекарства и которую каждый раз, как она подавала признаки жизни, оглушало увесистым осколком какого-нибудь факта, — выразила надежду, что в канаве было сухо. — Ничего подобного! Было очень мокро. Вода стояла по колено, — заявил мистер Баундерби. — Так можно простудить ребенка, — заметила миссис Грэдграйнд. — Простудить? Да я родился с воспалением легких, и не только легких, а думается мне, всего прочего, что только может воспаляться, — отвечал мистер Баундерби. — Ежели бы вы знали, сударыня, каким жалким заморышем я был когда-то. Такой больной и хилый, что я только и делал, что пищал и визжал. Такой оборванный и грязный, что вы и щипцами не захотели бы дотронуться до меня. В ответ на это миссис Грэдграйнд неуверенно покосилась на каминные щипцы, вероятно решив, по слабоумию своему, что ничего более подходящего к случаю и не придумаешь. — И как только я выжил? — продолжал мистер Баундерби. — Просто понять не могу. Уж такой нрав, видимо. У меня очень решительный нрав, сударыня, и, видимо, таким я уродился. И вот, миссис Грэдграйнд, я здесь перед вами, и благодарить мне некого — сам всего достиг. Миссис Грэдграйнд едва слышно выразила надежду, что его мать… — Моя мать? Сбежала, сударыня! — выпалил мистер Баундерби. Миссис Грэдграйнд, по своему обыкновению, не выдержала удара и сдалась. — Моя мать бросила меня на бабушку, — сказал Баундерби, — и ежели мне не изменяет память, такой мерзкой и гнусной старухи, как моя бабушка, свет не видал. Бывало, посчастливится мне раздобыть пару башмачков, а она стащит их с меня, продаст и напьется. Сколько раз на моих глазах она еще в постели, до завтрака, выдувала четырнадцать стаканов джина! Миссис Грэдграйнд, слушавшая его со слабой улыбкой на устах, но без каких-либо иных признаков жизни, больше всего походила сейчас (как, впрочем, и всегда) на посредственно исполненный и скудно освещенный транспарант, изображающий женскую фигурку. — Она держала мелочную торговлю, — продолжал Баундерби, — а меня держала в ящике из-под яиц. Вот какая у меня была колыбелька — старый ящик из-под яиц. Едва я чуть-чуть подрос, я, конечно, сбежал. И сделался я бродяжкой. И уже не одна только старуха помыкала мной и морила голодом, а все, и стар и млад, помыкали мной и морили голодом. Я их не виню: так и следовало. Я был для всех помехой, обузой, чумой. Я отлично сам это знаю. Мысль о том, что в его жизни была пора, когда он сподобился быть помехой, обузой и чумой, переполнила мистера Баундерби гордостью, и чтобы дать ей выход, он трижды во весь голос повторил эти слова. — Пришлось как-то вылезать, миссис Грэдграйнд. Хорошо ли, плохо ли, но я это сделал. Я вылез, сударыня, хотя никто не бросил мне веревку. Бродяга, мальчик на побегушках, опять бродяга, поденщик, рассыльный, приказчик, управляющий, младший компаньон и, наконец, Джосайя Баундерби из Кокстауна. Таковы вехи моего восхождения к вершине. Джосайя Баундерби из Кокстауна учился грамоте по вывескам, сударыня, а узнавать время по башенным часам на лондонской церкви святого Джайлса под руководством пьяного калеки, который к тому же был злостный бродяга, осужденный за воровство. А вы мне, Джосайе Баундерби из Кокстауна, толкуете о сельских школах, об образцовых школах для учителей и еще невесть о каких школах. Так вот, Джосайя Баундерби из Кокстауна заявляет вам: отлично, превосходно — хотя ему, правда, суждено было иное, — но люди нам нужны с крепкой головой и дюжими кулаками; не каждому под силу то воспитание, которое он сам получил, — это ясно, однако такое воспитание он получил, и вы можете заставить его, Джосайю Баундерби, глотать кипящее сало, но вы не заставите его отречься от фактов своей жизни. Утомленный собственным красноречием, Джосайя Баундерби из Кокстауна остановился. И остановился как раз в ту минуту, когда его в высшей степени практический друг, все еще держа за руку обоих маленьких арестантов, вошел в комнату. Увидев Баундерби, в высшей степени практический друг его тоже остановился и устремил на Луизу укоризненный взор, говоривший яснее слов: «Видишь, вот тебе и Баундерби!» — Ну-с, — затрубил мистер Баундерби, — что случилось? Почему Томас-младший нос повесил? Спрашивал он о Томасе, но глядел на Луизу. — Мы смотрели в щелку на цирковое представление, — не поднимая глаз, вызывающе отвечала Луиза, — и отец застал нас. — Мог ли я ожидать этого, сударыня! — строго сказал мистер Грэдграйнд, обращаясь к своей супруге. — Теперь еще только не хватает, чтобы я увидел их за чтением стихов. — Ах, боже мой, — захныкала миссис Грэдграйнд. — Луиза! Томас! Да что же это вы? Я просто удивляюсь вам. Вот имей после этого детей! Ну как тут не подумать, что лучше бы их вовсе у меня не было. Хотела бы я знать, что бы вы тогда стали делать! Несмотря на железную логику этих слов, мистер Грэдграйнд остался недоволен. Он досадливо поморщился. — Неужели вы, зная, что у матери мигрень, не могли посмотреть на свои ракушки и минералы и на все, что вам полагается? — продолжала миссис Грэдграйнд. — Зачем вам цирк? Вы не хуже меня знаете, что у детей не бывает ни учителей из цирка, ни цирковых коллекций, ни занятий по цирку. Что вам понадобилось знать о цирке? Делать вам нечего, что ли? С моей мигренью я и названий всех фактов не припомню, которые вам нужно выучить. — Вот в этом-то и причина! — упрямо сказала Луиза. — Пустое ты говоришь, это не может быть причиной, — возразила миссис Грэдграйнд. — Ступайте сейчас же и займитесь своими ологиями. — Миссис Грэдграйнд была несведуща в науках и, отсылая своих детей к занятиям, всегда пользовалась этим всеобъемлющим названием, предоставляя им самим выбрать подходящий предмет. Надо сказать, что вообще запас фактов, которым располагала миссис Грэдграйид, был нищенски скуден; но мистер Грэдграйнд, возводя ее в ранг супруги, руководствовался двумя соображениями: во-первых, она олицетворяла собой вполне приемлемую сумму, а во-вторых, была «без фокусов». Под «фокусами» он подразумевал воображение; и поистине, вряд ли нашлось бы другое человеческое существо, которое, не будучи идиотом от рождения, было бы вместе с тем столь же безгрешно в этом смысле. Оставшись наедине со своим мужем и мистером Баундерби, почтенная леди так потерялась от этого, что даже не понадобилось столкновения с каким-нибудь новым фактом: она снова умерла для мира, и никто уже не глядел в ее сторону. — Баундерби, — заговорил мистер Грэдграйнд, придвигая кресло к камину. — Вы всегда принимаете живейшее участие в моих детях — особенно в Луизе, поэтому я, не таясь, могу сказать вам, что сильно раздосадован моим открытием. Я постоянно и неуклонно (как вам известно) стремился развивать в моих детях разум. Все воспитание ребенка (как вам известно) должно быть направлено единственно на развитие разума. И вот, Баундерби, исходя из непредвиденного случая, происшедшего нынче, — хотя сам по себе он и кажется пустяком, — нельзя не предположить, что в сознание Томаса и Луизы вкралось нечто, являющееся… или, вернее, не являющееся… словом, — нечто, не имеющее ничего общего с разумом и отнюдь не предусмотренное моей системой воспитания. — Могу засвидетельствовать, — отвечал Баундерби, — что интересоваться кучкой бродяг весьма неразумно. Когда я был бродягой, никто не интересовался мной. Уж в этом не сомневайтесь. — Вопрос стоит так: в чем источник такого низменного любопытства? — сказал в высшей степени практический родитель, сосредоточенно глядя в огонь. — Я вам отвечу: в праздном воображении. — Неужели это возможно? Хотя должен сознаться, что эта страшная мысль приходила мне на ум, когда я шел с ними домой. — В праздном воображении, Грэдграйнд, — повторил Баундерби. — Это всем вредно, а для такой девушки, как Луиза, это просто черт знает что. Я не прошу миссис Грэдграйнд извинить меня за крепкое словцо — она знает, что я человек неотесанный. Никому не советую ожидать от меня изысканных манер. Не такое я получил воспитание. — Может быть, — рассуждал мистер Грэдграйнд, глубоко засунув руки в карманы и устремив взор из-под нависших бровей на огонь, — может быть, кто-нибудь из учителей или слуг что-нибудь внушил им? Может быть, Луиза или Томас вычитали нечто подобное? Может быть, вопреки всем мерам предосторожности в дом проникла книга глупых рассказов? Иначе, как же объяснить такое странное, непостижимое явление в детях, которые с колыбели развивались по всем правилам практического воспитания? — Стойте! — закричал Баундерби, все еще маяча на коврике перед камином и своим воинственным самоуничижением бросая вызов даже мебели, которой была обставлена комната. — Да у вас в школе учится дочь одного из этих циркачей. — Сесилия Джуп, — подтвердил мистер Грэдграйнд, не без смущения глядя на своего друга. — Стойте, стойте! — опять закричал Баундерби. — А как она попала туда? — Я сам до нынешнего дня не видел этой девочки. Но факт тот, что она приходила сюда с просьбой принять ее, хотя она не живет постоянно в нашем городе, и… да, да, Баундерби, вы правы, вы безусловно правы. — Стойте, стойте! — еще раз крикнул Баундерби. — Когда она приходила, Луиза видела ее? — Луиза, несомненно, видела Сесилию Джуп, потому что именно Луиза сказала мне, о чем она просит. Но я уверен, что Луиза видела ее в присутствии миссис Грэдграйнд. — Будьте добры, миссис Грэдграйнд, — сказал Баундерби, — расскажите, как это было? — Ах, боже мой! — простонала миссис Грэдграйнд. — Ну, девочка хотела ходить в школу, а мистер Грэдграйнд хочет, чтобы девочки ходили в школу, а Луиза и Томас сказали, что девочка хочет ходить и что мистер Грэдграйнд хочет, чтобы девочки ходили, и как я могла спорить против такого очевидного факта? — Так вот что, Грэдграйнд! — сказал мистер Баундерби. — Выгоните вон эту девчонку, и дело с концом. — Я склоняюсь к тому же мнению. — Делать так делать — всегда было моим правилом, с самого детства, — сказал Баундерби. — Когда я решил бежать от моей бабушки и от моего ящика из-под яиц, я сделал это немедля. И вы действуйте так же. Прогоните ее немедля! — Вы не откажетесь пройтись? — спросил мистер Грэдграйнд. — У меня есть адрес ее отца. Может быть, мы вместе прогуляемся в город? — С удовольствием, — отвечал мистер Баундерби, — лишь бы дело было сделано, и немедля! Итак, мистер Баундерби нахлобучил шляпу — иначе он никогда не надевал ее, как и подобает тому, кто сам вывел себя в люди и не имел времени приобщиться к искусству изящного ношения шляп, — и, засунув руки в карманы, не спеша вышел в сени. «Не признаю перчаток, — любил он повторять. — Я без них карабкался вверх. Иначе я бы не залез так высоко». Мистер Грэдграйнд поднялся к себе за адресом, а мистер Баундерби, постояв немного в сенях, отворил одну из дверей и заглянул в классную — тихую светлую комнату, устланную ковром, которая, однако, вопреки книжным шкафам, коллекциям, всевозможным приборам и наглядным пособиям была едва ли не скучнее самой заурядной цирюльни. Луиза, лениво облокотившись на подоконник, рассеянно смотрела в окно, а Томас, обиженно сопя, стоял у камина. Двое других отпрысков семейства Грэдграйнд — Адам Смит и Мальтус[14] — отбывали срок обучения вне стен отчего дома, а малютка Джейн, вся измазанная влажной глиной, полученной из смеси грифеля и слез, уснула над простыми дробями. — Полно тебе, Луиза, полно, Томас, — сказал мистер Баундерби. — Вы больше не будете этого делать и все. Я замолвлю за вас словечко перед вашим отцом. Ну как, Луиза? Стоит это поцелуя? — Извольте, мистер Баундерби, — помолчав, холодно отвечала Луиза; она медленно пересекла комнату и, отвернувшись, нехотя подставила ему щеку. — Ты ведь знаешь, что ты моя любимица, — сказал мистер Баундерби. — До свидания, Луиза! Он ушел, а Луиза осталась стоять у дверей и все терла и терла носовым платком щеку, которую он поцеловал. Прошло пять минут, щека уже стала огненно-красной, а Луиза все еще не отнимала платка. — Что с тобой, Луиза? — хмуро проговорил Томас. — Этак дырку протрешь. — Можешь взять свой ножик и вырезать это место. Не заплачу!
Глава V
Основной ладКокстаун, куда проследовали господа Баундерби и Грэдграйнд, был торжеством факта; в нем так же не нашлось бы и намека на «фокусы», как в самой миссис Грэдграйнд. Прислушаемся к этому основному ладу — Кокстаун, — прежде чем мы продолжим нашу песнь. То был город из красного кирпича, вернее он был бы из красного кирпича, если бы не копоть и дым; но копоть и дым превратили его в город ненатурально красно-черного цвета — словно размалеванное лицо дикаря. Город машин и высоких фабричных труб, откуда, бесконечно виясь змеиными кольцами, неустанно поднимался дым. Был там и черный канал, и река, лиловая от вонючей краски, и прочные многооконные здания, где с утра до вечера все грохотало и тряслось и где поршень паровой машины без передышки двигался вверх и вниз, словно хобот слона, впавшего в тихое помешательство. По городу пролегало несколько больших улиц, очень похожих одна на другую, и много маленьких улочек, еще более похожих одна на другую, населенных столь же похожими друг на друга людьми, которые все выходили из дому и возвращались домой в одни и те же часы, так же стучали подошвами по тем же тротуарам, идя на ту же работу, и для которых каждый день был тем же, что вчерашний и завтрашний, и каждый год — подобием прошлого года и будущего. Все эти приметы Кокстауна были неотъемлемы от рода труда, которым жил город. Их неприглядность оправдывали кокстаунские изделия — предметы утонченного комфорта, проникавшие во все уголки земного шара, и предметы роскоши, которыми светская леди не в малой мере обязана была городу, чье имя и то внушало ей отвращение. Остальные черты Кокстауна не вызывались необходимостью, и сводились они к следующему: В Кокстауне все было выдержано в строго будничном стиле. Если члены религиозной общины строили часовню — а именно так и поступили члены всех восемнадцати религиозных общин, — они возводили молитвенный пакгауз из красного кирпича, увенчанный (и то лишь в случаях крайнего расточительства) птичьей клеткой, в которойболтался колокол. Единственное исключение составляла Новая церковь — оштукатуренное здание, имевшее над входом квадратную колокольню, которая оканчивалась вверху четырьмя короткими шпицами, похожими на толстенькие деревянные ноги. Все официальные надписи в городе были одинаковые — строгие, без всяких завитушек буквы, выведенные черной и белой краской. Больница могла бы быть тюрьмой, тюрьма — больницей, ратуша либо больницей либо тюрьмой, либо тем и другим, или еще чем-нибудь, так как архитектурные красоты всех трех зданий ничем между собой не разнились. Факты, факты и факты — повсюду в вещественном облике города; факты, факты и факты — повсюду в невещественном. Школа супругов Чадомор была сплошным фактом, сплошным фактом была и школа рисования, и отношения между хозяевами и рабочими тоже были сплошным фактом, и весь путь от родильного приюта до кладбища был фактом, а все, что не укладывалось в цифры, что не покупалось по самой дешевой цене и не продавалось по самой дорогой, — всего этого не было, и быть не должно во веки веков, аминь. Город, где факт чтили, как святыню, где факт восторжествовал и утвердился столь прочно, — такой город, разумеется, благоденствовал? Да нет, не сказать, чтобы очень. Нет? Быть не может! Нет. Кокстаун не вышел с блеском из собственных домен, словно золото, выдержавшее испытание огнем. Прежде всего возникал недоуменный вопрос: кто принадлежит к восемнадцати религиозным общинам? Ибо если кто и принадлежал к ним, то уж никак не рабочий люд. Гуляя воскресным утром по городу, нельзя было не изумиться тому, как мало рабочих откликается на варварский трезвон, доводящий до исступления слабонервных и больных, как трудно заставить их покинуть свой квартал, свое душное жилье, свой перекресток, где они топчутся, позевывая и равнодушно взирая на идущих в церкви и часовни, словно это их ничуть не касается. И не только приезжие замечали это; в самом Кокстауне имелась лига, члены которой каждую сессию направляли в парламент гневные петиции с требованием издать строжайшие законы, предусматривающие насильственное насаждение благочестия среди рабочих. Затем имелось Общество Трезвости, которое сетовало на то, что рабочие любят пьянствовать, и при помощи статистических таблиц доказывало, что они в самом деле пьянствуют, и члены Общества, собравшись за чашкой чаю, утверждали, что никакие силы — ни земные, ни небесные (за исключением медали Общества) не могут помешать им предаваться пьянству. Затем имелись аптекари, которые, тоже при помощи таблиц, доказывали, что ежели рабочие не пьют, то они одурманивают себя опиумом. Затем имелся многоопытный тюремный священник, вооруженный новыми таблицами, затмевающими все предыдущие, который доказывал, что как ни бейся, а рабочие упорно посещают тайные притоны, где они слышат безнравственные песни и видят безнравственные пляски, и даже, быть может, сами поют и пляшут; именно такой притон — по свидетельству одного преступника (к сожалению, лишь отчасти достойного доверия), которого на двадцать четвертом году жизни приговорили к восемнадцати месяцам одиночного заключения, — именно такой притон и явился причиной его несчастья, ибо он не сомневался, что, не попади он туда, из него вышел бы образец добродетели. Затем имелись мистер Грэдграйнд и мистер Баундерби, известные своей: практичностью, которые сейчас шествовали по Кокстауну и которые могли бы, в случае необходимости, тоже представить сведения, основанные на личном опыте и подтвержденные примерами, очевидцами коих они были, из каковых примеров совершенно ясно, — в сущности одно только и ясно в данном случае, — что это люди, милостивые государи, без стыда и совести; что сколько для них ни делай, благодарности не жди; народ они, милостивые государи, беспокойный, сами не знают, чего хотят; живется им, дай бог всякому, сливочное масло у них не переводится, кофе пьют только мокко, из говядины потребляют одну вырезку, и все же вечно недовольны, просто никакого сладу с ними нет. Словом, как говорится в старой детской побасенке:
Жила-была бабка, и что же, друзья?
Было вдоволь у бабки еды и питья.
И бабка та ела, еду запивала,
А все-таки старая бабка ворчала.
Глава VI
Слири и его труппаТрактир именовался «Щит Пегаса[15]». Уместнее, пожалуй, было бы назвать его «Крылья Пегаса»; но на вывеске под изображением крылатого коня живописец вывел антиквой «Щит Пегаса», а пониже, затейливыми буквами, начертал четверостишие:
Из доброго солода — доброе пиво,
Входите, отведайте — вкусом на диво.
Желаете бренди, желаете джин?
Каких только нет здесь водок и вин!
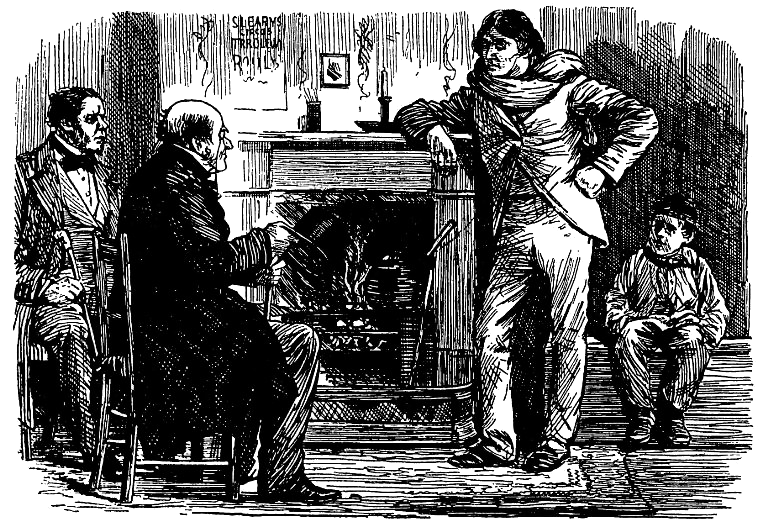
— Разрешите, господа, — сказал мистер Чилдерс, оглядывая комнату. — Если не ошибаюсь, вы желали видеть Джупа? — Совершенно верно, — подтвердил мистер Грэдграйнд. — Его дочь пошла за ним, но мне некогда дожидаться. Поэтому я попрошу вас кое-что передать ему. — Дело в том, любезный, — вмешался мистер Баундерби, — что такие люди, как мы, — не вам чета: мы знаем цену времени, а вы не знаете. — Не имею чести знать вас, — отвечал мистер Чилдерс, смерив собеседника взглядом, — но если вы хотите сказать, что ваше время приносит вам больше денег, чем мое время — мне, то, по всей видимости, вы правы. — И расставаться с ними вы небось тоже не любите, — проворчал Купидон. — Ты молчи, Киддерминстер! — сказал мистер Чилдерс. (Киддерминстер было земное имя Купидона.) — А зачем он явился сюда? Смеяться, глядя на нас? — сердито вскричал Киддерминстер, видимо не отличавшийся кротким нравом. — Если вы желаете посмеяться — купите билет и ступайте в цирк. — Киддерминстер, — сказал мистер Чилдерс, повышая голос, — замолчи! Послушайте меня, сэр, — обратился он к мистеру Грэдграйнду. — Не знаю, известно вам или нет (быть может, вы редко посещаете наши представления), что в последнее время Джуп очень много мазал. — Что он делал? — спросил мистер Грэдграйнд, взглядом взывая к могущественному Баундерби о помощи. — Мазал. — Четыре раза вчера принимался и ни одного флик-флака не вытянул, — сказал юный Киддерминстер. — И на крутке подкачал, и в колесе. — Словом, не сумел сделать, что нужно. Плохо прыгал и еще хуже кувыркался, — пояснил мистер Чилдерс. — Вот что! — сказал мистер Грэдграйнд. — Это и значит «мазать»? — Да, в общем и целом, это называется мазать, — отвечал мистер Чилдерс. — Девять масел, Весельчак, мазать, флик-флак и крутка! Что вы скажете? — воскликнул Баундерби, хохоча во все горло. — Да, подходящая компания для человека, который своими силами залетел так высоко. — А вы спуститесь пониже, — сказал Купидон. — О господи! Если вы сумели залететь так высоко, почему бы вам не спуститься немножко. — Какой назойливый малый! — проговорил мистер Грэдграйнд, бросая на Купидона взгляд из-под насупленных бровей. — К сожалению, мы вас не ждали, не то мы пригласили бы для вас вылощенного джентльмена, — ничуть не смущаясь, отпарировал Купидон. — Уж если вы так привередливы, надо было заказать его заранее. Для вас это пустяк. Все равно что по тугому пройтись. — Что такое? Опять какая-нибудь дерзость? — спросил мистер Грэдграйнд, почти с отчаянием глядя на Купидона. — Что это значит — пройтись по тугому? — Довольно! Ступай отсюда, ступай! — крикнул мистер Чилдерс, выпроваживая своего юного друга с решительностью и проворством обитателя прерий. — Ничего особенного это не значит. Просто бывает туго или слабо натянутый канат. Вы что-то хотели передать Джупу? — Да, да. — По-моему, — сказал мистер Чилдерс, — вам это не удастся. Вы вообще-то его знаете? — Ни разу в жизни не видел. — Сомневаюсь, чтобы вы и впредь его увидели. Думаю, что он исчез. — Вы хотите сказать, что он бросил свою дочь? — Я хочу сказать, что он смылся, — кивнув головой, подтвердил мистер Чилдерс. — Вчера он обремизился и позавчера, и нынче опять обремизился. В последнее время он только и делал, что ремизился, вот и не выдержал. — А зачем он… так много… ремизился? — запинаясь, спросил мистер Грэдграйнд. — Гибкость теряет, поизносился, — сказал Чилдерс. — У ковра он еще годится, но этим не прокормишься. — У ковра! — повторил Баундерби. — Опять начинается! Это еще что такое? — Ну, в роли комика, если вам так больше нравится, — презрительно, через плечо, бросил мистер Чилдерс, отчего его длинные волосы взметнулись все разом. — И заметьте, сэр, Джупа мучил не самый провал, а то, что об этом знает его дочь. — Прелестно! — вмешался мистер Баундерби. — Слышите, Грэдграйнд? Это прелестно. Он так любит свою дочь, что убежал от нее! Это просто перл! Ха-ха! Вот что я вам скажу, молодой человек: я не всегда был таким, каким вы меня видите. В этих делах я знаю толк. Представьте себе, моя мать бросила меня. Да, да, не удивляйтесь! И. У. Б. Чилдерс не без колкости заметил, что ничего удивительного в этом не находит. — Так вот, — сказал Баундерби. — Я родился в канаве, и моя мать бросила меня. Хвалю я ее за это? Нет. Может, я когда-нибудь хвалил ее за это? Отнюдь. Что мне сказать о ней? Скажу, что хуже нее не сыщешь женщины на всем свете, кроме разве моей пьянчуги бабушки. Я не из тех, кто гордится своим рождением, блюдет честь семьи — такими дурацкими фокусами я не занимаюсь. Я всегда говорю все, как есть, и про мать Джосайи Баундерби из Кокстауна говорю без утайки, как сказал бы про мать любого бездельника. И про этого негодяя так скажу. Бродяга он и мошенник, ежели хотите знать. — А с чего вы взяли, что я хочу знать? — поворачиваясь к Баундерби, спросил мистер Чилдерс. — Я объясняю вашему другу, что произошло. Если вам не угодно слушать, можете подышать свежим воздухом. Я вижу, вы любите язык распускать. Советую вам распускать его в своем доме, — саркастически заметил Чилдерс, — а здесь лучше попридержите язык, пока вас не спрашивают. Уж какой-нибудь домишко у вас, вероятно, найдется? — Пожалуй, найдется, — отвечал мистер Баундерби, громко смеясь и звеня монетами в кармане. — Так вот, будьте любезны распускать язык у себя дома. А то этот наш дом не больно крепкий, боюсь, он вас не выдержит! Еще раз смерив мистера Баундерби взглядом, Чилдерс решительно отвернулся от него, давая понять, что разговор с ним окончен, и сказал, опять обращаясь к мистеру Грэдграйнду: — Час тому назад Джуп послал свою дочь в аптеку. Потом видели, как он вышел крадучись, надвинув шляпу на лоб, с узелком под мышкой. Она, конечно, никогда этому не поверит, но он ушел совсем, а ее бросил. — Почему вы думаете, что она не поверит? — спросил мистер Грэдграйнд. — Потому, что они души друг в друге не чаяли. Потому, что они были неразлучны. Потому, что до нынешнего дня он, казалось, только ею и жил. — Чилдерс подошел к пустому чемодану и заглянул в него. У мистера Чилдерса и мистера Киддерминстера была очень своеобразная походка: ноги они расставляли шире, чем простые смертные, и усиленно подчеркивали, что колени их утратили способность сгибаться. Такая походка отличала всю мужскую половину цирковой труппы и служила признаком постоянного пребывания в седле. — Бедняжка Сесси! — сказал Чилдерс, поднимая голову от пустого чемодана и встряхивая пышной шевелюрой. — Напрасно он не отдал ее в ученье. Теперь она осталась ни при чем. — Такое мнение делает вам честь, — одобрительно сказал мистер Грэдграйнд. — Тем более, что сами вы ничему не учились. — Я-то не учился? Да меня начали учить с семи лет. — Ах, вот оно что? — обиженно протянул мистер Грэдграйнд, словно Чилдерс обманул его ожидания. — Я не знал, что существует обыкновение учить малолетних… — Безделью, — ввернул с громким хохотом мистер Баундерби. — И я не знал, черт меня побери! Не знал! — Отец Сесси, — продолжал мистер Чилдерс, даже не взглянув в сторону Баундерби, — вбил себе в голову, что она должна получить невесть какое образование. Как это взбрело ему на ум, понятия не имею, но засело крепко. Последние семь лет он только и делал, что подбирал для нее какие-то крохи ученья, чтобы она хоть немножко знала грамоте, ну и счету. Мистер Чилдерс вынул одну руку из кармана, потер щеку и подбородок и устремил на мистера Грэдграйнда взор, выражавший сильнейшее сомнение и весьма слабую надежду. Чилдерс с самого начала, ради покинутой отцом девочки, пытался задобрить мистера Грэдграйнда. — Когда Сесси поступила в здешнюю школу, — продолжал он, — ее отец радовался как ребенок. Я не понимал, чему он, собственно, радуется, ведь мы кочуем с места на место и здесь остановились только на время. А он, видимо, заранее все обдумал. Он и всегда-то был с причудами. Должно быть, он решил, что этим устроит судьбу девочки. Если вы, паче чаяния, пришли сюда, чтобы сообщить ему, что хотите чем-нибудь помочь ей, — сказал мистер Чилдерс, опять проводя рукой по лицу и глядя на мистера Грэдграйнда с сомнением и надеждой, — то это было бы очень хорошо и очень кстати; как нельзя лучше и очень, очень кстати. — Напротив, — отвечал мистер Грэдграйнд, — я пришел сказать ему, что среда, к которой принадлежит его дочь, делает дальнейшее пребывание ее в школе невозможным и что она не должна больше приходить на занятия. Но ежели отец в самом деле бросил девочку без ее согласия и ведома… Баундерби, я хотел бы поговорить с вами. Мистер Чилдерс тотчас же тактично покинул комнату и, выйдя своей кавалерийской походкой на площадку лестницы, остановился там, поглаживая подбородок и тихонько посвистывая. Из-за двери доносился громкий голос мистера Баундерби, повторявший: «Нет. Я решительно против. Не советую. Ни в коем случае». А более тихий голос мистера Грэдграйнда говорил: «Именно это и послужит для Луизы примером. Она поймет, к каким пагубным последствиям приводит то, что возбудило в ней столь низменное любопытство. Взгляните на дело с этой точки зрения, Баундерби». Между тем члены цирковой труппы один за другим спускались с верхнего этажа, где они были расквартированы, и мало-помалу собрались на площадке лестницы; постояв там и пошептавшись между собой и с мистером Чилдерсом, они постепенно вместе с ним просочились в комнату. Среди них были две-три миловидные женщины, два-три мужа, две-три тещи и восемь-девять ребятишек, исполняющих в случае надобности роли фей. Один отец семейства имел обыкновение удерживать другого отца семейства на конце высокого шеста; третий отец семейства частенько сооружал из обоих пирамиду, причем сам изображал основание, а юный Киддерминстер — вершину; все отцы семейства умели плясать на катящихся бочках, стоять на бутылках, ловить на лету ножи и шары, крутить на одном пальце тарелки, скакать на чем угодно, прыгать через что угодно и висеть не держась ни за что. Все матери семейства умели (и не делали из этого тайны) плясать и на туго и на слабо натянутом канате, гарцевать на неоседланных конях; никто из них не стеснялся показывать публике свои ноги, а одна мать семейства в каждый город въезжала на колеснице, собственноручно правя шестеркой лошадей. Все они, и мужчины и женщины, старались держаться развязно и самоуверенно; одежда их не блистала опрятностью, в домашнем быту царил хаос; что же касается грамоты, то познаний всей труппы вместе взятой едва хватило бы на коротенькое письмо. И в то же время это были люди трогательно простодушные и отзывчивые, от природы неспособные на подлость, всегда и неизменно готовые помочь, посочувствовать друг другу; их душевные качества заслуживали не меньшего уважения и уж, во всяком случае, столь же благожелательной оценки, как обычные добродетели, присущие любому человеческому сословию. После всех появился сам мистер Слири — мужчина плотного сложения, как уже упоминалось, с одним неподвижным и одним подвижным глазом, с голосом (если только это можно назвать голосом), напоминавшим хрипение испорченных мехов, и бледным одутловатым лицом; никто никогда не видел его пьяным, однако и трезвым он тоже не бывал. — Мое почтенье, хударь, — сказал мистер Слири: он страдал астмой, и его тяжелое натужное дыхание никак не справлялось с буквой «с». — Вот дело-то какое! Прямо беда! Вы уже знаете, — мой клоун и его хобака, очевидно, дали тягу. Он обращался к мистеру Грэдграйнду, и тот ответил утвердительно. — И что же, хударь? — вопросил мистер Слири, сняв шляпу и вытирая подкладку носовым платком, каковой нарочно для этой цели носил в тулье. — Намерены вы чем-нибудь помочь бедной девочке? — Когда она придет, я сообщу ей о возникшем у меня плане, — сказал мистер Грэдграйнд. — Очень рад, хударь. Однако не подумайте, что я хочу избавиться от нее. Но и мешать ее благополучию я тоже не хочу. Я охотно взял бы ее в ученье, хотя в ее годы начинать поздновато. Прошу прощенья, хударь, голох у меня хриплый, и непривычному человеку нелегко понять меня. Но ежели бы вы, будучи младенцем, потели и зябли, потели и зябли на арене, и вы бы захрипели не хуже моего. — Вероятно, — согласился мистер Грэдграйнд. — А покуда мы ждем ее, не выпьете ли чего-нибудь, хударь? Рюмку хереху, а? — радушно предложил мистер Слири. — Нет, нет, благодарю вас, — отвечал мистер Грэдграйнд. — Зря, хударь, зря. А ваш приятель, ему что угодно? Ежели вы еще не обедали, то выпейте рюмочку горькой. Но тут мистера Слири перебила его дочь Джозефина, хорошенькая блондинка лет восемнадцати, — ее привязали к лошади, когда ей минуло два года, а с двенадцати лет она носила при себе завещание, в котором выражала просьбу, чтобы на кладбище она была доставлена обоими пестренькими пони. — Тише, папа, она идет! — крикнула Джозефина и тотчас в комнату вбежала Сесси Джуп так же стремительно, как час назад выбежала из нее. Увидев, что здесь собралась вся труппа, увидев, какие у всех лица, и не увидев среди собравшихся отца, она жалобно вскрикнула и бросилась на шею самой талантливой канатной плясунье (кстати, ожидавшей ребенка), а та опустилась на колени, и заливаясь слезами, нежно прижала девочку к груди. — Хватило же у него ховехти на такое дело, черт побери, — сказал Слири. — Папа, дорогой мой папочка, куда ты ушел? Я знаю, знаю, ты ушел ради меня! Ты ушел, чтобы мне было хорошо! И какой же ты будешь несчастный, какой одинокий, пока не воротишься ко мне, бедный, бедный мой папочка! — Так она причитала, и столько горя было в ее устремленном вверх взгляде, в простертых руках, которыми она словно пыталась обхватить и удержать исчезающую тень отца, что никто слова не мог вымолвить; но мистер Баундерби, потеряв терпение, наконец решил взять дело в свои руки. — Вот что, люди добрые, — начал он, — все это трата времени. Пора девочке понять, что бегство отца — свершившийся факт. Ежели угодно, я могу объяснить ей это — ведь меня самого когда-то бросили. Слушай, ты — как бишь тебя! Твой отец потихоньку сбежал, бросил тебя, и больше ты его не увидишь, лучше и не жди. Однако соратники мистера Слири столь мало ценили неприкрашенные факты и столь низко пали в этом отношении, что они не только не восхитились сокрушительным здравым смыслом оратора, но, напротив, встретили его речь в штыки. Мужчины пробормотали «стыд и срам!», женщины — «скотина!», а Слири поспешил отвести мистера Баундерби в сторонку и предостеречь его: — Вот что, хударь. Откровенно говоря, — я так полагаю, что вам лучше кончить на этом и помолчать. Мои люди — народ предобрый, но они, видите ли, привыкли работать проворно. И ежели вы еще откроете рот, то я, черт побери, не уверен, что вы не вылетите в окошко. Поскольку мистеру Баундерби ничего не оставалось, как последовать столь деликатному совету, то мистер Грэдграйнд воспользовался случаем и со свойственной ему практичностью изложил суть дела. — Нет никакой надобности, — начал он, — задаваться вопросом, следует ли ожидать возвращения этого человека, или не следует. В настоящее время он отсутствует, и ничто не указывает на то, что он вскорости возвратится. Я думаю, что с этим согласны все. — Ваша правда, хударь. Что верно, то верно, — поддакнул Слири. — Так вот. Я пришел сюда с намерением сообщить отцу этой бедной девочки, Сесилии Джуп, что она впредь не может посещать школу, в силу некоторых соображений практического характера, о которых я здесь не стану распространяться, закрывающих доступ в нее детям, чьи родители занимаются вашим ремеслом. Однако ввиду изменившихся обстоятельств я хочу предложить следующее. Я согласен, Сесилия Джуп, взять тебя на свое попечение, воспитать тебя и заботиться о тебе. Но при одном условии (разумеется, ты к тому же должна хорошо вести себя), чтобы ты тут же на месте решила, идешь ты со мной или остаешься. А также — в случае, ежели ты идешь со мной, — ты должна прервать все отношения со своими присутствующими здесь друзьями. Больше мне добавить нечего. — Позвольте же и мне, хударь, — заговорил Слири, — молвить хлово, чтобы ей было видно и лицо и изнанка. Ежели ты, Хехилия, хочешь пойти ко мне в ученье, что ж, — работу ты знаешь, и ты знаешь тоже, кто твои товарки. Эмма Гордон, у которой ты хидишь на коленях, будет тебе матерью, а Джозефина — хехтрой. Я не говорю, что я ангел во плоти и что, когда ты промажешь, я не выйду из хебя и не пошлю тебя к черту, но имейте в виду, хударь, никогда в жизни, что бы там ни было, как бы я ни рычал, я даже лошадь ни разу пальцем не тронул и уж навряд ли в мои годы начну колотить наездников. Я никогда не был говоруном, хударь, и потому на этом кончаю. Вторая половина этой речи была адресована мистеру Грэдграйнду, и тот, наклоном головы давая понять, что принял слова Слири к сведению, сказал: — Джуп, я ни в какой мере не хочу влиять на твое решение. Я только замечу тебе, что получить здравое практическое воспитание — большое благо, и что твой отец сам (насколько я понимаю) отдавал себе в этом отчет и желал такового для тебя. Последние слова, видимо, подействовали на девочку. Рыдания утихли, она слегка отодвинулась от Эммы Гордон и обратила лицо к мистеру Грэдграйнду. Все присутствующие отметили происшедшую в ней перемену и испустили дружный вздох, означавший: «Пойдет!» — Подумай хорошенько, Джуп, прежде нежели принять решение, — предостерег мистер Грэдграйнд. — В последний раз говорю: подумай хорошенько. — Когда отец воротится, — после минутного молчания вскричала девочка, снова заливаясь слезами, — как же он найдет меня, если я уйду? — Насчет этого не тревожься, — спокойно отвечал мистер Грэдграйнд (он словно решал арифметическую задачу). — В таком случае, я полагаю, твой отец должен будет разыскать мистера… — Хлири. Таково мое имя, хударь. И не плохое. Мало кто в Англии его не знает, и оно хорошо оправдывает хебя. — …разыскать мистера Слири и от него узнать, где ты находишься. Не в моей власти будет удерживать тебя против воли, а твой отец в любое время без всяких затруднений найдет мистера Томаса Грэдграйнда из Кокстауна. Я человек известный. — Верно! — подтвердил мистер Слири, вращая подвижным глазом. — Вы, хударь, один из тех, из-за кого цирк терпит немалые убытки. Но не будем говорить об этом. Опять наступило молчание; и вдруг девочка закрыла лицо руками и воскликнула сквозь слезы: — Соберите мои вещи, только поскорей, и я сейчас уйду, не то у меня разобьется сердце! Женщины, тяжело вздыхая, принялись за сборы, но это отняло мало времени — скудное достояние Сесси быстро было уложено в корзинку, с которой она уже не раз путешествовала. Сама же она все это время сидела на полу и горько рыдала, спрятав лицо в ладони. Мистер Грэдграйнд и его друг мистер Баундерби уже подошли к двери, готовясь увести девочку. Мистер Слири стоял посреди комнаты, окруженный мужской частью своей труппы, в точности так, как обычно стоял на арене, когда его дочь Джозефина исполняла очередной номер. Не хватало только бича в его руке. Молча уложив корзинку, женщины пригладили Сесси растрепавшиеся волосы, надели на нее шляпку; потом они дали волю своим чувствам — горячо обнимали ее, целовали, привели детей, чтобы она простилась с ними, и проделывали все то, что подсказывало отзывчивое сердце этим бесхитростным неразумным созданиям. — Ну что ж, Джуп, — сказал мистер Грэдграйнд, — ежели ты решилась, так идем! Но она еще должна была попрощаться с мужской половиной труппы; и каждому из них пришлось разнять скрещенные на груди руки (ибо находясь в непосредственной близости к мистеру Слири, они неизменно сохраняли предписанную цирковым кодексом позу), чтобы заключить ее в объятья и поцеловать; уклонился от этого один только Киддерминстер, чью юную душу омрачала врожденная склонность к мизантропии и который, как всем было известно, вдобавок имел серьезные матримониальные виды на Сесси; а потому он угрюмо ретировался. Мистер Слири до последней минуты сохранял полное спокойствие и простился последним. Широко раскинув руки, он взял Сесси за кончики пальцев, точно она была наездница, только что соскочившая с лошади после удачной вольтижировки, и, как полагается, сейчас начнет резво подпрыгивать; но девочка не откликнулась на его профессиональный жест и неподвижно, вся в слезах, стояла перед ним. — Прощай, моя дорогая! — сказал Слири. — От души желаю тебе благополучия, и будь покойна, никто из нас, грешных, тревожить тебя не хтанет. Зря твой отец увел Вехельчака, на афише-то его уже не будет — нехорошо как-то. Впрочем, без хозяина он не захотел бы работать, так что одно на одно бы и вышло. После этого он устремил на Сесси неподвижный глаз, окинул подвижным своих соратников, поцеловал девочку и, тряхнув головой, передал ее мистеру Грэдграйнду, точно посадил на лошадь. — Берите, хударь, — сказал он, внимательно оглядывая Сесси, словно проверяя, крепко ли она сидит в седле, — и поверьте, она не похрамит вах. Прощай, Хехилия! — Прощай, Сесилия! Прощай, Сесси! Господь с тобой, родная! — раздалось на разные голоса со всех концов комнаты. Но зоркий глаз шталмейстера заметил бутылку со смесью из девяти масел, которую Сесси прятала на груди, и он, удержав ее, сказал: — Отдай бутылочку, дорогая. Она тяжелая, а на что она тебе теперь? Отдай ее мне. — Нет, нет! — вскричала она, и слезы опять потекли по ее щекам. — Ах, не надо, прошу вас, позвольте мне хранить ее до возвращения отца! Она будет нужна ему, когда он воротится ко мне. Он не думал уйти, когда посылал за лекарством. Я сберегу его для отца. Пожалуйста! — Будь по-твоему, дорогая (видите, хударь, какое дело). Прощай, Хехилия! И вот тебе мое прощальное хлово: не нарушай уговора, не перечь почтенному джентльмену и забудь нах. Но когда ты вырахтешь и выйдешь замуж и будешь богата — ежели ты узнаешь о бродячем цирке, не презирай его, не брани, поддержи его, чем можешь, и знай, что это будет доброе дело. Видите ли, хударь, — продолжал Слири, пыхтя все сильней и сильней по море того, как речь его удлинялась, — людям нужны развлечения. Не могут они работать без передышки, не могут и наукам учиться без отдыха. Ищите в нах доброе, не ищите худого. Меня мой цирк кормит, что верно, то верно. Но я так полагаю, хударь, что ихтина заключена именно и этом: ищите в нах доброе, не ищите худого. Сие философское рассуждение Слири излагал, уже провожая посетителей вниз по лестнице; и вскоре неподвижное око воплощенной мудрости — а также и подвижное — потеряло из виду в темноте улицы и обоих мужчин, и девочку, и ее корзинку.
Глава VII
Миссис СпарситМистер Баундерби был холост, и потому хозяйством его, за известное ежегодное вознаграждение, ведала некая пожилая особа. Звали ее миссис Спарсит, и она, несомненно, служила украшением триумфальной колесницы, в коей мистер Баундерби, преисполненный чванного смирения, катил от успеха к успеху. Дело в том, что миссис Спарсит не только знавала лучшие времена, но и принадлежала к высшему кругу. Ее ныне здравствующая двоюродная тетушка именовалась леди Скэджерс. А покойный мистер Спарсит со стороны матери был «из Паулеров», как поныне выражалась его безутешная вдова. Случалось, что люди, плохо осведомленные и туго соображающие, не только не понимали, из каких-таких Паулеров, но даже явно не знали — то ли это торговая фирма, то ли политическая партия, то ли религиозная секта. Однако более просвещенные умы не нуждались в разъяснениях — им было известно древнее происхождение Паулеров, чья родословная столь далеко уходила в глубь веков, что не удивительно, если они порой сбивались с пути и следы их приводили на скачки, в игорный притон, к еврею-ростовщику или в Суд по делам несостоятельных должников. Итак, покойный мистер Спарсит, родня Паулерам со стороны матери, женился на девице, приходившейся по отцу родней Скэджерсам. Леди Скэджерс (необыкновенно тучная старуха, весьма невоздержная по части говядины и обремененная своенравной ногой, вот уже четырнадцать лет упорно не желавшей слезть с постели) сосватала их, когда Спарсит едва достиг совершеннолетия, и примечательного в нем было только до крайности худосочное туловище, подпертое длинными тощими ногами и увенчанное головой столь малых размеров, что о ней и говорить не стоит. Ему досталось от дяди весьма приличное наследство, которое он прожил в кредит прежде, нежели получил его, и дважды промотал после того, как вступил во владение им. Поэтому, когда двадцати четырех лет от роду он скончался (место действия — Кале, причина — бренди), супруга его, с которой он разошелся вскоре после медового месяца, осталась в несколько стесненных обстоятельствах. Печальная вдовица — на пятнадцать годков старше покойника — вскоре насмерть рассорилась со своей единственной родственницей, леди Скэджерс; и отчасти в пику ее милости, отчасти ради хлеба насущного пошла в люди. И вот теперь, на склоне лет, миссис Спарсит, обладательница римского носа и густых черных бровей, некогда пленивших мистера Спарсита, заваривала чай для вкушавшего завтрак мистера Баундерби. Будь Баундерби великим завоевателем, а миссис Спарсит пленной принцессой, выставленной напоказ во время его триумфального шествия, он не мог бы чваниться ею с большим азартом. Так же неустанно, как он хвастал своей безродностью, он превозносил ее родовитость. Рисуя в самых мрачных тонах свое собственное детство, он расцвечивал ярчайшими красками зарю ее юности и сплошь усыпал розами ее жизненный путь. «И что же, сэр, — говаривал он, — чем все это кончилось? Вот она здесь, за сто фунтов в год (я плачу ей сто фунтов, и она вполне этим довольна), и ведет хозяйство Джосайи Баундерби из Кокстауна!» Мало того — он столь упорно и рьяно хвалился этой своей удачей, что она получила широкую огласку, и находились люди, не упускавшие случая упомянуть о сем. В чванстве Баундерби была одна особенно зловредная черта: он не только славословил самого себя, он побуждал других петь ему хвалу. Он распространял вокруг себя заразу духовного клакерства. На банкетах в Кокстауне тот или иной заезжий гость, весьма скромный и сдержанный в любом другом месте, вдруг вскакивал и начинал неистово превозносить Баундерби. Послушать ораторов, — чего только Баундерби не олицетворял: и королевский герб, и британский флаг, и хартию вольностей[18], и Джона Булля[19], и хабеас корпус[20], и билль о правах[21], и «дом англичанина — его крепость», и «церковь и государство»[22] и «боже, храни королеву». И каждый раз (а без этого дело не обходилось ни разу) как красноречивый гость уснащал свой спич цитатой:
Презренно счастие вельможей и князей![23]
Их миг один творит и миг уничтожает, —
Глава VIII
Никогда не раздумывайЕще раз прислушаемся к основному ладу, прежде чем продолжать нашу песнь. Когда Луиза была лет на шесть моложе, она однажды, разговаривая с братом, сказала: «Знаешь, Том, о чем я раздумываю?» На что мистер Грэдграйнд, подслушавший эти слова, выступил вперед и заявил: «Луиза, никогда не раздумывай!» В этом правиле и была заложена пружина, приводящая в действие механику воспитательной системы, направленной на развитие ума при полном небрежении к чувствам и душевным порывам, — в нем же заключался и весь секрет ее. Никогда не раздумывай. При помощи сложения, вычитания, умножения и деления, так или иначе, решай все на свете и никогда не раздумывай. Приведите ко мне, говорит Чадомор, того младенца, что едва начинает ходить, и я ручаюсь вам, что он никогда не будет раздумывать. Однако наряду со множеством едва начинающих ходить младенцев в Кокстауне имелось изрядное число таких, которые уже двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят годков, а то и больше шли по отмеренному им пути к жизни вечной. Поскольку эти, зловредные младенцы означали грозную опасность для любого человеческого общества, то все восемнадцать вероисповеданий неустанно выцарапывали глаза и вцеплялись в волосы друг дружке, пытаясь сговориться, какие следует принять меры к их исправлению. Но достичь согласия так и не удавалось, что поистине удивительно при столь действенных средствах, пущенных в ход для этой цели. Впрочем, невзирая на то, что разногласия возникали по всякому мыслимому и немыслимому (чаще немыслимому) поводу, все более или менее сходились на одном, а именно: эти злосчастные дети никогда не должны раздумывать. Клир номер первый утверждал, что они все должны принимать на веру. Клир номер второй утверждал, что они должны верить в политическую экономию. Клир номер третий писал для них нудные книжицы, в которых рассказывалось, как хорошие взрослые младенцы неизменно вносят деньги в сберегательную кассу, а гадкие взрослые младенцы неизменно попадают на каторгу. Клир номер четвертый кое-как маскировал мрачным юмором (хотя ничего веселого в этом не было) капканы научных теорий, в которые эти младенцы обязаны были дать себя заманить. Но все соглашались с тем, что они никогда не должны раздумывать. В Кокстауне имелась библиотека, в которую доступ был открыт для всех. Мысль о том, что же люди там читают, постоянно терзала мистера Грэдграйнда: ручейки сводных таблиц, приносящие соответствующие сведения, в положенные сроки вливались в ревущий океан статистических данных, куда еще ни один водолаз не спускался безнаказанно. Как ни печально, но нельзя было отрицать того очевидного факта, что даже читатели городской библиотеки упорствовали в своем желании раздумывать. Они раздумывали о человеческой природе, о человеческих страстях, надеждах и тревогах, о борьбе, победах и поражениях, о заботах, радостях и горестях, о жизни и смерти простых людей! Иногда, после пятнадцати часов работы, они садились за книжку и читали всякие россказни про мужчин и женщин, похожих на них самих, и про детей, похожих на их собственных. Сердца их пленял Дефо, а не Евклид[27], и они, видимо, находили большее утешение у Гольдсмита, нежели у Кокера[28]. Мистер Грэдграйнд без устали трудился над этой каверзной задачей — для печати и не для печати — и, хоть убей, не мог понять, каким образом получается такой несуразный итог. — Жить не хочется, Лу. Моя жизнь мне опротивела, и все люди, кроме тебя, опротивели, — сказал не по годам угрюмый Томас Грэдграйнд-младший, сидя под вечер в тихой комнате, похожей на цирюльню. — И даже Сесси, Том? — Противно, что нужно звать ее Джуп. И я ей противен, — мрачно отвечал Том. — Нет, нет, это неправда, Том! — А как же иначе? Она всех нас должна ненавидеть. Ее здесь совсем затормошат. Она уже сейчас бледная, как смерть, и тупая… как я. Юный Том выражал свои невеселые мысли, сидя перед камином верхом на стуле, скрестив руки на спинке и спрятав хмурое лицо в скрещенные руки. Сестра его сидела подальше от огня, в темном углу, то глядя на брата, то устремляя взор на осыпающиеся яркие искры. — А я, — продолжал Том, обеими руками ожесточенно ероша волосы, — я просто осел, и больше ничего. Такой же упрямый, как осел, еще глупее, чем осел, и так же мне сладко живется, и скоро я лягну кого-нибудь, как осел. — Надеюсь, не меня, Том? — Нет, Лу. Тебя я не трону. Я же сразу сказал, что ты — другое дело. Даже и не знаю, что бы тут было без тебя в нашем распрекрасном… Каменном Мешке. — Том сделал паузу, подыскивая достаточно крепкое словцо, чтобы выразить свою любовь к отчему дому, и, видимо, остался очень доволен найденным определением. — Правда, Том? Ты в самом деле так думаешь? — Конечно, правда. Да что толку говорить об этом! — отвечал Том, и так свирепо потер лицо о рукав, словно хотел содрать с себя кожу и тем самым уравновесить душевные муки телесными. — Понимаешь, Том. — сказала Луиза после минутного молчания, отрываясь от гаснущих искр и поднимая глаза на брата, — я уже почти взрослая, и чем старше я становлюсь, тем чаше я раздумываю о том, как грустно, что я не умею сделать так, чтобы тебе лучше жилось в нашем доме. Я не умею ничего такого, что умеют другие девушки. Ни сыграть, ни спеть тебе не могу. И поговорить с тобой, чтобы развлечь тебя, не могу, ведь я не вижу ничего веселого, не читаю ничего веселого, и мне нечем позабавить тебя или утешить, когда тебе скучно. — Да и я такой же. С этой стороны я ничуть не лучше тебя. А к тому же я безмозглый мул, а ты нет. Если отец хотел сделать из меня либо ученого сухаря, либо мула, а ученого из меня не вышло, то кто же я, как не мул? Я и есть мул, — мрачно заключил Том. — Все это очень печально, — помолчав, задумчиво сказала Луиза из своего темного угла. — Очень печально. Несчастные мы с тобой, Том. — Ты-то нет, — возразил Том. — Ты, Лу, девочка, девочку это не так портит, как мальчика. Я вижу в тебе одно только хорошее. Ты единственное мое утешение — ты даже этот дом умеешь скрасить — и я всегда буду делать то, что ты хочешь. — Ты хороший брат, Том. И если ты так обо мне думаешь, я рада, хотя и знаю, что ты ошибаешься. А я отлично знаю, что ты ошибаешься, и это очень прискорбно. — Она подошла к Тому, поцеловала его и опять села в свой уголок. — Собрать бы все факты, о которых мы столько слышим, — заговорил Том, яростно скрипнув зубами, — и все цифры, и всех, кто их выкопал; и подложить под них тысячу бочек пороху и взорвать все сразу! Правда, когда я буду жить у старика Баундерби, я отыграюсь. — Отыграешься, Том? — Ну, я хочу сказать, я немножко повеселюсь, кое-что увижу, кое-что услышу. Вознагражу себя за то, как меня воспитывали. — Смотри, Том, не очень обольщайся. Мистер Баундерби тех же мыслей, что и отец, и он много грубее и вполовину не такой добрый. — Ну, — засмеялся Том, — это меня не пугает. Я отлично сумею управиться со стариком и угомонить его. Их тени отчетливо чернели на стене, но тени высоких шкафов сливались воедино на стенах и потолке, точно над братом и сестрой нависла темная пещера. Богатое воображение — если бы такое кощунство было возможно в этой комнате — могло бы принять этот мрак за грозную тень, которую то, о чем шла речь между ними, отбрасывало на их будущее. — А как ты думаешь управиться с ним и угомонить его, Том? Или это секрет? — Если это и секрет, — сказал Том, — то за разгадкой ходить не далеко. Это ты, Лу. Ты его любимица, он души в тебе не чает, он ради тебя все сделает. Когда он скажет что-нибудь, что мне не по нутру, я ему пропою: «Мистер Баундерби, ваши слова очень огорчат и обидят мою сестру. Она была уверена и мне всегда говорила, что вы не будете притеснять меня». Уж тут-то он прикусит язык, будь покойна. Том молчал в ожидании ответа от сестры, но, так и не дождавшись его, отложил мечты о будущем и снова дал волю своему унынию, усиленно зевая, вертясь на стуле и все ожесточеннее ероша волосы. Наконец он поднял глаза и спросил: — Ты спишь, Лу? — Нет, Том. Я смотрю на огонь. — Не понимаю, что ты там видишь, — сказал Том. — Я лично ничего там не вижу. Должно быть, это еще одно преимущество девочки перед мальчиком. — Том, — начала Луиза, медленно и раздумчиво, словно она читала произносимые ею слова в пламени камина, а начертаны они были не очень разборчиво, — ты радуешься, что будешь жить у мистера Баундерби? — Одно-то хорошее в этом уж безусловно будет, — отвечал Том, слезая со стула. — Во всяком случае, это значит — уйти из дому. — Одно-то хорошее в этом уж безусловно будет, — так же раздумчиво повторила Луиза. — Во всяком случае, это значит — уйти из дому. Да, да. — Ты пойми, Лу, мне будет очень нелегко оставить тебя, да еще оставить здесь. Но ты же знаешь, что я должен уйти, хочу я этого или нет. И уж лучше мне отправиться туда, где я могу извлечь какую-то пользу из твоего влияния, чем в такое место, где ты мне ничем не сможешь помочь. Ты это понимаешь? — Да, Том. В ее голосе не слышалось колебаний, но она так медлила с ответом, что Том подошел к ней сзади и, перегнувшись через спинку стула, стал вглядываться в огонь, который столь сильно занимал ее, пытаясь сам что-то в нем увидеть. — Огонь как огонь, — сказал Том, — и по-моему, он глупый и скучный, ничуть не лучше, чем все вообще. Что ты там видишь? Уж не цирк ли? — Ничего такого я там не вижу. Но, глядя в огонь, я раздумываю о нас с тобой, о том, что мы уже почти взрослые. — Опять раздумываешь! — сказал Том. — У меня уж такие непокорные мысли, — отвечала Луиза, — ничего не могу с ними поделать. — Очень прошу тебя, Луиза, — сказала миссис Грэдграйнд, бесшумно отворившая дверь, — ради бога, прекрати сию минуту это занятие. Ты же знаешь, бессовестная, что мне покою не будет от твоего отца. А тебе, Томас, не стыдно? С моей больной головой — и вдруг слышу, как ты подбиваешь сестру раздумывать, и это при твоем-то воспитании, на которое ухлопали столько денег, а ведь ты отлично знаешь, что отец твой строго-настрого запретил ей это. Луиза начала было отрицать соучастие Тома в совершенном преступлении, но мать остановила ее неопровержимым доводом, решительно заявив, что «не с моим здоровьем слушать такие слова, потому что без подстрекательства у тебя не могло быть ни физической, ни нравственной возможности это сделать». — Никто меня не подстрекал, мама, — я только смотрела, как огонь роняет красные искры, как они меркнут и гаснут. И, глядя на них, я думала о том, что, в сущности, жизнь моя будет очень коротка и многого совершить я не успею. — Вздор! — сказала миссис Грэдграйнд с необычной для нее твердостью. — Вздор! И не стыдно тебе, Луиза! Говорить такие глупости прямо в глаза мне, хотя ты отлично знаешь, что, дойди это до твоего отца, мне от него покою не будет. И это после всех забот и хлопот о тебе! Сколько лекций тебе прочитали, сколько опытов показывали! Разве я сама, когда у меня вся правая сторона отнялась, не слышала, как ты со своим учителем долбила про горение, каление, сожжение и еще про невесть какие ения, лишь бы свести с ума несчастную больную. И после всего этого я должна терпеть твою болтовню об искрах и пепле! Я жалею, — со слезами в голосе заключила миссис Грэдграйнд, под натиском даже столь призрачных фактов падая в кресло и выпуская свой сильнейший заряд перед тем, как сдаться, — да, я от души жалею, что стала матерью. Лучше бы мне вовсе не иметь детей, вот тогда бы вы поняли, каково это — обходиться без меня!
Глава IX
Успехи СессиНелегко жилось Сесси Джуп под началом у мистера Чадомора и миссис Грэдграйнд, и в первые месяцы ее послушничества мысль о бегстве не раз приходила ей на ум. Так густо, с утра до ночи, сыпались на нее факты, и жизнь вообще так сильно напоминала разлинованную в мелкую клетку тетрадь, что она и впрямь убежала бы — не будь одного соображения. Как это ни печально, но соображение, удержавшее Сесси от бегства, не было итогом математических выкладок, — напротив, оно бросало вызов всем и всяческим расчетам, и любой статистик страхового общества, составляющий таблицу вероятностей, исходя из данных предпосылок, мгновенно опроверг бы его. Девочка не верила, что отец ее бросил, она жила надеждой на встречу с ним и была твердо убеждена, что, оставаясь в этом доме, исполняет его желание.

Прискорбное неразумие, с каким Сесси цеплялась за эту надежду, упорно отвергая утешительную мысль, что отец ее — как дважды два — бессовестный бродяга, лишенный естественных человеческих чувств, наполняло сердце мистера Грэдграйнда жалостью. Но что было делать? Чадомор докладывал, что она чрезвычайно тупа на цифры; что однажды получив общее понятие о земном шаре, она не проявила ни малейшего интереса к подробным измерениям его; что ей крайне трудно дается хронология и запоминает она только те даты, которые знаменуют какое-нибудь горестное событие; что она разражается слезами всякий раз, когда ей предлагают быстро сосчитать (в уме), сколько будут стоить двести сорок семь муслиновых чепцов по четырнадцать с половиной пенсов за штуку; что хуже ее во всей школе не учится никто; что после двухмесячного ознакомления с основами политической экономии, не далее, как вчера, ее поправил мальчишка, трех футов от пола, ибо она дошла до такой нелепости, что на вопрос, каков первейший закон этой науки, ответила: «Поступать с людьми так, как я хотела бы, чтобы они поступали со мною».[29] Мистер Грэдграйнд, качая головой, говорил, что это очень грустно, что это доказывает необходимость энергичного и длительного перемола на жерновах знания посредством дисциплины, строгого расписания, Синих книг[30], официальных отчетов и статистических таблиц от А до Зет! и что нужно удвоить усилия. Что и было исполнено — от чего Джуп впадала в тоску, но ученее не становилась. — Хорошо быть такой, как вы, мисс Луиза! — сказала Сесси однажды вечером, покончив с уроками на завтра с помощью Луизы, которая пыталась хоть немного распутать клубок ее недоумений. — Ты так думаешь? — Не думаю, а знаю, мисс Луиза. Все, что мне сейчас так трудно, было бы совсем легко. — Может быть, тебе от этого не стало бы лучше, Сесси. Сесси, подумав немного, проговорила: — Но мне не стало бы хуже, мисс Луиза. На что Луиза отвечала: — Я в этом не уверена. Девочки так редко сходились друг с другом — и потому, что жизнь в Каменном Приюте, своим однообразным круговращением напоминая шестерню, не располагала к общительности, и потому, что запрещалось касаться прошлого Сесси, — что они все еще были между собой почти как чужие. Сесси, глядя Луизе в лицо темными удивленными глазами, молчала, не зная, сказать ли что-нибудь еще, или ничего не говорить. — Смотри, как ловко ты ухаживаешь за моей матерью и как ей хорошо с тобой. Мне бы никогда так не суметь, — продолжала Луиза. — Да ты и себе доставляешь больше радости, чем я себе. — Но простите, мисс Луиза, — возразила Сесси, — ведь я — ах, я такая глупая! Луиза, против обыкновения, засмеялась почти весело и заверила Сесси, что со временем она поумнеет. — Если бы вы знали, — сказала Сесси, чуть не плача, — до чего я глупа. На всех уроках я делаю одни ошибки. Мистер и миссис Чадомор без конца вызывают меня, и в моих ответах всегда ошибки. Я, право, не виновата. Они как-то сами собой получаются. — А мистер и миссис Чадомор никогда, вероятно, не ошибаются? — Нет! — с жаром воскликнула Сесси. — Они все знают. — Расскажи мне про свои ошибки. — Даже стыдно рассказывать, — неохотно согласилась Сесси. — Вот, например, сегодня мистер Чадомор объяснял нам про натуральное процветание. — Должно быть, национальное, — заметила Луиза. — Да, верно. А разве это не одно и то же? — робко спросила Сесси. — Лучше говори «национальное», раз он так сказал, — уклончиво отвечала Луиза. — Ну хорошо, — национальное процветание. И он сказал: пусть этот класс будет нацией. И у этой нации имеется пятьдесят миллионов фунтов стерлингов. Разве это не процветающая нация? Ученица номер двадцать, отвечай: процветает ли эта нация, и обеспечено ли тебе благосостояние? — А как ты ответила? — спросила Луиза. — Вот то-то, мисс Луиза, — я ответила, что не знаю. Откуда же мне знать, процветает эта нация или нет, и обеспечено ли мне благосостояние, раз я не знаю, чьи это деньги и принадлежит ли мне сколько-нибудь из них? Но оказалось, что это совсем ни при чем. В цифрах об этом нет ничего, — всхлипнула Сесси, вытирая слезы. — Это была грубая ошибка, — заметила Луиза. — Да, мисс Луиза, теперь-то я поняла. Тогда мистер Чадомор сказал, что он задаст мне еще один вопрос: предположим, что наш класс — огромный город, и в нем миллион жителей, и за год только двадцать пять человек из них умирают от голода на улицах. Что ты можешь сказать о таком соотношении? И я сказала — ничего другого я придумать не могла, — что, по-моему, тем, кто голодает, вероятно ничуть не легче оттого, что других, неголодающих, целый миллион — хоть бы и миллион миллионов. И это тоже было неверно. — Разумеется, неверно. — Тогда мистер Чадомор сказал, что задаст мне еще один вопрос. И он сказал — вот казуистика… — Статистика, — поправила Луиза. — Верно, мисс Луиза, я всегда путаю ее с казуистикой, это еще одна моя ошибка. Вот статистика несчастных случаев на море. И вот я вижу (это говорит мистер Чадомор), что в течение определенного времени сто тысяч человек пустились в дальнее плавание, и только пятьсот из них утонули или сгорели живьем. Сколько это составляет процентов? И я сказала, — тут Сесси, сознаваясь в своей вопиющей ошибке, залилась горючими слезами, — я сказала нисколько. — Нисколько, Сесси? — Нисколько, мисс. Ведь это ничего не составляет для родных и друзей погибших. Нет, я никогда не выучусь. А хуже всего то, что хотя бедный мой папа так хотел, чтобы я училась, и я очень стараюсь учиться, потому что он этого хотел, а как раз ученье-то мне не по душе. Луиза молча смотрела на темную хорошенькую головку, виновато склоненную перед ней, пока Сесси не подняла на нее глаза. Тогда она спросила: — Твой отец, Сесси, сам был очень ученый и потому хотел, чтобы и тебя хорошо учили? Сесси медлила с ответом, и лицо ее выражало столь явное опасение, как бы не нарушить запрет, что Луиза поспешила добавить: — Никто нас не услышит; а если бы и услышал, что может быть дурного в таком невинном вопросе? — Нет, мисс Луиза, — сказала Сесси, ободренная словами Луизы, и покачала головой. — Мой папа совсем неученый. Он едва умеет писать, и редко кто может прочесть то, что он пишет. Я-то могу, конечно. — А твоя мать? — Папа говорит, что она была очень ученая. Она умерла, когда я родилась. Она… — Сесси дрожащим голосом сделала страшное признание — …она была танцовщицей. — Твой отец любил ее? — Луиза задавала вопросы со свойственной ей глубокой, страстной пытливостью — пытливостью, блуждающей во тьме, точно отверженное существо, которое скрывается от людских взоров. — О да! Любил так же горячо, как меня. Папа и меня-то любил сначала только ради нее. Он повсюду возил меня с собой, когда я была еще совсем маленькая. Мы никогда с ним не расставались. — А теперь, Сесси, он оставил тебя! — Только потому, что желал мне добра. Никто не понимает его, как я, и никто не знает его, как я. Когда он оставил меня ради моей же пользы — он никогда не сделал бы это ради себя, — я знаю, что у него сердце разрывалось от горя. Он ни одной минуты не будет счастлив, пока не воротится. — Расскажи мне еще про него, — сказала Луиза. — И больше я никогда не буду спрашивать. Где вы жили? — Мы разъезжали по всей стране, а подолгу нигде не жили. Мой папа… — Сесси шепотом произнесла ужасное слово — …клоун. — Он смешит публику? — спросила Луиза, понимающе кивнув головой. — Да. Но иногда публика не смеялась, и тогда он из-за этого плакал. В последнее время она очень часто не смеялась, и он приходил домой совсем убитый. Папа не такой, как все. Люди, которые не знали его так хорошо, как я, и не любили его так сильно, как я, иногда думали, что он немножко сумасшедший. Случалось, они зло шутили над ним; но они не знали, как он страдает от их шуток, это видела только я, когда мы оставались одни. Он очень застенчивый, а они этого не понимали. — А ты была ему утешением во всех его горестях? Она кивнула — слезы текли у нее по щекам. — Надеюсь, что да, и папа всегда так говорил. Он стал такой робкий, боязливый, считал себя несчастным, слабым, беспомощным неучем (он сам постоянно твердил это). Вот потому-то он и хотел, чтобы я непременно многому выучилась и чтобы я выросла не такая, как он. Я часто читала ему вслух, это как-то подбадривало его, и он очень любил слушать. Книги я читала нехорошие — мне теперь нельзя говорить о них, — но мы не знали, что они приносят вред. — А ему они нравились? — спросила Луиза, не сводя испытующих глаз с лица Сесси. — Ах, очень нравились! И сколько раз они удерживали его от того, что в самом деле могло повредить ему. И много было вечеров, когда он забывал о всех своих бедах и думал только о том, позволит ли султан Шахразаде рассказывать дальше[31], или велит отрубить ей голову раньше, чем она кончит. — И отец твой всегда был добрый? До самого последнего дня? — спросила Луиза, в нарушение строгого запрета явно раздумывая над рассказом Сесси. — Всегда, всегда! — отвечала Сесси, стискивая руки. — И сказать вам не могу, до чего он был добрый. Я видела его сердитым только один раз, и то он рассердился не на меня, а на Весельчака. Весельчак… — она шепотом сообщила убийственный факт, — это дрессированная собака. — А почему он рассердился на собаку? — спросила Луиза. — Они воротилась домой после представления, а потом папа велел ей прыгнуть на спинки двух стульев и стоять так — это один из ее номеров. Она глянула на него и не сразу послушалась. В тот вечер у папы ничего не выходило, и публика была очень недовольна. Он закричал, что даже собака знает, что он уже ни на что не годен, и не имеет к нему жалости. Потом он начал бить собаку, а я испугалась и говорю: «Папа, папа, не бей ее, она же так тебя любит! Папа, ради бога, перестань!» Тогда он перестал ее бить, но она была вся в крови, и папа лег на пол и заплакал, а собаку прижал к себе, и она лизала ему лицо. Тут Сесси разрыдалась, и Луиза, подойдя к ней, поцеловала ее, взяла за руку и села подле нее. — Доскажи теперь, Сесси, как отец оставил тебя. Я так много у тебя выспросила, что уж расскажи все до конца. Если это дурно, то виновата я, а не ты. — Вот как это было, мисс Луиза, — начала Сесси, прижимая ладони к мокрым от слез глазам: — Я пришла домой из школы, а папа тоже только что передо мной воротился из цирка. И вижу, сидит он у самого огня и раскачивается, будто у него что болит. Я и говорю: «Папа, ты ушибся?» (это случалось с ним, да и со всеми в цирке); а он говорит: «Немножко, дорогая». А потом я подошла поближе и нагнулась к нему, и вижу, что он плачет. Я стала утешать его, а он прячет от меня лицо, весь дрожит и только повторяет: «Дорогая моя! Радость моя!» Тут в комнату ленивой походкой вошел Том и посмотрел на девочек равнодушным взглядом, красноречиво говорившим о полном отсутствии интереса ко всему на свете, кроме собственной персоны; но и та в настоящую минуту, видимо, мало занимала его. — Я просила Сесси рассказать мне кое о чем, — обратилась к нему Луиза. — Ты можешь остаться. Но помолчи минутку, не мешай нам, хорошо, Том? — Пожалуйста! — сказал Том. — Я только зашел сказать, что отец привел старика Баундерби, и я хочу, чтобы ты вышла в гостиную. Потому что, если ты выйдешь, он непременно позовет меня обедать. А не выйдешь, ни за что не позовет. — Сейчас приду. — Я подожду тебя для верности. Сесси продолжала, понизив голос: — Под конец папа сказал, что он опять не угодил публике, и что теперь всегда так, и что он пропащий человек, и мне без него было бы куда лучше. Я говорила ему все самые ласковые слова, какие только приходили мне на ум; и он как будто успокоился, а я стала рассказывать про школу, про все, что мы делали и чему нас учили. Когда больше рассказывать было нечего, он обнял меня и долго целовал. Потом он попросил меня сходить за примочкой, которой он всегда лечил ушибы, и велел купить ее в самой лучшей аптеке, — а это в другом конце города; потом он опять поцеловал меня; и я ушла. Я уже спустилась с лестницы, но опять поднялась наверх, чтобы еще раз взглянуть на него, и спросила: «Папочка, можно, я возьму с собой Весельчака?» А он покачал головой и говорит: «Нет, Сесси, нет, родная. Ничего не бери с собой, что заведомо мое». Я ушла, а он остался сидеть у огня. Вот тут-то, должно быть, ему, бедному, и подумалось, что ради меня ему лучше уйти, потому что, когда я принесла лекарство, его уже не было. — Послушай, Лу! Не прозевай старика Баундерби! — напомнил Том. — Больше мне нечего рассказывать, мисс Луиза. Я берегу примочку, и я знаю, что он воротится. Как только увижу, что мистер Грэдграйнд держит в руках письмо, так у меня дух захватывает и в глазах темнеет, — все думаю, что это от папы или мистер Слири прислал мне весточку о нем. Мистер Слири обещал тотчас написать, если услышит что-нибудь о нем, и я уверена, что он меня не обманет. — Лу, не прозевай старика Баундерби! — повторил Том и присвистнул от нетерпения. — Он того и гляди уйдет! С тех пор, каждый раз, как Сесси, приседая перед мистером Грэдграйндом, робко спрашивала: «Простите, сэр, за беспокойство… но… не получали ли вы письма обо мне?» — Луиза, если ей случалось быть при этом, отрывалась от любого занятия и с не меньшей тревогой, чем Сесси, ждала ответа. И каждый раз, после неизменного ответа мистера Грэдграйнда: «Нет, Джуп, ничего такого не было», у Луизы, так же, как у Сесси, дрожали губы и глаза ее участливо провожали Сесси до дверей. Мистер Грэдграйнд, бывало, как только Сесси выйдет из комнаты, не преминет заявить, что, ежели бы Джуп с ранних лет была воспитана надлежащим образом, она сама, путем здравых рассуждений, доказала бы себе полную беспочвенность своих несбыточных надежд. Однако, по всей видимости (впрочем, он-то этого не видел), несбыточные надежды способны были оказывать столь же сильное воздействие, как и любой факт. Но это наблюдение оправдывалось только на примере дочери мистера Грэдграйнда. Что касается Тома, то он быстро приближался к отнюдь не редкому идеалу расчетливости, достигнув которого человек преимущественно хлопочет о самом себе. А миссис Грэдграйнд если вообще выражала какое-нибудь мнение по этому поводу, то слегка высовывалась из своих платков и шалей, точно соня из норы, и начинала: — Иисусе Христе, разнесчастная моя голова, и как только она не отвалится! Долго еще эта упрямая девчонка будет приставать ко всем со своими письмами! Честное слово, уж, видно, судьба моя такая, просто наказание божие! И почему это вокруг меня вечно такое творится, что я покою не знаю! Удивительное дело, точно все сговорились, чтобы мне никогда покою не знать! Но тут обыкновенно мистер Грэдграйнд устремлял взор на свою супругу, и под тяжестью этого леденящего душу факта она снова впадала в оцепенение.
Глава X
Стивен БлекпулЯ одержим нелепой мыслью, что английский народ заставляют так же тяжело трудиться, как и любой другой народ, живущий под солнцем. Я признаюсь в этой своей слабости, дабы объяснить, почему я желал бы, чтобы ему дали хоть немного вздохнуть. В той части Кокстауна, где сосредоточен самый тяжелый труд; в самой сердцевине этой безобразной крепости, где плотные кирпичные стены так же безжалостно заграждают вход природе, как они заграждают выход убийственным испарениям; в самых глухих дебрях путаного лабиринта тесных тупичков и узких проулков, где строения, возведенные как придется, на скорую руку, каждое для нужд одного владельца, словно враждующие между собой родичи, толкаются, лезут друг на друга и давят насмерть; в самом душном закутке этого колокола, из которого выкачан весь воздух, где в судорожных поисках тяги каждая печная труба по-своему искривлена и скособочена, точно все дома хотят показать миру, какие существа только и могут появиться на свет под их крышей; в самой гуще обитателей Кокстауна, которые известны под общим наименованием «рабочие руки» — и которые сильно выиграли бы в глазах некоторых людей, если бы провидение рассудило за благо дать им одни лишь руки, или, как низшим морским животным, одни руки и желудки, — проживал некий Стивен Блекпул, сорока лет от роду. Стивен казался старше — жизнь не баловала его. Говорят, что каждому человеку на земле уготованы и розы и тернии. Но с жизнью Стивена, видимо, произошла какая-то досадная ошибка, вследствие чего кто-то другой получил все причитавшиеся ему розы, а на его долю, сверх собственных, пришлись тернии, предназначенные этому другому. Он, по собственному выражению, хлебнул горюшка. Его обыкновенно называли Старый Стивен, как бы высказывая ему этим грубоватое сочувствие. Сутулый, большеголовый, с редкими и длинными седеющими волосами, нахмуренным лбом и сосредоточенным взглядом, — Старый Стивен мог бы показаться человеком в своей среде значительным. Однако это было не так. Он не принадлежал к числу тех удивительных «рабочих рук», которые, год за годом, урывая редкие часы досуга, овладевали науками и набирались самых невероятных знаний. Он не был ни красноречивым оратором, ни искусным спорщиком. Тысячи его товарищей умели говорить куда лучше, чем он. Он был хороший ткач и безупречно честный человек. Кем он был сверх того и что еще таилось в нем, — пусть покажет сам. В громадных фабричных корпусах, которые, когда в них горел свет, походили на сказочные дворцы, — так по крайней мере утверждали пассажиры курьерского поезда, — огни погасли; колокола уже возвестили об окончании работы и снова умолкли; рабочие — мужчины и женщины, мальчики и девочки — расходились по домам. Старый Стивен стоял посреди улицы, и, как обычно, когда машины останавливались, ему казалось, что целый день они и стучали и теперь затихли у него в голове. — Что-то не видать Рейчел! — проговорил он. Моросил дождь, и молодые женщины, стайками пробегавшие мимо Стивена, крепко придерживали у подбородка накинутые на голову платки. Он, видимо, хорошо знал Рейчел, ибо одного взгляда на этих женщин ему было достаточно, чтобы удостовериться, что ее нет среди них. Наконец на улице не осталось ни одной; тогда он повернулся и сказал с сожалением: «Не иначе как я пропустил ее!» Но не прошел он и трех улиц, как увидел впереди себя еще одну закутанную в платок женскую фигуру и стал так жадно вглядываться в нее, что, если бы он не видел саму женщину, которая двигалась от фонаря к фонарю, то скрываясь во мраке, то появляясь вновь, он, быть может, по одной ее тени, расплывающейся на мокрых камнях, угадал, кто это. Он ускорил шаг, быстро и бесшумно нагнал ее, пошел тише и только тогда окликнул: «Рейчел!» Она поворотилась к нему и откинула платок со лба; свет фонаря упал на продолговатое смуглое лицо с тонкими чертами, на лучистые кроткие глаза, на гладко зачесанные черные блестящие волосы. Лицо это не сияло первым цветением молодости — женщине было лет тридцать пять. — А, Стивен, это ты? — сказала она, улыбаясь, и улыбка ее была бы не менее выразительна, если бы видны были только ее ясные глаза; потом она снова низко надвинула платок на лицо, и они вдвоем пошли дальше. — Я думал, ты позже меня вышла, Рейчел. — Нет. — Нынче пораньше ушла? — Когда пораньше выхожу, когда попозже. Не стоит после работы поджидать меня, Стивен. — Да и на работу, как видно, тоже. Да, Рейчел? — Да. Он грустно посмотрел на нее, но вместе с тем взгляд его выражал безропотную покорность и глубочайшее убеждение, что она всегда и во всем права. Она поняла смысл этого взгляда и, словно в благодарность за него, легко коснулась его руки. — Мы с тобой такие верные друзья, Стивен, и такие старые друзья, и мы сами уже становимся стариками. — Нет, Рейчел, неправда, ты все такая же молодая. — Пока мы оба живы, — сказала она, засмеявшись, — ни тебе, ни мне, пожалуй, не догадаться, как это стареть в одиночку. Но все равно, мы с тобой очень старые друзья, и скрывать правду друг от дружки было бы просто грешно. Лучше нам пореже ходить вместе. А иногда будем! Трудно нам вовсе не ходить вместе, правда? — сказала она весело, стараясь подбодрить его. — И так нелегко, Рейчел. — А ты не думай, что трудно, вот и станет легче. — Пробовал, и долго пробовал, — не помогает. Но ты верно рассудила. Народ болтать начнет даже и про тебя. Ты, Рейчел, уже сколько лет — знаешь, что ты для меня? Мне с тобой так хорошо, всегда ты утешишь, развеселишь, стало быть, слово твое для меня закон. И хороший, правильный закон. Лучше, чем настоящие законы. — Никогда не хлопочи о них, Стивен, — быстро отвечала она, скользнув тревожным взглядом по его лицу. — Оставь законы в покое. — Да, — сказал он, качнув головой. — Оставь законы в покое. Не трогай их. Ничего вообще не трогай. И никого. Морока, да и только. — Уж будто одна только морока? — сказала Рейчел, снова касаясь руки Стивена, чтобы отвлечь его от мрачных дум. Он тотчас же откликнулся на ее движение и, выпустив длинные концы шейного платка, которые в рассеянии покусывал на ходу, отвечал ей с добродушным смешком: — Да, Рейчел, одна только морока. То и дело она попадается мне на пути, и я никак из нее не вылезу. Они шли уже довольно долго, и до их жилищ оставалось немного. Дом, где квартировала женщина, был ближе. Он стоял в одном из многочисленных проулков, для которых самый популярный в округе гробовщик (извлекающий весьма приличный доход из единственной убогой роскоши, какую позволяла себе здешняя беднота) нарочно держал выкрашенную черной краскойлестницу, дабы те, кто каждый божий день протискивался вверх и вниз по узким ступенькам, могли, покидая этот мир, с удобством выскользнуть из него через окно. Женщина остановилась и, протянув своему спутнику руку, пожелала ему спокойной ночи. — Покойной ночи, дорогая, спи спокойно! Она свернула за угол, а он еще постоял, глядя вслед стройной, аккуратной фигурке, степенно и скромно уходившей по темной улице, пока она не вошла в один из домишек. Вероятно, ни одно колыхание ее грубого платка не ускользнуло от его внимательных глаз, — и ни один звук ее речи не остался без отклика в самых сокровенных тайниках его сердца. Когда она скрылась из виду, он продолжал свой путь, время от времени подымая глаза к небу, по которому стремительно неслись клочковатые тучи. Но теперь они поредели, дождь прекратился, и ярко сияла луна — она заглядывала в высокие трубы Кокстауна, освещая потухшие горны и отдыхающие паровые машины, чьи исполинские тени чернели на стенах. Вместе с прояснившимся вечером, казалось, и у Стивена стало яснее на душе. Он жил на втором этаже над лавочкой, в таком же проулке, что и Рейчел, только еще поуже. Каким чудом находились люди, готовые продавать или покупать жалкие игрушки, выставленные в окне вперемежку с газетами и кусками свинины (в тот вечер там лежал окорок, который предстояло разыграть на другой день), — этого мы здесь касаться не будем. Стивен достал с полки свой огарок, зажег его о другой огарок, стоявший на прилавке, и, не обеспокоив хозяйку, которая спала в каморке за лавочкой, поднялся к себе в комнату. Комната эта не раз видела, как жильцы покидали ее, пользуясь черной лестницей гробовщика, но сейчас в ней было почти уютно. Несколько книг и тетрадей лежали на старенькой конторке в углу, мебель была приличная и в должном количестве, и хоть воздух и не отличался свежестью, комната блистала чистотой. Подходя к круглому, на трех ножках столику возле очага, чтобы поставить на него свечу, Стивен споткнулся обо что-то. Он попятился, глянул вниз и увидел женщину, которая, лежа на полу, силилась приподняться. — Господи помилуй! — вскрикнул он, отпрянув от нее. — Опять ты здесь? Как страшна была эта женщина! Беспомощная, пьяная, она полулежала на полу, опираясь, чтобы не упасть, на замызганную руку, а другой рукой делала слабые попытки откинуть со лба спутанные волосы, мешавшие ей видеть, но от этого только грязь размазывалась по лицу. Отвратительное существо, — но как ни отталкивал ее внешний облик, ее заляпанные, забрызганные отрепья, нравственное падение этой женщины было еще ужасней, и даже смотреть на нее казалось постыдным делом. Бранясь и чертыхаясь, неловко теребя растрепанные волосы, она, наконец, кое-как отбросила лезшие ей в глаза пряди и посмотрела на Стивена. Потом она стала раскачиваться, слабо размахивая свободной рукой, как будто хотела показать, что давится от хохота, хотя лицо се оставалось неподвижным и сонным. — А-а, это ты? Явился? — наконец прохрипела она насмешливо и уронила голову на грудь. — Опять здесь? — взвизгнула она после минутного молчания, словно только что услышала от него этот возглас. — Да! Опять здесь. Опять здесь, и еще приду. Здесь? Да, здесь! А почему бы и нет? Как будто бессмысленная ярость, с какой она выкрикивала эти слова, придала ей силы, она поднялась на ноги и стала перед ним, прислонившись к стене и пытаясь изобразить на своем лице презрительный гнев. — Я опять все твое распродам, и опять распродам, и опять, и опять! — кричала она и тыкала в него рукой, в которой за шнурок держала жалкий остаток шляпки, не то исходя лютой злобой, не то силясь исполнить какую-то воинственную пляску. — Сойди-ка с кровати! — Стивен сидел на краю постели, спрятав лицо в ладони. — Сойди, это моя кровать, моя! Когда она, пошатываясь, шагнула к нему, он с дрожью отвращения, не открывая липа, посторонился и прошел в дальний угол комнаты. Она тяжело упала на постель и тотчас захрапела. Он опустился на кресло и просидел не шевелясь всю ночь. Только раз он поднялся и набросил на нее одеяло — словно мало было одних его рук, чтобы заслониться от нее, даже впотьмах.
Глава XI
ТупикСказочные дворцы вспыхнули огнями прежде, нежели бледный утренний свет озарил огромные змеи дыма, ползущие над Кокстауном. Стук деревянных подошв по мостовой, торопливый звон колоколов — и все грузные слоны, начищенные и смазанные, уже снова в припадке тихого помешательства делали свое тяжкое, однообразное дело. Стивен работал, склонясь над своим станком, молча, внимательно, спокойно. Как непохож был он и все, кто трудился вместе с ним в этой чащобе ткацких станков, на гремучую, трескучую, неугомонную машину, у которой он стоял! Не бойтесь, добрые люди с опасливым складом ума, — никогда художество не предаст забвению природу. Поставьте рядом, где угодно, и сравните созданное богом и созданное человеком, и первое, будь то даже всего-навсего кучка очень скромных рабочих рук, неизмеримо превзойдет достоинством второе. Столько-то сотен рабочих рук на этой фабрике; столько-то сотен лошадиных сил. Известно с точностью до силы в один фунт, чего можно ожидать от машины; но вся армия счетчиков, выводящих цифры государственного долю, не скажет мне, какова сила добра или зла, любви или ненависти, патриотизма или недовольства, добродетели, выродившейся в порок, или порока, переродившегося в добродетель, на какую способна, в любую минуту, душа хотя бы одного из молчаливых слуг машины с непроницаемым лицом и мерными движениями. В машине нет тайн; в каждом, самом ничтожном из них, заключена глубочайшая тайна — на веки веков. Не приберечь ли нам математические вычисления для предметов неодушевленных, и не, управлять ли этими грозными неведомыми величинами с помощью других средств? Настало утро, дневной свет, проникая в окна, уже затмевал зажженные в цехах огни. Потом огни потушили, и работа продолжалась. Шел дождь, и дымовые змеи, покорные проклятию, тяготеющему над всем змеиным семенем, волочились по земле. На заднем дворе пар, паливший из выпускной трубы, дырявые бочки и железный лом, поблескивающие кучи каменного угля, зола, рассыпанная повсюду кругом, — все было затянуто пеленой дождя и тумана. Работа продолжалась до полудня. Зазвонил колокол. Снова стук башмаков по мостовой. Ткацкие станки, и зубчатые колеса, и рабочие руки остановились на один час. Стивен, бледный, осунувшийся, вышел из душного цеха на холод и сырость мокрых от дождя улиц. Покинув своих собратьев и свой квартал, захватив с собой только кусок хлеба, он направился к холму, где жил его хозяин — в красном доме с черными ставнями снаружи, зелеными шторами внутри, черной входной дверью, к которой вели две белые ступеньки, с именем БАУНДЕРБИ (из букв, размерами сильно напоминающих его самого) на медной доске над круглой, тоже медной дверной ручкой, похожей на поставленную в конце предложения медную точку. Мистер Баундерби сидел за вторым завтраком. Стивен так и думал. Может быть, слуга доложит, что один из фабричных просит позволения поговорить с ним? Слуга воротился с вопросом — кто именно из фабричных? Стивен Блекпул. Ничего крамольного за Стивеном Блекпулом не числилось; да, пусть войдет. Стивен Блекпул в столовой. Мистер Баундерби (которого Стивен едва знал, и то с виду) за бараньей отбивной и хересом. Миссис Спарсит у камина, за вязаньем сеток, в позе амазонки, опираясь одной ногой на стремя из бумажной пряжи. И собственное достоинство миссис Спарсит и ее положение в доме требовали, чтобы она не завтракала дважды. По долгу службы она надзирала над этой трапезой, но давала понять, что лично она, с высоты своего величия, считает второй завтрак недопустимой слабостью. — Ну-с, Стивен, — вопросил мистер Баундерби, — что с вами приключилось? Стивен поклонился. Без угодливости — этого от рабочих рук не дождешься! Помилуйте, сэр, такого за ними не водится, хоть бы они проработали у вас двадцать лет! — и, отдавая должное присутствию миссис Спарсит, засунул концы шейного платка за жилет. — Ну-с, Стивен, — продолжал мистер Баундерби, прихлебывая херес, — с вами мы никогда никаких хлопот не знали и вы никогда не были в числе беспокойных. Вы не воображаете, что вас должны катать в карете шестеркой и кормить черепаховым супом и дичью с золотой ложечки, как воображают очень многие из вас! — Мистер Баундерби всегда объявлял именно это единственной, непосредственной и прямой целью всех рабочих рук, стоило им выразить малейшее недовольство. — И потому я знаю наперед, что вы пришли сюда не с жалобой. Ну-с, так вот, я в этом заранее уверен. — Нет, сэр, я вовсе не за этим пришел. Мистер Баундерби, видимо, был приятно удивлен, вопреки только что высказанному им твердому убеждению. — Отлично, — проговорил он, — вы человек положительный, я в вас не ошибся. Ну-с, послушаем, какое у вас дело. Коли вы не за этим пришли, то за чем же? В чем надобность? Выкладывайте, любезный! Стивен покосился на миссис Спарсит. — Я могу уйти, если вам угодно, — самоотверженно предложила сия достойная особа, делая вид, что вынимает ногу из стремени. Мистер Баундерби остановил ее, задержав во рту кус баранины и вытянув вперед левую руку. Засим он отвел руку, проглотил баранину и обратился к Стивену: — Ну-с, вот что: эта леди — леди по рождению, знатная леди. Оттого, что она ведет у меня хозяйство, вы не думайте, пожалуйста, что она не занимала раньше высокое положение — очень высокое! Ну-с, ежели вы хотите мне сказать такое, чего нельзя сказать при высокородной леди, эта леди выйдет из комнаты. А ежели вы хотите сказать мне такое, что можно сказать при высокородной леди, тогда эта леди останется здесь. — Надеюсь, сэр, что с самого моего собственного рождения я ни разу не сказал ничего, что не пристало слушать прирожденной леди, — вспыхнув, отвечал Стивен. — Отлично, — сказал мистер Баундерби, отодвигая тарелку и откидываясь на спинку стула. — Валяйте! — Я пришел, — начал Стивен после минутного раздумья, подымая глаза от пола, — спросить у вас совета. Совет мне нужен до зарезу. Я женился давным-давно, в понедельник на Святой будет девятнадцать лет. Она были молодая, собой хороша и слава о ней шла добрая. Так вот — она сбилась с пути, очень скоро сбилась. Не по моей вине. Видит бог, я был ей неплохим мужем. — Об этом я уже слышал, — сказал мистер Баундерби. — Она стала выпивать, бросила работу, распродала мебель, заложила одежду и вообще загуляла. — Я долго терпел. (— Ну и дурак, — вполголоса ввернул мистер Баундерби, обращаясь к бокалу с хересом.) — Я долго терпел. Думал, отучу ее, все надеялся. Чего я только не делал! Уж я и так, и сяк, и этак. Приду, бывало, домой, гляжу — добро мое все растащено, а она без памяти валяется пьяная на голом полу. И не раз так-то, не два, а двадцать раз! Все морщины на лице Стивена обозначились резче, пока он говорил, красноречиво свидетельствуя о перенесенных им страданиях. — Так оно и пошло, и все хуже и хуже. Потом она ушла от меня. И уж тут стала совсем пропащая. И вот — нет-нет, да и приходит. Приходит и приходит. А как я могу не пустить ее? Бродишь, бродишь по улицам всю ночь, лишь бы домой не идти. Я уж и к мосту наведывался, брошусь, думаю, в воду, и делу конец. Уж так-то я намучился, что смолоду стариком стал. Миссис Спарсит, покачиваясь в, седле и не спеша передвигая вязальные челноки, подняла свои кориолановские брови и повела головой, словно хотела сказать: «Горе знают и великие и малые мира сего. Так обрати свой смиренный взор на меня». — Я платил ей деньги, чтобы она не показывалась мне на глаза. Целых пять лет платил. И опять обзавелся кое-каким добром. Жил я трудно, тоска заедала, но стыда не было, и я не трясся от страха день и ночь. Пришел я домой вчера вечером. А она лежит у меня перед очагом! И сейчас там! Доведенный до отчаяния, весь во власти своего горя, Стивен забылся и говорил независимо и страстно. Но уже в следующую минуту он снова стоял так, как стоял все время, — ссутулившись, обратив к мистеру Баундерби задумчивое лицо и глядя на него не то испытующе, не то с недоумением, словно силился разрешить очень трудную задачу; левой рукой он крепко прижимал к бедру свою шляпу; движения правой руки грубовато, со сдержанной энергией подчеркивали его слова, и не менее выразительна была эта рука, слегка согнутая в локте, но не опущенная, когда Стивен умолкал. — Все это мне давным-давно известно, — заметил мистер Баундерби, — кроме разве последнего пункта. Плохо ваше дело; хуже некуда. И чего вам не хватало? Зачем это вы вздумали жениться? Впрочем, об этом теперь поздно говорить. — Скажите, сэр, а не был ли это неравный брак в смысле разницы лет? — вопросила миссис Спарсит. — Слышите, о чем леди спрашивает? Ваш брак оказался неудачным из-за разницы лет? — повторил мистер Баундерби. — Зачем же? Мне был двадцать один год, ей шел двадцатый. — Вот как, сэр? — елейным тоном обратилась миссис Спарсит к своему принципалу. — А я было подумала, что этот несчастливый брак следствие неравенства в годах. Мистер Баундерби не очень милостиво и вместе с тем как-то неуверенно глянул на свою домоправительницу. Для бодрости духа он отхлебнул хересу. — Ну-с? Чего же вы замолчали? — нетерпеливо спросил он, поворотившись к Стивену Блекпулу. — Я пришел, сэр, спросить у вас совета, как мне избавиться от этой женщины. — Сосредоточенное лицо Стивена, по-прежнему выражавшее смесь недоумения и пытливости, при его последних словах еще более посуровело. Миссис Спарсит тихо ахнула, точно слова Стивена поразили ее в самое сердце. — Что такое? — сказал мистер Баундерби и, встав из-за стола, прислонился спиной к камину. — О чем вы говорите? Вы же взяли ее в жены на радость и горе…[32] — Я должен избавиться от нее. Сил моих больше нету. Я долго терпел, потому терпел, что одна женщина — второй такой на всем свете не сыщешь — жалела меня и утешала. Ежели бы не она, я наверняка рехнулся бы. — Боюсь, сэр, что он хочет разойтись с женой, чтобы жениться на женщине, о которой говорит, — вполголоса заметила миссис Спарсит, крайне удрученная столь явной безнравственностью простого народа. — Верно. Леди правду говорит. Это верно. Я так и хотел сказать. Я читал в газетах, что люди важные (бог с ними, я им зла не желаю!) не так уж крепко связаны на радость и горе, и в случае несчастливого брака им-то можно разойтись и опять жениться. Когда нет согласия, не сошлись характерами, — у них в домах имеются разные комнаты и можно жить поврозь. А у нашего брата одна только комната, и мы так не можем. А ежели и этого мало, то у них и добра и денег много, они скажут: «Это вот тебе, а это мне», и каждый пойдет своей дорогой. А мы так не можем. И расходятся-то они по сущим пустякам, ежели сравнить с моим горем. Нет, я должен избавиться от этой женщины, и я прошу вас научить меня, — как? — Никак, — отвечал мистер Баундерби. — Ежели я что над ней сделаю, сэр, есть такой закон, чтобы меня наказать? — Разумеется. — Ежели я сбегу от нее, — есть такой закон, чтобы меня наказать? — Разумеется. — Ежели я женюсь на другой, любимой женщине, есть такой закон, чтобы меня наказать? — Разумеется. — Ежели бы мы стали жить вместе не женатые, — хотя этого и быть бы не могло, такая она честная, — есть такой закон, чтобы наказать меня в каждом моем ни в чем не повинном младенце? — Разумеется. — Тогда, бога ради, назовите такой закон, который помог бы мне! — сказал Стивен Блекнул. — Гм! Это священные узы, — отвечал мистер Баундерби, — и… и… их надо охранять. — Только не так, сэр. Нисколько их это не охраняет. Наоборот. От этого они хуже рвутся. Я простой ткач, с детства работаю на фабрике, но я не слепой и не глухой. Я читаю в газетах, как людей судят, — да и вы наверняка тоже, — и просто страх берет, когда видишь, что из-за этой самой цепи, которую будто бы нельзя разорвать, ни за что и ни в коем случае, кровь льется по всей стране. Среди простого народа, между мужьями и женами, не то что до драки, а и до смертоубийства дело доходит. Это надо понимать. У меня большая беда, и я прошу вас назвать закон, который мне поможет. — Ну-с, вот что, — сказал мистер Баундерби, засовывая руки в карманы, — если хотите знать, есть такой закон. Стивен, по-прежнему не спуская глаз с лица Баундерби, одобрительно кивнул головой. — Но он вам не подойдет. Это денег стоит. Больших денег. — А сколько, к примеру? — спокойно осведомился Стивен. — Вам надо было бы поехать в Лондон и подать прошение в суд по семейным делам, подать прошение в гражданский суд, подать прошение в палату лордов[33] и добиться постановления парламента о том, что вам разрешается вторично вступить в брак, и обошлось бы это вам (ежели бы все шло гладко) не то в одну, не то в полторы тысячи фунтов. А может быть и вдвое больше. — Другого закона нет? — Нет. — Стало быть, сэр, — сказал Стивен, бледнея и безнадежно махнув рукой, словно говоря «пропадай все пропадом», — стало быть, верно, что все одна только морока. Всюду морока, и больше ничего, и чем скорее я помру, тем лучше. (Такой недостаток благочестия в народе опять сразил бедную миссис Спарсит.) — Ну, ну, не болтайте вздора, любезный, — возразил мистер Баундерби, — и особенно о том, в чем вы ничего не смыслите. И лучше не называйте наши отечественные учреждения морокой, не то вы сами чего доброго мороки не оберетесь. А наши отечественные учреждения — это вам не нитки сучить. Вы знайте свою работу, а остальное вас не касается. Вы брали жену не на время, не для обману, а на всю жизнь, на радость и горе. Вышло горе, а могла выйти радость, — и больше тут говорить не о чем. — Морока, — качая головой, повторил Стивен и повернулся к двери, — одна морока. — Ну-с, вот что! — начал мистер Баундерби, решив не отпускать Стивена без прощального напутствия. — Своими, я бы сказал, богохульными речами вы совсем расстроили эту леди, а я уже говорил вам, что она прирожденная леди, и сама она, хотя я этого не говорил вам, пострадала в замужестве на десятки тысяч фунтов — десятки ты-сяч фун-тов! (повторил он, смакуя каждый слог). — Ну-с, до сих пор вы всегда были человек положительный. Но сдается мне, прямо вам говорю, что вы не туда заворачиваете. Вы слушаете всяких зловредных чужаков, которые вечно здесь околачиваются, и мой вам совет, вы это бросьте. У меня, — тут он изобразил на своем лице необычайную проницательность, — у меня, знаете ли, нюх не хуже, чем у людей, а пожалуй, и получше, потому что меня с детства во все тыкали носом. И я чую, что это попахивает супом из черепахи, дичью и золотой ложечкой. Да, чую! — крикнул мистер Баундерби, упрямо мотая головой и всем своим видом показывая, что его, мол, не проведешь. — Чую, черт побери! Стивен тоже помотал головой, но совсем иначе, тяжело вздохнув, сказал: «Благодарю вас, сэр, будьте здоровы», — и вышел. Мистер Баундерби остался стоять перед своим портретом на стене и, любуясь им, так раздулся от чванства, что, казалось, вот-вот треснет и осколками засыплет свое изображение; а миссис Спарсит все так же трусила мелкой рысью, опершись ногой о стремя, донельзя удрученная испорченностью простого народа.
Глава XII
СтарушкаСтарый Стивен спустился по двум белым ступенькам, затворил черную дверь с медной доской, взявшись за медную точку и не преминув на прощанье потереть ее рукавом, так как заметил, что на ней остались следы его влажных пальцев. Он перешел через улицу, не подымая глаз, и погруженный в невеселые думы продолжал свой путь, как вдруг кто-то тронул его за локоть. Это было не то прикосновение, в котором он превыше всего нуждался в ту минуту, — прикосновение, способное утишить бурю, кипевшую в его душе, как простертая рука воплощенной любви и кротости усмирила бушующее море — однако, коснулась его все же женская рука. Женщина, остановившая Стивена, оказалась старушкой, с морщинистым, увядшим лицом, но довольно высокого роста и все еще статная. Одета она была очень просто и опрятно, но к башмакам пристала дорожная грязь, видимо она пришла пешком издалека. Ее растерянность в непривычном шуме городских улиц; теплая шаль, перекинутая через руку; громоздкий зонтик; корзиночка, перчатки не в пору и не обношенные, слишком широкие, с пустыми кончиками пальцев, — все изобличало старую крестьянку, которая, надев свой скромный праздничный наряд, отправилась в Кокстаун по какому-то чрезвычайному случаю. С присущей рабочему человеку сметливостью Стивен Блекнул сразу догадался об этом и чтобы лучше расслышать вопрос женщины, приблизил к ней свое лицо — сосредоточенное, как у многих его собратьев по ремеслу, у которых от долгой непрерывной работы глаз и рук под грохот машин лица приобретают то напряженное выражение, какое мы привыкли видеть на лицах глухих. — Извините, сэр, — сказала женщина, показывая пальцем на дом Баундерби, — вы вышли из дома того джентльмена? Как будто это были вы — я не обозналась? — Да, миссис, я вышел оттуда, — отвечал Стивен. — А вы… уж вы простите меня, старуху… видели джентльмена? — Да, миссис. — А как он вам показался, сэр? Что он — полный, здоровый, всем довольный? — Для наглядности она бодро выпрямилась и вскинула голову, и вдруг у Стивена мелькнула мысль, что он эту старую женщину где-то уже видел и она ему не очень понравилась. — Будьте покойны, — отвечал он, внимательно приглядываясь к ней, — таким он и был. — И веселый, — продолжала старушка, — как ясный день? — Да, — отвечал Стивен. — Он пил и ел в свое удовольствие. — Спасибо! — радостно сказала старушка. — Спасибо! Он, несомненно, никогда в жизни не видел эту женщину. И вместе с тем она вызывала в нем какое-то смутное воспоминание, словно ему не раз снилась старуха, похожая на нее. Она шла рядом с ним, и, чутко отзываясь на ее состояние духа, он заметил, что в Кокстауне очень много шума к толкотни, правда? На что она ответила: «Очень даже! Просто страх!» Потом он сказал, что она приехала из деревни, верно? На что она ответила утвердительно. — По железной дороге, парламентским[34], нынче утром. Сорок миль проехала в поезде нынче утром, нынче же проеду сорок миль обратно. А до станции пешком шла девять миль, и коли никто мне не попадется на дороге, кто бы подвез, опять девять миль пешком пройду нынче вечером. В мои-то годы, сэр, каково! — говорила словоохотливая старушка, торжествующе глядя на Стивена заблестевшими глазами. — Еще бы! Но часто вам этого делать нельзя, миссис. — Нет, нет. Только раз в году, — отвечала она, качая головой. — Целый год коплю денежки. Раз в году приезжаю, хожу по улицам и гляжу на господ. — Только глядите на них? — спросил Стивен. — Мне и этого довольно, — сказала она проникновенно. — Большего я не прошу! Я стояла напротив вон того дома, думала, увижу, как он выйдет, — она оглянулась через плечо на дом Баундерби. — Но в этом году он запоздал, и я его не видела. Вместо него вышли вы. Коли уж так суждено мне уехать, не взглянувши на него — я ведь только взглянуть хотела, — ну что же! Я видела вас, а вы видели его, с тем и останусь. — Она пристально посмотрела на Стивена, словно стараясь запечатлеть в памяти его черты, и глаза ее уже не блестели так радостно. Стивен подумал, что вкусы, конечно, бывают всякие, и такое смиренное почитание кокстаунских патрициев тоже можно понять, однако ему все же казалось странным, чтобы кто-нибудь тратил столько сил ради удовольствия взглянуть на них. Но в ту минуту они проходили мимо церкви, и Стивен, бросив взгляд на часы, ускорил шаг. Он спешит на работу? — спросила старушка, с легкостью тоже ускоряя шаг. Да, время почти истекло. Когда он сказал ей, где работает, женщина повела себя еще более странно. — Вы очень счастливы, да? — спросила она. — У всякого свои заботы, миссис. — Стивен отвечал уклончиво, — старушка, видимо, была твердо убеждена в том, что он чрезвычайно счастлив, и у него не хватило духу разочаровывать ее. Он хорошо знал, что на свете довольно горя, и если эта старая женщина, прожившая столь долгую жизнь, могла предположить, что оно миновало его, — тем лучше для нее, а его от этого не убудет. — Да, да, понимаю! Дома небось не все ладно? — сказала она. — Бывает кое-когда, — небрежно отвечал он. — Но на фабрике вы уже не помните о своих заботах? Вы ведь работаете на такого хозяина! Нет, нет, там он о них не помнит, заверил ее Стивен. Там все ладно. Без сучка и задоринки. (Стивен не зашел слишком далеко в своем желании потешить старушку и не сказал, что там действует нечто вроде божественного права, но мне в последние годы доводилось слышать и такие заявления.) Они уже подходили к фабрике, по черному проулку, вместе с толпой возвращающихся после перерыва рабочих. Звонил колокол, змий свивался кольцами, Слон готов был приступить к делу. Удивительная старушка даже от колокола пришла в восторг. Она сказала, что в жизни не слышала такого чудесного колокола, до чего же хорош звон! Когда он остановился и с доброй улыбкой протянул ей на прощание руку, она спросила, давно ли он здесь работает? — Лет двенадцать, — отвечал он. — Дайте я поцелую руку, — сказала она, — которая проработала двенадцать лет на этой чудесной фабрике! Прежде чем он успел удержать ее, она схватила его руку и прижала к губам. Он не понимал, что в этой женщине, помимо старости и детской простоты, создавало впечатление цельности и душевной гармонии, но даже ее более чем странный поступок не показался ему неуместным или нелепым, он только чувствовал, что никто другой не сделал бы это так проникновенно, естественно и трогательно. Он уже с добрых полчаса работал на своем станке, раздумывая о непонятной старушке, когда ему понадобилось обойти его кругом, и, случайно бросив взгляд в окно, он увидел, что она все еще стоит на улице, самозабвенно созерцая фабричное здание. Невзирая на дым, грязь, сырость, на долгий проделанный путь и предстоящее обратное путешествие, она с таким восхищением глядела на многоэтажные корпуса, словно нестройный шум, доносившийся оттуда, звучал для нее сладчайшей музыкой. Потом она ушла, и день ушел вслед за ней, и опять зажглись огни и курьерский поезд промчался по железнодорожному мосту мимо сказочных дворцов — едва замеченный в цехах среди сотрясающихся машин, едва услышанный в грохоте и стуке шестерен. Задолго до этого мысли Стивена снова обратились к страшной комнате над лавкой, где потерявшее человеческий образ существо тяжело лежало на кровати, но еще большей тяжестью лежало у него на сердце. Машины замедлили ход, едва уловимая дрожь, будто биение замирающего пульса, прошла по ним; остановились. Снова колокол; погасли яркие огни и пышущие жаром горны; фабричные корпуса громоздились в сыром вечернем мраке, вздымая к небу свои высокие трубы, словно соперничающие между собой Вавилонские башни[35]. Он, правда, только вчера виделся с Рейчел и вместе с ней прошел немного по дороге домой; но с тех пор его постигло новое несчастье, и никто, кроме Рейчел, не мог бы, хоть на краткий миг, облегчить его горе; зная это и зная, что только звук ее голоса способен утишить закипавший в нем гнев, он решил, вопреки ее вчерашним словам, опять подождать ее. Он ждал, но она уклонилась от встречи с ним. Он так и не дождался ее. А в какой другой вечер так страстно желал он увидеть ее кроткое лицо! Лучше быть бездомным и не иметь где приклонить голову, чем иметь дом и страшиться войти в него. Он где-то поужинал, потому что сильно проголодался, но не замечая и не помня, что ест и что пьет; потом бродил под моросящим дождем, и все думал и думал, терзаясь мрачными мыслями. Ни единого слова о новом браке никогда не было сказано между ними; но много лет тому назад Рейчел выказала ему глубокое участие, и все минувшие годы он ей одной изливал душу, сетуя на свою злосчастную судьбу; и он очень хорошо знал, что, будь он свободен, она пошла бы за него. Он думал о доме, который мог быть у него и куда он в эту самую минуту спешил бы с отрадой и гордостью; о себе, о том, что в этот вечер он был бы совсем другим человеком, о том, что на сердце у него было бы легко, не давила бы, как сейчас, свинцовая тяжесть; о том, что честь его, достоинство, спокойствие духа — все, что теперь пошло прахом, было бы вновь обретено. Он думал о загубленной лучшей поре своей жизни, о том, что ото дня ко дню он становится хуже, озлобленнее, о страшном существовании, на которое он обречен, связанный по рукам и ногам, прикованный к живому трупу, терзаемый злым демоном в обличье пропойцы жены. Он думал о Рейчел, — такой юной, когда они впервые встретились, — о том, что теперь она зрелая женщина и старость для нее уже не за горами. Сколько девушек и молодых женщин на ее глазах вышли замуж, сколько вокруг нее возникло семейных очагов, — и год за годом она стойко шла своей тихой одинокой тропой — ради него, и лишь изредка он видел легкую тень печали на ее милом лице, и тогда сердце у него разрывалось от жалости и раскаяния. Он мысленно ставил ее образ рядом с гнусным видением прошлой ночи и думал — возможно ли, чтобы весь земной путь столь доброго, чистого, самоотверженного создания был омрачен такой жалкой тварью! Переполненный этими мыслями — до такой степени переполненный, что ему казалось, будто он сделался больше, будто все предметы, мимо которых он проходил, приобрели какие-то новые, искаженные очертания, а радужные кружки вокруг тусклых фонарей стали красными, — он, наконец, воротился домой.
Глава XIII
РейчелПламя свечи тускло мерцало в окне, откуда столь часто по приставленной черной лестнице навеки ускользал из жизни тот, кто был дороже всех на свете для измученной жены и голодных детей; и к другим думам Стивена прибавилась еще гневная мысль о том, что из всех несчастий земного существования наименее справедливо люди оделяются смертью. Неравенство рождения ничто перед этим. Пусть этой ночью в одно и то же мгновение родится сын короля и сын ткача — что эта прихоть судьбы рядом со смертью любого человека, кто был опорой, счастьем ближнего своего, между тем как эта погибшая женщина продолжает жить! Он поднялся к себе, затаив дыхание, медля на каждом шагу. Подойдя к своей двери, он отворил ее и вошел в комнату. Мир и тишина царили здесь. У изголовья кровати сидела Рейчел. Она поворотилась к нему, и сияние ее глаз озарило кромешный мрак его души. Она сидела подле кровати и ухаживала за его женой. Вернее — он угадывал, что кто-то лежит там, и слишком хорошо знал, что это она; но Рейчел занавесила кровать, и он не видел жену. Ее грязные лохмотья исчезли, и в комнате появилось кое-что из одежды Рейчел. Каждая вещь, как всегда у него, лежала на своем месте, повсюду было прибрано, неяркий огонь подправлен, очаг чисто выметен. Ему казалось, что все это он прочел на лице Рейчел и что он смотрел только на нее. Глаза его наполнились слезами, мешая ему видеть ее, но он успел заметить устремленный на него внимательный взгляд и слезы, выступившие и на ее глазах. Она опять поворотилась к постели и, убедившись, что там все спокойно, заговорила тихим и ровным голосом: — Хорошо, что ты, наконец, пришел, Стивен. Уже очень поздно. — Я ходил по улицам. — Так я и думала. Только ночь-то какая. Дождь льет, и ветер задувает. Ветер? А ведь правда. И сильный ветер. Как он громко воет в трубе, как ревет за окном. Шататься по улицам на таком ветру, и даже не заметить его! — Я уже побывала здесь нынче, Стивен. Хозяйка приходила за мной в обед. Сказала, тут одна расхворалась, надо присмотреть за ней. И верно сказала, Стивен. Без памяти была, бредила. Да и вся разбитая, пораненная. Он медленно подошел к стулу и сел напротив нее, опустив голову.

— Я пришла помочь ей чем могу. Потому пришла, что мы вместе с ней работали, когда обе были молоды, и потому, что когда ты полюбил ее и взял за себя, мы с ней дружили… Он с подавленным стоном прижал руку к изборожденному морщинами лбу. — И еще потому, что я знаю твое сердце, знаю, что оно жалостливое и не можешь ты дать ей умереть, или хотя бы мучиться без помощи. Ты знаешь, кем сказано: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».[36] И многие, очень многие бросают. Но только не ты, Стивен. Ты не бросишь в нее камень, когда она такая несчастная. — Ах, Рейчел, Рейчел! — Ты тяжелый крест несешь, воздай тебе за это господь! — участливо сказала Рейчел. — А я твой бедный друг всем сердцем и всей душой. Раны, о которых говорила Рейчел, видимо, были на шее у злополучной, погубившей себя женщины. Рейчел стала перевязывать их, по-прежнему скрывая больную от Стивена. Она смачивала белую тряпку в тазике, куда наливала какую-то жидкость из склянки, и осторожно прикладывала ее к ссадинам. Круглый столик был пододвинут к кровати, и на нем стояли две склянки. У Рейчел в руках была одна из них. Стивен не отрывал глаз от рук Рейчел, но если бы он сидел подальше, он, быть может, не разобрал бы, что было начертано крупными печатными буквами на ярлыке. Он побледнел как смерть, точно им внезапно овладел невыразимый ужас. — Я побуду здесь, Стивен, — сказала Рейчел, тихо садясь на прежнее место, — пока не пробьет три часа. В три часа опять сделаю примочку, а потом ее можно оставить до утра. — Дорогая, ведь тебе завтра на работу. — Я хорошо выспалась прошлой ночью. Я могу много ночей не спать, коли нужно. Вот тебе надо отдохнуть, ты такой бледный, измученный. Ты поспи немного, а я посторожу. Небось прошлую ночь совсем не спал. Тебе завтра куда труднее будет на работе, чем мне. Он слышал неистовое завывание ветра, доносившееся снаружи, и ему чудилось, что дух возмущения и гнева, недавно владевший им, кружит у дверей, пытаясь добраться до него: это Рейчел изгнала дурные мысли; она не даст им войти; он знал, что она сумеет оградить его от него самого. — Она меня не узнает, Стивен. Смотрит, будто не видит, и бормочет что-то в бреду. Я заговаривала с ней, сколько раз принималась, а она и не слышит! Но это к лучшему. Когда она опомнится, мое дело будет сделано, а она ничего и не приметит. — А сколько, надо думать, она так пролежит? — Доктор сказал, может быть, завтра очнется. Взгляд его снова упал на склянку, и дрожь прошла по всему телу, как от озноба. Рейчел сказала, что его, видно, прохватило сыростью. Нет, отвечал он, не то. Это с испугу. — С испугу? — Да, да! Когда я вошел. И когда ходил по улицам. И когда думал. И когда… — Его опять начало трясти; он встал, держась за полку над очагом, и провел по влажным волосам дрожащими, как у паралитика, пальцами. — Стивен! Она хотела подойти к нему, но он остановил ее движением руки. — Нет! Не надо, не вставай. Я хочу видеть, как ты сидишь у постели. Я хочу видеть твою доброту и милосердие. Я хочу видеть тебя такой, какой увидел, когда вошел. Такой ты останешься для меня навсегда. Навсегда! Весь дрожа, словно его била лихорадка, он упал на стул. Немного погодя он справился с собой и, облокотившись на одно колено, подперев голову рукой, посмотрел на Рейчел. Свеча горела тускло, он глядел сквозь слезы, застилавшие глаза, и ему чудилось сияние нимба вокруг ее головы. Он почти верил, что видит это воочию. И чем сильнее бушевала непогода, стучась в окно, сотрясая входную дверь, оглашая весь дом криками и стонами, тем крепче становилась его вера. — Когда она поправится, Стивен, скорей всего, она опять уйдет и не станет тебя тревожить. Будем надеяться на это. А теперь я помолчу, а ты усни. Он закрыл глаза, не столько потому, что хотел, наконец, дать себе отдых, сколько ради спокойствия Рейчел. Но мало-помалу вой ветра за окном стал глуше, потом превратился в стук его ткацкого станка и даже в шум голосов, слышанных днем (включая и его собственный) и повторяющих то, что было сказано наяву. А потом и это полузабытье кончилось, и ему привиделся долгий, путаный сон. Ему снилось, что он и еще кто-то, кому он давно отдал свое сердце — но это была не Рейчел, что очень удивляло его, несмотря на владевшую им радость, — венчаются в церкви. Среди зрителей он узнавал немногих, о ком знал, что они живы, и многих, о ком знал, что они умерли; внезапно наступил полный мрак, прервавший совершение обряда, затем вспыхнул ослепительный свет. Он исходил от одной из десяти заповедей[37], начертанных на доске над аналоем, и слова этой заповеди озаряли всю церковь. Они и звучали под сводами, как будто огненные письмена обрели голос. Но вот все вокруг него изменилось, не осталось никого и ничего — только он сам и священник. Они стояли в ярком свете дня перед огромной толпой, столь огромной, словно сюда стеклись люди всего мира; и все они гнушались им, и ни в одном из миллионов устремленных на него взоров он не прочел дружественного участия или жалости. Он стоял на высоком помосте под своим ткацким станком; взглянув вверх, он увидел, чем обернулся станок, услышал, как читают отходную, и понял, что осужден на казнь. Спустя мгновение то, на чем он стоял, ушло из-под его ног, и все было кончено. Какими таинственными путями он возвратился к своей привычной жизни и знакомым местам, он не в силах был рассудить; но так или иначе он снова очутился на старом месте и над ним тяготел приговор — никогда, ни в этой жизни, ни в грядущей, во все неисчислимые столетия вечности не видеть лица Рейчел, не слышать ее голоса. Он бродил уныло, без устали, ни на что не надеясь, и все искал, не зная, что он ищет (он знал только, что обречен искать), и ни на один миг его не отпускал владевший им невыразимый ужас, смертельный страх перед предметом, форму которого принимало все вокруг. На что бы он ни поглядел, — рано или поздно глаза его узнавали то, чего он страшился. Его жалкое существование имело одну-единственную цель — не допустить, чтобы кто-нибудь из людей, с которыми он сталкивался, разгадал зловещее видение. Тщетные усилия! Если он выводил их из комнаты, где оно находилось, запирал шкафы и чуланы, где оно стояло, отгонял любопытных от тайников, где оно было спрятано, и выпроваживал их на улицу, — тогда каждая фабричная труба принимала те же страшные очертания, и вокруг нее вилось предостерегающее слово. Снова завывал ветер, дождь барабанил по крыше, и бескрайнее пространство, в котором он только что блуждал, сузилось и снова было ограничено четырьмя стенами его комнаты. Ничто не изменилось с тех пор, как он сомкнул глаза, только в очаге погас огонь. Рейчел все так же сидела у изголовья кровати и, видимо, задремала. Завернувшись в платок, она сидела тихо, не шевелясь. Столик стоял на прежнем месте, у самой постели, и на нем, снова обретя обычный вид и обычный размер, стояло то, что преследовало его во сне. Ему почудилось, что занавеска колыхнулась. Он глянул еще раз и увидел, что не ошибся. Показалась рука, пошарила вокруг. Занавеска колыхнулась сильнее, лежащая на кровати женщина отодвинула ее и села в постели. Тяжелым, лихорадочным взглядом широко раскрытых воспаленных глаз она угрюмо обводила комнату. Миновав угол, где стоял его стул, она снова обратила взор в ту сторону и стала напряженно всматриваться, заслонившись рукой от света. Потом опять стала оглядывать комнату, едва замечая Рейчел, а вернее, не видя ее вовсе, и опять уставилась в угол, где он сидел. Когда она опять заслонилась рукой — не то вглядываясь в него, не то ища его глазами, словно какой-то темный инстинкт подсказывал ей, что он здесь, — он подумал, что ни в этих обезображенных чертах, ни в столь же обезображенной пороком душе и следа не осталось от той женщины, на которой он женился восемнадцать лет назад. Если бы он не видел сам, как она шаг за шагом опускалась все ниже, он ни за что бы не поверил, что это она. И все это время он сидел точно заговоренный, не в силах шелохнуться, и только неотступно следил за ней. Теперь она, сжав руками виски, тупо глядела перед собой, то ли в полусне, то ли тщетно пытаясь собраться с мыслями. Потом опять стала шарить глазами по комнате. И тут впервые взгляд ее уперся в круглый столик и стоявшие на нем склянки. Она быстро, со злобой и вызовом, как и накануне, глянула в его сторону и осторожно, крадучись протянула руку. Нащупав кружку, она взяла ее в постель и с минуту раздумывала, какую из склянок выбрать. Наконец, не чуя опасности, она жадно схватила ту, которая сулила скорую и верную смерть, и зубами вытащила пробку. Сон ли то был, или явь — он не мог шевельнуться, не мог слова вымолвить. Если это явь и ее урочный час еще не настал, проснись, Рейчел, проснись! Она тоже подумала о Рейчел. Покосившись на нее, она очень медленно, очень осторожно наполнила кружку. Поднесла к губам. Миг один — и уже ничто не спасет ее, хотя бы весь мир проснулся и бросился ей на помощь! Но в это самое мгновение Рейчел, тихо вскрикнув, вскочила со стула. Пьянчуга сопротивлялась, ударила ее, вцепилась в волосы, но Рейчел отняла кружку. Стивен сорвался со стула. — Рейчел, во сне это или наяву? Какая страшная ночь! — Все хорошо, Стивен. Я тоже уснула. Скоро три часа. Слышишь? Ветер доносил бой церковных часов до самого окна. Они прислушались — пробило три. Стивен поглядел на Рейчел, увидел ее бледность, растрепанные волосы, багровые отпечатки пальцев на лбу и понял, что зрение и слух не обманули его. Она и кружку еще держала в руках. — Я так и знала, что уже около трех, — сказала она и, спокойно вылив содержимое кружки в тазик, смочила тряпку, как и в прошлый раз. — Я рада, что осталась. Сейчас я перевяжу ее, и дело будет сделано. Вот! Она уже утихла. А что осталось в тазике, я лучше вылью, хоть тут одна капля только, а все-таки долго ли до греха. — И она выплеснула жидкость в золу, а склянку разбила о решетку очага. Покончив с этим, она накинула платок, готовясь выйти на дождь и ветер. — Позволь мне проводить тебя, Рейчел. Ведь ночь на дворе. — Не надо, Стивен. Одна минута, и я уже дома. — А ты не боишься, — сказал он вполголоса, выйдя с Рейчел на лестницу, — оставлять меня наедине с ней? Когда она, удивленно посмотрев на него, спросила: «Что ты, Стивен?» — он преклонил перед ней колени на убогой ветхой лестнице и прижал к губам край ее платка. — Ты ангел. Благослови тебя бог! — Я уже сказала тебе, Стивен, что я только твой бедный друг. Ангелы не такие. Между ними и грешной работницей глубокая пропасть. Моя сестричка среди них, но она преображенная. Она подняла глаза к небу, потом опять посмотрела ему в лицо своим кротким, сострадательным взглядом. — Ты преображаешь меня, из дурного делаешь хорошим. Я знаю, что нестою тебя, но я всем сердцем хочу быть хоть немного таким, как ты, чтобы не потерять тебя, когда окончится эта жизнь и вся морока рассеется. Ты ангел! Кто знает, не спасла ли ты нынешней ночью мою душу живую! Она взглянула на него — он все еще стоял на коленях перед ней, держась за край ее платка, — и слова укоризны замерли у нее на устах, когда она увидела его исказившееся лицо. — Я пришел домой в отчаянии. Я пришел домой, ни на что уже не надеясь, не помня себя от злости, потому что стоило мне рот открыть, чтобы пожаловаться на свою судьбу, как меня тут же назвали смутьяном. Я говорил тебе, что я очень испугался. Меня испугала склянка на столе. Я в жизни своей и мухи не обидел, но когда я увидел так вдруг эту склянку с ядом, я подумал: «Могу я поручиться, что не сделаю чего над собой, или над ней, или и над ней и над собой?» Ужас изобразился на ее лице, и она обеими руками зажала ему рот, чтобы заставить его замолчать. Он схватил ее руки свободной рукой и, не выпуская край ее платка, продолжал торопливо: — Но ты, Рейчел, сидела у ее постели. Я увидел тебя. Я видел тебя всю ночь. В моем тревожном сне я и то знал, что ты здесь. Впредь я всегда буду видеть тебя на том месте. Каждый раз, как я увижу ее или подумаю о ней, — всегда ты будешь подле нее. И что бы я ни увидел, о чем бы ни подумал, от чего во мне злость подымается, ты будешь подле, и злость моя пройдет, потому что ты во сто крат лучше меня. И так я буду ждать, так буду надеяться на то время, когда мы, наконец, вместе уйдем далеко, далеко, по ту сторону глубокой пропасти, туда, где твоя сестричка. Он еще раз поцеловал край ее платка и отпустил ее. Она дрожащим голосом простилась с ним и вышла на улицу. Ветер дул с той стороны, откуда уже недолго было ждать рассвета, дул, не утихая. Тучи излились дождем или унеслись далеко, небо расчистилось, и звезды ярко сверкали. Он стоял на улице с обнаженной головой, глядя ей вслед. Как сияние звезд затмевало тусклый пламень свечи в окне, так образ Рейчел в безыскусственном воображении Стивена Блекпула затмевал все житейские дела и заботы.
Глава XIV
Великий фабрикантВремя работало в Кокстауне — как кокстаунские машины: столько-то выделано тканья, столько-то потреблено топлива, столько-то израсходовано лошадиных сил, столько-то выручено денег. Но менее беспощадное, чем железо, сталь и медь, оно вносило перемены даже в эту продымленную каменную пустыню, и только оно одно противилось ее гнетущему однообразию. — Луиза, — сказал мистер Грэдграйнд, — уже почти взрослая девица. Время, работая во всю мощь своих неисчислимых лошадиных сил, не прислушиваясь ни к чьим словам, вскоре показало мистеру Грэдграйнду, что Томас вырос на целый фут с того дня, когда он в последний раз удосужился взглянуть на сына повнимательней. — Томас, — сказал мистер Грэдграйнд, — уже почти взрослый юноша. Время еще немного обработало Томаса на своих машинах, и не успел его отец опомниться, как сын предстал перед ним во фраке и крахмальной манишке. — Я считаю, — сказал мистер Грэдграйнд, — что Томасу пора перебираться к Баундерби. Время, не выпуская Томаса из рук, определило его в банкирскую контору Баундерби, сделало его домочадцем Баундерби, привело к покупке первой бритвы и старательно изощрило его дар расчетливости. Тот же великий фабрикант, чья фабрика постоянно загружена несметным множеством самых разнообразных изделий, на всех ступенях производства, пропустил и Сесси через свои машины и изготовил — что и говорить — весьма привлекательную вещицу. — Я полагаю, Джуп, — сказал мистер Грэдграйнд, — что продолжение твоих занятий в школе будет бесполезно. — Боюсь, что так, — приседая, отвечала Сесси. — Не стану скрывать от тебя, Джуп, — сказал мистер Грэдграйнд, насупив брови, — что итог твоего обучения в школе разочаровал меня, глубоко разочаровал. Ты не переняла у мистера и миссис Чадомор и сотой доли тех точных знаний, которые, по моим расчетам, ты должна была приобрести. Твой запас фактов весьма скуден. Твое знакомство с цифрами крайне ограниченно. Ты отстала в своем развитии, и успехи твои — ниже среднего. — Мне очень жаль, сэр, — сказала Сесси, — но это сущая правда. А ведь я очень старалась, сэр. — Да. — отвечал мистер Грэдграйнд, — мне кажется, ты очень старалась. Я наблюдал тебя, и с этой стороны ни в чем тебя упрекнуть не могу. — Благодарю вас, сэр. Мне иногда думалось — может быть, я чересчур стараюсь, и если бы я попросила позволения немножко меньше стараться, то, кто знает… — Нет, Джуп, нет, — возразил мистер Грэдграйнд, глубокомысленно и в высшей степени практически качая головой. — Нет. Тебя учили согласно системе — понимаешь, системе, — и этим все сказано. Остается только предположить, что обстоятельства, в которых протекало твое раннее детство, были слишком неблагоприятны для развития твоих умственных способностей, и что мы начали слишком поздно. Однако, повторяю, я сильно разочарован. — Мне очень грустно, сэр, что я не сумела лучше отблагодарить вас за вашу доброту. Вы взяли на себя заботу о бедной одинокой девочке, которая была вам совсем чужая и не имела никакого права на ваше попечение… — Не надо плакать, — сказал мистер Грэдграйнд. — Не надо. Я тебя не браню. Ты добрая, скромная, благонравная девушка… и… удовлетворимся этим. — Благодарю вас, сэр, от души, — сказала Сесси, низко приседая. — Ты приносишь пользу миссис Грэдграйнд и в известном смысле вообще полезна всему нашему семейству. Так я заключаю из слов мисс Луизы, да и сам я не раз убеждался в этом. Посему я надеюсь, — сказал мистер Грэдграинд, — что ты будешь вполне довольна своей жизнью среди нас. — Я была бы совершенно счастлива, сэр, если бы только… — Понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал мистер Грэдграинд. — Ты все еще думаешь о своем отце. Я слышал от мисс Луизы, что ты до сих пор хранишь ту бутылку с примочкой. Ну что ж! Ежели бы ты более успешно занималась наукой, помогающей приходить к точным выводам, ты бы в этом пункте проявила больше благоразумия. Вот все, что я могу сказать. Он так низко ставил умение Сесси разбираться в цифрах, что, в сущности, должен бы просто-напросто презирать ее; однако для этого он слишком сильно привязался к ней. Мало-помалу он проникся мыслью, что в этой девочке кроется нечто такое, что нелегко объяснить с помощью таблиц. Пусть ее способность давать точные определения минимальна, ее познания в математике равны нулю; но он далеко не был убежден, что если бы ему потребовалось включить ее в парламентский отчет, он знал бы наверняка, по каким графам ее разнести. Бывает пора, когда обработка человеческого материала на машинах Времени идет ускоренным ходом. Юный Томас и Сесси были именно в такой поре, и потому выделка их совершилась года за два; между тем мистер Грэдграйнд, казалось, застыл на месте, и никаких перемен в нем не наблюдалось. Кроме, впрочем, одной, — но эта перемена произошла помимо его неотвратимого прохождения через машины Времени. На сей раз оно сунуло его в маленький, трескучий и довольно грязный механизм, приткнутый в глухом углу, в итоге чего получился член парламента от Кокстауна, пополнивший собой ряды уважаемых членов — представителей таблицы умножения, великих мастеров по части крохоборства, достопочтенных глухих джентльменов, слепых джентльменов, безгласных, безруких и бесчувственных ко всему, что не подсчитано и не взвешено на аптекарских весах. Недаром же мы живем в христианской стране, через тысячу восемьсот с лишним лет после нашего Учителя! Минувшие годы изменили и Луизу, но она росла такая молчаливая и замкнутая, так тихо в сумерках сидела у камина, глядя, как падают и гаснут тлеющие угольки, что ее отец, который не бросил лишнего взгляда в ее сторону с той поры — казалось, это произошло только вчера, — когда он сказал: «Луиза уже почти взрослая девица», был весьма удивлен, увидев перед собой девицу совсем взрослую. — Совсем взрослая девица, — озабоченно сказал мистер Грэдграйнд. — Ай-ай-ай! Сделав это открытие, он несколько дней ходил еще более сосредоточенный, чем обычно, явно обдумывая какое-то важное решение. Наконец, однажды вечером, когда Луиза пришла пожелать ему доброй ночи, так как он уходил из дому с тем, чтобы воротиться поздно, — и следовательно, они расставались до утра, — он обнял ее, ласково посмотрел ей в лицо и сказал: — Дорогая моя Луиза, ты совсем взрослая! Она ответила ему быстрым, пытливым взглядом, как в тот давний вечер, когда он застал ее у цирка; и тотчас потупилась. — Да, отец. — Дорогая, — продолжал мистер Грэдграинд, — мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз об очень важном деле. Приходи в мой кабинет завтра утром после завтрака — хорошо? — Да, отец. — Почему у тебя такие холодные руки, Луиза? Тебе нездоровится? — Я здорова, отец. — И весела? Она опять взглянула на него и улыбнулась своей сдержанной улыбкой. — Я такая же веселая, отец, какой бываю всегда, вернее, была до сих пор. — Вот и отлично, — сказал мистер Грэдграйнд. — Он поцеловал ее и ушел; а Луиза возвратилась в тихую комнату, похожую на цирюльню, и, подперев голову рукой, опять стала глядеть на скоротечные искры, столь быстро обращавшиеся в пепел. — Ты здесь, Лу? — окликнул ее Том, просунув голову в приоткрытую дверь, и вошел в комнату. Теперь это был законченный повеса, из самых настоящих, но далеко не из самых приятных. — Том, милый, — оказала Луиза, поднимаясь с места и обнимая брата, — как долго ты не приходил навестить меня! — Да вот, понимаешь ли, все вечера заняты. А днем старик Баундерби вздохнуть не дает. Но когда он уж очень разойдется, я умею образумить его, напомнив о тебе, и мы неплохо ладим. Скажи, Лу, отец ничего такого тебе не говорил сегодня или вчера? — Пока нет, Том. Но он только что предупредил меня, что хочет поговорить со мной завтра утром. — Ага! Так я и думал, — сказал Том. — Ты знаешь, где он сейчас? — спросил он тоном заговорщика. — Нет. — Так я тебе скажу. Он сидит со стариком Баундерби. Совещаются, и знаешь где? В банке. А почему в банке, как по-твоему? И это я тебе скажу. Чтобы уши миссис Спарсит были подальше. Положив руку на плечо брата, Луиза все еще смотрела в огонь. Томас взглянул ей в лицо с большим вниманием, чем обычно, и, обняв ее одной рукой, ласкательно привлек к себе. — Ты меня очень любишь, Лу? — Очень, хоть ты и слишком редко навещаешь меня. — Ну вот, дорогая сестрица, мысли наши сходятся. Мы ведь могли бы гораздо чаще видеться, правда? Почти что не расставаться, правда? Если бы ты решилась на… уж я знаю, на что, — для меня это было бы просто чудесно. Лучшего и желать нельзя. То-то зажили бы! Не зная, как истолковать ее задумчивое молчание, он глядел на нее хитрым, испытующим взглядом; но ничего не мог прочесть на ее лице. Тогда он крепко обнял сестру и поцеловал ее в щеку. Она ответила на его поцелуй, по-прежнему не сводя глаз с огня. — Ну так, Лу! Я только забежал сообщить тебе, что происходит; хоть я и думал, что ты уже знаешь, а если нет, то догадалась. А теперь мне пора, меня ждут к одной компании. Ты не забудешь, что очень любишь меня? — Нет, Том, не забуду. — Ты у меня умница, — сказал Том. — Прощай, Лу. Она сердечно простилась с ним и проводила его на крыльцо, откуда видны были бледные отсветы далеких огней Кокстауна. Устремив взор в ту сторону, она прислушивалась к удаляющимся шагам брата. Шаги были частые, быстрые — казалось, они радовались тому, что уходят прочь от Каменного Приюта; и еще долго после того, как Том ушел, она стояла неподвижно среди наступившей тишины. Словно она не только в огне камина внутри дома, но и в огнистой мгле вне его стен пыталась разглядеть, какой добротности тканье изготовит величайший и древнейший мастер — седое Время — из кудели, уже спряденной им в женщину. Но ткальня его — потаенное место, работа ее не слышна, а рабочие руки безгласны.
Глава XV
Отец и дочьСам мистер Грэдграйнд ничем не походил на Синюю бороду, однако кабинет его с полным основанием можно было назвать синей комнатой, ввиду обилия в нем Синих книг. Что бы им ни надлежало доказать (а доказать они, как правило, могут, что угодно), доказывала здесь вся многотомная армия их, неуклонно пополняемая новобранцами. В этом заколдованном покое самые сложные социальные вопросы вычислялись, подытоживались и благополучно улаживались, — но, к сожалению, те, кого они касались, лишены были возможности узнать об этом. Подобно астроному, который сидел бы в обсерватории без окон и устроил звездную вселенную единственно при помощи пера, чернил и бумаги, мистер Грэдграйнд в своей обсерватории (а таких очень много) мог не приглядываться к мириадам человеческих существ, кишевших вокруг него, а потому вершил их судьбы на грифельной доске, утирая им слезы грязным огрызком губки. В эту-то обсерваторию — мрачноватую комнату, украшенную убийственно точными часами, которые каждую отмеренную секунду сопровождали зловещим стуком, словно приколачивали крышку гроба, — и пришла на другое утро Луиза. Одно из окон выходило на Кокстаун; и когда она села подле письменного стола мистера Грэдграйнда, взору ее открылись высокие трубы и длинные спирали дыма, угрюмо поднимавшиеся вдали. — Дорогая Луиза, — начал ее отец, — я вчера вечером предупредил тебя о предстоящем серьезном разговоре между нами и просил тебя отнестись внимательно к тому, что я имею сказать тебе. Ты получила столь образцовое воспитание и — я счастлив, что могу засвидетельствовать это, — так блестяще оправдала мои надежды, что я вполне полагаюсь на твой здравый смысл. Ты не мечтательница, не горячая голова; ты привыкла судить обо всем трезво, бесстрастно, руководствуясь разумом и расчетом. И я знаю, что именно так ты взглянешь на то, что я намерен сообщить тебе. Он помолчал, словно надеясь услышать что-нибудь в ответ. Но Луиза не проронила ни слова. — Луиза, дорогая моя, у меня просят твоей руки. Опять он помолчал, и опять она не сказала ни слова. Это так удивило его, что он счел нужным повторить: «Просят твоей руки, дорогая». На что она отвечала, видимо, без малейшего волнения: — Я слышу, отец. Я очень внимательно слушаю, уверяю вас. — Отлично! — Мистер Грэдграйнд, успокоенный, одобрительно улыбнулся. — Ты даже более рассудительна, чем я ожидал, Луиза. Или, быть может, ты уже приуготовлена к тому, что мне поручено объявить тебе? — Не могу ответить вам, отец, пока не узнаю, о чем идет речь. Но приуготовлена или нет, я хочу все услышать из ваших уст.

Странное дело — мистер Грэдграйнд в эту минуту далеко не был так невозмутимо спокоен, как его дочь. Он взял в руки разрезальный нож, повертел его, положил обратно, опять взял в руки и даже, прищурив один глаз, посмотрел вдоль лезвия, обдумывая, что сказать. — Твои слова, дорогая Луиза, вполне разумны. Так вот, я согласился уведомить тебя о том, что… короче говоря, мистер Баундерби сообщил мне, что он много лет с особенным интересом и радостью следил за твоим развитием и много лет питал надежду, что, наконец, наступит час, когда он сделает тебе предложение. Этот час, которого он так долго и с таким упорным постоянством дожидался, теперь настал. Мистер Баундерби через меня просит твоей руки и поручил мне поставить тебя об этом в известность и выразить от его имени надежду, что ты отнесешься к его просьбе благосклонно. Молчание. Глухое тиканье убийственно точных часов. Черный, густой дым вдалеке. — Отец, — сказала Луиза, — вы думаете, что я люблю мистера Баундерби? Этот неожиданный вопрос крайне расстроил мистера Грэдграйнда. — Дитя мое, — отвечал он, — я… право же… не берусь судить об этом. — Отец, — продолжала Луиза все тем же ровным, невозмутимым тоном, — вы требуете, чтобы я любила мистера Баундерби? — Нет, дорогая моя, нет. Я ничего не требую. — Отец, — так же спокойно продолжала она, — мистер Баундерби требует, чтобы я любила его? — Право же, дорогая, очень трудно ответить на твой вопрос… — Трудно ответить «да» или «нет», отец? — Разумеется, дорогая. Ибо, — тут можно было пуститься в теоретические выкладки, и мистер Грэдграйнд воспрянул духом, — ибо ответ в данном случае существенно зависит от того, какое значение мы вкладываем в это слово. Мистер Баундерби вполне отдает справедливость тебе, равно как и себе самому, и поэтому всякие притязания на какие-либо фантазии, химеры или романтические бредни (все это синонимы) исключаются. Недаром ты росла на глазах у мистера Баундерби. Он слишком уважает твой здравый смысл, не говоря уже о собственном, чтобы ему пришло в голову обращаться к тебе с подобными причудами. Посему, само по себе это слово — я, дорогая, только высказываю свое мнение, — быть может, не вполне уместно. — Каким словом вы советуете заменить его, отец? — Дорогая Луиза, — отвечал мистер Грэдграйнд, окончательно оправившись от овладевшего им было смущения, — я бы советовал тебе (поскольку ты об этом просишь) рассмотреть этот вопрос в точности так же, как ты привыкла рассматривать любой другой вопрос, а именно — обратиться к фактам. Люди невежественные и взбалмошные склонны усложнять такого рода случаи разными не относящимися к делу фантазиями и другими нелепостями, кои, ежели разобраться, вообще не существуют в природе; мне незачем говорить тебе, что ты на это не способна. Каковы же в данном случае факты? Тебе, круглым счетом, двадцать лет; мистеру Баундерби, круглым счетом, пятьдесят. Следовательно, имеется некоторое несоответствие возрастов; что касается средств и положения, то тут не только нет несоответствия, а напротив, налицо полное отсутствие такового. Отсюда вытекает вопрос: может ли сие одно несоответствие служить препятствием к вступлению в подобный брак? Разбирая этот вопрос, не следует пренебрегать статистическими данными, коими мы в настоящее время располагаем касательно браков, заключаемых в Англии и Уэльсе. Цифры показывают, что число неравных по возрасту браков весьма велико, причем свыше трех четвертей этого числа приходится на случаи, когда старший из брачующихся именно жених. Небезынтересно отметить, что повсеместное преобладание этого закона подтверждается теми подсчетами, которые мы произвели на основании сведений, собранных среди туземцев путешественниками по Британским владениям в Индии, а также в значительной части Китая и среди калмыков, населяющих Татарию. Итак — несоответствие, о котором я упомянул, можно почти не считать таковым, и (собственно говоря) оно все равно что не существует. — Чем вы предлагаете заменить то слово, которое я употребила и которое вы нашли неуместным? — спросила Луиза все так же сдержанно и холодно, вопреки обнадеживающим выводам, к которым пришел ее отец. — Мне кажется, Луиза, — отвечал мистер Грэдграйнд, — что это яснее ясного. Строго придерживаясь фактов, ты задаешь себе вопрос: фактически — мистер Баундерби сделал мне предложение? Да, сделал. Остается один-единственный вопрос: принять ли его предложение? Что может быть яснее? — Принять ли его предложение? — медленно, с расстановкой повторила Луиза. — Вот именно. И мне, твоему отцу, Луиза, отрадно сознавать, что на твое решение не могут повлиять ни образ мыслей, ни образ жизни, свойственные многим молодым девушкам. — Нет, отец, — подтвердила она, — не могут. — Теперь предоставляю тебе самой судить, — сказал мистер Грэдграйнд. — Я изложил тебе обстоятельства дела так, как они обычно понимаются людьми практическими; так в свое время обстояло дело между мной и твоей матерью. В остальном, дорогая моя Луиза, слово за тобой. С самого начала разговора она пристально смотрела ему в лицо. Теперь и он, откинувшись на спинку кресла, в свою очередь устремил на нее взгляд глубоко посаженных глаз, — и, быть может, то была минута, когда он мог бы угадать ее смятение, почувствовать, что она готова броситься к нему на грудь и излить перед ним душу. Но чтобы понять ее порыв, ему пришлось бы одним прыжком перескочить через искусственные преграды, которые он долгие годы воздвигал между собой и человеческим естеством, чья сокровенная сущность не поддается тончайшим ухищрениям алгебры и не поддастся до самого того дня, когда в последний раз на земле возгласит труба архангела и даже алгебра будет развеяна в прах[38]. Для такого прыжка преграды были слишком многочисленны и высоки. Не прочтя в его взгляде ничего кроме черствой, бездушной деловитости, она снова замкнулась в себе: и минута канула в бездонные глубины прошлого, где исчезают все упущенные мгновения. Она отвела глаза и так долго молчала, глядя в окно, выходящее на Кокстаун, что отец в конце концов спросил ее: — Ты ищешь совета у фабричных труб, Луиза? — Сейчас там только дым, скучный, медлительный дым. Но когда приходит ночь, огонь вырывается наружу, отец! — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд. — Разумеется, Луиза, это известно. Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение… — Надо отдать ему справедливость — он в самом деле ничего не понял. Она небрежно повела рукой, словно отмахиваясь от его вопроса, и, снова посмотрев ему прямо в глаза, сказала: — Я часто думаю о том, что жизнь очень коротка. Это замечание имело столь явное касательство к его излюбленному предмету, что он тотчас прервал ее: — Несомненно, дорогая, жизнь коротка. Однако доказано, что в последние годы продолжительность человеческой жизни возрастает. Подсчеты различных обществ по страхованию жизни и выплате ренты, наряду с другими бесспорными данными, установили этот факт. — Я говорю о своей жизни, отец. — Ах, вот оно что! Тем не менее, — сказал мистер Грэдграйнд, — мне незачем объяснять тебе, Луиза, что она подчинена тем же законам, что и все жизни в совокупности. — Пока она длится, я хотела бы совершить то малое, что в моих силах и на что я способна. Так не все ли равно? Мистер Грэдграйнд. сбитый с толку этим неожиданным выводом, переспросил с недоумением: — Почему все равно? Что именно все равно, дорогая? — Мистер Баундерби, — не ответив отцу, продолжала она, отчеканивая каждое слово, — сделал мне предложение. Вопрос, который я должна задать себе, гласит: принять ли его предложение? Так ведь, отец? Вы так объяснили мне. Так или нет? — Именно так, дорогая. — Пусть так и будет. Если мистер Баундерби согласен взять меня в жены на таких условиях, я принимаю его предложение. Передайте ему мой ответ хоть сегодня, отец. Повторите его по возможности слово в слово, — я хочу, чтобы он знал все, что я сказала. — Это очень хорошо, дорогая, что ты стоишь за точность, — похвалил мистер Грэдграйнд. — Я непременно исполню твою просьбу. Нет ли у тебя особых пожеланий относительно того, на когда назначить свадьбу? — Никаких, отец. Не все ли равно? К концу разговора он придвинулся поближе к дочери и взял ее руку в свои. Но когда она повторила этот странный вопрос, он насторожился, словно его слух поразил какой-то диссонанс. Он помолчал, внимательно посмотрел на дочь и, не выпуская ее руки, сказал: — Луиза, я не счел нужным задать тебе один вопрос, ибо я мысли не допускал, что на него возможны два ответа. Но, пожалуй, лучше спросить тебя для верности. Скажи, ты втайне никому другому не давала слова? — Отец, — почти с гневом возразила она, — кому другому могла я дать слово? Кого я видела? Где бывала? Какие чувства знало мое сердце? — Дорогая моя Луиза, — сказал мистер Грэдграйнд, успокоенный и весьма довольный, — я заслужил твой упрек. Но я хотел только исполнить свой долг. — Что знаю я, отец, о самой себе? — негромко сказала Луиза. — О своих склонностях и вкусах, стремлениях и чувствах, о всем том, что могло бы зародиться во мне? Могла ли я вырваться из круга доказуемых истин и осязаемых явлений? — Она безотчетно сжала руку, как будто держала в ней какой-то твердый предмет, потом медленно разогнула пальцы, словно высыпая горсть золы или праха. — Дорогая моя, — подтвердил ее в высшей степени практический родитель, — ты права, ты совершенно права. — Как могли вы, отец, задать подобный вопрос мне? Невинные прихоти, столь свойственные детям — о чем даже я знаю понаслышке, — никогда не находили приюта в моей душе. Вы так заботливо берегли меня, что сердце мое никогда не было сердцем ребенка. Вы так образцово воспитывали меня, что мне никогда не снились детские сны. Вы так мудро растили меня, отец, от колыбели до сего часа, что я никогда не знала ни детской веры, ни детского страха. Мистер Грэдграйнд даже растрогался, услышав такое признание своего успеха. — Моя дорогая Луиза, — проговорил он, — ты сторицей вознаграждаешь мои труды. Поцелуй меня, дочка. И дочь поцеловала его. Не выпуская ее из своих объятий, он продолжал: — Теперь я могу сказать тебе, любимое дитя мое, что я счастлив здравым решением, к которому ты пришла. Мистер Баундерби человек весьма замечательный, а что касается маленького — я бы сказал, едва уловимого — несоответствия между вами, то ты с самого начала так настроила свои мысли, что его как бы и не существует. Это именно та цель, которую я всегда видел перед собой: воспитать тебя так, чтобы ты, будучи еще очень молодой, имела (если можно так выразиться) почти любой возраст. Поцелуй меня еще раз, Луиза. А теперь пойдем к твоей матушке. Они направились в гостиную, где почтенная леди, не склонная ни к каким фокусам, как обычно, возлежала на диване, а подле нее сидела Сесси с работой в руках. Когда они вошли, она подала кое-какие слабые признаки жизни, и немного погодя бледный транспарант занял сидячее положение. — Миссис Грэдграйнд, — провозгласил ее супруг, с явным нетерпением дожидавшийся конца этого подвига, — позвольте представить вам миссис Баундерби. — Вот как? — сказала миссис Грэдграйнд. — Я вижу, дело сладилось! Ну что ж, Луиза, надеюсь, здоровье твое выдержит, но ежели у тебя станет болеть голова с первого дня замужества, как случилось со мной, то, по совести говоря, ничего завидного тут нет, хотя ты, конечно, уверена, что очень даже есть, все девушки так думают. Впрочем, поздравляю тебя, дорогая, и желаю тебе, чтобы твои ологические науки пошли тебе впрок, от души желаю! Обними меня, Луиза, только не задень за правое плечо, оно мозжит у меня с самого утра. А теперь, — захныкала миссис Грэдграйнд, снова натягивая на себя все свои шали после состоявшегося материнского объятия, — я день-деньской буду мучиться, потому что как же мне называть его? — Миссис Грэдграйнд, — грозно вопросил ее супруг, — о чем вы говорите? — О том, мистер Грэдграйнд, как мне называть его, когда он женится на Луизе! Как-то я же должна буду называть его. Ведь немыслимо, — сказала миссис Грэдграйнд, не то с обидой, не то озабоченная соблюдением правил вежливости, — постоянно обращаться к нему, никак его не называя. Я не могу звать его Джосайя, потому что не выношу этого имени. Звать его Джо вы никогда мне не позволите, вы сами отлично это знаете. Так что же? Своего собственного зятя я должна называть «мистер»? Думается мне, что нет, ежели только мое семейство не решило, что пришла пора, когда бедную больную можно топтать ногами. Ну, так как же мне все-таки звать его? Поскольку никто из присутствующих не предложил выхода из столь затруднительного положения, миссис Грэдграйнд на время переселилась в лучший мир, успев, однако, присовокупить к своей духовной такой пункт: — А относительно свадьбы, Луиза, я прошу только одного — и прошу с дрожью в сердце, которая, верь не верь, пробирает меня до самых пяток, — пусть она будет поскорей. Иначе, я уже знаю, и, минуты покою мне не будет. Когда мистер Грэдграйнд произнес «миссис Баундерби», Сесси резко повернула голову и устремила на Луизу взгляд, полный тревоги, и удивления, и жалости, и горя, и еще многого другого. Луиза знала это, видела, хоть и не глядела на Сесси. С той минуты Луиза круто переменилась к Сесси — была с ней холодна, высокомерна и не допускала ее до себя.
Глава XVI
Муж и женаМистер Баундерби, узнав о своем счастье, прежде всего со страхом подумал о том, что радостную весть необходимо сообщить миссис Спарсит. Он решительно не знал, как за это взяться и каковы могут быть последствия такого шага. Соберет ли она немедля свои пожитки и укатит к леди Скэджерс, или наотрез откажется покинуть его дом; разразится слезами или бранью; будет просить или требовать; разобьет ли новость ее сердце, или она разобьет зеркало — об этом мистер Баундерби мог только гадать. Однако выбора у него не было, — как ни верти, а сделать дело нужно; поэтому, после нескольких неудачных попыток изъясниться на бумаге, он решил прибегнуть к помощи устной речи. По дороге домой, в тот вечер, который он отвел для сей знаменательной беседы, он предосторожности ради зашел в аптеку и приобрел пузырек самых крепких нюхательных солей. «Ей-ей! — сказал себе мистер Баундерби. — Ежели она вздумает падать в обморок, я уж, во всяком случае, сдеру всю кожу с ее носа». Но даже оснащенный столь действенным оружием, он вошел в собственный дом далеко не героем и явился перед предметом своих опасений с виноватым видом собаки, только что побывавшей в кладовой. — Добрый вечер, мистер Баундерби! — Добрый вечер, сударыня, добрый вечер. — Он пододвинул к огню свое кресло, а миссис Спарсит свое отодвинула, словно говоря: «Ваш камин, сэр. Я вполне признаю это — можете занять его весь, ежели считаете, что так надо». — Не удаляйтесь на Северный полюс, сударыня! — сказал мистер Баундерби. — Благодарю вас, сэр, — отвечала миссис Спарсит и передвинула кресло обратно, хотя и не совсем на старое место. Мистер Баундерби молча смотрел, как она острыми кончиками ножниц протыкала в куске батиста дырки, кои, судя по всему, каким-то загадочным образом должны были служить ему украшением, и это ее занятие, вкупе с густыми бровями и римским носом, сильно напоминало работу коршуна над глазами неподатливой пичужки. Она была так поглощена своим делом, что прошло довольно много времени, прежде чем она взглянула на него; но как только это произошло, он заручился ее вниманием, многозначительно тряхнув головой. — Миссис Спарсит, сударыня, — начал мистер Баундерби, засовывая руки в карманы и ощупывая правой рукой пробку купленного им пузырька, дабы убедиться, что ее легко вынуть. — Мне незачем говорить вам, что вы не только высокородная и высокопросвещенная особа, но и дьявольски разумная женщина. — Сэр, — отвечала сия особа, — не в первый раз я удостоена чести слышать от вас похвалу мне в подобных выражениях. — Миссис Спарсит, сударыня, — объявил мистер Баундерби, — я намерен удивить вас. — Да, сэр? — сказала миссис Спарсит вопросительно, но с полным спокойствием. Отложив рукоделье, она стала разглаживать свои митенки, которые носила почти не снимая. — Я, сударыня, намерен жениться на дочери Тома Грэдграйнда. — Да, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Надеюсь, вы будете счастливы, мистер Баундерби. О, я очень надеюсь, что вы будете счастливы, сэр! — Она сказала это столь покровительственно и вместе с тем участливо, что Баундерби, который меньше растерялся бы, если бы она запустила в зеркало свою рабочую шкатулку или грохнулась без чувств на коврик перед камином, плотно всадил пробку в пузырек с нюхательными солями и подумал: «Ах, чтоб ей! Кто бы мог предвидеть, что она так отнесется к делу?» — От всего сердца, сэр, — сказала миссис Спарсит не без высокомерия, — с самой этой минуты она явно присвоила себе право всегда и неизменно жалеть его, — желаю вам полного счастья. — Сударыня, — отвечал Баундерби несколько обиженно и против воли сбавляя тон, — благодарю вас. Я надеюсь быть счастливым. — Вот как, сэр? — снисходительно сказала миссис Спарсит. — Ну, конечно, надеетесь. Разумеется. Мистер Баундерби не нашелся что ответить, и наступило неловкое — для него — молчание. Миссис Спарсит продолжала чинно работать, время от времени покашливая, и даже в ее легком кашле слышалось сознание своего превосходства. — Так вот, сударыня, — снова заговорил Баундерби, — сдается мне, что при изменившихся обстоятельствах такая особа, как вы, вряд ли пожелает остаться здесь, хотя здесь ей были бы только рады. — Нет, сэр, нет, что вы! Это для меня совершенно невозможно! — Миссис Спарсит все с тем же высокомерием покачала головой, и в кашле ее появился новый оттенок — теперь он звучал так, словно в ней подымался дух пророчества, но она считала нужным удерживать его. — Однако, сударыня, — сказал Баундерби, — в моем банке имеются свободные комнаты, и там высокородная, высокопросвещенная леди в качестве домоправительницы была бы просто находкой. Ежели тот же размер жалованья… — Прошу прощения, сэр. Вы любезно обещали мне во всех случаях называть это «ежегодная премия». — Хорошо, сударыня, пусть так. Ежели вы сочтете прежний размер ежегодной премии за вашу деятельность в банке приемлемым, то я не вижу никаких причин расставаться с вами, разве только вы сами того пожелаете. — Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — ваше предложение достойно вас. И ежели должность, которую я должна занять в банке, не заставит меня спуститься ниже по общественной лестнице… — Разумеется, не заставит, — сказал Баундерби. — Иначе разве я позволил бы себе предложить эту должность особе, которая, как вы, вращалась в самом высшем обществе? Хоть мне-то, знаете, до этого общества дела нет. Но вам есть. — Мистер Баундерби, вы чрезвычайно любезны. — У вас будут свои отдельные комнаты, свой уголь и свечи, и все прочее, и своя девушка для услуг, и свой рассыльный для охраны, и я беру на себя смелость утверждать, что жить вы будете там очень и очень неплохо, — сказал Баундерби. — Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — больше ни слова. Оставление моего поста здесь не освобождает меня от необходимости есть хлеб неволи, — она могла бы сказать «ливер», ибо сие лакомое кушанье под темным пикантным соусом неизменно составляло ее ужин, — и уж лучше мне получать его из ваших рук, чем из чьих-нибудь еще. Поэтому, сэр, я с благодарностью принимаю ваше предложение и весьма признательна вам за все знаки внимания в прошлом. И я надеюсь, сэр, — заключила миссис Спарсит, чуть не плача от жалости, — я искренне надеюсь, что в мисс Грэдграйнд вы найдете все, что вы желаете и чего заслуживаете. Ничто не могло сдвинуть миссис Спарсит с этой точки. Сколько бы Баундерби ни важничал, сколько бы ни пускал пыль в глаза, миссис Спарсит отказывалась смотреть на него иначе, как на достойную сострадания жертву. Она была учтива, предупредительна, бодра и весела, но чем учтивее, предупредительней, бодрей и веселей держалась она, чем вообще примерней становилось ее поведение, тем явственней он чувствовал себя принесенным в жертву мучеником. Она принимала столь нежное участие в его горестной судьбе, что, когда она глядела на него, его толстые щеки багровели и весь он покрывался холодным потом. Между тем решено было отпраздновать свадьбу через два месяца, и мистер Баундерби каждый вечер посещал Каменный Приют в качестве признанного жениха. Свои чувства к невесте он выражал при помощи браслетов, и вообще все приготовления к свадьбе носили сугубо промышленный характер. Изготовлялись платья и драгоценности, изготовлялись перчатки и торты, изготовлялся брачный контракт, оснащенный богатым подбором фактов. С начала до конца все было подчинено фактам. Время не разыгрывало с влюбленными тех милых шуток, которые ему приписывают неразумные поэты, да и стрелки часов двигались не быстрее и не тише, чем обычно. Убийственно точные часы в обсерватории Грэдграйнда стукали по голове каждую секунду, едва она успевала родиться, и хоронили ее с привычной пунктуальностью. И торжественный день настал, как любой другой день настает для людей, которые не признают ничего кроме разума; и в тот день их повенчали в церкви, украшенной толстенькими деревянными ногами (излюбленный архитектурный орден) — Джосайю Баундерби, эсквайра, из Кокстауна, с Луизой, старшей дочерью Томаса Грэдграйнда, эсквайра, из Каменного Приюта, члена парламента от сего округа. И после того как они сочетались священными узами брака, они в оный Каменный Приют отправились завтракать. Отпраздновать радостное событие собралось изысканное общество, которое в точности знало, из чего приготовлено все, что ели и пили за завтраком, а также ввозятся ли эти товары, или вывозятся, и в каких количествах, и на каких судах — иностранных или отечественных, и так далее и тому подобное. Подружки невесты, вплоть до малолетней Джейн Грэдграйнд, в умении считать не уступали ярмарочному чудо-счетчику; и ни за одним из гостей не водилось никаких фокусов. К концу завтрака новобрачный обратился к присутствующим со следующими словами: — Леди и джентльмены! Я Джосайя Баундерби из Кокстауна. Поскольку вы оказали честь моей жене и мне, выпив за наше здоровье и счастье, я, видимо, должен поблагодарить вас; однако вы все знаете меня, знаете, откуда я вышел, и потому не можете ожидать застольной речи от человека, который, когда видит балку, говорит, что это балка, а когда видит палку, говорит — это палка и ни за что не согласится назвать балку палкой или палку балкой, и ни то, ни другое не назовет зубочисткой. Ежели вам желательно услышать настоящий спич, то вот мой друг, а с нынешнего дня и мой тесть. Том Грэдграйнд — он заседает в парламенте, к нему и обращайтесь. Я для этого не гожусь. Но я полагаю, мне простительно чувствовать себя независимо за этим столом — ведь мог ли я подумать, что женюсь на дочери Тома Грэдграйнда, когда был маленьким оборванцем, который ополаскивал рожу только у водокачки, и то дай бог, чтобы раз в две недели. Стало быть, я чувствую себя независимо и надеюсь, вам это нравится, а ежели нет — дело ваше. Ничем помочь вам не могу. Так вот я говорю, что нынче я женился на дочери Тома Грэдграйнда. Я очень этому рад. Это было мое давнишнее желание. Она росла на моих глазах, и я так считаю, что она достойна меня. И еще я считаю — не стану вас обманывать, — что я достоин ее. Итак, я благодарю вас от своего и от ее имени за ваши добрые пожелания, а я в свою очередь могу пожелать неженатым среди присутствующих только одно: чтобы все холостяки нашли себе жен не хуже той, какую нашел я; и чтобы все девицы нашли себе мужей не хуже того, какого нашла моя жена. Так как новобрачные вознамерились совершить свадебное путешествие в Лион, дабы мистер Баундерби получил возможность самолично проверить, как живут рабочие руки в тех краях, и требуют ли они тоже, чтобы их кормили с золотой ложечки, счастливая чета вскоре отбыла на железную дорогу. Новобрачная, спускаясь с лестницы уже в дорожном платье, увидала поджидавшего ее Тома — очень красного, то ли от избытка чувств, то ли от возлияний за завтраком. — Какая ты молодчина, Лу! Золото, а не сестра! — прошептал Том. Она крепко обняла его — как должна была бы обнять в тот день куда более достойного человека, — и впервые за все время ее сдержанное спокойствие изменило ей. — Старик Баундерби уже снарядился, — сказал Том. — Тебе пора. Прощай! Буду ждать тебя с нетерпением. Что я тебе говорил, Лу? Теперь заживем!
Конец первой книги
КНИГА ВТОРАЯ «ЖАТВА»
Глава I
Положение дел в банкеЯсный летний день. Даже в Кокстауне иногда выпадали ясные дни. В такую погоду Кокстаун, если смотреть на него издалека, был весь окутан собственной мглой, словно бы непроницаемой для солнечных лучей. Знаешь, что это он, но знаешь только потому, что, не будь там города, не чернело бы впереди столь мрачное расплывчатое пятно. Огромная туча копоти и дыма, которая, повинуясь движению ветра, то металась из стороны в сторону, то тянулась вверх к поднебесью, то грязной волной стлалась по земле, густой, клубящийся туман, прорезанный полосами хмурого света, не пробивавшего плотную толщу мрака, — Кокстаун и в отдалении заявлял о себе, хотя бы ни один его кирпич не виден был глазу. А между тем он уцелел каким-то чудом. Он так часто подвергался разорению, что просто диву даешься, как мог он выдержать столько испытаний. Трудно даже вообразить, до какой степени хрупок был фарфор, пошедший на выделку кокстаунских промышленников. Только тронь их, и они разваливались на части с такой легкостью, что невольно возникало подозрение — а может быть, трещины в них уже были? Их разоряли, когда требовали, чтобы они посылали работающих детей в школу; когда назначали инспекторов для обследования их предприятий; когда инспекторы брали под сомнение их право калечить людей в своих машинах; а при одном только намеке на то, что, быть может, следовало бы чуть поменьше дымить, они просто погибали. Наряду с золотой ложечкой мистера Баундерби, признанной всем Кокстауном, в большом ходу была еще одна излюбленная фикция. Она облекалась в форму угрозы. Когда кто-нибудь из кокстаунцев чувствовал себя несправедливо обиженным — другими словами, когда ему не предоставляли полной свободы делать все, что заблагорассудится, и пытались возложить на него ответственность за его поступки, он тотчас начинал кричать, что «скорее выбросит свою собственность в Атлантический океан». Министр внутренних дел так пугался этих убийственных слов, что раза два чуть не умер от страха. Однако у кокстаунцев все же хватало патриотизма на то, чтобы не выбрасывать свою собственность в Атлантический океан, — во всяком случае, доселе они этого не делали, а напротив, не жалея сил, берегли ее как зеницу ока. Потому она и уцелела там, в дыму и копоти; и она неуклонно росла и множилась. В этот ясный летний день на улицах было жарко и пыльно, солнце сияло так ярко, что прорывалось даже сквозь тяжелые испарения, висевшие над городом, и если долго смотреть на его сверкающий диск, начинали болеть глаза. На фабричных дворах, из дверей, ведущих в подвал, выходили кочегары, садились на ступеньки, на тумбы, на забор и, глядя на кучи угля, вытирали закопченные потные лица. Весь город, казалось, жарился в масле. Удушливый чад разогретого масла стоял повсюду. Паровые машины лоснились от масла, одежда рабочих была измазана им, во всех этажах фабричных корпусов сочилось и кипело масло. Воздух в сказочных дворцах иссушал, как дыхание самума; и обитатели этой пустыни, истомленные зноем, работали через силу. Но на тихое помешательство слонов ни жара, ни холод не действовали. Их головы так же размеренно и докучно опускались и подымались, в зной истужу, в сырость и сушь, в ведро и ненастье. Однообразное движение их теней на стенах служило Кокстауну заменой прохладной тени шелестящего леса; а вместо летнего гудения насекомых он круглый год, с рассвета в понедельник до субботнего вечера, не мог предъявить ничего кроме жужжанья колес и приводов. Они дремотно жужжали весь этот знойный день, нагоняя сон на прохожих и обдавая их жаром из-за гудящих стен заводов и фабрик. Опущенные шторы, политые водой мостовые давали немного прохлады на главных улицах и в лавках; но фабрики, дворы и проулки превратились в сущее пекло. На реке, черной и густой от краски, несколько мальчуганов, урвавших часок досуга — случай весьма редкий в Кокстауне, — усердно гребли, усевшись в утлую лодчонку, которая двигалась рывками, оставляя за собой пузырчатый след, и при каждом взмахе весла из воды подымалось мерзостное зловоние. Даже солнце, столь животворное повсюду, было менее милостиво к Кокстауну, нежели крепкий мороз, и когда оно особенно упорно глядело в его трущобы, оно часто приносило с собой смерть вместо жизни. Так само око небес оборачивается дурным глазом, если неумелые или скаредные руки заслоняют от его взора все то, что оно призвано благословить. Миссис Спарсит, по своему обыкновению, сидела у окна, выходившего на теневую сторону раскаленной от зноя улицы. Занятия в банке кончились; и, как всегда в теплую погоду, она в этот час украшала своим присутствием кабинет членов правления, который помещался над общей залой. Ее собственная гостиная была расположена этажом выше, и оттуда, со своего наблюдательного пункта у окна, она каждое утро приветствовала пересекающего улицу мистера Баундерби сочувственным наклоном головы, как и подобает приветствовать злополучную жертву. Со дня его свадьбы минул уже год, но миссис Спарсит ни на минуту не избавляла его от своей непреклонной жалости. Банкирская контора Баундерби ничем не нарушала здравого однообразия города. Это было еще одно кирпичное здание с черными ставнями снаружи, зелеными шторами внутри, двумя белыми ступеньками, которые вели к черной входной двери, снабженной медной дощечкой и медной ручкой, похожей на точку. От резиденции Баундерби оно отличалось только размерами, будучи на номер больше, так же, как другие дома отличались от нее, будучи на один или несколько номеров меньше; во всем остальном оно строго соответствовало образцу — Миссис Спарсит не сомневалась, что, появляясь на исходе дня среди конторок и письменных принадлежностей, она наделяет кабинет женским, — чтобы не сказать аристократическим, — изяществом. Расположившись у окна с шитьем или вязаньем, она тешилась мыслью, что своим великосветским обликом смягчает суровую деловитость комнаты. В соответствии с этой благородной ролью, миссис Спарсит мнила себя в некотором роде феей банкирской конторы. Кокстаунцы, проходившие мимо окна, видели в ней дракона, стерегущего сокровища банковских подземелий. Какие именно сокровища — о том миссис Спарсит знала не больше, чем они. Золото и серебро, ценные бумаги, тайны, раскрытие которых привело бы к неведомым бедствиям каких-то неведомых людей (преимущественно, однако, людей ей несимпатичных), были главными статьями ее воображаемого перечня. Зато она знала, что после закрытия банка ей принадлежит верховная власть над всей конторской мебелью и над запертой на три замка, обитой железом кладовой, у двери которой рассыльный каждый вечер приклонял голову на выдвижной койке, исчезавшей при первом пении петуха. Кроме того, она была повелительницей над сводчатым подвалом, защищенным решеткой с остриями от хищного мира; в ее ведении находились и реликвии истекшего дня, как то: чернильные пятна, затупившиеся перья, сломанные облатки и клочки разорванной бумаги, столь крошечные, что при всем старании миссис Спарсит ничего интересного на них разобрать не могла. Наконец она была хранительницей небольшого арсенала, состоявшего из тесаков и ружей, в грозном боевом порядке висевших над одним из каминов; а также выстроенных в ряд пожарных вёдер — по давнему обычаю неотъемлемой принадлежности всякой претендующей на богатство фирмы, — каковые сосуды держат отнюдь не в расчете на ощутимую пользу в случае несчастья, а ради их более тонкого, морального воздействия, почти равного по силе, как было замечено, тому впечатлению, которое производит на большинство посетителей вид золотого или серебряного слитка. Глухая служанка и рассыльный завершали империю миссис Спарсит. Ходили слухи, что глухая служанка богата; и долгие годы среди кокстаунского простонародья крепла уверенность, что как-нибудь темной ночью, когда банк закрыт, ее убьют и ограбят. Более того — по утвердившемуся мнению, все сроки уже прошли, и этой ночи давно пора бы настать; но злонравная служанка, к разочарованию и обиде кокстаунцев, и не думала расставаться ни с жизнью, ни с работой в банке. Чай для миссис Спарсит был сервирован на кокетливом столике с тремя резными ножками, который, по ее милости, ежевечерне, после закрытия банка, проводил время в обществе сурового, крытого кожей, длинного стола, оседлавшего середину комнаты. Рассыльный поставил поднос на столик и в знак почтения стукнул себя костяшками пальцев по лбу. — Спасибо, Битцер, — сказала миссис Спарсит. — Вам спасибо, мэм, — отвечал рассыльный. Он был все такой же белесый, как в те далекие дни, когда он, моргая обоими глазами зараз, давал определение лошади вместо ученицы номер двадцать. — Все заперто, Битцер? — спросила миссис Спарсит. — Все заперто, мэм. — А какие нынче новости? — спросила миссис Спарсит, наливая себе чаю. — Есть что-нибудь? — Да нет, мэм, ничего такого не слыхал. Люди у нас здесь нехорошие, но, к сожалению, это не новость. — А что эти несчастные бунтари теперь затеяли? — спросила миссис Спарсит. — Все то же, как всегда, — велят объединяться, вступать в союзы, стоять друг за дружку. — Весьма печально, — сказала миссис Спарсит очень строго, отчего нос ее и брови стали еще более древнеримскими, — что объединенные хозяева допускают эти классовые союзы. — Совершенно верно, мэм, — сказал Битцер. — Поскольку они сами объединены, они должны все, как один, отстаивать свое право не принимать на работу никого, кто с кем-нибудь объединен, — изрекла миссис Спарсит. — Они пытались, мэм, — отвечал Битцер, — но из этого как будто ничего не вышло. — Я, разумеется, не могу считать себя сведущей в такого рода делах, — с достоинством сказала миссис Спарсит, — ибо мне суждено было вращаться в совсем иных сферах. Тем более что мистер Спарсит, будучи из Паулеров, тоже не имел ничего общего с подобными раздорами. Но одно я знаю, и знаю твердо: этих людей надо укротить, и давно пора это сделать, раз и навсегда. — Верно, мэм, — почтительно поддакнул Битцер, не скрывая действия, какое оказывали на него непререкаемые вещания миссис Спарсит. — Яснее и сказать нельзя — что правда, то правда. Так как доверительные беседы между ним и миссис Спарсит обычно происходили во время ее вечернего чаепития и он уже успел догадаться по ее глазам, что она намерена задать ему вопрос, то он не уходил, а передвигал с места на место линейки, чернильницы и прочее, пока она, поглядывая в открытое окно, прихлебывала чай. — Очень занятой был день, Битцер? — спросила миссис Спарсит. — Не сказать, чтобы очень, миледи. Как обыкновенно. — Время от времени, разговаривая с ней, Битцер заменял обращение «мэм» более церемонным «миледи», как бы невольно отдавая должное личным качествам миссис Спарсит и ее наследственному праву на всяческое уважение. — Все клерки, — продолжала миссис Спарсит, осторожно стряхивая невидимую крошку намазанного маслом хлеба с левой митенки, — разумеется, добросовестны, пунктуальны и прилежны? — Да, мэм, пожалуй, что так. Все, кроме одного, конечно. Он отправлял в банке почетную должность главного шпиона и доносчика, и за эти добровольные услуги, помимо причитающегося ему жалования, получал на рождество наградные. Битцер с годами превратился в необыкновенно трезвого, осмотрительного, благоразумного молодого человека, который не мог не преуспеть в жизни. Духовный механизм его работал так исправно и точно, что он не знал ни чувств, ни страстей. Все его поступки были итогом самых тонких и хладнокровных расчетов; недаром миссис Спарсит всегда говорила, что еще не встречала молодого человека столь твердых принципов. Удостоверившись после смерти отца, что мать его имеет право на призрение[39] в Кокстауне, сей многообещающий юный экономист весьма ревностно и принципиально стал на защиту этого ее права, вследствие чего она очутилась в работном доме[40], где и пребывала поныне. Впрочем, надо отдать ему должное — она получала от него ежегодный дар в виде полуфунта чаю, что, несомненно, было слабостью с его стороны: во-первых, любые дары неизбежно ведут к пауперизации одаряемого; и, во-вторых, единственный разумный способ распорядиться этим товаром заключался в том, чтобы купить его как можно дешевле, а продать как можно дороже; ибо ученые с полной ясностью доказали, что это и есть весь долг каждого человека[41], — не какая-то часть его долга, а весь целиком. — Пожалуй, что все, мэм. Кроме одного, конечно, — повторил Битцер. — А-а! — протянула миссис Спарсит, помотав головой над чашкой чаю и отхлебывая большой глоток. — Мистер Томас, мэм, — сомнителен он мне очень. Мне, мэм, не нравится, как он себя ведет. — Битцер, — предостерегающим тоном сказала миссис Спарсит, — вы не помните, говорила я вам что-нибудь относительно имен? — Виноват, мэм. Это верно. Вы сказали, что не любите, когда называют имена и что вообще лучше обходиться без них. — Прошу вас не забывать, что я здесь в должности, — торжественно сказала миссис Спарсит. — Я облечена доверием, Битцер, доверием мистера Баундерби. Пусть в прошлом ни он, ни я не могли бы и помыслить о том, что он некогда станет моим принципалом и назначит мне ежегодную премию, — я все же обязана видеть его в этом свете. Мистер Баундерби всегда с таким глубоким почтением относился к моему общественному рангу и родственным связям, что лучшего я и ожидать не могла. Напротив, действительность превзошла все мои ожидания. За это я должна быть преданной ему до конца. И я не считаю, не буду считать, не могу считать, — продолжала миссис Спарсит, выпуская весь свой запас нравственных правил и понятий о чести, — что я предана ему до конца, ежели я позволю, чтобы под этим кровом упоминались имена, которые, к несчастью, к величайшему несчастью — это бесспорно, — имеют касательство к нему. Битцер опять стукнул себя костяшками по лбу и опять попросил извинить его. — Да, Битцер, — заключила миссис Спарсит, — ежели вы скажете — одна личность, я вас слушаю; скажете мистер Томас — не взыщите. — Конечно, мэм, кроме одной личности, — поправился Битцер. — А-а! — повторила свой возглас миссис Спарсит, так же помотав головой над чашкой чаю и отпивая большой глоток, словно хотела подчеркнуть, что разговор возобновляется с той точки, на которой он прервался. — Одна личность, мэм, — подхватил Битцер, — с самого того дня, когда она в первый раз вошла в нашу контору, повела себя не так, как надо. Это беспутный, расточительный лентяй. Он даром чужой хлеб ест. И не ел бы, мэм, не будь ему кое-кто родня и друг. — А-а! — вздохнула миссис Спарсит, опять с грустью покачав головой. — Я только надеюсь, мэм, — добавил Битцер, — что его родня и друг не снабжает его средствами на мотовство. Иначе, мэм, — мы ведь знаем, из чьего кармана шли бы эти деньги. — А-а! — снова вздохнула миссис Спарсит и снова грустно покачала головой. — Мне жаль его, мэм. Я имею в виду того, кого я упомянул последним. — Да, Битцер, — отвечала миссис Спарсит. — Я всегда с жалостью взирала на это заблуждение, всегда. — А что до самой личности, — сказал Битцер, понизив голос и подходя поближе, — то он такой же легкомысленный, как все в нашем городе. А вы знаете, мэм, что это значит. Кому же и знать, если не такой важной леди, как вы. — Им бы надо брать пример с вас, Битцер, — сказала миссис Спарсит. — Вы слишком добры, мэм. Но раз уж вы упомянули обо мне, то вот что я вам скажу. Я, мэм, уже отложил малую толику. Наградные, которые мне дают на рождество, я никогда не трачу. Я даже своего жалованья не проедаю, хоть оно и не бог весть какое. Почему я могу, а другие не могут? Что один может, то могут и другие. Эта фикция тоже имела хождение в Кокстауне. Любой богач, начавший с шести пенсов и впоследствии наживший шестьдесят тысяч фунтов, постоянно задавал недоуменный вопрос — почему все шестьдесят тысяч окрестных рабочих не наживают каждый по шестьдесят тысяч фунтов, начав с шести пенсов, и даже как бы укорял их за то, что они не совершили сего несложного подвига. Что я сделал, то и вы можете. Почему же вы этого не делаете? — Вот говорят, что им нужен отдых, нужны развлечения, — сказал Битцер. — Вздор и чепуха. Мне не нужны развлечения. Никогда в них не нуждался и впредь не буду. У меня к ним душа не лежит. А уж их союзы — я уверен, что многим из них, если бы они глядели в оба и доносили друг на дружку, кое-что перепадало бы, деньгами ли, или покровительством, и жилось бы им получше. Почему же они не стараются жить получше, мэм? Ведь эта первейшая цель всякого разумного существа, и они сами всегда этим отговариваются. — Хороши отговорки! — сказала миссис Спарсит. — И вечно-то они твердят, прямо до тошноты, про своих жен и детей, — продолжал Битцер. — Вот поглядите на меня, мэм! Мне не нужны жена и дети. Почему же им нужны? — Потому что они легкомысленны, — сказала миссис Спарсит. — Да, мэм, — поддакнул Битцер, — именно. Будь они менее легкомысленны и развращены, что бы они сделали? Они бы сказали: «Покуда я один» или «покуда я одна» — как придется, — «мне нужно накормить только одного едока, и как раз того, кого я кормлю с особенным удовольствием». — Еще бы! — подтвердила миссис Спарсит. надкусывая пышку. — Благодарю вас, мэм, — стукнув себя по лбу, сказал Битцер, польщенный душеспасительной беседой с миссис Спарсит. — Прикажете подать еще кипяточку, мэм, или еще чего-нибудь принести? — Пока ничего не нужно, Битцер. — Благодарю вас, мэм. Не хотелось бы мне беспокоить вас, мэм, за едой, а пуще всего за чаем, — я ведь знаю, как вы его любите, — сказал Битцер, выворачивая шею, чтобы бросить взгляд на улицу, — но вот уже несколько минут какой-то господин смотрит на вас, а теперь он перешел улицу и, кажется, намерен постучать. А вот и стук, мэм, — наверняка это он стучит. Он подошел к окну, высунул голову, потом втянул ее обратно и подтвердил свои наблюдения: — Да, мэм, это он. Прикажете проводить его сюда, мэм? — Не понимаю, кто это может быть, — сказала миссис Спарсит, вытирая губы и оправляя митенки. — Надо думать, приезжий. — Уж не знаю, зачем приезжему понадобился банк в такой час — разве только он пришел по делу и опоздал, — сказала миссис Спарсит. — Но я здесь на посту, вверенном мне мистером Баундерби, и что бы ни случилось, я свой долг исполню. Ежели принять его входит в обязанности, которые я взяла на себя, то я приму его. А это вы сами рассудите, Битцер. Тут посетитель, не подозревавший о произнесенных миссис Спарсит великодушных словах, так громко стал колотить в дверь, что Битцер со всех ног кинулся отворять; а миссис Спарсит, на всякий случай припрятав маленький столик со всеми атрибутами чаепития в шкаф, поспешила наверх, дабы появиться, если будет надобность, с большей торжественностью. — Прошу прощенья, мэм, джентльмен желает вас видеть, — сказал Битцер, приложив белесый глаз к замочной скважине. Итак, миссис Спарсит, которая тем временем успела поправить чепец на голове, опять понесла вниз свой классический профиль и вошла в кабинет правления величавой поступью, словно римская матрона, вышедшая за ворота осажденного города для переговоров с вражеским полководцем. На посетителя, который, подойдя к окну, рассеянно поглядывал на улицу, этот эффектный выход не произвел ровно никакого впечатления. Он как нельзя более хладнокровно посвистывал про себя, не снимая шляпы, и вид у него был несколько утомленный — отчасти от жаркой погоды, отчасти от чрезмерной изысканности. Ибо с первого взгляда было видно, что это истинный джентльмен последнего образца — пресыщенный всем на свете и не более Люцифера способный во что-либо верить. — Вы, кажется, хотели видеть меня, сэр, — промолвила миссис Спарсит. — Простите, — сказал он, поворачиваясь к ней и снимая шляпу, — прошу прощенья. «Гм! — подумала миссис Спарсит, величественно отвечая на его поклон, — лет тридцать пять, хорош собой, хорошо сложен, хорошие зубы, хорошо воспитан, хорошо одет, приятный голос, темные волосы, дерзкие глаза». Все это миссис Спарсит отметила по-женски молниеносно, за те две секунды, которые потребовались ей, чтобы наклонить голову и опять поднять ее — точно султан, сунувший голову в ведро с водой[42]. — Прошу садиться, сэр, — сказала миссис Спарсит. — Спасибо. Разрешите мне. — Он пододвинул ей стул, сам же, не садясь, небрежно прислонился к краю стола. — Я оставил своего слугу на вокзале позаботиться о вещах, — поезд переполнен, и багажный вагон забит, — а сам пошел пешком, немного оглядеться. Очень странный город. Позвольте узнать, он всегда такой черный? — Обычно гораздо черней, — сурово отвечала миссис Спарсит. — Да неужели? Простите… вы, должно быть, не здешняя уроженка? — Нет, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Когда-то, до того как я овдовела, я имела счастье или, быть может, несчастье принадлежать к совсем иному кругу. Мой муж был Паулер. — Простите, я не расслышал, — сказал приезжий. — Был… кто? Миссис Спарсит повторила: — Он был Паулер. — Из семьи Паулеров, — сказал приезжий после минутного раздумья. Миссис Спарсит утвердительно кивнула головой. Лицо приезжего казалось еще более утомленным. — Вам здесь, вероятно, очень скучно? — сказал он, делая логический вывод из ее сообщения. — Я подчиняюсь обстоятельствам, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — и я давно научилась применяться к силам, управляющим моей жизнью. — Это отличная философия, — сказал приезжий, — весьма мудрая, похвальная и… — Он, видимо, почел излишним договаривать свою мысль и умолк, лениво поигрывая часовой цепочкой. — Позвольте узнать, сэр, — начала миссис Спарсит, — чему я обязана честью… — Разумеется, — отвечал приезжий. — Спасибо, что напомнили. У меня с собой рекомендательное письмо к мистеру Баундерби, банкиру. Прогуливаясь по этому странному черному городу в ожидании, когда поспеет обед в гостинице, я спросил у одного прохожего, — это был, вероятно, рабочий, только что принявший душ из чего-то пушистого, очевидно из какого-то сырья… Миссис Спарсит наклонила голову. — …спросил у него, где живет банкир мистер Баундерби, а он, услышав слово «банкир», недолго думая, указал мне дорогу в банк. Но я так полагаю, что мистер Баундерби не живет в этом здании, где я имею честь объяснять свой приход? — Нет, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — не живет. — Благодарю вас. Я не имел намерения предъявить письмо сейчас. Просто я прогулялся до банка, чтобы убить время и, по счастливой случайности, приметив в окне, — он томно повел рукой в ту сторону и слегка поклонился, — особу весьма благородной и приятной наружности, я решил, что лучше всего будет, если я возьму на себя смелость справиться у этой особы, где же в таком случае живет банкир мистер Баундерби. Что я и позволю себе сделать, принося тысячу извинений. В глазах миссис Спарсит его рассеянная и небрежная манера держаться вполне искупалась известной непринужденной галантностью, распространявшейся даже на нее. Вот он, к примеру, чуть ли не уселся на стол, а между тем, лениво склонившись к ней, дает почувствовать, что в ней есть какое-то своеобразное обаяние. — Банки, я знаю, склонны к подозрительности, и так оно и быть надлежит, — сказал приезжий, который, помимо всего прочего, обладал приятным даром говорить плавно, легко и таким тоном, как будто в его словах скрыто больше глубокомыслия и остроумия, чем может показаться (вероятно, искусный прием, изобретенный учредителем этой многочисленной секты, кто бы ни был сей великий муж), и поэтому, прошу удостовериться, что автор письма — вот оно — член парламента от этого города Грэдграйнд, с которым я имел удовольствие познакомиться в Лондоне. Миссис Спарсит признала руку, намекнула, что предъявлять письмо не было никакой надобности, и сообщила адрес мистера Баундерби, присовокупив все нужные указания и советы. — Премного благодарен, — сказал приезжий. — Вы, конечно, хорошо знаете банкира? — Да, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Я уже десять лет знаю его как моего принципала. — Целая вечность! Он, кажется, женат на дочери Грэдграйнда? — Да, — сказала миссис Спарсит, сразу поджав губы, — он удостоился этой… чести. — Я слышал, что его супруга чуть ли не философ? — Вот как, сэр? — сказала миссис Спарсит. — Неужели? — Простите мое назойливое любопытство, — вкрадчиво сказал приезжий, дабы умилостивить нахмурившую брови миссис Спарсит, — но вы знаете эту семью и знаете свет. Я скоро тоже узнаю семью банкира и, быть может, мне придется часто бывать там. Скажите мне, его жена очень грозная? Послушать ее отца, так это какое-то чудище, мне просто не терпится узнать, правда ли это. К ней не подступишься, да? Умна до отвращения, до ужаса? Вижу по вашей многозначительной улыбке, что вы иного мнения. Это бальзам для моей смятенной души. А сколько ей лет? Сорок? Тридцать пять? Миссис Спарсит расхохоталась. — Девчонка, — сказала она. — Ей и двадцати не было, когда она замуж вышла. — Честное слово, миссис Паулер, — проговорил приезжий, отделяясь от стола, — вы просто ошеломили меня! Он, видимо, и в самом деле очень удивился, по крайней мере настолько, насколько это было для него возможно. Он добрых пятнадцать секунд, не отрываясь, смотрел на миссис Спарсит, словно ее неожиданное сообщение никак не укладывалось у него в голове. — Уверяю вас, миссис Паулер, — сказал он наконец, — что отец ее подготовил меня к встрече с женщиной зрелой и непреклонно суровой. Я особенно признателен вам за то, что вы исправили эту нелепую ошибку. Еще раз простите меня за вторжение. Тысячу благодарностей. До свиданья! Отвесив несколько поклонов, он удалился, и миссис Спарсит, спрятавшись за портьеру, увидела, как он, едва волоча ноги, шел по теневой стороне улицы, привлекая внимание всего города. — Что вы скажете об этом джентльмене, Битцер? — спросила миссис Спарсит, когда рассыльный пришел убрать посуду. — Много денег тратит на одежду, мэм. — Надо сознаться, — сказала миссис Спарсит, — одет он с большим вкусом. — Да, мэм, — возразил Битцер, — но стоит ли это истраченных денег? А кроме того, — продолжал Битцер, вытирая стол, — сдается мне, что он картежник. — Играть в карты безнравственно, — сказала миссис Спарсит. — И очень глупо, — сказал Битцер, — потому что шансы всегда против понтеров. То ли жара истомила миссис Спарсит, то ли работа не спорилась, но в тот вечер она не рукодельничала. Она сидела у окна, когда солнце начало опускаться за пеленой дыма; она сидела там, когда дым пламенел багровым огнем, и когда огонь угас, и когда темнота, медленно поднявшись словно из-под земли, поползла все выше и выше, добираясь до кровлей домов, до церковных шпилей, до верхушек фабричных труб, до самого неба. Не зажигая свеч, миссис Спарсит сидела у окна, сложив руки на коленях, не замечая вечерних звуков: ни гиканье мальчишек, ни лай собак, ни стук колес, ни шаги и голоса прохожих, ни пронзительные уличные крики, ни топот деревянных подошв по мостовой в час окончания работы, ни громыханье ставень, опускаемых над витринами лавок, не прерывали нить ее мыслей. Только когда рассыльный пришел сказать, что ее ужин готов, миссис Спарсит очнулась от задумчивости и перенесла на третий этаж свои густые черные брови, в ту минуту явно нуждавшиеся в утюге, так сильно они были наморщены от напряженной умственной работы. — Дурак! — садясь за ужин, сказала миссис Спарсит после того, как Битцер вышел из комнаты. К кому это относилось, она не объяснила; но вряд ли она имела в виду ливер под пикантным соусом.
Глава II
Мистер Джеймс ХартхаусПартия Грэдграйнда нуждалась в помощи на предмет умерщвления Граций. Она вербовала сторонников; а где же и вербовать их, как не среди изысканных джентльменов, которые, додумавшись до того, что ничто на свете не имеет цены, ни перед чем на свете не останавливались? Вдобавок, трезвые умы, достигшие столь возвышенного образа мыслей, обладали притягательной силой для многих приверженцев грэдграйндской школы. Сии ревнители фактов питали слабость к изысканным джентльменам; они притворялись, будто это не так, но слабость, несомненно, питали. Они из кожи вон лезли, подражая им, гнусавили, растягивали слова, как они; и с томным видом скармливали своим вновь завербованным ученикам заплесневелые порции политической экономии. Мир не знал более ублюдочного племени, чем то, какое породила эта их деятельность. Среди изысканных джентльменов, формально не принадлежавших к грэдграйндской школе, был один, который не только происходил из хорошей семьи и обладал приятной наружностью, но еще отличался тонким юмором, имевшим огромный успех в палате общин, — особенно в тот раз, когда он, излагая свою точку зрения (и точку зрения директоров компании) на катастрофу, во время которой пятеро пассажиров было убито, а тридцать два ранено, уверял своих коллег, что на столь идеально проложенной линии, оснащенной самыми хитроумными механизмами, где служат невиданно добросовестные машинисты, под началом неслыханно щедрых управляющих, и вся система действует так, что лучшего и желать нельзя, для полного совершенства положительно не хватало только несчастного случая. Одной из жертв крушения оказалась корова, а среди разбросанных предметов, неизвестно кому принадлежащих, нашли вдовий чепец. И почтенный член парламента так распотешил палату (весьма чувствительную к тонким шуткам), надев чепец на корову, что никто уже не пожелал вникать в протоколы дознания, и компания была оправдана под аплодисменты и смех. Так вот — у этого джентльмена был младший брат, еще более приятной наружности, нежели он сам, который побывал в драгунских корнетах — и соскучился; потом побывал за границей в свите английского посланника — и соскучился; потом добрался до Иерусалима и там тоже соскучился; наконец побродил на яхте по всему свету и опять-таки соскучился. В один прекрасный день парламентский острослов по-братски сказал ему: «Джим, есть дело. Партии непреложных фактов нужны люди. Ты мог бы там преуспеть. Почему бы тебе не взяться за статистику?» Мысль эта отчасти даже понравилась Джиму своей новизной, к тому же он так жаждал какой-нибудь перемены, что готов был взяться за что угодно, хоть бы и за статистику. Он и взялся. Начал он с того, что вызубрил несколько Синих книг; а брат его оповестил об этом Партию непреложных фактов и сказал: «Если вы хотите провести в парламент от любого округа смазливого шалопая, который умеет красно говорить, то поинтересуйтесь моим братом Джимом, он вам пригодится». После нескольких проверок на публичных собраниях мистер Грэдграйнд и совет политических мудрецов одобрили Джима, и было решено, что он поедет в Кокстаун, дабы его узнали в городе и окрестностях. Отсюда и письмо, которое Джим накануне вечером показывал миссис Спарсит и которое теперь держал в руках мистер Баундерби, — письмо с надписью: «Джосайе Баундерби, эсквайру, банкиру, Кокстаун. Рекомендация Джеймсу Хартхаусу, эсквайру. Томас Грэдграйнд». Получив сие послание вместе с визитной карточкой мистера Хартхауса, мистер Баундерби, не мешкая, надел шляпу и отправился в гостиницу. Мистера Хартхауса он застал сидящим у окна в самом унылом расположении духа и уже почти порешившим взяться за что-нибудь другое. — Мое имя, сэр, — сказал посетитель, — Джосайя Баундерби из Кокстауна. Мистер Джеймс Хартхаус сказал, что весьма рад (хотя это вовсе не было заметно) и что давно предвкушал удовольствие. — Кокстаун, сэр, — продолжал Баундерби, без церемоний усаживаясь на стул, — не из таких мест, к каким вы привыкли. А потому, с вашего позволения, — а можно и без него, я человек простой, — я прежде всего хочу рассказать вам кое-что о нашем городе. Мистер Хартхаус заверил, что будет в восторге. — Не спешите с восторгами, — сказал Баундерби. — Я ничего такого не обещаю. Во-первых, видите дым? Это для нас пища и питье. Это самая полезная вещь на свете вообще, а для легких в частности. Ежели вы из тех, кто хочет, чтобы мы истребили дым, то я с вами не согласен. Мы не намерены изнашивать наши котлы быстрее, чем изнашивали их до сих пор, сколько бы об этом ни кричали по всей Великобритании и Ирландии. Мистер Хартхаус, решив, что уж раз взялся, то отступать не годится, ответствовал: — Могу вас заверить, мистер Баундерби, что я одних мыслей с вами. Я полностью разделяю ваши убеждения. — Очень рад, — сказал Баундерби. — Ну-с, разумеется, вы слышали много толков о труде на наших фабриках. Слышали? Отлично. Сообщаю вам как факт: это самый приятный, самый легкий, самый высокооплачиваемый труд, какой только можно себе вообразить. Более того — фабричные корпуса так превосходны, что остается лишь расстелить на полу турецкие ковры. Чего мы делать не станем. — Мистер Баундерби, вы совершенно правы. — И последнее, — продолжал Баундерби, — наши рабочие руки. Нет ни одного среди них — будь то мужчина, женщина или ребенок, — который не имел бы заветной цели в жизни. А цель эта — чтобы их кормили черепаховым супом и дичью с золотой ложечки. Так вот — никогда ни единого из них мы не станем кормить черепаховым супом и дичью с золотой ложечки. Теперь вы знаете все о нашем городе. Мистер Хартхаус объявил, что это сжатое и вместе с тем исчерпывающее изложение всего кокстаунского вопроса оказалось для него в высшей степени любопытным и поучительным. — Видите ли, — сказал мистер Баундерби, — таков уж мой нрав: когда я знакомлюсь с кем-нибудь, особливо с общественным лицом, я люблю, чтобы все было ясно. Мне остается уведомить вас только об одном, мистер Хартхаус, прежде чем обещать вам, что в ответ на рекомендательное письмо моего друга Тома Грэдграйнда я охотно сделаю все, что в моих скромных силах. Так вот — вы из хорошей семьи. Не вздумайте вообразить, что и я из хорошей семьи. Я просто дрянь, самое что ни на есть грязное отребье. Если что-нибудь и могло повысить интерес Джима к собеседнику, то именно это последнее обстоятельство — во всяком случае, так он изъяснил мистеру Баундерби. — Ну-с, — сказал мистер Баундерби, — теперь мы можем пожать друг другу руку на равных правах. Именно на равных, потому что, хоть я лучше всех знаю, кто я таков и как глубока была канава, из которой я себя вытащил, во мне столько же гордости, сколько в вас. В точности столько же. Итак, утвердив надлежащим манером свою независимость, я хочу теперь справиться о вашем здравии и надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо. Мистер Хартхаус, пожимая руку мистера Баундерби, дал понять, что на него уже действует целительный воздух Кокстауна. Мистер Баундерби выслушал эти слова благосклонно. — Вы, может быть, знаете, — сказал он, — а может быть и не знаете, что я женат на дочери Тома Грэдграйнда. Ежели вам не предстоит ничего более занимательного, то пойдемте со мной до моего дома, и я познакомлю вас с дочерью Тома Грэдграйнда. — Мистер Баундерби, — отвечал Джим, — вы предвосхитили мое самое горячее желание. Без дальних слов они вышли из гостиницы, и мистер Баундерби повел нового знакомца, столь несхожего с ним, к своей частной резиденции из красного кирпича с черными ставнями снаружи, зелеными шторами внутри, черной входной дверью и двумя белыми ступеньками к ней. И вот, когда они очутились в гостиной сего пышного особняка, к ним вышла самая примечательная женщина, какую когда-либо приходилось видеть мистеру Джеймсу Хартхаусу. Она держалась так натянуто и вместе с тем небрежно; так мало говорила и так настороженно слушала; была так равнодушна и горда и вместе с тем так мучительно стыдилась чванного смирения своего супруга — при каждой его выходке она вздрагивала, точно ее ударили или полоснули ножом, — что он смотрел на нее с каким-то новым, доселе не изведанным чувством. Не менее примечательной, чем ее поведение, показалась ему и наружность ее. Она была красива; но красивое это лицо застыло в такой неподвижности, что естественное его выражение оставалось тайной. Бесстрастная, самоуверенная, нисколько не смущенная и вместе с тем словно скованная, она только по видимости находилась в гостиной с мужем и гостем, — внутренне она была не с ними, а совсем одна; и разгадать эту женщину с первого раза — за это не стоило и браться, тут никакая проницательность не помогла бы. С хозяйки дома гость перевел взгляд на самый дом. Нигде в этой комнате не чувствовалась женская рука. Ни украшений, ни затейливых безделушек, пусть даже и банальных, — ничего, что говорило бы о ее личных вкусах. Сумрачная, неуютная, обставленная с хвастливой аляповатой роскошью гостиная глядела хмуро на хозяев и гостя, — не было ни следа каких-либо женских занятий, не на чем было отдохнуть взору. Как мистер Баундерби истуканом торчал среди своих пенатов[43], так и сии неприветливые боги стояли вокруг него, они были достойны друг друга и весьма схожи между собой. — Сэр, — сказал Баундерби, — это моя жена, миссис Баундерби, старшая дочь Тома Грэдграйнда. Лу, рекомендую: мистер Джеймс Хартхаус. Мистер Хартхаус завербован твоим отцом. И в скором времени, ежели он и не станет коллегой твоего отца от нашего Кокстауна, то мы наверняка услышим о его кандидатуре в одном из соседних городов. Как видите, мистер Хартхаус, моя жена моложе меня. Не знаю, что она нашла во мне, почему согласилась выйти за меня замуж; но что-то, видимо, нашла, иначе не вышла бы. Она знает все на свете, и про политику, и все прочее. На случай, ежели вам нужно вызубрить что-нибудь, я просто не мог бы придумать для вас лучшего наставника, нежели Лу Баундерби. Мистер Хартхаус сказал, что учиться у столь очаровательного наставника одно удовольствие и учение, несомненно, пойдет ему на пользу. — Ах, так! — сказал хозяин. — Ну, ежели вы мастер отпускать комплименты, то вас ждет успех, потому что тягаться с вами будет некому. Я лично никогда этому делу не обучался; комплименты не по моей части — скажу прямо, терпеть их не могу. Но вы получили не такое воспитание, как я. Вот уж это было воспитание, доложу я вам! Вы джентльмен, а я нет, и я не выдаю себя за такового. Я Джосайя Баундерби из Кокстауна, и этого с меня довольно. Однако, ежели на меня светские манеры и высокое положение не действуют, это еще не означает, что они не действуют на Лу Баундерби. Она выросла не в столь счастливых — несчастливых на ваш взгляд, но, по-моему, счастливых — обстоятельствах, как я, так что, думаю, труды ваши не пропадут даром. — Мистер Баундерби, — улыбаясь, обратился Джим к Луизе, — благородный конь в сравнительно естественном состоянии, свободный от узды, которую светские условности налагают на такую злополучную клячу, как я.

— Вы очень высоко ставите мистера Баундерби, — невозмутимо отвечала она. — Так оно и должно быть. Он потерялся от ее ответа и, чувствуя себя окончательно сбитым с толку, что было немалым позором для кидавшего виды джентльмена, подумал: «Как это понимать?» — Судя по словам мистера Баундерби, вы намерены посвятить себя служению родине, — сказала Луиза, все еще стоя перед гостем на том самом месте, где она остановилась, войдя в гостиную, и все с той же странной смесью самоуверенности и явного замешательства. — Вы решили указать стране выход из всех ее затруднений. — Миссис Баундерби, — рассмеялся он, — говоря по чести, это не так. Не стану вас обманывать. Я кое-что повидал на своем веку; и нашел, как и все, что ничто не имеет цены; только одни сознаются в этом, а другие нет; и я буду отстаивать взгляды вашего батюшки, потому что те ли, другие ли — для меня все едино. — А своих взглядов у вас нет? — спросила Луиза. — Уверяю вас, я не вижу никаких причин придерживаться одних и отвергать другие. Я не отдаю предпочтения никаким взглядам. В итоге всех разновидностей скуки, которые я претерпел, я пришел к убеждению (если только «убеждение» не слишком энергичное слово для, моих ленивых мыслей по этому поводу), что любой набор идей приносит столько же пользы, сколько всякий другой, и в точности столько же вреда. Один знатный английский род взял себе прелестный итальянский девиз: «Что будет, то будет»[44]. Только в этом истина. Такое злостное лицемерие, прикрывающее обман личиной прямодушия — зло опасное, убийственное и весьма распространенное, — видимо, произвело на нее благоприятное впечатление. Он поспешил закрепить свой успех, заявив с усмешкой, в которой она вольна была усмотреть или не усмотреть скрытый смысл: — Партия, миссис Баундерби, умеющая доказать все, что угодно, начертав рядом единицы, десятки, сотни и тысячи, вернее других сулит своим членам и развлечение и выгоду. Я так же привержен ей, как если бы верил в нее. Я так же готов содействовать ей, как если бы верил в нее. А что еще я мог бы сделать, если бы искренне верил в нее?

— Вы очень своеобразный политик, — сказала Луиза. — Простите, но даже этой заслуги у меня нет. Уверяю вас, миссис Баундерби, мы оказались бы самой многочисленной партией нашего государства, если бы вышли все из рядов, покинув свои случайные места, и выстроились для общего смотра. Мистер Баундерби, который чуть не лопался от непривычно долгого для него молчания, оборвал их разговор, предложив перенести семейный обед на половину седьмого, а покуда обойти с визитами видных избирателей Кокстауна и его окрестностей. Визиты были сделаны; и мистер Джеймс Хартхаус, умело пуская в ход свои синие познания, с блеском выдержал экзамен, но при этом едва не умер от скуки. Вечером он обнаружил, что стол накрыт на четверых, однако обедать сели втроем. Мистер Баундерби не преминул воспользоваться столь удобным случаем и обстоятельно рассказал, как вкусно пахли тушеные угри, которые он в восьмилетнем возрасте покупал на полпенни у уличных торговцев; а также о свойствах воды, предназначенной главным образом для борьбы с пылью, которой он запивал сие лакомство. Кроме того, за супом и рыбой он занимал гостя подсчетами, уверяя его, что он (Баундерби) в отроческие годы съел по меньшей мере трех лошадей в виде колбас и сосисок. Все эти рассказы Джим выслушивал, время от времени бросая томное «прелестно!»; и, вероятно, они сильно способствовали бы его решению завтра же опять отправиться в Иерусалим, если бы не острое любопытство, которое возбуждала в нем Луиза. «Неужели, — думал он, глядя на молоденькую хозяйку, такую хрупкую и тоненькую, очень красивую, но столь явно не на месте во главе стола, — неужели нет ничего, что оживило бы эти застывшие черты?» Есть! Честное слово, есть, — и вот оно, но в весьма неожиданном обличье. Вошел Том. Едва завидев его, Луиза вся преобразилась, и лицо ее просияло улыбкой. Чудесная улыбка. Быть может, она особенно восхитила мистера Джеймса Хартхауса потому, что он очень долго дивился на ее безучастное лицо. Она протянула руку — маленькую, изящную, — и пальцы ее охватили руку брата, как будто она хотела поднести ее к губам. «Понятно, — подумал гость. — Этот щенок единственное существо, которое она любит. Так, так!» Щенка представили гостю, и он сел за стол. Наименование, мысленно данное ему мистером Хартхаусом, было нелестным, но нельзя сказать, чтобы незаслуженным. — Когда мне было столько лет, сколько тебе, Том, — сказал Баундерби, — я приходил вовремя или оставался без обеда! — Когда вам было столько лет, сколько мне, — возразил Том, — вы не корпели над перевранным балансом и не принаряжались к обеду. — Оставим это! — сказал Баундерби. — Так и не приставайте, — проворчал Том. — Миссис Баундерби, — сказал Хартхаус, отлично слышавший эту перепалку, — лицо вашего брата мне очень знакомо. Не мог ли я встречать его за границей? Или, может быть, мы учились в одной и той же школе? — Нет, — с готовностью отвечала она, — он еще ни разу не ездил за границу, а учился дома, в нашем городе. Том, милый, я говорю мистеру Хартхаусу, что он не мог видеть тебя за границей, — потому что ты никогда там не бывал. — Не имел такого счастья, сэр, — сказал Том. Луиза смотрела на брата сияющими глазами, хотя мало привлекательного можно было найти в этом угрюмом молодом человеке, грубоватом даже в обращении с сестрой. Видно, истомилось ее одинокое сердце и велика была потребность кому-нибудь отдать его. «Стало быть, верно, что щенок единственное существо, которое ей дорого, — думал мистер Джеймс Хартхаус, снова и снова возвращаясь к этой мысли. — Единственное!» И в присутствии сестры и после того, как она вышла из столовой, щенок бесцеремонно выражал свое презрение к мистеру Баундерби, усиленно гримасничая и подмигивая, как только сей независимый муж поворачивался к нему спиной. Мистер Хартхаус, правда, не отвечал на эти телеграфные знаки, но за один вечер очень сошелся с Томом и не скрывал своих дружественных чувств к нему. Когда гость, прощаясь, заметил, что не уверен, найдет ли он в темноте дорогу в гостиницу, щенок тотчас же предложил свои услуги и вышел вместе с мистером Хартхаусом, дабы проводить его.
Глава III
ЩенокВесьма примечательно, что молодой человек, воспитанный по системе неуклонного подавления всего, что свойственно человеческой природе, вырос лицемером; однако это несомненно случилось с Томом. Весьма удивительно, что молодой человек, который никогда и пяти минут не оставался без указки, так и не научился управлять самим собой; но именно это произошло с Томом. И совершенно непостижимо, что молодого человека, чье воображение было задушено еще в колыбели, все еще тревожили какие-то остатки его, выродившись в самые низменные наклонности; но именно таким феноменомбезусловно оказался Том. — Вы курите? — спросил мистер Джеймс Хартхаус, когда они подошли к гостинице. — Еще бы! — сказал Том. Долг вежливости обязывал его пригласить Тома подняться наверх, а Тому долг вежливости предписывал принять приглашение. Прохладительный напиток, приноровленный к жаркой погоде, — и притом достаточно крепкий, — и табак более редкого сорта, чем можно было приобрести в здешних краях, быстро возымели благотворное действие на состояние духа Тома, развалившегося в углу дивана, и преисполнили его еще большим восхищением к новому другу, занявшему противоположный угол. Накурившись, Том разогнал табачный дым и внимательно посмотрел на мистера Хартхауса. «Незаметно, чтобы он заботился о своей одежде, — подумал Том, — а как отлично он одет. Сразу видно светского щеголя!»
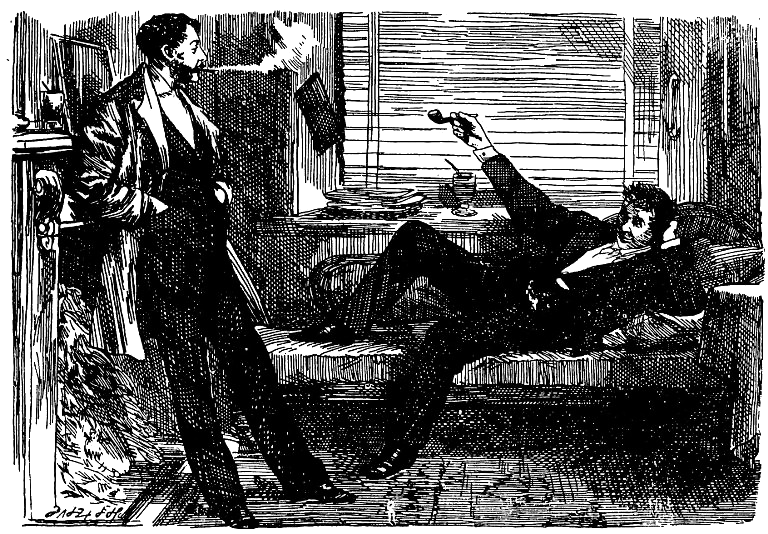
Мистер Джеймс Хартхаус, случайно встретившись с Томом глазами, заметил ему, что он ничего не пьет, и небрежным движением собственноручно наполнил его стакан. — Спасибо, — сказал Том. — Спасибо. Ну, мистер Хартхаус, нагляделись вы сегодня на старика Баундерби? — Том подмигнул и с хитрой миной посмотрел поверх стакана на своего собеседника. — А он очень славный малый, — отвечал мистер Джеймс Хартхаус. — Вы так думаете? — сказал Том и еще раз подмигнул. Мистер Джеймс Хартхаус улыбнулся; поднявшись с дивана, он стал напротив Тома, спиной к пустой каминной решетке, и, попыхивая сигарой, глядя на него сверху вниз, сказал: — Занятный вы шурин! — Вы, очевидно, имеете в виду, что старик Баундерби занятный зять, — отпарировал Том. — И злой же у вас язык, Том, — сказал мистер Джеймс Хартхаус. Как лестно быть на короткой ноге с таким бесподобным жилетом; и слышать дружеское «Том», произнесенное таким приятным голосом; и, едва успев познакомиться, непринужденно болтать с такими холеными бакенбардами! Том был доволен собой сверх всякой меры. — Я и не скрываю, что не люблю старика Баундерби, — сказал Том. — Я всегда за глаза называл его так, как сейчас, и думал о нем то же, что думаю сейчас. Не стану я вдруг разводить церемонии вокруг старика Баундерби. Поздновато начинать. — Со мной это не страшно, — сказал Джеймс, — а вот при его жене надо бы, знаете, поостеречься. — При его жене? — сказал Том. — Это при моей сестре Лу? Ну как же! — И, захохотав, он глотнул еще немного прохладительного напитка. Джеймс Хартхаус по-прежнему стоял перед камином, все в той же ленивой позе, посасывая сигару со свойственной ему непринужденной грацией и приветливо глядя на щенка, — он явно чувствовал себя в роли демона искусителя, который парит над намеченной жертвой и знает, что по первому требованию она отдаст ему всю душу. Щенок и в самом деле поддавался его обаянию. Он глянул на Джеймса Хартхауса подобострастно, потом глянул восторженно, потом глянул дерзко и вытянул одну ногу вдоль дивана. — Моя сестра Лу? — повторил Том. — Да она никогда не любила старика Баундерби. — Это прошедшее время, Том, — заметил мистер Джеймс Хартхаус, стряхивая мизинцем пепел с сигары. — А мы живем в настоящем. — Глагол «не любить». Второе спряжение. Изъявительное наклонение, настоящее время. Первое лицо единственного числа — я не люблю; второе лицо единственного числа — ты не любишь; третье лицо единственного числа — она не любит, — выпалил Том. — Очень мило! Остроумно! — похвалил Джеймс Хартхаус. — Но вы, конечно, шутите. — Вовсе не шучу! — воскликнул Том. — Даю честное слово! Неужели вы, мистер Хартхаус, и вправду думаете, что моя сестра Лу может любить старика Баундерби? — А что же, милый друг, я должен подумать, когда вижу счастливых супругов, между коими совет да любовь? К этому времени уже обе ноги Тома вытянулись на диване. Если бы его вторая нога еще не водворилась там, когда его назвали милым другом, он непременно задрал бы ее. Но, испытывая потребность как-то отметить этот знаменательный момент разговора, он разлегся на диване, опершись затылком на валик, и, с деланной небрежностью попыхивая сигарой, поворотил свою простоватую физиономию и несколько мутные глаза в сторону собеседника, который смотрел на него таким беспечным и в то же время таким властным взором. — Вы же знаете нашего родителя, мистер Хартхаус, — сказал Том. — Так и незачем вам удивляться, что Лу вышла за старика Баундерби. Она никогда никого не любила, родитель предложил ей старика, она и вышла за него. — Редкостное послушание в такой привлекательной женщине, — сказал мистер Джеймс Хартхаус. — Да. Но, может быть, она и не послушалась бы, и вообще это не сошло бы так легко и просто, если бы не я, — отвечал щенок. Искуситель только поднял брови, но это заставило щенка продолжать. — Это я убедил ее, — сказал он с важностью, тоном превосходства. — Меня сунули в банкирскую контору старика Баундерби (куда я вовсе не стремился), и я знал, что мне там придется несладко, если старик Баундерби останется с носом. Я и сказал ей, каково мое желание, и она его исполнила. Ради меня она все бы сделала. Очень мило с ее стороны, правда? — Просто замечательно, Том! — И то сказать, для нее это не имело такого большого значения, как для меня, — рассудительно продолжал Том, — ведь от ее брака зависела моя свобода, мое благополучие и, пожалуй, даже карьера. У нее же другого жениха не было. А оставаться дома — это все равно что в тюрьме сидеть, особенно после того, как я уехал оттуда. Вот если бы она из-за старика Баундерби отказала любимому человеку, — тогда другое дело. Но все-таки она поступила очень хорошо. — Уж куда лучше! И она так при этом спокойна. — Она, как все женщины, — со снисходительным высокомерием отвечал Том. — Женщина повсюду может ужиться. Она привыкла к своему положению и не тяготится им. Так ли, этак ли, ей все равно. И потом, хоть Лу и женщина, она все же не совсем обыкновенная женщина. Она может вдруг уйти в себя и целый час о чем-то думать — я сам сколько раз видел, как она молча сидит у камина и смотрит в огонь. — Понятно. Сама находит, чем развлечься, — заметил Хартхаус, лениво затягиваясь дымом. — Не так уж много находит, как вы, быть может, предполагаете, — возразил Том. — Родитель наш забил ей голову всякой сухой материей. Это его система. — Воспитал свою дочь такой, каков он сам? — спросил Хартхаус. — Дочь? Не только ее. Он даже меня так воспитал, — сказал Том. — Не может быть! — Именно, именно, — подтвердил Том и покачал головой. — Вообразите, мистер Хартхаус, когда я впервые покинул свой дом и поселился у старика Баундерби, я был глуп, как пробка, и о жизни знал не больше, чем устрица. — Полноте, Том! Я вам не верю. Вы просто шутите. — Даю вам слово! — воскликнул щенок. — Вовсе я не шучу. Какие уж тут шутки! — С минуту он сосредоточенно и важно курил свою сигару, потом продолжал самодовольным тоном: — Ну, с тех пор я немного поумнел. Не отрицаю. Но этим я обязан только себе. Родитель тут ни при чем. — А ваша ученая сестра? — Моя ученая сестра осталась почти такой, какой была. Она часто жаловалась мне, что не умеет заняться каким-нибудь женским делом. И теперь, наверно, ничего не изменилось. Но ее это не тяготит, — глубокомысленно добавил он, затягиваясь сигарой. — Женщины всегда как-то уживаются. — Вчера вечером, когда я заходил в банк, чтобы узнать адрес мистера Баундерби, я застал там одну престарелую леди, которая, видимо, искренне восхищается вашей сестрой, — заметил мистер Джеймс Хартхаус, бросая в камин окурок сигары. — Мамаша Спарсит! — догадался Том. — Как? Вы уже видели ее? Его друг кивнул головой. Том вынул изо рта сигару, чтобы подмигнуть похитрее (хотя веки уже плохо слушались его), и несколько раз ударил себя пальцем по носу. — Мамаша Спарсит, по-моему, не только восхищается Лу, — сказал Том. — Я бы назвал ее чувства — любовь и преданность. Мамаша Спарсит никогда не ловила Баундерби, когда он ходил в холостяках. Что вы, что вы! Эти слова были последними, произнесенными щенком, прежде чем он впал в дремотное забытье, за которым последовал крепкий сон. Очнулся он от весьма неприятного сновидения — ему померещилось, что в него ткнули носком башмака и чей-то голос сказал: «Хватит, время позднее. Ступайте домой!» — Ну что ж, — сказал он, поднимаясь с дивана. — Пора идти. Знаете, у вас очень хороший табак. Но только слишком слабый. — Да, да, слишком слабый, — отвечал мистер Хартхаус. — Просто… просто до смешного слабый, — сказал Том. — А где у вас дверь? Спокойной ночи! И еще ему привиделся странный сон — будто один из слуг гостиницы провел его через туман, который очень мешал ему идти, а когда рассеялся, оказался главной улицей, и слуги уже не было. Потом он без особенного труда побрел домой, хотя все еще каким-то таинственным образом ощущал присутствие своего нового друга — словно тот где-то парил в воздухе, так же небрежно прислонясь к камину и глядя на него тем же властным взором. Щенок добрался до дому и лег спать. Имей он хоть отдаленное понятие о том, что он натворил в тот вечер, и будь он в меньшей степени щенком, а в большей братом, он, быть может, круто свернул бы с дороги, спустился к зловонной, черной от краски реке и лег бы спать на веки вечные, навсегда задернув над головой грязный полог ее гниющих вод.
Глава IV
Люди и братья— О друзья мои, угнетенные рабочие Кокстауна! О друзья мои и соотечественники, рабы железного и беспощадного деспотизма! О друзья мои, товарищи по несчастью, товарищи по труду, братья и ближние мои! Настал час, когда мы должны слиться в единую сплоченную силу, дабы стереть в порошок наших притеснителей, которые слишком долго жирели потом наших лиц, трудом наших рук, силой наших мышц, грабя наши семьи, попирая богом созданные великие права человечества и извечные священные привилегии братства людей! «Правильно! Верно, верно! Ура!» и другие одобрительные возгласы неслись со всех концов битком набитого душного помещения, где оратор, взобравшись на подмостки, выпускал в толпу пары и пену своего красноречия. Он так распалился, что пот лил с него градом, и голос отказывался служить ему. Он долго кричал во все горло под ярким светом газового рожка, сжимал кулаки, хмурил брови, стискивал зубы и размахивал руками, и, наконец, доведя себя до полного изнеможения, остановился и попросил стакан воды. Он стоял над толпой весь багровый, жадно глотая холодную воду, и надо сказать, что сравнение между ним и обращенными к нему сосредоточенными лицами было отнюдь не в его пользу. Если судить о нем по тем свойствам, какими наделила его природа, то мало что возвышало его над толпой слушателей, помимо подмостков, на которые он взобрался. Во многих других весьма немаловажных отношениях он стоял значительно ниже их. В нем не было ни их прямоты, ни их мужества, ни их незлобивости; он подменял хитростью их простодушие, неистовством — их трезвый, здравый ум. Нескладный, узкоплечий, с насупленными бровями, с застывшей на лице брюзгливой гримасой, он даже своим ублюдочным платьем невыгодно отличался от своих слушателей в будничной рабочей одежде. Всегда странно видеть, как покорно слушает скучнейшие разглагольствования самоуверенного пустомели — будь то титулованная особа или простой смертный — собрание людей, большинство которых тщетно пыталось бы поднять это ничтожество до собственного духовного уровня; тем более странно, и даже обидно было видеть, как сильно увлечена речами такого вожака толпа степенных людей, чья искренность ни в одном проницательном и беспристрастном наблюдателе не могла вызвать и тени сомнений. Правильно! Верно, верно! Ура! Внушительное это было зрелище — такое множество лиц и на всех до единого написано напряженное внимание и готовность действовать. Ни беспечности, ни лени, ни праздного любопытства; здесь и на мгновение нельзя было подметить тех многочисленных оттенков равнодушия, которые стали обычны для всех других сборищ. Каждый понимал, что положение его, по той или иной причине, хуже, чем оно могло бы быть; каждый считал своим долгом примкнуть к остальным, чтобы добиться лучшей доли; каждый знал, что ему не на что надеяться, кроме как на объединение со своими товарищами; каждый был преисполнен веры. истинной или ложной (к несчастью, на сей раз ложной), — веры глубокой, искренней, чистосердечной, — все это любой наблюдатель, не закрывающий умышленно глаза, увидел бы так же ясно, как голые балки, поддерживающие крышу, и выбеленные кирпичные стены. И любой честный наблюдатель должен был бы в глубине души признать, что эти люди в самом заблуждении своем обнаруживали высокие нравственные качества, которые могли бы принести добрые плоды, и что утверждать (ссылаясь на огульные, якобы бесспорные теории), будто они сбиваются с пути не в силу каких-либо причин, а просто по собственному неразумию и злой воле, — это все равно, что утверждать, будто бывает дым без огня, смерть без рождения, жатва без сева или что бы то ни было, возникшее из ничего. Оратор, освежившись, несколько раз провел по наморщенному лбу слева направо скомканным носовым платком и вложил все свои восстановленные силы в презрительную и горькую улыбку. — Но, о друзья и братья мои! О мои сограждане, угнетенные рабочие Кокстауна! Что сказать о человеке, о рабочем человеке — как ни кощунственно называть его этим славным именем, — отлично знающем по собственному опыту все ваши обиды и гонения на вас, — на силу и крепость Англии, — слышавшем, как вы, с благородным и величественным единодушием, перед которым задрожат тираны, решили внести свою лепту в фонд Объединенного Трибунала[45] и соблюдать все правила, изданные этим органом на благо вам, каковы бы они ни были, — что, спрашиваю я вас, можно сказать об этом рабочем, — ибо так я вынужден называть его, — который в такое время покидает свой боевой пост и изменяет своему знамени; в такое время оказывается предателем, трусом и отступником, и не стыдится, в такое время, открыто заявить о том, что он принял позорное, унизительное решение остаться в стороне и не участвовать в доблестной борьбе за свободу и справедливость! Эти слова оратора не встретили единодушного отклика. Кое-где послышалась брань, свистки, но большинство слушателей считало зазорным для себя осудить человека, не выслушав его. «Не ошибись, Слекбридж. Вызови его! Пусть говорит!» Такие возгласы раздавались со всех сторон. Наконец кто-то громко крикнул: «А он здесь? Ежели он здесь, Слекбридж, то мы послушаем, что он скажет, а ты пока помолчи». Что и было принято под дружные аплодисменты. Слекбридж, оратор, посмотрел по сторонам с уничтожающей усмешкой; вытянув во всю длину правую руку (по примеру всех Слекбриджей), дабы усмирить разбушевавшееся море, он стоял молча, пока не наступила тишина. — О друзья мои и братья! — с горьким презрением качая головой, заговорил тогда Слекбридж. — Ничего нет удивительного в том, что вы, гонимые сыны труда, отказываетесь верить в существование такого человека. Но существовал же тот, кто продал свое первородство за чечевичную похлебку[46], существовал и Иуда Искариот и Каслри[47], существует и этот человек! У подмостков произошло какое-то движение, толкотня, и человек, которого обличал оратор, появился рядом с ним перед собранием. Он был бледен и, видимо, волновался — особенно выдавали его слегка дрожащие губы; но он стоял спокойно, держась левой рукой за подбородок, и ждал, чтобы ему дали возможность говорить. Председатель собрания решил теперь взять дело в свои руки. — Друзья, — сказал он, — по праву вашего председателя, я прошу нашего друга Слекбриджа, который, может быть, немного погорячился, занять свое место, а мы покуда послушаем, что скажет Стивен Блекпул. Вы все знаете Стивена Блекпула. Знаете его горькую судьбу и его доброе имя. Председатель дружески пожал Стивену руку и сел. Сел и Слекбридж, вытирая потный лоб слева направо, — именно слева направо, а не наоборот. — Друзья мои, — начал Стивен в гробовой тишине, — я слышал, что тут говорили про меня, и думается мне, мои слова дела не поправят. Но пусть лучше вы узнаете правду обо мне из моих уст, а не из чужих, хотя я всегда путаюсь и сбиваюсь, когда меня слушает много людей. Слекбридж от великого презрения так неистово тряхнул головой, как будто хотел стряхнуть ее напрочь. — Только я один из ткачей на фабрике Баундерби, из всех рабочих, не согласился с вашим решением. Я не могу с ним согласиться. Друзья мои, я не верю, что это будет к добру. Как бы худо не было. Слекбридж хохотнул, скрестил руки и саркастически скривился. — Но я не потому остался в стороне. Будь только это, я бы пошел вместе со всеми. Но есть причина, — у меня, понимаете, есть такая причина, отчего мне это заказано. И не только нынче, а навсегда, на всю жизнь. Слекбридж вскочил с места и стал возле Стивена, скрежеща зубами от ярости. — О друзья мои, разве не то же я вам говорил? О мои соотечественники, разве не от этого я предостерегал вас? И каково же видеть такое малодушие в человеке, который сам пострадал от несправедливых законов? О братья мои, я спрашиваю вас, каково видеть человека из вашей же среды, который столь труслив и продажен, что по своей воле обрекает на гибель и себя, и вас, и детей, и внуков ваших? Раздались жидкие аплодисменты, нестройные крики «позор!». Но большинство собравшихся молчали. Они видели осунувшееся, взволнованное лицо Стивена, читали на нем искреннее бесхитростное чувство и по добросердечию своему не столько возмущались им, сколько жалели его. — Этому делегату положено говорить, — продолжал Стивен, — такое у него ремесло. Ему за это деньги платят, и он свое дело знает. Пусть и занимается им. А что выпало мне на долю, пусть его не тревожит. Это его не касается. Это касается только меня одного. В последних словах Стивена было столько достоинства, чтобы не сказать благородства, что тишина стала еще полнее, а лица слушателей еще сосредоточенней. Тот же громкий голос крикнул: «Слекбридж, не мешай нам слушать, попридержи язык!», после чего воцарилось мертвое молчание. — Братья, — продолжал Стивен, чей тихий голос был теперь отчетливо слышен, — братья мои и товарищи — ибо для меня вы товарищи, хоть я и знаю, что этот делегат думает иначе, — я скажу вам только одно, и больше мне сказать нечего, хоть бы я говорил до самого утра. Я хорошо знаю, что меня ждет. Знаю, что вы не захотите иметь дело с человеком, который нынче не пошел вместе с вами. Знаю, что, ежели я буду умирать под забором, вы, не задумываясь, пройдете мимо, словно никогда меня в глаза не видали. Все, что мне предстоит, я должен стерпеть. — Стивен Блекпул, — сказал председатель, вставая, — подумай еще. Подумай еще, прежде чем все твои старые друзья отвернутся от тебя. По толпе прошел одобрительный ропот, но никто не произнес ни слова. Все взоры были устремлены на лицо Стивена. Если бы он взял обратно свое решение, у каждого из них камень свалился бы с души. Он посмотрел вокруг себя и понял это. И тени злобы не было в его сердце против них; он хорошо знал их, не по случайным заблуждениям и слабостям, а так, как только свой брат рабочий мог их знать. — Я думал, сэр, много думал. Но я не могу решить иначе. Я должен идти своим путем. Я должен проститься со всеми здесь. Он, как бы в знак прощанья, поднял обе руки и молча постоял так немного, потом медленно опустил их. — От многих из вас я слышал доброе слово; много среди вас знакомых лиц, которые я увидел впервые, когда был молод и на сердце было легко. Сроду я ни с кем из своих не ссорился; и, бог свидетель, не я нынче ищу ссоры с вами. Меня назовут предателем… вы назовете, — сказал он, обращаясь к Слекбриджу, — но назвать легче, чем доказать. Пусть так. Он уже сделал несколько шагов, намереваясь сойти с подмостков, но вспомнил, что забыл сказать еще об одном, и остановился. — Быть может, — заговорил он, медленно поворачивая изборожденное морщинами лицо, словно обращаясь лично к каждому из собравшихся и в первых рядах и в последних, — быть может, когда вы обсудите мое дело, вы пригрозите забастовкой, ежели меня хозяева не уволят. Лучше мне умереть, чем дожить до такого дня; а ежели вы этого не потребуете, я буду по-прежнему работать среди вас, хоть вы и отвергнете меня, — иначе мне нельзя; не потому, что я хочу идти вам наперекор, а потому, что жить надо. Меня работа кормит. А куда я пойду, — ведь я работал в Кокстауне еще в те годы, когда меня от земли не видать было. Я не жалуюсь на то, что отныне все отвернутся от меня и никто даже глядеть на меня не захочет. Но я надеюсь, что мне позволено будет работать. Ежели, друзья, за мной осталось хоть какое-то право, то я думаю, это право у меня есть. Никто не проронил ни слова. Ничто не нарушало безмолвия, только в проходе между скамьями слышался тихий шорох — люди молча сторонились, давая дорогу тому, кого они обязались не считать больше своим товарищем. Ни на кого не глядя, с тем скромным достоинством, которое ничего не ищет и ничего не требует, Старый Стивен, унося груз своих невзгод, покинул собрание. Тогда Слекбридж, который все время, пока Стивен выходил, стоял молча, простерши витийственную руку, озабоченно взирая на толпу, словно он своей могучей нравственной силой удерживал готовую разразиться бурю, решил поднять дух своих слушателей. Разве римлянин Брут, о мои соотечественники британцы, не осудил на смерть своего сына; и разве спартанские матери, о мои друзья, чья победа не за горами, не погнали своих детей, бежавших с поля брани, навстречу острым мечам неприятеля? И не велит ли рабочим Кокстауна священный долг перед их предками, перед восхищенным миром и перед грядущими поколениями, исторгать предателей из шатров своих, раскинутых во имя святого, богом благословенного дела? Да, отвечают ветры поднебесные и разносят это «да» во все концы света — на восток, запад, юг и север. И потому — троекратное «ура» Объединенному Трибуналу! Слекбридж, словно регент, стоящий перед хором, задал тон. Лица слушателей прояснились, исчезла неуверенность (и смутное сознание вины), и все подхватили его крик. Личные чувства должны умолкнуть ради общего дела. Стены еще дрожали от громового «ура», когда собрание разошлось. Итак, Стивена с легкостью обрекли на самое полное одиночество — на одиночество среди множества близких людей. Пришелец в чужой стране, заглядывающий в десять тысяч лиц, тщетно надеясь встретить приветливый взгляд, не одинок, — он окружен друзьями по сравнению с тем, кто ежедневно проходит мимо десятка лиц, которые некогда дружески улыбались ему, а теперь отворачиваются при его приближении. Такая участь была уготована Стивену в каждый миг его бодрствования — за станком, на пути к фабрике и на пути домой, у своего порога, у своего окна, везде. По молчаливому уговору рабочие даже не ходили по той стороне улицы, по которой он обычно шел на работу, а предоставляли ходить по ней ему одному. Стивен уже долгие годы жил тихой, уединенной жизнью, с людьми знался мало, предпочитая общение с собственными думами. Он и не подозревал о том, как сильно нуждался в дружелюбном кивке, взгляде, слове; ни о том, как много значили для него эти, казалось бы, ничтожные пустяки, по капле вливавшие утешение в его сердце. И он никак не думал, что так трудно будет всегда помнить о том, что, невзирая на единодушный отказ от него товарищей, ему нечего стыдиться и не за что укорять себя. Первые четыре дня тяжкого испытания, выпавшего на его долю, показались ему столь нестерпимо долгими, что будущее стало пугать его. Он не только не видел Рейчел за все это время, но тщательно избегал даже случайной встречи с ней; он, правда, знал, что решение, запрещающее общаться с ним, покуда еще не распространяется на фабричных работниц, но уже заметил, как переменились к нему некоторые из тех, с кем он был знаком, и боялся подходить к остальным, а при одной мысли, что все они, быть может, отвернутся от Рейчел, если их увидят вместе, ужас охватывал его. Поэтому все четыре дня он провел в полном одиночестве, ни с кем не перемолвившись словом, но на четвертый вечер, когда он шел с работы, его остановил на улице молодой человек весьма белесой окраски. — Ваша фамилия Блекпул, да? — спросил молодой человек. Стивен покраснел, заметив, что невольно снял шляпу — не то от неожиданности, не то от облегчения, что кто-то заговорил с ним. Он сделал вид, будто вправляет подкладку, и отвечал: «Да». — Вы тот самый рабочий, с которым никто не должен знаться? — спросил Битцер, ибо белесый молодой человек был именно он. Стивен опять отвечал «да». — Я так и думал, потому что видел, как они все сторонятся вас. Мистер Баундерби желает говорить с вами. Вы ведь знаете, где его дом? Стивен опять сказал «да». — Тогда ступайте прямо к нему, — сказал Битцер. — Вас там ждут, и вы просто скажете слуге, кто вы такой. Я живу при банке, и если вы пойдете к мистеру Баундерби одни (я должен был привести вас), вы меня очень обяжете. Стивен, хотя шел в противоположную сторону, поворотил обратно и, повинуясь приказу, отправился в кирпичный замок великана Баундерби.
Глава V
Рабочие и хозяева— Ну-с, Стивен, — сказал Баундерби, как всегда важный и самодовольный, — что это я слышу? Что они привязались к вам, чума их возьми? Входите и расскажите нам, в чем дело. Приглашение это Стивен получил, едва переступив порог гостиной. На одном из столиков был сервирован чай, и в комнате, кроме хозяина, находилась его молодая жена, ее брат и щеголеватый джентльмен из Лондона; Стивен поклонился и с шляпой в руках стал у двери, притворив ее за собой. — Это тот самый рабочий, Хартхаус, я уже говорил вам о нем, — сказал мистер Баундерби. Джентльмен, к которому он обращался, сидел на диване, занятый беседой с миссис Баундерби; услышав эти слова, он встал, томно произнес: «Вот как!» — и не спеша подошел к стоявшему перед камином Баундерби. — Ну-с, — повторил Баундерби, — говорите! После пережитых четырех тягостных дней слова Баундерби больно резнули слух Стивена. Они не только бередили его душевную рану, — они точно подразумевали, что он на самом деле трус и отступник, думающий только о своей выгоде. — Что вам от меня угодно, сэр? — спросил Стивен. — Так я же вам сказал, — отвечал Баундерби. — Будьте мужчиной, объясните нам все про себя и про этот их союз. — Прошу прощения, сэр, — вымолвил Стивен Блекпул, — мне нечего сказать об этом. Мистер Баундерби, в повадках которого всегда было много общего с напористым ветром, натолкнувшись на препятствие, немедленно задул изо всей мочи. — Вот полюбуйтесь, Хартхаус, — начал он, — вот вам образчик этих людей. Этот человек уже был однажды здесь, и я сказал ему, чтобы он остерегался зловредных чужаков, которые вечно толкутся тут, — изловить бы их всех да повесить! — и я предупреждал его, что он на опасном пути. Так вот, хотите верьте, хотите нет, — даже теперь, когда они опозорили его, он так рабски подчиняется им, что боится рот открыть. — Я говорил, что мне нечего сказать, сэр. Я не говорил, что боюсь рот открыть. — Говорил! Я знаю, что вы говорили. Мало того, я знаю, что у вас на уме. Это, доложу я вам, не всегда одно и то же! Наоборот — это очень разные вещи. Говорите уж лучше сразу, что никакого Слекбриджа в городе нет; что он не подбивает народ бунтовать; что вовсе он не обученный этому делу вожак, то есть отъявленный мерзавец. Вы лучше сразу скажите все это, — меня ведь не проведешь. Вы именно это хотите сказать. Чего же вы ждете? — Я не меньше вас, сэр, сокрушаюсь, когда у народа плохие вожди, — покачав головой, сказал Стивен. — Ничего не поделаешь, берут таких, какие есть. Это большая беда, когда негде взять получше. Ветер крепчал. — Ну-с, Хартхаус, — сказал мистер Баундерби, — как вам это понравится? Недурно, а? Вы скажете — помилуй бог, с какими субъектами моим друзьям приходится иметь дело. Но это еще что, сэр! Вот послушайте, я задам этому человеку вопрос. Прошу вас, мистер Блекнул, — сильный порыв ветра, — разрешите узнать, как это случилось, что вы отказались примкнуть к союзу? — Как случилось? — Вот именно! — сказал мистер Баундерби, засунув большие пальцы за жилет, тряся головой и доверительно подмигивая противоположной стене, — как это случилось? — Мне не хотелось бы говорить об этом, сэр. Но раз уж вы задали вопрос, чтобы меня не сочли невежей, я вам отвечу. Я слово дал. — Только не мне, полагаю, — ввернул Баундерби. (Погода бурная с обманчивыми штилями, — как, например, сейчас.) — Нет, нет, сэр. Не вам. — Уж, во всяком случае, не из уважения ко мне это было сделано, — сказал Баундерби, все еще обращаясь к стене. — Ежели бы это касалось только Джосайи Баундерби из Кокстауна, вы бы, не задумываясь, примкнули к ним? — Разумеется, сэр. Так оно и есть. — Хотя он отлично знает, — сказал мистер Баундерби, свирепея, — что это шайка мерзавцев и бунтовщиков, для которых каторга и то слишком большая милость! Ну-с, мистер Хартхаус, вы повидали свет. Попадалось вам что-нибудь похожее на этого человека за пределами нашего славного отечества? — И мистер Баундерби гневным перстом указал на Стивена. — Нет, сударыня, — сказал Стивен Блекнул, инстинктивно обращаясь к Луизе, после того как взглянул ей в лицо, и решительно возражая против слов, употребленных мистером Баундерби, — не бунтовщики и не мерзавцы. Это неверно, сударыня, неверно. Они круто поступили со мной, я это знаю и чувствую. Но из них не наберется и десятка, — да не десятка, а полдесятка, сударыня, — таких, которые бы не думали, что исполнили свой долг перед всеми и перед собой. Я знал этих людей и жил среди них всю свою жизнь, ел и пил с ними, работал вместе с ними, любил их, и боже упаси, чтобы я не вступился за них, когда их оговаривают, — как бы они ни обошлись со мной! Эти проникновенные слова были сказаны с прямотой, присущей людям его среды — и, быть может, с горделивым сознанием, что он остался верен товарищам, хоть они и обвинили его в предательстве; но он хорошо помнил, где находится, и даже не повысил голоса. — Нет, сударыня, нет. Они привержены друг к другу, преданы друг другу, сострадают друг другу, не щадя жизни. Какое бы ни приключилось горе — а ведь к бедному человеку горе часто стучится в дверь, — нужда ли, хворь или еще что — они ласковы с тобой, жалостливы и рады помочь по-христиански. Это сущая правда, сударыня. И всегда так будет, хоть разорвите их на части. — Короче говоря, — сказал мистер Баундерби, — оттого, что они образцы добродетели, они вышвырнули вас вон. Раз уж вы начали говорить об этом, доскажите до конца. Мы вас слушаем. — Почему так получается, — продолжал Стивен, по-прежнему обращаясь к Луизе и, видимо, читая сочувствие на ее лице, — что как раз все самое лучшее в нас всегда доводит нашего брата до горя и беды — ума не приложу. Но это так. Я это твердо знаю, как знаю, что у меня небо над головой, хоть его и не видно за дымом. И мы терпеливы и ничего дурного делать не хотим. Не могу я поверить, чтобы вся вина была наша. — Ну-с, любезнейший, — сказал мистер Баундерби, которого Стивен, сам того не подозревая, донельзя разозлил обращением не к нему, а к кому-то еще, — ежели вы на минутку удостоите меня своим вниманием, я желал бы перемолвиться с вами словом. Вы только что заявили, что ничего не имеете сообщить нам об этой затее. Так вот, прежде всего скажите, — вы вполне уверены, что ничего не можете сообщить? — Вполне уверен, сэр. — Здесь присутствует джентльмен из Лондона, — мистер Баундерби через плечо показал большим пальцем на мистера Джеймса Хартхауса. — Этот джентльмен — будущий член парламента. Я желаю, чтобы он послушал коротенький разговор между мной и вами, хотя я мог бы сам изложить ему суть дела — ибо я заранее знаю, к чему это сведется. Никто не знает этого лучше меня, имейте в виду! Но пусть он услышит своими ушами, а не принимает мои слова на веру. Стивен поклонился джентльмену из Лондона, и на лице его отразилось еще большее недоумение, чем обычно. Глаза его невольно опять обратились к Луизе, ища в ней прибежище, но она ответила ему столь выразительным, хотя и быстрым взглядом, что он немедля перевел их на лицо мистера Баундерби. — Ну-с, на что же вы жалуетесь? — вопросил мистер Баундерби. — Я не пришел сюда жаловаться, сэр, — напомнил ему Стивен. — Я пришел потому, что за мной послали. — На что же вы жалуетесь, — повторил свой вопрос мистер Баундерби, скрестив руки на груди, — вообще говоря, вы все? Стивен с минуту колебался, потом, видимо, принял решение. — Сэр, объяснять я не мастер, да и сам я не очень понимаю, что тут неладно, хоть и чувствую это не хуже других. Как ни верти — выходит морока, сэр. Оглянитесь вокруг в нашем городе — богатом городе! — и посмотрите, сколько людей родится здесь для того лишь, чтобы всю жизнь, от колыбели до могилы, только и делать, что ткать, прясть и кое-как сводить концы с концами. Посмотрите, как мы живем, где живем, и как много нас, и какие мы беззащитные, все до одного; посмотрите — фабрики всегда работают, всегда на ходу, а мы? Мы все на той же точке. Что впереди? Одна смерть. Посмотрите, кем вы нас считаете, что вы про нас пишете, что про нас говорите, и посылаете депутации к министрам, и всегда-то вы правы, а мы всегда виноваты, и сроду, мол, в нас никакого понятия не было. И год от года, от поколения к поколению, что дальше, то больше и больше, хуже и хуже. Кто же, сэр, глядя на это, может, не кривя душой, сказать, что здесь нет мороки? — Так, так, — сказал мистер Баундерби. — А теперь вы, может быть, объясните этому джентльмену, какой вы предлагаете выход из этой мороки (раз уж вам угодно так выражаться). — Не знаю, сэр. Откуда мне знать это? Не у меня надо спрашивать, где найти выход, сэр. Спрашивать надо у тех, кто поставлен надо мной и над всеми нами. Ежели не это их дело, то что же? — А вот я вам сейчас скажу, что, — отвечал мистер Баундерби. — Мы это покажем на примере полдюжины Слекбриджей. Мы отдадим негодяев под суд, как уголовных преступников, и добьемся, что их сошлют на каторгу. Стивен с сомнением покачал головой. — Не воображайте, что мы этого не сделаем, — сказал мистер Баундерби, налетая на него ураганом. — Именно так мы и поступим, слышите? — Сэр, — возразил Стивен с невозмутимостью человека, глубоко убежденного в своей правоте, — схватите сотню Слекбриджей — всех, сколько их есть, и вдесятеро больше, — зашейте каждого по отдельности в мешок и спустите их в бездну вод, какая была до сотворения суши, — морока как есть, так и останется. Зловредные чужаки! — сказал Стивен с горькой улыбкой. — Сколько мы себя помним, столько мы слышим про зловредных чужаков! Не они причина неурядиц, сэр. Не они их затевают. У меня к ним душа не лежит, мне не за что любить их, но напрасно вы думаете, что можно отъять этих людей от их дела — и не надейтесь! Лучше отъять дело от них. Все, что есть сейчас в этой комнате, уже было здесь, когда я вошел, и останется здесь, после того как я уйду. Погрузите вон те часы на корабль и отправьте их на остров Норфолк[48], а время-то все равно будет идти. Вот так и со Слекбриджем. Мельком взглянув еще раз на свое прибежище, он заметил, что Луиза украдкой показывает ему глазами на дверь. Он сделал шаг назад и уже взялся за ручку. Но все, что он сказал, было сказано не по доброй воле и не по его почину; и он почувствовал, что если до конца сохранит верность тем, кто отринул его, — это будет великодушная плата за нанесенные ему обиды. Он помедлил, намереваясь договорить то, что было у него на сердце. — Сэр, я человек простой, малограмотный и не могу объяснить джентльмену из Лондона, чем горю помочь, хотя в нашем городе есть рабочие поученее меня, которые сумели бы — но я могу объяснить ему, чем горю не поможешь. Принуждением не поможешь. Насилием не поможешь. И стоять на том, что всегда и во всем одна сторона права, а другая всегда и во всем виновата — чему даже и поверить трудно, — это уж, конечно, не поможет. И оставить все как есть — тоже не поможет. Ежели тысячи и тысячи людей будут жить все той же жизнью, и будет все та же морока, они станут как один, и вы станете как один, а между вами ляжет непроходимая черная пропасть, и длиться это будет, долго ли, коротко ли, — сколько такое бедствие длиться может. И подходить к людям без ласки, без привета, без доброго слова — к людям, которые так поддерживают друг друга в беде и делятся последним куском, как — смею думать — джентльмен из Лондона не видел ни в одном народе, сколько он ни исколесил стран — этим наверняка горю не поможешь, пока солнце не обратится в лед. А перво-наперво — не видеть в них ничего, кроме рабочей силы, и распоряжаться ими, точно это всего лишь единицы и нули в школьной задаче, или машины, которые не знают ни любви, ни дружбы, ничего не помнят и ничего не желают, ни о чем не тоскуют и ни на что не надеются, и только погонять их, когда все спокойно, и считать, что у них вовсе нет никакой души, а как только станет беспокойно, корить их за то, что они бесчувственные истуканы, — уж это никогда, никогда не поможет, пока божий свет стоит. Стивен медлил на пороге, держась за ручку отворенной двери, и ждал, что еще потребуется от него. — Погодите минутку, — сказал мистер Баундерби, весь побагровев от злости. — Я уже вам говорил, когда вы приходили сюда с жалобой, что вам лучше бросить это и образумиться. И еще — помните? Я вам сказал, чтобы вы и думать забыли о золотой ложечке. — Будьте покойны, сэр, я никогда о ней не думал. — Теперь мне ясно, — продолжал мистер Баундерби, — что вы из тех, кто вечно всем недоволен. И всюду вы сеете недовольство и распространяете смуту. Вот ваша главная забота, любезнейший. Стивен отрицательно покачал головой, молча давая понять, что заботы его совсем иного свойства. — Вы такой сварливый, ершистый брюзга, — сказал мистер Баундерби, — что, сами видите, даже ваш союз, люди, которые вас лучше всех знают, не хотят иметь с вами дела. Вот уж не ожидал, что они в чем-нибудь могут быть правы, но на сей раз, скажу я вам, я с ними заодно: я тоже не хочу иметь с вами дела. Стивен вскинул на него глаза. — Кончайте то, что у вас на станке, — сказал мистер Баундерби, многозначительно кивая головой, — и можете отправляться. — Сэр, — сказал Стивен с ударением, — вы хорошо знаете, что ежели вы мне не дадите работы, никто не даст. На что он услышал в ответ: «Знаю или не знаю, это мое дело, остальное меня не касается. Больше мне сказать нечего». Стивен опять взглянул на Луизу, но она уже не смотрела ему в лицо; он вздохнул, проговорил вполголоса: «Господи спаси и помилуй нас грешных!» — и вышел.
Глава VI
РасставаньеУже темнело, когда Стивен покинул дом мистера Баундерби. Вечерние тени сгустились так быстро, что, затворив за собой дверь, он не стал оглядываться по сторонам, а сразу зашагал по улице. Далека была от его мыслей таинственная старушка, с которой он повстречался после первого посещения этого дома, но, услышав позади себя знакомые шаги и обернувшись, он увидел ее — и рядом с ней Рейчел. Он первой увидел Рейчел, да и шаги слышал только ее. — Рейчел, дорогая! И вы, миссис! — Удивляетесь, правда? — отозвалась старушка. — Оно и понятно. Вот я и опять здесь. — Но как вы сошлись с Рейчел? — спросил Стивен, идя между ними и переводя взгляд с одной на другую. — Да почти что как и с вами, — с готовностью отвечала старушка. — В нынешнем году я приехала попозже, потому одышка меня замучила и я отложила поездку до теплой погоды. И по этой же причине не в один день оборачиваюсь, а в два, и заночую нынче на заезжем дворе у железной дороги (там хорошо — чистота!), а завтра утром шестичасовым уеду домой. Но вы спрашиваете, при чем тут эта славная девушка? Сейчас скажу. Я узнала, что мистер Баундерби женился. В газете прочла — и как там хорошо все было расписано, ах, как хорошо! — воскликнула старушка с неподдельным восторгом, — вот и хочу поглядеть на его жену. Еще ни разу не видала ее. И поверите ли, — с самого полудня она не выходила из дому. А уж мне так не хотелось уезжать, не увидев ее, — я и повременила здесь немного, и раза два прошла мимо этой славной девушки; и такое у нее милое лицо, что я обратилась к ней, а она ко мне, — слово за слово, мы и разговорились. Ну, вот, — заключила старушка, — а что дальше было, вы сами можете смекнуть скорее, чем я сумею рассказать. Снова Стивену пришлось подавить в себе невольную неприязнь к старушке, хотя, казалось, она сама искренность и простодушие. Добросердечный от природы и зная, что такова же Рейчел, он заговорил о том, что столь явно занимало эту старую женщину. — Ну что же, миссис, — сказал он, — я видел ее; она молодая и красивая. Глаза темные, задумчивые, и, понимаешь, Рейчел, такая она тихая, даже удивительно. — Да, да, молодая и красивая! — в упоении вскричала старушка. — Хороша словно розан! А какая счастливая — за таким-то человеком! — Надо полагать, счастливая, — сказал Стивен, однако с сомнением взглянув на Рейчел. — Надо полагать? Иначе быть не может. Она жена вашего хозяина, — возразила старушка. Стивен кивнул. — Впрочем, — сказал он, снова взглянув на Рейчел, — он уже мне не хозяин. Между ним и мною все кончено. — Ты ушел с работы, Стивен? — с тревогой спросила Рейчел. — Я ли ушел с работы, — отвечал он, — или работа ушла от меня, выходит одно на одно. С его работой мы теперь врозь. Пусть так. Я даже подумал, вот когда вы меня догнали, пожалуй, оно и к лучшему. Останься я здесь, я был бы как бельмо на глазу. Может, многим легче станет, когда я уйду; и мне самому, может, легче станет; так ли, нет ли, — а уж теперь ничего не поделаешь. Должен я распрощаться с Кокстауном и сызнова счастье свое искать. — Куда ты пойдешь, Стивен? — Покамест еще не знаю, — отвечал он, сняв шляпу и приглаживая ладонью редкие волосы. — Я не нынче ведь уйду, Рейчел, и не завтра. Нелегкое это дело — решить, куда податься, но я соберусь с духом. Сознание, что он и в мыслях своих печется не о себе, а о других, и тут поддерживало в нем бодрость. Едва выйдя от мистера Баундерби, он подумал, что его вынужденный уход хоть Рейчел сослужит службу — оградит ее от нападок за то, что она не порывает с ним. Конечно, разлука с ней — тяжкое испытание и, где бы он ни очутился, вынесенный ему приговор будет тяготеть над ним, но последние четыре дня были столь мучительны, что, быть может, уж лучше уйти, куда глаза глядят, навстречу неведомым горестям и лишениям. И потому он, не кривя душой, сказал: — Я неповерил бы, Рейчел, что так легко примирюсь с этим. Не ей было увеличивать его бремя. Она ответила ему ласковой улыбкой, и они втроем продолжали путь. Старость, особенно когда она силится не быть обузой и не нагонять тоску, пользуется большим уважением среди бедного люда. Старушка была такая приветливая и благодушная, так беспечно говорила о своих немощах, хотя здоровье ее явно ухудшилось со времени первой встречи со Стивеном, что оба они приняли в ней участие. Она ни за что не хотела, чтобы они из-за нее замедляли шаг; но она радовалась тому, что они говорят с ней, и сама готова была говорить с ними сколько угодно, так что, когда они дошли до своей части города, старушка шагала бодро и весело, точно молодая. — Пойдем ко мне, миссис, в мое убогое жилье, — сказал Стивен, — выпейте чашку чаю. И Рейчел пойдет с нами, а потом я провожу вас до вашего заезжего двора. Кто знает, Рейчел, когда бог приведет свидеться с тобой. Обе согласились, и они все вместе подошли к его дому. Свернув в узкий проулок, Стивен, как всегда, с трепетом поглядел на свое окно — он страшился своего разоренного домашнего очага; но окно было отворено, как он оставил его утром, и ничья голова не мелькала в нем. Злой дух его жизни снова исчез много месяцев назад, и с тех пор он не видел несчастной пропойцы. О последнем ее возвращении можно было догадаться только по тому, что мебели в его комнате стало меньше, а седины в волосах — больше. Он зажег свечу, достал чайную посуду, принес снизу кипятку и сходил в соседнюю лавочку за чаем, сахаром, хлебом и маслом. Хлеб был мягкий с хрустящей корочкой, масло — свежее, сахар — колотый, чем подтверждалось неизменное свидетельство кокстаунских магнатов, что этот народ живет по-княжески, да, сэр! Рейчел заварила чай, разлила его (для столь многолюдного общества одну чашку пришлось занять), и гостья с видимым удовольствием подкрепила свои силы. Что касается хозяина, который впервые за много дней пил чай не в одиночестве, то и он не без удовольствия приступил к скромной трапезе, хотя мир и ближайшее будущее расстилались перед ним неоглядной пустыней, — чем опять-таки подтвердил точку зрения магнатов, явив пример полной неспособности этого народа что-нибудь рассчитать и предвидеть, да, сэр! — Я и не догадался спросить, как вас звать, миссис, — сказал Стивен. Старушка отвечала, что звать ее «миссис Пеглер». — Вдовеете, надо думать? — спросил Стивен. — Сколько лет уже! — По расчетам миссис Пеглер, ее муж (редкий был человек!) умер еще до того, как Стивен родился. — Большое горе потерять хорошего мужа, — сказал Стивен. — А дети есть? Чашка миссис Пеглер застучала о блюдце, которое она держала в руке, выдав ее душевное волнение. — Нет, — отвечала она. — Теперь уже нет. — Померли, Стивен, — шепнула Рейчел. — Простите, что заговорил про это, — сказал Стивен. — Не подумал, что могу задеть больное место. Каюсь, моя вина. Пока он выражал свое сожаление, чашка, из которой пила гостья, стучала все громче. — Был у меня сын, — сказала она, словно в замешательстве, но без обычных признаков неутешной скорби, — и он преуспел в жизни, чудесно преуспел. Только, пожалуйста, не надо о нем говорить. Он… — Поставив чашку на стол, она развела руками, как будто хотела сказать «умер!». Потом добавила: — Я потеряла его. Стивен все еще терзался мыслью, что причинил старушке боль, когда квартирная хозяйка, спотыкаясь на узкой лестнице, добралась до его двери и, позвав Стивена, стала шептать ему на ухо. Миссис Пеглер, которая отнюдь не страдала глухотой, уловила одно произнесенное имя. — Баундерби! — крикнула она сдавленным голосом и выскочила из-за стола. — Спрячьте меня! Он не должен меня видеть! Не пускайте его, пока я не уйду! Ради всего святого! — Она вся дрожала от волнения, спряталась за спину Рейчел, когда та попыталась успокоить ее, и вообще была сама не своя. — Да послушайте, миссис, послушайте, — сказал изумленный ее испугом Стивен. — Это не мистер Баундерби, это его жена. Вы же не боитесь ее. Час назад вы не знали, как расхвалить ее. — Вы уверены, что это миссис, а не мистер Баундерби? — все еще дрожа, как лист, спросила она. — Уверен, уверен! — Только, пожалуйста, не говорите со мной и не глядите на меня, — просила старушка, — я тихонько посижу в уголке. Стивен кивнул, вопросительно глядя на Рейчел, но она ответила ему столь же недоуменным взглядом; захватив свечу, он сошел вниз и через несколько минут воротился в комнату с Луизой. Ее сопровождал щенок. Рейчел, выйдя из-за стола, остановилась в стороне, держа шляпку и платок в руках; Стивен поставил свечу, оперся ладонью на стол и удивленно смотрел на посетителей, ожидая разъяснений. Впервые в жизни Луиза переступила порог одного из жилищ кокстаунских рабочих рук; впервые в жизни она очутилась лицом к лицу с одним из них, отделенным от общей массы. Она знала, что их имеются сотни и тысячи. Она знала, сколько может производить такое-то число их в такое-то время. Она знала, какие они с виду, когда толпами, точно муравьи или букашки, покидают свои гнезда или возвращаются туда. Но из прочитанных ею книг она знала несравненно больше о повадках трудолюбивых насекомых, чем о жизни этих тружеников. Нечто, с чего требуется столько-то работы за такую-то плату — и все; нечто, непогрешимо управляемое законами спроса и предложения; нечто, пытающееся, себе во вред, бороться против этих законов; нечто, не очень сытое, когда хлеб дорожает, и слишком сытое, когда он дешевеет; нечто, дающее столько-то процентов прироста, и такой-то процент преступности, и такой-то процент пауперизации; нечто, приобретаемое оптом, на чем наживают огромные состояния; нечто, что время от времени подымается словно бурное море и, причинив кое-какой ущерб (преимущественно себе же), снова стихает — вот что означали для нее кокстаунские рабочие руки. Но о том, чтобы разбить их на отдельные единицы, она думала так же мало, как о том, чтобы раздробить море на отдельные капли. С минуту она стояла молча, оглядывая комнату. Взгляд ее скользнул по кровати, по немногим стульям, немногим книгам, дешевым литографиям, по обеим женщинам и остановился на Стивене. — Я пришла поговорить с вами о том, что только что произошло. Мне хотелось бы помочь вам, если вы позволите. Это ваша жена? Рейчел подняла голову, — глаза ее ясно ответили «нет», — и снова потупилась. — Я вспоминаю, — сказала Луиза, покраснев от досады на свою оплошность, — что слышала, как говорили о вашей несчастливой семейной жизни, хоть в ту пору не вникала в подробности. Своим вопросом я никого здесь не хотела задеть. Если мне случится спросить еще о чем-нибудь, что может оказать такое же действие, прошу вас верить мне, что причина тому — мое неумение говорить с вами, как должно. Так же как Стивен всего два часа тому назад инстинктивно обращался к ней, так и она теперь невольно обращалась к Рейчел. Говорила она отрывисто, сухо, но вместе с тем явно робела и смущалась. — Он сообщил вам о разговоре, который произошел между ним и моим мужем? Я предполагаю, что вы первая, кому он доверился. — Я знаю о том, чем разговор окончился, сударыня, — сказала Рейчел. — Верно ли, что, если его уволит один хозяин, его не примет на работу никто другой? Помнится, он так сказал. — Мало надежды, почитай что никакой — найти работу человеку, ежели хозяева ославят его. — Что вы подразумеваете под словом «ославят»? — Назовут смутьяном. — Итак, он обречен в жертву предрассудкам и своего класса и класса хозяев. Неужели в нашем городе такая глубокая пропасть отделяет один от другого, что между ними нет места для честного труженика? Рейчел молча покачала головой. — Он навлек на себя подозрение своих товарищей ткачей потому, — продолжала Луиза, — что дал слово не быть с ними заодно. Думается мне, слово он дал вам. Можно узнать, зачем он это сделал? Слезы потекли из глаз Рейчел. — Я не толкала его на это, беднягу. Я только просила, ради него самого, чтобы он поостерегся, и никак не думала, что через меня-то он и попадет в беду. Но я знаю — он лучше умрет, а слова не нарушит. Я хорошо это знаю. Стивен слушал молча, с обычным для него спокойным вниманием, держась рукой за подбородок. Но когда он заговорил, голос его звучал не так ровно, как обычно. — Никто, кроме меня самого, не может знать меру моей любви и уважения к Рейчел и за что я ее люблю и уважаю. Когда я давал слово, я сказал ей, что она добрый ангел моей жизни. Это истинная правда. Слово мое твердо. На всю жизнь. Луиза поворотилась к нему и с несвойственным ей почтением наклонила голову. Потом она посмотрела на Рейчел, и взор ее потеплел. — Что же с вами будет? — спросила она Стивена. Голос ее тоже звучал теплее. — Что ж, сударыня, — отвечал он с грустной улыбкой, — как кончу здесь работу, придется мне уйти отсюда в другое место. Повезет или нет, — а попытаться надо. Что еще человек может сделать? Разве только лечь да помереть. — А как вы отправитесь? — Пешком, сударыня, пешком. Луиза покраснела, в руках у нее появился кошелек. Послышался хруст банкноты, она развернула ее и положила на стол. — Рейчел, скажите ему — вы сумеете сказать без обиды для него, — что это ему на дорогу. Прошу вас, уговорите его принять. — Не могу я этого, сударыня, — отвечала она, отворотясь. — Да благословит вас бог за вашу доброту к бедняге. Но только он один знает свое сердце и что оно велит ему. Луиза со смешанным чувством удивления, испуга и острой жалости смотрела на Стивена, который так невозмутимо и твердо, с полным хладнокровием держался во время недавнего разговора со своим хозяином, а теперь, потеряв самообладание, прикрыл глаза ладонью. Она протянула руку, словно хотела коснуться его, но тотчас опустила ее. — Даже у Рейчел, — сказал Стивен, отняв руку от лица, — не нашлось бы слов добрее тех, какими вы предложили мне помощь. Чтобы не показаться неблагодарным и неразумным, я возьму два фунта. Я возьму их взаймы и верну их вам. И почту это за счастье, потому что, возвращая вам долг, я смогу еще раз выразить вам свою благодарность по гроб жизни. Луизе волей-неволей пришлось спрятать банкноту и заменить ее много меньшей суммой, названной Стивеном. Он не был ни красив, ни ловок, ни картинен; но он принял от нее деньги и молча поклонился ей с таким благородным изяществом, какого лорд Честерфилд[49] и за сто лет не сумел бы преподать своему сыну. Все это время Том безучастно сидел на кровати, качая ногой и посасывая набалдашник своей трости. Видя, что сестра собирается уходить, он вскочил с места и торопливо заговорил: — Одну минутку, Лу! Прежде чем мы уйдем, я хотел бы побеседовать с ним. Мне кое-что пришло в голову. Давайте выйдем на лестницу, Блекпул. Нет, нет, не надо свечки! — с явной досадой крикнул он Стивену, который уже подошел было к шкафу, чтобы достать вторую свечу. — Света для этого не нужно. Они вместе вышли, и Том, плотно притворив дверь, остановился на площадке, держась за ручку. — Слушайте! — зашептал он. — Кажется, я могу оказать вам услугу. Не спрашивайте меня, какую, потому что, может быть, из этого ничего не выйдет. Но я все-таки попытаюсь, в этом нет беды. Дыхание его точно огнем обожгло Стивену ухо — такое оно было горячее. — Тот, кого посылали сегодня за вами, — наш рассыльный из банка, — сказал Том. — Я говорю «наш», потому что я тоже работаю в банке. Стивен подумал: «Ну, и спешит же он!» — так путано он говорил. — Вот! — сказал Том. — А теперь слушайте: когда вы уйдете? — Нынче понедельник, — отвечал Стивен раздумчиво. — Должно, в пятницу или субботу, сэр. — В пятницу или субботу, — повторил Том. — Так слушайте! Я не уверен, что мне удастся оказать вам эту услугу, — кстати там, в вашей комнате, моя сестра, — но, может быть, и удастся, а если ничего не выйдет, тоже не беда. Так вот: вы запомнили нашего рассыльного? — Запомнил, — отвечал Стивен. — Отлично, — сказал Том. — Нужно, чтобы вы, пока вы еще здесь, каждый вечер после работы с часок подежурили возле банка. Если рассыльный вас заметит, не подавайте виду, потому что я только тогда велю ему заговорить с вами, когда буду знать, что могу оказать вам услугу. В таком случае он передаст вам записку от меня или сообщит устно. Ну как? Вы хорошо меня поняли? Он ощупью, впотьмах, просунул палец в петлю на куртке Стивена и неизвестно зачем крутил и крутил угол отворота. — Понял, сэр, — отвечал Стивен. — Ну вот, — сказал Том. — Смотрите ничего не забудьте и не напутайте. По дороге домой я расскажу сестре, в чем дело, и она наверняка одобрит мой план. Ну как — согласны? Все поняли? Отлично. Идем, Лу. Вызывая ее, он отворил дверь, но в комнату не вошел и, не дожидаясь, чтобы ему посветили, сбежал по узкой лестнице. Он уже был внизу, когда Луиза стала спускаться, и выскочил на улицу прежде, чем она успела взять его под руку. Миссис Пеглер не выходила из своего угла, пока брат и сестра не ушли и Стивен не принес обратно свечу. Она была в полном восторге от миссис Баундерби и с непоследовательностью старой женщины плакала навзрыд «оттого, что она такая милочка». В то же время миссис Пеглер страшно боялась, как бы предмет ее восхищения ненароком не возвратился или еще кто-нибудь не пришел, и на этот вечер вся ее веселость покинула ее. К тому же час был поздний для людей, которые рано встают и тяжело работают; итак, гостьи собрались уходить, Стивен и Рейчел проводили непонятную старушку до дверей заезжего двора и там распрощались с ней. Они вместе дошли до переулка, где жила Рейчел, и чем ближе они подходили к нему, тем чаще обрывался разговор между ними. На темном углу, где всегда кончались их редкие свидания, они остановились и безмолвно, словно оба боялись заговорить, посмотрели друг на друга. — Я постараюсь еще раз увидеть тебя, Рейчел. Но ежели нет… — Ты не будешь стараться, Стивен, я знаю. Незачем нам таиться друг от друга. — Ты права, ты всегда права. Так лучше, честнее. Я думаю, Рейчел, — раз всего-то остается каких-нибудь два-три дня, лучше, чтобы тебя не видели со мной, дорогая. Еще зря в беду попадешь. — Не потому, Стивен. На это я бы не поглядела. Но ты же знаешь наш давний уговор. Вот почему. — Пусть будет по-твоему, — сказал он. — Как ни посмотреть, так лучше. — Ты напишешь мне, Стивен, и расскажешь все про себя? — Напишу. А сейчас — что я могу сказать тебе? Только одно: благослови тебя господь, спаси, помилуй и награди. — И тебя, Стивен, да благословит господь во всех твоих странствиях и ниспошлет тебе, наконец, мир и покой! — Как я говорил тебе той ночью, дорогая, — сказал Стивен Блекнул, — впредь всякий раз, что бы я ни увидел, о чем бы ни подумал, от чего во мне злость подымается, ты будешь подле, и злость моя пройдет, потому что ты во сто крат лучше меня. Вот и сейчас я мирюсь с тем, что меня ждет. Господь с тобой. Покойной ночи. Прощай! Расставанье произошло торопливо, на самой обыденной улице, но память о нем была священна для этих обыденных людей. Экономисты утилитаристского толка, мертвецы во образе школьных учителей, чиновники из ведомства фактов, изящные и потасканные маловеры, крикливые проповедники убогих затрепанных догм — нищих вы всегда имеете с собой[50]. Пока не поздно, взлелейте в них сокровища воображения и любви, дабы они могли скрасить свою жизнь, так сильно нуждающуюся в красоте; не то в день вашей полной победы, когда романтика безвозвратно будет изгнана из их душ и они останутся лицом к лицу с ничем не прикрытым бытием, живая действительность обернется волком и расправится с вами. Стивен проработал день и еще день, и так же, как в предыдущие четыре дня, никто не сказал ему ободряющего слова, все по-прежнему сторонились его. На исходе второго дня дело близилось к концу; на исходе третьего — станок его опустел. Два вечера подряд он дежурил по часу с лишним на улице перед банком, но ничего не произошло, ни хорошего, ни дурного. Чтобы честно выполнить свое обещание, он решил в третий и последний вечер прождать полных два часа. У одного из окон второго этажа сидела бывшая домоправительница мистера Баундерби, которую он и раньше видел на этом месте, и подле нее стоял рассыльный, то разговаривая с ней, то поглядывая вниз поверх шторы с надписью «Банк», а время от времени он выходил на крыльцо подышать воздухом. Когда он в первый раз вышел из дверей, Стивен подумал, что, быть может, тот ищет его, и приблизился; но рассыльный только бегло взглянул на него моргающими глазами и ничего не сказал. Два часа томительного ожидания после долгого рабочего дня тянутся медленно. Стивен и сидел на крылечке соседнего дома, и стоял, прислонившись к воротам, и расхаживал взад-вперед, и прислушивался к бою церковных часов, и останавливался поглядеть на играющих детей. Для человека столь естественно всегда иметь какую-нибудь цель, что всякий праздношатающийся привлекает внимание и сам это чувствует. К концу первого часа Стивеном даже овладело тягостное чувство, будто он вдруг сделался подозрительной личностью. Явился фонарщик, и две линии огней зажглись вдоль длинной улицы, потом слились и затерялись вдали. Миссис Спарсит затворила окно второго этажа, опустила штору и поднялась к себе. Пламя свечи последовало за ней наверх, мелькнув сначала в полукруглом стекле входной двери, затем в обоих окнах на лестнице. Вскоре один уголок занавески на третьем этаже слегка отогнулся, словно освобождая место для ока миссис Спарсит; то же случилось с другим уголком, — видимо, с той стороны поместилось око рассыльного. Но никакого сигнала Стивен не получил. Радуясь тому, что наконец-то прошли бесконечные два часа, он направился домой быстрым шагом, как будто хотел вознаградить себя за долгое бездействие. Ему оставалось только попрощаться с хозяйкой, а затем лечь спать на полу; добро свое он уже увязал, и все сборы в дорогу были закончены. Он решил уйти, из города как можно раньше — прежде чем рабочие заполнят улицы. Едва стало рассветать, как он обвел взглядом свою комнату, с тоской спрашивая себя, суждено ли ему еще когда-нибудь увидеть ее, и вышел из дому. На улицах не было ни души, словно жители покинули город, лишь, бы не встречаться с отверженным. В этот ранний час все казалось тусклым. Даже близкий восход солнца не золотил бледное пустынное небо, похожее на унылое море. Мимо дома, в котором жила Рейчел, хотя ему было не по пути туда; мимо красных кирпичных стен; мимо огромных тихих фабрик, еще не начавших сотрясаться; мимо железной дороги, где сигнальные огни тускнели в крепнувшем дневном свете; мимо обезображенных привокзальных кварталов, наполовину снесенных, наполовину отстроенных вновь; мимо красных кирпичных особняков, где закопченные, обсыпанные пылью кусты остролиста походили на неопрятных нюхальщиков табака; мимо черных куч угольной пыли и еще многих всяческих уродств Стивен поднялся в гору и оглянулся. Теперь разгоревшийся день заливал город ярким светом и звон колоколов сзывал людей на работу. В домах еще не разводили огонь, И высокие фабричные трубы безраздельно владели небом. Пройдет каких-нибудь полчаса, и выдыхаемые ими ядовитые клубы дыма затянут его, но покуда некоторые из многочисленных окон еще отливали золотом и жители Кокстауна могли наблюдать сквозь закопченное стекло непрерывное солнечное затмение. Как странно уходить от фабричных труб навстречу птицам! Как странно чувствовать под ногами дорожную пыль вместо угольного шлака! Как странно прожить полжизни и вдруг, словно мальчишка, начинать сызнова этим летним утром! С такими мыслями в голове и со своим узелком под мышкой Стивен задумчиво шагал по большой дороге. И деревья склонялись над ним, нашептывая ему, что позади он оставил верное и любящее сердце.
Глава VII
ПорохДеятельность мистера Джеймса Хартхауса на пользу Партии неопровержимых фактов принесла ему быстрый успех. Еще немного зубрежки, дабы умаслить политических мудрецов, еще немного аристократической пресыщенности для остального общества, да ловкая игра в прямодушие — самый распространенный и самый действенный из благопристойных смертных грехов, — и он очень скоро завоевал добрую славу среди своих соратников. Главное его преимущество заключалось в том, что усердие это было напускное, и потому ему ничего не стоило поладить с ними так легко и просто, словно он от рождения принадлежал к их толку, и выбросить за борт деятелей всех других толков, обвиняя их в лицемерии и жульничестве. — Никто из нас им не верит, милейшая миссис Баундерби, да они и сами себе не верят. Между нами и поборниками добродетели, или благоволения, или филантропии — как ни называй — разница только в одном: мы знаем, что все это вздор, и так и говорим; они тоже это знают, но ни за что не скажут. Почему его неоднократно повторяемые рассуждения должны были возмутить ее или предостеречь? Они даже не удивляли ее — не так уж сильно отличались они от принципов ее отца, внушаемых ей с раннего детства. В чем могла бы она усмотреть коренное различие между обеими теориями, если и та и другая приковывали ее к материальной действительности, не оставляя ей веры ни во что другое? Какие ростки взлелеял в этой юной душе Томас Грэдграйнд, чтобы Джеймс Хартхаус мог растоптать их? Грозившая ей опасность не была бы столь велика, если бы естественная потребность (заложенная в ее душе до того, как она подверглась обработке в высшей степени практического отца), — потребность верить вопреки тому, что ей внушали, в благородство и широту человеческой натуры, не боролась в ней постоянно с сомнениями и чувством обиды. С сомнениями, потому что эту веру с детства душили в ней. С обидой — потому что несправедливо поступили с ней, если внутренний голос нашептывал ей правду. Издавна приученная подавлять свою истинную природу, терзаемая разладом с самой собой, она находила в философии Хартхауса и поддержку и оправдание. Раз все ничтожно и бессмысленно, стало быть она ничего не упустила и ничем не пожертвовала. «Не все ли равно?» — сказала она отцу, когда он предложил ей мужа. «Не все ли равно?» — говорила она и теперь. Высокомерно и самоуверенно она спрашивала себя: «Есть ли что-нибудь, что не все равно?» — и шла своим путем. Куда? Шаг за шагом, ниже и ниже, спускалась она к некоей цели, но так постепенно и незаметно, что ей казалось, будто она стоит на месте. Что касается мистера Хартхауса, то он не думал и не тревожился о том, куда его заносит. У него не было ни твердых намерений, ни злого умысла, ничто не нарушало его безмятежной лени. Пока еще он был заинтересован и увлечен ровно настолько, насколько это подобало такому изысканному джентльмену — быть может, даже чуть больше, чем он мог бы признать без ущерба для своей репутации. Вскоре после приезда он в самом небрежном тоне писал своему брату, достопочтенному и остроумному члену парламента, что чета Баундерби «презабавна»; потом сообщил, что фабрикантша вовсе не страшилище вроде Медузы[51], как он ожидал, а, напротив, молодая и прехорошенькая. После этого он уже ничего о них не писал, зато почти все свободное время проводил в их доме. Разъезжая по Кокстаунскому округу, он часто гостил у них, и мистер Баундерби всячески поощрял его посещения. Это было вполне в духе мистера Баундерби — хвастать перед всеми, что ему-то, разумеется, наплевать на людей высшего круга, но ежели его жене, дочери Тома Грэдграйнда, нравится их общество — пожалуйста. Мистер Хартхаус начал подумывать о том, какое это было бы новое ощущение, если бы лицо, которое так пленительно преображалось для щенка, вдруг преобразилось для него. Взгляд у него был зоркий; и отличная память — он не забыл ни слова из того, что выболтал ему Том. Все, что он узнал от брата, он вплетал в собственные наблюдения над сестрой, и она уже не казалась ему неразрешимой загадкой. Конечно, лучшие, наиболее глубокие чувства ее были недоступны его пониманию, ибо человеческие характеры подобны морям — «бездна бездну призывает»[52], — но все остальное в ней он довольно быстро прочел глазами знатока. Мистер Баундерби недавно приобрел усадьбу милях в пятнадцати от города, куда можно было добираться по железной дороге, которая проходила в полутора милях от нее и вела через множество виадуков по изрытой брошенными угольными копями дикой местности, где по краям скважин мигали огни и маячили черные громады буровых машин. Чем ближе к обители мистера Баундерби, тем местность становилась менее суровой, а у самой его усадьбы превращалась в мирный сельский пейзаж, белый с золотом по весне от боярышника и вереска, а все лето затененный трепещущей листвой. Эта столь живописно расположенная недвижимость досталась мистеру Баундерби по просроченной закладной одного из кокстаунских магнатов, который, вознамерившись нажить огромное состояние более коротким, чем обычно, путем, просчитался тысяч на двести фунтов. Подобные оказии подчас случались в лучших кокстаунских семействах; но эти банкроты не имели ничего общего с легкомысленным простонародьем. Для мистера Баундерби водвориться в этом уютном маленьком поместье и с крикливым смирением сажать в цветнике капусту было истинной отрадой. Ему безмерно нравилось жить на казарменный лад среди изящного убранства комнат, а своим происхождением он кичился даже перед картинами. — Представьте, сэр, — говорил он какому-нибудь гостю, — Никитс (бывший владелец) будто бы отдал семьсот фунтов за этот морской берег. Скажу вам прямо, дай бог, чтобы я за всю жизнь взглянул на него семь раз, итого по сто фунтов за взгляд. Нет, доложу я вам! Я не забыл, что я Джосайя Баундерби из Кокстауна. В молодые годы — какие у меня были картины? Да и какие могли быть, разве что я бы их украл? Портрет человека, который бреется, глядясь в начищенный сапог, наклеенный на банке с ваксой. И еще как я радовался этой самой ваксе, а пустые банки продавал по фартингу, и то за счастье почитал! В том же духе он обращался к мистеру Хартхаусу: — Хартхаус, вы привели сюда пару лошадей. Приводите еще хоть шестерку, места хватит. В конюшне можно поставить дюжину; и ежели правда, что люди говорят, то Никитс столько и держал. Целую дюжину, сэр. Мальчишкой он учился в Вестминстерской школе[53]. Да, да, в Вестминстерской школе, по королевской стипендии, а я в то время питался отбросами и спал на рынке в пустых корзинах. Ежели бы я завел дюжину лошадей — чего я никогда не сделаю, потому что мне предостаточно одной, — каково мне было бы глядеть на их просторные стойла и вспоминать, где я сам ютился когда-то! Да я бы ни за что не стерпел этого, сэр, я выгнал бы их вон. Но все на свете меняется. Вы видите эту усадьбу; вы знаете, какая она; вы не станете отрицать, что ни в нашем королевстве, ни где-либо еще — где именно, мне безразлично — не найти ничего, что могло бы сравниться с ней. И вот, посреди этого великолепия, как червяк, забравшийся в орех, расположился Джосайя Баундерби. А Никитс (так сообщил мне вчера в банке один клиент), Никитс, который в Вестминстерской школе играл в спектаклях на латинском языке, и наша высшая знать и важные сановники хлопали ему до одури, сошел с ума и в эту самую минуту сидит в Антверпене и слюни пускает, да, да, сэр! — на пятом этаже, в узком темном переулке. Здесь-то, в этом уединенном уголке, долгими летними днями, укрываясь от зноя под густолиственными деревьями, мистер Хартхаус и принялся испытывать лицо, столь удивившее его при первой встрече, в надежде, что когда-нибудь оно преобразится и для него. — Миссис Баундерби, это поистине счастливый случай, что я застаю вас одну. Я уже несколько дней ищу возможности поговорить с вами. Ничего случайного в этом не было, так как именно это время дня она проводила в одиночестве, и именно здесь, в своем излюбленном местечке. Она подолгу сидела в тенистой роще, на прогалине, где лежало несколько поваленных деревьев, и смотрела на опавшую прошлогоднюю листву, как дома смотрела на опадающий пепел. Он сел подле нее и заглянул ей в лицо. — Ваш брат, мой юный друг Том… Щеки ее порозовели, и она живо обернулась к нему. «Просто чудо, — подумал он, — как она хороша, когда ее черты вдруг проясняются!» Выражение его лица выдало эти мысли, быть может не выдавая его самого, ибо кто знает? — не подчинилось ли оно тайному приказу? — Простите меня. Ваша нежная забота о младшем брате так прекрасна… Ему следовало бы гордиться ею… Я знаю, что это дерзость с моей стороны, но я не могу не восхищаться. — У вас ведь такой пылкий нрав, — спокойно заметила она. — Нет, миссис Баундерби, нет. Вы знаете, что я никогда не притворяюсь. Вы знаете, что я весьма низменный образчик человеческой природы, готовый в любое время продать себя за приличную сумму и решительно не способный ни на какие идиллические чувства. — Я жду, — сказала она, — продолжения разговора о моем брате. — Вы суровы со мной, но я это заслужил. Сознаюсь, я многого не стою, но одно достоинство у меня есть — я никогда не лицемерю. Однако вы смутили меня, и я отвлекся от предмета, о котором я хотел поговорить с вами. Речь идет о вашем брате. Я принимаю в нем участие. — Вы способны на участие, мистер Хартхаус? — спросила она не то с сомнением, не то с радостью. — Если бы вы задали мне этот вопрос в день моего приезда, я ответил бы «нет». Теперь — пусть даже вы заподозрите меня в притворстве и лишите своего доверия — я вынужден сказать «да». Она пошевелила губами, но заговорила не сразу, словно голос не повиновался ей. Наконец она произнесла: — Я верю, что вы принимаете участие в моем брате, мистер Хартхаус. — Благодарю вас. И вы не ошиблись — я имею право на ваше доверие. Вы знаете, я не притязаю на какие-либо достоинства, но это право я заслужил. Вы так много для него сделали; вы так привязаны к нему; вся ваша жизнь, миссис Баундерби, столь пленительный пример самоотверженной заботы о нем… еще раз простите меня, я опять отвлекся от своего предмета. Я принимаю участие в вашем брате ради него самого. Она уже сделала было едва заметное движение, словно хотела вскочить с места и уйти. Но он успел вовремя переменить тон, и она осталась. — Миссис Баундерби, — продолжал он с напускной непринужденностью, давая, однако, понять, каких это стоит ему усилий, так что теперешний тон его был еще выразительней прежнего, — нет ничего предосудительного в том, если молодой человек в возрасте вашего брата проявляет легкомыслие, беспечность, мотает деньги — словом, ведет беспутную жизнь, как принято говорить. Это верно? — Да. — Разрешите мне быть откровенным. Как вы думаете, он игрок? — Кажется, он играет на скачках. — Так как мистер Хартхаус молчал, видимо считая ее ответ неполным, она добавила: — Я знаю, что он играет. — И, конечно, проигрывает? — Да. — Скачки — это всегда проигрыш. Вы мне позволите высказать предположение, что вы иногда ссужаете его деньгами для этой цели?

До сих пор она слушала его, опустив глаза, но в ответ на последний вопрос посмотрела на него испытующе и с некоторой обидой. — Не сердитесь, дорогая миссис Баундерби, это не дерзость и не праздное любопытство. Я предвижу, что Том рано или поздно попадет в беду, и, умудренный собственным печальным опытом, хотел бы протянуть ему руку помощи. Угодно вам, чтобы я повторил — ради него? Нужно ли это? Она, видимо, силилась ответить ему, но не произнесла ни слова. — Если уж говорить начистоту обо всем, что мне приходит в голову, — сказал Джеймс Хартхаус, снова с нарочитым усилием переходя на более легкий тон, — я поделюсь с вами моими мыслями; я сомневаюсь, чтобы он развивался в благоприятных условиях. Сомневаюсь — простите за откровенность, — могла ли установиться хоть какая-нибудь близость между ним и его глубокоуважаемым отцом. — Не думаю, — сказала Луиза, вспыхнув при воспоминании о том, что она сама испытала, — чтобы это могло быть. — Или между ним и… я уверен, что вы не поймете меня превратно… и его достойным зятем. Она еще гуще покраснела, и щеки ее ярко пылали, когда она ответила тихим голосом: — И этого не думаю. — Миссис Баундерби, — помолчав, сказал Хартхаус, — не следует ли нам больше доверять друг другу? Скажите, Том занял у вас большую сумму? — Вы должны понять, мистер Хартхаус, — отвечала она после некоторого колебания — с самого начала разговора она была несколько смущена и растеряна, однако обычная сдержанность не покидала ее, — вы должны понять, что, если я сообщу вам то, о чем вы так настойчиво спрашиваете, я сделаю это не потому, что хочу пожаловаться или выразить сожаление. На жалобы я вообще не способна, и я ни о чем не сожалею. «И красива и с характером!» — подумал Джеймс Хартхаус. — Когда я вышла замуж, я сразу обнаружила, что брат задолжал крупную сумму. Крупную, понятно, для него. И достаточно крупную, чтобы мне пришлось продать кое-какие побрякушки. Это не было жертвой с моей стороны. Я с ними очень охотно рассталась. Я не дорожила ими. В моих глазах они не имели никакой цены. Не то она прочитала на его лице, что он знает, о каких вещах идет речь, не то ее испугала мысль, что, быть может, он догадается, — но она умолкла и опять покраснела. Если бы он не знал заранее, что она говорит о подарках своего мужа, и то он догадался бы об этом сейчас, будь он даже много глупее, чем был на самом деле. — С тех пор я мало-помалу отдала брату все, что могла ему уделить, короче говоря, все, что имела. Я верю, что вы принимаете в нем участие, и потому не хочу быть откровенной только наполовину. Уже после того, как вы стали наезжать сюда, он потребовал сразу большую сумму — сто фунтов. Мне пришлось отказать ему. Я очень встревожена тем, что он так сильно запутался в долгах, но до сих пор держала все это в тайне, и только сейчас вверяюсь вашей чести. Я ни с кем не говорила об этом, потому что… но вы и так знаете, по какой причине, — резко оборвала она. Он был человек находчивый и, усмотрев удобный случай показать ей самое себя, не преминул воспользоваться им, говоря об ее брате. — Миссис Баундерби, хоть я и повеса, погрязший в мирской суете, но, верьте мне, ваши слова вызывают во мне живейшее сочувствие. Я не могу безоговорочно обвинять вашего брата. Мне понятна снисходительность, с какой вы относитесь к его ошибкам, и я склоняюсь к тому же. При всем моем безграничном уважении к мистеру Грэдграйнду и мистеру Баундерби, я не могу отделаться от мысли, что детство его не было счастливым. Не подготовленный воспитанием к той роли, какую ему предстояло играть в обществе, он на собственный риск и страх ударился из одной крайности, которую так долго — и несомненно с лучшими намерениями — навязывали ему, в другую. Чисто английская, столь независимая прямота мистера Баундерби безусловно привлекательнейшая черта его характера, но она — в этом мы с вами согласны — не располагает к доверию. Если вы позволите мне выразить свое мнение, то я сказал бы, что этой прямоте, пусть в самой малой степени, не хватает той чуткости, в которой юное существо, с ложно истолкованным складом души, с задатками, направленными по ложному пути, могло бы искать утешения и опоры. Он посмотрел ей в лицо и прочел в ее взоре, устремленном в густую тень деревьев по ту сторону испещренной солнечными бликами лужайки, что его с ударением произнесенные слова она относит к себе. — Поэтому многое в его поведении простительно, — продолжал он. — Но одного я ему простить не могу, и в моих глазах это тяжкая вина. Луиза перевела взгляд на его лицо и спросила, о какой вине он говорит? — Быть может, я и так сказал предостаточно. Быть может, вообще было бы лучше, если бы этот намек не сорвался у меня с языка. — Вы пугаете меня, мистер Хартхаус. Прошу вас, говорите. — Чтобы понапрасну не томить вас и потому, что между нами установилось теперь полное доверие касательно судьбы вашего брата, доверие, которое, клянусь вам, мне дороже всего на свете, — я повинуюсь. Вина его в том, что нет у него той глубокой признательности за любовь к нему его лучшего друга, за преданность его лучшего друга, за ее самоотвержение, за жертвы, принесенные ею, которая должна бы сквозить в каждом его слове, в каждом взгляде и поступке. Насколько я могу судить, воздает он ей за все весьма скудно. То, что она для него сделала, заслуживает неустанной заботы, а не ворчливого своенравия. Я сам довольно пустой малый, миссис Баундерби, но я не столь бессердечен, чтобы отнестись равнодушно к непростительной на мой взгляд неблагодарности вашего брата. Очертания рощи расплывались перед ее полными слез глазами. Эти слезы поднялись со дна глубокого, долго скрываемого родника, но они не утоляли жестокой боли, терзавшей ее сердце. — Словом, миссис Баундерби, я хочу заставить вашего брата иначе относиться к вам. Более полная осведомленность об обстоятельствах, в которых он очутился, и мое руководство, мои советы, как из них выпутаться — советы весьма ценные, надеюсь, ибо они будут исходить от шалопая и мота куда большего размаха, — позволят мне оказывать некоторое влияние на него, чем я, разумеется, воспользуюсь для своей цели. Но довольно, я и так наговорил слишком много. Я словно стараюсь выставить себя каким-то добряком, а между тем, честное слово, у меня и в мыслях этого нет, я, напротив, открыто заявляю, что нисколько на добряка не похож. Вот там, среди деревьев, — добавил он, подняв глаза и оглядевшись, тогда как до сих пор он не сводил глаз с ее лица, — легок на помине, ваш брат. Очевидно, он только что приехал. Так как он идет в нашу сторону, не пойти ли нам ему навстречу и перехватить его? В последнее время он очень молчалив и грустен. Быть может, совесть корит его за сестру — если такая вещь как совесть вообще существует. Но, честное слово, я слишком часто слышу разговоры о ней, чтобы в нее верить. Он помог ей встать, она взяла его под руку, и они пошли навстречу щенку. Он лениво брел по лесу, похлопывая тростью по веткам, или вдруг нагибался и со злостью сдирал ею мох со стволов. Он вздрогнул, когда они застали его врасплох за этим занятием, и кровь бросилась ему в лицо. — Это вы? — пробормотал он. — Я не знал, что вы здесь. — Ну, Том, — сказал мистер Хартхаус, после того как он повернул его, взяв за плечо, так что теперь все трое шли в сторону дома, — чье имя вырезали вы на дереве? — Чье имя? — переспросил Том. — А-а, вы спрашиваете про женское имя? — У вас очень подозрительный вид, Том. Так и кажется, что вы начертали на коре имя какой-нибудь красотки. — Это маловероятно, мистер Хартхаус. Вот если бы я приглянулся красотке с огромным личным состоянием — тогда другое дело. И будь она не красотка, а страшна, как смертный грех, я тоже не отказался бы от нее. Я вырезал бы ее имя хоть сто раз, чтобы доставить ей удовольствие. — Боюсь, что вы корыстолюбивы, Том. — Корыстолюбив? — повторил Том. — А кто не корыстолюбив? Спросите мою сестрицу. — Ты так уверен в этом моем недостатке, Том? — спросила Луиза, словно не замечая его грубого тона. — Сама можешь рассудить, Лу, так это или не так, — хмуро отвечал Том. — Я этого не говорил. — Том сегодня в мизантропическом настроении, — сказал мистер Хартхаус. — Это иногда бывает с людьми, когда им очень скучно. Не верьте ему, миссис Баундерби. Он знает, что это неправда. Если он не повеселеет хоть немного, я сообщу вам его мнение о вас, которое он с глазу на глаз выражал мне. — Во всяком случае, мистер Хартхаус, — сказал Том, более приветливым тоном обращаясь к своему покровителю, которым безмерно восхищался, но с прежним упрямством качая головой, — вы не можете сообщить ей, что я хвалил ее за корыстолюбие. Я, вероятно, хвалил ее за обратное, и опять похвалил бы, будь у меня на то основание. Однако оставим это. Вам наши дела мало интересны, а я сыт по горло такими разговорами. Когда они приблизились к крыльцу, Луиза выпустила руку своего гостя и вошла в дом. Он постоял, глядя ей вслед, пока она, поднявшись по ступенькам, не исчезла в полутемном проеме дверей, потом опять взял ее брата за плечо и дружеским кивком головы пригласил его погулять по саду. — Том, друг мой, я хотел бы поговорить с вами. Они остановились среди полуразоренного цветника — в своем чванном смирении мистер Баундерби решил сохранить розы Никитса, уменьшив их число, — и Том, сидя на низкой ограде, сердито рвал бутоны и ломал их, а его неотразимый демон-искуситель склонился над ним, поставив одну ногу на парапет и легко опираясь рукой о колено. Цветник был разбит под самым ее окном. Быть может, она видела их. — Том, что с вами? — Ах, мистер Хартхаус, — со стоном сказал Том, — я так запутался, что просто не знаю, как быть. — Дорогой мой, и я не в лучшем положении. — Вы! — воскликнул Том. — Да вы воплощенная независимость. А мне, мистер Хартхаус, хоть удавиться. Вы и представить себе не можете, в какие тиски я попал, а сестра могла бы меня вызволить, но не захотела. Дрожащей, точно у дряхлого старца, рукой он совал розовые бутоны в рот, впивался в них зубами и снова с ожесточением вырывал изо рта. Посмотрев на него долгим испытующим взглядом, его собеседник заговорил непринужденно и даже не без игривости. — Том, будьте благоразумны — вы слишком многого требуете от сестры. Вы ведь получали от нее деньги, шалун вы этакий! — Ну и что же, что получал, мистер Хартхаус. А где еще я мог их доставать? Старик Баундерби вечно хвалится, что в мои годы он жил на два пенса в месяц или вроде того. Отец мой постоянно «кладет предел», как он выражается, и с самого детства я не имел права переступать его. У моей родительницы нет ничего своего — одни болезни. Что же остается человеку делать? Куда мне обращаться за деньгами, если не к сестре? Он чуть не плакал и десятками разбрасывал вокруг себя бутоны. Мистер Хартхаус, стараясь урезонить его, взял его за лацкан. — Но, милый Том, если у вашей сестры нет денег… — Нет денег, мистер Хартхаус? Я и не говорю, что есть. По всей вероятности, столько, сколько мне нужно, у нее и быть не может. Но она должна была достать их. И могла достать. После всего, что я уже рассказал вам, нет смысла делать из этого тайну: вы знаете, что она вышла за старика Баундерби не ради себя и не ради него, а ради меня. А если ради меня, то почему же она не выжимает из него то, что мне нужно? Она вовсе не обязана сообщать ему, что она сделает с его деньгами. У нее ума хватит, она отлично сумела бы выманить их у него, лишь бы пожелала. Почему же она не желает, когда я говорю ей, что для меня это страшно важно? Так нет же. Сидит возле него точно каменная,а стоило бы ей полюбезничать с ним — он сразу бы выложил деньги. Не знаю, как на ваш взгляд, но, по-моему, сестры так не поступают. Под самой оградой, по другую сторону ее, был искусственный пруд, и мистеру Джеймсу Хартхаусу очень хотелось выбросить туда Томаса Грэдграйнда-младшего — не хуже обиженных кокстаунцев, грозивших выбросить свою собственность в Атлантический океан. Но он устоял перед искушением, и через каменный парапет полетели только нежные бутоны роз, образовав маленький плавучий островок. — Дорогой мой Том, — сказал мистер Хартхаус, — позвольте мне быть вашим банкиром. — Ради бога, — выкрикнул Том, — не говорите о банкирах! — И вдруг лицо его побелело — по сравнению с розами оно казалось очень, очень белым. Мистер Хартхаус, как человек безукоризненно воспитанный, привыкший вращаться в высшем обществе, не способен был недоумевать — с таким же успехом можно было бы предположить, что он способен растрогаться, — но все же веки его чуть приподнялись, словно их тронула тень удивления. Хотя склонность удивляться и раздумывать столь же противоречила его собственным правилам, как и принципам грэдграйндской школы. — Какая сумма нужна вам сейчас, Том? Трехзначная? Признавайтесь. Назовите точную цифру. — Поздно, мистер Хартхаус, — отвечал Том, и слезы потекли по его лицу, что куда больше шло к нему, чем брань, хотя вид у него был достаточно жалкий. — Теперь деньги мне не помогут. Вот если бы они раньше у меня были. Но я очень признателен вам, вы истинный друг. Истинный друг! «Ах ты щенок! — лениво подумал мистер Хартхаус. — Ты еще и осел!» — И это очень великодушно с вашей стороны, — сказал Том, сжимая его руку, — очень великодушно, мистер Хартхаус. — Ну что ж, — отвечал тот, — может быть, в другой раз пригодится. И впредь, милый мой, если сядете на мель, лучше откройтесь мне, потому что я лучше вас знаю, как в таких случаях находить выход. — Спасибо, — сказал Том, уныло покачивая головой и жуя бутоны, — жаль, что я не узнал вас раньше.
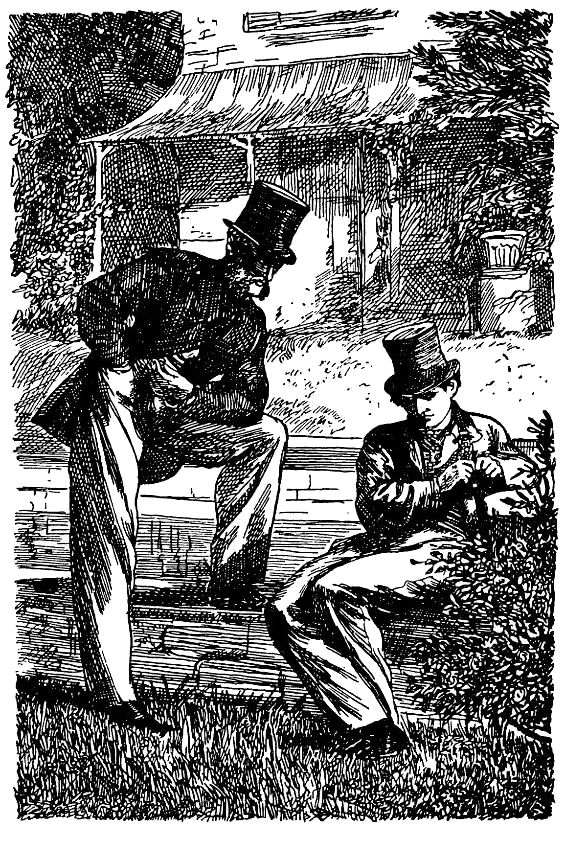
— Так вот, Том, — заключил мистер Хартхаус, тоже бросая в пруд несколько роз, как бы для того, чтобы внести и свой вклад в образование островка, который упорно устремлялся к ограде, словно хотел слиться с материком, — каждый человек, что бы он ни делал, блюдет свою выгоду, и я ничем не отличаюсь от своих ближних. Я просто жажду, — в его жажде чувствовалась прямо-таки тропическая истома, — чтобы вы мягче обращались с сестрой, и вообще были бы для нее любящим и нежным братом, как она того заслуживает. — Будет исполнено, мистер Хартхаус. — И чем скорее, тем лучше. Не откладывайте. — Хорошо, мистер Хартхаус. И Лу сама вам это подтвердит. — Стало быть, по рукам, — сказал Хартхаус, хлопнув Тома по плечу с таким видом, что тот вполне мог поверить — и поверил, дурень несчастный! — будто Хартхаус лишь по доброте своей и от чистого сердца навязал ему условие, дабы он меньше чувствовал себя обязанным за предложенную помощь, — а теперь нам суждена разлука… до самого обеда. Когда Том пришел в столовую, мысли у него, видимо, были тяжелые, зато ноги проворные — он пришел раньше, чем явился мистер Баундерби. — Я не хотел обидеть тебя, Лу, — сказал он, протягивая сестре руку и целуя ее. — Я знаю, что ты меня любишь, и ты знаешь, что я тебя люблю. В тот вечер на лице Луизы сияла улыбка, предназначенная не только для брата. Увы, не только для брата! «Итак, щенок не единственное существо на свете, которое ей дорого, — подумал Джеймс Хартхаус, переиначивая мысль, мелькнувшую у него в тот день, когда он впервые увидел ее прелестное лицо. — Нет, не единственное!»
Глава VIII
ВзрывЛетнее утро выдалось такое чудесное, что жаль было тратить его на сон, и Джеймс Хартхаус, поднявшись спозаранку, расположился в уютной оконной нише своей комнаты, дабы насладиться редким сортом табака, некогда оказавшим столь благотворное действие на его юного друга. Греясь в лучах солнца, вдыхая восточный аромат своей трубки, следя за прозрачными струйками дыма, медленно таявшими в мягком, насыщенном летними Запахами воздухе, он подводил итог своим успехам, точно картежник, подсчитывающий вчерашний выигрыш. Против обыкновения он не испытывал ни малейшей скуки, и мысль его работала усердно. Он завоевал ее доверие, узнал тайну, которую она скрывала от мужа. Он завоевал ее доверие потому, что, вне всяких сомнений, она не питала никаких чувств к своему мужу и между ними никогда не было и тени духовного сродства. Он искусно, но недвусмысленно дал ей понять, что знает все тончайшие изгибы ее души; он стал так близок ей, через ее самую нежную привязанность; он пристегнул себя к этой привязанности; и преграда, за которой она жила, растаяла. Все это очень удивительно и очень недурно! А между тем и сейчас еще он не замышлял ничего дурного. Куда лучше было бы для века, в котором он жил, если бы он и легион ему подобных наносили вред семье и обществу преднамеренно, а не по равнодушию и беспечности. Именно о дрейфующие айсберги, которые уносит любое течение, разбиваются корабли. Когда дьявол ходит среди нас аки лев рыкающий, он ходит во образе, который, кроме дикарей и охотников, может соблазнить лишь немногих. Но когда он принаряжен, отутюжен, вылощен по последней моде; когда он пресыщен пороком, пресыщен добродетелью и до такой степени истаскан, что ни для ада, ни для рая не годится; вот тогда — занимается ли он волокитой или волокитством, — тогда он сущий дьявол. Итак, Джеймс Хартхаус сидел в оконной нише, лениво посасывая трубку, и подсчитывал каждый шаг, сделанный им на пути, по которому, волею судеб, он следовал. Куда это заведет его, он видел с достаточной ясностью, но конечная цель пути его не тревожила. Что будет, то будет. Так как ему предстояла долгая поездка верхом, — в нескольких милях от усадьбы ожидалось публичное собрание, где он намеревался, придравшись к случаю, поратовать за партию Грэдграйнда, — то он рано совершил туалет и спустился вниз к завтраку. Ему не терпелось проверить — а что, если она за ночь опять отдалилась от него? Нет. Он мог продолжать свой путь с того места, где остановился накануне, — она снова подарила его приветливым взглядом. Проведя день более или менее (скорее менее) приятно, насколько это было возможно при столь утомительных обстоятельствах, он в шесть часов пополудни возвращался обратно. От ворот усадьбы до дома было с полмили, и он ехал шагом по ровной, посыпанной гравием дорожке, когда-то проложенной Никитсом, как вдруг из-за кустов выскочил мистер Баундерби, да так стремительно, что лошадь Хартхауса шарахнулась. — Хартхаус! — крикнул мистер Баундерби. — Вы слышали? — Что именно? — спросил Хартхаус, оглаживая свою лошадь и мысленно отнюдь не желая мистеру Баундерби всех благ. — Стало быть, вы не слышали! — Я слышал вас, и не только я, но и моя лошадь. Больше ничего. Мистер Баундерби, потный и красный, стал посреди дороги перед мордой лошади, дабы его бомба разорвалась с наибольшим эффектом. — Банк ограбили! — Не может быть! — Ограбили этой ночью, сэр. Ограбили очень странным образом. Ограбили с помощью подделанного ключа. — И много унесли? Мистер Баундерби так сильно желал изобразить случившееся событием необычайной важности, что отвечал даже с некоторой обидой: — Да нет. Не так чтобы очень много. Но ведь могли бы и много. — Сколько же? — Ежели вам так уж непременно хочется узнать сумму, то она не превышает ста пятидесяти фунтов, — с досадой сказал Баундерби. — Но дело не в украденной сумме, а в самом факте. Важен факт — произошло ограбление банка. Удивляюсь вам, что вы этого не понимаете. — Дорогой мистер Баундерби, — сказал Джеймс, спешиваясь и отдавая поводья своему слуге, — я отлично это понимаю и до такой степени потрясен картиной, которая открылась моему внутреннему взору, что лучшего вы и пожелать не можете. Тем не менее, надеюсь, вы позволите мне поздравить вас — и, поверьте, от всей души, — что понесенный вами убыток не столь уж велик. — Благодарствуйте, — сухо обронил Баундерби. — Но вот что я вам скажу — могли бы унести и двадцать тысяч фунтов. — Вероятно. — Вероятно! Еще как, черт возьми, вероятно! — воскликнул мистер Баундерби, свирепо мотая и тряся головой. — Ведь могли унести и дважды двадцать тысяч. Даже и вообразить нельзя, что могло бы случиться, ежели бы грабителям не помешали. Тут к ним подошла Луиза, а также миссис Спарсит и Битцер. — Вот дочь Тома Грэдграйнда, не в пример вам, отлично понимает, что могло бы быть, — похвастался Баундерби. — Упала как подкошенная, когда я сказал ей! В жизни с ней этого не бывало. Но ведь и случай-то какой! Я так считаю, что это делает ей честь, да-с! Она все еще была бледна и едва держалась на ногах. Джеймс Хартхаус настоял, чтобы она оперлась на его руку, и медленно повел ее к дому; по дороге он спросил, как произошло ограбление. — А я вам сейчас скажу, — вмешался Баундерби, сердито подавая руку миссис Спарсит. — Ежели бы вас так страшно не занимала украденная сумма, я уже давно сообщил бы вам подробности. Вы знакомы с этой леди (слышите, леди!), миссис Спарсит? — Я уже имел удовольствие… — Отлично. И этого молодого человека, Битцера, вы тоже видели в тот раз? — Мистер Хартхаус утвердительно наклонил голову, а Битцер стукнул себя по лбу костяшками пальцев. — Отлично. Они живут при банке. Может быть, вам известно, что они живут при банке? Отлично. Вчера вечером, перед закрытием, все было убрано, как всегда. В кладовой, возле которой спит этот малый, лежало… неважно, сколько. В маленьком сейфе, в комнате Тома, где хранятся деньги на мелкие расходы, лежало около ста пятидесяти фунтов. — Сто пятьдесят четыре фунта семь шиллингов один пенс, — подсказал Битцер. — Ну-ну! — оборвал его Баундерби, круто поворачиваясь к нему. — Потрудитесь не прерывать меня. Хватит того, что меня ограбили, пока вы изволили храпеть — уж больно вам сладко живется. Так уж не лезьте со своими семь шиллингов один пенс. Я-то сам не храпел в ваши годы, могу вас уверить. На пустое брюхо не захрапишь. И не совался никого поправлять, а помалкивал, хоть был не глупее других. Битцер угодливо стукнул себя по лбу, всем своим видом показывая, что такое стоическое воздержание мистера Баундерби одновременно и поразило и сразило его. — Около ста пятидесяти фунтов, — повторил мистер Баундерби. — Том-младший запер деньги в свой сейф, — не очень надежный сейф, но не в этом дело. Все было оставлено в полном порядке. А ночью, пока этот малый храпел… миссис Спарсит, сударыня, вы говорите, что слышали, как он храпел? — Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — я не могу сказать с уверенностью, что слышала именно храп, и следовательно, не берусь утверждать это. Но зимними вечерами, когда ему случалось уснуть за своим столом, я иногда слышала хрипы, похожие на те, какие издает человек, страдающий удушьем. И еще я слышала шип, который позволю себе уподобить звукам, нередко исходящим от стенных часов. Однако, — продолжала миссис Спарсит с горделивым сознанием, что она добросовестно исполняет свой долг беспристрастной свидетельницы, — я отнюдь не хочу бросить тень на его нравственность. Напротив, я всегда считала Битцера молодым человеком самых высоких моральных правил; прошу учесть эти мои слова. — Короче говоря, — едва сдерживая ярость, сказал Баундерби, — пока он храпел, или хрипел, или шипел, или уж не знаю что еще делал, — словом, пока он спал, какие-то люди пробрались к сейфу Тома — спрятались ли они заранее в банке, или проникли туда ночью, еще не установлено, — взломали его и унесли все деньги. Тут им помешали, и они пустились наутек; открыли главный вход (дверь была заперта на два поворота, а ключ лежал у миссис Спарсит под подушкой) и вышли, снова заперев ее на два поворота подделанным ключом; его нашли сегодня около полудня на улице неподалеку от банка. Спохватились только утром, когда этот самый Битцер поднялся и начал прибирать помещение. И вот, посмотрев на сейф Тома, он видит, что дверца приотворена, замок сломан, а деньги исчезли. — Кстати, где же Том? — спросил Хартхаус, озираясь. — Он помогает полиции. — отвечал Баундерби, — и потому остался в банке. Попробовали бы эти жулики ограбить меня, когда я был в его годах! Ежели бы они всего восемнадцать пенсов вложили в это дело, и то остались бы в накладе; пусть так и знают. — Подозревают кого-нибудь? — Подозревают ли? Еще бы не подозревали! Будьте покойны! — сказал мистер Баундерби, выдергивая руку из-под руки миссис Спарсит, дабы вытереть вспотевший лоб. — Чтобы Джосайю Баундерби из Кокстауна обобрали и ни на кого не пало подозрение? Нет уж, спасибо! Мистер Хартхаус полюбопытствовал, кого же именно подозревают? — Уж так и быть, — отвечал Баундерби, остановившись и поворачиваясь ко всем лицом, — я вам скажу. Об этом не надо повсюду болтать — вернее, нигде об этом не надо болтать, — чтобы не спугнуть причастных к ограблению негодяев (их целая шайка). Так что я сообщаю вам мои подозрения по секрету. Слушайте. — Мистер Баундерби еще раз вытер лоб. — Что вы скажете… ежели тут замешан один из рабочих?! — взорвался он. — Надеюсь, — равнодушно протянул Хартхаус, — не друг наш Блекпот? — Он самый, — отвечал Баундерби, — только не пот, а пул. У Луизы вырвался тихий возглас недоверчивого удивления. — Да, да! Я знаю! — немедленно отозвался Бауни. — Знаю! Я к этому привык. Все слова знаю. Мол, лучше этих людей нет на свете. Болтать языком-то они горазды. Они, видите ли, хотят только одного — чтобы им объяснили, какие у них права. Но я заявляю вам: покажите мне недовольного рабочего, и я покажу вам человека, способного на любую подлость, любое злодеяние. Это была еще одна фикция, имевшая хождение в Кокстауне, которую усердно распространяли и которой кое-кто искренне верил. — Но я-то знаю этот народ, — продолжал Баундерби. — Я читаю в них, как в открытой книге. Миссис Спарсит, сударыня, я сошлюсь на вас. Разве не предостерегал я этого бунтовщика, когда он в первый раз пришел ко мне в дом и допытывался, как ему ударить по религии и сокрушить государственную церковь? Миссис Спарсит, по своим родственным связям вы ровня высшей знати, — скажите, говорил я или не говорил ему: «От меня вы не скроете правду; такие, как вы, мне не по душе, вы плохо кончите»? — Несомненно, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — вы очень убедительно внушали ему это. — Он тогда возмутил вас, сударыня, — сказал Баундерби, — уязвил ваши чувства? — Совершенно верно, сэр, — отвечала миссис Спарсит, смиренно покачав головой, — именно это он сделал. Впрочем, должна сказать, что, быть может, такая уязвимость — или, допустим, безрассудство, — не была бы присуща мне в столь большой степени, ежели бы я издавна занимала нынешнее свое положение. Мистер Баундерби, чуть не лопаясь от спеси, в упор поглядел на мистера Хартхауса, как бы говоря: «Эта женщина — моя собственность и, я полагаю, достойна вашего внимания». Затем он продолжал свою речь. — Да вы и сами, Хартхаус, можете припомнить, что я сказал ему, — вы были при этом. Я все ему выложил без обиняков. Я с ними не миндальничаю. Я их насквозь вижу. Так вот, сэр. Три дня спустя он удрал. Скрылся, — а куда, никто не знает. Точно как моя родительница во времена, моего детства — с той только разницей, что он, ежели только это возможно, почище ее злодей. А что он делал, прежде чем скрыться? (Мистер Баундерби говорил с расстановкой, сопровождая каждую фразу ударом кулака по тулье своей шляпы, которую держал в руке, — словно бил в бубен.) Вот, не угодно ли: его видели — каждый вечер — заметьте, каждый вечер — возле банка. — Он шатался там — когда же? — после наступления темноты. Миссис Спарсит поняла, что это не к добру — указала на него Битцеру, — они вдвоем стали следить за ним, а нынче мы узнали из расспросов, что и соседи приметили его. — Достигнув кульминационной точки своей тирады, мистер Баундерби жестом восточной танцовщицы надел бубен себе на голову. — Подозрительно, — заметил Джеймс Хартхаус, — очень даже. — Еще бы! — сказал Баундерби, воинственно вскинув подбородок. — Еще бы не подозрительно. Но тут и другие приложили руку. Замешана какая-то старуха. Всегда так — спохватятся, когда уже поздно; как сведут лошадь с конюшни, — вот тут-то и обнаружат, что дверь плохо пригнана. Теперь вдруг оказывается, что какая-то старуха время от времени прилетала в город верхом на метле. И за день до того, как этот злодей стал околачиваться возле банка, она с утра до вечера подглядывала за моим домом, а когда он вышел от меня, она вместе с ним скрылась, и потом они держали совет — надо думать, старая ведьма отчитывалась перед ним. «Была какая-то женщина в комнате Стивена, и она пряталась в темном углу», — подумала Луиза. — И это еще не все, нам уже сейчас кое-что известно, — сказал Баундерби, таинственно тряся головой. — Но довольно, больше я теперь ничего не скажу. А вы, будьте любезны, помалкивайте, никому ни слова. Может быть, на это потребуется время, но они от нас не уйдут. Пусть погуляют до поры до времени, это делу не повредит. — Разумеется, они будут наказаны по всей строгости закона, как пишут в объявлениях, — заметил Джеймс Хартхаус, — и поделом им. Люди, которые берутся грабить банки, должны нести ответственность за последствия. Не будь последствий, мы все бы это делали. — Он мягко взял у Луизы из рук зонтик и, раскрыв его, держал над ней, хотя они шли не по солнцу, а в тени. — А теперь, Лу Баундерби, — обратился к ней ее супруг, — надо позаботиться о миссис Спарсит. Из-за этой истории у миссис Спарсит нервы расходились, и она дня два поживет здесь. Так что устрой ее поудобнее. — Весьма признательна, сэр, — смиренно отвечала миссис Спарсит, — но, прошу вас, не хлопочите о моих удобствах. Мне ничего не нужно. Однако именно неприхотливость миссис Спарсит явилась причиной беспокойства для всего дома, ибо она столь мало пеклась о себе и столь много о других, что очень скоро стала всем в тягость. Когда ей показали ее комнату, она была так потрясена ее великолепием, что невольно напрашивалась мысль, будто она предпочла бы провести ночь в прачечной, улегшись на каток для белья. Правда, Паулеры и Скэджерсы привыкли к роскоши; «но я почитаю своим долгом, — с достоинством говорила в таких случаях миссис Спарсит, особенно в присутствии слуг, — не забывать, что я уже не то, чем была когда-то. Скажу вам больше, — добавляла она, — ежели бы я могла окончательно вычеркнуть из памяти, что мистер Спарсит был Паулер, а я состою в родстве с семейством Скэджерс, или — еще лучше — ежели бы я могла отменить самый факт и превратиться в особу менее высокого происхождения и более заурядных родственных связей, я бы с радостью это сделала. Я считала бы, что в нынешних обстоятельствах я должна так поступить». Этот же подвижнический дух побудил ее отказаться за обедом от закусок и вин, предварительно заявив во всеуслышанье, что она «будет дожидаться обыкновенной баранины», и только после того, как мистер Баундерби прямо-таки приказал ей пить и есть, она произнесла «вы чрезвычайно добры, сэр» и переменила свое решение. Когда ей потребовалась соль, она просто не знала, куда деваться от стыда; а кроме того, чувствуя себя обязанной отплатить любезностью за любезность, она, дабы в полной мере оправдать свидетельство мистера Баундерби о состоянии ее нервов, время от времени откидывалась на спинку стула и безмолвно проливала слезы; и каждый раз при этом можно было видеть (или, вернее, нельзя было не видеть), как прозрачная капля величиной с хрустальную серьгу медленно ползла по ее римскому носу. Но главной силой миссис Спарсит была и оставалась ее непоколебимая решимость жалеть мистера Баундерби. То и дело, глядя на него, она горестно качала головой, словно хотела сказать: «Увы, бедный Йорик!»[54] Невольно выдав таким образом свои чувства, она заставляла себя приободриться и судорожно веселым голосом говорила: «Я рада, что вы не падаете духом, сэр!» — и всячески давала понять, какое это, по ее мнению, великое благо, что мистер Баундерби так легко несет свой крест. Была в ее поведении и еще одна странность, за которую ей неоднократно приходилось извиняться, но переломить себя она никак не могла. Она почему-то упорно называла миссис Баундерби «мисс Грэдграйнд» и в течение вечера оговорилась таким образом раз сто. Эта столь часто повторяемая ошибка в конце концов несколько смутила миссис Спарсит; но, право же, смиренно оправдывалась она, такое обращение для нее вполне естественно, между тем как представить себе, что мисс Грэдграйнд, которую она имела счастье знать в детстве, теперь и в самом деле миссис Баундерби, почти невозможно. И весьма примечательно, что чем больше она об этом думает, тем меньше ей это кажется возможным, — «при столь явном несоответствии», — заключила она. После обеда, в гостиной, мистер Баундерби учинил суд над грабителями: допросил свидетелей, записал их показания, признал подозреваемых лиц виновными и приговорил их к высшей каре, предусмотренной законом. Засим он отпустил Битцера в город, поручив ему передать Тому, чтобы тот почтовым поездом воротился домой. Когда внесли свечи, миссис Спарсит прошептала: — Умоляю вас, сэр, не грустите. Я хочу видеть вас таким же веселым, каким вы были раньше. Мистер Баундерби, который под воздействием этих попыток утешить его впал в совершенно несвойственное ему и оттого крайне нелепое элегическое настроение, тяжко и шумно вздохнул, словно некое морское чудовище. — У меня душа за вас болит, — сказала миссис Спарсит. — Почему бы вам не сыграть в трик-трак[55], сэр, как в былые дни, когда я имела честь жить с вами под одной кровлей. — С той поры, сударыня, я не садился за триктрак. — отвечал мистер Баундерби. — Да, сэр, — сочувственно сказала миссис Спарсит, — я это знаю. Я помню, что мисс Грэдграйнд никогда не любила трик-трак. Но ежели вы соизволите, сэр, я рада буду сыграть с вами. Они сели играть у окна, выходящего в сад. Луна не показывалась, но вечер был теплый, почти душный, в воздухе стоял сильный аромат цветов. Луиза и мистер Хартхаус прогуливались по саду, и оттуда доносились их голоса, но слов разобрать нельзя было. Миссис Спарсит, сидя за доской трик-трака, то и дело напряженно смотрела в окно, пытаясь проникнуть взором в полутемный сад. — Что там такое, сударыня? — спросил мистер Баундерби. — Уж не пожар ли вы видите? — Что вы, сэр, нет, нет, — отвечала миссис Спарсит, — меня роса беспокоит. — А какое вам дело до росы, сударыня? — спросил мистер Баундерби. — Дело не во мне, сэр, — отвечала миссис Спарсит. — Я боюсь, как бы мисс Грэдграйнд не простудилась. — Она никогда не простужается, — сказал мистер Баундерби. — Вот как, сэр? — сказала миссис Спарсит. И вдруг сильно закашлялась. Когда пришло время ложиться спать, мистер Баундерби налил себе стакан воды. — Что вы, сэр? — воскликнула миссис Спарсит. — А почему не подогретый херес с лимонной цедрой и мускатным орехом? — Я уже отвык от этого, сударыня, — отвечал мистер Баундерби. — Очень жаль, сэр, — сказала миссис Спарсит. — Я вижу, вы мало-помалу отказываетесь от всех своих добрых старых привычек. Но не печальтесь, сэр! Ежели мисс Грэдграйнд разрешит, я сейчас приготовлю вам стаканчик, как делала это столь часто в прошлом. Так как мисс Грэдграйнд с величайшей охотой разрешила миссис Спарсит делать все, что угодно, то сия заботливая особа немедля приготовила питье для мистера Баундерби и вручила ему стакан со словами: «Это вам поможет, сэр. Душу согреет. Именно это вам нужно, не лишайте себя этого, сэр». А когда мистер Баундерби сказал: «Ваше здоровье, сударыня!» — она проникновенно ответила: «Благодарю вас, сэр. И вам того же, а также побольше счастья». Наконец, чуть не плача от умиления, она пожелала ему спокойной ночи; и мистер Баундерби отправился спать в глубоком унынии, убежденный, что он чем-то уязвлен в своих лучших чувствах, но чем именно — он и вообразить не мог. Еще долго после того, как Луиза разделась и легла в постель, она не засыпала, поджидая возвращения Тома. Она знала, что он едва ли приедет раньше часу ночи; но безмолвие погруженной в сон природы не успокаивало, а лишь усугубляло ее тревогу, и время для нее тянулось томительно медленно. Прошло, как ей казалось, много часов, в течение которых тишина и мрак, точно состязаясь между собой, становились все глубже, и вот, наконец, у ворот зазвонил колокольчик. У нее мелькнула смутная мысль, что хорошо бы он звонил до самого рассвета; но колокольчик умолк, его последний отзвук, все шире расходясь кругами, замер вдали, и снова настала мертвая тишина. Она подождала еще немного, по ее расчетам — с четверть часа. Потом встала с постели, накинула капотик, вышла из комнаты и впотьмах поднялась в комнату брата. Она тихо отворила дверь и, окликнув его, бесшумно приблизилась к его кровати. Она опустилась возле нее на колени, обняла его за шею и притянула к себе его голову. Она знала, что он только притворяется спящим, но не произнесла ни слова. Вдруг он приподнялся, как будто его только что разбудили, и спросил, кто тут и что случилось? — Том, тебе нечего сказать мне? Если когда-нибудь ты любил меня, — что бы ты ни утаил от других, откройся мне. — Не понимаю, о чем ты говоришь, Лу. Тебе что-то приснилось. — Дорогой мой Том, — она положила голову на подушку, и ее распущенные волосы накрыли его, точно она пыталась спрятать брата от всех, кроме самой себя, — нет ли чего-нибудь, о чем ты хотел бы мне сказать? Нет ли чего-нибудь, о чем ты мог бы мне сказать, если бы захотел? Что бы ты ни сказал, я буду все та же для тебя. Том, скажи мне правду! — Не понимаю, о чем ты говоришь, Лу! — Как ныне ты здесь лежишь один, в ночной тиши, так суждено тебе лежать в ином месте, и даже я, если доживу до того времени, должна буду покинуть тебя. Как ныне я здесь подле тебя, босая, полуодетая, неразличимая во мраке, так суждено мне некогда лежать всю долгую ночь, истлевая, пока не обращусь во прах. Во имя этого неотвратимого часа, заклинаю тебя, Том, скажи мне правду! — О чем ты меня спрашиваешь? — Знай одно, — в порыве любви и Отчаяния она прижала его к груди, словно малого ребенка, — знай, что я никогда не упрекну тебя. Знай, что я пожалею тебя и останусь верна тебе. Знай, что я спасу тебя любой ценой. Том, подумай, тебе нечего сказать мне? Шепни совсем тихо. Скажи только «да», — и я все пойму! Она приблизила ухо к его губам, но он упрямо хранил молчание. — Ни единого слова, Том? — Как могу я сказать «да» или «нет», когда я не знаю, о чем ты говоришь? Послушай, Лу, ты хорошая, славная, и я понимаю, что я тебя не стою — не такого брата бы тебе иметь. Но больше мне тебе нечего сказать. Иди спать, иди. — Ты устал, — прошептала она более спокойным тоном. — Да, смертельно устал. — Сегодня у тебя было много забот и хлопот. Открылось что-нибудь новое? — Известно только то, что ты слышала… от него. — Том, ты никому не говорил, что мы ходили к тем людям и видели их там втроем? — Нет. Ты же сама настаивала, чтобы я держал это в тайне, когда просила меня проводить тебя. — Да. Но я ведь тогда не знала, что случится. — И я не знал. Откуда я мог знать? Уж очень быстро он произнес эти слова. — Следует ли мне, после того что случилось, сознаться, что я ходила туда? — спросила Луиза, поднявшись с колен и стоя возле кровати. — Нужно ли это? Должна я это сделать? — Бог мой, Лу, — отвечал Том, — не в твоих привычках советоваться со мной. Говори или не говори, как хочешь. Если ты будешь молчать, и я буду молчать. Если ты расскажешь, что ж, так и будет. Было темно, и они не видели друг друга, но и он и она говорили очень осторожно, взвешивая каждое слово. — Том, как ты думаешь, тот человек, которому я дала деньги, в самом деле причастен к ограблению? — Не знаю. Не вижу, почему бы и нет. — Он показался мне очень честным. — Это ничего не значит. Кто-нибудь может казаться тебе нечестным, а на самом деле быть честным. Он запнулся и умолк. Молчала и она. — Впрочем, — продолжал Том немного погодя, словно приняв какое-то решение, — раз уж ты об этом заговорила, то имей в виду, что он отнюдь не внушал мне большого доверия. Я даже вышел с ним за дверь, чтобы с глазу на глаз объяснить ему, что он должен ценить подарок моей сестры, — и пусть хорошо распорядится этими деньгами. Ты ведь помнишь, что я выходил вместе с ним. Я ничего дурного не хочу сказать о нем. Может быть, он и отличный малый, не знаю. Надеюсь, что это именно так. — А он не обиделся на тебя? — Нет, он выслушал меня спокойно; во всяком случае, вполне учтиво. Где ты, Лу? — Он сел на кровати и поцеловал ее. — Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи. — Больше тебе нечего мне сказать? — Нет. Что я мог бы сказать еще? Уж не хочешь ли ты, чтобы я тебе лгал? — Меньше всего, Том, я хочу, чтобы ты лгал мне этой ночью, сколько бы ночей — и, надеюсь, более счастливых — тебе ни суждено прожить. — Спасибо, Лу. Я так устал, что, кажется, готов сказать, что угодно, лишь бы мне дали уснуть. Иди ложись, иди. Он еще раз поцеловал ее, отвернулся к стене, натянул одеяло на голову и лежал так тихо, словно уже пробил тот час, которым сестра заклинала его сказать правду. Она постояла еще немного возле кровати, потом медленно отошла. Открыв дверь, она еще раз с порога оглянулась на него через плечо и спросила, не звал ли он ее? Но он лежал не шевелясь, и она, бесшумно притворив дверь, спустилась в свою комнату. Тогда злополучный мальчишка осторожно выглянул из-под одеяла и убедился, что она ушла; сполз с постели, запер дверь и опять уткнулся в подушку; он рвал на себе волосы, плакал упрямыми слезами, боролся с любовью к сестре, ненавидел и презирал самого себя, но не чувствовал раскаяния и столь же бесплодно ненавидел и презирал все доброе на земле.
Глава IX
Обретенный покойМиссис Спарсит, проживая ради укрепления своих нервов в усадьбе мистера Баундерби, так зорко присматривалась ко всему из-под густых кориолановских бровей, что глаза ее, подобно двум маякам на скалистом берегу, предостерегли бы любого благоразумного моряка об опасности, таившейся в римском носе, который, словно гордый утес, грозно высился, окруженный темными кручами, — не будь ее непроницаемого спокойствия. Хотя с трудом верилось, что по вечерам она удаляется в свою комнату не только для виду, ибо и тени дремоты не бывало в ее античных глазах, и сколь ни странным казалось, что ее непреклонный нос может уступить естественной потребности в отдыхе, однако — сидела ли она праздно, поглаживая свои жесткие, негнущиеся митенки, похожие на проволочные ящики для хранения мяса, или рысила к неведомой цели, опираясь на стремя из бумажной пряжи, — она неизменно являла собой пример безмятежной кротости, и, глядя на нее, оставалось только предположить, что это голубиная душа, которую шаловливая природа заключила в земную оболочку хищной птицы. Ее способность рыскать по дому просто поражала. Как ухитрялась она попадать из одного этажа в другой, казалось неразрешимой загадкой. Дико было бы подумать, что столь благовоспитанная особа, связанная родственными узами с высшим кругом, станет прыгать через перила лестницы или съезжать по ним; а между тем изумительная легкость, с какой она перемещалась, наводила именно на эту нелепую мысль. Вызывало удивление и еще одно свойство миссис Спарсит — она никогда не спешила. Кубарем скатившись с чердака в сени, она появлялась там без малейших признаков суетливости или одышки. И ни единое человеческое око ни разу не видело, чтобы она ускорила шаг. Она сильно благоволила к мистеру Хартхаусу и имела с ним несколько весьма приятных бесед. Однажды утром, вскоре после своего прибытия, повстречав его в саду, она церемонно присела перед ним и сказала: — Как будто только вчера это было, сэр, что я удостоилась чести принимать вас в банке и вы пожелали узнать адрес мистера Баундерби! — Этот случай, могу вас заверить, навеки запечатлен в моей памяти, — сказал мистер Хартхаус, томно склонив голову в ответ на реверанс миссис Спарсит. — Мы живем в странном мире, сэр, — проговорила миссис Спарсит. — По лестному для меня совпадению, я имел честь высказать схожую мысль, хоть и выраженную не столь афористически. — Да, сэр, в странном мире, — продолжала миссис Спарсит, предварительно в знак благодарности за комплимент сдвинув темные брови, что придало ее лицу выражение несколько отличное от елейных звуков ее голоса. — Это особенно относится к тому обстоятельству, что временами мы завязываем близкое знакомство с людьми, которых в другие времена не знали вовсе. Я припоминаю, сэр, наш первый разговор с вами: вы сказали тогда, что положительно опасаетесь встречи с мисс Грэдграйнд. — Ваша память оказывает мне больше чести, нежели заслуживает моя скромная особа. Я воспользовался вашими любезными указаниями, и это помогло мне преодолеть мою боязнь, — нет нужды добавлять, что они были безупречно точны. Талант миссис Спарсит во всех делах, требующих точности, подкрепленный незаурядной силой духа и высоким происхождением, обнаруживает себя столь часто, что его нельзя не признать бесспорным. — Мистер Хартхаус чуть не заснул, произнося сей замысловатый мадригал — так лениво он растягивал слова и так далеки были его мысли от того, что он говорил. — Мисс Грэдграйнд… ах, как я глупа! — никак не могу привыкнуть называть ее миссис Баундерби… показалась вам такой юной, какой я описала ее? — вкрадчиво спросила миссис Спарсит. — Вы превосходно нарисовали ее портрет, — отвечал мистер Хартхаус. — Разительное сходство. — Много обаяния, сэр, — сказала миссис Спарсит, медленно потирая свои митенки. — Чрезвычайно много. — Всегда существовало мнение, — сказала миссис Спарсит, — что мисс Грэдграйнд не хватает живости характера. Но, признаюсь, я просто поражена, до какой степени она с этой стороны переменилась к лучшему. А вот и мистер Баундерби! — вскричала миссис Спарсит, усиленно и многократно кивая головой, словно только о нем и думала и говорила все это время. — Как вы себя чувствуете, сэр? Прошу вас, будьте веселы, сэр. Настойчивые усилия миссис Спарсит утолить его страдания и облегчить его бремя уже возымели свое действие и привели к тому, что он мягче обычного обращался с ней и жестче обычного с другими людьми, начиная со своей жены. Так, когда миссис Спарсит нарочито бодрым голосом заметила: «Вам пора завтракать, сэр; надо думать, мисс Грэдграйнд скоро спустится и займет свое место за столом», — мистер Баундерби ответил: «Вы отлично знаете, сударыня, что, ежели я стал бы дожидаться, пока моя жена проявит заботу обо мне, я прождал бы до второго пришествия; поэтому я попрошу вас похозяйничать вместо нее». Миссис Спарсит повиновалась и как встарь принялась разливать чай. Это напоминание о прошлом опять-таки повергло сию достойную женщину в крайнюю степень умиления. Вместе с тем она не заносилась, а напротив, как только Луиза вошла в комнату, тотчас же встала и смиренно стала уверять, что и помыслить не могла бы при нынешних обстоятельствах занять это место за столом, хоть ей и нередко выпадала честь кормить завтраком мистера Баундерби, прежде нежели мисс Грэдграйнд… виновата, она хотела сказать мисс Баундерби… ей очень стыдно, но, право же, она никак не может привыкнуть к новому имени мисс Грэдграйнд, однако твердо надеется в скорости приучить себя к нему — заняла положение хозяйки. Единственно лишь по той причине (сказала она), что мисс Грэдграйнд случайно несколько замешкалась, а время мистера Баундерби столь драгоценно, и она издавна знает, как важно для мистера Баундерби, чтобы завтрак был подан минута в минуту, она взяла на себя смелость выполнить требование мистера Баундерби, поскольку его воля всегда была для нее законом. — Довольно! Можете не продолжать, сударыня, — прервал ее мистер Баундерби. — Не трудитесь! Я думаю, миссис Баундерби только рада будет, ежели вы избавите ее от хлопот. — Не говорите так, сэр, — возразила миссис Спарсит даже с некоторой строгостью, — вы обижаете миссис Баундерби. А обижать кого-нибудь — это на вас не похоже, сэр. — Будьте покойны, сударыня, никакой обиды не будет. Тебя ведь это не огорчает, Лу? — с вызовом обратился мистер Баундерби к жене. — Конечно, нет. Пустяки! Какое это может иметь значение для меня? — Какое это вообще может иметь значение, миссис Спарсит, сударыня? — сказал мистер Баундерби, начиная закипать от обиды. — Вы, сударыня, придаете слишком большое значение таким пустякам. Погодите, здесь вас научат уму-разуму. Вы слишком старомодны, сударыня. Вы отстали от века, не поспеваете за детьми Тома Грэдграйнда. — Что с вами? — с холодным удивлением спросила Луиза. — Чем вы недовольны? — Недоволен! — повторил Баундерби. — Как ты думаешь — ежели я был бы недоволен чем-нибудь, я умолчал бы об этом и не потребовал, чтобы было сделано по-моему? Я, кажется, человек прямой. Не хожу вокруг да около. — Вероятно, никто еще не имел повода заподозрить вас в чрезмерной застенчивости или излишнем такте, — спокойно отвечала Луиза. — Я, во всяком случае, ни разу не упрекнула вас в этом ни до замужества, ни после. Не понимаю, чего вы хотите? — Чего хочу? — переспросил Баундерби. — Ровно ничего. Иначе, — как тебе, Лу Баундерби, досконально известно, — я, Джосайя Баундерби из Кокстауна, добился бы своего. Он ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели. Луиза вспыхнула и посмотрела на него с презрительной гордостью, — еще одна перемена в ней, как не преминул отметить мистер Хартхаус. — Я отказываюсь понимать вас, — сказала она. — Пожалуйста, не трудитесь объяснять свое поведение. Меня это не интересует. Не все ли равно? На этом разговор оборвался, и немного погодя мистер Хартхаус уже весело болтал о разных безобидных предметах. Но с этого дня влияние миссис Спарсит на мистера Баундерби все сильнее способствовало еще большей близости между Луизой и Джеймсом Хартхаусом, что в свою очередь уводило ее все дальше от мужа и укрепляло опасный союз против него с другим человеком, который завоевал ее доверие шаг за шагом столь неприметно, что она при всем желании не могла бы объяснить, как это случилось. Но было ли у нее такое желание или нет — об этом знало только ее сердце. Размолвка супругов за столом так потрясла миссис Спарсит, что после завтрака, подавая мистеру Баундерби шляпу в сенях, где они были одни, она запечатлела на его руке целомудренный поцелуй, шепнув: «Мой благодетель!», и удалилась, сраженная горем. И однако — факт неопровержимый и неотъемлемый от сего повествования — не успел он выйти из дому в вышеозначенной шляпе, как представительница рода Скэджерс и свойственница Паулеров, потрясая правой митенкой перед его портретом, прошипела: «Поделом тебе, болван! Очень, очень рада». Вскоре после ухода мистера Баундерби явился Битцер. Он приехал на поезде, — который мчал его, громыхая и лязгая, по длинной череде виадуков, над заброшенными и действующими угольными копями, — с посланием из Каменного Приюта. Короткая записка извещала Луизу, что миссис Грэдграйнд тяжело больна. Луиза не помнила, чтобы мать ее когда-нибудь была здорова; но в последние дни она очень ослабела, этой ночью ей становилось все хуже и хуже, и теперь она, быть может, уже покинула бы сей мир, если бы не ее крайне ограниченная способность проявить хоть тень решимости перейти из одного состояния в другое. Сопровождаемая белесым банковским рассыльным, чья бескровная физиономия как нельзя лучше подходила стражу у врат смерти, куда стучалась миссис Грэдграйнд, Луиза, пронесясь под грохот и лязг над угольными копями, заброшенными и действующими, была стремительно ввергнута в дымную пасть Кокстауна. Она отпустила вестника несчастья и одна поехала в отчий дом. Со времени своего замужества она почти не бывала там. Отец ее обычно находился в Лондоне, на государственном свалочном дворе, именуемом парламентом, где усердно просеивал свою кучу шлака, из которой он (сколько можно было судить) извлекал не очень-то много ценных предметов; отсутствовал он и сейчас. Мать ее, почти не встававшая с дивана, в любом посетителе видела прежде всего помеху; к младшей сестренке Луизу не тянуло — она не любила и не умела общаться с детьми; Сесси она оттолкнула от себя с того самого дня, когда дочь циркового клоуна подняла глаза и посмотрела в лицо нареченной мистера Баундерби. Ничто не манило ее в родное гнездо, и она лишь изредка наведывалась туда. И теперь, приближаясь к нему, она не отдавалась ни одному из тех светлых впечатлений, какие должен вызывать вид отчего дома. Детские грезы, легкие волшебные мечты, прекрасные, чарующие, столь человечные небылицы, которыми юное воображение украшает нездешний мир, — как сладостно верить им ребенком, как сладостно вспоминать о них в зрелые годы; ибо тогда малейшая из них вырастает у нас в душе в образ великого Милосердия, которое пускает к себе детей и не препятствует им приходить к нему, дабы они на каменистых путях мира сего чистыми руками насаждали цветущий сад — и счастливее были бы все чада Адамовы, если бы они почаще грелись там на солнце, бесхитростно и доверчиво, забыв на время свою житейскую мудрость, — что было до этого Луизе? Память о том, как она, подобно миллионам других безгрешных существ, шла к тому малому, что знала, волшебной стезей надежд и мечтаний; как Разум, впервые явившийся ей в мягком свете сказочных грез, был для нее благосклонный бог, терпящий подле себя других, столь же великих богов, а не свирепый идол, жестокий и равнодушный, немой истукан, вперивший незрячий взор в свои связанные по рукам и ногам жертвы, который ничто не может подвигнуть, кроме точно вычисленной подъемной силы в столько-то тонн, — что было до этого Луизе? Ее память о родном доме и детстве была памятью о том, как в ее юной душе, едва забив, иссякали все свежие ключи. Золотых вод там не было. Они струились не здесь, они орошали край, где с терновника сбирают виноград и с репейника смокву. Холодная, тяжелая тоска сжимала ей сердце, когда она вошла в дом и отворила дверь в спальню матери. С тех пор как Луиза покинула Каменный Приют, Сесси жила там на правах члена семьи. Она и сейчас сидела подле больной, и Джейн, сестренка Луизы, девочка лет двенадцати, тоже была здесь. Нелегким делом оказалось объяснить миссис Грэдграйнд, что перед ней ее старшая дочь. Онаполулежала на диване, лишь по давней привычке сохраняя свою обычную позу, если вообще можно говорить о позе в применении к столь беспомощному существу. Она решительно отказалась лечь в постель, на том основании, что если она ляжет, то ей никогда покою не будет. Ее слабый голос, едва слышно доносившийся из недр намотанных на нее шалей, казался таким далеким, и звуки обращенных к ней голосов так долго совершали путь до ее ушей, словно она покоилась на дне глубокого колодца, где, как известно, лежит Истина. Бедная женщина и впрямь была сейчас ближе к Истине, чем когда-либо в жизни. Когда ей сообщили о приходе миссис Баундерби, она невпопад ответила, что ни разу, с тех пор как он женился на Луизе, не назвала его этим именем и так как она еще не придумала сколько-нибудь пристойной замены, она зовет его просто Дж. — и не станет она сейчас изменять этому правилу, потому что покамест еще ни на чем не остановила свой выбор. Луиза несколько минут просидела подле матери и несколько раз с ней заговаривала, прежде нежели та поняла наконец, кто здесь. Но после этого больная сразу пришла в себя. — Ну, моя дорогая, — сказала миссис Грэдграйнд, — я надеюсь, что ты довольна своей жизнью. Это дело рук твоего отца. Таково было его желание. Что ж, ему виднее. — Я пришла узнать, как ваше здоровье, мама, а не рассказывать о себе. — Узнать о моем здоровье? Вот это новость, что кто-то интересуется мной. Плохо мне, Луиза. Слабость, голова кружится. — Вас мучают боли, мама? — Боли? Мне кажется, какая-то боль бродит по комнате, — отвечала миссис Грэдграйнд, — но я не могу утверждать с уверенностью, что это моя боль. Произнеся эти странные слова, она умолкла и откинулась на подушки. Луиза, державшая ее за руку, уже не чувствовала под пальцами биения пульса; но когда она поднесла руку к губам, она заметила, что жизнь тоненькой ниточкой трепещет в ней. — Ты очень редко видишь свою сестру, — сказала миссис Грэдграйнд. — Она становится похожа на тебя. Погляди-ка сама. Сесси, подведи ее. Девочка подошла и протянула старшей сестре руку. Луиза, когда входила в комнату, обратила внимание, что Джейн обнимает Сесси за шею, и теперь отметила про себя это различие. — Видишь, какое сходство, Луиза? — Да, мама. Она, правда, кажется, похожа на меня. Но только… — Что? Да, да, я всегда это говорю, — с неожиданной силой воскликнула миссис Грэдграйнд. — И я теперь вспомнила. Я… я хочу кое-что сказать тебе, Луиза. Сесси, дружок, оставь нас одних на минутку. Луиза уже выпустила руку сестры; сказала себе, что ее лицо никогда не было таким милым и ясным, как личико Джейн; почувствовала, не без горькой обиды — даже здесь и в такой час, — что оно чем-то напоминает то, другое лицо — прелестное лицо с доверчивыми, кроткими глазами, бледное от бессонных тревожных ночей у постели больной и казавшееся еще бледней из-за пышных темных волос. Оставшись наедине с матерью, Луиза наклонилась над ней и увидела в ее чертах торжественное спокойствие, словно ее уносило полноводным потоком и она, уже не сопротивляясь более, рада была отдаться течению. Луиза опять поцеловала прозрачную руку умирающей и окликнула ее: — Вы хотели что-то сказать мне, мама. — Что? Да, да, дорогая, сейчас. Ты ведь знаешь, отец твой почти всегда теперь в отлучке, и потому я должна написать ему об этом. — О чем, мама? Не волнуйтесь. Скажите мне, о чем? — Ты, должно быть, помнишь, милая, что стоило мне выразить свое мнение о чем-нибудь — все равно о чем, — мне уже не было покою. И потому я давным-давно решилась молчать. — Говорите, мама, я слышу вас, — Но только пригнувшись к самому лицу матери и напряженно следя за шевелившимися губами, могла она уловить какую-то связь в ее невнятных, отрывочных словах. — Ты много училась, Луиза, — и ты и твой брат. Сплошь одни ологии с утра до вечера. Ежели есть на свете какая-нибудь ология, которую в этом доме не истрепали до дыр, то я надеюсь, что никогда не узнаю, как она называется. — Я слышу вас, мама, — повторила Луиза. — Говорите, если только вы в силах. — Она чувствовала, что мать уже уносит течением. — Но есть что-то — никакая не ология, а совсем другое — и это, Луиза, отец твой упустил или запамятовал. Я не знаю, что это. Когда Сесси сидит со мной, я часто об этом думаю. Мне не вспомнить, как оно называется. Но отец твой может узнать. Вот что меня волнует. Я хочу написать ему, пусть он, ради бога, узнает, что это такое. Дай мне перо, дай мне перо. Но и для волнения уже не оставалось сил, и только ее бедная голова тихо двигалась на подушке.

Ей, впрочем, казалось, что просьба ее исполнена и что перо, которое она не могла бы удержать, у нее в руке. Не стоит гадать, какие причудливые, лишенные смысла письмена чертили ее пальцы на платках и шалях. Рука внезапно остановилась; слабый свет, всегда лишь тускло мерцавший позади бледного транспаранта, погас; и даже миссис Грэдграйнд, вознесенную из полутьмы, в которой человек ходит подобно призраку и напрасно суетится[56] осенил величавый покой мудрецов и патриархов.
Глава X
Лестница миссис СпарситВвиду того, что нервы миссис Спарсит укреплялись крайне медленно, сия достойная женщина вынуждена была провести чуть ли не месяц в усадьбе мистера Баундерби, где, вопреки тяге к подвижничеству, проистекавшей из похвального понимания своего нынешнего, более скромного места в мире, она героически соглашалась жить, так сказать, припеваючи, катаясь как сыр в масле. Все время, пока длился ее отдых от забот хранительницы банка, миссис Спарсит являла собой пример стойкости и постоянства, упорно выражая мистеру Баундерби в лицо столь горячее сочувствие, какое редко выпадает на долю смертного, и бросая в лицо его портрету «болван» с величайшей язвительностью и презрением. Мистер Баундерби, уверовав со всем пылом своей взрывчатой натуры в прозорливость миссис Спарсит — почуяла же она, что его не ценят по заслугам в собственном доме (в чем это выражалось, он еще не додумался), — и, кроме того, угадывая, что Луиза воспротивилась бы частым визитам миссис Спарсит, если вообще допустима мысль о противодействии его могучей воле со стороны Луизы, — решил не упускать миссис Спарсит из виду надолго. И потому, когда состояние ее нервов позволило ей возвратиться к одиноким трапезам в банке, он накануне ее отъезда сказал ей за обедом: — Вот что, сударыня: пока стоит хорошая погода, вы будете приезжать сюда по субботам и оставаться до понедельника. — На что миссис Спарсит, не будучи, впрочем, магометанкой, отвечала в том смысле, что, мол, «слушаю и повинуюсь». Нельзя сказать, чтобы миссис Спарсит была женщиной поэтического склада и, однако, в ее воображении возникла некая аллегория. Вероятно, упорная слежка за Луизой и длительные раздумья над ее непроницаемым поведением, до предела отточив острый ум миссис Спарсит, послужили трамплином для этой вдохновенной идеи. Она мысленно воздвигла громадную лестницу, у подножия которой зияла темная пропасть позора и гибели; и по этой-то лестнице, ниже и ниже, день ото дня, час от часу спускалась Луиза. Для миссис Спарсит весь смысл жизни свелся к тому, чтобы, глядя на лестницу, злорадно наблюдать, как по ней сходит Луиза: то медленно, то быстро, иногда шагая сразу через несколько ступенек, иногда останавливаясь, но только не возвращаясь вспять. Повороти она хоть раз обратно, миссис Спарсит умерла бы от тоски и горя. По ее наблюдениям спуск совершался непрерывно до того дня и в самый день, когда последовал вышеизложенный приказ мистера Баундерби еженедельно посещать его. Миссис Спарсит была в приподнятом настроении и потому не прочь завести беседу. — Прошу вас, сэр, — ежели вы позволите мне задать вопрос относительно предмета, о котором вы предпочитаете умалчивать, что, разумеется, с моей стороны просто дерзость, ибо все, что вы делаете, вы делаете обдуманно, — слышно ли что-нибудь новое об ограблении банка? — Нет, сударыня, покамест ничего. Да я и не жду так скоро. Рим строился не один день, сударыня. — Ваша правда, сэр, — сказала миссис Спарсит, качая головой. — И даже не одну неделю, сударыня. — Верно, верно, сэр, — с грустью поддакнула миссис Спарсит. — А мне и не к спеху, сударыня, — сказал Баундерби, — могу и подождать. Ежели Ромул и Рем[57] могли ждать, Джосайя Баундерби может ждать не хуже их. Хотя им в детстве и лучше жилось, чем мне. У них волчица была за кормилицу, а у меня волчица была всего только за бабку. Молока она не давала, сударыня. Зато очень больно лягалась. Точь-в-точь, как олдернейская корова. — О-о! — Миссис Спарсит, содрогнувшись, тяжело вздохнула. — Нет, сударыня, — продолжал Баундерби, — я больше ничего не слышал об этом деле. Но им занимаются; и Том Грэдграйнд-младший, который, кстати сказать, в последнее время усердно работает, чего за ним прежде не водилось — не проходил он моей выучки, — хорошо помогает мне. Я рассудил так: помалкивай, пусть думают, что все заглохло. Под рукой делай что хочешь, но виду не показывай, не то полсотни их стакнется между собой и так спрячет этого сбежавшего жулика, что его и не найдешь. Знай себе помалкивай, и мало-помалу воры перестанут остерегаться, и тут-то мы их и накроем. — Весьма хитроумно, сэр, — заметила миссис Спарсит. — И чрезвычайно интересно. А та старуха, сэр, о которой вы… — Та старуха, сударыня, еще не в наших руках, — сухо оборвал ее Баундерби, не видя повода для хвастовства в этом разговоре. — Но ручаюсь вам, она от нас не уйдет — об этом старая ведьма может не беспокоиться. А покуда, сударыня, ежели вам угодно знать мое мнение, то чем меньше мы будем говорить о ней, тем лучше. После обеда миссис Спарсит, отдыхая от сборов в дорогу, из окна своей комнаты видела, как Луиза еще ниже спускается по роковой лестнице. Она сидела в саду, в беседке, и очень тихо разговаривала с мистером Хартхаусом; он стоял, так близко наклонившись к ней, что почти касался лицом ее волос. «А может быть, и не почти!» — сказала миссис Спарсит, донельзя напрягая свои ястребиные глаза. Расстояние было слишком велико, и миссис Спарсит не слышала ни единого слова из их беседы, и даже о том, что они вообще что-то говорили, она могла только догадываться по выражению их лиц; а говорили они вот что: — Вы помните этого человека, мистер Хартхаус? — Отлично помню! — Его лицо, и как он держался, и что сказал? — Помню. И по правде говоря, впечатление он произвел на меня самое мрачное. Унылый субъект и скучный до крайности. Не без хитрости, однако, — этакая смиренная добродетель. Но, уверяю вас, пока он разглагольствовал, я невольно подумал: «Ну, братец ты мой, пересаливаешь!» — Мне очень трудно подозревать этого человека в чем-нибудь дурном. — Дорогая моя Луиза — как вас называет Том — (никогда Том ее так не называл), вы знаете что-нибудь хорошее о нем? — Нет, конечно. — Или о ком-нибудь другом из этих людей? — Откуда? — спросила она таким тоном, каким уже давно не говорила с ним, — ведь я ровно ничего об этих людях не знаю. — Тогда соблаговолите, моя дорогая Луиза, выслушать почтительнейшие разъяснения вашего преданного друга, который кое-что знает о некоторых разновидностях своих превосходнейших ближних, ибо я охотно верю, что они превосходнейшие люди, невзирая на присущие им маленькие слабости, как, например, — не упускать того, что плохо лежит. Этот человек много рассуждает. Все люди рассуждают. Он ратует за высокую нравственность. Сколько угодно шарлатанов ратуют за высокую нравственность. От палаты общин до уголовной тюрьмы — повсюду одни ревнители нравственности. Только в наших рядах их нет, и в этом особенная прелесть нашей партии. Вы сами видели и слышали, с чего все началось. Перед вами был человек — из тех, что вечно в пуху, — недовольный своим жребием, и мой глубокоуважаемый друг, мистер Баундерби, который, как нам известно, не обладает деликатностью, способной смягчить ожесточение таких людей, обошелся с ним весьма круто. Рабочий этот был обижен, зол, он вышел из вашего дома сердито ворча, встретил кого-нибудь, кто предложил ему участвовать в налете на банк, согласился, спрятал свою долю в пустой дотоле карман и почувствовал огромное облегчение. Право же, вместо самого обыкновенного малого, он оказался бы человеком необыкновенным, не воспользуйся он таким удобным случаем. А, может быть, если у него хватило смекалки, он и сам это дело устроил. — Мне почему-то кажется, — сказала Луиза после короткого раздумья, — что я поступаю дурно, соглашаясь с вами, хотя ваши слова снимают камень с моей души. — Я говорю только то, что подсказывает мне логика; вот и все. Я неоднократно беседовал об этом деле с моим другом Томом — между нами, понятно, по-прежнему царит полное доверие, — и мы оба одного и того же мнения. Угодно вам пройтись? Они ушли рука об руку в глубь сада и затерялись среди дорожек, уже едва различимых в сгущающихся сумерках, и не ведала Луиза, что спускается все ниже, ниже, ниже по лестнице миссис Спарсит. День и ночь блюла миссис Спарсит свою лестницу. Когда Луиза перешагнет последнюю ступеньку и пропасть поглотит ее, пусть лестница рухнет вслед за ней; но до тех пор она должна стоять, прочная, внушительная, перед мысленным взором миссис Спарсит. И на ней — Луиза, всегда и неизменно. И всегда и неизменно она скользит вниз, вниз, вниз! Миссис Спарсит вела счет всем посещениям Джеймса Хартхауса; она запоминала все, что слышала о нем; она приглядывалась к лицу, которое и он изучал; она так же, как и он, подмечала тончайшие перемены в нем, видела, когда оно хмурится, когда светлеет; ее черные широко открытые глаза без тени сострадания, без грусти, жадно следили за тем, как одинокая фигура, не удерживаемая ничьей дружеской рукой, неуклонно приближалась к подножью этой новой Лестницы Гигантов[58]. Сколь ни почитала миссис Спарсит мистера Баундерби — в отличие от чувств, которые внушал ей его портрет, — она не имела ни малейшего намерения остановить этот спуск. Предвкушая желанный конец его, она тем не менее не торопила события, а терпеливо ждала, когда созреет обильная жатва, дабы полнее насладиться плодами трудов своих. Окрыленная надеждой, затаив дыхание, она не отводила настороженного взора от лестницы и лишь изредка грозила правой митенкой (с заключенным в ней кулаком) спускающейся по ступенькам одинокой фигуре.
Глава XI
Ниже и нижеОдинокая фигура спускалась по роковой лестнице медленно, но неуклонно, увлекаемая, словно тяжелый груз в глубокой воде, на дно черной пропасти. Мистер Грэдграйнд, уведомленный о кончине своей жены, прибыл из Лондона и похоронил ее очень спокойно и деловито. Затем он немедля возвратился к своей куче шлака и снова принялся просеивать ее в поисках потребного ему хлама, пуская пыль в глаза другим мусорщикам, ищущим потребного им хлама — короче говоря, вернулся к своим обязанностям парламентария. Между тем миссис Спарсит бодрствовала и бдела. Разлученная со своей лестницей всю неделю железнодорожным полотном, отделяющим Кокстаун от усадьбы мистера Баундерби, она продолжала, как кошка за мышью, следить за Луизой через посредство ее мужа, брата, Джеймса Хартхауса, надписей на конвертах и посылках, — словом, через посредство всех одушевленных и неодушевленных предметов, приближающихся к лестнице в любое время дня или ночи. «Твоя нога уже на последней ступеньке, красавица моя, — говорила миссис Спарсит, мысленно обращаясь к Луизе и грозя ей митенкой, — и все твои искусные увертки меня не обманут». Однако было ли то искусство или природа, истинная сущность Луизы или воздействие внешних обстоятельств, но ее удивительная сдержанность сбивала с толку, хоть и подзадоривала даже такую проницательную особу, как миссис Спарсит. Бывали дни, когда мистер Джеймс Хартхаус терял уверенность в ней. Бывали дни, когда он ничего не мог прочесть на лице, которое так долго изучал, когда эта беззащитная молодая женщина казалась ему более непроницаемой, нежели любая светская львица, окруженная когортой верных рыцарей. Так время шло, пока однажды дела мистера Баундерби не потребовали его отлучки из дому дня на три, на четыре. Была пятница, когда он в банке сообщил о своем отъезде миссис Спарсит и добавил: — Но вы, сударыня, все равно завтра поедете ко мне. Бы поедете туда, как обычно, точно я и не уезжал. Не будет никакой разницы. Все будет как при мне. — Прошу вас, сэр, — отвечала миссис Спарсит с упреком, — убедительно прошу вас, не говорите так. Без вас или с вами — для меня огромная разница, и вы, сэр, отлично это знаете. — Ну что ж делать, сударыня, придется вам уж как-нибудь обойтись без меня, — сказал польщенный Баундерби. — Мистер Баундерби, — отвечала миссис Спарсит, — ваше желание для меня закон; иначе я, быть может, склонялась бы к тому, чтобы ослушаться вашего милостивого приказа, поскольку я не уверена, что со стороны мисс Грэдграйнд меня ждет такая же радушная встреча, к какой меня приучило ваше щедрое гостеприимство. Но ни слова больше, сэр. — Раз вы меня приглашаете, я поеду. — Надеюсь, — сказал мистер Баундерби, удивленно тараща глаза, — других приглашений, кроме моего, вам не требуется? — Нет, сэр, конечно, нет, — отвечала миссис Спарсит, — надеюсь, что нет. Ни слова больше, сэр. Как я желала бы снова видеть вас веселым. — Что вы хотите сказать, сударыня? — воскликнул Баундерби. — Сэр, — отвечала миссис Спарсит, — я не вижу в вас былой резвости, о чем горько сокрушаюсь. Будьте жизнерадостны, сэр! В ответ на такую своеобразную просьбу, да еще подкрепленную сострадательным взглядом, мистер Баундерби мог только почесать затылок, состроив при этом довольно глупую мину, и в отместку за свое смущение все утро энергично придирался к своим подчиненным и клиентам помельче. — Битцер, — сказала миссис Спарсит в тот же день, после того как банк закрылся уже в отсутствие хозяина, — передайте мистеру Томасу-младшему мой привет и что я прошу его прийти сюда и вместе со мной отведать бараньих котлет с ореховой подливкой и выпить стаканчик ост-индского эля. — Мистер Томас-младший редко отказывался от подобных приглашений, а посему Битцер воротился с его любезным согласием, и тотчас же явился и сам Том. — Мистер Томас, — сказала миссис Спарсит, — вот моя скромная трапеза — не соблазнитесь ли? — Спасибо, миссис Спарсит, — отвечал щенок. И хмуро принялся за еду. — Как поживает мистер Хартхаус, мистер Том? — осведомилась миссис Спарсит. — Ничего, — отвечал Том. — А где он сейчас? — спросила миссис Спарсит тоном светской беседы, мысленно посылая щенка ко всем фуриям за его необщительность. — Охотится в Йоркшире, — сказал Том. — Прислал Лу корзинищу дичи величиной чуть ли не с церковь. — За такого джентльмена, как он, можно поручиться, что он хороший стрелок! — елейно сказала миссис Спарсит. — Бьет без промаха, — сказал Том. Том уже давно имел обыкновение не смотреть людям в глаза, а в последнее время эта черта в нем так усугубилась, что он и трех секунд подряд не мог выдержать ничьего взгляда. Поэтому миссис Спарсит, пожелай она только, могла бы сколько угодно рассматривать его лицо. — Я питаю слабость к мистеру Хартхаусу, — сказала миссис Спарсит, — как, впрочем, почти все. Можно надеяться вскоре опять увидеть его, мистер Том? — Я-то думаю увидеть его завтра, — отвечал щенок. — Чудесно! — проворковала миссис Спарсит. — Мы условились, что я вечером встречу его на вокзале, а потом мы, должно быть, вместе пообедаем. В усадьбу он не поедет на этих днях, ему куда-то нужно в другое место. По крайней мере так он говорил; но я не удивлюсь, если он останется здесь до понедельника и все-таки заглянет туда. — Ах, кстати! — воскликнула миссис Спарсит. — Не будете ли вы так любезны передать кое-что вашей сестре, мистер Том? — Ну что же, можно, — нехотя согласился щенок, — если только это не что-нибудь очень длинное. — Просто я хочу засвидетельствовать мое почтение вашей сестре, — сказала миссис Спарсит, — и предупредить ее, что завтра, видимо, не стану докучать ей своим обществом, ибо я все еще несколько нервна, и уж лучше мне побыть в смиренном уединении. — А-а, только-то, — отвечал Том. — Не беда, если я и позабуду сказать Лу, потому что сама она ни за что не вспомнит о вас. Отплатив за угощенье столь любезным комплиментом, он опять замолчал и безмолвствовал до тех пор, пока не кончился ост-индский эль; потом он сказал: «Ну, миссис Спарсит, мне пора идти!» — и ушел. Назавтра, в субботу, миссис Спарсит весь день просидела у окна, глядя на входящих и выходящих клиентов, следя за почтальонами, наблюдая уличное движение, перебирая в уме всякую всячину, но превыше всего всматриваясь в свою лестницу. Под вечер она надела шляпку, завернулась в шаль и тихонько вышла — у нее имелись свои причины тайком подкарауливать на вокзале поезд, который должен был привезти некоего пассажира из Йоркшира, а потому она не показывалась открыто, предпочитая выглядывать из-за колонн и углов и даже из окон дамской залы. Том уже был на месте и в ожидании поезда слонялся по вокзалу. Но поезд не привез мистера Хартхауса. Том не уходил, пока не рассеялась толпа пассажиров и не кончилась обычная в таких случаях суета; потом подошел к расписанию поездов, а затем навел справки у носильщиков. После этого он лениво поплелся с вокзала, постоял немного, оглядывая улицу, снял шляпу, снова надел ее, зевнул, потянулся, — словом, обнаруживал все признаки смертельной скуки, вполне естественной в человеке, которому предстоит час сорок минут дожидаться следующего поезда. — Это подстроено нарочно, чтобы он не мешался, — сказала миссис Спарсит, отходя от мутного вокзального окна, откуда она напоследок подсматривала за Томом. — А Хартхаус сейчас с его сестрой! То была вдохновенная догадка, наитие свыше, и миссис Спарсит стремительно принялась действовать. Вокзал, с которого отходил поезд в направлении усадьбы, помещался на другом конце города, времени оставалось в обрез, дорога была не из легких; в мгновение ока она завладела свободной каретой, молниеносно вскочила в нее, выскочила, сунула деньги кассиру, схватила билет, ринулась в вагон — и вот уже поезд мчит ее по виадукам над заброшенными и действующими угольными копями, словно неистовый вихрь закружил и унес ее. Всю дорогу, столь же отчетливо, как черные глаза миссис Спарсит видели вечернее небо, разлинованное телеграфными проводами, точно огромная полоса нотной бумаги, ее черное внутреннее око видело лестницу, неотступно стоявшую перед ней, не обгоняемую поездом, и на ней сходящую вниз одинокую фигуру. Уже близка последняя ступень. До края пропасти — один шаг. Пасмурный сентябрьский вечер, готовясь уступить место ночному мраку, из-под полуопущенных век следил за тем, как миссис Спарсит, выскользнув на маленькой станции из поезда, спустилась по деревянным ступенькам на выложенную камнем дорогу, пересекла ее и, углубившись в проселок, скрылась за зелеными ветками и пышной листвой живой изгороди. Запоздалое сонное чириканье пташек в двух-трех гнездах, летучая мышь, тяжело кружившая то сзади, то впереди, и густая пыль, которая поднималась из-под ее собственных ног, ступавших точно по плюшевому ковру, — вот и все, что видела и слышала миссис Спарсит, пока тихонько не притворила за собой калитку. Прячась за кустами, она подобралась, к дому, обошла его, вглядываясь сквозь листву в нижние окна. Почти все они стояли настежь, как всегда в теплую погоду, однако ни в одном из них не было огня и в доме царила полная тишина. Она обследовала сад, но столь же безуспешно. Вспомнила о роще — и крадучись свернула туда, не страшась ни высокой травы и шипов терновника, ни земляных червей, ни улиток, ни гусениц, ни прочих ползучих тварей. Выслав вперед свои черные глаза и крючковатый нос, она осторожно пробиралась по густому подлеску, так страстно стремясь к желанной цели, что она, надо думать, не отступила бы, если бы даже роща кишела гадюками. Чу! Малым пичужкам впору бы вывалиться из гнезда — так ярко вспыхнули во тьме глаза миссис Спарсит, когда она остановилась, напрягая слух. Тихие голоса. Близко, рукой подать. Его голос и ее. Стало быть, верно, что встреча с Томом на вокзале — лишь уловка, чтобы он не мешал свиданью! Вон они там, у поваленного ствола. Низко пригнувшись к росистой траве, миссис Спарсит подкралась поближе. Потом она выпрямилась и как Робинзон Крузо, из засады подстерегающий дикарей, стала за деревом — так близко к ним, что одним прыжком могла бы очутиться возле них. Ясно — он приехал сюда тайно и в доме не показывался. Он приехал верхом, очевидно полями, потому что лошадь его была привязана по ту сторону ограды, в трех шагах от них. — Любовь моя, — говорил он, — как мог я поступить иначе? Зная, что вы одна, мог ли я не приехать? «Опускай голову, сколько душе угодно, — подумала миссис Спарсит, — раз ты воображаешь, что это к тебе идет. Я лично не понимаю, что в тебе находят хорошего, даже когда ты подымаешь ее. Но знала бы ты, любовь моя, чьи глаза на тебя смотрят!» Голова ее и в самом деле была низко опущена. Она просила его уйти, требовала, чтобы он ушел, но она не поднимала глаз, не глядела на него. Вместе с тем — как не без удивления отметила притаившаяся в засаде симпатичная особа — она была спокойна и сдержанна ничуть не меньше, чем всегда. Она сидела неподвижно, точно изваяние, сложив руки на коленях, и даже речь ее звучала неторопливо. — Дитя мое, — сказал Хартхаус, причем миссис Спарсит с восторгом увидела, что он обнял ее одной рукой, — неужели не дозволено мне немного побыть с вами? — Не здесь. — Где же, Луиза? — Не здесь. — Но у нас так мало времени, и нам так много нужно сказать друг другу, а я приехал издалека, и я так предан вам, и без ума от вас. Еще свет не видел раба столь преданного, ни госпожи столь жестокой. Я как солнца ждал вашего привета, который всегда согревает мне душу, а вы обдаете меня ледяным холодом. У меня сердце разрывается! — Нужно ли повторять, что здесь мне нельзя быть с вами?

— Но я должен видеть вас, Луиза, дорогая моя. Где мы встретимся? Тут оба вздрогнули. Испуганно вздрогнула и та, что подслушивала, — ей почудилось, что кто-то еще прячется за деревьями. Но это зашумел дождь — крупные частые капли тяжело падали на землю. — Не подъехать ли мне через несколько минут к крыльцу с самым невинным видом, предполагая, что хозяин дома и примет меня с распростертыми объятиями? — Нет! — Я безропотно повинуюсь вашему жестокому приказанию; но поистине нет несчастней меня на свете, ибо доселе ни одна женщина не возмущала мой покой, а кончилось тем, что я повержен к ногам самой прекрасной, самой обаятельной и самой властной из них. Дорогая моя Луиза, я не могу уйти, я вас не отпущу, пока вы не смените гнев на милость. Миссис Спарсит видела, как он обнимал ее, слышала, жадно ловя каждое слово, как он говорил ей, что страстно любит ее, что ради нее с радостью поставит на карту всю свою будущность. Цели, которые он в последнее время преследовал, меркнут рядом с ней; успех, уже почти достигнутый им, он готов отвергнуть, ибо это прах по сравнению с ней. Но будет ли он продолжать здесь свое дело, дабы не удаляться от нее, или бросит его, если оно потребует разлуки с ней, или решится бежать с ней, если она даст на то согласие, или навеки сохранит их тайну, если такова ее воля, — что бы ни ждало его впереди, ему все равно, лишь бы она отдала свое сердце тому, кто почувствовал, понял, как она одинока, в ком она с первой встречи возбудила такое участие, такое восхищение, на какое он не считал себя способным, кого она подарила своим доверием, кто предан ей беззаветно и любит ее до безумия. Все это и еще многое другое слушала и запоминала миссис Спарсит, но усиливавшийся с каждой минутой дождь и первые раскаты грома заглушили его последние торопливые слова, а сама она так неистово злорадствовала, так смертельно боялась быть обнаруженной, что мысли ее путались, и когда, наконец, он перелез через ограду и ушел, ведя лошадь в поводу, она не могла бы сказать с уверенностью, где и на какой час назначено свидание, — кроме того, что оно должно состояться в ту же ночь. Но ушел только один, другая еще здесь, в темноте, и пока ее след не потерян, ошибки быть не может. «О любовь моя, — подумала миссис Спарсит, — знала бы ты, сколь зорко тебя охраняют!» Миссис Спарсит видела, как она вышла из рощи, видела, как она скрылась в доме. Что делать дальше? Дождь не унимался. Чулки миссис Спарсит, когда-то белые, отливали всеми цветами радуги, преимущественно зеленым; в башмаки набились колючки; на ее платье то тут, то там качались гусеницы в самодельных гамаках; с ее шляпки и римского носа стекали ручейки. В таком плачевном виде стояла миссис Спарсит, притаившись за кустами, и размышляла — что же дальше? Но вот — Луиза показывается на крыльце! В наспех накинутом плаще и шали, она уходит крадучись. Она решила бежать! Она упала с нижней ступеньки лестницы, и пропасть поглотила ее. Точно не замечая дождя, она быстрым, твердым шагом углубилась в боковую аллею, пролегавшую рядом с подъездной дорогой. Миссис Спарсит, прячась в тени деревьев, шла за ней по пятам — нелегко в темную ненастную ночь удержать в поле зрения быстро удаляющуюся фигуру. Когда Луиза остановилась и бесшумно затворила калитку, остановилась и миссис Спарсит. Когда она пошла дальше, пошла и миссис Спарсит. Луиза шла тем же путем, каким добиралась сюда миссис Спарсит, — миновала проселок между зелеными изгородями, пересекла мощеную дорогу и поднялась по деревянным ступенькам станции. Миссис Спарсит знала, что вскоре должен, пройти поезд на Кокстаун; стало быть, подумала она, Кокстаун ее ближайшая цель. Перепачканная, промокшая до нитки, миссис Спарсит могла бы и не тратить усилий, дабы изменить свой привычный облик; однако она, укрывшись под стеной станционного здания, иначе сложила свою шаль и повязалась ею поверх шляпки. После этого, не боясь быть узнанной, она тоже поднялась по деревянным ступенькам и взяла билет у маленького окошка. Луиза, дожидаясь поезда, сидела в одном углу. Миссис Спарсит сидела в другом. Обе прислушивались к раскатам грома, к плеску воды, стекающей с крыши, к стуку дождевых капель по перилам виадука. Два-три фонаря погасли от дождя и ветра; тем ярче перед глазами обеих сверкало отражение молний, извиваясь и трепеща на стальных рельсах. Предвещая прибытие поезда, по станционному зданию прошла дрожь, закончившаяся сердечным припадком. Огонь, пар, дым, красный свет; шипенье, грохот, звон колокола, пронзительный свисток; Луиза в одном вагоне, миссис Спарсит — в другом; и опустевшая станция уже снова лишь черное пятнышко, затерянное в грозе и буре. Невзирая на то, что у миссис Спарсит зуб на зуб не попадал от холода и сырости, радости ее не было границ. Одинокую фигуру поглотила пропасть, и миссис Спарсит казалось, что она провожает покойницу на кладбище. Могла ли она, которая столь деятельно способствовала торжественному погребению, не ликовать? «Она приедет в Кокстаун намного раньше него, — думала миссис Спарсит, — как бы он ни гнал свою лошадь. Где она будет ждать его? И куда они отправятся вместе? Терпенье. Поживем — увидим». Когда поезд под неистовым ливнем прибыл к месту назначения, там царила невообразимая суматоха. Водосточные трубы лопнули, канавы были переполнены, улицы превратились в реки. Сойдя с поезда, миссис Спарсит первым делом обратила смятенный взор на стоявшие перед вокзалом кареты, которые брали с бою. «Она сядет в карету, — соображала она, — и уедет, прежде чем я достану другую, чтобы гнаться за ней. Пусть я угожу под колеса, но я должна увидеть номер и услышать, что она скажет кучеру». Но миссис Спарсит ошиблась в своих расчетах. Луиза не села в карету и была уже далеко. Черные глаза теперь зорко следили за вагоном, из которого должна была выйти Луиза, но они вперились в него с опозданием на одну минуту. Удивляясь, что дверь вагона долго не отворяется, миссис Спарсит прошла мимо раз, другой, — ничего не увидела, заглянула внутрь и обнаружила, что там никого нет. Злополучная миссис Спарсит промокла насквозь, при каждом шаге вода хлюпала и булькала в ее башмаках, лицо с чертами римской матроны словно сыпью усеяли капли дождя, шляпка превратилась в подобие переспелой фиги, платье было вконец испорчено, все как есть пуговки, крючки и петли отпечатались на ее высокородной спине, грязноватая празелень покрывала ее с головы до ног, точно чугунную ограду в тесном переулке. Что ей оставалось? Только разразиться слезами бессильной злобы и горестно воскликнуть: «Упустила!»
Глава XII
На краю пропастиГосударственные мусорщики, потешив друг друга множеством шумных мелких схваток между собой, на время разъехались, и мистер Грэдграйнд проводил каникулы у себя, в Каменном Приюте. Он сидел за письменным столом в комнате с убийственно точными часами и по всей вероятности что-то доказывал — должно быть, что добрый самаритянин[59] был дурной экономист. Шум проливного дождя не мешал ему, однако все же привлекал его внимание, и он время от времени досадливо вскидывал голову, словно хотел отчитать непокорные стихии. При очень сильных раскатах грома он поглядывал в сторону Кокстауна — не ударила ли молния в одну из высоких фабричных труб. Гроза удалялась — гром грохотал все реже и глуше, дождь лил ливмя, — как вдруг дверь его комнаты отворилась. Он слегка отклонился, чтобы свет настольной лампы не бил в глаза, и с изумлением увидел свою старшую дочь. — Луиза? — Отец, мне надо поговорить с вами. — Что случилось? В каком ты виде? Боже мой! — воскликнул мистер Грэдграйнд в полном недоумении. — Неужели ты пришла пешком в такую грозу? Она провела руками по своему платью, словно только сейчас заметила, что промокла. «Да». Потом откинула капюшон и, даже не взглянув на плащ, соскользнувший с ее плеч, стала перед отцом, бледная как полотно, со спутанными волосами, и в устремленном на него взоре был такой вызов и вместе с тем отчаяние, что он испугался. — Что такое? Луиза, ради всего святого, скажи, что случилось? Она упала в кресло подле него и коснулась холодной рукой его локтя. — Отец, вы воспитали меня с колыбели? — Да, Луиза. — Лучше бы мне не родиться, чем такой жребий. Он глядел на нее с ужасом, не веря своим ушам, и бессмысленно повторял: «Не родиться? Не родиться?». — Как могли вы даровать мне жизнь и отнять у меня все неоценимые блага, без которых она не более чем сознательная смерть? Где сокровища души моей? Где жар моего сердца? Что сделали вы, отец, с душистым садом, который некогда должен был расцвести в этой бесплодной пустыне? Она обеими руками ударила себя в грудь. — Если бы он здесь когда-нибудь цвел, один уж пепел его уберег бы меня от страшной пустоты, объявшей всю мою жизнь. Я не хотела так говорить с вами, но помните ли вы, отец, наш последний разговор в этой комнате? Ее слова, столь неожиданные, так поразили его, что он едва выговорил: — Помню, Луиза. — Все, что вы сейчас слышите из моих уст, вы услышали бы тогда, если бы вы хоть на миг один протянули мне руку помощи. Я вас не виню, отец. Воспитывая меня, вы пренебрегли только тем, о чем никогда не пеклись и для самого себя. Но — ах! — если бы вы не упустили этого много, много лет назад или вовсе лишили меня своего попечения, насколько ныне я была бы лучше и счастливее! Услышав такой укор — после его-то неусыпных забот! — он склонился головой на руку и громко застонал. — Отец, если бы в тот день, когда мы в последний раз были здесь вдвоем, вы знали, чего я страшусь и что пытаюсь побороть в себе — как я с детства принуждала себя подавлять каждый естественный порыв своего сердца, — если бы вы знали, что в груди моей дремлют чувства, стремления, слабости, которые могли бы обернуться силой, не подвластные никаким расчетам и не более постижимые с помощью арифметики, нежели сам Творец, — отдали бы вы меня мужу, который мне теперь ненавистен? Он сказал: — Нет. Нет, бедное дитя мое. — Обрекли бы вы меня на губительный холод, изувечивший и ожесточивший меня? Отняли бы у меня — никого не обогащая, лишь усугубив запустенье мира сего — все невещественное, все духовное во мне, весну и лето моих верований, убежище от всего низменного и дурного вокруг меня, ту школу, в которой я научилась бы с большим смирением понимать зло окружающей жизни в надежде уменьшить его, хотя бы в своем малом, тесном кругу? — Нет, нет! Нет, Луиза. — Так знайте, отец: если бы я была лишена зрения и шла вслепую, ощупью находя свой путь, только осязая поверхность и форму предметов, но могла бы дать волю моему воображению, я и то была бы в тысячу раз мудрее, счастливее, чище, более человечна и более отзывчива на все доброе, нежели сейчас, с моими зрячими глазами. А теперь слушайте, что я пришла сказать вам. Она встала с кресла. Он тоже поднялся и, поддерживая ее, обнял одной рукой. Она положила свою руку ему на плечо и заговорила, глядя на него в упор: — Тщетно надеясь хоть на мгновение утолить муки голода и жажды, томимая тоской по такой жизни, где господствуют не одни правила, цифры и точные определения, так я росла, отвоевывая каждую пядь своего пути. — Дитя мое, как мог я знать, что ты несчастлива? — Я всегда это знала, отец. В неустанной жестокой борьбе я едва не отреклась от моего доброго ангела, не дала ему обернуться демоном. Знания. приобретенные мной, оставили меня во власти неверия, ложных понятий, внушили мне презрительное равнодушие и сожаление о том, чего мне не дано было узнать; помощи я искала лишь в невеселой мысли, что жизнь скоро кончится и нет в ней ничего, за что стоило бы страдать и бороться. — В твои-то годы, Луиза! — сказал он с жалостью. — В мои годы, отец. Таковы были мои чувства и мысли — я ныне без страха, не таясь, показываю вам, насколько сама могу судить, как мертво и пусто было у меня на душе, — когда вы предложили мне мужа. Я дала согласие. Я никогда не обманывала ни вас, ни его, не притворялась, будто выхожу по любви. Я знала, и вы, отец, знали, и он знал, что я не люблю его. Отчасти я даже хотела этого брака, я надеялась, что это будет приятно и выгодно Тому. Я очертя голову погналась за химерой и только мало-помалу поняла, на что я польстилась. Но Том всю мою жизнь был для меня предметом нежных забот, вероятно потому, что я глубоко жалела его. Теперь уже ничего изменить нельзя, но, быть может, это побудит вас снисходительней отнестись к его проступкам. Он держал ее в объятиях, а она, положив обе руки ему на плечи и все так же в упор глядя на него, продолжала: — После того, как совершилось непоправимое, все во мне восстало против этого неравного брака и опять в душе моей поднялась борьба, еще более ожесточенная, чем прежде, ибо питалась она полной несообразностью наших двух натур, — и тут, отец, не помогут никакие общие законы, пока они не способны научить анатома, куда вонзить нож, чтобы вскрыть сокровенные тайны моего сердца. — Луиза! — сказал он, сказал с мольбой, ибо хорошо помнил их последний разговор в этой комнате. — Я вас не виню, отец; и я не жалуюсь. Я не за тем пришла сюда. — Что я могу сделать, дитя мое? Требуй всего, чего хочешь. — Сейчас я скажу об этом. Отец, случай свел меня с новым знакомцем, — таких людей я еще не встречала в своей жизни: человек светский, благовоспитанный, держится легко, непринужденно; не лицемерит, открыто презирает все на свете — что я делала втайне и со страхом; он очень скоро дал мне почувствовать — сама не знаю, как и отчего это случилось, — что он понимает меня, читает мои мысли. Я не видела никаких причин считать его хуже себя. Мне казалось, что у нас с ним очень много общего. Меня только удивляло, почему он, безучастный ко всему, не безучастен ко мне. — К тебе, Луиза? Он невольно разжал было объятья, но почувствовал, что силы покидают ее, и увидел лихорадочный блеск ее расширенных глаз, пристально смотревших ему в лицо. — Я не скажу ничего о том, что дало ему право притязать на мое доверие. Все равно каким путем, но он завоевал его. То, что вы, отец, теперь знаете о моем замужестве, вскоре стало известно и ему. Лицо его посерело, и он крепко прижал ее к груди. — Худшего я не сделала; я вас не опозорила. Но если вы меня спросите, любила ли я его, или люблю ли, говорю вам прямо, отец, — может быть, и так. Я не знаю. Она внезапно сняла руки с его плеч и схватилась за сердце. Черты лица ее болезненно исказились, но она последним напряжением сил выпрямилась во весь рост и, дав волю столь долго подавляемым чувствам, договорила то, что решилась сказать: — Мой муж в отъезде, и сегодня вечером этот человек был со мной и объяснился мне в любви. Сейчас он ждет меня, ибо, только согласившись на свидание, я могла удалить его. Я не знаю, раскаиваюсь ли я; не знаю, стыжусь ли; не знаю, унижена ли я в собственных глазах. Но одно, отец, я знаю твердо: ваши теории, ваши поучения не спасут меня. Вы довели меня до этого. Найдите другие средства спасти меня! Она пошатнулась, и он крепче обнял ее, чтобы она не упала, но у нее вырвался душераздирающий крик: «Не держите меня! Дайте мне лечь, не то я умру!» Он опустил ее на пол и увидел любимую дочь — свою гордость и радость, венец его системы воспитания — в беспамятстве распростертой у своих ног.
Конец второй книги
КНИГА ТРЕТЬЯ «СБОР В ЖИТНИЦЫ»
Глава I
Иное на потребуЛуиза очнулась от забытья, с трудом приподняла тяжелые веки и увидела, что лежит на своей девичьей кровати в своей девичьей комнате. В первую минуту у нее мелькнула мысль, что все случившееся с той поры, когда и эта кровать и эта комната были столь привычны, просто померещилось ей во сне; но по мере того как взор ее явственнее различал знакомые предметы, недавние события явственнее проступали в ее сознании. Голова у нее кружилась, виски нестерпимо ломило, воспаленные глаза болели, и она была так слаба, что едва могла шевельнуться. Ею овладело какое-то тупое безразличие ко всему, и даже присутствие своей сестренки она заметила не сразу. Уже после того, как взгляды их встретились и девочка, подойдя к постели, робко взяла сестру за руку, Луиза еще долго молча глядела на нее, прежде чем спросила: — Когда меня привели в эту комнату! — Вчера вечером,Луиза. — Кто привел меня? — Думаю, что Сесси. — Почему ты так думаешь? — Потому что я утром застала ее здесь. Она сегодня не пришла, как обычно, будить меня; и я стала искать ее. Я думала, она в своей комнате, но ее там не оказалось; я искала по всему дому и, наконец, нашла ее здесь — она ухаживала за тобой, клала холодные примочки на лоб. Позвать папу? Сесси велела мне сказать папе, как только ты проснешься.

— Какое у тебя приветливое личико, Джейн! — шепнула Луиза, когда ее сестренка, все еще робея, нагнулась и поцеловала ее. — Разве? Я рада, что ты так думаешь. Это все Сесси, конечно. Рука, которую Луиза подняла было, чтобы обнять Джейн, опустилась. — Можешь позвать папу. — Потом, удержав сестру еще на минуту, она спросила: — Это ты убрала комнату и сделала ее такой уютной? — Нет, что ты, Луиза. Когда я пришла, все уже было готово. Это сделала… Луиза отвернулась к стене и не стала больше слушать. Когда Джейн ушла, она опять поворотилась лицом к дверям и не спускала с них глаз, пока они не открылись и не вошел ее отец. Лицо у него было осунувшееся, встревоженное, и рука, которую он протянул Луизе, — столь твердая обычно, — заметно дрожала. Он сел подле ее постели, ласково спросил, как она себя чувствует, настойчиво повторял, что ей необходим полный покой после пережитого накануне волнения и долгого пути под проливным дождем. Говорил он глухо, неуверенно, подыскивая слова, совсем не так, как бывало, сразу утратив свой диктаторский тон. — Дорогая моя Луиза! Бедная моя дочь! — Тут он, сколько ни искал, не нашелся что сказать и окончательно умолк. Потом начал сызнова: — Бедное дитя мое! — Но и на сей раз не сдвинулся с места и опять начал сызнова: — Никакими словами, Луиза, не мог бы я выразить, как сильно я потрясен тем, что обрушилось на меня вчера вечером, Почва ушла у меня из-под ног. Единственный оплот, который казался мне — и посейчас еще кажется — незыблемым, как скала, рассыпался в одно мгновение. Это внезапное открытие сразило меня. Я думаю сейчас не о себе, но то, что произошло вчера вечером, для меня очень тяжелый удар. Она ничего не могла сказать ему в утешение: ее собственная жизнь разбилась об эту скалу. — Я не стану говорить о том, Луиза, что для нас обоих — для твоего и моего покоя — было бы лучше, ежели бы ты немного раньше вывела меня из заблуждения. Я хорошо понимаю, что, быть может, моя система недостаточно поощряла такого рода откровенность. Я доказал самому себе преимущества моей… моей системы воспитания и неуклонно придерживался ее; поэтому я должен нести ответственность за то, что она себя не оправдала. Я только прошу тебя верить, дорогая, что намерения у меня были самые лучшие. Он говорил с чувством, и, надо отдать ему справедливость, говорил искренне. Измеряя бездонные глубины своей куцей линейкой, пытаясь охватить вселенную ржавым циркулем на негнущихся ножках, он думал совершить великие дела. Насколько позволяла короткая привязь, он усердно вытаптывал цветы жизни, и делал это с большей убежденностью, нежели многие его мычащие соратники. — Я верю вашим словам, отец. Я знаю, что я ваша любимая дочь. Я знаю, что вы хотели моего счастья. Я ни в чем не упрекаю вас, и никогда не упрекну. Он взял ее протянутую руку и удержал в своей. — Дорогая, я всю ночь просидел за своим столом, снова и снова возвращаясь мыслью к нашей вчерашней тягостной встрече. Когда я думаю о тебе, о том, что ты годами скрывала от меня свою истинную натуру и я знаю ее всего несколько часов; когда я вдумываюсь в причину, заставившую тебя в конце концов открыть мне правду, — я теряю доверие к себе. Он мог бы прибавить: «Когда я гляжу на обращенное ко мне лицо дочери». Вероятно, он это сделал мысленно, судя по тому, с какой нежностью он откинул упавшие ей на лоб волосы. Такое неприметное движение, столь естественное в других людях, для него было крайне необычно; и Луизе эта мимолетная ласка красноречивее слов сказала о его раскаянии. — Но, Луиза, — запинаясь, продолжал мистер Грэдграйнд, явно страдая от охватившего его чувства беспомощности, — ежели я имею основания не доверять себе в том, что касается прошлого, я не имею права доверять себе и относительно настоящего и будущего. Признаюсь тебе чистосердечно — этого доверия у меня нет. Я отнюдь не убежден — каковы бы ни были мои взгляды всего двадцать четыре часа тому назад, — что я сумею оправдать надежды, которые ты возлагаешь на меня; что я в силах откликнуться на призыв о помощи, которую ты ищешь в родительском доме; что чутье — допустим на минуту существование такого душевного качества — подскажет мне, как найти способ возвратить тебе покой и вывести на правильный путь. Она повернула голову и закрылась локтем, так что он не видел ее лица. Ее страстное отчаяние утихло; но она по-прежнему не плакала. Перемена, совершившаяся за одну ночь в ее отце, быть может, нагляднее всего сказалась в том, что он рад был бы видеть Луизу в слезах. — Существует мнение, — продолжал он все так же неуверенно, — что есть мудрость ума и мудрость сердца. Я с этим не соглашался, но, как я тебе говорил, я уже себе не доверяю. Я считал, что достаточно мудрости ума; но могу ли я ныне утверждать это? Ежели то, чем я пренебрег, и есть мудрость сердца — то самое чутье, которого мне не хватает… Он говорил с сомнением в голосе, словно и сейчас еще не желал соглашаться, что это именно так. Она ничего не отвечала ему и молча лежала на кровати, — почти такая же растерзанная и неподвижная, какой накануне лежала на полу в его кабинете. — Луиза, дорогая, — и он снова коснулся рукой ее волос, — последнее время я мало бывал дома; и хотя твоя сестра воспитывалась по моей… системе, — на этом слове он каждый раз спотыкался, — все же ее придерживались менее строго, ибо по необходимости Джейн с ранних лет была окружена не только моими заботами. Я хочу спросить тебя, смиренно признаваясь в моем невежестве, как ты думаешь — это к лучшему? — Отец, — отвечала она, не поворачивая головы, — если кто-то пробудил в ее юной душе гармонию, которая безмолвствовала в моей, пока не зазвучала нестройно нефальшиво, то пусть она возблагодарит бога за то, что ей суждено больше счастья, чем выпало мне на долю. — О дитя мое! — воскликнул он горестно. — Как больно мне слышать это от тебя! Что нужды в том, что ты меня не упрекаешь, когда я должен столь жестоко упрекать самого себя! — Он опустил голову и заговорил, понизив голос: — Луиза, я подозреваю, что здесь, в моем доме, мало-помалу многое изменилось одной лишь силой любви и горячей признательности; и то, что не было и не могло быть сделано одним умом, в тиши доделало сердце. Может ли это быть? Она молчала. — Я не стыжусь поверить этому, Луиза. К лицу ли мне гордость, когда я смотрю на тебя! Может это быть? Так ли это, дорогая? Он еще раз бросил взгляд на свою дочь, неподвижно, словно обломок крушения, лежащую перед ним, и, не проронив больше ни слова, вышел из комнаты. Спустя несколько минут она услышала легкие шаги у дверей и почувствовала, что кто-то стоит подле нее. Она не подняла головы. От мысли, что ее несчастье видят те самые глаза, чей взгляд некогда так глубоко уязвил ее, потому что в нем невольно — и увы, недаром, — отразился страх за нее, она испытывала глухую, но жгучую, как тлеющий огонь, обиду. Любая стихийная сила, если заключить ее в слишком, тесное узилище, становится пагубной. Воздух, который был бы благодатен для земли, вода, которая напоила бы ее, тепло, которое взрастило бы ее плоды, вырвавшись из заточения, разрушают ее. Так и в душе Луизы: самые сильные чувства ее, столь долго не находившие выхода, очерствели, и она упрямо отворачивалась от дружеского участия. Хорошо, что на грудь ей легла ласковая рука, и хорошо, что она успела притвориться спящей. Нежное прикосновение не вызвало в ней гнева. Пусть рука лежит на ее груди, пусть лежит. От мягкой ладони исходило тепло и покой; оживали мысли, уже не столь горькие. Под внимательным, полным сострадания взором сердце Луизы смягчилось, и глаза ее, наконец, увлажнились слезами. Она почувствовала, как к ее лицу прижалась мокрая от слез щека; она знала, что эти слезы о ней. Когда Луиза открыла глаза — как будто она только что проснулась, — Сесси быстро выпрямилась и тихо стала у постели. — Я вас не разбудила? Я пришла спросить, можно мне остаться с вами? — Зачем ты останешься со мной? Джейн будет скучать без тебя. Ты для нее — все. — Вы думаете? — отвечала Сесси, с сомнением покачав головой. — Я хотела бы хоть чем-нибудь быть для вас, если бы вы позволили. — Чем? — спросила Луиза почти сурово. — Тем, в чем вы больше всего нуждаетесь, — если бы я сумела. Во всяком случае, я могла бы попытаться. Пусть сначала будет трудно, я все равно не отступлюсь. Позволите? — Это отец велел тебе спросить у меня? — Нет, нет, — отвечала Сесси. — Он только сказал мне, что я могу войти к вам; а утром он велел мне уйти… то есть не то, что велел… — она замялась и умолкла. — А что же? — спросила Луиза, испытующе глядя Сесси в лицо. — Я сама решила уйти… я не знала, понравится ли вам, что я здесь. — По-твоему, я тебя всегда ненавидела? — Надеюсь, что нет, потому что я всегда вас любила; и мне всегда хотелось, чтобы вы об этом знали. Но незадолго до вашего отъезда из дому вы немного переменились ко мне. Это меня не удивляло. Вы так много знали, а я так мало, и вас ожидало знакомство с другими людьми. Так и должно было быть, и я не чувствовала ни огорчения, ни обиды. Последние слова она произнесла скороговоркой, вся вспыхнув и потупя глаза. Луиза поняла, что Сесси щадит ее, и сердце у нее больно сжалось. — Так можно мне попытаться? — спросила Сесси и, осмелев, подняла руку, чтобы обнять Луизу, видя, что та невольно тянется к ней. Луиза сняла ее руку со своего плеча и, не выпуская ее, заговорила: — Постой, Сесси. Ты знаешь, какая я? Я заносчива и озлоблена, ум мой в смятении, я так бесчувственна и несправедлива ко всем и к самой себе, что вижу одно только темное, жестокое, дурное. Это тебя не отталкивает? — Нет! — Я очень несчастлива, и все, что могло сделать меня счастливой, безнадежно захирело и зачахло, и если бы я до сей поры вовсе не имела разума, и не была бы такой ученой, какой ты меня считаешь, а, напротив, только начинала бы постигать самые простые истины, я и то меньше нуждалась бы в чьей-нибудь помощи, дабы обрести покой, радость, душевное благородство — все те блага, в которых мне отказано. Это тебя не отталкивает? — Нет! Такая горячая, неустрашимая любовь, такая беззаветная преданность переполняла сердце некогда брошенной девочки, что сияние ее глаз растопило лед в душе Луизы. Она подняла руку Сесси и обеими ее руками обвила свою шею. Она упала на колени и, прильнув к дочери клоуна, смотрела на нее почти с благоговением. — Прости меня, сжалься надо мной, помоги мне! Не покинь меня в моей великой беде, дай мне приклонить голову на любящую грудь! — Да, да! — вскричала Сесси. — Пусть так и будет, дорогая!
Глава II
Смешно и нелепоМистер Джеймс Хартхаус провел всю ночь и весь день обуянный столь лихорадочным нетерпением, что, пока длились эти сутки, высшему свету, даже сквозь самый сильный лорнет, ни за что бы не признать в нем легкомысленного братца прославленного остряка-парламентария. Он положительно был взволнован. Он несколько раз изъяснялся с почти вульгарной горячностью. Он приходил и уходил по непонятным причинам и без видимой цели. Он скакал сломя голову, как разбойник с большой дороги. Словом — он попал в такой переплет, что не знал, куда деваться от скуки, и начисто забыл, как должен вести себя человек, скучающий по всем правилам законодателей моды. После того как он чуть не загнал лошадь, единым духом, в самую грозу, примчавшись в Кокстаун, он прождал всю ночь, то и дело яростно дергая звонок, обвиняя коридорного в сокрытии писем или извещений, которые не могли не быть вручены ему, и требуя немедленной выдачи их. Но пришел рассвет, пришло утро, а затем и день, и так как ни рассвет, ни утро, ни день не принесли никаких вестей, он поскакал в усадьбу. Там ему сообщили, что мистер Баундерби еще не возвращался из Лондона, а миссис Баундерби в городе; неожиданно уехала вчера вечером; и даже никто не знал, что она в Кокстауне, пока не было получено письмо, уведомлявшее о том, чтобы ее в ближайшее время не ждали. Итак, ему не оставалось ничего иного, как последовать за ней в Кокстаун. Он отправился в городской дом банкира — миссис Баундерби здесь нет. Он зашел в банк — мистер Баундерби уехал, и миссис Спарсит уехала. Что? Миссис Спарсит уехала? Кому это вдруг так срочно понадобилось общество старой карги? — Да не знаю, — сказал Том, у которого были свои причины пугаться внезапной отлучки миссис Спарсит. — Понесло ее куда-то сегодня рано утром. Всегда у нее какие-то тайны; терпеть ее не могу. И еще этого белесого малого; моргает и моргает, и глаз с тебя не сводит. — Где вы были вчера вечером, Том? — Где я был вчера вечером? Вот это мне нравится! Вас поджидал, мистер Хартхаус, пока не начался такой ливень, какого я лично еще не видел в моей жизни. Где я был! Вы лучше скажите, где были вы? — Я не мог приехать, меня задержали. — Задержали! — проворчал Том. — А меня не задержали? Меня так задержало напрасное ожидание вас, что я пропустил все поезда, кроме почтового. Ужасно приятно ехать почтовым в такую погоду, а потом шлепать до дому по лужам. Так и пришлось ночевать в городе. — Где? — Как где? В моей собственной постели, у Баундерби. — А сестру вашу видели? — Что с вами? — сказал Том, вытаращив глаза. — Как мог я видеть сестру, когда она была в пятнадцати милях от меня? Мысленно кляня неучтивость юного джентльмена, к которому он питал столь искреннюю дружбу, мистер Хартхаус без всяких церемоний оборвал разговор и в сотый раз задал себе вопрос — что все это означает? Ясно только одно: находится ли она в городе или за городом, слишком ли он поторопился, понадеявшись на то, что, наконец, разгадал ее, испугалась ли она в последнюю минуту, или их тайна раскрыта, произошла ли какая-то глупейшая ошибка или непредвиденная помеха — он обязан дождаться грядущих событий, что бы они ему ни сулили. Следовательно, гостиница, где, как всем было известно, он проживал, когда ему волей-неволей случалось пребывать в этом царстве тьмы, и будет тем колом, к которому он привязан. А в остальном — что будет, то будет. — И посему, — рассудил мистер Джеймс Хартхаус, — предстоит ли мне вызов на дуэль, или любовное свидание, или упреки кающейся грешницы, или драка тут же на месте, без соблюдения каких-либо правил, с моим другом Баундерби, — что, кстати сказать, весьма вероятно при сложившихся обстоятельствах, — я пока что все же пообедаю. У Баундерби несомненное превосходство в весе; и если между нами должно произойти нечто истинно английское, то не мешает быть в форме. Итак, он позвонил и, небрежно развалившись на диване, заказал «обед к шести часам и чтобы непременно бифштекс», а оставшиеся до обеда часы попытался скоротать как можно лучше. Однако они не показались ему особенно короткими, ибо его мучила неизвестность, и по мере того как время шло и положение нисколько не разъяснялось, муки его возрастали как сложные проценты. Все же он сохранял хладнокровие в той степени, в какой это доступно человеческим силам, придумывая для развлечения всякие способы подготовиться к возможному единоборству. «Не плохо было бы, — думал он, позевывая, — дать лакею пять шиллингов и повалять его». И немного погодя: «А что, если нанять за почасовую плату парня, весом этак в центнер?» Но существенной пользы эти шутки не принесли — настроение его не улучшилось, а время тянулось нестерпимо медленно. Еще до обеда невозможно было удержаться, чтобы не ходить взад-вперед по комнате, следуя за узором ковра, то и дело выглядывая в окно, прислушиваясь у дверей, не идет ли кто, и обливаясь потом каждый раз, как в коридоре раздавались чьи-нибудь шаги. Но после обеда, когда наступили сумерки, когда сумерки затем сгустились до мрака, а он по-прежнему не имел ни единой весточки, началось то, что он назвал про себя «медленной пыткой по системе Святой инквизиции[60]». Однако, верный своему убеждению (единственному), что истинный аристократизм проявляется в равнодушии, он в эту критическую минуту потребовал свечей и газету. После того как он с полчаса тщетно пытался сосредоточить свое внимание на газете, явился слуга и произнес с несколько таинственным и виноватым видом: — Прошу прошения, сэр. Вас требуют, сэр. Смутное воспоминание о том, что именно так полиция обращается к хорошо одетым жуликам, побудило мистера Хартхауса гневно вопросить слугу, что, черт его возьми, значит «требуют?». — Прошу прошения, сэр. Молодая леди здесь, хочет вас видеть. — Здесь? Где? — За дверью, сэр. Обозвав слугу дубиной и послав его по уже упомянутому адресу, мистер Хартхаус кинулся в коридор. Там стояла совершенно незнакомая ему молодая девушка, очень скромно одетая, очень тихая, очень миловидная. Когда он ввел ее в комнату, где горело несколько свечей, и подал ей стул, он обнаружил, что она даже лучше, нежели ему показалось на первый взгляд. Ее совсем еще юное лицо было по-детски наивно и необычайно привлекательно. Она не робела перед ним и нисколько не смущалась. Видимо, мысли ее были полностью поглощены целью ее прихода, и о себе она вовсе не думала. — Я говорю с мистером Хартхаусом? — спросила она, когда слуга вышел. — Да, с мистером Хартхаусом. — И про себя добавил: «И при этом у тебя такие доверчивые глаза, каких я в жизни не видел, и такой строгий (хоть и тихий) голос, какого я в жизни не слыхал». — Мне неизвестно, сэр, — сказала Сесси, — к чему вас, в других делах, обязывает честь джентльмена, — услышав такое начало, он покраснел как рак, — но я надеюсь, что вы сохраните в тайне и мой приход и то, что я вам сообщу. Если вы мне обещаете, что в этом я могу положиться на вас, я вам поверю на слово. — Безусловно можете. — Я молода, как видите; и я пришла одна. Никто не научил меня прийти, никто не посылал к вам — меня привела только надежда. «Зато надежда твоя очень сильна», — подумал он, увидев выражение ее глаз, когда она на миг подняла их. И еще он подумал: «Очень странный разговор. Хотел бы я знать, чем он окончится». — Я полагаю, — сказала Сесси, — что вы догадываетесь, с кем я только что рассталась. — Вот уже сутки (а мне они показались вечностью), как я нахожусь в чрезвычайной тревоге из-за одной леди, — отвечал он. — Ваши слова подают мне надежду, что вы пришли от этой леди. Я не обманываюсь? — Я оставила ее меньше часу тому назад. — Где? — В доме ее отца. Физиономия мистера Хартхауса, невзирая на все его хладнокровие, вытянулась. «В таком случае, — подумал он, — я уж совсем не знаю, чем это кончится». — Она приехала туда вчера вечером, вне себя от волнения. Она всю ночь пролежала в беспамятстве. Я живу в доме ее отца и целый день провела с ней. Могу вас уверить, сэр, что вы больше никогда ее не увидите. Мистер Хартхаус только рот разинул; и тут же сделал открытие, что если бывают случаи, когда человек не находит слов, то такой случай, несомненно, произошел сейчас с ним. Полудетское простодушие его гостьи, спокойная смелость и прямота, с какой она говорила, не прибегая ни к каким ухищрениям, нимало не думая о себе, а только настойчиво, неуклонно добиваясь своей цели, — все это, да вдобавок доверие, с каким она приняла его так легко данное обещание молчать — от одного этого можно было сгореть со стыда, — было ему до такой степени внове, и он так ясно понимал, сколь бессильно здесь его обычное оружие, что решительно не знал, как отвечать ей. Наконец он сказал: — Такое неожиданное заявление, и выраженное столь решительно, да еще слышать его из ваших уст… признаюсь, вы меня ошеломили. Позвольте, однако, задать вам один вопрос: вы облекли свой приговор в эти беспощадные слова по поручению той леди, о которой мы говорим? — Она ничего мне не поручала. — Утопающий за соломинку хватается. Я отнюдь не сомневаюсь ни в верности ваших суждений, ни в вашей искренности, но я не могу отказаться от надежды, что еще не все погибло и что я не буду обречен на вечное изгнание. — У вас нет ни малейшей надежды. Я пришла к вам, сэр, для того, чтобы, во-первых, заверить вас, что у вас столько же надежды увидеться с ней, как если бы она умерла вчера, когда воротилась домой… — Заверить меня? А если я не могу этому верить? А если я от природы упрям и не хочу… — Все равно, это так. Надежды нет. Джеймс Хартхаус покосился на нее, скептически улыбаясь, но улыбка пропала даром, потому что Сесси на него не глядела. Он ничего не сказал и, кусая губы, задумался. — Ну что ж! — заговорил он немного погодя. — Если, к несчастью, окажется, что все мои усилия тщетны и я в самом деле изгнан от лица этой леди, то я, разумеется, не стану преследовать ее. Но вы сказали, что пришли без полномочий от нее? — У меня одни только полномочия — моя любовь к ней и ее любовь ко мне. У меня одна только доверенность — с того часа, когда она вернулась домой, я не отходила от нее, и она открылась мне. У меня одно только право — я немного знаю, какова она и каков ее брак. Ах, мистер Хартхаус, ведь и вам она доверилась! Такой страстный упрек прозвучал в ее голосе, что он почувствовал укол в том месте, где надлежало бы быть сердцу, а было только гнездо яиц-болтунов, тогда как там могли бы жить птицы небесные, если бы он не разогнал их свистом. — Я не отличаюсь высокой нравственностью, — сказал он, — и никогда не выдаю себя за образец добродетели. Я человек вполне безнравственный. Однако если я причинил малейшее огорчение той леди, которая составляет предмет нашего разговора, или, по несчастью, в какой-то мере нанес ущерб ее доброму имени, или до такой степени забылся, что дерзнул выразить ей свои чувства, отчасти несовместимые с… ну, скажем, — святостью домашнего очага, если я воспользовался тем, что отец ее — машина, брат — щенок, а супруг — медведь, то прошу вас верить мне — я сделал это не по злому умыслу, а просто скользил со ступеньки на ступеньку так дьявольски плавно и незаметно, что и понятия не имел, как длинен перечень моих прегрешений. А между тем, — заключил мистер Джеймс Хартхаус, — когда я начинаю листать его, я вижу, что он занимает целые томы. Хотя он проговорил все это своим обычным небрежным тоном, но на сей раз он, видимо, пытался навести некоторый глянец на довольно некрасивый предмет. Помолчав немного, он продолжал уже увереннее, однако все еще с оттенком обиды и раздражения, который никаким глянцем не прикроешь. — После всего сказанного вами и сказанного так, что у меня нет ни малейших сомнений в истинности ваших слов, — вряд ли я согласился бы столь безоговорочно признать достоверность другого источника — я считаю своим долгом, поскольку вы все знаете из первых рук, сообщить вам, что, пожалуй (как это ни неожиданно), мне не суждено больше встречаться с леди, о которой мы говорим. То, что дело приняло такой оборот, полностью моя вина… и… и могу лишь присовокупить, — заключил он, не зная, как половчее закончить свою тираду, — что не льщу себя надеждой когда-либо стать образцом добродетели, и вообще не верю, что таковые существуют. Лицо Сесси ясно говорило о том, что выполнена еще не вся ее миссия. — Вы сказали, — продолжал он, когда она подняла на него глаза, — в чем состоит первая цель вашего прихода. Следовательно, имеется вторая? — Да. — Пожалуйста, я вас слушаю. — Мистер Хартхаус, — начала Сесси, и в голосе ее была такая смесь упорства и обезоруживающей мягкости, а в глазах столь простодушная вера в его готовность выполнить ее требование, что он чувствовал себя бессильным перед ней, — единственное, чем вы можете загладить свою вину, — это уехать отсюда немедля и навсегда. Только так вы можете возместить причиненный вами вред, поправить содеянное вами зло. Я не говорю, что вашим отъездом все или хотя бы многое будет искуплено; но это лучше, чем ничего, и вы должны это сделать. А потому, не имея никаких полномочий, кроме тех, о которых я вам говорила, и даже без ведома кого бы то ни было, кроме вас и меня, я прошу вас уехать отсюда сегодня же и никогда больше не возвращаться. Если бы она пустила в ход против него какое-либо оружие, помимо глубокой веры в истину и правоту своих слов; если бы она пыталась скрыть хоть тень сомнения или нерешительности, или прибегла к невинным предлогам и уверткам; если бы она хоть в малейшей степени дала ему понять, что замечает нелепость его роли, его негодующее изумление, или ждет от него отповеди, — он еще мог бы побороться с ней. Но он чувствовал, что поколебать ее так же немыслимо, как замутить ясное небо, устремив на него удивленный взор. — Но знаете ли вы, чего вы требуете? — спросил он, окончательно потерявшись. — Вам, может быть, неизвестно, что я нахожусь здесь в качестве общественного лица и занят делом, правда глупейшим, — но тем не менее я взялся за него, и приносил присягу в верности ему, и предполагается, что я предан ему душой и телом? Вам это, может быть, неизвестно, но уверяю вас, что это факт. Факт или не факт — Сесси не дрогнула. — Уже не говоря о том, — смущенно продолжал мистер Хартхаус, расхаживая по комнате, — что это до ужаса смешно. Бросить все по совершенно непонятным причинам, после того как я обязался помогать этим людям, — значит стать посмешищем в их глазах. — Я убеждена, сэр, — повторила Сесси, — что это единственное, чем вы можете искупить свою вину. Не будь я так твердо в этом убеждена, я не пришла бы к вам. Он взглянул на ее лицо и опять зашагал по комнате. — Честное слово, я просто не знаю, что вам сказать. До чего же нелепо! Пришла его очередь просить о сохранении тайны. — Если бы я решился на такой смехотворный поступок, — сказал он, остановившись и опираясь на каминную полку, — то лишь при одном условии: чтобы это навсегда осталось между нами. — Я доверяю вам, сэр, — отвечала Сесси, — и вы доверьтесь мне. Ему вдруг припомнился вечер, который он некогда провел в этой комнате со щенком. Тогда он тоже стоял, прислонясь к камину, но ему почему-то казалось, что нынче щенок — это он сам. Он искал и не находил выхода. — Думаю, что никто еще не попадал в такое дурацкое положение, — сказал он после довольно долгого молчания, во время которого он глядел в пол, и глядел в потолок, и усмехался, и хмурил брови, и отходил от камина, и снова подходил к нему. — Просто ума не приложу, как тут быть. Впрочем, что будет, то будет. А будет, видимо, вот что: придется мне, пожалуй, покинуть сии места, — словом, я обязуюсь уехать. Сесси поднялась. Исход ее миссии не удивил ее, но она радовалась своей удаче, и лицо ее так и сияло. — Позвольте заметить вам, — продолжал мистер Джеймс Хартхаус, — что едва ли другой посол, или, скажем, посланница так легко добилась бы у меня успеха. Я не только очутился в смешном и нелепом положении — я вынужден признать себя побежденным по всей линии. Могу я просить вас назвать себя, чтобы я имел удовольствие запомнить имя моего врага? — Мое имя? — спросила посланница. — Это единственное имя, которое сейчас может занимать мои мысли. — Сесси Джуп. — Не посетуйте на мое любопытство и разрешите на прощание задать вам еще один вопрос: вы родня семейству Грэдграйнд? — Я всего лишь бедный приемыш, — отвечала Сесси. — Мне пришлось разлучиться с моим отцом — он был всего лишь клоун бродячего цирка, — и мистер Грэдграйнд взял меня из милости. С тех пор я живу в его доме. Она ушла. Мистер Джеймс Хартхаус сперва окаменел на месте, потом с глубоким вздохом опустился на диван. Только этого недоставало для полного поражения. Разбит наголову! Всего лишь бедный приемыш… всего лишь бродячий клоун… а мистер Джеймс Хартхаус? Всего лишь отброшенная ветошь… всего лишь позорное фиаско величиной с пирамиду Хеопса. Пирамида Хеопса натолкнула его на мысль о прогулке по Нилу. Он тотчас схватил перо и начертал (подходящими к случаю иероглифами) записку своему брату:
«Дорогой Джек! С Кокстауном покончено. Скука обратила меня в бегство. Решил взяться за верблюдов. Сердечный привет, Джим».
Он дернул звонок. — Пошлите моего слугу. — Он уже лег, сэр. — Велите ему встать и уложить вещи. Он написал еще два послания. Одно мистеру Баундерби, в котором извещал его, что покидает сии края, и указывал, где его можно найти в ближайшие две недели. Другое, почти такого же содержания, мистеру Грэдграйнду. И едва успели высохнуть чернила на конвертах, как уже остались позади высокие фабричные трубы Кокстауна, и поезд, громыхая и лязгая, мчал его погруженными во мрак полями. Люди высокой нравственности, пожалуй, вообразят, что мистеру Джеймсу Хартхаусу впоследствии приятно бывало вспомнить об этом спешном отбытии, которым он хоть отчасти загладил свою вину — что с ним случалось весьма редко. И вдобавок он вовремя унес ноги, ибо дело могло принять для него прескверный оборот. Однако вышло совсем по-иному. Мысль о том, что он потерпел неудачу и оказался в глупейшей роли, страх перед тем, как насмехались бы над ним другие повесы, если бы узнали о его злоключении, до такой степени угнетали его, что именно в этом, быть может, самом благородном своем поступке он не сознался бы ни за что на свете и только одного этого поступка искренне стыдился.
Глава III
Решительно и твердоНеутомимая миссис Спарсит, в жестокой простуде, потеряв голос, поминутно сморкаясь и чихая так, что казалось, ее осанистая фигура вот-вот развалится на составные части, гонялась за своим принципалом, пока не настигла его в столице; она величественно вплыла к нему в гостиницу на Сент-Джеймс-стрит, запалила порох, коим была заряжена, и взорвалась. Выполнив свою миссию с истинным наслаждением, сия возвышенной души особа лишилась чувств на лацкане мистера Баундерби. Мистер Баундерби первым делом стряхнул с себя миссис Спарсит и предоставил ей страдать на полу без посторонней помощи. Затем он пустил в ход сильнодействующие средства, как то: крутил ей большие пальцы, бил по ладоням, обильно поливал лицо водой и засовывал в рот поваренную соль. Когда благодаря столь трогательным заботам больная оправилась (что произошло незамедлительно), мистер Баундерби, не предложив ей подкрепиться ничем иным, спешно втолкнул ее в вагон курьерского поезда и еле живую привез обратно в Кокстаун. К концу путешествия миссис Спарсит являла собой небезынтересный образец античной руины; но ни в каком ином качестве она не могла бы притязать на восхищение, ибо урон, нанесенный ее внешнему облику, превзошел всякую меру. Однако ни плачевный вид ее туалета и ее самой, ни душераздирающее чиханье бедняги нимало не разжалобили мистера Баундерби, и он, не мешкая, запихнул античную руину в карету и помчал ее в Каменный Приют. — Ну-с, Том Грэдграйнд, — объявил Баундерби, вломившись поздно вечером в кабинет своего тестя, — эта вот леди, миссис Спарсит — вы знаете, кто такая миссис Спарсит, — имеет сообщить вам нечто, от чего у вас язык отнимется. — Мое письмо не застало вас! — воскликнул мистер Грэдграйнд, ошеломленный неожиданным визитом. — Письмо не застало, сэр? — рявкнул Баундерби. — Сейчас не время для писем. Джосайя Баундерби из Кокстауна никому не позволит толковать ему о письмах, когда он в таком настроении, как сейчас. — Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд с мягким упреком, — я говорю об очень важном письме, которое я послал вам относительно Луизы. — А я, Том Грэдграйнд, — возразил Баундерби, со всего размаха хлопая ладонью по столу, — говорю об очень важном известии, которое я получил относительно Луизы. Миссис Спарсит, сударыня, пожалуйте сюда! Тщетные попытки злополучной свидетельницы извлечь хоть какие-нибудь звуки из своих воспаленных голосовых связок, сопровождавшиеся отчаянной жестикуляцией и мучительными гримасами, кончились тем, что мистер Баундерби, у которого лопнуло терпение, схватил ее за плечи и основательно потряс. — Ежели вы, сударыня, не в состоянии выложить свои новости, — сказал Баундерби, — предоставьте это мне. Сейчас не время для особы, хотя бы и благородного происхождения и со знатной родней, стоять столбом и корчить рожи, как будто она глотает камушки. Том Грэдграйнд, миссис Спарсит довелось ненароком услышать разговор, происходивший в роще между вашей дочерью и вашим бесценным другом, мистером Джеймсом Хартхаусом. — Вот как? — сказал мистер Грэдграйнд. — Именно так! — крикнул Баундерби. — И в этом разговоре… — Можете не передавать мне его содержание, Баундерби. Я знаю, о чем был разговор. — Знаете? — спросил Баундерби, наскакивая на своего непостижимо спокойного и примирительно настроенного тестя. — Может быть, вы, кстати, знаете, где сейчас находится ваша дочь? — Разумеется. Она здесь. — Здесь? — Дорогой Баундерби, прежде всего прошу вас умерить свое шумное поведение. Луиза здесь. Как только ей удалось освободиться от присутствия того человека, о котором вы упомянули, и чьим знакомством с вами, к моему глубочайшему сожалению, вы обязаны мне, она поспешила сюда, под мою защиту. Я сам только что возвратился из Лондона, когда она вошла в эту комнату. Она приехала в город поездом, бежала всю дорогу в грозу, под проливным дождем, и добралась до дому в почти невменяемом состоянии. Конечно, она осталась здесь. Убедительно прошу вас, ради вас самих и ради нее, успокойтесь. Мистер Баундерби с минуту молча водил глазами во все стороны, но только не в сторону миссис Спарсит; затем, круто поворотясь к злополучной племяннице леди Скэджерс, обратился к ней со следующими словами: — Ну-с, сударыня! Мы были бы счастливы услышать от вас, чем вы надеетесь оправдать свое скаканье по всей стране, без другого багажа, кроме вздорных выдумок! — Сэр, — просипела миссис Спарсит, — в настоящее время мои нервы так сильно расстроены и мое здоровье так сильно пострадало от усердия, с каким я вам служила, что я способна только искать прибежища в слезах. (Что она и сделала.) — Так вот, сударыня, — продолжал Баундерби, — отнюдь не желая сказать вам ничего такого, что не совсем удобно говорить особе из хорошей семьи, я, однако, позволю себе заметить, что, на мой взгляд, есть и еще одно прибежище для вас, а именно — карета. И поскольку карета, в которой мы приехали, стоит у крыльца, разрешите мне препроводить вас в оную и отправить в банк; а там я вам советую сунуть ноги в горячую воду, какую только сможете терпеть, лечь в постель и выпить стакан обжигающего рома с маслом. — Тут мистер Баундерби протянул правую руку плачущей миссис Спарсит и повел ее к вышеозначенному экипажу, на пути к которому она то и дело жалобно чихала. Вскоре он воротился один. — Ну-с, Том Грэдграйнд, — начал он, — я понял по вашему лицу, что вы желаете поговорить со мной. Так вот он я. Но предупреждаю вас, вряд ли этот разговор доставит вам удовольствие. История эта мне все равно очень и очень не нравится, и я должен сказать откровенно, что вообще не нашел в вашей дочери преданности и послушания, каких Джосайя Баундерби из Кокстауна вправе требовать от своей жены. У вас, я полагаю, свой взгляд на дело; а что у меня свой — я хорошо знаю. Ежели вы намерены оспаривать это мое мнение, лучше не начинайте. Поскольку мистер Грэдграйнд держался более миролюбиво, нежели обычно, мистер Баундерби нарочно вел себя как можно воинственнее. Такой уж был у него симпатичный нрав. — Дорогой Баундерби… — заговорил мистер Грэдграйнд. — Прошу прощения, — прервал его Баундерби, — но я вовсе не желаю быть для вас слишком «дорогим». Это прежде всего. Когда я становлюсь кому-нибудь дорог, это обычно означает, что меня собираются надуть. Вы, вероятно, находите мои слова нелюбезными, но я, как вам известно, любезностью не отличаюсь. Ежели вам мила любезность, вы знаете, где ее искать. У вас имеются светские друзья, и они могут снабдить вас этим добром, сколько вашей душе угодно. Я такого товару не держу. — Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд почти просительно, — всем нам свойственно ошибаться… — А я-то думал, что вы непогрешимы, — опять прервал его Баундерби. — Быть может, и мне так казалось. Но повторяю — всем нам свойственно ошибаться. И я был бы вам весьма благодарен, ежели бы вы проявили немного такта и избавили меня от намеков на Хартхауса. Я не намерен в нашем разговоре касаться вашего дружеского к нему расположения или оказанного ему гостеприимства; прошу и вас не упрекать меня в этом. — Я не произносил его имени! — сказал Баундерби. — Пусть так, — отвечал мистер Грэдграйнд терпеливо и даже кротко. С минуту он сидел молча, задумавшись. — Баундерби, — сказал он, — у меня есть основания сомневаться, хорошо ли мы понимали Луизу. — Кто это «мы»? — Тогда скажем «я», — отвечал он на грубый вопрос Баундерби. — Я сомневаюсь, понимал ли я Луизу. Я сомневаюсь, вполне ли правильно я воспитал ее. — Вот это верно, — сказал Баундерби. — Тут я с вами совершенно согласен. Наконец-то вы догадались! Воспитание! Я вам объясню, что такое воспитание: чтобы тебя взашей вытолкали за дверь и чтобы на твою долю доставались одни тумаки. Вот что я называю воспитанием. — Я полагаю, — смиренно возразил мистер Грэдграйнд, — здравый смысл подскажет вам, что, каковы бы ни были преимущества такой системы, ее не всегда можно применять к девочкам. — Не вижу, почему, сэр, — упрямо заявил Баундерби. — Ну, хорошо, — со вздохом сказал мистер Грэдграйнд, — не будем углублять вопроса. Уверяю вас, у меня нет ни малейшего желания спорить. Я пытаюсь, насколько возможно, поправить дело; и я надеюсь на вашу добрую волю, на вашу помощь, Баундерби, потому что я в большом горе. — Я еще не понял, куда вы гнете, — продолжая упираться, отвечал Баундерби, — и заранее ничего обещать не могу. — Я чувствую, дорогой Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд все тем же примирительным и грустным тоном, — что за несколько часов лучше узнал Луизу, нежели за все предыдущие годы. Это не моя заслуга — меня заставили прозреть, и прозрение было мучительно. Думается мне — я знаю, Баундерби, мои слова удивят вас, — что характеру Луизы свойственны некоторые черты, которым не было уделено должного внимания, и… и они развивались в дурную сторону. И я… хочу предложить вам… действовать дружно… надо на время предоставить ее самой себе, окружив ее нежными заботами, чтобы лучшие ее качества могли взять верх… ведь от этого зависит счастье всех нас. Я всегда, — заключил мистер Грэдграйнд, прикрыв глаза рукой, — любил Луизу больше других моих детей. Слушая эти слова, Баундерби побагровел и весь раздулся, точно его вот-вот должен был хватить удар. Однако, хотя даже уши у него пылали багровым огнем, он сдержал свой гнев и спросил: — Вы бы хотели оставить ее на время у себя? — Я… я думал посоветовать вам, дорогой Баундерби, чтобы вы позволили Луизе погостить здесь. При ней будет Сесси… я хотел сказать Сесилия Джуп… она понимает Луизу и пользуется ее доверием. — Из всего этого, Том Грэдграйнд, — сказал Баундерби, вставая и глубоко засовывая руки в карманы, — я заключаю, что, по вашему мнению, между Лу Баундерби и мною, как говорится, нет ладу. — Боюсь, что в настоящее время Луиза в разладе почти со всем… чем я окружил ее, — с горечью признался ее отец. — Так вот, Том Грэдграйнд, — начал Баундерби; он еще пуще побагровел, еще глубже засунул руки в карманы и широко расставил ноги, а волосы у него стали дыбом от душившей его ярости и колыхались, словно трава на ветру. — Вы свое сказали; теперь скажу я. Я чистокровный кокстаунец. Я Джосайя Баундерби из Кокстауна. Я знаю камни этого города, я знаю фабрики этого города, я знаю трубы этого города, я знаю дым этого города, и я знаю рабочие руки этого города. Все это я знаю неплохо. Это осязаемые вещи. Но когда человек заговаривает со мной о каких-то несуществующих фантазиях, я всегда предупреждаю его — кто бы он ни был, — что знаю, чего он хочет. Суп из черепахи и дичь с золотой ложечки и карету шестеркой — вот чего он хочет. Вот чего хочет ваша дочь. Раз вы того мнения, что ей нужно дать все, чего она хочет, я предоставляю это вам, ибо, Том Грэдграйнд, от меня она ничего такого не дождется. — Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд, — я надеялся, что после моих просьб вы перемените тон. — Погодите минуточку, — возразил Баундерби, — вы, кажется, свое сказали. Я вас выслушал; теперь будьте добры выслушать меня. Хватит того, что вы мелете несусветную чушь — по крайней мере не нарушайте правил честной игры; хоть мне и горько видеть Тома Грэдграйнда в столь жалком состоянии, мне было бы вдвойне горько, ежели бы он пал так низко. Ну-с, вы дали мне понять, что между вашей дочерью и мною имеется некий разлад, так сказать, известное несоответствие. Так вот — я хочу дать вам понять, что безусловно налицо одно огромное несоответствие, которое заключается в том, что ваша дочь не умеет ценить редкие качества своего мужа и не чувствует, какую, черт возьми, он оказал ей честь, женившись на ней. Надеюсь, это ясно? — Баундерби, — с упреком сказал мистер Грэдграйнд, — слова ваши неразумны. — Вот как? — отвечал Баундерби. — Весьма рад, что вы так думаете. Потому что, ежели Том Грэдграйнд, набравшись новой мудрости, находит мои слова неразумными, то, стало быть, они именно дьявольски разумны. Итак, я продолжаю. Вы знаете мое происхождение и знаете, что я годами не нуждался в рожке для башмаков по той простой причине, что башмаков у меня не было. Так вот — хотите верьте, хотите нет, но есть особы — особы благородной крови! — из знатных семейств — знатных! — готовые боготворить землю, по которой я ступаю. Он выпалил это единым духом, точно пустил ракету в голову своему тестю. — А ваша дочь, — продолжал Баундерби, — далеко не благородного происхождения. Вы это сами знаете. Я-то, как вам известно, плюю на такие пустяки; но тем не менее это факт, и вы, Том Грэдграйнд, ничего тут поделать не можете. Для чего я это говорю? — Очевидно, не для того, чтобы сказать мне приятное, — вполголоса промолвил мистер Грэдграйнд. — Выслушайте меня до конца и воздержитесь от замечаний, пока не придет ваш черед, — оборвал его Баундерби. — Я говорю это потому, что женщины высшего круга были поражены бесчувственностью вашей дочери и ее поведением. Они никак не могли понять, как я терплю это. Сейчас я и сам не понимаю, и больше этого непотерплю. — Баундерби, — сказал мистер Грэдграйнд, вставая, — по-моему, чем меньше будет сказано нынче, тем лучше. — А по-моему, Том Грэдграйнд, наоборот — чем больше будет сказано нынче, тем лучше. По крайней мере, — поправился он, — пока я не скажу всего, что я намерен сказать; а потом, пожалуйста, можем и прекратить разговор. Я сейчас задам вам вопрос, который, вероятно, ускорит дело. Что вы подразумеваете под вашим предложением? — Что я подразумеваю, Баундерби? — Под вашим предложением, чтобы Луиза погостила у вас? — спросил Баундерби и так тряхнул головой, что трава колыхнулась. — Я считаю, что Луизе надо дать время отдохнуть и собраться с мыслями, и я надеюсь, что вы по-дружески позволите ей остаться здесь. От этого многое может измениться к лучшему. — Сгладится несоответствие, которое вы вбили себе в голову? — сказал Баундерби. — Ежели вам угодно так выразиться, да. — Почему вы так решили? — спросил Баундерби. — Как я уже говорил, я боюсь, что Луиза не была правильно понята. Неужели, Баундерби, вы находите чрезмерной мою просьбу, чтобы вы, будучи на много лет старше ее, помогли вывести ее на верный путь? Вы брали ее в жены на радость и горе… Быть может, мистера Баундерби раздосадовало повторение слов, сказанных когда-то им самим Стивену Блекпулу, но он весь дернулся от злости и не дал мистеру Грэдграйнду докончить. — Довольно! — сказал он. — Можете мне этого не говорить. Я не хуже вас знаю, на что я брал ее в жены. Об этом не тревожьтесь, это мое дело. — Я лишь хотел заметить вам, Баундерби, что все мы можем быть в той или иной мере не правы, не исключая и вас; и ежели бы вы проявили известную уступчивость, это было бы не только истинно добрым поступком с вашей стороны, но, памятуя о том, что вы за Луизу в ответе, вам, быть может, следовало бы счесть это своим долгом перед ней. — Не согласен! — загремел Баундерби. — Я намерен покончить с этим делом по-своему. Так вот: ссориться с вами, Том Грэдграйнд, я не желаю. Скажу вам откровенно, на мой взгляд ссориться по такому поводу — ниже моего достоинства. Что касается вашего великосветского друга, то пусть убирается, куда хочет. Ежели он мне попадется где-нибудь, я поговорю с ним по душам, не попадется — не надо, тратить на него время я не стану. А что до вашей дочери, которую я сделал Лу Баундерби, тогда как лучше бы мне оставить ее Лу Грэдграйнд, — то ежели завтра, ровно в полдень, она не воротится домой, я буду знать, что она не желает возвращаться, и отошлю ее платья и все прочее к вам, и впредь можете взять попечение о ней на себя. Как я объясню разлад между нами и принятые мною крутые меры? Очень просто: я Джосайя Баундерби и получил такое-то воспитание; она дочь Тома Грэдграйнда и получила этакое; в одной упряжке мы идти не можем. Я, кажется, достаточно известен как человек незаурядный; и большинство людей очень скоро сообразят, что далеко не всякая женщина может, в конечном счете, оказаться мне под стать. — Я вас очень прошу, Баундерби, серьезно подумать, прежде чем вы примете окончательное решение, — сказал мистер Грэдграйнд. — Я всегда быстро принимаю решения, — отвечал Баундерби, нахлобучивая шляпу, — и что бы я ни делал, я делаю немедля. В другое время меня удивили бы такие слова Тома Грэдграйнда, обращенные к Джосайе Баундерби из Кокстауна, которого он знает не со вчерашнего дня; но теперь никакая блажь не может удивить меня в Томе Грэдграйнде, раз он ударился в чувствительность. Я объявил вам мое решение, и больше мне сказать нечего. Покойной ночи! Итак, мистер Баундерби отбыл в свой городской дом и лег спать. Назавтра, ровно в пять минут первого, он распорядился, чтобы имущество миссис Баундерби было аккуратно уложено и препровождено к Тому Грэдграйнду, а засим объявил о продаже своей усадьбы по частному соглашению и снова зажил холостяком.
Глава IV
Кто-то пропалМежду тем дело об ограблении банкирской конторы и раньше не было забыто и теперь по-прежнему занимало первенствующее место в мыслях ее владельца. Он спешил доказать миру, что никакие семейные передряги не могут умерить пыл и предприимчивость такого замечательного дельца, который сам вывел себя в люди, — этого чуда из чудес, перед которым поистине меркнет сама Венера, поскольку богиня вышла всего только из пены морской, а он вылез из грязи. Поэтому в первые недели своей безбрачной жизни он даже усердствовал пуще прежнего и ежедневно подымал такой шум, добиваясь поимки преступника, что ведущие расследование полицейские уже сами не рады были, что произошло ограбление. К тому же они сплоховали, след был потерян. Несмотря на то, что сразу после кражи они притаились и выжидали и очень многие кокстаунцы искренне поверили, что розыск прекращен ввиду невозможности обнаружить вора, — нового не произошло решительно ничего. Ни одна из подозреваемых личностей не сделала опрометчивого шага, ни одна ничем не выдала себя. Более того — никто не знал, куда девался Стивен Блекпул, и тайна загадочной старушки тоже оставалась нераскрытой. Видя, что дело основательно застряло, мистер Баундерби, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, решился на смелый шаг. Он составил уведомление, сулившее двадцать фунтов стерлингов тому, кто задержит Стивена Блекпула, предполагаемого соучастника ночной кражи со взломом, совершенной в кокстаунском банке такого-то числа; он со всеми подробностями описал его одежду, наружность, примерный рост, повадки, сообщил, при каких обстоятельствах и в какой день он покинул город и в какую сторону шел, когда его в последний раз видели; все это он дал отпечатать огромными буквами на больших листах бумаги; и под покровом ночи по его приказу эти объявления расклеили на стенах домов, дабы поразить ими сразу весь город. Фабричным колоколам в то утро пришлось трезвонить во всю мочь, сзывая рабочих, которые в предрассветных сумерках толпились перед уведомлением, пожирая его глазами. С не меньшей жадностью смотрели на него те, кто не умел читать. Слушая, как другие читают вслух — такие услужливые добровольцы всегда находились, — они взирали на буквы, содержащие столь важную весть, с почтением, почти со страхом, что показалось бы смешным, если бы на невежество в народе, в чем бы оно ни проявлялось, можно было смотреть иначе, как на великое зло, чреватое грозной опасностью. И еще много часов спустя, среди жужжанья веретен, стука станков и шороха колес, прочитанные слова маячили перед глазами и звучали в ушах, и когда рабочие снова вышли на улицу, перед объявлениями собрались такие же толпы, как утром.

В тот же вечер Слекбридж, делегат, должен был выступить на собрании; Слекбридж раздобыл у наборщика чистый оттиск уведомления и принес его с собой в кармане. О друзья мои и соотечественники, угнетенные кокстаунские рабочие, о мои сотоварищи по ремеслу, мои сограждане, братья мои и ближние мои, — какой шум поднялся, когда Слекбридж развернул то, что он назвал «клеймо позора», дабы все собравшиеся могли лицезреть его и негодовать. «О братья мои, глядите, на что способен предатель в стане бесстрашных борцов, чьи имена начертаны в священном свитке Справедливости и Единения! О друзья мои, влачащие на израненных выях тяжелое ярмо тирании, изнемогающие под железной пятой деспотизма, втоптанные в прах земной своими угнетателями, которые только и мечтают о том, чтобы вы, до скончания дней своих, ползали на брюхе, как змий в райском саду, — о братья мои — и да позволено будет мне, мужчине, добавить, — сестры мои! Что вы скажете ныне о Стивене Блекпуле — слегка сутулом, примерно пяти футов семи дюймов ростом, как записано в этом унизительном и постыдном уведомлении, в этой убийственной бумаге, в этом ужасном плакате, в этой позорной афише, и с каким праведным гневом вы изобличите и раздавите ехидну, которая покрыла бы срамом и бесчестием ваше богоподобное племя, если бы вы, к счастью, не исторгнули его навеки из своей среды? Да, соотечественники мои, — к счастью, вы исторгли его и прогнали прочь! Ибо вы помните, как он стоял перед вами, на этой трибуне; вы помните, как я спорил с ним здесь, лицом к лицу, как я сцепился с ним в жестокой схватке, как я разгадал все его хитрые увертки; вы помните, как он вилял, изворачивался, путал, прибегал ко всяким уловкам, пока, наконец, ему уже некуда было отступать, и я вышвырнул его вон, и отныне и впредь каждый, в ком живет дух свободы и разума, будет указывать на него обличительным перстом и жечь его огнем справедливого возмездия! А теперь, друзья мои, рабочий люд, — ибо я люблю это столь многими презираемое имя и горжусь им, — вы, что стелете себе жесткое ложе в поте лица своего и варите свою скудную, но честно заработанную пищу в трудах и лишениях, — скажите, кем ныне предстал перед вами этот подлый трус, когда с него сорвана личина и он показал себя во всем своем неприкрытом уродстве? Вором! Грабителем! Беглым преступником, чья голова оценена; язвой, гнойной раной на гордом звании кокстаунского рабочего! И потому, братья мои, связанные священным товариществом, которое дети ваши и еще неродившиеся дети детей ваших скрепили печатью своих невинных ручонок, я, от имени Объединенного Трибунала, неустанно пекущегося о вашем благе, неустанно ратующего за ваши права, вношу предложение: собрание постановило, что ввиду того, что кокстаунские рабочие уже торжественно отреклись от означенного в этой бумаге ткача Стивена Блекпула, его злодеяния не марают их чести и не могут бросить тень на все их сословие». Так бушевал Слекбридж, со скрежетом зубовным и обливаясь потом. Несколько гневных голосов крикнули «нет!», десятка два поддержали энергичными «правильно!» предостерегающий голос, крикнувший: «Полегче, Слекбридж! Больно спешишь!» Но это были единицы против целой армии; собрание в полном составе приняло евангелие от Слекбриджа и наградило его троекратным «ура», когда он, пыхтя и отдуваясь, победоносно уселся на свое место. Еще не успели рабочие и работницы, молча расходившиеся после собрания, добраться до дому, как Сесси, сидевшую подле Луизы, вызвали из комнаты. — Кто там? — спросила Луиза, когда Сесси вернулась. — Пришел мистер Баундерби, — отвечала Сесси, с запинкой произнося это имя, — и с ним ваш брат, мистер Том, и молодая женщина, ее зовут Рейчел, и она говорит, что вы ее знаете. — Сесси, милая, что им нужно? — Они хотят видеть вас. Рейчел вся заплаканная и, кажется, чем-то рассержена. — Отец, — обратилась Луиза к бывшему в комнате мистеру Грэдграйнду, — я не могу не принять их. На то есть причина, которая со временем объяснится. Попросить их сюда? Он ответил утвердительно, Сесси вышла, чтобы пригласить посетителей войти, и тотчас воротилась вместе с ними. Том вошел последним и остался стоять возле двери, в самом темном углу комнаты. — Миссис Баундерби, — заговорил супруг Луизы, здороваясь с ней небрежным кивком головы, — надеюсь, я не помешал? Время несколько позднее для визитов, но эта женщина сделала заявление, вынудившее меня прийти. Том Грэдграйнд, поскольку ваш сын, Том-младший, из упрямства или еще почему-либо не желает ни подтвердить, ни оспорить это заявление, я должен свести ее с вашей дочерью. — Вы меня уже видели один раз, сударыня? — сказала Рейчел, становясь перед Луизой. Том кашлянул. — Вы уже видели меня, сударыня? — повторила Рейчел, так как Луиза не отвечала. Том снова кашлянул. — Да, видела. Рейчел с торжеством повела глазами на мистера Баундерби и сказала: — Не откажите, сударыня, сообщить, где вы меня видели и кто еще был при этом. — Я была в доме, где жил Стивен Блекпул, в тот вечер, когда его уволили с работы, и там я вас видела. Он тоже был в комнате; и еще в темном углу пряталась какая-то старая женщина, но она все время молчала, и я едва разглядела ее. Со мной приходил брат. — А почему ты этого не мог сказать, Том? — спросил Баундерби. — Я обещал Луизе молчать. (Сестра его поспешила подтвердить эти слова.) — А кроме того, — сердито продолжал щенок, — она так превосходно рассказывает всю историю, с такими подробностями, что чего ради я стал бы ей мешать? — Позвольте спросить вас, сударыня, — продолжала Рейчел, — зачем вы нам на горе пришли в тот вечер к Стивену?
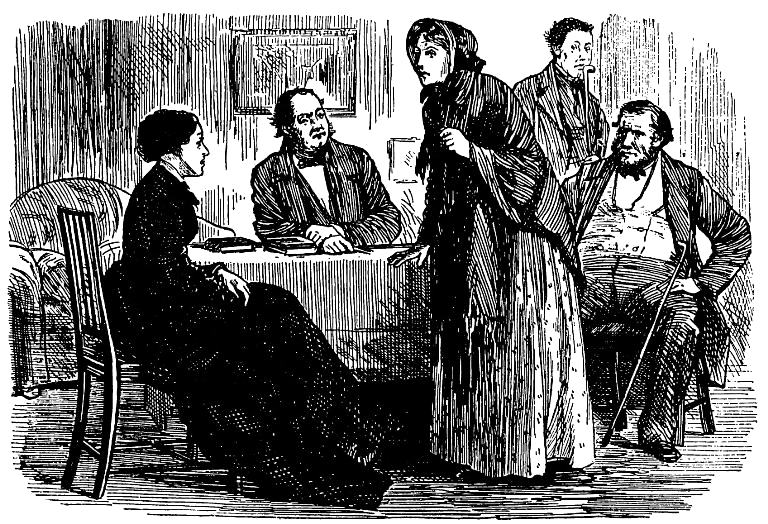
— Мне было жаль его, — покраснев, отвечала Луиза. — Я хотела узнать, что он будет делать, и предложить ему помощь. — Благодарю вас, сударыня, — сказал Баундерби, — весьма польщен и обязан. — Вы хотели дать ему кредитку? — спросила Рейчел. — Да. Но он отказался от нее и взял только два золотых по одному фунту. Рейчел опять бросила взгляд на мистера Баундерби. — Ну что ж! — сказал Баундерби. — Я вынужден признать, что ваше нелепое и более чем странное сообщение оказалось сущей правдой. — Сударыня, — продолжала Рейчел, — нынче по всему городу, и кто знает, где еще! — расклеено уведомление, в котором Стивен Блекпул назван вором. Только сейчас кончилось собрание, где тоже не постыдились оклеветать его. Это Стивен-то вор! Когда честнее его, вернее, лучше человека на свете нет! — Гнев душил ее, и, не договорив, она разрыдалась. — Я очень, очень вам сочувствую, — сказала Луиза. — Ах, сударыня, — отвечала Рейчел, — надеюсь, что это так, но я не знаю! Откуда мне знать, что вы могли сделать. Вы нас не знаете, вам до нас дела нет, вы для нас чужие. Я не могу сказать, зачем вы приходили в тот вечер. Может быть, вы пришли с умыслом, а что из-за этого станется с бедным человеком, вот таким, как Стивен, — вам все равно. Я тогда сказала: «Благослови вас бог за то, что пришли», и сказала от чистого сердца, потому что поверила, что вы жалеете его; а теперь — я уж и не знаю. Нет, не знаю! Луиза ничего не ответила на это несправедливое подозрение: слишком глубока была вера Рейчел в Стивена, слишком велико ее горе. — И как я подумаю, — сквозь рыдания продолжала Рейчел, — что бедняга так был вам благодарен за вашу доброту, да вспомню, как он прикрыл рукой лицо, чтобы никто не видел, что у него слезы на глазах… Хорошо, сударыня, ежели вы вправду его жалеете и совесть у вас чиста, — но я ничего не знаю, ничего! — Вот это мило, — проворчал щенок, переминаясь с ноги на ногу в своем темном углу. — Являетесь сюда с какими-то намеками! Выставить вас нужно за дверь, раз вы не умеете вести себя. Рейчел не промолвила ни слова, и в наступившей тишине слышен был только ее тихий плач, пока молчание не прервал мистер Баундерби. — Довольно! — сказал он. — Вы знаете, что вы обязались сделать. Вот и делайте, а остального не касайтесь. — Мне и самой стыдно, что меня здесь видят такой, — сказала Рейчел, — но этого больше не будет. Сударыня, когда я прочла, что написано про Стивена, — а в том, что написано про него, столько же правды, как ежели бы это написали про вас, — я пошла прямо в банк, чтобы сказать, что я знаю, где Стивен, и могу поручиться, что через два дня он будет здесь. Но я не застала мистера Баундерби, а ваш брат выпроводил меня; тогда я стала искать вас, но не могла найти и воротилась на фабрику. А как кончилась работа, я побежала на собрание — послушать, что будут говорить про Стивена, — я-то ведь знаю, что он воротится и очистит себя! — а потом опять стала искать мистера Баундерби, и нашла его, и сказала ему все, что знала; а он ни одному моему слову не поверил и привел меня сюда. — Все это сущая правда, — подтвердил Баундерби, который как вошел, так и стоял посреди комнаты, не сняв шляпы и засунув руки в карманы. — Но я не со вчерашнего дня знаком с такими, как вы, и хорошо знаю, что поговорить вы всегда готовы. Так вот, советую вам поменьше разговаривать, а лучше дело делать. Вы взяли на себя поручение; стало быть, исполняйте его, и больше мне пока сказать нечего! — Я послала Стивену письмо нынче с дневной почтой, — отвечала Рейчел, — и я уже писала ему один раз на этот адрес. Он будет здесь самое позднее через два дня. — А я вот что вам скажу: вы небось и не догадались, что за вами тоже немного приглядывают, — возразил мистер Баундерби, — ведь и на вас отчасти падает подозрение. Уж так повелось, что людей судят по тому, с кем они знаются. И про почту тоже не забыли. И могу вам сообщить, что ни единого письма Стивену Блекпулу послано не было. Что сталось с вашими письмами, сообразите сами. Может быть, вам только померещилось, что вы их написали. — Сударыня, — сказала Рейчел, обращаясь к Луизе, — я получила от него одно-единственное письмо неделю спустя после его ухода. И в этом письме он написал мне, что ему пришлось искать работу под чужим именем. — Ах, вот оно что! — вскричал Баундерби, мотая головой, и даже присвистнул. — Под чужим именем, да? Это, знаете ли, не очень ловко для такой невинной овечки. Суд не слишком доверяет ни в чем не повинным людям, ежели у них много имен. — А что же ему, бедняге, оставалось делать? — сказала Рейчел со слезами на глазах, по-прежнему обращаясь к Луизе. — И хозяева против него и рабочие против него, — а он только хотел тихо и мирно работать, и жить, как велит совесть. Неужто нельзя человеку иметь свой ум и свое сердце? Неужто он непременно должен повторять все ошибки одной стороны или все ошибки другой, а иначе его затравят, как зайца? — Поверьте, я от всей души жалею его, — отвечала Луиза, — и я надеюсь, что он оправдается. — Об этом, сударыня, не тревожьтесь. Он человек верный. — Уж такой верный, — сказал мистер Баундерби, — что вы отказываетесь сообщить, где он находится? — Я не хочу, чтобы от меня узнали, где он. Я не хочу, чтобы ему ставили в вину, что его воротили силой. Он сам, своей волей, придет и оправдается, и посрамит всех, кто порочил его доброе имя, когда он даже не мог защитить себя. Я написала ему, что против него затеяли, и через два дня он будет здесь, — повторила Рейчел. Все попытки очернить Стивена разбивались о ее веру в него, как волны морские разбиваются о прибрежный утес. — И однако, — присовокупил мистер Баундерби, — ежели удастся изловить его раньше двух дней, то он пораньше и оправдается. А против вас лично я ничего не имею. Все, что вы мне сообщили, подтвердилось, я предоставил вам возможность доказать, что вы говорите правду, — и дело с концом. А теперь — спокойной ночи! Мне еще нужно кое в чем разобраться. Как только мистер Баундерби повернул к двери, Том двинулся из своего темного угла, последовал за ним по пятам и вместе с ним вышел из комнаты. На прощанье он только угрюмо пробормотал: «Спокойной ночи, отец!» — и бросил в сторону Луизы исполненный злобы взгляд. После крушения своих надежд мистер Грэдграйнд стал очень молчалив. Он не проронил ни слова и теперь, когда Луиза приветливо сказала Рейчел: — Если вы ближе узнаете меня, вы перестанете относиться ко мне с недоверием. — Я вообще не такая, чтобы людям не верить, — отвечала Рейчел, смягчаясь. — Но когда мне самой — никому из нас — не хотят верить, поневоле всякие мысли приходят на ум. Простите, ежели я вас понапрасну обидела. Сейчас я по-другому думаю. Но кто знает, может, и опять подумаю, — не могу я видеть, как беднягу шельмуют ни за что, ни про что. — А вы написали ему, — спросила Сесси, подходя к Рейчел, — что подозрение пало на него главным образом потому, что его по вечерам видели возле банка? Лучше, чтобы он заранее знал, что ему нужно объяснить, тогда у него уже будет готов ответ. — Написала, милая, — отвечала Рейчел. — Просто ума не приложу, зачем он туда наведывался. Никогда этого не бывало. И не по пути ему вовсе. Мы жили почти рядом, в другой стороне, и к банку и близко не подходили. Сесси попросила Рейчел сказать, где она живет, — и можно ли ей прийти завтра вечером узнать, нет ли вестей от Стивена? — Вряд ли он будет здесь раньше чем послезавтра, — отвечала Рейчел. — Тогда я послезавтра еще раз приду, — сказала Сесси. Когда Рейчел, условившись с Сесси, ушла, мистер Грэдграйнд поднял голову и сказал, обращаясь к дочери: — Луиза, дорогая моя, я в жизни не видел этого человека. Ты веришь, что он причастен к ограблению? — Раньше, кажется, верила, хотя и с трудом. А теперь не верю. — Другими словами — ты убедила себя поверить этому, так как знала, что его подозревают. А каким он тебе показался — честным? — Очень честным. — И как она уверена в нем! А ежели не он украл, — задумчиво проговорил мистер Грэдграйнд, — знает ли настоящий виновник, кого обвиняют? Где он? Кто он? За последнее время много седины прибавилось в его волосах. Когда он опять подпер голову рукой, осунувшийся, постаревший, Луиза, посмотрев на него с тревогой и жалостью, быстро подошла к нему и села рядом. В это мгновение она случайно встретилась глазами с Сесси. Сесси вздрогнула и покраснела, а Луиза приложила палец к губам. На другой день, когда Сесси вечером воротилась домой и сказала Луизе, что Стивена нет, она сказала это шепотом. И еще через день, когда она опять пришла домой с той же вестью и прибавила, что о Стивене нет ни слуху ни духу, она тоже сообщила это тихим, испуганным голосам. После того взгляда, которым они обменялись, ни та, ни другая не произносила его имени вслух, не упоминала о нем; и, даже когда мистер Грэдграйнд заговаривал об ограблении банка, они старались отвлечь его от этого предмета. Истекли назначенные два дня, истекли три дня и три ночи, а Стивен не воротился и не подавал вести о себе. На четвертый день Рейчел, уверенная, что письмо ее не доставлено Стивену, пришла в банк и показала письмо с его адресом — небольшой рабочий поселок в стороне от проезжей дороги, в шестидесяти милях от Кокстауна. Туда послали гонцов, и весь город ожидал, что завтра Стивена привезут. Все это время щенок усердно помогал мистеру Баундерби в его розысках, неотступно, словно тень, следуя за ним по пятам. Он страшно волновался, был словно в лихорадке, грыз ногти до крови, голос у него стал хриплый, грубый, губы запеклись и почернели. На вокзале, в ожидании поезда, который должен был привезти обвиняемого, щенок предлагал всем побиться об заклад, что тот сбежал до приезда посланных за ним людей и не явится. Щенок оказался прав. Гонцы возвратились одни: письмо Рейчел было послано, письмо Рейчел было доставлено, Стивен Блекпул тотчас исчез из поселка, и с тех пор ни одна душа ничего о нем не знает. В Кокстауне спорили только об одном: верила ли Рейчел, когда писала ему, что он воротится, или, напротив, предупредила его об опасности, чтобы он успел сбежать. В этом пункте мнения разделились. Шесть дней, семь дней, уже шла вторая неделя. Злосчастный щенок расхрабрился и стал вести себя вызывающе. «Верно ли, что вор именно этот негодяй? О чем тут еще спрашивать! Если не он украл, то где же он, почему не возвращается?» Где же он, почему не возвращается? В ночной тиши отзвук его собственных слов, который при свете дня разнесся бог весть как далеко, вернулся к нему и не оставлял его до самого утра.
Глава V
Кто-то нашелсяПрошли еще сутки, еще одни. Нет Стивена Блекпула. Где же он, почему не возвращается? Каждый вечер Сесси навещала Рейчел в ее маленькой опрятной комнате. Целый день Рейчел работала, как вынужден работать трудовой люд, невзирая на все свои тревоги и горести. Дымовые змеи не заботились о том, кто пропал, а кто нашелся, кто оказался честным человеком, а кто — вором; страдающие тихим помешательством слоны, так же как и ревнители фактов, не изменяли заведенного порядка, что бы ни случилось. Прошли еще сутки, еще одни. Однообразие не нарушалось. Даже исчезновение Стивена Блекпула уже становилось привычным делом и не казалось большим дивом, нежели любая машина в Кокстауне. — Уж теперь-то, — сказала Рейчел, — во всем городе небось и двадцати человек не осталось, кто еще верил бы, что бедняга ни в чем не виноват. Она сказала это Сесси — они сидели вдвоем в комнате Рейчел при свете уличного фонаря на углу. Когда Сесси пришла, уже было темно, и она присела у окна, дожидаясь прихода Рейчел с работы; Рейчел застала ее там, и они остались сидеть у окна — их безрадостная беседа не нуждалась в более ярком свете. — Ежели господь не послал бы мне вас, — продолжала Рейчел, — чтобы я могла хоть словом с вами перемолвиться, я бы, наверно, помешалась. Но с вами мне легче, все думаю — может, еще есть надежда; и вы, правда, верите, что хоть по видимости он виноват, а все-таки он выйдет чистым? — Всем сердцем верю, — отвечала Сесси. — Не может быть, Рейчел, чтобы вы обманулись в нем, раз вы, несмотря ни на что, так твердо убеждены в его невиновности. Я верю в него не меньше, чем вы, хотя не знала его столько лет и не видела, как много ему пришлось испытать. — А я, милая Сесси, — отвечала Рейчел, и голос ее задрожал, — все долгие годы видела, как он молча терпел, и знала, какая у него добрая и чистая душа, — и ежели я никогда больше о нем ничего не услышу и доживу до ста лет, я с последним вздохом скажу — богу ведомо мое сердце, — что я никогда, ни на одну минуту не теряла веры в Стивена Блекпула! — Мы все, Рейчел, в Каменном Приюте, убеждены, что рано или поздно с него снимут подозрение. — Вот когда я слышу от вас, милая, что вы все так думаете, — сказала Рейчел, — и вы сами, по доброте своей, приходите посидеть со мной и утешаете меня, и люди видят нас вместе, а ведь и я еще под подозрением, — вот тогда я жалею, что наговорила молодой леди горьких слов. И все-таки… — Но вы теперь верите ей, Рейчел? — Теперь верю, когда через вас узнала ее получше. Но иногда меня мучает мысль… Она сказала это так тихо, словно разговаривая сама с собой, что Сесси, сидевшая подле нее, едва расслышала ее слова. — …иногда меня мучает мысль, что кто-то содеял злое дело. Я не знаю, кто это может быть, не знаю, зачем и как это было сделано, но я боюсь, что кто-то сгубил Стивена. Я боюсь, что кто-то был бы изобличен, ежели Стивен воротился бы и доказал всем, что он чист, и чтобы этого не случилось, чтобы не дать ему воротиться, кто-то сгубил его. — Какая страшная мысль, — бледнея, прошептала Сесси. — Да, очень страшно думать, что, быть может, его убили. Сесси содрогнулась и еще сильнее побледнела. — Когда эта мысль привяжется ко мне, — продолжала Рейчел, — а это бывает даже на работе, — я стараюсь не думать, считаю до тысячи или без конца твержу стишки, какие запомнила с детства, но это плохо помогает, и тогда меня бросает в жар, и такая тоска за сердце хватает, что как бы я ни устала, мне хочется идти и идти, куда глаза глядят. Вот и сейчас мне надо походить перед сном. Я провожу вас домой. — Он мог заболеть в дороге, — сказала Сесси, делая слабую попытку утешить Рейчел этим уже много раз отвергнутым проблеском надежды, — и задержаться в каком-нибудь городке на пути сюда. — Но его нет нигде. Его повсюду искали и не нашли. — Верно, — нехотя согласилась Сесси. — Пешком он добрался бы в два дня. А на случай, что он натрет ноги и не сможет идти, я в письме послала ему денег на проезд, — думала, хватит ли у него своих-то? — Будем надеяться, Рейчел, что завтрашний день будет счастливее. Идем выйдем на воздух! Она ласковым движением накинула платок на блестящие черные волосы Рейчел, в точности так, как та всегда повязывалась им, и они вместе вышли. Вечер выдался теплый, и кое-где на перекрестках кучками стояли рабочие; но большинство сидело в этот час за ужином, и на улицах было малолюдно. — Вы теперь спокойнее, Рейчел, и рука у вас не такая горячая. — Мне всегда легче, как пройдусь немного да подышу воздухом. Вот когда этого нельзя, тогда я вся какая-то разбитая и в голове мутится. — Но вы должны взять себя в руки, Рейчел, и не терять бодрости. В любую минуту Стивену может понадобиться ваша поддержка. Завтра суббота. Если завтра не будет никаких вестей от него, давайте в воскресенье с утра погуляем за городом, и вы наберетесь сил на всю будущую педелю. Пойдете? — Пойду, милая. К этому времени они уже достигли улицы, на которой стоял дом мистера Баундерби. Так как путь Сесси до Каменного Приюта вел мимо крыльца этого дома, то они и направились прямо к нему. В Кокстаун только что прибыл поезд, поэтому в этой части города царило оживление и во все стороны катили экипажи. Когда Сесси и Рейчел подошли к самому крыльцу, впереди и позади них ехало несколько карет — и вдруг одна из них так круто остановилась перед домом мистера Баундерби, что они невольно оглянулись на нее. В ярком свете газового рожка, горевшего на крыльце, они увидели миссис Спарсит, которая, вне себя от волнения, дрожащими руками пыталась открыть дверцу кареты. В ту же минуту миссис Спарсит, узнав Рейчел и Сесси, крикнула им, чтобы они подождали. — Какая удача, что вы здесь! — воскликнула миссис Спарсит, после того как кучер выпустил ее на волю. — Это рука провидения! Выходите, сударыня! — сказала она в окошко кареты, — выходите, не то вас вытащат силой! И тут из кареты вышла — кто же? — сама таинственная старушка. Миссис Спарсит тотчас схватила ее за шиворот. — Не подходите! — властно крикнула миссис Спарсит. — Не смейте ее трогать. Она принадлежит мне. Входите, сударыня! — сказала миссис Спарсит, повторяя ту же команду, только наоборот. — Входите, не то вас втащат силой! Зрелище особы женского пола, чертами лица и осанкой напоминающей римскую матрону, которая вталкивала в чей-то дом старушку, крепко держа ее за горло, при любых обстоятельствах соблазнило бы всех истинно английских зевак, по счастливой случайности оказавшихся очевидцами оного, и они, несомненно, попытались бы проникнуть в тот дом, чтобы посмотреть, чем дело кончится. Но когда в этом доме живет банкир, в чьей конторе была совершена кража со взломом, и весь город знает, что преступление еще не раскрыто и вообще окутано тайной, — тут уж ничто не могло бы умерить их любопытство и они вломились бы в дом, хоть бы крыша грозила вот-вот обвалиться на них. Поэтому все, кто столь кстати явился свидетелем необычайного происшествия — числом около двадцати пяти, из самых трудолюбивых соседей — последовали за Сесси и Рейчел, когда те в свою очередь последовали за миссис Спарсит и ее добычей; и вся эта беспорядочная толпа с шумом ввалилась прямо в столовую мистера Баундерби, где шедшие позади немедля взобрались на стулья, дабы не оставить шедшим впереди никаких преимуществ. — Позовите мистера Баундерби! — крикнула миссис Спарсит. — Рейчел, вы знаете, кто это? — Это миссис Пеглер, — сказала Рейчел. — Еще бы не она! — ликуя, вскричала миссис Спарсит. — Позовите мистера Баундерби. Отойдите, все отойдите! — Тут старенькая миссис Пеглер, пряча лицо и стараясь не привлекать внимания, шепнула что-то просительным тоном. — Оставьте это, — громко отвечала ей миссис Спарсит, — я уже двадцать раз говорила вам, что не отпущу вас, пока не передам ему с рук на руки. Но вот появился сам мистер Баундерби в сопровождении мистера Грэдграйнда и щенка, с которыми он совещался в одной из комнат второго этажа. Когда он увидел сборище непрошеных гостей в своей столовой, лицо его выразило больше удивления, нежели радушия. — В чем дело? — спросил он. — Миссис Спарсит, сударыня, что это значит? — Сэр, — отвечала сия достойная особа, — я почитаю за счастье, что мне удалось изловить ту личность, которую вы столь усердно разыскивали. Горя желанием снять тяжесть с вашей души и сопоставив — со слов этой молодой женщины, Рейчел, так кстати очутившейся здесь, дабы опознать сию личность, — скудные сведения о местности, где предположительно она проживает, я добилась полного успеха и, как видите, привезла ее сюда, разумеется против ее воли. Не скажу, сэр, что это мне легко далось; но услужить вам — для меня одно удовольствие, невзирая ни на какие труды, а холод, голод и жажда — истинная радость. Тут миссис Спарсит умолкла, ибо как только взорам мистера Баундерби представилась старенькая миссис Пеглер, на его физиономии заиграли все цвета радуги и отразились все оттенки чувств, естественные в человеке, которого внезапно постигла катастрофа. — Вы что это? — взревел он, обращаясь к миссис Спарсит, никак не ожидавшей такого эффекта. — Я вас спрашиваю, сударыня, что все это значит? — Сэр! — слабо простонала миссис Спарсит. — Чего ради вы лезете, куда вас не просят? Как вы смеете совать свой длинный нос в мои семейные дела? Столь непочтительный отзыв о любимой черте ее лица сразил миссис Спарсит. Она упала на стул и осталась сидеть в полной неподвижности, словно она вдруг окоченела, вперив в мистера Баундерби бессмысленный взгляд и медленно потирая одну об другую свои митенки, тоже, видимо, окоченевшие. — Дорогой мой Джосайя! — вся дрожа, воскликнула миссис Пеглер. — Милый мой мальчик! Я не виновата. Не сердись на меня, Джосайя. Уж я говорила, говорила этой леди, что тебе не понравится, что она делает, да куда там — и слушать не стала. — Зачем ты ей позволила тащить тебя сюда? Сбила бы с нее чепец, или зубы повышибала, или лицо расцарапала, или еще что-нибудь сделала бы, — сказал Баундерби. — Родной ты мой! Она грозилась — ежели я не поеду по своей воле, меня увезет полиция. Я и подумала, лучше уж я приеду тихонько, чем подымать шум в таком… — тут миссис Пеглер с застенчивой гордостью оглядела комнату — …в таком чудесном доме. Я, право, не виновата! Дорогой мой мальчик, милый ты мой, хороший! Я всегда жила сама по себе. Я ни разу не пошла против нашего уговора. Я никому не сказывала, что я тебе мать. Я гордилась и любовалась тобой издали; и ежели я в кои-то веки на один день приезжала в город, так только затем, чтобы взглянуть на тебя, — и никто, радость моя, об этом не знал и не ведал… Мистер Баундерби, смущенный и злой, глубоко засунув руки в карманы, нетерпеливо шагал взад-вперед вдоль длинного обеденного стола, а зрители жадно ловили каждое слово защитительной речи миссис Пеглер и с каждым ее словом все сильнее таращили глаза. Поскольку мистер Баундерби, не открывая рта, продолжал шагать взад-вперед и после того, как миссис Пеглер умолкла, с бедной оклеветанной старушкой заговорил мистер Грэдграйнд. — Меня удивляет, сударыня, — строго сказал он, — что вы, в ваших летах, имеете дерзость называть мистера Баундерби своим сыном, тогда как в детстве вы подвергали его столь жестокому и бесчеловечному обращению. — Это я-то жестокая! — вскричала миссис Пеглер. — Это я-то бесчеловечная! С моим дорогим мальчиком! — Дорогим! — повторил мистер Грэдграйнд. — Да, разумеется, он стал дорог вам, когда преуспел своими силами. Однако он был не столь дорог вам, когда вы бросили его, оставив на попечение вечно пьяной бабушки. — Это я-то бросила моего Джосайю! — воскликнула миссис Пеглер, хватаясь за голову. — Да простит вам бог, сэр, ваши низкие мысли и осквернение памяти бедной моей матушки, которая скончалась у меня на руках, когда Джосайи еще на свете не было. Одумайтесь, сэр, и покайтесь, пока не поздно! В ее словах звучала такая глубокая, искренняя обида, что мистер Грэдграйнд, ошеломленный вдруг мелькнувшей у него догадкой, сказал более мягким тоном: — Вы, стало быть, отрицаете, сударыня, что бросили своего сына… и что он вырос в канаве? — Джосайя в канаве! — вскричала миссис Пеглер. — Да что вы, сэр! Никогда в жизни! И не стыдно вам! Мой сынок знает и вам скажет, что хоть его родители и бедные были люди, но любили его не хуже других и всегда с радостью отказывали себе во всем, лишь бы он хорошо выучился грамоте. И я могу показать вам его тетрадки, они и посейчас лежат у меня дома, да, да! — сказала миссис Пеглер с возмущением и гордостью. — И сынок мой знает, и вам скажет, сэр, что после смерти его отца, когда Джосайе шел девятый год, его мать, как ни трудно было, а сумела поставить его на ноги, и почитала это своим долгом, и с великой радостью помогала ему, сколько хватало сил, и гордилась им, когда отдала его в ученье. И какой же он был старательный малый, и хозяин попался добрый, подсобил на первых порах, а потом уж он сам пошел в гору, достиг богатства и счастья. И еще я вам скажу, сэр, — потому что сынок мой этого вам не скажет, — что, хоть мать его всего лишь держит мелочную лавку в деревне, он никогда не забывал ее, и по сей день дает ей тридцать фунтов в год, а мне столько и не надобно, я еще и откладываю из этих денег, — и лишь один уговор у нас с ним был, чтобы я сидела в своем углу, и не хвалилась им, и не тревожила его. И так я и жила, и только единожды в году приезжала взглянуть на него, а он про это и знать не знал. И так и должно быть, — сказала бедная старушка, спеша оправдать поведение сына, — чтобы я сидела в своем углу, потому что здесь мне не место; и я ни на что не жалуюсь, я могу про себя гордиться моим Джосайей и любить его всем сердцем, и больше мне ничего не надо! А вы, сэр, постыдились бы оговаривать и поносить старуху. И здесь, в этом доме, я никогда не была и никогда я не хотела здесь быть, раз мой сынок сказал «нет». И сейчас бы меня здесь не было, ежели бы меня не привезли силой. И как только у вас язык повернулся назвать меня плохой матерью при сыне — пусть он скажет вам, правда это или нет! Присутствующие — и те, что стояли на полу, и те, что стояли на стульях, — отозвались на слова миссис Пеглер сочувственным ропотом, и ни в чем не повинный мистер Грэдграйнд очутился в пренеприятном положении; но тут мистер Баундерби, который по-прежнему без устали ходил взад и вперед, с каждой минутой все сильнее раздуваясь и багровея, вдруг остановился. — Мне не совсем ясно, — сказал он, — по какому случаю я удостоился чести принимать у себя столь многочисленное общество, но в это я вникать не стану. Ежели мои гости удовлетворены, я прошу их разойтись; ежели они не удовлетворены, я тем не менее все-таки прошу их разойтись. Я никому не обязан докладывать о своих семейных делах; такого намерения у меня не было и не будет. А посему те, кто рассчитывал получить от меня какие-либо разъяснения по поводу этой стороны вопроса, будут разочарованы — и в первую очередь Том Грэдграйнд, о чем я заранее предупреждаю его. Что же касается кражи в банкирской конторе, то тут относительно моей матери произошла ошибка. Виной тому — чрезмерно назойливое любопытство; а я ни в чем и ни при каких обстоятельствах не терплю назойливого любопытства. До свиданья! Вопреки самоуверенному тону своей речи, которую мистер Баундерби произнес, держа дверь открытой для покидающих комнату незваных гостей, под наигранной бравадой угадывались попытки скрыть смущение и замешательство, и поэтому вид у него был одновременно и смешной и жалкий. Уличенный во лжи, оказавшись хвастуном, который приобрел фальшивую славу, дойдя в своем чванном смирении до столь же гнусного обмана, как если бы он хвалился мнимой принадлежностью к знатному роду (а это — предел гнусности), — он являл собой поистине смехотворную фигуру. В открытую дверь мимо него гуськом выходили люди, и он отлично понимал, что весть о происшествии в его доме теперь облетит весь город, что он станет притчей во языцех, и если бы ему обкорнали уши, он и то не чувствовал бы себя столь опозоренным, как сейчас. Даже злополучная миссис Спарсит, низвергнутая с вершин триумфа в бездну отчаяния, была в лучшем положении, нежели этот замечательный человек, этот сам себя выведший в люди шарлатан — Джосайя Баундерби из Кокстауна. Рейчел и Сесси, оставив миссис Пеглер в доме ее сына, где ей разрешили переночевать, вместе дошли до Каменного Приюта и там расстались. Вскоре после того, как они покинули дом Баундерби, их догнал мистер Грэдграйнд и по дороге говорил с большим сочувствием о Стивене Блекпуле, выразив надежду, что снятие всяческих подозрений с миссис Пеглер благоприятно скажется и на его судьбе. А что до щенка, то он, как всегда в последнее время, и на сей раз не отходил от Баундерби. Вероятно, ему казалось, что пока Баундерби ничего не может обнаружить без его ведома, он более или менее в безопасности. Сестру свою он никогда не навещал и видел ее только однажды после ее возвращения домой, а именно в тот вечер, когда он точно так же, словно тень, следовал за Баундерби. В душе его сестры жил темный безотчетный страх, который она никогда не облекала в слова и который окружал зловещей тайной неблагодарного, беспутного мальчишку. Та же неясная, но страшная мысль в тот день впервые мелькнула и у Сесси, когда Рейчел сказала, что Стивена мог погубить кто-нибудь, кто боялся его прихода. Луиза ни звука не говорила о том, что подозревает брата в краже денег из банка; ни она, ни Сесси не поверяли друг другу своей затаенной тревоги, кроме того единственного раза, когда они обменялись взглядом украдкой от мистера Грэдграйнда. низко опустившего седую голову; по думали они одно и то же, и обе это знали. Теперь новое, еще более ужасное сомнение терзало их — оно витало над ними словно страшный призрак, и обе гнали этот призрак от себя, не смея и помыслить о том, что он может приблизиться к другой. А щенок по-прежнему храбрился и держал себя все более вызывающе. Если Стивен Блекпул не вор, пусть явится. Куда он пропал? Еще одна ночь. Еще день и ночь. Нет Стивена Блекпула. Где же он, почему не возвращается?
Глава VI
ЗвездаВоскресный день занялся ясный и по-осеннему прохладный; Сесси и Рейчел сошлись рано утром и вместе отправились в загородную прогулку. Так как Кокстаун посыпал пеплом не только свою главу, но и соседские — по примеру святош, которые каются в своих грехах, надевая власяницу на других, — то жители его, когда им случалось затосковать по глотку свежего воздуха, что отнюдь не есть самое пагубное из суетных благ мира сего, обычно отъезжали на несколько миль от города по железной дороге, а дальше шли пешком или располагались на лоне природы. Так же поступили Рейчел и Сесси и, вырвавшись из царства дыма, сошли с поезда на одной из станций на полпути между Кокстауном и бывшей усадьбой мистера Баундерби. Хотя местность там и сям уродовали кучи угля, все же здесь было зелено, и росли деревья, и пели жаворонки (невзирая на воскресенье)[61], и пахло цветами, и над всем раскинулось синее безоблачное небо. Вдали, в одной стороне, черной мглой обозначался Кокстаун: в другой — отлого подымались холмы; в третьей горизонт был чуть светлее, где-то там простиралось море. Под ногами шелестела росистая трава, испещренная пляшущими тенями ветвей, пышно зеленели живые изгороди; повсюду царили мир и тишина. Не стучали машины у входа в шахты, не ходили по вытоптанному ими кругу старые, истощенные клячи; на короткое время приостановились колеса; и казалось, даже великое земное колесо вращается необычно размеренно и плавно. Рейчел и Сесси шли то полями, то тенистыми проселками, иногда переступая через остаток забора, до тогопрогнившего, что он падал, стоило тронуть его ногой, иногда минуя заросшие травой обломки кирпичей и бревен — места брошенных копей. Они шли дорожками и тропками, пусть едва приметными. Но тщательно обходили насыпи, где по пояс стояла густая трава и где кусты терновника тесно переплелись с щавелем и сорняками; ибо в тех краях из уст в уста передавались жуткие рассказы о старых шахтах, скрытых под такими пригорками. Солнце уже поднялось высоко, когда они присели отдохнуть. Почти всю дорогу они шли в полном одиночестве и даже издали не видели никого; и здесь вокруг них не было ни живой души. — Здесь так тихо, Рейчел, и дорожка нехоженая. Должно быть, мы первые забрели сюда в это лето, — сказала Сесси. Тут взгляд ее случайно упал на обломок прогнившего забора, валявшийся на земле. Она встала и подошла к нему. — А впрочем, не знаю. Это недавно сломано. Вот здесь по краю дерево не сгнившее. Тут и чьи-то следы. Боже мой, Рейчел! Она бросилась к ней и обхватила ее за шею. Рейчел уже вскочила на ноги. — Что такое? — Не знаю. Там в траве лежит шляпа. Они вместе подошли к тому месту. Рейчел подняла ее, дрожа как в лихорадке, и громко, в голос зарыдала. «Стивен Блекнул» было написано его собственной рукой на подкладке. — О, бедняга, бедняга! Сгубили его. Он лежит тут убитый! — Шляпа… в крови? — едва выговорила Сесси. Они боялись посмотреть; но все же превозмогли страх и пригляделись; ни снаружи, ни внутри знаков насилия не было. Шляпа, очевидно, пролежала здесь несколько дней, потому что на ней оказались пятна от дождя и росы, и трава в том месте, куда она упала, была примята. Они пугливо озирались вокруг, не смея шевельнуться, но ничего больше не увидели. — Рейчел, — прошептала Сесси, — вы постойте здесь, а я пойду погляжу. Она выпустила руку Рейчел и уже хотела шагнуть вперед, но Рейчел вдруг с истошным воплем, отдавшимся по всему широкому простору, вцепилась в нее обеими руками. Перед ними, у самых ног их, зияла черная пропасть с рваными краями, полускрытая густой травой. Они отпрянули и, упав на колени, в ужасе прижались друг к дружке. — О господи! Он там на дне! На дне! — не помня себя кричала Рейчел, и ни уговоры, ни просьбы, ни слезы Сесси не помогали, никакими средствами нельзя было ее успокоить; если бы Сесси не держала ее крепко, она кинулась бы в яму. — Рейчел, дорогая, хорошая моя, ради всего святого, успокойтесь! Не надо так страшно кричать! Думайте о Стивене! Думайте о Стивене! Сесси, терзаемая нестерпимой тревогой, снова и снова повторяла свою мольбу, и наконец Рейчел утихла и обратила к ней застывшее, словно каменное, лицо. — Рейчел, быть может, Стивен жив. Ведь вы не хотите, чтобы он хоть одну лишнюю минуту мучался в этой ужасной яме? — Нет, нет, нет! — Ради Стивена, не трогайтесь с места! Я пойду послушаю. Страшно было приближаться к краю пропасти, но Сесси подползла к ней и окликнула Стивена как могла громче. Она прислушалась, но ни звука не раздалось в ответ. Она опять крикнула, опять прислушалась — тщетно, ответа не было. Она звала его двадцать раз, тридцать раз. Она взяла ком земли в том месте, где Стивен поскользнулся, и бросила в пропасть. Она не услышала, как он упал. Когда она встала и окинула взором широкий простор, так радовавший глаз своей мирной тишиной всего несколько минут назад, и увидела, что помощи ждать неоткуда, даже в ее храброе сердечко закралось отчаяние. — Рейчел, нельзя терять ни минуты. Мы пойдем в разные стороны. Вы идите дорогой, по которой мы пришли, а я пойду вперед по тропинке. Всем, кого встретите, говорите, что случилось. Думайте о Стивене, думайте о Стивене! По лицу Рейчел она поняла, что та опомнилась и ее можно оставить одну. Сесси постояла немного, глядя, как Рейчел, ломая руки, бросилась бежать, потом повернулась и тоже побежала. Она задержалась у изгороди, привязала к ней свою шаль, чтобы после найти это место, потом скинула шляпку и помчалась, не чуя ног под собой. Беги, Сесси, беги, ради всего святого! Не останавливайся дух перевести, беги дальше! Так подгоняя самое себя, мчалась она по полям и проселкам, пока не добежала до пожарного сарая, где двое мужчин спали в тени на соломе. Разбудить их, объяснить, в чем дело, когда нет дыхания и путаются мысли, было не легко; но стоило им понять, что случилось, и они взволновались так же, как она сама. Один из мужчин был под хмельком; но когда его товарищ крикнул ему, что кто-то провалился в Чертову Шахту, он кинулся к луже, сунул в нее голову и воротился трезвым. Вместе с обоими мужчинами Сесси побежала за полмили к третьему, и вместе с ним еще к одному, а двое первых побежали в другую сторону. Потом достали лошадь, и Сесси упросила ее владельца доскакать до железной дороги с письмом для Луизы. К этому времени целая деревня уже была на ногах, и люди спешно собирали все необходимое — вороты, канаты, шесты, свечи, фонари — для отправки к Чертовой Шахте. Сесси казалось, что вечность прошла с тех пор, как сна оставила могилу, в которой лежал заживо погребенный. Ее терзала мысль, что она так надолго покинула его — точно бросила на произвол судьбы, — и она побежала обратно, а с нею — человек шесть рабочих, включая пьяного, которого отрезвила весть о несчастье и который оказался деятельнее всех. Когда подошли к Чертовой Шахте, там по-прежнему царила тишина и безлюдье. Мужчины кричали и прислушивались так же, как раньше это делала Сесси, осмотрели край пропасти, сошлись на том, каким образом произошло несчастье, а потом сели и стали дожидаться, когда доставят нужные приспособления. От малейшего шума — прогудит ли над головой жук, зашелестит листва, шепнет слово один из рабочих — Сесси вздрагивала, думая, что слышит крик со дна пропасти. Но ветер безучастно проносился над ней, ни звука не долетало оттуда, и они молча сидели на траве и ждали, ждали. Спустя немного времени к ним стали по одиночке подходить люди, узнавшие о несчастье, а потом, наконец, начала прибывать и настоящая помощь. Воротилась и Рейчел, приведя с собой людей и среди них врача, захватившего вино и лекарства. Но почти никто не надеялся, что провалившегося в Чертову Шахту вытащат оттуда живым. Теперь собралось так много народу, что для спасательных работ надо было установить порядок, и один из рабочих — тот самый, который сначала был под хмельком, — не то по собственному почину, не то с общего согласия взявший на себя руководство, очистил место по краям шахты и поставил выбранных им людей широким кольцом вокруг нее. Сперва, кроме тех, кто вызвался работать, только Сесси и Рейчел были допущены в круг; но после того как из Кокстауна прибыл экстренный поезд, в круг вступили и мистер Грэдграйнд, и Луиза, и мистер Баундерби, и щенок. Прошло четыре часа с того времени, когда Рейчел и Сесси присели здесь отдохнуть, прежде чем из шестов и канатов удалось, наконец, соорудить механизм, с помощью которого два человека могли без риска спуститься вниз. Несмотря на простоту этого механизма, устройство его потребовало много труда; не хватало то одного, то другого, и за всем пришлось посылать людей. Лишь в пять часов пополудни этого погожего осеннего воскресенья спустили вниз свечу, чтобы проверить воздух; над краем шахты склонились грубоватые лица, несколько пар глаз напряженно следили за свечой, которую по команде спускали люди у ворота. Когда ее опять подняли на поверхность, пламя едва мерцало, — а потом в шахту плеснули немного воды. Только после этого прицепили бадью и двое людей с фонарями влезли в нее и крикнули: «Опускай!». Заскрипел ворот, канат туго натянулся, и среди сотни мужчин и женщин, столпившихся вокруг шахты, не было ни одного не затаившего дыхания. Ворот остановили по команде, когда канат размотался только наполовину. Остановка ворота показалась всем бесконечно долгой, и несколько женских голосов закричали, что случилось новое несчастье! Но врач, стоявший с часами в руке, сказал, что не прошло еще и пяти минут, и строго потребовал полной тишины. Не успел он договорить, как ворот начал работать, выбирая канат. Опытный глаз мог заметить, что ворот идет слишком легко для подъема двух людей и, стало быть, возвращается только один. Туго натянутый канат круг за кругом навертывался на вал, все взоры впились в отверстие шахты. Показался одна из рабочих и выпрыгнул из бадьи на землю. Раздался дружный крик: «Жив?» — а потом настала глубокая напряженная тишина. Когда он сказал «жив», со всех сторон послышались радостные возгласы и у многих слезы выступили на глазах. — Но он сильно разбился, — продолжал он, как только крики утихли. — Где врач? Его так покалечило, сэр, что мы не знаем, как его поднять оттуда. Совещались все вместе, обступив врача, и с тревогой глядели ему в лицо, а он, выслушав ответы на свои вопросы, только качал головой. Солнце уже садилось, и в багровом отблеске закатного неба отчетливо видны были взволнованные, напряженные лица. Совещание кончилось тем, что люди опять взялись за ворот, а поднявшийся на поверхность рабочий опять спустился вниз, прихватив с собой вино и кое-какое лекарство. Потом поднялся из ямы второй рабочий. Тем временем, по указанию врача, принесли носилки, застелили их всякой одеждой и сверху накрыли соломой, а сам врач приготовил подобие бинтов и перевязей из шалей и носовых платков. Все это повесили на руку тому, кто вторым вылез из ямы, объяснив ему, что нужно сделать; он стоял, опираясь могучей рукой о шест, поглядывая то в отверстие шахты, то на окруживших его людей, и фигура этого горняка, освещенная фонарем, который он держал в другой руке, далеко не была наименее заметной в толпе. Уже смерклось, и горели зажженные факелы. Из того немногого, что он успел сообщить обступившим его людям и что немедленно разнеслось среди зрителей, стало известно, что пострадавший лежит на куче осыпавшейся породы, которой шахта забита до половины, и что, кроме того, силу удара несколько смягчил выступ рыхлой земли на боковой стенке. Он упал на спину, подмяв под себя одну руку; по его собственным словам, он все время лежал не двигаясь, только здоровой рукой доставал крошки хлеба и мяса из кармана и несколько раз набирал в горсть воды. Как только он получил письмо, он тотчас же оставил работу, всю дорогу прошел пешком и уже приближался к усадьбе мистера Баундерби, когда случилось несчастье. А попал он в такое опасное место потому, что он ни в чем не виноват и спешил воротиться кратчайшим путем, чтобы снять с себя обвинение. Чертова Шахта, заключил горняк, крепко ругнув ее, верна себе и недаром так прозвана; по его мнению, хоть Стивен еще в состоянии говорить, но Чертова Шахта сгубила его. Когда все было готово, ворот заработал, и горняк, напутствуемый последними торопливыми советами товарищей и врача, скрылся в пропасти. Как и в первый раз, канат разматывался круг за кругом, потом по сигналу ворот остановили. Ни один из рабочих не отнял от него руки, все ждали, согнувшись, держась за вал, готовые начать выбирать канат. Наконец сигнал был подан, и все стоявшие вокруг шахты подались вперед.

Ибо теперь натянутый до отказа канат шел тяжело, люди с трудом крутили вал, и ворот жалобно поскрипывал. Страшно было глядеть на канат — казалось, он вот-вот оборвется. Но круг за кругом мерно ложился на вал, потом появились цепи, прикрепленные к бадье, и, наконец, сама бадья: по бокам — ее, ухватившись одной рукой за край — зрелище, от которого кружилась голова и замирало сердце, — висели оба горняка, а свободной рукой они бережно поддерживали привязанное к бадье несчастное искалеченное человеческое существо. Шепот сострадания пробежал по толпе, а женщины плакали в голос, глядя, как изувеченное тело, в котором едва теплилась жизнь, осторожно перекладывали с железного ложа на соломенное. Сначала к нему подошел только врач. Он сделал, что было в его силах, попытался, насколько возможно, уложить умирающего поудобнее, но, в сущности, ему оставалось только очень осторожно прикрыть его; потом он подозвал Рейчел и Сесси. И тут все увидели бледное, изможденное лицо, обращенное к небу, и сломанную правую руку, которая лежала поверх покрывающих его одежд, словно ожидая, что чья-нибудь рука коснется ее. Ему дали напиться, спрыснули лицо водой, влили в рот несколько капель вина и укрепляющего лекарства. Хоть он и лежал не шевелясь, глядя в небо, он улыбнулся и сказал: «Рейчел». Она опустилась па траву подле него и наклонилась над ним так, что лицо ее пришлось между его глазами и небом, — он даже не мог перевести на нее взгляд. — Рейчел, дорогая. Она взяла его за руку. Он опять улыбнулся и сказал: — Не выпускай ее! — Тебе очень больно, милый мой, дорогой Стивен? — Было очень больно, теперь уже нет. Я сильно мучился, и долго, очень долго, но теперь все прошло. Ах, Рейчел, какая морока! С начала и до конца — одна морока! Что-то отдаленно напоминающее прежнего Стивена бледной тенью скользнуло по его лицу, когда он произнес свое излюбленное слово. — Я упал в яму, которая на памяти еще ныне живущих стариков стоила жизни сотням и сотням людей, — отцам, сыновьям, братьям, любимым тысячами и тысячами родных, чьими кормильцами они были. Я упал в яму, которая сгубила рудничным газом больше народу, нежели гибнет в кровавом бою. Я читал прошение, — и каждый может прочесть его, — где люди, работающие в копях, Христом-богом молили издать такие законы, чтобы труд не убивал их, а пощадил ради жен и детей, которых они любят не меньше, нежели богатые и знатные любят своих. Когда эта шахта работала, она за зря убивала людей; и нынче, уже брошенная, она все еще убивает за зря. Видишь, мы каждый божий день умираем за зря, так ли, сяк ли, — морока да и только! Он говорил едва слышно, без злобы или обиды, никого не обвиняя, а просто утверждая бесспорную истину. — Твоя сестричка, Рейчел, — ты не забыла ее. А теперь уж наверняка не забудешь, когда я буду подле нее. Ты помнишь, какая она была хилая, как терпеливо сидела весь день на стульчике у окна, пока ты работала на нее, и как она умерла, бедная маленькая калека, за зря погубленная смрадным воздухом, которым дышат рабочие в своих жалких лачугах. Ах, морока! Какая морока! К нему подошла Луиза; но он не видел ее — лицо его было обращено к вечернему небу. — Ежели бы во всем, что до нас касается, не было столько мороки, я не лежал бы здесь. Ежели бы между нами было поменьше мороки, мои товарищи ткачи, мои братья рабочие иначе поняли бы меня. Ежели бы мистер Баундерби лучше знал меня — ежели бы вообще хоть чуть-чуть знал, — он не осердился бы и не подумал на меня, что я мог украсть. Но глянь-ка, Рейчел! Глянь-ка на небо! Проследив за его взглядом, она увидела, что он смотрит на звезду. — Она светилась надо мной, — сказал он благоговейно, — когда я мучился там, внизу. Она светила мне в душу. Я смотрел на нее и думал о тебе, Рейчел, и понемножку морока в моих мыслях рассеялась, — надеюсь, что так. Ежели кое-кто неверно понимал меня, то и я кое-кого понимал неверно. Когда я прочел твое письмо, я сгоряча решил, что молодая леди и ее брат заодно и что они между собой уговорились так поступить со мной. Когда я провалился в яму, я злобился на нее и так же несправедливо судил о ней, как другие судили обо мне. А надо и в мыслях и в делах своих не поддаваться злобе, а терпеть и прощать. И вот, когда я мучился там, а она светилась надо мной, и я глядел на нее, зная, что смерть моя пришла, я молился о том, чтобы все люди сошлись поближе между собой и лучше понимали бы друг дружку, нежели в мое время. Луиза, услышав его слова, опустилась на колени напротив Рейчел и наклонилась над ним, чтобы он мог увидеть ее. — Вы слышали меня? — спросил он, немного погодя. — Я не забыл вас, сударыня. — Да, Стивен, я слышала вас. И я присоединяюсь к вашей молитве. — У вас есть отец. Вы можете передать ему мои слова? — Он здесь, — сказала Луиза; ей вдруг стало страшно. — Привести его к вам? — Прошу вас. Луиза воротилась с отцом. Они стояли рядом, рука в руке, и смотрели на строгое лицо умирающего. — Сэр, вы снимете пятно с моего доброго имени и позаботитесь, чтобы все узнали, что я не вор. Это я поручаю вам. Мистер Грэдграйнд нетвердым голосом спросил, как это сделать? — Сэр, — услышал он в ответ, — ваш сын научит вас, как это сделать. Спросите его. Я никого не обвиняю, ни единым словом. Однажды вечером я видел вашего сына и говорил с ним. Я только прошу вас снять пятно с моего имени — и я вверяю это вам. Врач торопил людей, вызвавшихся нести пострадавшего, и те, у кого имелись факелы или фонари, уже вышли вперед, готовясь освещать дорогу. Прежде чем подняли носилки, пока люди совещались, как лучше взяться За них, Стивен сказал Рейчел, не сводя глаз со звезды: — Каждый раз, когда я приходил в чувство и видел ее свет надо мной, мне думалось, что это та самая звезда, что привела к Христу-младенцу. Наверно, так оно и есть! Носилки подняли, и он был счастлив тем, что его готовятся нести в ту сторону, куда, как ему чудилось, указывала путь звезда. — Рейчел, любимая моя! Не выпускай моей руки. Нынче, дорогая, нам можно идти вместе! — Я буду держать твою руку и не отойду от тебя, Стивен, всю дорогу. — Благослови тебя бог! Сделайте милость, кто-нибудь, закройте мне лицо. Его бережно несли полями, проселками, по широкому простору, и Рейчел шла рядом, держа его за руку. Лишь изредка чей-нибудь шепот нарушал скорбное молчание. Вскоре шествие превратилось в похоронную процессию. Звезда указала ему путь к богу бедняков; и, претерпев до конца в кротости и всепрощении, он с миром отошел к своему Спасителю.
Глава VII
Погоня за щенкомЕще прежде, чем разомкнулось кольцо вокруг Чертовой Шахты, один из зрителей внезапно исчез. Мистер Баундерби и его тень не стояли вместе с Луизой, опиравшейся на руку отца, а держались в сторонке, поодаль. Как только мистера Грэдграйнда позвали к умирающему, Сесси, зорко следившая за происходящим, тихонько подошла сзади к этой мрачной тени — лицо щенка выражало такой беспредельный ужас, что он непременно привлек бы внимание, если бы все взоры не были устремлены на Стивена, — и что-то прошептала ему на ухо. Не поворачивая головы, он обменялся с нею несколькими словами и тотчас скрылся. Поэтому, когда толпа двинулась за носилками, щенка в кругу уже не было. Воротившись домой, мистер Грэдграйнд послал мистеру Баундерби записку, требуя, чтобы сын немедленно пришел к нему. Ответ гласил, что мистер Баундерби, потеряв Тома в толпе, ушел без него, а Тома после этого не видел, и потому решил, что тот находится в Каменном Приюте. — Я думаю, отец, он сегодня не воротится в город, — сказала Луиза. Мистер Грэдграйнд отвернулся и больше не промолвил ни слова. На другое утро он сам отправился в банк, прямо к открытию, и найдя место сына пустым — он сначала не решался взглянуть в ту сторону, — пошел обратно той же улицей, поджидая мистера Баундерби; повстречавшись с ним, мистер Грэдграйнд сообщил ему, что по известным причинам, которые он вскоре разъяснит, но о которых просит пока не спрашивать, он счел необходимым временно устроить сына на работу в другом городе; и что, кроме того, на него возложен долг очистить память Стивена Блекпула от клеветы и назвать истинного вора. Мистер Баундерби в полном недоумении остался стоять посреди улицы, глядя вслед своему тестю и раздуваясь все сильнее, наподобие исполинского мыльного пузыря, лишенного, однако, всякой красоты. Мистер Грэдграйнд пришел домой, заперся в своем кабинете и не выходил оттуда весь день. Когда Сесси и Луиза стучались к нему, он отвечал через затворенную дверь: «Не сейчас, дорогие, — вечером». Вечером они снова подошли к его двери, но он сказал: «Нет еще — завтра». Весь день он ничего не ел и, когда смерклось, не потребовал свечи; и до позднего вечера они слышали, как он ходил взад и вперед по своему кабинету. Но наутро он вышел к завтраку в обычное время и занял свое обычное место за столом. Теперь это был почти дряхлый, сгорбленный, удрученный горем старик; но в нем чувствовалось больше мудрости и благородства, нежели в те дни, когда он требовал, чтобы в жизни не было ничего кроме фактов. Встав из-за стола, он назначил Луизе и Сесси час, когда прийти к нему; и, низко опустив седую голову, ушел к себе. — Отец, — заговорила Луиза, придя к нему в условленное время, — у вас осталось трое подрастающих детей. Они будут не такие; и я, с божьей помощью, буду теперь другая. Она протянула Сесси руку, словно хотела сказать, что также и с помощью Сесси. — Как ты думаешь, — спросил мистер Грэдграйнд, — твой злосчастный брат уже задумал ограбление, когда пошел с тобой к Блекпулу? — Боюсь, что так, отец. Я знаю, что он сильно нуждался в деньгах и очень много натратил. — Ему было известно, что бедняга покидает город, и он злодейски решил подвести его под подозрение? — Я думаю, отец, что это пришло ему в голову, когда он там сидел. Ведь я просила его пойти со мной. Не он предлагал посетить Стивена. — Он о чем-то говорил с ним. Что же — он отвел его в сторону? — Он выходил с ним из комнаты. Я потом спросила его, зачем, и он объяснил мне довольно правдоподобно; но со вчерашнего вечера я вижу это в ином свете, и когда я теперь припоминаю все подробности, я, увы, слишком хорошо могу представить себе, что произошло между ними. — Скажи мне, — спросил мистер Грэдграйнд, — что, по-твоему, сделал твой несчастный брат? Так же велика его вина в твоих глазах, как и в моих? — Боюсь, отец, — отвечала она, замявшись, — что он чем-то заманил Стивена Блекпула либо от моего имени, либо от своего; и тот поверил ему, и перед своим уходом из города два или три вечера подряд с самыми лучшими намерениями стоял возле банка, чего никогда раньше не делал. — Ясно! — сказал мистер Грэдграйнд. — Яснее ясного! Он заслонил лицо рукой и с минуту сидел молча. Справившись с собой, он сказал: — А где его искать теперь? Как спасти от правосудия? В нашем распоряжении всего несколько часов — дольше я не могу утаивать правду. Никогда нам своими силами не найти его. И за десять тысяч фунтов этого не сделать. — Сесси уже сделала это, отец. Он поднял голову, посмотрел на нее, на добрую фею его дома, посмотрел с глубокой благодарностью и сказал растроганным голосом: — Всегда и всюду ты, дитя мое! — Мы еще раньше, до вчерашнего дня, подозревали правду, — переглянувшись с Луизой, объяснила Сесси. — А когда я увидела, что вас позвали к носилкам, и услышала, что было сказано (ведь я все время стояла рядом с Рейчел), я незаметно подошла к нему и шепнула: «Не оборачивайтесь ко мне. Видите, где ваш отец? Бегите, ради него и ради себя!» Он уже весь дрожал, когда я заговорила с ним, а тут вздрогнул, затрясся, как лист, и сказал: «Куда же я пойду? У меня нет денег, и кто захочет прятать меня?» Я вспомнила цирк, в котором когда-то работал мой отец. Я не забыла, где цирк Слири играет в это время года, и я только на днях читала о нем в газете. Я сказала, чтобы он поспешил туда, назвался мистеру Слири и попросил скрыть его до моего приезда. «Я доберусь туда до рассвета», — сказал он. И я видела, как он выскользнул из толпы. — Слава богу! — воскликнул мистер Грэдграйнд. — Быть может, удастся переправить его за границу. Этот план казался им тем более осуществимым, что город, куда Сесси направила беглеца, находился в трех часах пути от Ливерпуля, а оттуда можно было без задержки уехать в любую часть света. Но действовать приходилось крайне осторожно, ибо с каждой минутой увеличивалась опасность, что он будет заподозрен, да и мистера Баундерби могло обуять желание, разыграв роль древнего римлянина, выполнить свой гражданский долг; поэтому было решено, что Сесси и Луиза одни доберутся окольным путем до того города; а мистер Грэдграйнд поедет в противоположную сторону и еще более кружным путем прибудет туда же. Кроме того, они условились, что сам он не явится сразу в цирк, потому что его приезд может быть неправильно истолкован или весть о том, что он приехал, может побудить его сына опять скрыться; переговорить с мистером Слири, а также сообщить виновнику стольких бед и унижений о том, что отец его здесь и с какой целью он прибыл, должны были Сесси и Луиза. Когда весь план был продуман и обсужден всеми тремя, подошло время приводить его в исполнение. Мистер Грэдграйнд днем отправился пешком из своего дома за город и на отдаленной станции сел в поезд железной дороги; а Луиза и Сесси уехали вечером, радуясь тому, что не встретили ни одного знакомого липа. Они ехали всю ночь, за исключением тех немногих минут, которые они простаивали на станциях, расположенных либо вверху нескончаемой лестницы, либо в глубокой выемке — единственное разнообразие на глухих железнодорожных ветках, — и рано утром высадились в болотистой местности, откуда до цели их путешествия было около двух миль. Из этой унылой трясины их вызволил старик почтарь, который почему-то поднялся чуть свет и яростно колотил ногой впряженную в двуколку лошадь. В город они проникли задворками, где обитали свиньи; такой въезд не отличался ни пышностью, ни даже благовонием, однако — случай далеко не редкий — это и была узаконенная проезжая дорога. Первое, что они увидели, очутившись в городе, — это остов бродячего цирка. Труппа перекочевала в другой город, до которого было двадцать с лишним миль, и там накануне вечером состоялось открытие. Оба города соединяло ухабистое шоссе, и путешествие по нему совершалось крайне медленно. Хотя Луиза и Сесси только наспех перекусили и даже не прилегли отдохнуть (они были в такой тревоге, что все равно глаз не сомкнули бы), лишь около полудня им стали попадаться афиши Цирка Слири, наклеенные на стенах сараев и домов, и прошел еще час. прежде чем они добрались до рыночной площади. Луиза и Сесси подошли к цирку перед самым началом Утреннего Представления-гала, о чем возвещал звонивший в колокольчик зазывала. Сесси посоветовала — чтобы не привлекать внимание местных жителей расспросами, — подойти к кассе и взять билеты. Если деньги получает мистер Слири, он, несомненно, узнает ее и будет соблюдать осторожность. Если же нет — то он безусловно увидит их в цирке и, поскольку он спрятал у себя беглеца, то и в этом случае будет действовать осмотрительно. С бьющимся сердцем подошли они к столь памятному обеим балагану. Флаг с надписью: «Цирк Слири» был на месте; и готическая ниша была на месте; не было только мистера Слири. Юный Киддерминстер, слишком повзрослевший, чтобы изображать купидона даже перед немыслимо доверчивой публикой, вынужденный подчиниться несокрушимой силе обстоятельств (и буйному росту своей бороды), нес теперь самые разнообразные обязанности, и в частности отправлял должность казначея; в запасе у него имелся еще барабан, дабы он в свободные минуты мог давать выход избытку энергии. Но когда мистер Киддерминстер взимал плату со зрителей, он так судорожно следил за тем, чтобы ему не подсунули фальшивую монету, что ничего кроме денег не видел; поэтому Сесси проскользнула неузнанной и вместе с Луизой вошла в цирк. Японский микадо верхом на старой белой лошади, испещренной мазками черной краски, крутил одновременно пять рукомойных тазов — как известно, любимое занятие этого могущественного монарха. Сесси, хотя и хорошо знала всю императорскую династию, однако с нынешним ее представителем лично не была знакома, и потому царствование его прошло мирно. Затем новый клоун объявил коронный номер мисс Джозефины Слири — прославленную конно-тирольскую пляску цветов (клоун остроумно назвал ее «тряской»), и мистер Слири вывел наездницу на арену. Не успел мистер Слири замахнуться на клоуна своим длинным бичом, а клоун крикнуть: «Посмей только, я запущу в тебя лошадью!» — как и отец и дочь узнали Сесси. Но они провели номер с полным самообладанием; и подвижное око мистера Слири — кроме разве самой первой секунды — так же не выражало ровно ничего, как и неподвижное. Номер показался Луизе и Сесси несколько растянутым, особенно когда пляска цветов была приостановлена и клоун начал рассказывать мистеру Слири (который время от времени ронял самым бесстрастным тоном: «Неужто, сэр?», устремив свое единственное око на публику) о том, как две ноги сидели на трех ногах и глядели на одну ногу, но тут явились четыре ноги и ухватили одну ногу, после чего две ноги встали и бросили три ноги я четыре ноги, однако четыре ноги убежали с одной ногой. Хотя это и была чрезвычайно остроумная аллегория про мясника, трехногий табурет, собаку и баранью ногу, все же рассказ потребовал времени; а они были в сильной тревоге. Наконец маленькая светловолосая Джозефина раскланялась под дружные аплодисменты; клоун, оставшись один на арене, только что объявил с воодушевлением: «Ну, теперь моя очередь!» — но тут Сесси тронули за плечо и кивком головы указали на дверь.

Она вышла вместе с Луизой; мистер Слири принял их в очень тесной комнатке, где стены были из брезента, вместо пола трава, а дощатый скошенный потолок ежеминутно грозил обвалиться из-за неистового топота, которым сидящая в ложах публика выражала свой восторг. — Хехилия, — сказал мистер Слири, держа в руках стакан грогу, — рад видеть тебя. Ты издавна была нашей любимицей, и ты, я уверен, не похрамила нах. А потому, дорогая моя, ты должна повидать многих, прежде чем мы перейдем к делу, не то ты разобьешь им хердце — охобенно женщинам. Моя Джозефина вышла замуж за И. У. Б. Чилдерха, и ее мальчуган, хоть ему только три года, как приклеенный хидит на любом пони. Мы зовем его Маленькое Чудо Иппоихкуххтва; и помяни мое хлово — ежели он не будет блихтать в цирке Ахтли[62], то он будет блихтать в Париже. А ты помнишь Киддерминхтера, который вздыхал по тебе? Так вот: он тоже женат. Взял за хебя вдову. По годам — впору быть ему матерью. Когда-то была канатной пляхуньей, а теперь она ничто — жир не позволяет. У них двое детей, так что номера, где нужны эльфы и карлики, идут у нах как по махлу. Ты бы поглядела на «Детей в леху»[63] — отец и мать помирают верхом, дядя берет их под хвою опеку тоже верхом, а как они вдвоем хобирают ежевику верхом и малиновка накрывает их лихтьями верхом — лучше этого и вообразить нельзя! А помнишь Эмму Гордон, дорогая? Она ведь была тебе как родная мать. Ну, конечно, помнишь, как же иначе? Так вот: Эмма потеряла мужа. Он играл хултана Индии и хидел на хлоне в такой клетке, вроде пагоды, и упал навзничь, и потом помер — очень тяжело упал; а она опять вышла замуж, за хозяина молочной — он видел ее на арене и был без ума от нее… он попечитель бедных и богатеет не по дням, а по чахам. Обо всех этих переменах мистер Слири, задыхаясь пуще прежнего, рассказывал с большой теплотой и удивительным для такого старого забулдыги простодушием. Затем он привел Джозефину и И. У. Б. Чилдерса (дневной свет беспощадно подчеркивал глубокие складки от его носа к подбородку), и Маленькое Чудо Иппоискусства, короче говоря — всю труппу. Луиза с удивлением присматривалась к этим странным созданиям — набеленные и нарумяненные лица, короткие юбочки, выставленные напоказ икры; но радостно было видеть, как они теснились вокруг Сесси и как Сесси, растроганная, не могла удержаться от слез. — Довольно! Хехилия уже перецеловала вхех детей, обняла вхех женщин, пожала руку вхем мужчинам — теперь вон отхюда и дайте звонок ко второму отделению! Как только все вышли, мистер Слири сказал, понизив голос: — Так вот, Хехилия, я не хочу знать ничьих хекретов, но я предполагаю, что эта леди ему не чужая. — Да, она его сестра. — И хтало быть дочь его отца. Так я и думал. Как ваше здоровье, михх? И как здоровье вашего батюшки? — Отец скоро будет здесь, — сказала Луиза, которой не терпелось поговорить о деле. — Мой брат в безопасности? — Будьте покойны! — отвечал мистер Слири. — Прошу вах, михх, гляньте на арену, вот отхюда. Тебе, Хехилия, можно не говорить — хама найдешь для хебя дырочку. Все трое прильнули к щелям между досками. — Это «Джек, победитель великанов» — комедия для детей, — объяснял Слири. — Видите, там бутафорхкая хижина Джека; вон там наш клоун, в руках у него крышка от кахтрюли и вертел — это хлуга Джека; а вон и хам малютка Джек в блехтяших дохпехах; а по бокам хижины два арапа, вдвое выше ее — они будут принохить и унохить хижину, а великана (очень дорогое плетеное чучело) еще нет. Ну как, видите их? — Да, — отвечали обе. — Еще раз поглядите, — сказал Слири, — хорошенько поглядите. Ну как, видите? Отлично. Так вот, михх, — продолжал он, придвигая для нее скамейку, — у меня одни взгляды, у вашего отца другие. Я не желаю знать, что натворил ваш брат; лучше, чтобы я этого не знал. Ваш отец не охтавил Хехилию в беде, и я не охтавлю его в беде — больше тут говорить не о чем. Ваш брат — один из двух арапов. У Луизы вырвался возглас не то горького, не то радостного изумления. — Вот оно как, — сказал Слири. — И вы даже и теперь не можете узнать, который из двух он. Я буду ждать вашего отца. Ваш брат побудет в цирке. Я не раздену его и не отмою. Ваш отец придет, или вы приходите, и вы захтанете вашего брата и можете хвободно переговорить — в балагане не будет ни души. Не горюйте, что он черный, зато его никто не признает. Луиза, несколько утешенная, горячо поблагодарила мистера Слири. Она попросила его, со слезами на глазах, передать поклон брату, после чего она и Сесси ушли, условившись, что придут попозже. Час спустя приехал мистер Грэдграйнд. Он тоже никого из знакомых не встретил и очень надеялся с помощью Слири переправить этой ночью своего сбившегося с пути сына в Ливерпуль. Никто из них не мог сопровождать беглеца — это значило бы почти наверняка выдать его, как бы он ни был переряжен: поэтому мистер Грэдграйнд заготовил письмо к одному верному человеку, с которым вел переписку, умоляя отправить подателя сего, чего бы это ни стоило, в Северную или Южную Америку или в любую другую отдаленную часть света, лишь бы поскорее и незаметно. Затем они втроем походили по городу, дожидаясь часа, когда цирк покинет не только публика, но и труппа и лошади. Наконец они увидели, как мистер Слири вынес стул из боковой двери, уселся на него и закурил, точно подавая им знак, что они могут подойти. — Мое почтенье, хударь, — сдержанно поздоровался он, когда они проходили мимо него в дверь. — Ежели я вам буду нужен, вы меня найдете на этом мехте. Не глядите на то, что хын ваш наряжен шутом. Они вошли в балаган, и мистер Грэдграйнд, горестно понурившись, сел на табурет, предназначенный для клоуна, посреди арены. На одной из задних скамей, едва видный в сумраке этого столь непривычного и чуждого ему помещения, все еще упрямясь и злобствуя, сидел нашкодивший щенок, которого он имел несчастье называть своим сыном. В нескладной куртке с огромными отворотами и обшлагами, вроде тех, что носят приходские надзиратели; в бесконечно длинном жилете; в коротких штанах, башмаках с пряжками и нелепой треуголке; все это не по росту, дрянное, рваное, побитое молью; а по черному лицу не то от жары, не то от страха течет пот, оставляя грязные полосы там, где он пробивается сквозь густую жирную краску; никогда мистер Грэдграйнд не поверил бы, что может существовать нечто столь мрачное, отталкивающее, унизительно смешное, как щенок в своей шутовской ливрее, если бы своими глазами не убедился в этом неопровержимом и бесспорном факте. И до такого падения дошел один из его образцовых детей! Сперва щенок упорно отказывался покинуть свое место и подойти поближе. Наконец, уступив просьбам Сесси, если такое угрюмое согласие можно назвать уступкой, — на Луизу он и глядеть не хотел, — он медленно спустился, переходя из ряда в ряд, пока не ступил на посыпанную опилками арену, где и стал у самого края, как можно дальше от табурета, на котором сидел его отец. — Как ты это сделал? — спросил отец. — Что сделал? — угрюмо переспросил сын. — Ограбил банк, — повысив голос, отвечал отец. — Я сам ночью взломал сейф и оставил приоткрытым, когда уходил. Ключ, который нашли на улице, я давно заготовил. В то утро я подбросил его, чтобы подумали, что им пользовались. Я не за один раз взял деньги. Я делал вид, что каждый вечер прячу остаток, но я не прятал. Теперь вы все знаете. — Ежели бы гром поразил меня, — сказал отец, — я был бы менее потрясен, чем сейчас! — Не вижу, почему, — проворчал сын. — Столько-то людей, состоящих на службе, облечены доверием; столько-то из них оказываются нечестными. Я сотни раз слышал от вас, что это закон. Не могу же я менять законы. Вы этим утешали других, отец. Теперь утешайтесь этим сами! Отец прикрыл глаза рукой, а сын стоял перед ним, во всем своем унизительном безобразии, покусывая соломинку; черная краска наполовину сошла с ладоней, и руки его были похожи на обезьяньи. Уже близился вечер, и он то и дело с нетерпением и тревогой поглядывал на своего отца. Одни только глаза его с резко выделявшимися белками и казались живыми на густо покрашенном лице. — Тебя надо доставить в Ливерпуль, а оттуда отправить за море. — Очевидно. Нигде, — заскулил щенок, — нигде мне не будет хуже, чем было здесь, с тех пор как я себя помню. Уж это верно. Мистер Грэдграйнд подошел к двери, привел мистера Слири и спросил его, есть ли возможность увезти это жалкое создание? — Я уже думал об этом, хударь. Время не терпит, так что говорите хразу — да или нет. До железной дороги больше двадцати миль. Через полчаха пойдет дилижанх, который похпевает как раз к почтовому поезду. Этим поездом он доедет до самого Ливерпуля. — Но вы посмотрите на него, — простонал мистер Грэдграйнд. — Ни один дилижанс… — Я и не имел в виду, что он поедет в этой ливрее, — отвечал Слири. — Дайте хоглахие, и за пять минут я подберу кохтюм и переделаю его в погонялу. — В… кого? — переспросил мистер Грэдграйнд. — В возчика. Решайте, хударь. Надо еще принехти пива. Кроме как пивом циркового арапа не отмоешь. Мистер Грэдграйнд тотчас согласился; мистер Слири тотчас извлек из сундука блузу, войлочную шляпу и прочую костюмерию; щенок тотчас переоделся за байковой ширмой; мистер Слири тотчас принес пива и отмыл его добела. — А теперь, — сказал Слири, — идем к дилижанху и влезайте в заднюю дверь; я провожу вах, и люди подумают, что вы из моей труппы. Обнимите на прощанье родных, но только поживее. — После этого он деликатно оставил их одних. — Вот письмо, — сказал мистер Грэдграйнд. — Всем необходимым ты будешь обеспечен. Постарайся раскаянием и честной жизнью искупить совершенное тобой злое дело и те горестные последствия, к которым оно привело. Дай мне руку, бедный мой мальчик, и да простит тебя бог, как я тебя прощаю! Эти слова и сердечный тон, каким они были сказаны, исторгли несколько слезинок из глаз несчастного грешника. Но когда Луиза хотела его обнять, он с прежней злобой оттолкнул ее. — Нет. С тобой я и говорить не желаю. — Ах, Том! Неужели мы так расстанемся? Вспомни, как я всегда любила тебя! — Любила! — угрюмо отвечал он. — Хороша любовь! Бросила старика Баундерби, выгнала мистера Хартхауса, моего лучшего друга, и вернулась домой как раз в то время, когда мне грозила опасность. Нечего сказать — любовь! Выболтала все, до последнего слова, о том, как мы ходили туда, а ведь видела, что вокруг меня затягивается сеть. Хороша любовь! Ты просто-напросто предала меня. Никогда ты меня не любила. — Поживее! — стоя в дверях, сказал Слири. Все заторопились и гурьбой вышли из балагана, и Луиза еще со слезами говорила брату, что прощает ему и любит его по-прежнему, и когда-нибудь он пожалеет о том, что так расстался с ней, и рад будет, вдали от нее, вспомнить эти ее слова, — как вдруг кто-то налетел на них. Мистер Грэдграйнд и Сесси, которые шли впереди щенка и Луизы, прильнувшей к его плечу, остановились и в ужасе отпрянули. Ибо перед ними стоял Битцер, задыхаясь, ловя воздух широко разинутым тонкогубым ртом, раздувая тонкие ноздри, моргая белесыми ресницами, еще бледнее, чем всегда, словно от стремительного бега он разогрелся, не как все люди, до красного, а до белого каленья. Он так пыхтел, так тяжело дышал, будто мчался, не останавливаясь, с того давнего вечера, много лет назад, когда он столь же внезапно налетел на них. — Очень сожалею, что вынужден нарушить ваши планы, — сказал Битцер, качая головой, — но я не могу допустить, чтобы меня провели какие-то циркачи. Мне нужен мистер Том-младший. Он не должен быть увезен циркачами. Вот он, переодетый возчиком, и я должен взять его! За шиворот, очевидно. Ибо именно так он завладел Томом.
Глава VIII
Немножко философииОни воротились в балаган, и Слири на всякий случай запер двери. Битцер, все еще держа за шиворот оцепеневшего от страха преступника, стал посреди уже почти темной арены и, усиленно моргая, вглядывался в своего бывшего покровителя. — Битцер, — смиренно сказал мистер Грэдграйнд, сраженный этим последним неожиданным ударом, — есть у тебя сердце? — Без сердца, сэр, — отвечал Битцер, усмехнувшись несуразности вопроса, — кровь не могла бы обращаться. Ни один человек, знакомый с фактами, установленными Гарвеем[64] относительно кровообращения, не мог бы усомниться в наличии у меня сердца. — Доступно ли оно чувству жалости? — воскликнул мистер Грэдграйнд. — Оно доступно только доводам разума, сэр, — ответствовал сей примерный юноша, — и больше ничему. Они пристально смотрели друг на друга, и лицо мистера Грэдграйнда было так же бледно, как лицо его мучителя. — Что может побудить тебя, даже сообразуясь с разумом, помешать бегству этого бедняги, — сказал мистер Грэдграйнд, — и тем самым сокрушить его несчастного отца? Взгляни на его сестру. Пощади нас! — Сэр, — отвечал Битцер весьма деловитым и серьезным топом, — поскольку вы спрашиваете, какие доводы разума могут побудить меня воротить мистера Тома-младшего в Кокстаун, я считаю вполне разумным дать вам разъяснение. Я с самого начала подозревал в этой краже мистера Тома. Я следил за ним и ранее, потому что знал его повадки. Я держал свои наблюдения про себя, но я наблюдал за ним; и теперь у меня набралось предостаточно улик против него, не считая его бегства и собственного признания — я поспел как раз вовремя, чтобы услышать его. Я имел удовольствие наблюдать за вашим домом вчера вечером и последовал за вами сюда. Я намерен привезти мистера Тома обратно в Кокстаун и передать его мистеру Баундерби. И я не сомневаюсь, сэр, что после этого мистер Баундерби назначит меня на должность мистера Тома. А я желаю получить его должность, сэр, потому что этобудет для меня повышением по службе и принесет мне пользу. — Ежели для тебя это только вопрос личной выгоды… — начал мистер Грэдграйнд. — Простите, что я перебиваю вас, сэр, — возразил Битцер, — но вы сами отлично знаете, что общественный строй зиждется на личной выгоде. Всегда и во всем нужно опираться на присущее человеку стремление к личной выгоде. Это единственная прочная опора. Уж так мы созданы природой. Эту догму мне внушали с детства, сэр, как вам хорошо известно. — Какая сумма денег могла бы возместить тебе ожидаемое повышение? — спросил мистер Грэдграйнд. — Благодарю вас, сэр, — отвечал Битцер, — за то, что вы на это намекнули, но я не назначу никакой суммы. Зная ваш ясный ум, я так и думал, что вы мне предложите деньги, и заранее произвел подсчет; и пришел к выводу, что покрыть преступника, даже за очень крупное вознаграждение, менее безопасно и выгодно для меня, чем более высокая должность в банке. — Битцер, — сказал мистер Грэдграйнд, простирая к нему руки, словно говоря, — смотри, как я жалок! — Битцер, у меня остается только еще одна надежда тронуть твое сердце. Ты много лет учился в моей школе. Ежели, в память о заботах, которыми ты был там окружен, ты хоть в малейшей мере готов отказаться сейчас от своей выгоды и отпустить моего сына, я молю тебя — да будет эта память ему на благо. — Меня крайне удивляет, сэр, — наставительным тоном возразил бывший воспитанник мистера Грэдграйнда, — приведенный вами явно неосновательный довод. Мое ученье было оплачено; это была чисто коммерческая сделка; и когда я перестал посещать школу, все расчеты между нами кончились. Одно из основных правил грэдграйндской теории гласило, что все на свете должно быть оплачено. Никто, ни под каким видом, не должен ничего давать и не оказывать никакой помощи безвозмездно. Благодарность подлежала отмене, а порождаемые ею добрые чувства теряли право на существование. Каждая пядь жизненного пути, от колыбели до могилы, должна была стать предметом торговой сделки. И если этот путь не приведет нас в рай, стало быть рай не входит в область политической экономии и делать нам там нечего. — Я не отрицаю, — продолжал Битцер, — что ученье мое стоило дешево. Но ведь это именно то, что нужно, сэр. Я был изготовлен за самую дешевую цену и должен продать себя за самую дорогую. Он умолк, несколько смущенный слезами Луизы и Сесси. — Прошу вас, не плачьте, — сказал он. — От этого никакой пользы. Только лишнее беспокойство. Вы, по-видимому, думаете, что я питаю к мистеру Тому-младшему какие-то враждебные чувства. Ничего подобного. Я хочу воротить его в Кокстаун единственно в силу тех доводов разума, о которых уже говорил. Если он будет сопротивляться, я подыму крик «держи вора!». Но он не будет сопротивляться, вот увидите. Тут мистер Слири, который слушал эти поучения с глубочайшим вниманием, разинув рот и вперив в Битцера свое подвижное око, столь же, казалось, неспособное двигаться, как и другое, выступил вперед. — Хударь, вы отлично знаете, и ваша дочь отлично знает (еще вернее вашего, потому что я говорил ей об этом), что мне неизвехтно, что натворил ваш хын, и что я и знать это не хочу; я говорил ей, что лучше мне не знать, хотя в ту пору я думал, что речь идет только о какой-нибудь шалохти. Однако раз этот молодой человек упоминает об ограблении банка, а это дело нешуточное, я тоже не могу покрывать прехтупника, как он вехьма удачно назвал это. Так что, хударь, не будьте на меня в обиде, ежели я беру его хторону, но я должен признать, что он прав, и тут уж ничего не попишешь. Могу обещать вам только одно: я отвезу вашего хына и этого молодого человека на железную дорогу, чтобы тут не было хкандала. Большего я обещать не могу, но это я выполню. Это отступничество последнего преданного друга исторгло новые потоки слез у Луизы и повергло в еще более глубокое отчаяние мистера Грэдграйнда. Но Сесси только пристально поглядела на Слири, не сомневаясь в душе, что поняла его правильно. Когда они опять гурьбой выходили на улицу, он едва заметно повел на нее подвижным оком, призывая ее отстать от других. Запирая дверь, он заговорил торопливо: — Он не охтавил тебя в беде, Хехилия, и я не охтавлю его. И еще вот что: этот негодяй из прихпешников того мерзкого бахвала, которого мои молодцы чуть не вышвырнули в окошко. Ночь будет темная; одна моя лошадь такая понятливая, — ну, разве только говорить не может; а пони — пятнадцать миль в чах пробежит, ежели им правит Чилдерх; а хобака моя, — так она хутки продержит человека на мехте. Шепни молодому шалопаю, — когда лошадь затанцует, это не беда, ничего плохого не будет, и чтобы выхматривал пони, впряженного в двуколку. Как только двуколка подъедет — чтобы прыгал в нее, и она умчит его, как ветер. Ежели моя хобака позволит тому негодяю хоть шаг хтупить, я прогоню ее; а ежели моя лошадь до утра хоть копытом шевельнет, то я ее знать не хочу! Ну, живее! Дело пошло так живо, что через десять минут мистер Чилдерс, который в домашних туфлях слонялся по рыночной площади, уже был обо всем извещен, а экипаж мистера Слири стоял наготове. Стоило посмотреть, как дрессированный пес с лаем бегал вокруг, а мистер Слири, действуя только здоровым глазом, поучал его, что он должен обратить сугубое внимание на Битцера. Когда совсем стемнело, они втроем сели в экипаж и отъехали; дрессированный пес (весьма грозных размеров), не спуская глаз с Битцера, бежал у самого колеса с той стороны, где он сидел, дабы мгновенно задержать его, в случае, если бы он проявил малейшее желание сойти на землю. Остальные трое просидели всю ночь в гостинице, терзаясь мучительной тревогой. В восемь часов утра явились мистер Слири и дрессированный пес — оба в отличнейшем настроении. — Ну вот, хударь, — сказал мистер Слири, — думаю, что ваш хын уже на борту. Чилдерх подобрал его вчера вечером через полтора чаха похле того, как мы уехали. Лошадь пляхала польку до упаду (она танцевала бы вальх, ежели бы не упряжь), а потом я подал знак, иона захнула. Когда тот негодяй объявил, что пойдет пешком, хобака ухватила его за шейный платок, повихла на нем, повалила на землю и покатала немного. Тогда он залез в коляхку и прохидел на мехте до половины хедьмого — пока я не поворотил лошадь. Мистер Грэдграйнд, понятно, горячо поблагодарил его и как можно деликатней намекнул, что желал бы вознаградить его крупной суммой денег. — Мне, хударь, денег не нужно; но Чилдерх человек хемейный, и ежели вы пожелаете дать ему бумажку в пять фунтов — что же, он, пожалуй, возьмет. А также я рад буду принять от вах новый ошейник для хобаки и набор бубенцов для лошади. И хтакан грогу я в любое время принимаю. — Он уже велел подать себе стаканчик и теперь потребовал второй. — И ежели вам не жаль угохтить мою труппу, этак по три шиллинга и шехть пенхов на душу, не хчитая хобаки, то они будут очень довольны. Все эти скромные знаки своей глубокой признательности мистер Грэдграйнд с готовностью взял на себя — хотя, сказал он, они ни в какой мере не соответствуют оказанной ему услуге. — Ну ладно, хударь. Ежели вы когда-нибудь при хлучае поддержите наш цирк, мы будем более чем квиты. А теперь, хударь, — да не похетует на меня ваша дочь, — я хотел бы на прощание молвить вам хловечко. Луиза и Сесси вышли в соседнюю комнату. Мистер Слири, помешивая и прихлебывая грог, продолжал: — Хударь, мне незачем говорить вам, что хобаки — редкохтные животные. — У них поразительное чутье, — сказал мистер Грэдграйнд. — Что бы это ни было, разрази меня гром, ежели я знаю, что это такое, — сказал Слири, — но прямо оторопь берет. Как хобака находит тебя, из какой дали прибегает! — У собаки очень острый нюх, — сказал мистер Грэдграйнд. — Разрази меня гром, ежели я знаю, что это такое, — повторил Слири, качая головой, — но меня, хударь, так находили хобаки, что я думал, уж не хпрохила ли эта хобака у другой — ты, мол, хлучайно не знаешь человека по имени Хлири? Зовут Хлири, держит цирк, полный такой, кривой на один глаз? А та хобака и говорит: «Я-то лично его не знаю, но одна моя знакомая хобака, по-моему, знает». А эта третья хобака подумала, да и говорит: «Хлири, Хлири! Иу конечно же! Моя подруга как-то хказывала мне о нем. Я могу дать тебе его адрех». Понимаете, хударь, ведь я похтоянно у публики на глазах и кочую по разным мехтам, так что, наверное, очень много хобак меня знают, о которых я и понятия не имею! Мистер Грэдграйнд даже растерялся, услышав такое предположение. — Так или этак, — сказал Слири, отхлебнув из своего стакана, — год и два мехяца тому назад мы были в Чехтере. И вот однажды утром — мы репетировали «Детей в леху» — вдруг из-за кулих на арену выходит хобака. Она, видимо, прибежала издалека, — жалкая такая, хромая и почти что охлепшая. Она обнюхала наших детей одного за другим, как будто думала найти знакомого ей ребенка; а потом подошла ко мне, из похледних хиленок подкинула задом, похтояла на передних лапах, повиляла хвохтом, да и околела. Хударь, эта хобака была Вехельчак. — Собака отца Сесси! — Ученая хобака отца Хехилии. Так вот, хударь, зная эту хобаку, я дам голову на отхечение, что хозяин ее помер и лег в могилу, прежде нежели она пришла ко мне. Мы долго худили, рядили — я, и Джозефина, и Чилдерх, — дать об этом знать или нет. И порешили: «Нет». Ежели бы что хорошее — а так, зачем зря тревожить ее и причинять горе? Хтало быть, брохил ли он ее из подлохти, или принял на хебя муку, лишь бы она не бедовала, как он, — этого, хударь, мы не узнаем, пока… пока не узнаем, как хобаки находят нах! — Она и поныне хранит бутылку с лекарством, за которым он ее послал, и она будет верить в его любовь к ней до последнего мгновения своей жизни. — Из этого можно вывехти два заключения, хударь, — сказал мистер Слири, задумчиво разглядывая содержимое своего стакана, — во-первых, что на хвете бывает любовь, в которой нет никакой личной выгоды, а как раз наоборот; и во-вторых, что такая любовь по-хвоему раххчитывает или, вернее, не раххчитывает, а как она это делает, понять ничуть не легче, нежели удивительные повадки хобак! Мистер Грэдграйнд молча смотрел в окно. Мистер Слири допил грог и позвал Луизу и Сесси. — Хехилия, дорогая моя, поцелуй меня и прощай! Михх Луиза, отрадно видеть, как вы ее за хехтру почитаете, и от души любите, и доверяете ей. Желаю вам, чтобы ваш брат в будущем был дохтойнее вах и не причинял вам больше огорчений. Хударь, позвольте пожать вашу руку, в первый и похледний раз! Не презирайте нах, бедных бродяг. Людям нужны развлечения. Не могут они наукам учиться без передышки, и не могут они вечно работать без отдыха; уж такие они от рождения. Мы вам нужны, хударь. И вы тоже покажите хебя добрым и хправедливым, — ищите в нах доброе, не ищите худого! — И в жизни хвоей я не думал, — сказал мистер Слири, еще раз приоткрыв дверь и просовывая голову в щель, — что я такой говорун!
Глава IX
ЗаключениеНет ничего опаснее, как обнаружить что-нибудь касающееся тщеславного хвастуна, прежде нежели хвастун сам это обнаружит. Мистер Баундерби считал, что со стороны миссис Спарсит было наглостью лезть вперед и пытаться выставить себя умнее его. Он не мог простить ей завершенное с таким блеском раскрытие тайны, витавшей вокруг миссис Пеглер, и мысль о том, что это позволила себе женщина в зависимом от него положении, постоянно вертелась в его голове, разрастаясь с каждым оборотом, как снежный ком. В конце концов он пришел к выводу, что если он рассчитает столь высокородную особу и, следственно, повсюду сможет говорить: «Это была женщина из знатной семьи, и она не хотела уходить от меня, но я не пожелал оставить ее и выпроводил вон», — то это будет вершина той славы, которую он извлек из своего знакомства с миссис Спарсит, а заодно она понесет заслуженную кару. Распираемый этой блестящей идеей, мистер Баундерби уселся завтракать в своей столовой, где, как в былые дни, висел его портрет. Миссис Спарсит сидела у камина, сунув ногу в стремя, не подозревая о том, куда она держит путь. Со времени дела Пеглер сия высокородная леди прикрывала жалость к мистеру Баундерби дымкой покаянной меланхолии. В силу этого лицо ее постоянно выражало глубокое уныние, и такое именно унылое лицо она теперь обратила к своему принципалу. — Ну, что случилось, сударыня? — отрывисто и грубо спросил мистер Баундерби. — Пожалуйста, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — не накидывайтесь на меня, как будто вы намерены откусить мне нос. — Откусить вам нос, сударыня? Ваш нос? — повторил мистер Баундерби, явно давая понять, что для этого нос миссис Спарсит слишком сильно развит. Бросив сей язвительный намек, он отрезал себе корочку хлеба и так швырнул нож, что он загремел о тарелку. Миссис Спарсит вытащила ногу из стремени и сказала: — Мистер Баундерби, сэр! — Да, сударыня? — вопросил мистер Баундерби. — Что вы на меня уставились? — Разрешите узнать, сэр, — сказала миссис Спарсит, — вас что-нибудь рассердило нынче утром? — Да, сударыня. — Разрешите осведомиться, сэр, — продолжала миссис Спарсит с обидой в голосе, — уж не я ли имела несчастье вызвать ваш гнев? — Вот что я вам скажу, сударыня, — отвечал Баундерби, — я здесь не для того, чтобы меня задирали. Какое бы знатное родство ни было у женщины, нельзя ей позволить отравлять жизнь человеку моего полета, и я этого не потерплю (мистер Баундерби стремительно шел к своей цели, ибо предвидел, что если дело дойдет до частностей, то ему несдобровать). Миссис Спарсит сперва вздернула, потом нахмурила кориолановские брови, собрала свое рукоделие, уложила его в рабочую корзинку и встала. — Сэр, — величественно произнесла она, — мне кажется, что в настоящую минуту мое присутствие вам неугодно. Поэтому я удаляюсь в свои покои. — Разрешите отворить перед вами дверь, сударыня. — Не трудитесь, сэр; я могу и сама отворить ее. — А все-таки разрешите это сделать мне, — сказал Баундерби, подходя мимо нее к двери и берясь за ручку. — Я хочу воспользоваться случаем и сказать вам несколько слов, прежде нежели вы уйдете. Миссис Спарсит, сударыня, мне, знаете ли, сдается, что вы здесь слишком стеснены. Я так полагаю, что под моим убогим кровом мало простора для вашего несравненного дара вынюхивать чужие дела. Миссис Спарсит окинула его презрительным взором и чрезвычайно учтиво сказала: — Вот как, сэр? — Я, видите ли, сударыня, поразмыслил над этим после недавних происшествий, — продолжал Баундерби, — и по моему скромному разумению… — О, прошу вас, сэр, — прервала его миссис Спарсит почти весело, — не умаляйте своего разумения. Всем известно, что мистер Баундерби никогда не совершает ошибок. Каждый мог в этом убедиться. Вероятно, повсюду только о том и говорят. Можете умалять любые свои качества, сэр, но только не свое разумение, — громко смеясь, сказала миссис Спарсит. Мистер Баундерби, красный и смущенный, продолжал: — Так вот, сударыня, я полагаю, что пребывание в чьем-либо другом доме лучше подойдет особе, наделенной столь острым умом, как ваш. Скажем, к примеру, в доме нашей родственницы, леди Скэджерс. Как вы считаете, сударыня, найдутся там дела, в которые стоило бы вмешаться? — Такая мысль никогда не приходила мне в голову, сэр, — отвечала миссис Спарсит, — но теперь, когда вы упомянули об этом, я готова согласиться с вами. — Тогда, быть может, вы так и поступите, сударыня? — сказал Баундерби, засовывая в ее корзиночку конверт с вложенным в него чеком. — Я вас не тороплю, сударыня; но, быть может, в оставшиеся до вашего отбытия дни столь одаренной, как вы, особе приятнее будет вкушать свои трапезы в уединении и без помех. Я, откровенно говоря, и то чувствую себя виноватым перед вами, — я ведь всего только Джосайя Баундерби из Кокстауна, и так долго навязывал вам свое общество. — Можете не извиняться, сэр, — возразила миссис Спарсит. — Ежели бы этот портрет умел говорить, — но он выгодно отличается от оригинала тем, что не способен выдавать себя и внушать другим людям отвращение, — он рассказал бы вам, что много времени протекло с тех пор, как я впервые стала, обращаясь к нему, называть его болваном. Что бы болван ни делал — это никого не может ни удивить, ни разгневать; действия болвана могут вызвать только пренебрежительный смех. С такими словами миссис Спарсит, чьи римские черты застыли наподобие медали, выбитой в память ее безмерного презрения к мистеру Баундерби, окинула его сверху вниз уничтожающим взглядом, надменно проследовала мимо него и поднялась к себе. Мистер Баундерби притворил дверь и стал перед камином, как встарь, раздувшись от спеси, вглядываясь в свой портрет… и в грядущее. Многое ли открылось его взору? Он увидел, как миссис Спарсит, пуская в ход весь запас колющего оружия из женского арсенала, день-деньской сражается с ворчливой, злобной, придирчивой и раздражительной леди Скэджерс, все так же прикованной к постели по милости своей загадочной ноги, и проедает свои скудные доходы, которые неизменно иссякают к середине квартала, в убогой, душной каморке, где и одной-то не хватало места, а теперь было тесно, как в стойле. Но видел ли он более того? Мелькнул ли перед ним его собственный образ, видел ли он самого себя, превозносящим перед посторонними Битцера, этого многообещающего молодого человека, который столь горячо почитает несравненные достоинства своего хозяина и теперь занимает должность Тома-младшего, после того как он чуть не изловил самого Тома-младшего в ту пору, когда некий мерзавцы увезли беглеца? Видел ли, как он, одержимый тщеславием, составляет завещание, согласно которому двадцать пять шарлатанов, достигшие пятидесяти пяти лет, нарекшись Джосайя Баундерби из Кокстауна, должны постоянно обедать в клубе имени Баундерби, проживать в подворье имени Баундерби, сквозь сон слушать проповеди в молельне имени Баундерби, кормиться за счет фонда имени Баундерби и пичкать до тошноты всех людей со здоровым желудком трескучей болтовней и бахвальством в духе Баундерби? Предчувствовал ли он, хотя бы смутно, что пять лет спустя настанет день, когда Джосайя Баундерби из Кокстауна умрет от удара на одной из кокстаунских улиц, и начнется долгий путь этого бесподобного завещания, отмеченный лихоимством, хищениями, подлогами, пустопорожней суетой, человеческой гнусностью и юридическим крючкотворством? Вероятно, нет. Но портрету его суждено было стать тому свидетелем. В тот же день и в тот же час мистер Грэдграйнд сидел задумавшись в своем кабинете. Многое ли он провидел в грядущем? Видел ли он себя седовласым дряхлым стариком, старающимся приноровить свои некогда непоколебимые теории к предопределенным жизнью условиям, заставить факты и цифры служить вере, надежде и любви, не пытаясь более перемалывать этих благостных сестер на своей запыленной убогой мельнице? Чуял ли он, что по этой причине он навлечет на себя осуждение своих недавних политических соратников? Предугадывал ли, как они — в эпоху, когда окончательно решено, что государственные мусорщики имеют дело только друг с другом и не связаны никаким долгом перед абстракцией, именуемой Народом, — пять раз в неделю, с вечера и чуть ли не до рассвета, будут язвительно упрекать «достопочтенного джентльмена» в том, в другом, в третьем и невесть в чем? Вероятно, да, ибо хорошо знал их.

В тот же день, под вечер, Луиза, как в минувшие дни, смотрела в огонь, но в лице ее теперь было больше доброты и смирения. Много ли из того, что сулило ей грядущее, вставало перед ее мысленным взором? Афиши по городу, скрепленные подписью ее отца, где он свидетельствовал, что с доброго имени покойного Стивена Блекпула, ткача по ремеслу, смывается пятно несправедливых наветов и что истинный виновник его, Томаса Грэдграйнда, родной сын, которого он просит не осуждать слишком сурово, ввиду его молодости и соблазна легкой поживы (у него не хватило духу прибавить «и полученного воспитания»), — это все было в настоящем. И камень на могиле Стивена Блекпула с надписью, составленной ее отцом, объясняющей его трагическую гибель, — это было почти настоящее, ибо она знала, что так будет. Все это она видела ясно. Но что мелькало перед ней впереди? Женщина по имени Рейчел, которая после долгой болезни опять по зову колокола появляется на фабрике и в одни и те же часы проходит туда и обратно вместе с толпой кокстаунских рабочих рук; ее красивое лицо задумчиво, она всегда одета в черное, но нрав у нее тихий, кроткий, почти веселый; во всем городе, видимо, только она одна жалеет несчастное спившееся созданье, которое иногда останавливает ее на улице и со слезами просит подаяния; женщина, которая знает только работу, одну работу, но не тяготится ею, а считает такой жребий естественным и готова трудиться до тех пор, пока старость не оборвет ее труд. Видела ли это Луиза? Этому суждено было статься. Брат на чужбине, в тысячах миль от нее, письма со следами слез, в которых он признается, что очень скоро понял, сколько правды было в ее прощальных словах, и что он отдал бы все сокровища мира, лишь бы еще раз взглянуть на ее милое лицо. Затем, долгое время спустя, весть о возвращении брата на родину, его страстная надежда на свидание с ней, задержка в пути из-за внезапной болезни, а потом письмо, написанное незнакомым почерком, сообщающее, что «он умер в больнице от лихорадки в такой-то день, преисполненный раскаяния и любви к вам, умер с вашим именем на устах». Видела ли это Луиза? Этому суждено было статься. Новое замужество, материнство, счастье растить детей, нежная забота о том, чтобы они были детьми не только телом, но и душой, ибо духовное детство еще более великое благо и столь бесценный клад, что малейшие крохи его — источник радости и утешения для мудрейших из мудрых. Видела ли это Луиза? Этому не суждено было статься. Но любовь к ней счастливых детей счастливой Сесси; любовь к ней всех детей; глубокое знание волшебного мира детских сказок, всех этих столь милых и безгрешных небылиц; ее усилия лучше понять своих обездоленных ближних, скрасить их жизнь, подвластную машинам и суровой действительности, всеми радостями, которые дарит нам воображение и без которых вянет сердце младенчества, самая могучая мужественность нравственно мертва и самое очевидное национальное процветание, выраженное в цифрах и таблицах, — только зловещие письмена на стене[65]; усилия не ради данной из причуды клятвы или взятого на себя обязательства, не по уставу какого-нибудь союза братьев или сестер, не по обету или обещанию и не ради новой моды или филантропической суеты, а просто из чувства долга, — видела ли Луиза все это? Этому суждено было статься. Друг читатель! От тебя и от меня зависит, суждено ли это и нам на твоем и на моем поприще. Да будет так! Тогда и ты и я с легким сердцем, сидя у камелька, будем смотреть, как наш угасающий огонь подергивается серым, холодным пеплом.
Конец

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ (1850–1859)
СОЧИНИТЕЛЬ ПРОСИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ
Он ежегодно загребает в Соединенном Королевстве такую уйму денег денег, которые должны бы пойти на благие и полезные дела, — сколько не составит и налог на окна[66]. В наши дни он — чуть ли не самая бесстыдная разновидность мошенника и плута. Лживый ленивец, он наносит неизмеримый вред достойным, так как мутит источник чистосердечной благотворительности и сбивает с толку недалеких судей, не давая им отличить фальшивую кредитку горя от его полноценной монеты, всегда имеющей среди нас широкое хождение; он, право же, больше заслуживает отправки на остров Норфолк, чем три четверти ссылаемых туда самых злостных преступников. При сколько-нибудь разумной системе он и был бы давным-давно туда сослан. Я, пишущий эти строки, был одно время главным адресатом, облюбованным авторами просительных писем. В течение четырнадцати лет такого рода обращения поступали в мой дом столь же регулярно, как поступает вся прочая корреспонденция в какое-нибудь крупное почтовое отделение. Так что я знаю толк в сочинителе просительных писем. Он осаждал мою дверь во всякий час дня и ночи; он сражался с моим слугой; он выжидал в засаде моего ухода и прихода; он ездил за мною следом за город; он появлялся в провинциальных гостиницах, где я останавливался всего на два-три часа; он мне писал из невообразимой дали, когда я жил за границей. Он заболевал; он умирал и бывал похоронен; он воскресал и снова оставлял наш бренный мир; он делался своим собственным сыном, собственной матерью, собственным младенцем, своим слабоумным братом, своим дядей, своею тетей, своим престарелым дедушкой. Он нуждался в шинели, в которой поедет в Индию; в одном фунте стерлингов, который даст ему обеспеченное существование до конца его дней; в паре башмаков, которые примчат его к берегам Китая; в шляпе, которая утвердит его на постоянной государственной службе. Ему нередко не хватало ровно семи с половиной шиллингов для полной независимости. Перед ним открывались в Ливерпуле такие возможности — пост доверенного лица при том или другом крупном торговом доме, — достать бы только семь с половиной шиллингов, и место за ним! — что можно только удивляться, как он не стал к настоящему времени мэром этого процветающего города. Он оказывался жертвой явлений природы, противных всем законам естества. У него народилось двое детей, которые так и не выросли; которым вечно нечем было укрываться по ночам; которые непрестанно сводили его с ума, напрасно требуя пищи; которые не вылезали из горячки и кори (почему, надо думать, он и прокуривал для дезинфекции свое письмо табачным дымом); которые никогда ни в чем и ни на сколько не менялись за все четырнадцать истекших лет. А его жена — одному богу известно, чего только не натерпелась эта мученица! Тот же долгий срок она непрестанно была в интересном положении, но так и не разрешилась от бремени. Он ей неизменно предан. Никогда он не тревожился за самого себя: что в том, если он погибнет сам — он даже готов погибнуть, — но разве христианский долг мужчины, мужа, отца, не повелевает ему, когда он глядит на нее, писать просительные письма? (Обычно он тут же вскользь добавлял, что вечером зайдет выслушать ответ на этот свой вопрос.) Он был игралищем самых странных несчастий. Его брат учиняет над ним такое, что хоть у кого разорвалось бы сердце. Брат вступил с ним в дело и сбежал с деньгами; брат занял под его поручительство огромную сумму и предоставил ему расплачиваться; брат соблазняет его местом на несколько сот фунтов в год — на условии, что он согласится писать письма в воскресный день; брат проповедует правила, несовместимые с его религиозными воззрениями, а потому он вынужден отклонять помощь, которую тот мог бы ему оказать. Владелец дома, у которого он квартирует, лишен всякого проблеска человечности. Когда он впервые наложил арест на его имущество, я не знаю, но арест не снят по сей день. Помощник судебного пристава поседел, дежуря у него. Они его вгонят в могилу — и похоронят за счет прихода. Он перепробовал все виды занятий, о каких только можно помыслить. Был и в армии, и во флоте, и священником, и юристом; подвизался и в печати и в изящных искусствах, служил в общественных учреждениях, перепробовал все какие ни на есть профессии. Он воспитывался как джентльмен; учился во всех колледжах Оксфорда и Кембриджа;[67] он умеет щегольнуть в письме латинской цитатой (но, случается, неправильно напишет иное коротенькое английское слово); он может сообщить вам, как высказался о просителях Шекспир — о чем вы, верно, и не подозревали. Примечательно, что, преследуемый бедствиями, он все же всегда успевает читать газеты; и свои обращения заканчивает намеком на что-либо такое в злобе дня, что, по его соображениям, должно меня волновать. Его жизнь являет ряд несообразностей. Бывает, что он никогда раньше не писал таких писем. Он сгорает со стыда. Пишет в первый раз. И, конечно, в последний. Вы можете не отвечать, и тогда, как вам дают понять, он тихо покончит с собой. А бывает (и гораздо чаще), что он уже разослал несколько подобных писем. В этом случае он вкладывает в письмо ответы, с упоминанием, что они для него неоценимо дороги, и с настоятельной просьбой аккуратно возвратить их. Он это любит — непременно что-нибудь вложит: стихи, полученные письма, ломбардную квитанцию — чтобы вынудить у вас ответ. Он очень строго отзывается о "баловне судьбы", который отказал ему в полсоверене, как явствует из вложения номер два, но он знает, что я не из таких. Он пишет разнородными стилями; иногда в унылом тоне; иногда прямо-таки шутливо. Когда он в унынии, строки идут у него под уклон и повторяются одни и те же слова — мелкие признаки, долженствующие указывать на смятение духа. Когда весел, он со мною откровенничает, он славный малый. Я же знаю человеческую природу — уж кому и знать, как не мне! Ну так вот. Были у него в свое время кое-какие деньги, и он их спустил — как случалось многим до него. Он замечает, что старые друзья теперь от него отвернулись, — с этим тоже многим до него случалось познакомиться! Сказать, почему он пишет мне? Потому что с меня он не в праве ничего требовать. Других оснований у него нет; и он просто просит меня (так как я знаю человеческую природу!) дать ему в долг два соверена, которые он вернет не позже как через шесть недель во вторник к двенадцати дня. Временами (когда он уверен, что я его раскусил и денег с меня не получить) он извещает меня письмом, что, наконец, я от него избавился: он завербован на военную службу при Ост-Индской компании и вот-вот уедет, но ему нужен… сыр. Сержант разъяснил ему, что это очень важно: если он хочет, чтобы его хорошо приняли в полку, нужно прихватить с собой круг глостерского сыра, фунтов на пятнадцать. Цена ему — восемь-девять шиллингов. После того что было, он денег не просит. Но может ли он рассчитывать, что завтра, когда он зайдет в девять часов утра, он получит круг сыра? И не будет ли у меня поручений в Бенгалию? Он из благодарности охотно их исполнит. Однажды он мне написал довольно оригинальное письмо, прося оказать ему помощь натурой. У него вышла маленькая неприятность, когда он под видом рассыльного с вокзала разносил по домам куски глины, упакованные в оберточную бумагу, и брал плату за доставку. Эту свою остроумную выдумку он искупил в исправительном доме. Выйдя на свободу, он вскоре, в одно воскресное утро (предварительно пропылившись с ног до головы), явился ко мне с письмом, в котором давал мне понять, что решил честно зарабатывать свой хлеб: завел тележку и стал разъезжать по деревням с гончарным товаром. Дело шло неплохо до вчерашнего дня, когда в Кенте, близ Чатама[68] у него пала лошадь. Это его поставило перед досадной необходимостью самому впречься в оглобли и прикатить тележку с гончарным товаром в Лондон — нелегкий конец в тридцать миль! Просить снова денег он не отважится; но если я, как добрый человек, не откажусь снабдить его ослом, он придет за ним завтра утром, до первого завтрака. В другой раз мой приятель (я описываю подлинные происшествия) представился литератором, впавшим в крайнюю нужду. У него приняли в таком-то театре пьесу — и такой театр в самом деле существует; но представление его пьесы откладывается из-за болезни ведущего актера — который в самом деле захворал; а он с семьей теперь просто голодает. Если он откроет свои отчаянные обстоятельства владельцу театра, то я же понимаю сам, на какое обхождение может он тогда рассчитывать… Отлично! Эту задачу мы разрешили к нашему взаимному удовлетворению. Прошло немного времени, и его опять прижало. Кажется, миссис Сауткот, его жена, была при смерти — и это дело мы тоже уладили. Прошло еще немного времени; он переехал на другую квартиру и оказался на пороге гибели, оттого что у него не было бочки для воды. К бочке я отнесся с недоверием и не ответил на письмо. Но прошло совсем немного времени, и мне пришлось раскаяться в своем небрежении. Он написал мне несколько душераздирающих строк, сообщая, что дорогая подруга его горестных дней умерла у него на руках накануне вечером, в девять часов! Я отправил доверенного посланца утешить скорбного вдовца и его бедных сирот; но посланец собрался так быстро, что сцену не успели подготовить: моего приятеля он не застал дома, а его жена пребывала в добром здоровье. Он был задержан (как выяснилось впоследствии, без соблюдения должных формальностей) Обществом борьбы с нищенством, и меня вызвали в полицию, где я дал свои показания. Судья был восхищен его высокой образованностью, умилен прекрасным слогом его писем, сокрушался, что видит здесь перед собой человека таких высоких совершенств, расхвалил его сочинительский дар и отпустил его с миром, сказав, что счастлив исполнить столь приятную обязанность. В пользу "бедного малого" провели денежный сбор, и я вышел из суда с приятным чувством, что все на меня смотрят как на некое чудовище. На другой день ко мне пришел один мой знакомый, смотритель большой тюрьмы. — Зачем вы обратились по поводу этого субъекта в полицию, — говорит он, — а не зашли наперед ко мне? Я отлично знаю и его и все его проделки. Он жил на дому у одного из моих сторожей, когда писал вам в первый раз; ел он тогда молочную телятину по восемнадцать пенсов фунт и раннюю спаржу — уже не скажу вам почем пучок. В тот самый день и в тот самый час оскорбленный мною господин строчил торжественное обращение, вопрошая меня, какое я предполагаю выдать ему возмещение за ночь, проведенную им в "мерзостном узилище". А на другое утро некий ирландский джентльмен, член того же братства, читавший об этом случае и уверенный, что я поостерегусь обратиться снова в ту же полицейскую часть, нипочем не соглашался оставить мой дом меньше чем за соверен и не снимал осады, буквально "засев" в дверях на добрых десять часов. Располагая достаточным запасом провианта, гарнизон не выходил из дому, и противник снял осаду в полночь, на прощание грозно позвонив в звонок. Проситель, пишущий письма, часто имеет широкий круг знакомств. К его услугам целые страницы "Придворного календаря"[69] — ссылайся на любое имя. Знатные и даже титулованные лица пишут заверения, что не было на земле человека столь честного и добродетельного. Они его знают с незапамятных времен и готовы сделать ради него все на свете. Почему-то они отказали ему в одном фунте и десяти шиллингах, которые ему сейчас до крайности нужны; впрочем, это же такая мелочь, они, вероятно, хотят сделать для него больше, но его скромность этого не допустит. Что и говорить, его профессия очень привлекательна. Он никогда ее не бросит; и все, с кем он вступает в соприкосновение, загораются любовью к ней и рано или поздно берутся зато же ремесло. Он нанимает посыльного — мужчину, женщину или ребенка. Этот посыльный непременно становится сам просителем, пишущим письма. Его сыновья и дочери унаследуют его профессию и будут писать просительные письма, когда его не станет. Он распространяет вокруг себя заразу писания просительных писем, как прилипчивую болезнь. То, что Сидней Смит так удачно назвал "опасной роскошью нечестности"[70], оказалось в этом случае более заманчивым, чем во всяком другом, и как видно наиболее заразительным. Он всегда принадлежит к тайному сообществу просителей, пишущих письма. Каждый может при желании удостовериться, что это так. Дайте сегодня деньги, поверив письму — пусть ни мало не похожему на обычные письма просителей, — и на вас две недели будет извериться ливень таких обращений. Неизменно отказывайтесь давать, и просительные письма станут редки, как посещение ангела, — разве что по той или другой причине дела у сообщества пойдут вяло и оно попробует подступиться к вам, как и ко многим другим. Бесполезно докапываться до истинных обстоятельств просителя. Иногда случайно удается вывести его на чистую воду, как было в рассказанном нами случае (впрочем, и там это удалось не с первой попытки); но видимая нищета всегда составляет необходимую черту его промысла, а нищета доподлинная — очень часто, в промежутках между полосами, когда он ест молочную телятину и раннюю спаржу. Они, разумеется, только случайность в его беспорядочной и бесчестной жизни. Что профессия эта процветает и что ею люди добывают большие деньги, должно быть очевидно для каждого, кто читает полицейские отчеты о подобных случаях. Но наказание они несут лишь крайне редко — если сопоставить с тем, сколь широко распространен этот промысел. А в чем причина? Как знает лучше всех сам сочинитель просительных писем (отчасти на том и построивший свой расчет), искать ее следует в нашем нежелании открыто признаваться, что мы попались на обман — или что мы по слабости душевной идем на сделку со своею совестью и вместо благороднейшей из добродетелей довольствуемся ее ленивой, дешевой подменой. В настоящее время, в час, когда готовится к опубликованию эта статья (29 апреля 1850 года), разгуливает на свободе — и еще ни разу не был арестован — человек, показавший себя за истекший год, верно, самым дерзким и самым преуспевающим мошенником, какого только знала даже эта профессия. В его образе действий было нечто особенно подлое. Он прибегал к такому способу: писал письма людям всех званий и всех состояний от лица того или другого человека самого доброго имени и незапятнанной чести, признаваясь, что находится будто бы в стесненных обстоятельствах; всеобщее восторженное уважение к тому человеку обеспечивало безотказный и щедрый отклик. Теперь, в надежде, что действительно испытанное действительным лицом вернее заставит людей задуматься над этим вопросом, чем любой отвлеченный трактат; и к тому же превосходно зная по себе, в каких размерах ведется в последнее время промысел нищенства посредством писем — и как он в последнее время непрестанно расширяется, — автор настоящей статьи просит у читателей внимания для нескольких заключительных слов. Изведанное им — не единичный случай, то же было изведано многими; одними в меньшей мере, другими в большей. Каждый может сам судить, разумны или неразумны сделанные автором выводы. Автора давно смущало сомнение, получается ли хоть изредка толк от помощи такого рода. Из всего своего личного опыта он помнит один-единственный случай, когда у него были потом хоть небольшие основания предполагать, что такая помощь послужила к добру; а этой осенью ему пришлось сильно призадуматься. Письма просителей прилетали с каждой почтой; становилось совершенно очевидным, что шайка изленившихся бездельников встала между желанием людей что-то сделать в облегчение нищеты и болезней, от которых страдают бедняки, и самими страдающими бедняками. Что многие из тех, кто рад сделать кое-что в исправление общественного зла, лежащего на бедняках бременем болезней и смерти, вполне предотвратимых, на деле только укрепляют это зло (пусть самым невинным образом), расточая деньги на назойливых плутов, сидящих на шее у общества. Что воображение — трезво проследовав за одним из этих плутов в тюрьму, где он отбывает наказание, и сравнив его жизнь в тюрьме с жизнью какого-нибудь бедняка в тесном переулке, пораженном холерой, или с судьбою детей такого бедняка, утешенных в их смертный час покойным мистером Друэтом[71], - увидит жестокий фарс, которому немыслимо разыгрываться еще сколько-нибудь долго перед богом и людьми! Что изо всех чудес, о каких свидетельствует Новый завет, после чуда с прозревшим слепцом и отбросившим посох хромым и возвращением умершего к жизни, венчающим явилось чудо проповеди евангелия перед бедными. И становилось очевидным, что в то время как тысячи бедняков напрасно и наперекор природе погибают в своей преждевременной старости или увядшей юности (такая юность не знает расцвета!) — евангелие, если проповедуется им, то пустым, невыразительным голосом. Что изо всех зол — это первое и самое тяжкое зло, о котором предостерегает нас недавняя эпидемия, призывая исправить его. И что почтовая квитанция на какую угодно сумму, ради успокоения совести посланную просителю в ответ на его письмо, будет отвергнута, когда мы предъявим ее в день Страшного суда. Никогда бедняки не пишут таких писем. Это, как ничто другое, чуждо их обычаю. Письма пишут воры, грабящие общество; и поддерживая их, мы становимся соучастниками ограбления. Прознав о каком-либо обстоятельстве, могущем нас взволновать — личном ли или общественном, радостном или печальном, — они спешат извлечь из него выгоду; они извращают уроки, преподанные нам жизнью; то, что могло бы стать нашей силой и добродетелью, они обращают в слабость, в потакание пороку. Есть против этого простое средство — и оно в наших руках. Мы должны решиться, поступившись собственной чувствительностью, стать глухими к таким обращениям и задушить этот промысел. Убийство бывает и постепенным. Жизнь должна быть священна для нас, но ограждать ее нужно не в одном каком-то отношении — не только от смертоносного оружия или от тонкого яда, или от жестокого удара: нужно по возможности ограждать ее от болезней, от калечения и страданий. Вот первая большая цель, ради которой мы должны бороться с этим жалким плутовством. Надо жизнь уважать — физическую жизнь человека, а затем и духовную. На те деньги, которых рассылающему письма просителю не достало бы и на неделю, можно целый год обучать в школе десятка два детей. Будем отдавать все, что только можем; будем больше отдавать, чем давали раньше. Будем делать все, что только можем; будем больше делать, чем делали раньше. Но будем и давать и делать ради высокой цели; а не швырять подонкам человечества — к вящему их развращению — отбросы взамен тех даяний, которых требует долг.
ПРОГУЛКА ПО РАБОТНОМУ ДОМУ
Однажды в воскресенье я присутствовал на богослужении в церкви большого столичного работного дома. Кроме священника, причетника и еще очень немногих лиц из начальства, здесь были одни только пауперы. Дети сидели на галереях; женщины — внизу, в зале и в одном из боковых приделов; мужчины в другом приделе. Служба прошла пристойно, хотя проповедь могла быть гораздо лучше приноровлена к пониманию и условиям жизни слушателей. Священник вознес обычные молитвы (которые в таком месте приобретали большее, чем обычно, значение) за сирот и вдов, за всех болящих — взрослых и детей, — за всех обездоленных и угнетенных; за ниспослание помощи и утешения всем слабым духом и очищения всем согрешившим; за всех, кто в опасности, внужде и в горе. Пастве было предложено помолиться об исцелении тяжелобольных, находящихся в лазарете, а те, что уже поправлялись после болезни, воздавали благодарение небу. Среди присутствующих было несколько молодых женщин отталкивающего вида и мрачных молодых мужчин; но их было немного — видимо, личности этого рода держатся подальше от молений. Большинство лиц (кроме детских), подавленные и приниженные, были лишены красок. Много было стариков самого различного вида. Что-то бормочущие, с мутным взором, в очках, слабоумные, глухие, хромые; они растерянно моргали, когда солнечный луч пробивался порой в открытые двери с замощенного двора, приставляли иссохшие руки к ушам или подносили их козырьком к подслеповатым глазам; одни уставились в молитвенники, другие улыбались неизвестно чему или дремали, сгорбившись и привалившись к стене. Тут были зловещие старухи — скелеты в чепцах и накидках, — то и дело утиравшие глаза грязными тряпочками взамен носового платка; были и уродливые старые чудища обоего пола с выражением какого-то идиотического блаженства, от которого становилось не по себе. В общем, грозный дракон Пауперизма предстал здесь в весьма беспомощном виде: без зубов, без когтей, с тяжелой одышкой, — такого явно не стоило заковывать в цепи. Когда служба закончилась, я вместе с теми гуманными и благочестивыми джентльменами, которые были обязаны совершить эту прогулку в это воскресное утро, прошел через весь мирок бедности, заключенный в стенах работного дома. Там проживало полторы-две тысячи пауперов — от новорожденного младенца и тех, кто еще даже не явился в мир пауперов, до старика, лежавшего на смертном одре. В комнате, выходившей на убогий двор, где бродили несколько безучастных ко всему женщин, пытаясь согреться под неверным солнцем позднего мартовского утра — это была, если уж говорить правду, "Чесоточная палата", — у запыленного очага торопливо натягивала на себя платье женщина, каких не раз рисовал Хогарт[72]. То была сиделка этой отвратительной палаты, из числа призреваемых бедняков, худосочная, костлявая, неопрятная, словом, самая неприглядная на вид. Но когда мы заговорили с нею о вверенных ей больных, она отвернулась, так и не успев одеться, и вдруг заплакала горючими слезами. Тут не было ни притворства, ни раздражения, ни попыток разжалобить нас, ни слезливой чувствительности — это был вопль души, терзаемой большим горем. Отвернув от нас взлохмаченную голову, она горько рыдала, ломала руки и захлебывалась слезами. Что же случилось с няней Чесоточной палаты? О, "подкидыш" умер! Подобранный на улице ребенок, который был отдан на ее попечение, умер час тому назад. Вон он лежит под простыней. Деточка моя, красавчик ты мой! Подкидыш был, казалось, слишком мал и жалок, чтобы смерть могла принять его всерьез, но смерть все-таки его взяла. Крохотное тельце было уже тщательно обмыто, убрано и положено на сундук; ребенок как будто спал. А мне казалось, что я слышу небесный голос: "Благо тебе будет, няня Чесоточной палаты, когда какая-нибудь менее жалостливая сиделка из пауперов обрядит так же и твое холодное тело. Благо тебе будет — ибо такие, как этот подкидыш, станут ангелами и узрят лик отца небесного". В другой комнате несколько уродливых старух скорчились, как ведьмы, вокруг печки, болтая и кивая головами по-обезьяньи. "Ну как, все в порядке? Пищи достаточно?" Все заговорили разом и захихикали; наконец одна вызвалась ответить: "О да, джентльмен! Спасибо вам, джентльмен! Господь да благословит приход святого Имярек! Он кормит голодных, поит жаждущих и согревает озябших, да, да! Дай бог здоровья приходу святого Имярек и благодарим вас, джентльмены!" Подальше сидели за обедом несколько надзирательниц-пауперов. "Ну, а как вы поживаете?" — "Да что ж, сэр, неплохо. Что нам делается — мы как солдаты, весь век в трудах". В другой комнате, своего рода чистилище или перевалочном пункте, находилось примерно восемь шумных сумасшедших женщин под наблюдением одной нормальной смотрительницы. Среди них была девушка лет двадцати двух или трех, очень чисто одетая, очень приличной наружности, с хорошими манерами, доставленная сюда из дома, где работала прислугой (как видно, близких у нее не было), на том основании, что она подвержена эпилептическим припадкам; после особенно сильного припадка хозяева потребовали ее отправки. Она нисколько не походила ни по воспитанию, ни по жизненному опыту, ни по душевному состоянию на тех, кто ее теперь окружал. Она горько жаловалась, что от общения с этими женщинами днем и от страшного шума, который они поднимают по ночам, ей стало хуже, и это сводит ее с ума — что было совершенно очевидно. Этот случай был отмечен для расследования и исправления ошибки, а между тем, по словам девушки, она пробыла здесь уже несколько недель. Если бы эта девушка украла у своей хозяйки часы, я не сомневаюсь, что с ней обошлись бы несравненно лучше. Мы пришли к такому нелепому, такому опасному, такому чудовищному положению, что бесчестный преступник поставлен в лучшие условия в отношении чистоты жилища, порядка, питания и удобств, чем честный бедняк. Это говорится не в упрек работному дому прихода св. Имярек, где я, наоборот, нашел многое достойное похвалы. Было очень отрадно видеть, что в этом доме дети пауперов здоровы и веселы и, по-видимому, окружены заботой. Как было не вспомнить, по контрасту, гнусное и жестокое безобразие, совершенное в Тутинге[73], безобразие, которое и через сто лет будет жить в памяти людей в самых глухих закоулках Англии и которое породило больше мрачного недовольства и подозрительности у многих тысяч людей, чем могли бы сделать лидеры чартистов в течение всей своей жизни. А в здешнем приюте большой, светлой, хорошо проветриваемой комнате на верхнем этаже здания дети, сидевшие за обедом и с аппетитом поедавшие картошку, не смутились при виде посторонних посетителей и протянули нам для пожатия свои ручонки с доверчивостью, очень порадовавшей нас. Отрадно было видеть также, что в углу встали на дыбы две, хоть и потрепанные, пауперские лошадки-качалки. В классах для девочек, где тоже в это время обедали, все имело веселый и опрятный вид. У мальчиков, когда мы пришли, обед только что закончился, и комната еще не совсем была убрана; но мальчики свободно гуляли по большому двору, на свежем воздухе, как любые школьники. Некоторые из них рисовали большие корабли на стенах класса; если бы они имели, к тому же, мачту с вантами и штагами для упражнения в лазаний (как в мидлсекском исправительном доме), было бы еще лучше. Теперь же, если мальчик почувствует стремление ввысь, он, вероятно, может удовлетворить его только так, как удовлетворяют пауперы, мужчины и женщины, свои мечты о лучшей доле — разбивая как можно больше стекол в окнах работного дома; за это они получают повышение: попадают в тюрьму. В одном месте, в Ньюгете работного дома[74], содержалась в заключении, отдельно от всех остальных, в каком-то дворике группа мальчиков и юношей. День они проводили в подобии собачьей конуры, где некогда ночевали на соломе случайно забредшие сюда нищие бродяги. Некоторые из них уже довольно давно здесь содержатся. "И они никогда отсюда не уходят?" — задали мы естественный вопрос. "Большинство из них калеки, — сказал надзиратель, — и ни к чему не пригодны". Они бродили крадучись, словно волки или гиены, потерявшие надежду на добычу, и бросались на пишу, когда им ее приносили, точно так же, как эти животные. Большеголовый идиот, тяжело волочивший ноги по мостовой, на солнце, за стенами этой будки, представлял собой куда более приятное зрелище. Множество грудных детей; множество матерей и других больных женщин, лежащих в постели; множество сумасшедших; в нижних помещениях с каменным полом — целые полчища мужчин, ожидающих обеда, а в верхних, лазаретных, палатах — великое множество стариков, которые бог знает как дотягивают свой век — вот что мы видели на своем пути в течение двух часов. В некоторых из этих последних комнат на стенах были прилеплены картинки, иногда на чем-то вроде буфета стояла аккуратно расставленная фаянсовая или оловянная посуда; время от времени мы с радостью видели одно-два растеньица; почти в каждой палате была кошка. В этих длинных шеренгах престарелых и больных некоторые старики были прикованы к постели, и с давних пор; другие сидели на кроватях, полунагие; некоторые умирали на своих постелях; некоторые встали с постелей и сидели за столом, поближе к огню. Мрачное или вялое равнодушие к нашим вопросам, тупая бесчувственность ко всему, кроме тепла и пищи, унылая безропотность, потому что жаловаться бесполезно, упрямое молчание и одно злобное желание: чтобы их оставили в покое — вот что, как мне казалось, встречало нас всюду. В одной из этих унылых стариковских шеренг произошел — пока не подоспела надзирательница — примерно следующий маленький диалог: — Все у вас в порядке? Жалоб нет? Молчание. Старик в шотландском берете, который сидит вместе с другими на скамье за столом и ест кашу из жестяной миски, сдвигает немного назад свой берет, чтобы посмотреть на нас, потом ладонью опять надвигает его на лоб и продолжает есть. — Ну как, все в порядке? — повторяем мы. Снова молчание. Другой старик, который сидит на постели и дрожащей рукой чистит вареную картофелину, поднимает голову и смотрит на нас. — Еды хватает? Ответа нет. Еще один старик, в постели, поворачивается на другой бок и кашляет. — Как вы себя чувствуете? — обращаемся мы к нему. Этот старик ничего не отвечает, зато другой старик, высокий, с очень хорошими манерами и очень правильной речью, выходит откуда-то и вызывается дать нам ответ. Ответ здесь почти всегда исходит от добровольца, а не от того человека, на которого мы смотрим и к которому обращаемся. — Мы очень стары, сэр, — мягко и внятно звучит его голос. — Большинство из нас уже не может хорошо себя чувствовать. — А как вам тут живется? — У меня нет жалоб, сэр. — Легкий кивок головой, легкое пожимание плечами и что-то вроде извиняющейся улыбки. — Еды хватает? — Как вам сказать, сэр; у меня плохой аппетит. — Тем же тоном, что и раньше. — И все-таки я легко справляюсь со своей порцией. — Однако, — я показываю ему на миску с воскресным обедом: куском баранины и тремя картофелинами. — Так не умрешь с голоду? — Конечно, нет, сэр, — тем же извиняющимся тоном. — Не умрешь. — Чего бы вы хотели? — Нам дают очень мало хлеба, сэр. Ужасно мало хлеба. Надзирательница, которая уже стоит рядом со спрашивающим, потирая руки, вставляет: "И правда, что маловато, сэр. Им положено шесть унций в день; а когда позавтракают, много ли там останется на вечер?" Еще один старик, который до того был невидим, поднимается с постели, как из могилы, и смотрит на нас. — А чай вам дают по вечерам? — Вопрос обращен к старику с правильной речью. — Да, сэр, по вечерам нам дают чай. — И вы приберегаете, сколько можно, хлеба от завтрака, чтобы съесть его с чаем? — Да, сэр, — если можно приберечь хоть сколько-нибудь. — Так вы, значит, хотели бы больше хлеба к чаю? — Да, сэр. — Лицо у него при этом очень встревоженное. Тот, кто спрашивал, по доброте сердечной немного смущен и меняет тему разговора. — А что сталось с тем стариком, который раньше лежал на той постели в углу? Надзирательница не может вспомнить, о каком старике идет речь. Тут перебывало столько стариков! Старик с правильной речью задумывается. Призрачный старик, который воскрес в своей постели, говорит: "Билли Стивенс". Другой старик, который до тех пор сидел, ссутулившись, над самым очагом, пискливо выговаривает: — Чарли Уолтерс. Это вызывает какое-то слабое подобие интереса. Вероятно, Чарли Уолтерс был занимательным собеседником. — Он умер, — говорит пискливый старик. Пискливого старика поспешно оттесняет еще один с прищуренным глазом, который говорит: — Да! Чарли Уолтерс умер на этой постели и… и… — Билли Стивенс, — упорствует призрачный старик. — Нет, нет! И Джонни Роджерс умер на этой постели, и… и… оба они умерли, а Сэмюел Бойер… — это ему кажется чрезвычайным событием, — тот ушел! После этого он умолкает, и все старики, утомленные беседой, тоже умолкают, а призрачный старик возвращается в свою могилу и уносит с собой тень Билли Стивенса. Когда мы направляемся к двери, еще один старик, которого мы раньше не видели, охрипший старик в фланелевом балахоне, вдруг оказывается перед нами, точно вырос из-под земли. — Прошу прощения, сэр, дозвольте сказать слово. — Да, что такое? — Я стал поправляться, сэр. А чтобы совсем было хорошо, — он показывает рукой на свое горло, — мне бы немного свежего воздуха, сэр. Это мне всегда шло па пользу, сэр. Уж очень редко нас выпускают, пока-то дождешься очереди! Вот если бы джентльмены, в будущую пятницу, дали мне разрешение на прогулку, — хоть иногда, сэр, хоть на часок… Кто, окинув взглядом эти гнетущие картины страдания и немощи, мог усомниться в том, что старику было бы на пользу повидать что-то другое, убедиться, что есть и что-то другое на земле? Кто не удивился бы, что эти старики могут жить так, как они живут? Что связывает их с жизнью; какие крохи чего-то интересного и занимательного могут они подобрать с этого скудного стола? Описывал ли им когда-нибудь Чарли Уолтере те дни, когда он дружил с девушкой, которая теперь превратилась в одну из нищих старух? Рассказывал ли им Билли Стивене о том времени, когда он жил в далекой, совсем иной стране, которая называлась "родной дом"? Крохотный обожженный ребенок, который тихо и терпеливо лежал в соседней комнате, обложенный корпией, и, услышав наше ласковое обращение, взглянул на нас ясными, кроткими глазами, тоже, казалось, знал все это, то есть, все душевное и ласковое, что надо знать людям; он тоже считал вместе с нами, что сиделки из пауперов больше способны сочувствовать больным и лучше относятся к ним, чем обычные больничные сиделки; казалось, размышляя о будущем некоторых детей постарше, спавших вокруг него, он пришел к выводу, что ему лучше умереть, и без боязни думал о множестве гробов, заготовленных внизу, в кладовой, и о своем безвестном товарище, подкидыше, который упокоился на крышке сундука, под простыней. Но в его маленьком личике было еще что-то, грустное и молящее, словно среди размышлений над всей этой жестокой необходимостью или нелепостью он просил за старых и беспомощных бедняков, просил для них немного больше свободы — и немного больше хлеба.
ГЕНИЙ ИСКУССТВА
Я холостяк и занимаю довольно мрачную квартиру в Тэмпле[75]. Вход со двора — если назвать двором квадрат между четырьмя высокими домами, как есть колодец, только что без воды и без ведра. Живу я на самом верху, среди черепицы и воробьев. Как тот человечек из детской песенки[76], я живу "сам по себе", и свой хлеб и сыр, сколько у меня его бывает — а бывает его не много, — я держу на полке. Вряд ли нужно добавлять, что я влюблен и что отец моей очаровательной Джульетты противится нашему союзу. Я сообщаю эти подробности, как предъявлял бы рекомендательное письмо. Теперь, когда читатель со мной познакомился, он, может быть, окажет мне такое снисхождение и выслушает мой рассказ. У меня от природы мечтательный склад ума; а избыточный досуг (по роду занятий я адвокат), в сочетании с привычкой прислушиваться в одиночестве к воробьиному чириканью и шелесту дождя, усилил во мне эту наклонность. На моей "верхотурке" слышно, как зимней ночью завывает ветер, когда в нижнем этаже человек уверен, что погода самая тихая. От тусклых фонарей, посредством которых наше почтенное общество (надо думать, еще не осведомленное о новом изобретении, носящем название газа) делает зримой всю мерзость площадок и лестниц, только гуще становится мрак, всегда гнетущий мою душу, когда я вечером возвращаюсь домой. Я юрист, но юриспруденция мне чужда. Я так и не уяснил себе, что такое "право". Я иной раз просижу в Вестминстер-Холле[77] (как мне положено) с десяти до четырех; а когда выхожу из суда, сам не знаю, на чем стою, на подошвах или же на парике. Мне сдается (скажу вам доверительно), что слишком много там разговоров и слишком много закона, — как будто взяли два-три зернышка правды и бросили за борт в бурлящее море мякины. Все это, возможно, сделало меня склонным к мистицизму. Однако могу вас заверить: то, что я собираюсь описать, как лично мною виденное и слышанное, я в самом деле видел и слышал. Надобно отметить, что я очень люблю картины. Сам я не художник, но я изучал живопись и много писал о ней. Я видел все наиболее прославленные в мире картины; достаточно образованный и начитанный, я обладаю изрядным знакомством с теми сюжетами, к которым может обратиться художник; и хотя я, может быть, и не скажу с уверенностью, правильную ли форму придал он, например, ножнам меча короля Лира, но, думаю, самого короля Лира я отлично узнал бы, случись мне встретиться с ним. Я каждый сезон посещаю все современные выставки и, разумеется, глубоко чту Королевскую академию[78]. Я выстаиваю перед ее сорока академическими холстами почти так же твердо, как твердо держусь тридцати девяти догматов англиканской церкви[79]. Я убежден, что как здесь не добавишь сорокового догмата, так там нельзя добавить сорок первого холста. Было это ровно три года тому назад. Ровно три года тому назад, в этом же месяце, во вторник днем, мне случилось ехать пароходом, на дешевых местах, из Вестминстера в Тэмпл. Когда я безрассудно взошел на борт, небо было черно. Сразу затем загремел гром, заполыхали молнии и хлынул ливень. Так как палуба словно бы дымилась от влаги, я спустился вниз; но там набилось столько пассажиров, нещадно дымивших, что я вернулся на палубу, Застегнул свой двубортный сюртук и, пристроившись под кожухом гребного колеса, стоял, насколько было можно, прямо, точно мне все нипочем. Тогда-то я и увидел в первый раз то страшное существо, которое будет предметом этих моих воспоминаний. У трубы — наверно, в расчете, что ее жар будет его обсушивать так же быстро, как дождь мочить, — стоял, засунув руки в карманы, потрепанный человек в черной потертой одежде, который заворожил меня с того памятного мгновения, как я увидел его глаза. Где видел я раньше эти глаза? Кто он такой? Почему он напомнил мне сразу Векфильдского священника[80], Альфреда Великого[81], Жиль Бласа[82], Карла Второго[83], Иосифа с братьями[84], Королеву фей[85], Тома Джонса[86], "Декамерон" Боккаччо[87], Тэма о'Шентера[88], венчание венецианского дожа с Адриатикой[89] и Великую Лондонскую чуму[90]? Почему, когда он согнул правую ногу и положил левую руку на спинку соседней скамьи, я, как это ни дико, мысленно связал его фигуру со словам"!: "Номер сто сорок два, мужской портрет"? Могло ли это значить, что я схожу с ума? Я снова взглянул на него, и теперь я подтвердил бы под присягой, что он принадлежит к семье Векфильдского священника. Был ли он самим священником, Мозесом, мистером Берчиллом, сквайром или конгломератом из всех четырех[91], я не знал; но меня подмывало схватить его за горло и бросить ему обвинение, что в его жилах, каким-то непристойным образом, течет Примрозова кровь. Он загляделся на дождь и вдруг — боже правый! — стал святым Иоанном. Он скрестил руки, покорясь непогоде, и у меня возникло неистовое желание обратиться к нему как к "Зрителю" и строго спросить, что он сделал с сэром Роджером де Коверли[92]. Страшное подозрение, что я повредился в уме, вернулось с удвоенной силой. Между тем жуткий этот незнакомец, имевший неизъяснимую связь с моим расстройством, стоял и сушился у трубы; и все время, пока подымался от его одежды пар, окутывая его туманом, я видел сквозь призрачную эту дымку все те упомянутые выше личности и еще десятка два других, светских и духовных. Отчетливо помню, что под раскаты грома и сверканье молний во мне росло страшное желание схватиться с этим человеком, или демоном, и выбросить его за борт. Но я совладал с собой — уж не знаю как — и в минуту затишья среди грозы пересек палубу и заставил себя заговорить с ним. — Кто вы такой? — был мой вопрос. Он прохрипел в ответ: — Я — натура. — Что? — переспросил я. — Натура, — повторил он. — Позирую всяким художникам за шиллинг в час (на протяжении всего рассказа я привожу его подлинную речь, неизгладимо запечатлевшуюся в моей памяти). Не могу передать, каким облегчением были для меня эти его слова, с какай восторженной радостью я снова поверил, что пребываю в здравом уме. Я, наверно, бросился б ему на шею, если бы не мысль, что штурвальный смотрит на нас. — Значит, вы, — сказал я и стал с таким жаром трясти ему руку, что вытряс всю дождевую влагу из манжеты его сюртука, — вы тот самый джентльмен, которого я так часто видел сидящим в креслах с высокой спинкой и красной обивкой возле столика с витыми ножками? — Да, я позировал и для него… — пробурчал он недовольно. — А зря: уж лучше б для чего другого! — Не говорите! — возразил я. — Мне случалось видеть вас в обществе юных красавиц. — И это была правда, и каждый раз (как я теперь припоминаю) он при этом удивительно эффектно выставлял напоказ свои ноги. — Ясное дело! — сказал он. — И вы видели вокруг меня вазы с цветами и всякие там скатерти и старинные секретеры и прочую дребедень. — Как, сэр? — спросил я. — Дребедень, — повторил он громче. — А еще вы могли бы увидеть меня в доспехах, когда бы хорошенько пригляделись. Черт меня возьми, если я не стоял в половине всех тех рыцарских доспехов, какие выпускал из своего заведения Пратт[93], и не сидел неделями (и ничего не жрал!) перед половиной золотых и серебряных блюд, какие только брали напрокат для этого дела со складов всяких Сторсисов и Мортимерсисов или Гаррардзов и Девенпортсесесов[94]. Разволнованный обидой, он, казалось мне, никогда не договорит этого последнего слова. Но, наконец, оно глухо отрокотало вместе с раскатом грома. — Извините, — сказал я, — вы очень приличный, благообразный человек, и все-таки — уж вы меня извините, — когда я роюсь в памяти, я как будто связываю вас… в моих воспоминаниях вы смутно сочетаетесь… простите… с каким-то могучим чудовищем. — Еще бы не так! — прозвучал его ответ. — Знаете вы, что во мне ценят больше всего? — Нет, — сказал я. — Мою шею и мои ноги, — объявил он. — Когда я не позирую ради головы, я по большей части позирую ради шеи и ради ног. Вот и представьте себе, что вы, к примеру, художник и что вам нужно целую неделю раздраконивать мою шею, — тут бы вы, уж верно вам скажу, приметили бы на ней уйму всяких шишек и клубков, которых нипочем бы не углядели, когда бы рассматривали меня всего, как есть, а не только мою шею. А что, не так? — Возможно, — сказал я и внимательно посмотрел на него. — Ведь оно само собой понятно, — продолжал натурщик. — Поработайте потом еще неделю над моими ногами, то же самое будет и с ними. Они в конце концов станут у вас такими корявыми и узловатыми, точно это не ноги, а два старых-престарых ствола. Потом возьмите и прилепите мою шею и мои ноги к туловищу другого человека, и получится у вас сущее чудовище. Так вот и показывают публике эти сущие чудовища в каждый первый понедельник мая месяца, когда открывается выставка Королевской академии. — Да вы критик, — заметил я с уважением. — Это потому, что я в прескверном расположении духа, — ответил натурщик тоном крайнего негодования. — Кажется, уж чего тут было хорошего — позировал им человек за шиллинг в час, торчал среди всей этой красивой старой мебели так, что публика уж, верно, знает в ней сейчас каждый гвоздочек… или напяливал на себя старые просаленные шляпы и плащи и бил им в бубны в Неаполитанской гавани — на заднем плане намалеван по трафарету Везувий, с дымом над ним, а на среднем — небывалые виноградники, одни сплошные гроздья… или самым невежливым образом брыкался в толпе девиц безо всякой надобности, только чтобы показать свои ноги, — уж чего тут было хорошего? Так нет, изволь теперь убраться вон, получай отставку! — Не может быть! Как это так? — сказал я. — А вот так! — закричал в негодовании натурщик. — Но я им отращу! Мрачный, угрожающий тон, каким произнес он последние свои слова, врезался навсегда в мою память. У меня захолонуло сердце. Я спросил сам себя, что он надумал отрастить, этот отчаянный человек. Но не нашел в своем сердце ответа. Я стал умолять его, чтобы он сказал яснее. С презрительным смехом он бросил темное пророчество: — Я ее отращу. И запомните мои слова: она вас будет преследовать, как призрак. Мы расстались в грозу, и на прощание я дрожащей рукой втиснул ему в ладонь полкроны. Я решил, что с судном происходило нечто сверхъестественное, когда оно уносило вниз по реке его дымящуюся фигуру; но в газетах не было о том ни слова. Прошло два года, я два года неизменно занимался своей профессией; и, конечно, нисколько не выдвинулся. По истечении этих двух лет я однажды ночью возвращался домой, в Тэмпл, в точно такую же бурю, под громом и молниями, как в тот раз, когда гроза застигла меня на палубе парохода, — только что теперь гроза, разразившись над городом в полночь, казалась еще страшнее — в темноте и в этот поздний час. Когда я завернул к себе во двор, мне подумалось, что гром сейчас ударит мне прямо под ноги и все разворотит. Казалось, каждый кирпич, каждый камень во дворе на свой особый голос отзывается на гром. Водосточные трубы переполнились, и дождь хлестал потоками прямо с крыш, как с горных вершин. Я не раз просил миссис Паркинс, мою служанку, жену привратника Паркинса, который незадолго до того умер от водянки, — ставить свечу из моей спальни и коробок со спичками под фонарем на лестничной площадке у дверей в мою квартиру, чтобы я мог зажечь там свою свечу, как бы поздно ни пришел домой. Но так как миссис Паркинс неизменно пренебрегала всеми моими указаниями, свечи и спичек никогда не бывало на месте. Так случилось, что и на этот раз я, чтоб зажечь свечу, должен был пробраться ощупью к себе в гостиную, разыскать ее там и выйти опять на лестницу. Как же я был потрясен, когда увидел под фонарем на площадке сверкающее влагой, точно оно так и не обсохло с последней нашей встречи, то таинственное существо, с которым я столкнулся на пароходе в грозу два года назад! В моем уме пронеслось его предсказание, и у меня подкосились ноги. — Я сказал, что сделаю так, — проговорил он, — и я так и сделал. Разрешите войти? — Несчастный, что вы натворили? — отозвался я. — Я все вам объясню, — был ответ, — когда вы меня впустите. Что он совершил — неужели убийство? И с таким успехом, что хочет совершить второе, наметив жертвой меня? Я колебался. — Разрешите войти? Собрав все свое мужество, я кивнул головой, и он проследовал за мною в комнаты. Здесь я разглядел, что нижняя часть его лица повязана синим в белую клетку платком. Он медленно снял его и выставил на вид длинную бороду и усы, которые вились над его верхней губой, курчавились в углах его рта и свисали на грудь. — Что это значит? — невольно закричал я. — И кто вы теперь? — Я — Гений искусства! — сказал он. Эти слова, которые он медленно проговорил под громовой раскат в полуночный час, произвели разительное действие. Я молча смотрел на него, ни жив ни мертв. — Вошел в силу немецкий вкус, — сказал он, — и мне хоть с голоду помирать. Вот я и подладился под новый вкус. Он слегка встрепал бороду, скрестил руки на груди и сказал: — Суровость! Я содрогнулся. Вид его был и впрямь суров. Он дал бороде волнисто стечь на грудь и, сложив руки на метелке для ковров, которую миссис Паркинс оставила у меня среди книг, сказал: — Благоволение. Я стоял пораженный. Перемена душевного строя зависела целиком от бороды. Человек мог ничего не менять в своем лице, мог и вовсе не иметь лица. Все делала борода. Он лег навзничь на мой стол и, запрокинув голову, вздернул подбородок, а с ним и бороду. — А это — смерть! — сказал он. Он соскочил со стола и, глядя в потолок, сбил бороду немного вкось, затем выдвинул ее вперед. — Обожание — или клятва отомстить, — пояснил он. Он повернулся в профиль, сильно всклокочив усы над губой. — Романтическая личность, — сказал он. Он глянул искоса сквозь гущу волос, как из зарослей плюща. "Ревность!" — сказал он. Он замысловато распушил их и пояснил мне, что он-де кутнул. Он немного завил их пальцами — и это было Отчаяние; пригладил — и это была Скупость; причудливо взъерошил — Ярость. Все делала борода. — Я — Гений искусства, — сказал он. — Два шиллинга за сеанс, а когда подрастет, так и побольше! Волосы придают нужное выражение. Где они сыщут другого такого? Я сказал, что отращу, и я ее отрастил, и теперь она будет преследовать вас, как призрак! Может быть, он в темноте скатился с лестницы, только он не сходил по ступенькам и не сбегал по ним. Я заглянул через перила, — никого нет, я один. Я и гром. Должен ли я что-нибудь добавить о своей ужасной участи? С тех пор этот призрак ходит за мной неотступно. Он глядит на меня со стен Королевской академии (кроме тех случаев, когда Маклиз[95] подчинит его своему дарованию), леденит мою душу в Британском институте, заманивает молодых художников в пучину гибели. Куда бы я ни подался, Гений искусства, трактующий страсти через волосы и все выражающий посредством бороды, преследует меня повсюду. Предсказание сбылось, и нет его жертве покоя.
СЫСКНАЯ ПОЛИЦИЯ
Мы отнюдь не из тех, кто свято верил в старую полицию с Боу-стрит[96]. Сказать по правде, мы полагаем, что репутация у этих господ была дутая. Помимо того, что иные из них были людьми очень невысокой нравственности и слишком привыкли иметь дело с ворами и другими подонками, — в обществе они при каждом удобном случае напускали на себя таинственность и не в меру важничали. Неизменно находя поддержку в неспособных судьях, заботившихся об одном — как бы скрыть свое бессилие, и располагая перьями тогдашних борзописцев, они сделались героями легенды. И хотя там, где требовалось предотвратить преступление, полиция всегда оказывалась совершенно беспомощной, а в деле сыска — распушенной, ненадежной и неповоротливой, многие по сей день верят в эту легенду о ней. С другой стороны, силы сыска, организованные вместе с учреждением новой полиции, так хорошо подобраны и вышколены, действуют так методически и так несуетливо, ведут расследование с таким профессиональным умением и всегда так неуклонно и спокойно несут свою службу обществу, что, в сущности, общество знает о них слишком мало, — ему неизвестна и десятая доля той пользы, какую они ему приносят. Придя к такому убеждению и пожелав познакомиться ближе с этими людьми, мы обратились к начальству Скотленд-Ярда[97] с просьбой предоставить нам возможность, если это не вызовет возражений но официальной линии, побеседовать с сыщиками. Нам охотно и любезно пошли навстречу, и мы с некиим инспектором наметили на некий вечер дружеское собеседование между нами и группой сыщиков в редакции "Домашнего чтения" на Веллингтон-стрит в Лондоне, близ Стрэнда. Так, согласно договоренности, состоялась встреча, которую мы и намерены здесь описать. Позволим себе заметить, что, хотя мы обойдем молчанием такие предметы, которых в печати лучше не касаться, поскольку это, по понятным причинам, могло бы оказаться вредным для общества или неприятным для иных уважаемых лиц, мы постараемся сделать свое описание со всею возможной точностью. Пусть читатель сам вообразит себе святая святых "Домашнего чтения". Что вернее всего отвечает фантазии читателя, то и представит вернее всего эту великолепную комнату. Условимся только, что посередине стоит круглый стол и на нем — стаканы и сигары; а между этим внушительным столом и стеной уютно пристроился редакционный диван. Душный вечер; смеркается. Камни Веллингтон-стрит горячи и пыльны, извозчики и конюхи у театра напротив[98] сидят разморенные, красные. Экипажи непрестанно высаживают людей, прибывших в волшебное царство; и то и дело мощный рев или окрик на мгновение оглушает нас, врываясь в раскрытые окна. Как только стемнело, нам доложили, что пришли инспекторы Уилд и Стокер;[99] впрочем, оговорим: мы не ручаемся за правильность написания ни одного из называемых здесь имен. Инспектор Уилд представляет нам инспектора Стокера. Инспектор Уилд — мужчина средних лет, осанистый, с большими, влажными, умными глазами и сиплым голосом; у него манера в подкрепление своих слов выставлять толстенный указательный палец, держа его все время на уровне глаз или носа. Инспектор Стокер — хитрый, трезвого ума шотландец, внешним видом несколько напоминающий очень проницательного и безупречно вышколенного наставника из Педагогического училища в Глазго. Инспектора Уилда вы, пожалуй, могли бы принять за то, что он есть, инспектора Стокера — никогда. Обряд приветствий закончен. Инспекторы Уилд и Стокер докладывают нам, что привели с собой нескольких сержантов. Идет представление сержантов — их пятеро: сержант Дорнтон, сержант Уитчем, сержант Мит, сержант Фендолл и сержант Строу. Перед нами все сыщики Скотленд-Ярда в полном составе, за одним исключением. Они садятся полукругом (по одному инспектору с двух концов), поодаль от круглого стола, лицом к редакционному дивану. Каждый из них одним взглядом сразу делает для себя опись мебели и точный портрет редакторской особы. Редактор чувствует, что любой из этих джентльменов, если потребуется, без тени колебания сможет его задержать хоть через двадцать лет. Все в партикулярном платье. Сержант Дорнтон, человек лет пятидесяти, с медным лицом и высоким загорелым лбом, судя по его виду, был в свое время сержантом армии — Уилки мог бы написать с него солдата[100] в своем "Чтении завещания". Он славится умением упорно вести расследование индуктивным методом и, начав с ничтожных данных, возводить построение, от разгадки к разгадке, пока не возьмет человека в клещи. Сержант Уитчем, поменьше ростом и потолще, меченный оспой, с виду молчалив и задумчив — он как будто углубился в сложные арифметические подсчеты. Слывет знатоком "фасонной банды", то есть воров в щегольской одежде. Сержант Мит, гладколицый человек, со свежим ярким румянцем во всю щеку и удивительный с виду простак, известен как гроза домушников. Сержант Фендолл, светловолосый и учтивый, изысканный в разговоре, незаменим при ведении сыска по частным делам деликатного свойства. Сержант Строу — малорослый крепыш с мягкой повадкой и железной логикой; он постучит в дверь и начнет тихонько задавать вопросы, представляясь по заданию кем угодно, начиная от приютского мальчишки, и при этом взгляд у него будет младенчески невинный. Они все, как один, производят впечатление очень приличных людей; людей безупречной выдержки и недюжинного ума; в манерах ни следа развязности или угодливости; сразу чувствуется в них наблюдательность, а когда к ним обратишься — быстрота соображения; и всегда их лица носят более или менее явственный отпечаток непрестанного и сильного умственного напряжения. У них у всех хорошие глаза; и все они умеют и любят, разговаривая с человеком, кто бы он ни был, смотреть ему прямо в лицо. Мы предлагаем закурить и наполняем стаканы (к которым, надо сказать, прикладываются очень умеренно), и редактор, чтобы завязать беседу, делает дилетантское замечание насчет карманников в обличий джентльменов. Инспектор Уилд тотчас вынимает изо рта сигару и, поведя правой рукой, говорит: — По части "фасонной банды", сэр, посоветую вам обратиться к сержанту Уитчему. А почему? Могу вам доложить: сержант Уитчем знаком с "фасонной бандой" как ни один другой полицейский офицер в Лондоне. Наше сердце радостно забилось, когда мы увидели эту радугу на небе, и мы оборачиваемся к сержанту Уитчему, который сразу же очень четко, в точно подобранных словах принимается развивать предмет. Все его собратья с живейшим интересом следят за его речью, отмечая в то же время, как мы ее принимаем. Понемногу, когда представляется случай, они начинают, то тот, то другой, или двое сразу, добавлять кое-что от себя, и разговор становится общим. Но собратья вмешиваются только затем, чтобы поддержать друг друга, а не опровергнуть, — более братского содружества и быть не могло бы. От "фасонной банды" мы переходим к родственным темам: говорим о кражах со взломом, о торговле краденым, о домушниках и фармазонщиках, об одаренных юношах, подвизающихся в мелком воровстве, и о прочих специалистах. Мы отмечаем, пока нам все это раскрывается, что инспектор Стокер, шотландец, всегда точен и опирается на статистику, и когда встает вопрос о цифрах, все, как по сговору, замолкают и смотрят на него. Перебрав все виды воровского искусства, — причем наши гости следили за обсуждением с неизменным глубоким вниманием и только когда у театра через дорогу поднимался необычный шум, тот или другой из джентльменов за спиной у своего ближайшего соседа поглядывал в ту сторону в окно, — мы попросили просветить нас по ряду вопросов, как, например: вправду ли еще бывают в Лондоне случаи вооруженного грабежа — или, может быть, такому грабежу (вернее тому, что названо в жалобе грабежом) обычно предшествуют некоторые обстоятельства, которые пострадавшей стороне неудобно раскрывать и которые заставляют совсем по-другому оценить взаимоотношения грабителя и ограбленного? Безусловно так — почти всегда. Правда ли, что при ограблении частных домов, когда подозрение неизбежно падает на слуг, невинно заподозренный всем поведением и повадкой бывает так похож на виновного, что и опытный сыщик должен выносить свое суждение очень осторожно? Да, несомненно. При таких обстоятельствах обычно нет ничего обманчивей первого впечатления. Когда в общественных увеселительных местах вор узнает сыщика или же сыщик вора — хотя ранее они были друг другу незнакомы, — что позволяет им распознать друг друга? Должно быть, при любом переодевании в человеке все же ощущается, что он невнимателен к происходящему вокруг и что пришел он сюда не повеселиться, а ради своей особой цели? Совершенно верно так и узнают. Разумно или бессмысленно верить тем версиям о похождениях воров, какие слагаются по собственным их рассказам в тюрьмах, исправительных домах или где-нибудь еще? Вообще говоря, нет ничего более нелепого. Ложь их привычка и промысел; они всегда — даже когда не ждут от этого выгоды и когда им не к чему вас обольщать, — скорей соврут, чем скажут правду. От этих тем мы незаметно переходим к самым знаменитым и страшным из крупных преступлений, совершенных за последние пятнадцать — двадцать лет. Перед нами люди, принимавшие участие в раскрытии чуть ли не всех убийств, вплоть до совсем недавнего, и в преследовании и поимке убийц. Один из наших гостей сумел нагнать пароход с переселенцами и взойти на его борт, полагая, что с ним отплыла из Англии преступница — та, что недавно повешена в Лондоне за убийство. Мы узнали от него, что пассажиров не оповестили о его задании и они, должно быть, по сей час ничего не подозревают о том; что он сошел вниз с капитаном, державшим фонарь — по- тому что было темно и в третьем классе морская болезнь всех уложила в койки, — завязал разговор с тою миссис Мэннинг, которая в самом деле оказалась на борту, насчет ее багажа, и не без труда добился от нее, чтобы она подняла голову и повернулась лицом к свету. Убедившись, что это не та, кого он разыскивает, он спокойно пересел обратно на правительственный катер, стоявший борт о борт с пароходом, и поплыл домой с добытыми сведениями. Когда мы исчерпали и эту тему, занявшую в нашей беседе изрядное время, двое-трое поднялись со стульев, пошептались с сержантом Уитчемом и снова уселись. Сержант Уитчем наклонился немного вперед и, упершись обеими руками в колени, скромно повел такую речь: — Мои товарищи по службе просят меня рассказать маленькую историю о том, как я захватил Томпсона, по прозванию "Улюлю". Не след бы человеку рассказывать о том, что он сделал сам; но все же, так как со мной никого не было и, стало быть, кроме меня, некому об этом рассказать, попробую, если не возражаете, сделать это, как могу. Мы заверяем сержанта Уитчема, что он очень нас обяжет, и все располагаются слушать с большим интересом и вниманием. — Томпсон-Улюлю, — говорит сержант Уитчем, чуть смочив губы грогом, Томпсон-Улюлю был знаменитый конокрад, барышник и плут. Томпсон вместе с одним жуликом, работавшим с ним от случая к случаю, вытянул у одного деревенского жителя кругленькую сумму под тем предлогом, что устроит его на должность — старая уловка! — а потом попал в полицейскую газету из-за лошади — лошади, которую он увел в Хартфордшире. Я должен был выследить Томпсона и, для начала, понятно, решил выяснить, где он пребывает. Жена Томпсона проживала с маленькой дочкой в Челси[101]. Зная, что Томпсон в отъезде, я стал караулить возле дома, особенно по утрам, когда приносят почту, полагая, что Томпсон, по всей вероятности, переписывается с женой. И верно, однажды утром приходит почтальон и сдает письмо у дверей миссис Томпсон. Открывает ему маленькая девочка, принимает письмо. Мы не всегда полагаемся на почтальонов, хотя в почтовых конторах чиновники всегда очень к нам обязательны. Почтальон же — тот может и помочь, а может и нет, как когда. Как бы там ни было, я перехожу улицу и говорю почтальону, после того как он сдал письмо: — Доброе утро, как поживаете? — Спасибо, как вы? — отвечает он. — Вы только что доставили письмо миссис Томпсон? — Да, доставил. — А не приметили вы случаем, какой на нем был штемпель? — Нет, — говорит, — не приметил. — Вот что, — говорю я, — буду я с вами откровенен. Я веду небольшую торговлишку и отпустил Томпсону кое-что в кредит; и не могу я того стерпеть, чтоб это у меня за ним пропало. Я знаю, что у него завелись деньги, и знаю,что он в отъезде, и если бы вы мне сказали, какой на письме штемпель, я был бы вам очень обязан, вы бы очень этим одолжили мелкого торговца, который разорится, если понесет потерю. — Хорошо, — говорит он, — но, право же, я не посмотрел на штемпель. Знаю только, что в письмо были вложены деньги — по-моему, соверен. Для меня этого было довольно, потому что я, конечно, знал, что, если Томпсон послал жене деньги, она, наверно, напишет Томпсону с обратной почтой, чтобы подтвердить получение. Так что я сказал почтальону "благодарю-де вас" и остался стоять на страже. Было за полдень, когда я увидел, как девочка вышла. Я, конечно, пошел за ней. Она забежала в писчебумажную лавочку, и мне нет нужды вам говорить, что я подглядывал за нею в окно. Она купила почтовой бумаги, конвертов и перо. Я подумал про себя: "Идет как по маслу!" — проследил за нею до дому, а сам, уж будьте уверены, не ушел, так как знал, что миссис Томпсон пишет письмо своему Улюлю и что письмо вот-вот сдадут на почту. Примерно через час девочка вышла опять, на этот раз с письмом в руке. Я подошел и стал ей что-то говорить, неважно, что; но адрес мне подглядеть не удалось, потому что она держала письмо печатью кверху. Однако же я приметил, что на оборотной стороне письма было то, что мы называем "поцелуйчиком" — капля сургуча около печати, — и опять, вы сами понимаете, для меня этого было довольно. Я проследил, как она сдавала письмо, подождал, когда она ушла, потом зашел в контору и сказал, что мне нужен начальник. Когда он вышел ко мне, я ему сказал, что я, мол, офицер сыскной полиции; что только что сюда было сдано письмо с "поцелуйчиком" для человека, которого я разыскиваю; а чего я от вас прошу? только одного, чтобы вы мне разрешили посмотреть, куда оно адресовано. Он был очень любезен — вынул целую кучу писем из ящика под оконцем, рассыпал их по конторке обратной стороной кверху — и вот среди них нашлось то самое письмо с поцелуйчиком. На конверте значилось: "Мистеру Томасу Пиджону, Почтовая контора в Б…, до востребования". В тот же вечер поехал я в Б… (от Лондона — сто двадцать миль, или около того). На другое утро, спозаранку, я отправился на почту; повидался с чиновником, в чьем ведении было это отделение; сказал ему, кто я такой; и что моя задача — выследить, кто придет за письмом для мистера Пиджона. Он был со мной очень вежлив и сказал, что "вам-де будет оказано всяческое наше содействие; вы можете подождать внутри, в конторе; а мы позаботимся дать вам знать, когда кто-нибудь придет за письмом". Ну хорошо, я жду три дня и уже начинаю думать, что никто и не придет. Наконец клерк мне шепнул: — Эге! Сыщик! Тут кто-то пришел за письмом! — Задержите его на минутку, — сказал я, а сам вышел с заднего хода, обежал кругом и стал перед конторой. Тут я увидел молодого паренька, по виду конюха, державшего лошадь за поводья — поводья-то натянулись через весь тротуар, пока он ждал у почтовой конторы, чтобы ему подали в оконце письмо. Я стал похлопывать лошадь и всякое такое. — А ведь это, — говорю я пареньку, — кобыла мистера Джонса! — Нет, не его. — Нет? — говорю я. — Очень она похожа на кобылу мистера Джонса! — А все-таки она не мистера Джонса кобыла, — говорит он, — она мистера такого-то, из "Щита Варвика". Вскочил и был таков — вместе с письмом! Нанял я коляску, взобрался на козлы и так быстро покатил вслед за ним, что я въезжаю во двор при "Щите Варвика" в одни ворота, а он тут же в другие. Зашел я в буфет, где прислуживала молодая женщина, и спросил стакан грогу. Тотчас же входит и он и вручает ей письмо. Она бегло взглянула и, ничего не сказав, сунула письмо за зеркало над каминной полкой. Что тут делать дальше? Прикидывал я и так и этак в уме, пока пил грог (не спуская глаз с письма), но так ничего и не придумал. Попробовал снять комнату в доме, но шла конская ярмарка или что-то еще, и гостиница была переполнена. Пришлось устраиваться на стороне, но я денька два то и дело захаживал в буфет, и письмо все лежало за зеркалом. Наконец надумал: напишу-ка я сам письмо мистеру Пиджону и посмотрю, что из этого выйдет. Написал, сдал на почту, но только я нарочно поставил на адресе вместо "мистеру Томасу Пиджону" "мистеру Джону Пиджону", посмотрим, думаю, что из этого выйдет. На другое утро (очень дождливое!), вижу, идет по улице почтальон, и я мигом в буфет пока почтальон еще не дошел до "Щита Варвика". Входит и он с моим письмом. — Стоит у вас мистер Джон Пиджон? — Нет… А впрочем, подождите, — говорит девушка и достает из-за зеркала письмо. — Нет, — говорит она, — это Томасу, и он тоже у нас не стоит. Не окажете ли вы мне любезность снести это на почту, на улице так мокро! Почтальон сказал "можно!", она вложила письмо в другой конверт, надписала, подала. Он сунул письмо в шляпу и пошел. Я без труда разглядел новый адрес. На конверте значилось "мистеру Томасу Пиджону, Почтовая контора, Р…, Нортгемптоншир, до востребования". Я немедленно двинулся в Р…; сказал там на почте то же, что и в Б…; и опять пришлось мне ждать три дня, пока кто-то явился. Наконец приезжает другой парень верхом на лошади. — Нет ли писем для мистера Томаса Пиджона? — А вы откуда? — Из Новой гостиницы, близ Р…" Письмо подают, а тот в галоп и ускакал. Я порасспросил насчет Новой гостиницы под Р…, и, когда мне сказали, что это уединенное строение, что-то вроде заезжего двора, и стоит оно милях в двух от станции, я подумал: "Поеду и погляжу". Все оказалось, как мне описывали, и я зашел поразведать, что и как. Хозяйка сидела в распивочной, и я попробовал завязать с ней разговор; спрашиваю, как идут дела, заговариваю о погоде, сыро, мол, и все такое, когда в открытую дверь я увидел в соседнем помещении — то ли гостиная, то ли кухня, — сидят у огня трое мужчин; и один из них, если судить по данному мне описанию, сам Томпсон-Улюлю! Я вхожу, подсаживаюсь к ним, стараюсь завести приятный разговор, но они оробели… приумолкли… косятся на меня, переглядываются уж как угодно, только не любезно. Примерился я к ним, и убедившись, что они все трое крепкие ребята, каждый крупнее меня, да приняв еще в соображенье, что вид у них неласковый… что дом стоит на отлете… до железной дороги — две мили… что надвигается ночь, — я решил, что не худо мне будет глотнуть для храбрости грогу. Итак, я заказал себе стаканчик — и пока я сидел у огня и попивал, Томпсон встал и вышел. Тут еще та была трудность, что я не мог сказать наверняка, впрямь ли это Томпсон, потому что я его до тех пор в глаза не видал; и нужно мне было вполне удостовериться, что это он и есть. Так или иначе, а ничего теперь не оставалось, как последовать за ним и брать быка за рога. Я настиг его во дворе, где он разговаривал с хозяйкой. Впоследствии выяснилось, что его разыскивал за что-то еще полицейский офицер из Нортгемптона и, зная, что тот офицер (как и я) рябой, он и принял меня за него. Как я уже сказал, он, когда я подошел, стоял во дворе и разговаривал с хозяйкой. Я положил ему руку на плечо — вот так — и сказал: — Томпсон-Улюлю, бросьте! Я вас знаю. Я сыщик из Лондона, и я беру вас под стражу за уголовное дело! — А плевал я на вас! — говорит Улюлю. Мы вернулись в дом, и два его товарища стали громко возмущаться, и вид их, смею вас уверить, мне не нравился. — Отпустите человека. Что вы собираетесь с ним делать? — Я вам скажу, что я собираюсь с ним делать. Я собираюсь отвезти его сегодня вечером в Лондон — и не быть мне живу, если я его не отвезу. Я тут не один, как вы, может быть, воображаете. Займитесь каждый своим делом и не суйтесь. Так оно для вас же будет лучше, потому что я отлично знаю вас обоих. Я их в жизни не видел и слыхом о них не слыхал, но выпад удался: они присмирели и держались в стороне, покуда Томпсон собирался в путь. Я, однако, подумал про себя, что они, чего доброго, нагонят нас на темной дороге и попытаются отбить Томпсона; и я сказал хозяйке: — Кто у вас тут есть из мужской прислуги, миссис? — А никого, мы мужской прислуги не держим, — говорит она сердито. — Но есть же у вас, полагаю, конюх? — Да, конюх у нас есть. — Позовите его. Приходит молодой парень с лохматой головой. — Помогите-ка мне, — говорю, — молодой человек. Я — офицер сыскной полиции, из Лондона. Этого человека зовут Томпсон. Я его взял под стражу за уголовное дело. Мне нужно отвезти его к железной дороге, на станцию. Именем королевы приказываю вам ехать с нами; и заметьте, друг мой, если вы откажете мне в помощи, вы наделаете себе таких хлопот, что и сами того не представляете! Вряд ли когда-нибудь вы видели, чтобы человек сильнее вылупил глаза. — Ну, Томпсон, поехали! — говорю я. Но когда я вынул наручники, Томпсон закричал: — Нет! Только не это! Этого я не стерплю! Я тихо поеду с вами, но этих штук я носить не желаю! — Томпсон-Улюлю, — говорю, — я буду по-хорошему с вами, если и вы поведете себя по-хорошему. Дайте мне честное слово, что вы мирно поедете со мной, и я не стану надевать на вас наручники. — Согласен, — говорит Томпсон. — Только наперед я выпью стакан бренди. — Я и сам не прочь, — сказал я. — Дайте и нам по стакану, хозяюшка, — сказали два его товарища, — и черт вас возьми, констебль, вы позволите вашему подручному тоже промочить горло, а? Я разрешил, и все мы выпили вкруговую, а потом мы с конюхом благополучно отвезли Улюлю на станцию, и я в тот же вечер доставил его в Лондон. Впоследствии его оправдали за недостатком улик; и, насколько мне известно, он всегда меня нахваливает и говорит, что я лучший человек на свете. Когда сыщик под гул одобрения закончил рассказ, инспектор Уилд важно затянулся, посмотрел в упор на хозяина дома и начал так: — Неплохую штуку отколол я с Файки, тем самым, которого судили за подделку акций Юго-Западной железной дороги, совсем на днях. А как было дело? Могу рассказать. По моим сведениям этот Файки с братом имели фабрику в тех вон местах (он указал куда-то через реку в сторону Сэррея[102]), и они там покупали подержанные экипажи. И вот, после нескольких безуспешных попыток схватить его другими способами, я написал ему письмо за вымышленной подписью, сообщая, что могу предложить ему для покупки лошадь и фаэтон; и что я на следующий день приеду к нему, чтобы он мог посмотреть товар, а в цене, добавил я, мы сойдемся, продается за бесценок. Затем мы со Строу пошли к одному моему знакомому, который держит конюшни и дает напрокат лошадей, и взяли мы у него на один день фаэтончик — прямо-таки шикарный выезд! Поехали мы, значит, туда, прихватив еще одного моего товарища (не из наших сотрудников); и, оставив товарища близ трактира в фаэтоне, чтоб он присмотрел за лошадью, мы пошли на фабрику — там же неподалеку. На фабрике мы увидели за работой несколько крепких молодцов. Посмотрели мы на них, соразмерили мысленно наши силы, и стало мне ясно, что провести такое дело тут на месте и пробовать нечего. Их было слишком много. Надо выманить голубчика за дверь. — Мистер Файки, — спрашиваю, — дома? — Нет, ушел. — А скоро ждете его домой? — Да не так чтоб скоро. — Н-да! Ну, а брат его дома? — Я его брат. — Вот как неудачно-то вышло… Я ему вчера написал, сообщил ему, что есть у меня на продажу лошадка с фаэтоном, и я не поленился, прикатил сюда на этой самой лошадке, а брата вашего нет дома. — Да, его нет дома. Вам не трудно будет заглянуть в другой раз? — Да нет, никак не могу. Мне надобно продать — вот оно в чем дело; и откладывать я не могу. Может быть, вы его разыщете? Сперва он сказал, что это никак не возможно, потом, что, право-де, он не знает, а потом, что пойдет попробует. Так, в конце концов он поднялся наверх, где был у них вроде как бы чердачок, и вот сходит вниз сам Файки в жилете, без сюртука. — Ну, — говорит он, — дело у вас, как видно, срочное. — Да, — говорю, — очень срочное, и вы сами увидите, продаем по дешевке — прямо за бесценок! — Мне сейчас не так уж нужна упряжка, — говорит он, — но все-таки, где она у вас? — Да пожалуйста, — говорю я, — тут рядом и стоит. Сходите посмотрите. Он ничего не заподозрил, и мы пошли. И тут сразу же получилась неприятность: когда мой товарищ попробовал прокатиться по дороге, чтобы показать лошадку на рыси (а править лошадьми он не умел — правил как малый ребенок), лошадь понесла. В жизни не видал я такой скачки! Когда лошадь отскакала свое и фаэтон стал, Файки обошел его и так и этак с видом знатока. Я тоже. — Видите, сэр, — говорю я. — Фаэтончик самый подходящий. — Да, неплох, — говорит он. — Еще бы! — говорю я. — А лошадка какова! (Я вижу, он смотрит на нее.) — Ей нет и восьми! — добавил я, оглаживая ее передние ноги. (Честное слово, нет на свете человека, который бы меньше знал толк в лошадях, чем я, но я слышал, как мой приятель, у которого мы взяли напрокат фаэтон, говорил, что лошадке восемь лет, вот я и сказал с понимающим видом "нет и восьми".) — Нет восьми? — переспросил он. — Нет и восьми, — говорю я. — Отлично, — говорит он. — Сколько же вы просите за все? — Чтоб не торговаться, моя первая и последняя цена за весь комплект двадцать пять фунтов! — Очень дешево, — говорит он и смотрит на меня. — А то нет? — отвечаю я. — Я же вам сказал, отдаем за бесценок! Так вот, чтобы попусту не болтать, мне надо поскорее сбыть, потому и цена такая. Я и дальше пойду вам навстречу: можете уплатить мне сейчас половину наличными, а на остальное нацарапаете мне расписку. — Это что-то очень дешево, — говорит он опять. — Еще бы не дешево! — говорю я. — Садитесь и испробуйте сами, и — по рукам! Давайте прокачу! И что же вы думаете — залезает он в фаэтон, мы тоже, и покатили по дороге. Я ведь должен был показать его одному железнодорожному служащему, которого мы посадили у окна в трактире, чтобы он его нам опознал. Но тот растерялся и не мог сказать, он это или не он — а по какой причине? Могу вам объяснить: хитрец, понимаете ли, сбрил усы. — Славная лошадка, — говорит он, — рысистая; и фаэтон легок на ходу. — На этот счет можете не сомневаться, — говорю я. — А теперь, мистер Файки, поведу я с вами дело напрямик, чтобы вам не тратить время зря. Я не кто иной, как инспектор Уилд, и вы арестованы. — Нет, вы шутите? — говорит он. — Отнюдь не шучу. — Так сгореть мне на месте, — говорит Файки, — если это не прескверно для меня! Вы, наверно, никогда не видели, чтобы человек был так ошеломлен. — Надеюсь, вы мне позволите взять свой сюртук? — говорит он. — Что ж, можно. — Хорошо, так давайте подъедем к фабрике. — Нет, мы, пожалуй, сделаем иначе, — говорю я. — Я ведь был уже там сегодня. Что, если нам послать кого-нибудь? Видит он, ничего не попишешь, послал человека, надел свой сюртук, и мы преспокойно повезли молодчика в Лондон. Еще не смолкли восторги по поводу рассказа, как все стали дружно просить гладколицего офицера с румянцем во всю щеку и удивительного с виду простака, чтоб он рассказал "историю с мясником". Гладколицый офицер с румянцем во всю щеку и удивительный с виду простак расплылся в улыбке и мягким голосом, как будто подлащиваясь, начал свою историю с мясником: — Тому уже лет шесть, как в Скотленд-Ярд поступило сообщение, что в Сити на оптовых складах происходят крупные хищения товара — батиста и шелка. Дано было распоряжение заняться этим делом; и возложили его на нас троих Строу, Фендолла и меня. — Когда вам дали это поручение, — спросили мы, — вы что же, пошли к себе и провели втроем, так сказать, министерское совещание? — Да-а, вот именно, — ласково подхватил гладколицый офицер. — Мы долго прикидывали между собой так и этак. Выяснилось, когда мы вникли в дело, что скупщики продавали товар по дешевке — куда дешевле, чем могли бы его продавать, если бы получали его честным путем. Скупщики эти вели открытую торговлю, у них было несколько больших лавок, вполне солидных, первоклассных лавок — одна в Вест-Энде, одна в Вестминстере… Мы долго выслеживали, расспрашивали, обсуждали между собой и вот установили, что всем этим делом заправляют из одного трактира близ Смитфилда[103], у церкви святого Варфоломея, — и там же сбывается краденый товар; сторожа оптовых складов, они же и воры, поставляют его туда — понятно? — и договариваются о встрече с людьми, что посредничают между ними и скупщиками. Этот трактир посещался главным образом приезжими мясниками из деревни, когда они оказывались без службы и хотели устроиться на место; так что же мы сделали? — ха-ха-ха! — мы договорились, что я сам оденусь мясником и стану там на постой! Острый нужен был глаз, чтобы так удачно сделать выбор и уверенно поручить роль этому сержанту. Ничто в мире не подошло бы ему лучше. Он, даже когда рассказывал, превращался в вялого, робкого, добродушного, туповатого и доверчивого молодого мясника. У него даже волосы казались пропитанными нутряным салом, когда он их приглаживал на темени, а свежий его румянец был как будто промаслен от излишка мясной пищи. — И вот я… Ха-ха-ха! (опять-таки с доверчивым хохотком глуповатого молодого мясника)… я обрядился, как надо, сложил в узелок кое-какую одежку, прихожу в трактир и спрашиваю, нельзя ли стать у них на постой? "Да, — говорят мне, — вы можете стать у нас на постой", — отвели мне комнату, и я тут же и засел у них в распивочной. Там много собралось народу — здешние постояльцы и пришлая публика; спрашивают меня, один, другой: "Вы откуда, молодой человек? Верно, деревенский?" — "Да, говорю, деревенский. Я из Нортгемптоншира, и очень мне тут скучно, потому как Лондона я совсем не знаю, а город ух какой большой!" — "Да, город большой", — говорят они. "Большущий, — говорю я. — Скажу вам по всей правде, я сроду не бывал в таком городе. У меня от него просто голова идет кругом!" — и все, понимаете, в том же духе. Когда кто-нибудь из приезжих мясников, проживавших там, узнавал, что я ищу места, они мне говорили: "О, мы вас устроим на место!" И они в самом деле водили меня устраиваться, — на Ньюгетский рынок, и на Ньюпортский рынок, в Клер, в Карнеби — и уж не знаю куда еще. Но жалованье оказывалось ха-ха-ха! — слишком низкое, и мне, понимаете, ничто не подходило. Кое-кто из подозрительных завсегдатаев заведения поначалу смотрел на меня недоверчиво, и мне не так-то было просто держать связь со Строу и Фендоллом — большая требовалась осторожность. Иногда, когда я выходил и останавливался где-нибудь, будто засмотревшись на витрину, а сам поглядывал по сторонам, мне случалось приметить, что тот или другой из молодчиков идет за мною следом; но у меня, наверно, в таких делах побольше было навыка, чем они полагали: я, бывало, заведу их так далеко, как посчитаю нужным или для себя удобным — иногда на изрядный конец, — а потом круто поверну назад, натолкнусь на них и скажу: "Ох, слава тебе господи, как я рад, и повезло же мне, что я с вами встретился! Что за Лондон такой! Разрази меня гром, если я опять не заблудился!" И мы шли гурьбой назад в трактир и — ха-ха-ха! закуривали мирно наши трубки, понятно? Они, что и говорить, были ко мне очень внимательны. Так у нас повелось, что, пока я там проживал, то один, то другой ходили со мной показывать мне Лондон. Они мне показывали тюрьмы — Ньюгет показали, и когда они показывали мне Ньюгет, я стал столбом у того места, где грузчики сбрасывают на крюк свою кладь, и спрашиваю: "Ай-ай-ай! Так это тут вешают злодеев? Бог ты мой!" А они: "Тут? Видали дурачину? Нет, не тут!" И тогда они показали мне, где это на самом деле, и я опять: "Бог ты мой!" — а они: "Ну, теперь будешь знать? Запомнишь?" И я говорю, что, должно быть, запомню, если очень постараюсь — и смею вас уверить, я очень остерегался, как бы не попасться на глаза кому-нибудь из городской полиции, когда мы ходили по таким местам, потому что, если бы какому-нибудь полицейскому довелось меня узнать и заговорить со мной, тут бы сразу всему конец. Однако, по счастью, такая штука ни разу не случилась, и все шло благополучно; хотя в сношениях с моими двумя товарищами трудности были у меня просто неимоверные. Продажа краденого товара, что приносили в трактир сторожа оптового склада, проводилась всегда в задней зале. Я долгое время никак не мог проникнуть в ту залу или подсмотреть, что там делается. Когда я сидел у камина в распивочной и этаким невинным пареньком покуривал свою трубку, мне случалось услышать, как тот или другой из участников грабежа, выходя или входя, тихонько спрашивал хозяина: "Кто такой? Чего он тут торчит?" — "Бог с вами! — отвечал хозяин, — да он же просто… ха-ха-ха! — он просто зеленый мальчишка из деревни, подыскивает себе место мясника. Он вам не помеха!" Понемногу они настолько уверились в моей простоте и так привыкли ко мне. что я мог так же свободно проходить в заднюю залу, как любой из них, и мне случалось видеть, как там в один вечер продавали не более и не менее как на семьдесят фунтов тонкого батиста, уворованного со склада на Фрайдей-стрит. Завершив сделку, покупатели всегда ставили угощение — горячий ужин, или обед, или что еще — и они в таких случаях говорили: "А ну, мясник, живо, мели зубами!" Я не уклонялся — и слушал за столом всякого рода подробности, какие нам, сыщикам, очень важно знать. Так оно тянулось десять недель. Я все это время жил в трактире и никогда не снимал с себя одежды мясника — только когда спать ложился. Наконец, когда я доходил семерых воров и вывел на прямую (это у нас, понимаете, такое выражение, означает оно, что я выследил их и установил, где производились хищения и все такое), Строу, Фендолл и я, оповестили мы друг друга и в условленный час сделана была облава на трактир и произведены аресты. И что же в первую очередь сделали наши ребята? Схватили меня самого, — так как участники ограбления пока что еще не должны были догадываться, что я не мясник, а кто-то другой, — и тогда хозяин закричал: "Уж его-то вам незачем брать! Он бедный деревенский паренек, ему в рот положи, не проглотит!" А все же они — ха-ха-ха! — они меня забрали и сделали для виду обыск у меня в номере, где ничего не нашли, кроме плохонькой скрипки, принадлежавшей хозяину, уж не знаю, как она туда попала. Но тут хозяин, видать, круто переменил обо мне свое мнение: когда ее вытащили, он закричал: "Моя скрипочка! Вот вам и мясник! Ворюга! Я требую, чтоб его арестовали за кражу музыкальных инструментов!" Все же тот человек, который крал товар на Фрайдей-стрит, еще не был схвачен. Он мне признался тайком, что учуял что-то неладное (потому что городская полиция схватила одного из их банды) и что намерен скрыться. Я его спросил: "Куда же вы думаете уехать, мистер Шепердсон?" — "А есть, мясничок, на Коммершел-роуд надежное местечко — "Заходящий месяц"; вот я и отсижусь там покуда что. Я назовусь Симпсоном — скромненькое имя, правда? Может, заглянешь ко мне туда, мясник?" — " Хорошо, я непременно навещу вас там", ответил я тогда и собирался, понимаете вы, честно исполнить свое обещание, потому как его, конечно, надо было взять! Назавтра я заявился еще с одним офицером в "Заходящий месяц" и спросил в буфете Симпсона. Мне указали его комнату — наверху. Мы, значит, поднимаемся по лестнице, а он смотрит вниз через перила и кричит: "Здорово, мясник! Неужели ты?" — "Я самый. Как вы тут живете?" — "Превесело, — говорит он. — А это кто с тобой?" — "Да так, один молодой человек, мой, говорю, дружок". — "Ну так заходите. Дружку мясника мы рады, как самому мяснику!" Вот я и познакомил его с моим дружком, и мы взяли его под стражу. Вы и представить себе не можете, сэр, как у них вытянулись лица на суде, когда они узнали наконец, что я вовсе не мясник! Когда дело разбиралось в первый раз и его отложили, меня на допрос не вызывали; вызвали только при вторичном разбирательстве. И когда я вышел в полной полицейской форме давать показания и вся их компанийка увидела, как ее обвели вокруг пальца, у них там среди подсудимых прошел прямо-таки вой ужаса и отчаяния! Когда дело перешло в Олд-Бейли[104], защитником был приглашен мистер Кларксон, но и он не мог сообразить, как обстояло дело с мясником. Он до конца был уверен, что паренек действительно мясник. Когда прокурор сказал: "Теперь, господа, пред вами предстанет офицер полиции" (разумея меня), мистер Кларксон запротестовал: "К чему нам офицер полиции? Еще один офицер полиции? И без того слишком много полицейских. Я хотел бы видеть мясника!" И тут он увидел и мясника и офицера полиции — обоих в одном лице. Из семи арестованных, привлеченных к суду, пятеро были признаны виновными и кое-кого из них закатали на каторгу. Владельца шикарной лавки в Вест-Энде засадили; вот она и вся, история с мясником! Досказав свою историю, простачок-мясник снова преобразился в гладколицего сыщика. Но ему самому так нравилось, как они его, переодетого дракона, водили по улицам, показывая Лондон, что он не отказал себе в удовольствии вернуться к этому месту своего рассказа; и тихо повторил со смешком мясника: "Ай-ай-ай, говорю, так это тут вешают злодеев? Бог ты мой!" А они: "Тут? Видали дурачину?" Час был поздний, и деликатные гости забеспокоились, что надоели нам, и собрались уже расходиться, но тут сержант Дорнтон, тот, что с военной выправкой, улыбаясь, поглядел вокруг и сказал: — На прощанье, сэр, вам, может быть, любопытно будет послушать о приключениях дорожной сумки. Они не отнимут много времени и, думается мне, забавны! Мы приветствовали дорожную сумку так же сердечно, как мистер Шепердсон — мнимого мясника в "Заходящем месяце". Сержант Дорнтон повел свой рассказ. — В тысяча восемьсот сорок седьмом году меня направили в Чатам на розыски некоего Мешека, еврея. Он был замешан, и в немалой мере, в краже векселей: получал их от молодых людей со связями (главным образом военных) якобы на предмет учета, а потом смывался. Когда я прибыл в Чатам, Мешека там уже не было. Все, что мне удалось о нем узнать, это что он уехал, вероятно в Лондон, и что при нем… дорожная сумка. Я поехал обратно в город последним поездом из Блекуолла и стал расспрашивать о пассажире еврее… с дорожной сумкой. Вокзальная контора была закрыта, так как все поезда уже прибыли. На вокзале оставались только два-три носильщика. Искать еврея с дорожной сумкой по Блекуоллской железной дороге, которая тогда вела к одному крупному интендантскому складу, было все равно, что искать иголку в стоге сена. Но оказалось, что один из тех носильщиков нес некоему еврею в некий трактир некую дорожную сумку. Пошел я в тот трактир, но еврей только оставлял там на несколько часов свою поклажу, а потом приехал за нею в кэбе и забрал. Я задал в трактире и носильщику несколько вопросов, какие счел разумным задавать, и получил при этом такое описание… дорожной сумки: Камлотовая сумка, на ней с одного боку вышит гарусом зеленый попугай на жердочке. Зеленый попугай на жердочке служил средством опознавания этой самой… дорожной сумки. Зеленый попугай на жердочке вел меня следом за Мешеном в Челтнем, в Бирмингем, в Ливерпуль, к Атлантическому океану. В Ливерпуле он оказался для меня недосягаем: Мешек отбыл в Соединенные Штаты, и я бросил думать о нем и о его… дорожной сумке. Много месяцев спустя, чуть не год, в Ирландии был ограблен банк на сумму в семь тысяч фунтов стерлингов. Грабитель, именовавшийся доктором Данди, сбежал в Америку, откуда некоторые из похищенных банкнот попали обратно к нам в страну. По нашим сведениям он как будто купил ферму в Нью-Джерси[105]. Если толково повести дело, ферму можно было отобрать и продать в пользу тех, кто был им ограблен. В этих видах я и был послан в Америку. Я высадился в Бостоне. Поехал в Нью-Йорк. Выяснил, что он недавно менял нью-йоркские кредитные билеты на нью-джерсейские и клал деньги в банк в Нью-Брансуике. Чтобы схватить этого доктора Данди, нужно было непременно заманить его в штат Нью-Йорк, на что потребовалось немало ухищрений и трудов. Один раз с ним никак нельзя было договориться о деловом свидании. В другой раз он сам назначил время, когда приедет для встречи со мною и одним нью-йоркским должностным лицом по измышленному мною поводу; но тут у него дети заболели корью. В конце концов он прибыл пароходом, и я его схватил и засадил в нью-йоркскую тюрьму, известную под названием "Гробница";[106] верно, слышали о ней, сэр? Редактор подтверждает, что слышал. — На другое утро после его ареста я поехал в "Гробницу", чтобы присутствовать на допросе у местного судьи. Когда я проходил через личный кабинет судьи и будто ненароком обвел взглядом комнату, чтоб ознакомиться с местом действия, — как это вошло у нас в привычку, — я приметил в одном углу… дорожную сумку. И что же я увидел на той дорожной сумке? Верьте мне или не верьте зеленого попугая на жердочке, в натуральную величину. — Эта сумка с изображением зеленого попугая на жердочке, — сказал я, принадлежит одному английскому еврею, Аарону Мешеку, и никому другому — ни живому, ни мертвому! Поверьте моему слову, нью-йоркские полицейские чины так и раскрыли рты от изумления. — Откуда вы это узнали? — говорят они. — Еще бы мне не узнать зеленого попугая, — говорю я, — когда там у нас эта птица такого мне задала жару. Я всю страну исколесил в погоне за ней. — И сумка была в самом деле Мешека? — спросили мы покорно. — А как же! Конечно, его! Мешек сидел в это самое время в этой самой "Гробнице", по другому обвинению. Мало того. Как выяснилось, в его сумке в этот самый момент лежали кое-какие документы, имевшие касательство к мошенничеству, за которое я тогда безуспешно пытался его арестовать, да, в этой самой… сумке с попугаем! Такие вот необычайные совпадения и вот такие ловкие приемы составляют особенность этой важной разновидности служения обществу. И в практике эти приемы постоянно совершенствуются, изощряются — поскольку они должны постоянно приноравливаться к самым разным обстоятельствам, противополагая себя все новым ухищрениям, какие только может придумать извращенная изобретательность. Всегда настороже, всегда в предельном напряжении умственных способностей, работники сыска изо дня в день, из года в год должны находить все новые способы борьбы против новых хитростей и уловок, измышляемых соединенной фантазией всех беззастенчивых нарушителей закона в Англии, ни на шаг не отставать в изобретательности от противника. На суде материал тысячи таких историй, какие мы тут рассказали, — иногда, по самому сплетенью обстоятельств романтически чудесных, — бывает заключен в стереотипную фразу "на основании полученных мною сведений, я сделал то-то и то-то". А ведь надо было, тщательно выверяя выводы и всю дедуктивную цепь, безошибочно направить подозрение на данное лицо; захватить это лицо, куда бы оно ни укрылось и что бы оно ни предприняло, чтобы не быть обнаружену. Преступник схвачен; предстал перед судом, и все. На основе сведений, которые я, офицер сыскной полиции, получил, мною это сделано; и согласно заведенному для этих случаев обычаю, я больше ничего не говорю. Эта шахматная партия на живых фигурах, разыгрываемая перед немногими зрителями, нигде не записывается. Игрока поддерживает его интерес к игре. Суд довольствуется ее результатами. Если дозволено сравнить великое с малым, представим себе Леверье, или Адамса[107], сообщающим публике, что он на основании полученных им сведений открыл новую планету; или Колумба, сообщающим современной ему публике, что на основании полученных им сведений он открыл новый материк; вот так же сыщики сообщают, что они выявили новое мошенничество или давнишнего преступника, а процесс выявления остается неизвестным. Итак, к полуночи наша встреча с интересными и, необычными гостями закончилась. Но поистине завершило вечер происшествие, имевшее место уже после того, как сыщики от нас ушли. К одному из них, едва ли не самому ловкому — тому, который считался первым знатоком "фасонной банды", — когда он шел домой, залезли в карман!
ТРИ РАССКАЗА О СЫЩИКАХ
I. ПАРА ПЕРЧАТОК
— Случай не из обычных, сэр, — сказал инспектор Уилд, офицер сыскной полиции, который вместе с сержантами Дорнтоном и Митом как-то в июле еще раз зашел к нам в редакцию скоротать вечерок, — и мне подумалось, что вам, пожалуй, интересно будет с ним познакомиться. Он связан с убийством молодой женщины, Элизы Гримвуд — помните? лет пять назад, на Ватерлоо-роуд. Ее все называли "Графиня" — за красивую внешность и гордую осанку; и когда я увидел бедную Графиню (я ее знавал и мог опознать), мертвую, с перерезанным горлом, в ее спальне на полу, вы мне поверите, что мне полезли в голову разные мысли, от которых человеку становится невесело на душе. Но это к делу не относится. Я туда пришел наутро после убийства. Освидетельствовал тело, произвел общий осмотр спальни, где оно лежало. Откинув собственной своей рукой подушку на кровати, я нашел под ней пару перчаток. Пару лайковых мужских перчаток, очень грязных; на подбивке с внутренней стороны буквы "Тр." и крестик. Значит, сэр, забрал я эти перчатки и показал мировому судье, который вел это дело. И что ж он говорит? — Уилд, — говорит, — это бесспорно находка, и такая, что может иметь большое значение; теперь, Уилд, от вас требуется одно: разыскать владельца этих перчаток. Я, конечно, думал то же самое и не стал тратить время впустую. Осмотрел я внимательно перчатки и пришел к заключению, что они побывали в чистке. От них, понимаете, шел запашок серы и смолы — чищеные перчатки, сильно или слабо, а непременно попахивают. Пошел я с ними в Кеннингтон[108] к одному своему знакомому, который работает по этой части, и выложил их перед ним. — Как по-вашему, были эти перчатки в чистке? — Да, — говорят он, — перчатки в чистке были. — А могли бы вы определить, у кого? — Понятия не имею! — говорит он. — Я только могу определить, у кого они не были в чистке: у меня! Но вот что я вам скажу, Уилд. В Лондоне наберется от силы восемь или десять мастеров по чистке перчаток (их тогда, по-видимому, столько и было). Я, думается мне, могу дать вам все их адреса, и вы сможете разузнать, кто их чистил. Дал он мне, значит, свои указания, и я ходил туда, и ходил сюда, и виделся с тем, и виделся с другим; но хотя они все подтверждали, что перчатки побывали в чистке, я все никак не мог найти того мужчину, женщину или ребенка, который чистил эту самую пару перчаток. А тут, понимаете, то человека нет дома, то ждут человека к двум часам, и всякое такое — за всем этим ушло у меня на розыски три дня. На третий день, вечером, иду я с того берега из Сэррея, по мосту Ватерлоо, замученный, измотанный вконец, уже теряя надежду, и думаю: загляну-ка я в театр Лицеум[109], удовольствие будет стоить один шиллинг, а мне это освежит мозги. Итак, взял я себе за полцены место в партере, в задних рядах, и сел рядом с одним молодым человеком, тихим и скромным. Видя, что я не знаток (я нарочно прикинулся таким), он стал мне называть имена актеров, исполняющих роли, и между нами завязался разговор. Когда спектакль кончился, мы вышли вместе, и я сказал: — Вы такой приятный человек и такой компанейский — может быть, не откажетесь пропустить со мною, стаканчик? — Вы так любезны, — говорит он, — что я не откажусь пропустить с вами стаканчик. Мы, следовательно, зашли в какой-то кабачок поблизости от театра, расположились в тихой комнате наверху и заказали по пинте портера с элем и по трубке. Курим мы свои трубки, потягиваем свой портер с Элем — сидим, разговариваем, очень так приятно, и вдруг молодой человек заявляет: — Извините, я посидел бы подольше, но я должен вовремя прийти домой. Мне сегодня предстоит проработать всю ночь до утра. — Работать всю ночь до утра? — говорю. — Уж не пекарь ли вы? — Нет, — рассмеялся он, — я не пекарь. — Я и то не думал, — говорю я. — На пекаря вы не похожи. — Нет, — говорит он. — Я чистильщик перчаток. В жизни своей не бывал я так удивлен, как в ту минуту, когда услыхал от него эти слова. — Вы чистильщик перчаток? В самом деле? — говорю я. — Да, — говорит он, — именно. — Так не можете ли вы, — говорю я, вынимая из кармана те перчатки, сказать мне, кто чистил эту пару? Тут у меня с ними вышла, говорю, целая история. Я обедал на днях в Ламбете[110] — случайно завернул. Непритязательный ресторанчик. Публика всякая… И вот какой-то джентльмен оставил эти перчатки! Тут я, понимаете, еще с одним джентльменом заключил пари на соверен, что я сумею выяснить, кому они принадлежат. Я уже израсходовал семь шиллингов в попытках разгадать эту загадку; но если бы вы могли мне помочь, я бы с радостью уплатил еще столько же. Видите, тут внутри стоит "Тр." и крестик. — Вижу, — говорит он. — Господи! Я же превосходно знаю эти перчатки! Я видел не одну дюжину пар от того же владельца. — Да не правда? — говорю я. — Истинная правда! — говорит он. — Так вы, верно, знаете, кто их чистил? — говорю я. — Знаю, конечно, — говорит он. — Их чистил мой отец. — Где живет ваш отец? — говорю я. — Да тут за углом, — говорит молодой человек, — совсем близко, в двух шагах от Эксетер-стрит. Он вам сразу скажет, чьи они. — Вы не могли бы сейчас же пойти туда со мной? — говорю. — Конечно, могу, — говорит он, — но только, знаете, не рассказывайте вы моему отцу, что мы познакомились с вами в театре, ему это не понравится. — Хорошо! Мы пошли прямо к ним на квартиру и застали там за работой старика в белом фартуке и двух или трех его дочерей: сидят в первой комнате, а перед ними груда перчаток, и они их чем-то натирают и чистят. — Отец, — говорит молодой человек, — этот джентльмен заключил пари, что найдет владельца пары перчаток, и я пообещал, что ты ему поможешь. — Добрый вечер, сэр, — говорю я старику. — Вот перчатки, о которых говорит ваш сын. Видите — буквы "Тр." и крестик. — Да, — говорит он, — я эти перчатки знаю очень хорошо; я их чистил дюжинами. Они принадлежат мистеру Тринклу: у него большая обивочная мастерская на Чипсайде[111]. — А вы, разрешите вас спросить, получаете их непосредственно от Тринкла? — Нет, — говорит он, — мистер Тринкл посылает их всегда мистеру Фибсу, галантерейщику, у которого лавка напротив его мастерской, а галантерейщик пересылает их ко мне. — Вы не откажетесь выпить со мною кружку? — говорю я. — Пожалуй, не откажусь! — говорит он. Итак, повел я почтенного старика в трактир, и мы еще поговорили с ним и его сыном за кружкой, и расстались мы с ним друзьями. Это было в субботу ночью. В понедельник я с утра пораньше пошел первым делом в галантерейную лавку, что напротив Тринкла — большой обивочной мастерской на Чипсайде. — Могу я видеть мистера Фибса? — Я и есть мистер Фибс. — Ага! Насколько мне известно, вы посылали чистить эту пару перчаток? — Да, посылал, для молодого мистера Тринкла — здесь, через улицу. Он сейчас у себя в мастерской. — Ага! Это он там у прилавка, да? В зеленом сюртуке? — Он самый. — Вот что, мистер Фибс: тут неприятное дело, но я не кто иной, как инспектор Уилд из сыскной полиции, и эти перчатки я обнаружил под подушкой той молодой женщины, которую зарезали на днях на Ватерлоо-роуд. — Силы небесные! — говорит он. — Он очень приличный молодой человек, и если его отец услышит, его это убьет! — Мне очень жаль, — говорю я, — но я должен взять его под стражу. — Силы небесные! — говорит опять мистер Фибс. — И ничего нельзя сделать? — Ничего! — говорю я. — Может быть, вы мне позволите вызвать его сюда, — говорит он, — чтоб это было сделано не на глазах у отца? — Я бы не возражал, — говорю я, — но, к несчастью, мистер Фибс, я не могу допустить никаких переговоров между вами. Всякую попытку такого рода я обязан пресечь. Может быть, вы ему кивнете отсюда? Мистер Фибс стал в дверях, кивнул, и молодой человек тут же перебежал через улицу; видный такой, веселый молодой человек. — С добрым утром, сэр, — говорю я. И он: — С добрым утром сэр. — Разрешите мне задать вам вопрос, — говорю я, — Не знавали ли вы особу по имени Гримвуд? — Гримвуд, — говорит он. — Гримвуд… Нет! — Вы знаете Ватерлоо-роуд? — Ватерлоо-роуд? Конечно, знаю! — А не слышали вы случаем, что там убили молодую женщину? — Да, я читал об этом в газете, и мне очень было горестно об этом читать. — Вот пара перчаток — ваших перчаток, — которую я на другое утро нашел у нее под подушкой! Он был в страшном смятении, сэр! В страшном смятении! — Мистер Уилд, — говорит он, — клянусь всем святым, я там никогда не бывал. Я, насколько мне известно, никогда в жизни не видел ее… — Мне очень жаль, — говорю я. — И сказать по правде, я не думаю, что вы — ее убийца, но я должен нанять кэб и отвезти вас к мировому. Впрочем, мне кажется, это такого рода случай, что судья хотел бы — по крайней мере поначалу — вести дело без огласки. Проведено было негласное разбирательство, и тут выяснилось, что этот молодой человек был знаком, с двоюродным братом несчастной Элизы Гримвуд и что однажды — дня за два до убийства — он зашел проведать этого ее двоюродного брата и оставил у него на столе перчатки. А вскоре затем заходит туда же — кто бы вы думали? — Элиза Гримвуд! — Чьи это перчатки? — говорит она и берет их в руки. — Это перчатки мистера Тринкла, — говорит двоюродный брат. — Вот как? — говорит Элиза. — Они очень грязные и ему, конечно, ни к чему. Я их возьму для своей служанки — пусть чистит в них печи. И кладет перчатки в карман. Служанка, когда чистила печи, пользовалась ими и, как я полагаю, оставила их лежать на камине, или на комоде, или где еще; ее хозяйка, поглядев вокруг, чисто ли прибрано в комнате, схватила их и сунула под подушку, где я и нашел их. Вот какой случай, сэр.II. МАСТЕРСКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
— Может быть, одним из самых красивых фокусов, проделанных нами, сказал инспектор Уилд, напирая на эпитет и тем как бы предупреждая, что сейчас последует рассказ не о чем-либо захватывающем, а скорей о ловкости и находчивости, — был некий маневр сержанта Уитчема. Это была прелестная идея! Мы с Уитчемом в день скачек дежурили в Эпсоме[112] — поджидали на вокзале "фасонную банду". Как я упоминал в нашей прежней беседе, мы всегда дежурим на вокзале, когда идет дерби, или сельскохозяйственная выставка, или когда новый ректор университета приносит присягу, или там Дженни Линд[113], или еще что-нибудь в том же роде; и когда сходят на перрон ширмачи из "фасонной банды", мы их следующим поездом отсылаем обратно. Но в тот день, чтобы попасть на скачки, о которых я рассказываю, кое-кто из этихширмачей сумел нас обхитрить: они наняли кабриолеты, тронулись из Лондона с Уайтчепла[114], дали хороший крюк; прибыли в Эпсом с противоположной стороны; и, покуда мы их караулили у железной дороги, они уже на кругу и работают направо и налево! Но к тому, что я хочу вам рассказать, это по сути дела не относится. Когда мы с Уитчемом дежурили на вокзале, к нам подошел некто Татт джентльмен, в свое время послуживший обществу, а сейчас, можно сказать, сыщик-любитель, очень уважаемый. — Чарли Уилд! — говорит он. — Что вы тут делаете? Выслеживаете кого-то из старых приятелей? — Да, старые штуки, мистер Татт. — Идемте, — говорит он, — разопьем втроем — вы, я да Уитчем — по стакану хереса. — Нам нельзя двинуться с места, — говорю я, — до прихода следующего поезда; а там — с нашим удовольствием! Мистер Татт ждет, подходит поезд, а потом Уитчем и я идем с ним в его гостиницу. Мистер Татт по случаю скачек разоделся как на бал; и в пластроне у него была красивая бриллиантовая булавка — фунтов за пятнадцать или двадцать, — очень красивая булавочка! Выпили мы хересу у стойки, по три, по четыре стакана, и вдруг Уитчем крикнул: — Внимание, мистер Уилд! Держитесь! — и налетает на залу "фасонная банда", четыре ширмача (как они туда проникли, я вам объяснил), и в тот же миг булавочки мистера Татта как не бывало! Уитчем стал в дверях — отрезал им выход; я их колочу как могу; мистер Татт тоже дерется на совесть; и вот мы все сцепились, катаемся по полу, тычем и головой и ногами, полная сумятица вам, верно, сроду не случалось видеть такую картину! Мы, однако же, не выпускаем наших молодчиков (нам ведь помогает мистер Татт, а он стоит любого полицейского!), забираем их, тащим в участок. В участке полно воров, взятых у круга; не так-то просто отдать под стражу наших. Но в конце концов мы с этим сладили, приступаем к обыску; но ничего при них не находим, и их запирают. А уж и упарились мы с ними к этому часу… сами понимаете! Меня крайне смущало, что мы проморгали булавку; и когда мы, сдав их под стражу, отдыхали вместе с мистером Таттом, я сказал Уитчему: — Провели вроде бы успешно, а проку не много — потому что ничего при них не найдено. Браггадоча[115] — только и всего. — Почему, мистер Уилд? — говорит Уитчем. — Вот она, бриллиантовая булавка! Она у него на ладони, в целости и сохранности! — Каким чудом? — говорим в удивлении мы с Таттом. — Как она к вам попала? — А вот расскажу вам, — говорит он, — как она ко мне попала. Я приметил, кто из них ее взял; и когда мы все вповалку дрались на полу, я легонько прикоснулся к тыльной стороне его руки, как сделал бы, я знаю, его товарищ; он и подумал, что это товарищ подает знак, и передал ее мне! Это было красиво, кра-си-во! Но даже и тут дело прошло не так, чтобы очень гладко, потому что молодчика судили на очередной сессии в Гилдфорде[116]. А вы же знаете, сэр, что такое эти сессии. Так вот, верьте мне или нет, покуда судьи копались, покуда сверялись по парламентским актам, что с ним можно сделать, я так и думал: разрази меня гром, если подсудимый не сбежит у них из-под носу! А он и впрямь сбежал; да вплавь через реку; потом залез на дерево обсушиться. С дерева его сняли — одна старуха видела, как он туда карабкался, — а Уитчем мастерским своим прикосновением отправил его на каторгу!III. ДИВАН
— И чего только не делают порой молодые люди себе на погибель и на горе своим друзьям! — сказал сержант Дорнтон. — Просто диву даешься! Был у меня случай в одной больнице — как раз в таком роде. Случай впрямь дурной, и с дурным исходом! Секретарь той больницы, больничный врач и казначей пришли в Скотленд-Ярд и сделали заявление насчет покраж, и неоднократных, которые производились у студентов. Студенты, когда раздевались в больнице, ничего не могли оставить в карманах шинелей — пока шинель висит, карман почти наверняка обчистят! Пропадали вещи самые разные. Джентльменам, разумеется, это было неприятно, и они хотели, ревнуя о чести своего учреждения, чтобы вора поскорей разоблачили. Дело поручили мне, и я отправился в больницу. — Так вот, господа, — сказал я, когда мы все обговорили, — вещи, как я понимаю, пропадали всегда в одной определенной комнате. — Да, — сказали они, — всегда в одной. — Я хотел бы, с вашего позволения, — сказал я, — осмотреть эту комнату. Мне показали просторное помещение в нижнем этаже: несколько столов, скамеек, а по стенам вешалки для шляп и шинелей. — Далее, господа, — сказал я, — есть у вас на кого-нибудь подозрение? Да, сказали они, есть у них подозрение. Как это ни прискорбно, они подозревают одного из швейцаров. — Я хотел бы, — сказал я, — чтобы мне указали этого человека и дали бы понаблюдать за ним некоторое время. Мне указали, я понаблюдал за ним, потом пошел опять в больницу и объявил: — Нет, господа, швейцар ни при чем! Он на свою беду любит выпить лишнее, но и только. Я подозреваю, что эти покражи совершает кто-то из студентов, и если вы в той комнате, где вешалки, поставите мне диван поскольку там нет чуланчика, — то я думаю, что смогу выследить вора. Мне, с вашего разрешения, нужно, чтобы диван был покрыт ситцевым чехлом или чем-нибудь вроде того, чтобы я мог, оставаясь невидимым, лежать под ним ничком.
Диван достали, и на другой день, в одиннадцать часов, до прихода студентов, я пошел туда с теми джентльменами, чтоб устроиться под ним. Это оказался старомодный диван с большой крестовидной перекладиной под сиденьем, которая мне сразу проломила бы хребет, если бы я умудрился под нее залезть. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы вовремя это все удалить; но я тут же взялся за работу, взялись и они за работу, и мы эту штуковину выломали, и место для меня было расчищено. Я заполз под диван, лег ничком, вынул нож из кармана и прорезал в ситце дырку, чтоб удобно было подсматривать. С джентльменами был у нас сговор, что, когда студенты разойдутся все по палатам, один джентльмен вернется и повесит на одну из вешалок шинель. И что в той шинели в одном из карманов будет лежать бумажник, а в нем — меченые деньги. Пролежал я там немного, и в комнату начинают заходить студенты поодиночке, по двое, по трое; поговорят о всякой всячине, ни мало не думая, что под диваном кто-то есть, потом поднимутся наверх. Наконец пришел один, который пробыл подольше, выжидая, пока все не разойдутся. Довольно высокий, красивый молодой человек лет двадцати — двадцати двух, со светлыми бачками. Он подошел к одной из вешалок для шляп, снял висевшую на ней хорошую шляпу, примерил, повесил на ее место свою, а ту шляпу перевесил на другую вешалку, почти напротив меня. У меня тогда же явилась уверенность, что он и есть вор и что он еще вернется. Когда все ушли наверх, пришел мой джентльмен с шинелью. Я указал, куда ее повесить, чтобы мне хорошо было видно; и он ушел; а я пролежал ничком под диваном еще часа два — лежу и жду. Наконец приходит тот самый молодой человек. Он, насвистывая, прошелся по комнате… послушал… еще раз прошелся, посвистел… опять постоял, послушал — потом начал обходить одну за другой все вешалки, шаря в карманах каждой шинели. Когда он дошел до той шинели и нащупал бумажник, он так взволновался и заторопился, что, открывая его, оборвал ремешок. Когда он начал перекладывать деньги к себе в карман, я вылез из-под дивана, и глаза наши встретились. Сейчас лицо у меня, как видите, загорелое, но в то время оно было бледное, так как я прихварывал, и вытянутое, как лошадиная морда. К тому же под диваном изрядно сквозило — дуло из-под двери, и я обвязал голову носовым платком: так что воображаю, какой при всем при этом был у меня вид! Студент посинел, буквальна посинел, когда увидел, как я на него выползаю, — и ничуть не удивительно! — Я — офицер сыскной полиции, — сказал я, — и я тут лежу с утра, когда вы только пришли. Мне больно за вас и за ваших друзей, что вы сделали то, что сделали; но факт налицо. Вы держали бумажник в руке, и деньги при вас; я должен взять вас под стражу! Ему нечего было выдвинуть в свою защиту, и на суде он признал себя виновным. Как и когда достал он средство, не знаю, но в ожидании приговора, в Ньюгете, он отравился. Дослушав рассказ, мы спросили у этого офицера, как шло для него время, быстро или медленно, когда он лежал под диваном и не мог пошевелиться. — Понимаете, сэр, — отвечал он, — если бы он не зашел в первый раз и не было бы у меня уверенности, что он вор и вернется, время шло бы медленно. Ну а тут, раз я был крепко уверен в успехе, время прошло незаметно.
РАССКАЗ БЕДНЯКА О ПАТЕНТЕ
Я не привык писать для печати. Да и какой рабочий человек, ежели он трудится всю жизнь по двенадцати, а то и четырнадцати часов в сутки (не считая нескольких понедельников[117] и дней рождества и пасхи), умеет писать? Но меня просили рассказать попросту, что и как случилось, и вот я беру перо и чернила и пишу, стараясь по мере сил моих, в надежде, что мне простят мои промахи. Я родился близ Лондона, но работаю в мастерской в Бирмингеме, почти с той самой поры, как закончилось мое ученичество. (Мастерскими мы называем то, что принято называть мануфактурами.) Ученье я проходил в Детфорде, недалеко от места, где родился. По ремеслу своему я кузнец. Имя мое Джон. А зовут меня чуть не с девятнадцати лет "Старый Джон" по той причине, что волос у меня маловато. Сейчас мне пятьдесят шесть, и волос у меня, можно сказать, столько же, сколько было и в девятнадцать, как уже упоминалось выше. В апреле будет тридцать пять лет как я женат. Женился я 1-го числа в день "всех Дураков". Говорят, что смеется тот, кому достается удача. А мне в этот день досталась хорошая жена, и для меня он самый разумный день во всей моей жизни.

Детей у нас было десять душ, и шестеро из них живы. Старший сын, механик, служит на итальянском почтовом пароходе "Меццо Джорно", который совершает рейсы между Марселем и Неаполем, с заходом в Геную, Ливорно и Чивита-Веккиа. Он хороший работник, изобрел множество полезных вещей, а получил за них… да ничего не получил! Два других сына неплохо устроились в Сиднее, Новый Южный Уэльс; они еще не женаты, как писали последний раз. Еще один сын (Джеймс) задурил и пошел в солдаты; в Индии его ранили, и он шесть недель пролежал с мушкетной пулей в ключице, о чем и написал мне собственноручно. Он был самый из них красивый. Одна моя дочь (Мэри) живет в достатке, но у нее водянка в груди. Вторая (Шарлотта), которую подло покинул муж, живет у нас с тремя детьми. Младшему шесть лет и у него склонность к механике. Я не чартист и никогда им не был. Не скажу, чтобы я не видел, что не все у нас ладно в общественных делах, но только думаю, что таким путем дело не исправишь. Если бы я думал иначе, то был бы чартистом. Но я так не думаю и я не чартист. Я и газеты читаю, и на собрания хожу, и знаю среди чартистов немало хороших людей и хороших рабочих. Примечание. Я против насилия. Да не сочтут за похвальбу с моей стороны, если я замечу (потому что я не могу рассказать, что и как случилось, не упомянув об этом с самого начала), что у меня всегда была склонность к изобретательству. Однажды я получил двадцать фунтов стерлингов за винт, им и посейчас пользуются. В течении двадцати лет я урывками работал над одним изобретением, все время его совершенствуя. Я закончил свою работу в сочельник прошлого года, в десять часов вечера. Когда все было готово, я привел жену посмотреть на мою модель, и мы оба всплакнули, стоя рядом и глядя на нее. Есть у меня друг по имени Уильям Бучер, чартист. Из умеренных. Говорит он хорошо, с воодушевлением. Я часто слышал, как он объясняет, что, мол, перед рабочим на каждом шагу встают какие-нибудь помехи — уж слишком много должностей придумали, чтобы обеспечить тех, кого и обеспечивать-то не стоило, и что нам приходится соблюдать всякие формальности и платить поборы, чтобы содержать этих чиновников в разных канцеляриях, хоть оно и несправедливо. Правда, — это Уильям Бучср так рассуждает, — платить приходится всем, но тяжелее всего это ложится на плечи рабочего человека, потому что у него меньше всего лишних денег, да еще потому, что нельзя чинить ему препятствий, когда он хочет добиться справедливости и осуществить свои права. Примечание. Я записал это прямо с его слов. Уильям Бучер заново повторил всю речь, чтобы я мог записать ее. Но вернемся опять к моей модели. Итак, она была закончена тому уже почти год, в сочельник, в десять часов вечера. Все деньги, какие я мог уделить, я тратил на свою модель. А когда времена бывали плохие, или у моей дочери Шарлотты болели дети, или то и другое вместе, она так и стояла без движения целыми месяцами. Уж не Знаю, сколько раз я ее разбирал до последнего винтика и снова собирал, всякий раз что-нибудь в ней улучшая. И вот наконец, как я упоминал уже, модель была окончательно готова. На другой день, в праздник, мы с Уильямом Бучером долго говорили о моем изобретении. Уильям разумный человек, но порою он ведет себя как чудак. Уильям спросил: Я ответил:.-. Тогда Уильям стал рассуждать о том, как несправедлив и жесток закон о патентах. — .-,- и стал рассуждать об этом подробно. Я сказал Уильяму Бучеру, что сам получу патент. Мой шурин Джордж Бэри из Вест-Бромвича[118] (его жена, по несчастью, пристрастилась к спиртному, пропила все, что было в доме, и семнадцать раз побывала в бирмингемской тюрьме, прежде чем пришло счастливое для всех избавление) отказал своей сестре, моей жене, по завещанию сто двадцать восемь с половиной фунтов в бумагах Английского банка[119]. Мы с женой этих денег еще не трогали. Примечание. Ведь когда состаримся, мы не сможем больше работать. Теперь мы решили взять патент. Я сказал, что пробью в них брешь (я разумею в упомянутых деньгах) и запатентую изобретение. Уильям Бучер написал для меня письмо к Томасу Джою в Лондон; Томас Джой — плотник, ростом шесть футов четыре дюйма; он ловко играет в кольца. Живет он в Челси, в Лондоне, недалеко от церкви. Из мастерской меня отпустили и обещались взять обратно, когда я вернусь. Я хороший работник. Не трезвенник, но пьяным не бываю. Сразу после рождества я поехал в Лондон парламентским поездом и снял на неделю помещение у Томаса Джоя. Он женат. У него один сын, сейчас он в плавании. Томас Джой решил (справившись по книге), что первый шаг, который мне надлежит сделать, чтобы получить патент, — это приготовить петицию на имя королевы Виктории. Уильям Бучер решил так же, как и Томас Джой, и сам сочинил мне ее. Примечание. Уильям — мастер писать. К петиции надо было приложить прошение чиновнику королевской канцелярии. Прошение мы тоже сочинили. После долгих хлопот я отыскал такого чиновника в Саутгемптон-Билдингс[120] на Чансери-лейн, близ Тэмпл-Бара[121], подал прошение и заплатил восемнадцать пенсов. Мне велели отнести прошение и петицию в министерство внутренних дел на Уайтхолл, где я их и оставил на подпись министру (после того, как разыскал его канцелярию), и там я заплатил два фунта два шиллинга и шесть пенсов. Через шесть дней он подписал бумаги и мне велели отнести их в приемную генерального прокурора и оставить там для доклада. Я так и поступил и заплатил еще четыре фунта четыре шиллинга. Примечание. Ни один человек за эти деньги не сказал спасибо, напротив того, все были очень грубы. Пришлось мне заплатить Томасу Джою еще за неделю, из которой пять дней уже прошли. Генеральный прокурор сделал доклад без наведения справок (ведь мое изобретение, как еще раньше говорил Уильям Бучер, никем не оспаривалось), и меня послали с ним обратно и Министерство внутренних дел. С доклада сняли копию, которая называется "правомочие". За это правомочие я заплатил семь фунтов тринадцать шиллингов и шесть пенсов. Его послали Королеве на подпись. Королева, подписавши, прислала назад. Министр внутренних дел подписал снова. Когда я зашел туда, тамошний чиновник швырнул мне эту бумагу я сказал: "Теперь снесите ее в Управление патентов в Линкольнс-Инн". Я жил тогда у Томаса Джоя уже третью неделю, и жил очень скудно, все из-за этих поборов. И я начал терять надежду. В Управлении патентов составили "проект королевского приказа" о моем изобретении и "приложение к приказу". Я заплатил за это пять фунтов, десять шиллингов и шесть пенсов. С приказа сняли две копии — одну для Канцелярии личной королевской печати, а другую для Канцелярии малой государственной печати. Я заплатил за это один фунт семь шиллингов и шесть пенсов. А гербовых сборов за все это еще три фунта. Здесь же клерк переписал королевский приказ набело — чтобы опять отправить на подпись. Я заплатил ему фунт и шиллинг. И гербовых сборов фунт и десять шиллингов. Затем мне опять пришлось пойти с королевским приказом к генеральному прокурору, чтобы его снова подписали. Получив приказ в руки, я заплатил еще пять фунтов. Я забрал приказ и пошел с ним опять к министру внутренних дел. Он опять послал его королеве. Та опять подписала. Я заплатил за это семь фунтов тринадцать шиллингов и шесть пенсов. Я прожил у Томаса Джоя уже свыше месяца. Денег у меня оставалось совсем мало, да и терпение подходило к концу. О том, как шли мои дела, Томас Джой сообщал Уильяму Бучеру. Уильям Бучер в свою очередь сообщал об этом трем Бирмингемским собраниям, откуда вести расходились по всем другим собраниям; как мне потом сказали, об этом стали говорить на всех фабриках Северной Англии. Примечание. Уильям Бучер в своей речи на собрании заявил, что это — верный способ сделать человека чартистом и надо бы этот способ запатентовать. Но я далеко еще не закончил. Приказ королевы надо было отнести в Канцелярию личной королевской печати, в Сомерсет-Хаус на улице Стрэнд, там, где продают гербовые марки. Клерк изготовил "приказ для лорд-хранителя малой государственной печати". Я заплатил ему четыре фунта семь шиллингов. Клерк лорд-хранителя малой государственной печати изготовил "приказ с малой государственной печатью для лорд-канцлера". Я заплатил ему четыре фунта два шиллинга. Приказ с малой государственной печатью надо было передать затем клерку из Управления патентов, чтобы внести его в книги. Я заплатил за это пять фунтов семнадцать шиллингов и восемь пенсов; тогда же мне пришлось уплатить и гербовый сбор за патент — в общей сложности тридцать фунтов. Затем я отдал за ящичек для хранения патента девять шиллингов шесть пенсов. Примечание. Томас Джой сделал бы мне такой ящичек за восемнадцать пенсов и не остался бы в накладе. Затем я уплатил заместителю казначея лорд-канцлера — два фунта два шиллинга. Затем уплатил начальнику отделения регистрации патентов — семь фунтов тринадцать шиллингов, потом его заместителю — десять шиллингов. Потом снова лорд-канцлеру один фунт одиннадцать шиллингов и шесть пенсов. Наконец я заплатил за труды заместителю хранителя сургуча и заместителю хранителя свечи для растапливания сургуча — десять шиллингов и шесть пенсов. Я прожил у Томаса Джоя свыше шести недель и неоспоренный патент на мое изобретение только для Англии стоил мне девяносто шесть фунтов семь шиллингов и восемь пенсов. Если бы я брал патент для всего Соединенного Королевства, это стоило бы мне больше трехсот фунтов стерлингов. Видите ли, мне очень мало пришлось учиться в мои молодые годы. Тем хуже для меня, скажете вы. И я тоже так говорю. Уильям Бучер на двадцать лет моложе меня. А знает он на добрую сотню лет больше. Если бы Уильям Бучер хотел запатентовать изобретение, он, возможно, оказался бы сообразительней меня, когда его стали бы гонять по канцеляриям, а вот терпения у него, пожалуй, столько бы не нашлось. Примечание. Уильям, он иногда чудит, а тут еще все эти привратники, рассыльные, клерки. Я не сказал еще ничего о том, что до смерти устал, пока получил, наконец, патент на свое изобретение. И я спрашиваю: правильно ли доводить человека до того, что ему кажется, будто он не изобрел что-то на пользу людям, а чуть ли не преступление совершил? Потому что, как иначе может чувствовать себя человек, если на каждом шагу он сталкивается с такими трудностями! Ведь все изобретатели, когда получают патент, проходят через это. — А подумайте только, каковы расходы! Как это несправедливо в отношении меня и как это несправедливо в отношении всей страны, если я сделал что-то хорошее (а мое изобретение, слава богу, пошло в ход и с успехом применяется), что мне приходится нести такие расходы, прежде чем я успею пальцем шевельнуть. Сами посчитайте, сколько мне пришлось заплатить — ровно девяносто шесть фунтов семь шиллингов и восемь пенсов! Не больше и не меньше. Что же сказать против рассуждения Уильяма Бучера о должностях? Полюбуйтесь только: министр внутренних дел, генеральный прокурор, Управление патентов, клерк-регистратор, лорд-канцлер, лорд-хранитель малой государственной печати, начальник канцелярии в Управлении патентов, казначей лорд-канцлера, начальник отделения регистрации патентов, его заместитель, заместитель хранителя сургуча и заместитель хранителя свечи для растапливания сургуча. Ни один человек в Англии не мог бы получить патент на резинку для записной книжки, или на железный обруч для бочки, не уплатив им всем за труды. А некоторым из них и по нескольку раз. Я прошел тридцать пять инстанций, начал с самой королевы, а закончил заместителем хранителя свечки. Примечание. Хотелось бы мне посмотреть на этого заместителя хранителя свечки. Что это за птица такая? То, что мне надо было рассказать, я рассказал. Написал все как было. Надеюсь, что разобрать можно. Я не про почерк говорю (хотя тут похвастаться нечем), а про смысл. И теперь, в заключение, скажу о Томасе Джое. Когда мы прощались, Томас сказал мне: "Джон, если бы законы в нашей стране были такими справедливыми, какими они должны быть, приехал бы ты в Лондон, подал бы точное описание и чертеж своего изобретения, уплатил бы полкроны или около того за регистрацию и засим получил бы свой патент". Я об этом думаю так же, как и Томас Джой. И дальше: с рассуждением Уильяма Бучера, что "всю эту шайку хранителей свечек и сургуча надо разогнать и что хватит с Англии всех этих канцелярских печатей", — я согласен.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА
Сегодня вечером я наблюдал за веселой гурьбою детей, собравшихся вокруг рождественской елки — милая немецкая затея! Елка была установлена посередине большого круглого стола и поднималась высоко над их головами. Она ярко светилась множеством маленьких свечек и вся кругом искрилась и сверкала блестящими вещицами. Тут были розовощекие куклы, притаившиеся в зеленой чаще; было много настоящих часиков (во всяком случае — с подвижными стрелками, их можно было без конца заводить!), качавшихся на бесчисленных ветках; были полированные стулья, столы и кровати, гардеробы и куранты и всякие другие предметы обихода (на диво сработанные из жести в городе Уолвергемптоне[122]), насаженные на сучья, точно обстановка сказочного домика; были здесь и хорошенькие круглолицые человечки, куда приятнее с виду, чем иные люди, — и не удивительно: ведь голова у них отвинчивалась, и они оказывались начинены леденцами; были скрипки и барабаны, были бубны, книжки, рабочие ларчики и ларчики с красками, ларчики с конфетами, ларчики с секретами, всякого рода ларчики; были побрякушки для девочек постарше, сверкающие куда ярче, чем золото и бриллианты взрослых; были самого забавного вида корзиночки и подушечки для булавок; были ружья, сабли и знамена; были волшебницы, стоящие в заколдованном кругу из картона и предсказывающие судьбу; были волчки, кубари, игольницы, флакончики для нюхательных солей, "вопросы-ответы", бутоньерки; настоящие фрукты, оклеенные фольгой; искусственные яблоки, груши, грецкие орехи с сюрпризом внутри; словом, как шепнула в восхищении своей подружке одна стоявшая передо мной хорошенькая девочка, было там "все на свете и даже больше того". Этот пестрый набор предметов, висевших на дереве, как волшебные плоды, и отражавших яркий блеск взоров, направленных на них со всех сторон, — причем иные из алмазных глаз, любовавшихся ими, приходились еле-еле на уровне стола, а некоторые светились испуганным восторгом у груди миловидной матери, тетки или няньки, — являл собой живое воплощение детской фантазии; и мне подумалось, что все — и деревья, какие растут, и вещи, какие создаются на земле, — в наши детские годы расцветает буйной красотой. И вот, когда я вернулся к себе, одинокий, и один во всем доме не сплю, мои мысли, послушные очарованию, которому я не хочу противиться, потянулись к моему далекому детству. Я пробую сообразить, что каждому из нас ярче всего запомнилось на ветках рождественской елки наших юных дней, — на ветках, по которым мы карабкались к действительной жизни. Прямо среди комнаты, не стесняемое в росте ни близко подступившими стенами, ни быстро достижимым потолком, высится дерево-призрак. И когда я гляжу снизу вверх в мглистый блеск его вершины — ибо я примечаю за этим деревом странное свойство, что растет оно как бы сверху вниз, к земле, — я заглядываю в мои первые рождественские воспоминания! Сперва я вижу все только игрушки. Там наверху среди зеленого остролиста[123] и красных ягод ухмыляется, засунув руки в карманы, Акробат, который нипочем не хочет лежать смирно — кладу его на пол, а он, толстопузый, упрямо перекатывается с боку на бок, покуда не умается, и пялит на меня свои рачьи глаза — и тогда я для виду хохочу вовсю, а сам в глубине души боюсь его до крайности. Рядом с ним — эта адская табакерка, из которой выскакивает проклятый Советник в черной мантии, в отвратительном косматом парике и с разинутым ртом из красного сукна: он совершенно несносен, но от него никак не отделаешься, потому что у него есть обыкновение даже во сне, когда его меньше всего ожидаешь, величественно вылетать из гигантской табакерки. Как и та хвостатая лягушка, там поодаль: никогда не знаешь, не вскочит ли она ни с того ни с сего, и когда она, пролетев над свечкой, сядет вдруг тебе на ладонь, показывая свою пятнистую спину — зеленую в красных крапинках, — она просто омерзительна. Картонная леди в юбках голубого шелка, прислоненная к подсвечнику и готовая затанцевать, — она добрей, и она красивая; но я не сказал бы того же о картонном человечке, побольше ее, которого вешают на стену и дергают за веревку: нос у него какой-то зловещий; а когда он закидывает ноги самому себе за шею (что он проделывает очень часто), он просто ужасен, с ним жутко оставаться с глазу на глаз. Когда эта страшная маска впервые посмотрела на меня? Кто ее надел, и почему я до того перепугался, что встреча с ней составила эру в моей жизни? Сама по себе маска не безобразна; она задумана скорее смешной; так почему же ее жесткие черты были так невыносимы? Не потому, конечно, что она скрывала лицо человека. Прикрыть лицо мог бы и фартук; но хоть я и предпочел бы, чтоб и его откинули, фартук не был бы так нестерпим, как эта маска. Или дело в том, что маска неподвижна? У куклы тоже неподвижное лицо, но я же ее не боялся. Или, может быть, при этой явной перемене, свершаемой с настоящим лицом, в мое трепетное сердце проникало отдаленное предчувствие и ужас перед той неотвратимой переменой, которая свершится с каждым лицом и сделает его неподвижным? Ничто не могло меня с ней примирить. Ни барабанщики, издававшие заунывное чириканье, когда вертишь ручку; ни целый полк солдатиков с немым оркестром, которых вынимали из коробки и натыкали одного за другим на шпеньки небольшой раздвижной подставки; ни старуха из проволоки и бурого папье-маше, отрезающая куски пирога двум малышам, — долго-долго ничто не могло меня по-настоящему утешить. Маску поворачивали, показывая мне, что она картонная; наконец заперли в шкаф, уверяя, что больше никто ее не наденет, но и это ничуть меня не успокоило. Одного воспоминания об этом застывшем лице, простого сознания, что оно где-то существует, было довольно, чтобы ночью я просыпался в поту и в ужасе кричал: "Ой, идет, я знаю! Ой, маска!" В те дни, глядя на старого ослика с корзинами (вот он висит и здесь), я не спрашивал, из чего он сделан. Помню, шкура на нем, если пощупать, была настоящая. А большая вороная лошадь в круглых красных пятнах, лошадь, на которую я мог даже сесть верхом, — я никогда не спрашивал себя, почему у нее такой странный вид, и не думал о том, что такую лошадь не часто увидишь в Нью-маркете[124]. У четверки лошадей, бесцветных рядом с этой, которые везли фургон с сырами и которых можно было выпрягать и ставить, как в стойло, под рояль, вместо хвостов были, по-видимому, обрывки мехового воротника, а вместо гривы еще по обрывку, и стояли они не на ногах, а на колышках, но это все было иначе, когда их приносили домой в подарок к рождеству. Тогда они были хороши; и сбруя не была у них бесцеремонно прибита гвоздями прямо к груди, как это ясно для меня теперь. Тренькающий механизм музыкальной коляски состоял — это я выяснил тогда же — из проволоки и зубочисток; а вон того маленького акробата в жилетке, непрестанно выскакивающего с одной стороны деревянной рамки и летящего вниз головой на другую, я всегда считал существом хотя и добродушным, но придурковатым; зато лестница Иакова с ним рядом, сделанная из красных деревянных квадратиков, что со стуком выдвигались друг за дружкой, раскрывая каждый новую картинку, вся сверху донизу в звонких бубенчиках, была чудо из чудес и сплошная радость. Ах! Кукольный дом! Он, правда, не был моим, но я хаживал туда в гости. Я и вполовину так не восхищался зданием парламента, как этим особнячком с каменным фасадом и настоящими стеклянными окнами, с крылечком и настоящим балконом, таким зеленым, каких теперь никогда не увидишь — разве что где-нибудь на курорте; но и те представляют собой только жалкую подделку. И хотя открывался он весь сразу, всей стеной фасада (что, согласен, неприятно поражало, так как обнаруживалось, что за парадным ходом нет лестницы), но стоило только закрыть ее опять, и я снова мог верить. В нем даже и в открытом были явно две отдельные комнаты, гостиная и спальня, изящно меблированные, и к ним еще кухня! Кухня была лучше всего: с плитой, с кочергой из необыкновенно мягкого чугуна и со множеством всяческой утвари в миниатюре — ох, и с грелкой! — и с оловянным поваром в профиль, всегда собирающимся зажарить две рыбины. И с каким же восторгом я, как тот нищий в гостях у Бармесида[125], отдавал должное княжескому пиршеству, когда передо мною ставились деревянные тарелочки, каждая с особым кушаньем, окороком или индейкой, накрепко к ней приклеенной, под каким-то зеленым гарниром — теперь мне вспоминается, что это был мох! Разве могли бы все нынешние Общества Трезвости, вместе взятые, угостить меня таким чаем, какой пивал я из тех голубеньких фаянсовых чашечек, в которых жидкость в самом деле держалась и не вытекала (ее наливали, помню, из деревянного бочонка, и она отдавала спичками) и которые превращали чай в нектар? И если две лопатки недействующих щипчиков для сахара хлопались друг о дружку и ничего не могли ухватить, как руки у Панча[126], так разве это важно? И если однажды я завопил как отравленный и поверг в ужас приличное общество, когда мне случилось выпить чайную ложечку, растворенную ненароком в слишком горячем чае, так мне же это ничуть не повредило — принял порошок, только и всего! На следующей ветке, ниже по стволу, возле зеленого катка и крошечных лопат и граблей густо-густо навешаны книги. Сперва совсем тоненькие, но зато как их много, и в какой они яркой глянцевитой красной или зеленой обертке! Для начала какие жирные черные буквы! "А — это Аист, лягушек гроза". Ясное дело — Аист! И еще Арбуз — пожалуйста, вот он! А было в свое время самыми разными предметами, как и большинство его товарищей — кроме Я, которое было так мало в ходу, что встречалось только в роли Ястреба или Яблока, Ю, неизменно сочетавшегося с Юлой или Юбкой, да Э, навсегда обреченного быть Эскимосом или птицей Эму. Но вот уже и самая ель преображается и становится бобовым стеблем — тем чудесным бобовым стеблем, по которому Джек пробрался в дом Великана! А вот и сами великаны, такие страшные и такие занятные, двуглавые, с дубинкой через плечо, целым взводом шагают по веткам, тащат за волосы рыцарей и дам в свою кухню, на жаркое. А Джек — как он благороден с острой саблей в руке и в сапогах-скороходах! Гляжу на него, и снова бродят у меня в уме те же старые помыслы; и я раздумываю про себя, было ли несколько Джеков (этому не хочется поверить), или все памятные подвиги совершил один настоящий, доподлинный, удивительный Джек! Хорош для рождества алый цвет накидки, в которой Красная Шапочка, пробираясь со своей корзиночкой сквозь чащу (для нее эта елка — целый лес), подходит ко мне в сочельник, чтобы поведать, как жесток и коварен притвора-Волк — съел ее бабушку, нисколько этим не испортив себе аппетита, а потом съел и ее, отпустив кровожадную шутку насчет своих зубов! Она была моей первой любовью. Я чувствовал, что, если бы мог я жениться на Красной Шапочке, то узнал бы совершенное блаженство. Но это было невозможно; и не оставалось ничего, как только высмотреть Волка — вон там, в Ноевом ковчеге и, выстраивая зверей в ряд на столе, поставить его последним как злую тварь, которую нужно унизить. О чудесный Ноев ковчег! Спущенный в лохань, он оказался непригодным для морского плаванья, и зверей приходилось запихивать внутрь через крышу, да и то нужно было сперва хорошенько встряхивать их, чтоб они стояли на ногах и не застревали, а потом был один шанс из десяти, что они не вывалятся в дверь, ненадежно запертую на проволочную петлю, — но что это значило против главного! Полюбуйтесь этой великолепной мухой, в три раза меньше слона; и божьей коровкой, и бабочкой — это же торжество искусства! Полюбуйтесь гусем на таких маленьких лапках и таким неустойчивым, что он имел обыкновение валиться вперед и сшибать всю прочую живность. Полюбуйтесь Ноем и его семьей — глупейшие набивалки для трубок; а леопард как он прилипал к теплым пальчикам; и как у всех зверей покрупнее хвосты постепенно превращались в кусочек истертой веревки! Чу! Снова лес, и кто-то взобрался на дерево — не Робин Гуд, не Валентин[127], не Желтый Карлик[128] (я тут ни разу не вспомнил ни о нем, ни о других чудесах матушки Банч[129]), а Восточный Царь с блестящим ятаганом и в чалме. Клянусь аллахом! Не один, а два восточных царя — я же вижу, из-за его плеча выглядывает второй. На траве у подножья дерева растянулся во всю длину черный как уголь великан и спит, уткнувшись головой в колени дамы; а возле них — стеклянный ларь, запирающийся на четыре сверкающих стальных замка: в нем он держит узницей даму, когда не спит. Вот я вижу у него на поясе четыре ключа. Дама подает знаки двум царям на дереве, и они тихо слезают к ней. Это живая картина по сказкам Шахразады. О, теперь самые обыкновенные вещи становятся для меня необыкновенными и зачарованными! Все лампы — волшебными; все кольца — талисманами. Простые цветочные горшки полны сокровищ, чуть присыпанных сверху землей; деревья растут для того, чтобы прятался на них Али Баба; бифштексы жарятся для того, чтобы кидать их в Долину Алмазов, где к ним прилипнут драгоценные камни, а потом орлы унесут их в свои гнезда, а потом купцы громким криком спугнут орлов из гнезд. Пироги сделаны все по рецепту сына буссорского визиря, который превратился в кондитера после того, как его высадили в исподнем платье у ворот Дамаска; каждый сапожник — Мустафа и имеет обыкновение сшивать разрезанных на четыре части людей, к которым его приводят с завязанными глазами. Каждое вделанное в камень медное кольцо — это вход в пещеру и только ждет волшебника; немного огня, немного колдовства — и вот вам землетрясение. Все финики, сколько их ввозится к нам, сняты с того самого дерева, что и тот злосчастный финик, косточкой которого купец выбил глаз невидимому сыну джинна. Все маслины — из того их запаса, о котором узнал правитель правоверных, когда подслушал, как мальчик, играя, производит суд над нечестным продавцом маслин; все яблоки сродни яблоку, купленному (вместе с двумя другими) за три цехина у султанова садовника и украденному у ребенка высоким чернокожим рабом. Все собаки напоминают ту собаку (а на самом деле превращенного в собаку человека), которая вскочила на прилавок будочника и прикрыла лапой фальшивую монету. Рис всегда приводит на память тот рис, который страшная женщина-вампир могла только клевать по зернышку в наказание за свои ночные пиршества на кладбище. Даже моей лошади-качалке (вот она тут с вывернутыми до отказа ноздрями — признак породы!) вбит колышек в шею в память того, как я взвивался на ней, подобно персидскому принцу, унесенному ввысь деревянным конем на глазах у всех придворных его отца. Да, на каждом предмете, что я различаю среди верхних ветвей моей рождественской елки, я вижу отблеск сказочного света. Когда я просыпаюсь в кроватке, зимним утром, холодным и темным, и белый снег за окном лишь смутно видится сквозь заиндевевшее стекло, я слышу голос Динарзады: "Сестра, сестра, если ты еще не спишь, умоляю тебя, доскажи мне историю о молодом короле Черных Островов". — "Если султан, мой государь, — отвечает Шахразада, — позволит мне прожить еще один день, сестрица, я не только доскажу эту историю, но прибавлю к ней и другую, еще более чудесную". Тут милостивый султан уходит, не отдав приказа о казни, и мы все трое снова можем дышать. На этой высоте я вижу притаившийся в ветвях моего дерева чудовищный кошмар — быть может порожденный индейкой, или пудингом, или мясным пирогом, или фантазией, взошедшей на дрожжах из Робинзона Крузо на необитаемом острове, Филипа Кворла[130] среди обезьян, Сэидфорда и Мертона с мистером Барлоу[131], матушки Банч, и Маски, — или, может быть, тут виновато расстройство желудка и к нему — разыгравшееся воображение и чрезмерное усердие врачей… Он лишь смутно различим, и я не знаю, почему он страшен — знаю только, что страшен… Я только могу разглядеть, что это какое-то нагромождение бесформенных предметов, как будто насаженных на безмерно увеличенные раздвижные подставки для оловянных солдатиков, и оно то медленно придвигается к самым моим глазам, то отступает в туманную даль. Хуже всего, когда оно подступает совсем близко. В моей памяти этот кошмар связан с бесконечно долгими зимними ночами; с тем, как меня в наказание за какой-нибудь мелкий проступок рано отсылали спать и как я просыпался через два часа с таким чувством, точно проспал две ночи; как угнетало меня ожидание рассвета (а вдруг он не настанет никогда?), как давила тяжесть раскаяния. А вот, я вижу, где-то внизу перед широким зеленым занавесом мягко замерцал чудесный ряд огоньков. Раздается звонок — волшебный звонок, который по сей день звучит в моих ушах, непохожий на все другие звонки, — и заиграла музыка среди жужжания голосов и душистого запаха апельсиновой корки и гарного масла. А потом волшебный звонок приказывает музыке смолкнуть, и большой зеленый занавес торжественно взвивается, и начинается спектакль! Преданная собака из Монтаржи[132] мстит за смерть своего хозяина, предательски убитого в лесу Бонди; и пересмешник-крестьянин с красным носом и в очень маленькой шляпе, которого с этого часа я полюбил как задушевного друга (он, кажется, изображал полового или конюха в деревенской гостинице, но мы уже много лет не встречались), отпускает замечание, что у собачки-то и впрямь ума палата, и это шутливое замечание будет снова и снова оживать в моей памяти, в неувядаемой свежести, как венец всех возможных шуток, до конца моих дней! Или вдруг я с горькими слезами узнаю, как бедная Джейн Шор[133], вся в белом, с распущенной каштановой косой, бродит голодная по улицам; или как Джордж Барнуэл[134] убил достойнейшего в мире дядю и так потом сокрушался, что его следовало бы отпустить на свободу. Но вот на смену спешит утешить меня Пантомима, — изумительное явление! — когда стреляют Клоуном из заряженной мортиры в люстру, это яркое созвездие; когда Арлекин, сплошь покрытый чешуею из чистого золота, извивается и сверкает невиданной рыбой; когда Панталоне (полагаю, тут нет ничего непочтительного, если я мысленно приравниваю его к своему дедушке) сует в карман раскаленную кочергу и кричит: "Кто-то идет!", или уличает в мелкой краже Клоуна, приговаривая: "Да я же видел, это сделал ты!", потому что здесь все способно превратиться во что угодно и "нет ничего, чего бы не преображала мысль"[135]. И тут я, видимо, впервые знакомлюсь с томящим ощущением, — не раз потом возникавшим у меня в моей дальнейшей жизни, — что завтра я не смогу вернуться в скучный мир установленных правил; что я хочу остаться навсегда в яркой атмосфере, которую покидаю; что я всей душой привержен маленькой фее с волшебною палочкой, похожею на жезл небесного цирюльника[136], и мечтаю сделаться бессмертным, как фея, чтобы вечно быть возле нее. Ах, она возвращалась во многих обличьях, когда мой глаз скользил вниз по ветвям моей рождественской елки, и так же часто уходила, а ни разу не осталась со мной! Из этого очарования возникает игрушечный театр — вот и он: как мне знаком его просцениум, и теснящиеся в ложах дамы в перьях, и вся сопутствующая возня с пластилином и клейстером и акварелью при постановке "Мельника и его работников" и "Елизаветы, или Изгнания в Сибирь"! Несмотря на кое-какие неполадки и погрешности (как, например, неразумная наклонность почтенного Кельмара и некоторых других ощущать слабость в коленях и сгибаться пополам в волнующих местах драматического действия), богатый мир фантазии оказался таким захватывающим и таким неисчерпаемым, что много ниже на моей рождественской елке я вижу грязные и темные при свете дня настоящие театры, украшенные этими ассоциациями, как самыми свежими гирляндами из самых редких цветов, и все еще пленительные для меня. Но, чу! Зазвучали под окном рождественские песни и разгоняют мой детский сон. Какие образы встают предо мной при этих звуках, представляясь мне рассаженными по ветвям рождественской елки? Издавна знакомые — раньше всех других — и не заслоненные всеми другими, они теснятся вокруг моей кроватки. Ангел заговаривает вполе с толпой пастухов; путники возводят ввысь глаза, следя за звездой; младенец в яслях; дитя в огромном храме держит речь перед маститыми людьми; спокойный человек с прекрасным и кротким лицом берет за руку мертвую девушку и воскрешает ее; и он же у городских ворот вновь призывает к жизни с одра смерти сына вдовы; люди, столпившиеся вокруг, заглядывают в распахнутую крышу комнаты, где он сидит, и на веревках спускают больного вместе с ложем; он же в бурю идет по воде к кораблю; и вот он на берегу поучает большую толпу; вот сидит с ребенком на коленях, а вокруг него другие дети; вот он дарует зрение слепому, речь немому, слух глухому, здоровье больному, силу увечному, знание невежде; вот умирает на кресте под охраной вооруженных воинов, и спускается мрак, трясется земля и слышится лишь одинокий голос: "Прости им, ибо не ведают, что творят!" Ниже, на более взрослых ветвях рождественской елки, воспоминания теснятся так же густо. Захлопнуты учебники. Смолкли Овидий с Вергилием;[137] давно пройдено тройное правило с его наглыми и въедливыми, вопросами. Теренций и Плавт больше не разыгрываются на арене из сдвинутых парт, сплошь в кляксах, зарубках, зазубринах; а повыше — тоже заброшенные — крикетные биты, воротца, мячи, и запах вытоптанной травы, и заглушенный шум голосов в вечернем воздухе; елка еще зеленая, еще веселая. Если я перестал приезжать домой на рождество, так хватит (слава богу!) других мальчиков и девочек на все время, покуда мир стоит; и они приезжают! Вот они весело играют и танцуют по ветвям моей елки, благослови их бог, и сердце мое играет и танцует вместе с ними! А впрочем, и я пока еще приезжаю домой на рождество. Мы все приезжаем домой, или должны приезжать, на короткие каникулы — чем длиннее, тем лучше из той большой школы, где мы, не ладя с арифметикой, вечно бьемся над аспидной доской; приезжаем, чтобы отдохнуть самим и дать отдых другим. А куда поехать погостить? Да куда захотели, туда и поехали! Где только мы не побываем, когда нам того захочется: от рождественской елки фантазия помчит нас куда угодно. Вдаль, в зимнюю дорогу! На елке их не мало! То по низменной мглистой земле, сквозь туманы и топи, то в гору, вьется она, темная как пещера, между густыми зарослями, почти закрывшими сверкание звезд; так выбиваемся мы к простору нагорья, покуда вдруг не умолкает стук копыт: мы остановились у въезда в парк. Колокольчик над воротами полным, почти что жутким звуком прогудел в морозном воздухе; ворота, распахнувшись, покачиваются на петлях; и когда мы едем по аллее к большому дому, мерцающий в окнах свет разгорается ярче и два ряда деревьев как бы торжественно расступаются, чтобы нас пропустить. Весь день было так, что по белому полю нет-нет, а пронесется испуганный заяц; или отдаленный топот оленьего стада по твердой мерзлой земле вдруг на минуту нарушит тишину. Зоркие глаза оленей, наверно, и сейчас, если приглядеться, засверкают под папоротником ледяными росинками на листве; но сами олени притихли, как притихло все вокруг. Итак, в то время, как свет в окнах разгорается ярче и деревья перед нами расступаются и смыкаются за нами вновь, как будто запрещая отступление, мы подъезжаем к дому. Наверно, стоит все время запах печеных каштанов и прочих вкусных вещей, потому что мы рассказываем зимние истории или истории о привидениях (как же без них!) у рождественского камелька; и мы не трогались вовсе с места разве что придвигались поближе к огню. Но это неважно. Мы вступили в дом, и это — старый дом, он полон больших каминов, где жгут по старинке огромные поленья, и мрачные портреты (с иными из них связаны мрачные предания) подозрительно косятся с дубовой обшивки стен. Мы — средних лет высокородный дворянин и сидим за богатым ужином с хозяином дома, его женой и гостями святки, значит в доме большой съезд, — а потом отправляемся почивать. Комната наша очень старая. Она увешана гобеленами. Нам не нравится портрет кавалера в зеленом, над полкой камина. Большие черные балки проходят по потолку, полог большой черной кровати поддерживают в изножье две большие черные фигуры: так и кажется, что они нарочно, ради нашего удобства, сошли с двух надгробий в старой баронской церкви в парке. Но мы не суеверны, и нас это не смущает. Так! Мы отпустили своего слугу, заперли дверь и сидим в халате у огня, раздумывая о разных вещах. Наконец мы ложимся спать. Так! Мы не можем уснуть. Ворочаемся, мечемся и не можем уснуть. В камине судорожно полыхают угольки и придают комнате призрачный вид. Мы невольно поглядываем из-под одеяла на две черные фигуры и на кавалера… на кавалера с неприятным взглядом… кавалера в зеленом. Во вспышках света они то как будто придвигаются, то отступают, что, хоть мы ничуть не суеверны, нам неприятно. Так! У нас расходятся нервы — все хуже и хуже расходятся нервы. Мы говорим: "Очень глупо, но мы не можем этого перенести. Прикинемся больными и постучим — пусть кто-нибудь придет". Так! Только мы собрались постучать, запертая дверь раскрывается и входит молодая женщина, мертвенно-бледная, с длинными светлыми волосами, плавно придвигается к огню, садится в оставленное нами кресло и ломает руки. Потом мы видим, что платье на ней мокрое. У нас язык прилип к гортани, и мы не можем заговорить; но мы в точности все примечаем. На ней мокрое платье; в длинных ее волосах запуталась тина; одета она, как было в моде двести лет назад; и на поясе у нее связка ржавых ключей. Так! Она тут сидит, а мы оцепенели и не можем даже лишиться чувств. Вот она встает и пробует все замки в комнате своими ржавыми ключами, но ни один не подходит; потом останавливает глаза на портрете кавалера в зеленом и говорит тихим, зловещим голосом: "Об этом знают олени!" Потом опять ломает руки, скользит мимо кровати и выходит через дверь. Мы поспешно надеваем халат, хватаем пистолеты (мы ездим всегда с пистолетами) и бросаемся вслед, но дверь оказывается заперта. Мы повернули ключ, выглянули в темную галерею там никого. Мы бредем обратно, пытаемся найти своего слугу. Не находим его. Мы до рассвета шагаем по галерее; потом возвращаемся в оставленную нами комнату, засыпаем, и нас будят наш слуга (его-то не смущали никакие призраки) и яркое солнце. Так! За завтраком мы едим через силу, и все за столом говорят, что у нас какой-то странный вид. После завтрака хозяин обходит с нами дом, мы подводим его к портрету кавалера в зеленом, и тут все разъясняется. Кавалер обольстил молодую домоправительницу, которая преданно служила этой семье и славилась своей красотой; она утопилась в пруду, и много позже ее тело было обнаружено потому, что олени не желали больше пить воду из этого пруда. После чего стали поговаривать тишком, что в полночь она расхаживает по дому (но заходит чаще всего в ту комнату, где обычно спал кавалер в зеленом), пробуя старые замки ржавыми ключами. Так! Мы рассказываем хозяину дома, что мы видели, и по его лицу проходит тень, и он просит нас сохранить это в тайне. Мы так и сделали; но это истинная правда; и мы ее поведали перед смертью (нас уже нет в живых) некоторым вполне почтенным людям. Счета нет старым домам с гулкими галереями, унылыми парадными спальнями и закрытыми много лет флигелями, в которых "нечисто" и по которым мы можем слоняться с приятной щекоткой в спине и встречать призраки в любом количестве, но все же (это стоит, пожалуй, отметить) сводимые к очень немногим общим типам и разрядам: потому что призраки не отличаются большой своеобычностью и бродят по проторенным тропам. Бывает, например, что в некоей комнате некоего старого помещичьего дома, где застрелился некий злой лорд, барон, баронет или просто дворянин, имеются некие половицы, с которых не сходит кровь. Вы можете их скоблить и скоблить, как делает теперешний владелец дома, или стругать и стругать, как делал его отец, или скрести и скрести, как делал его дед, или травить и травить кислотами, как делал его прадед, — кровяное пятно все равно остается, не ярче и не бледней, не увеличиваясь и не уменьшаясь, всегда такое же точно. Бывает, в другом подобном доме имеется загадочная дверь, которую никак не отворить; или другая дверь, которую никак не затворить; или слышится загадочное жужжание веретена, или стук молотка, или шаги, или крик, или вздох, или топот коня, или лязг цепей. А то еще имеются часы на башне, выбивающие в полночь тринадцать ударов, когда должен умереть глава семьи; или призрачная, недвижимая черная карета, которая в такое время непременно привидится кому-нибудь, ожидающая у ворот, что ведут к конюшням. Или бывает так, как случилось с леди Мэри, когда она приехала погостить в большом запущенном замке в горной Шотландии и, утомленная долгой дорогой, рано легла спать, а на другое утро, за завтраком, простодушно сказала: "Как странно, в таком отдаленном месте поздно вечером — гости, а меня никто о том не предупредил, когда я пошла спать!" Тут все стали спрашивать леди Мэри, что она имеет в виду? Леди Мэри ответила: "Да как же, всю ночь по гребню вала под моим окном кружили и кружили кареты!" Тут хозяин побледнел, и побледнела его жена, а Чарльз Макдудл из Макдудла сделал знак леди Мэри больше ничего не добавлять, и все примолкли. После завтрака Чарльз Макдудл объяснил смущенной леди Мэри, что в семье есть поверье, будто эти проезжающие с грохотом по гребню вала кареты предвещают смерть. Так и оказалось: два месяца спустя владетельница замка умерла. И леди Мэри — а она была фрейлиной при дворе — частенько рассказывала эту историю старой королеве Шарлотте, наперекор старому королю, который постоянно говорил: "Что, что? Привидения? Нет их, это все выдумки, выдумки!" И, бывало, не перестает повторять это, пока не пойдет спать. Или друг нашего общего знакомого в юности, когда учился в колледже, имел в свой черед закадычного друга, с которым уговорился, что, если возможно для духа после разлуки с телом вернуться на эту землю, тот из них двоих, кто первый умрет, явится второму. С течением времени наш герой позабыл об уговоре; жизнь у обоих молодых людей сложилась по-разному, и их пути далеко разошлись. Но однажды ночью, много лет спустя, когда наш герой, попав в северную Англию, заночевал в гостинице где-то на йоркширских болотах, ему случилось выглянуть из кровати; и тут в лунном свете он увидел… своего старого друга, товарища по колледжу: он стоял, опершись на письменный стол у окна, и пристально глядел на него! Призрак, когда к нему обратились, ответил вроде бы шепотом, но очень внятно: "Не подходи ко мне. Я мертв. Я явился сюда, исполняя свое обещание. Я пришел из другого мира, но не могу разглашать его тайны!" Потом призрак стал бледнеть и, постепенно расплываясь, истаял в лунном свете. Или так: у первого владельца живописного елизаветинского дома, что славится на всю нашу округу, была дочь. Вы слышали о ней? Нет?! Так вот, однажды, летним вечером, в сумерки, она — красивая юная девушка семнадцати лет — вышла в сад, чтобы нарвать цветов; и вдруг она, перепуганная, вбегает в дом к отцу и говорит: "Ох, дорогой мой отец, я встретила самое себя!" Он обнял ее и сказал, что это ей почудилось, но она сказала: "Ах нет! Я встретила самое себя на широкой аллее, и я была бледна и собирала увядшие цветы, и я повернула голову и подняла цветы над головой!" И в ту же ночь она умерла; и начата была картина, изображающая ее историю, но осталась недописанной, и говорят, она и сейчас стоит где-то в доме, лицом к стене. Или так: дядя жены моего брата теплым вечером, на закате, ехал верхом домой, когда на зеленом проселке, совсем уже близко от своего дома, увидел человека, стоявшего перед ним в точности на середине узкой дороги. "Зачем стоит здесь этот человек в плаще? — подумал он. — Хочет, что ли, чтобы я его переехал?" Но фигура не двигалась. Ему стало жутко от этой неподвижности, но он сбавил ход и поехал дальше. Когда он наехал так близко, что едва не задел ее стременем, его конь шарахнулся, а фигура заскользила вверх по косогору, каким-то необычным, неземным, способом — пятясь и как будто не переступая ногами, — и скрылась из глаз. Дядя жены моего брата, воскликнув: "Боже мой! Это Гарри, мой кузен из Бомбея!" — дал шпоры внезапно взмылившемуся коню и, удивляясь странному поведению гостя, понесся к своему дому — в объезд, к главному фасаду. Здесь он увидел ту же фигуру, входившую через высокую стеклянную дверь прямо в гостиную. Он бросил поводья слуге и поспешил вслед. Сестра его сидела в гостиной одна. "Элис, а где наш кузен Гарри?" — "Кузен Гарри, Джон?" — "Да. Из Бомбея. Я только что встретился с ним на проселке и видел, как он сию секунду вошел сюда". Никто в доме не видел ни души; но в тот самый час и минуту, как выяснилось впоследствии, этот кузен умер в Индии. А то еще была одна рассудительная леди, умершая старой девой на девяносто девятом году жизни и до конца сохранившая ясность ума; и она видела воочию Мальчика-Сироту, чью историю часто рассказывают неправильно, но о ком мы вам поведаем истинную правду — потому что история эта имеет прямое касательство к нашей семье, а старая леди состоит в родстве с нашей семьей. Когда ей было лет сорок и она была еще на редкость красивой женщиной (ее жених умер молодым, почему она так и не вышла замуж, хотя многие искали ее руки), она приехала погостить в одно имение в Кенте, недавно купленное ее братом-купцом, который вел торговлю с Индией. Шла молва, что когда-то управление этим имением было доверено опекуну одного маленького мальчика; и опекун, будучи сам ближайшим его наследником, уморил этого мальчика своим суровым и жестоким обращением. Она об этом ничего не знала. Говорили, будто в ее спальне оказалась клетка, в которую опекун будто бы сажал мальчика. Ничего такого там не было. Там был только чулан. Она легла спать, не поднимала ночью никакой тревоги, а утром спокойно спросила у горничной, когда та вошла: "Кто этот хорошенький ребенок с печальными глазами, что всю ночь выглядывал из чулана?" Горничная вместо ответа громко вскрикнула и тотчас убежала. Леди удивилась; но она была женщина замечательной силы духа: она оделась, сошла вниз и заперлась наедине со своим братом. "Вот что, Уолтер, — сказала она, — мне всю ночь не давал покоя хорошенький мальчик с печальными глазами; он то и дело выглядывал из того чулана в моей комнате, который я не могу открыть. Это чьи-то проказы". — "Боюсь, что нет, Шарлотта, — ответил брат. — С домом связано предание, и этот случай его подтверждает. Ты видела Мальчика-Сироту. Что он делал?" — "Он тихонько отворял дверь, сказала она, — и заглядывал ко мне. Иногда входил и делал шаг-другой по комнате. Тогда я его подзывала, чтоб его приободрить, но он пугался, вздрагивал и прятался опять в чулан и закрывал дверь". — "Из чулана, Шарлотта, — сказал брат, — нет хода в другие помещения дома, и он заколочен". Это была бесспорная правда, и два плотника протрудились с утра до обеда, пока смогли открыть чулан для осмотра. Тогда она убедилась, что видела Мальчика-Сироту. Но самое страшное и мрачное в этой истории то, что Сироту видели также один за другим три сына ее брата, и все трое умерли малолетними. Каждый из них заболевал при таких обстоятельствах: за двенадцать часов перед тем он прибегал весь в жару и говорил матери, что ах, мол, мама, он играл под большим дубом на известном лугу с каким-то странным мальчиком — хорошеньким, с печальными глазами, который был очень пуглив и подавал ему знаки! По горестному опыту родители знали, что это был Мальчик-Сирота и что их ребенку, с которым он вступил в игру, недолго осталось жить. Имя легион тем немецким замкам, где мы сидим в одиночестве, ожидая появления Призрака; где нас проводят в комнату, которой придан ради нашего приезда относительно уютный вид; где мы следим взором за тенями, пляшущими на голых стенах под потрескивание огня в камине; где нас охватывает чувство одиночества, когда содержатель деревенской гостиницы и его миловидная дочка уйдут к себе, подложив побольше дров в огонь и поставив на столик незатейливый ужин — холодного жареного каплуна, хлеб, виноград и бутылку старого рейнвейна; где захлопнутся за ними одна за другой несколько дверей и эхо гулко прозвучит, как столько же грозных раскатов грома; и где нам после полуночи откроются различные сверхъестественные тайны. Имя легион тем преследуемым призраками немецким студентам, в чьем обществе мы, когда вдруг распахнется дверь, только ближе придвинемся к огню, между тем как маленький школьник в своем углу широко раскроет глаза и убежит, вскочив со скамеечки, на которой было прикорнул. Обилен урожай такого рода плодов, сверкающих на нашей рождественской елке: их цвет украшает ее чуть не у самой вершины; внизу же наливаются на ветвях плоды — чем ниже, тем зрелее! Пусть среди более поздних утех и забав, нередко столь же праздных, но менее чистых, пред нами, вовек неизменные, маячат видения, что нам являлись, бывало, под милые старые рождественские песни, под мягкую вечернюю музыку. Среди светской суеты рождественских праздников пусть по-прежнему, в неизменном обличий, стоят перед нами те образы, что в детстве воплощали для меня добро. В каждом светлом представлении и помысле, порожденном этой порою, та яркая звезда, что встала над бедною крышей, да будет звездою всего христианского мира! Постой минуту, о исчезающая елка, так темны для меня твои нижние ветви — дай мне вглядеться еще раз. Я знаю, там у тебя между сучьями есть пустые места, где улыбались и сияли любимые мною глаза, ныне угасшие. Но в вышине я вижу воскресителя мертвой девушки, воскресителя сына вдовы; и бог добр! Если где-то внизу в твоей непроглядной чаще для меня упрятана старость, о пусть мне будет дано уже седому возносить к этому образу детское сердце, детское доверие и упование. Вокруг елки теперь расцветает яркое веселье — пение, танцы, всякие затеи. Привет им! Привет невинному веселью под ветвями рождественской елки, которые никогда не бросят мрачной тени! Но когда она исчезает из глаз, я слышу доносящийся сквозь хвою шепот: "Это для того, чтобы люди не забывали закон любви и добра, милосердия и сострадания. Чтобы помнили обо мне!"
"РОЖДЕНИЯ. У МИССИС МИК — СЫН"
Моя фамилия — Мик. Я действительно мистер Мик. Этот сын наш — мой и миссис Мик. Когда я прочел объявление в "Таймсе", газета выпала у меня из рук. Я дал его сам, уплатил за него, но это выглядело так аристократически, что я был ошеломлен. Как только я достаточно овладел собой, я поднял газету и понес ее миссис Мик, еще лежавшей в постели. — Мария Джейн, — сказал я (обратившись, разумеется, к миссис Мик), — ты теперь персона. Мы с величайшим волнением перечитали, и не раз, заметку о новорожденном; и я послал мальчишку, чистильщика сапог и башмаков, купить в редакции пятнадцать экземпляров. Отпустили, но без скидки на оптовую закупку. Едва ли нужно говорить, что ребенка мы ждали. Очень ждали, а последние два-три месяца ждали даже, можно сказать, с уверенностью. Матушка моей супруги, Марии Джейн Мик, проживающая с нами — зовут ее миссис Бигби, приготовила все необходимое для его вступления в наш семейный круг. Мне думается и верится, что я — тихий человек. Скажу больше: я знаю, что я тихий человек. Я робок от природы, и голос у меня негромкий, а по части роста, так я с детских лет был всегда невысок. Я отношусь с величайшим почтением к маме Марии Джейн. Она замечательная женщина. Я высоко чту маму Марии Джейн. В моем представлении она может одна, без посторонней помощи, обрушиться на город со шваброй в руках и смести его прочь. Я не знаю случая, когда б она хоть кому-нибудь в чем-нибудь уступила. Она создана повергать в трепет самое смелое сердце. И все же… Но не буду забегать вперед. О том, что мама миссис Мик приступила к некоторым приготовлениям, я узнал впервые несколько месяцев тому назад. В тот день я раньше обычного пришел домой из конторы и, входя в столовую, натолкнулся на препятствие за дверью, помешавшее свободно ее отворить. Препятствием было что-то мягкое. Заглянув за дверь, я обнаружил, что это женщина. Женщина стояла в углу и лакала херес. Судя по терпкому запаху этого напитка, продушившему всю комнату, она лакала уже второй стакан. На ней был огромного размера черный чепец, и сама она была весьма объемиста. Ее лицо выражало суровость и недовольство. Увидав меня, она произнесла такие слова; — А ну, сэр, не угодно ли вам убраться вон! Нам с миссис Бигби мужское общество здесь ни к чему! Эта женщина была миссис Продгит. Я, разумеется, тотчас же удалился. Я почел себя оскорбленным, но спорить не стал. После обеда я, возможно, не скрыл своего дурного расположения духа из-за того, что меня объявили лишним, наверно не скажу. Но только мама Марии Джейн перед отходом ко сну сказала мне — тихим, четким голосом и с укором во взоре, чем окончательно меня подавила: — Джордж Мик, миссис Продгит приглашена для ухода за вашей женой! Я не таю зла на миссис Продгит. Разве похоже на меня, пишущего это со слезами на глазах, чтобы я способен был на сознательную враждебность к женщине, от которой так существенно зависело благополучие Марии Джейн? Я готов допустить, что виновна судьба, а не миссис Продгит; но остается бесспорной истиной, что эта особа внесла разлад и развал в мое скромное жилище. Мы бывали счастливы после первого ее появления; порою даже чрезвычайно счастливы. Но всякий раз, как раскрывалась дверь гостиной и нам докладывали (а бывало это очень часто): "Миссис Продгит!" — наш порог переступала беда. Я не выносил вида миссис Продгит. В присутствии миссис Продгит я чувствовал, что меня тут не желают, что я просто не имею права на существование. Между мамой Марии Джейн и миссис Продгит было жуткое тайное взаимопонимание загадочная связь и заговор, в силу которого я оказывался отстранен от них, как существо, недостойное их общества. Точно я совершил что-то дурное. Каждый раз, как приходила миссис Продгит, я после обеда удалялся в свою туалетную — комнату, где в зимние месяцы температура, скажем прямо, очень невысокая, — и сидел там, поглядывая на пар, который шел у меня изо рта, и на козлы для сапог — вещь безусловно полезная в доме, но не из тех, по-моему, что могут развеселить своим видом. Поскольку так обстояло дело, я не берусь описать весь ход тех совещаний, которые велись с миссис Продгит. Замечу только, что все время, пока тянулось обсуждение, миссис Продгит неизменно лакала херес; и что кончались они неизменно одним и тем же: Мария Джейн лежала на диване в полном угнетении духа; а мама Марии Джейн, когда мне разрешалось вернуться, неизменно встречала меня взглядом скорбного торжества, говорившим совершенно ясно: "Ну вот, Джордж Мик! Вы видите мою дочь, Марию Джейн, загубленной — надеюсь, вы теперь довольны!" Я пропускаю те недели, что протекли между днем, когда миссис Продгит выдвинула свой протест против мужского общества, и той достопамятной ночью, когда я привез ее в наемном кэбе в свой непритязательный дом, взгромоздив на крышу кэба огромный сундук, а между колен у кучера поставив тюк, картонку и корзинку. Я не возражаю, что миссис Продгит (по наущению и при соучастии миссис Бигби, в которой я чту, ни на час о том не забывая, родительницу Марии Джейн) полностью подчинила своей власти все мое незатейливое домашнее устройство. Пусть в глубине моей души притаилась мысль, что мужчина, ворвавшийся в ваш дом описывать имущество, не может быть так страшен, как женщина, особенно, если эта женщина — миссис Продгит; но я обязан многое сносить — и надеюсь, я все терпеливо снесу. Меня шпыняют, принижают, не щадят моего самолюбия; но я терплю и не жалуюсь. Может быть, это со временем даст себя знать; может быть, так меня загоняют, что станет невмоготу, — но я все же молчу, не желаю поднимать в семье скандал. Однако голос природы громко требует, чтобы я вступился за Августа Джорджа, моего младенца-сына. Ради него я решаюсь высказать жалобу в простых человеческих словах. Я нисколько не гневаюсь; я кроток… но несчастен. Я хотел бы знать, почему, когда ожидалось вступление в наш тесный круг моего ребенка, Августа Джорджа, был сделан большой запас булавок, как будто ожидали мы не безвинного младенца, а преступника, которого с первой минуты его появления надо подвергнуть пыткам? Я хочу знать, почему так торопились натыкать этих булавок по всему его беспомощному тельцу, со всех сторон? Я хочу, чтобы мне объяснили, почему Август Джордж должен, как отравы, беречься света и воздуха? Почему, я спрашиваю, моего безобидного крошку так глушат в его спальной коляске коленкором и кисеей, пеленками и одеяльцами, что я могу только услышать, как он пыхтит (еще бы!) где-то глубоко под розовым колпаком этой разъездной купальной кабины, а разглядеть его личико мне и вовсе не удается, разве что кончик носа. Разве ожидалось, что я буду отцом дверного молотка? А нет, так зачем же тогда собрали коллекцию щеток изо всех стран мира, чтобы полировать Августа Джорджа? Или хотят меня уверить, что самой природой было предназначено, чтоб на его нежной коже проступила сыпь, оттого что слишком рано и слишком рьяно стали испытывать на нем эти страшные маленькие орудия? Разве мой сын — мускатный орех, что нужно его тереть об острые края твердых оборочек? Разве у меня родился муслиновый мальчик, что нужно плоить и гофрировать его податливую поверхность? Или мое дитя состоит из бумаги и полотна, что тончайшее искусство, каким занимается прачка, налагает свою печать, как я постоянно это замечаю, на его ручки и ножки? Крахмал входит ему в душу; так чего же удивляться, что он плачет? Положено ли было Августу Джорджу иметь конечности, или он должен был родиться сплошным туловищем? Думается, ему полагались конечности, как это водится повсюду. Так почему же конечности у моего несчастного младенца вечно скручены и связаны? Или меня станут уверять, что существует некое подобие между Августом Джорджем Миком и Джеком Шеппардом?[138] Пошлите касторовое масло на анализ в любую химическую лабораторию по обоюдному нашему уговору и потом дайте мне знать, какое было у него обнаружено сходство во вкусе с тем естественным продуктом, которым положено Марии Джейн — не только по долгу, но и с гордостью — питать Августа Джорджа! А между тем я изобличаю миссис Продгит в том, что она (по наущению и при соучастии миссис Бигби) принуждает моего невинного сына с первого же часа его жизни систематически глотать касторку. Когда же это лекарство, возымев свое действие, вызывает у Августа Джорджа внутреннее расстройство, я изобличаю миссис Продгит в том, что она (по наущению и при соучастии миссис Бигби) бестолково и непоследовательно прибегает к опиуму, чтобы унять бурю, которую сама произвела! Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Если миновали дни египетских мумий, как смеет миссис Продгит требовать для моего сына полотна и фланели в таком количестве, что достало бы покрыть крышу моего смиренного жилища? Удивляет ли меня такое требование? Ничуть! Сегодня утром я целый час наблюдал это сокрушающее зрелище: Августа Джорджа — руками миссис Продгит и на коленях у миссис Продгит — изволили одевать. Тут он мне предстал, говоря относительно, в своем естественном виде, так как на нем не было ничего, кроме нелепо коротенькой рубашечки, поразительно несоразмерной с длиною его обычной верхней одежды. Ниспадая с колен миссис Продгит, по полу волочился длинный узкий свиток или бинт протяжением, сказал бы я, в несколько ярдов. И этим бинтом миссис Продгит у меня на глазах принялась натуго обвивать моего безобидного крошку, переворачивая его снова и снова, так что можно было увидеть то его несмышленое личико, то лысый затылок; когда же это противоестественное действо завершилось, свиток был закреплен булавкой, которая вонзилась — у меня все основания так думать — в тело моего единственного дитяти. Так, затянутый жгутом, он должен прожить всю младенческую пору своей жизни. Могу ли я, зная это, сохранять на лице улыбку! Боюсь, меня так распалили, что я выражаюсь слишком горячо, но ведь мне больно. Не за себя, за Августа Джорджа. Я не смею вмешаться. Но, может быть, посмеют другие? Какой-нибудь печатный орган? Или врач? Или родители? Какая-нибудь корпорация? Я не жалуюсь, что миссис Продгит (по наущению и при соучастии миссис Бигби) успела окончательно отнять у меня привязанность Марии Джейн и воздвигла между нами непреодолимую преграду. Я не жалуюсь, что меня ни во что не ставят. Мне и не нужно, чтобы меня во что-то ставили! Но Август Джордж — произведение природы (иначе я мыслить не могу), и я требую, чтобы с ним обходились хотя бы в отдаленном согласии с природой. Я держусь того мнения, что миссис Продгит есть от начала до конца некий предрассудок и условность. Неужели все авторитеты боятся миссис Продгит? А если нет, то почему они не возьмутся за нее, не образумят? P. S. — Мама Марии Джейн хвастается, что она знает толк в таких вещах, и говорит, что вырастила, кроме Марии Джейн, еще семерых детей. Но откуда мне знать, а не могла ли бы она вырастить их много лучше? Сама Мария Джейн далеко не крепкая, она подвержена головной боли и нервическим расстройствам пищеварения. Кроме того, мне известно, что, по данным статистики, один ребенок из пяти умирает на первом году своей жизни; и один ребенок из трех не дожив до пяти лет. Думаю, отсюда никак не следует, что мы так никогда и не сможем кое-что улучшить в этой области. P. P. S. — У Августа Джорджа начались судороги.
С ИНСПЕКТОРОМ ФИЛДОМ — ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ СЛУЖБЫ
Который час? Часы на колокольне Сент-Джайлса[139] бьют девять. Вечер сырой и унылый, и вереницы фонарей затянуты мутью, как будто мы глядим на них сквозь слезы. Дует волглый ветер, и каждый раз, как пирожник приоткроет дверцу своей жаровни, вырывает огонь из трубы и уносит вдаль ворох искр. Часы Сент-Джайлса пробили девять. Мы как раз вовремя. Где инспектор Филд? Помощник комиссара полиции уже здесь, завернувшись в клеенчатый плащ, стоит в тени колокольни Сент-Джайлса. Сержант службы сыска — как ни устал он весь день говорить по-французски с иностранцами, привезшими свои диковины на выставку[140], — тоже здесь. Где инспектор Филд? На этот вечер инспектор Филд — ангел-хранитель Британского музея. Он окидывает острым глазом уединенные галереи музея, прежде чем сказать свое "В порядке!". Подозрительно оглядывая мраморы Эль-Джина[141] и зная, что его не проведут кошачьи лики египетских колоссов, держащих руки на коленях, инспектор Филд, проницательный, бдительный, с фонарем в руке, отбрасывающим чудовищные тени на стены и на потолок, проходит просторными залами. Если бы мумия чуть шевельнула уголком пыльного своего покрова, инспектор Филд сказал бы: "Выходи оттуда, Том Грин. Я знаю, это ты!" Если бы самый маленький лондонский мазурик прикорнул на дне древнеримской ванны, инспектор Филд учуял бы его тончайшим нюхом, каким не обладал и великан, когда смелый Джек лежал, дрожа, в его кухонном котле. Но все спокойно. Инспектор Филд осторожно проходит дальше, будто ни к чему особенно не присматриваясь, только остановится, признав в ихтиозавре старого знакомого, и, может быть, спросит сам себя, как работали сыщики до великого потопа. Долго еще задержится инспектор Филд на этой работе? Возможно, еще с полчаса. Он шлет привет с констеблем и предлагает нам встретиться в полицейском участке Сент-Джайлса, через дорогу. Отлично. Там у очага стоять не хуже, чем здесь, в тени колокольни. Что-нибудь здесь происходит нынче вечером? Почти ничего. Нас не обеспокоят. Сидит у огня заблудившийся мальчик, очень смирный, очень маленький, которого мы сейчас без опасения отправим с констеблем домой, потому что крошка говорит, что если его доведут до улицы Ньюгет, то дальше он сам доведет до дома, где живет; в камере буянит пьяная женщина надорвала голос в визге, и теперь у нее едва хватает силы объяснить, даже с бурной помощью рук и ног, что она дочь британского офицера и разрази ее гром, если она не напишет письмо королеве! — но, выпив глоток воды, сразу унялась; в другой камере тихая женщина с младенцем у груди — за нищенство; в третьей ее муж — в холщовой блузе, с корзиной кресс-салата; еще в одной карманник; а рядом — обмякший, трясущийся старик из работного дома, его выпустили погулять ради праздника, и он "выпил одну каплю, но она его свалила с ног, после того как он много месяцев просидел в четырех стенах"; вот пока и все. Но в дверях участка вдруг засуетились — что-то важное… Мистер Филд, джентльмены! Инспектор Филд входит, отирая лоб, потому что он грузен, а шел быстрым шагом, расставшись с металлами и рудами всех рудников земли, и с богами-попугаями Океании, с птицами и жуками тропических стран, с искусством Греции и Рима и скульптурами Ниневии[142], с реликвиями еще более древнего, доисторического мира. Роджерс готов? Роджерс готов: шинель, ремень затянут, посередине на ремне фонарик — глаз, переползший со лба на живот циклопа. Вперед, Роджерс, в Крысиный Замок! Много ли нашлось бы в Лондоне людей, которые, если их провести окольным путем, с завязанными глазами, на эту улицу, что в пятидесяти шагах от участка и откуда слышен бой часов Сент-Джайлса, распознают, что это неподалеку от той части города, где они живут с малых лет? Многие ли из них среди этой мешанины тошнотворных запахов, этих нечистот, этого тесного скопления домов со всею гнусью, что содержится в них, живой и не живой, просачивающейся отовсюду, чтобы разлиться по черным мостовым, — многие ли поверят, что вот этим воздухом они и дышат? Кто из бюрократов, оглянувшись на эти лица, что сейчас окружили нас тесным кольцом — потому что при нашем появлении все потянулось ото всех точек к единому центру, — на эти угрюмые лбы, желто-бледные щеки, жесткие глаза, нечесаные волосы, заразный, кишащий насекомыми ворох лохмотьев, — мог бы сказать: "Я об этом думал. Я не отмахнулся. Не отделался от этого пустыми словами, не заморозил вопроса, не отложил прочь папки с этим делом, перевязав ее тесьмой, и не промолвил спокойно: "Ну и что?", когда мне это показали"? Однако вовсе не это интересует Роджерса. Роджерса интересует, намерены ли вы — то есть кое-кто из вас — уйти с дороги, или не намерены; потому что, ежели вы тотчас же не разойдетесь, он вас запрячет под замок! Как! И вы здесь, Боб Майлз? С вас еще не довольно, нет? Хотите сесть еще на три месяца? А ну, подальше от этого джентльмена! Вы зачем тут увиваетесь? — А что я такого делаю, мистер Роджерс? — говорит Боб Майлз, показав свою гнусную рожу в конце световой дорожки, проложенной фонарем. — Я вам живо растолкую, если вы сейчас же не унесете ноги! Унесете вы ноги или нет? Угодливый ропот пробегает в толпе. — Уноси ноги, Боб, раз мистер Роджерс и мистер Филд тебе говорят! Ты что не уносишь ноги, когда тебе сказано? Среди всех голосов ухо мистера Роджерса уловило самый нахальный. Сержант внезапно наводит фонарь на обладателя этого голоса. — Как! И вы здесь, мистер Клик? Уносите-ка ноги и вы а ну! — Чего ради? — говорит, смешавшись, Клик. — Вы унесете ноги или нет? — строго повторяет Роджерс. Клик и Майлз, без лишних слов, оба "уносят ноги", или попросту говоря убегают. — Сомкни строй! — говорит инспектор Филд двум постовым констеблям, присоединившимся к нам. — Плечо к плечу, джентльмены; мы сходим вниз. Головы ниже! На колокольне Сент-Джайлса бьет половину одиннадцатого. Низко нагнувшись, чуть не ползком, мы сходим по крутым ступенькам в темный, тесный подвал. Огонь в очаге. Длинный сосновый стол. Скамейки. В подвале полно народу — все больше молодые парнишки, один другого грязней и ободранней. Некоторые ужинают. Ни одной девушки или женщины. Знакомьтесь с Крысиным Замком, джентльмены, и с этой компанией записных воров! — Здорово, ребята! Как поживаете? Что поделывали сегодня? Тут вот хорошие люди пришли вас проведать, ребята! Видите, сэр, порция бифштекса, чем не ужин для приятного молодого человека? А вот и пасть, сэр, куда отправить этот бифштекс! Право, я бы загордился, будь у меня такая пасть! Встаньте, любезный, и покажитесь! Скиньте шапку. Очень милый молодой человек для небольшой, но приятной компании, сэр. Разве нет? Этот шумный говорун — инспектор Филд. Это он, инспектор Филд, покуда говорит, успевает быстрым глазом обшарить в подвале каждый уголок. И это всем знакомая рука инспектора Филда — та самая, которой он держал за шиворот половину из присутствующих и неумолимо одним мановением отправлял их братьев, сестер, родителей, обоего пола друзей в Новый Южный Уэльс[143]. И все же инспектор Филд стоит в этом логове местным падишахом. Каждый вор здесь ежится перед ним, как школьник перед своим учителем. С него не сводят глаз, каждый спешит ответить, когда он к нему обратится, все смеются его шуткам, все наперебой стараются ему угодить. Взять хотя бы тех, кто засел в этом подвале — уж не говоря о тех, что толпой оцепили вход сюда с улицы и чьи глаза своим сверканием осветили лестницу, — у них хватило бы силы всех нас убить — и они бы не прочь; но захоти только инспектор Филд высмотреть здесь одного вора и забрать его; вздумай он извлечь из кармана свой грозный жезл и сказать: "Голубчик, пойдешь со мной!" — и всех в Крысином Замке скует паралич; никто пальцем не пошевелит, чтоб ему помешать, когда он станет запирать наручники! Где граф Варвик? Вот он, мистер Филд! Вот граф Варвик! Ага, вы здесь, милорд? Выходите вперед. Полюбуйтесь, сэр, вот грудь, не знававшая чистой рубашки. Никогда. Снимите шляпу, милорд. Я на вашем месте постыдился бы показаться перед джентльменом в шляпе — а еще граф! Граф Варвик смеется и обнажает голову. Вся компания смеется. Особенно один карманник — тот просто захлебывается смехом. Ох, и веселая шутка: пришел мистер Филд… и никого не берет! Вот как, вы тоже тут, это вы стоите у огня, высокий, седой степенный человек, похожий на военного? Да, мистер Филд. Добрый вечер, сэр! Позвольте… вы когда-то жили в лакеях у одного вельможи?.. — Да, мистер Филд. — А сейчас что вы делаете? Я забыл. — Да так, мистер Филд, перебиваюсь, как могу. Я оставил службу по слабости здоровья. Мои прежние господа до сих пор очень ко мне добры. Мистер Викс с Пикадилли тоже бывает очень добр, когда мне приходится туго. Да и мистер Никс с Оксфорд-стрит. Я получаю от них помаленьку, от случая к случаю, и перебиваюсь кое-как, мистер Филд. — Мистер Филд весело заиграл глазами, потому что этот человек известен как проситель, вымогающий подачки посредством писем. — Спокойной ночи, ребята! — Спокойной ночи, мистер Филд. Очень вам признательны, сэр! Эй, сколько вас тут? Сотен пять? — все с дороги! Стойте, миссис Стокер — к чему? — обойдемся без вас! Роджерс Горящий Глаз, веди нас в ночлежный дом! Кто теснится в дверях? Разбойничьи лица, как в страшном сне. Ни с места, всем остаться! Сержант службы сыска держит тыл — спокойно насвистывая, он сильной рукой преградил узкий коридор. Миссис Стокер, уберите прочь вашу рожу или пусть меня… то-то и то-то (не для печати), если вам не придется худо, и не далее как через полминуты! Часы Сент-Джайлса бьют одиннадцать. Бой отдается звоном в ладони, когда мы отворяем обветшалую дверь какого-то темного надворного строения и отшатываемся, чуть не задохнувшись в чумном дыхании, вырывающемся оттуда. Роджерс, вперед с фонарем, заглянем! Десять, двадцать, тридцать — кто их сочтет? Мужчины, женщины, дети, по большей части голые, кишат на полу, как личинки в сыре! Эй! В том темном углу! Кто там лежит? Мы, сэр, ирландцы мы, вдова с шестью детьми. А там? Мы, сэр, ирландцы мы — я с женой и при нас восемь бедных крошек. А налево? Мы, сэр, ирландцы мы — я и еще двое пареньков ирландцев, мои друзья. А направо? Я, сэр, и семейство Мерфи, всего пять душ, благослови их бог! А это что такое — путается у меня под ногой? Еще один "ирландцы мы", давненько не брившийся, я его разбудил; а другая моя нога поддела его жену; а между сапогами инспектора Филда лежат их трое старших; а трое младших в эту минуту притиснуты между дверью и стеной. А почему нет никого на этой рогожке перед гаснущим огнем? Потому что О'Донован еще не вернулся — продает с женой и дочуркой спички! Почему никого на куске мешковины в ближнем углу? Потому что — такая незадача! — эта ирландская семья сегодня запаздывает, — они еще на улицах, побираются… Теперь и все, кроме детей, проснулись, большинство привстали и смотрят. Куда бы мистер Роджерс ни навел горящий глаз, всюду поднимается призрак встает без савана из могилы лохмотьев. Кто тут хозяин? — Я, мистер Филд, говорит, почесываясь, припавший к стене мешок с костями. — Можете вы честно вот на эти деньги купить им утром кофе — на всех? — Да, сэр, могу! — О да, он исполнит, сэр, исполнит честно. Он не обманет! — кричат призраки. И добавляя: "Спасибо! Спокойной ночи!" — опускаются снова в могилы. Так мы наново застраиваем наши улицы — Оксфорд-стрит и другие, не думая, не спрашивая, куда уползают те несчастные, кого мы сгоняем. С такими вот сценами у наших дверей, со всеми египетскими казнями, опутанными паутиной в трущобах у самых наших домов, мы трусливо утверждаем свои никчемные билли по охране общественного порядка и свои департаменты здравоохранения и воображаем, что не подпустим к себе преступление и разврат, если на выборах отдадим голоса каким-нибудь членам приходского совета и будем ласковы и обходительны с бюрократами. Известие о деньгах на кофе быстро распространилось. Двор битком набит, Роджерса Горящий Глаз осаждают просьбами показать и другие ночлежные дома. К нам теперь! К нам! К нам! Роджерс, военный человек, упрямый, твердый, невозмутимый, не отвечает и уводит нас; все перед ним расступаются. Инспектор Филд идет вслед за ним. Сержант службы сыска, преграждавший рукою узкий коридор, нарочно выжидает, чтобы замкнуть процессию. Он, не прилагая к тому никаких стараний, видит все у себя за спиной и приводит в крайнее смятение одного субъекта спокойным окриком: — Не пройдет, мистер Майкл! И не пытайтесь! Держим совет на улице и навещаем другие ночлежки, другие кабачки, другие берлоги и норы; все они мерзки и зловонны; но нигде нет такой тесноты и грязи, как в той ирландской. В одной ожидается партия эфиопов, вот-вот должны воротиться — говорят, они уже на Оксфорд-стрит — сейчас, через десять минут, их приволокут ради нашего удовольствия. В другой отдыхает после праведных трудов один из тех художников, что рисуют на тротуаре Наполеона Бонапарта и груду макрели, чтобы любовались произведениями их искусства прохожие. Еще в одной — владелец ночлежки, за семьей которого сто лет как закреплен доход от этой неприглядной, но прибыльной профессии; владетельный хозяин преспокойно ездит из собственного загородного дома в свой городской вертеп. Вездеинспектора Филда встречают тепло. Фальшивомонетчики и сбытчики их товара извиваются перед ним; карманники ловят каждое его слово; нежный пол (здесь не очень-то нежный) ему улыбается. Полупьяные халды поднимают недопитые кружки пива или пинты джина, провозглашая тосты за мистера Филда, и настойчиво просят его оказать им такую честь и допить опивки. Одна карга в чем-то ржаво-черном так восхищена им, что пробежала из конца в конец целую улицу ради счастья пожать ему руку; вот она грохнулась на бегу в кучу нечистот, и уже не различить под ними ее платья, а она все продолжает выражать ему свои восторги. Перед силой закона, перед силой умственного превосходства (ибо рядовые воры — дураки против этих людей) и перед тою силой, которую дает совершенное знание их душевного склада, гарнизон Крысиного Замка и соседних бастионов представляет собой довольно жалкое зрелище, когда ему производит смотр инспектор Филд. Часы Сент-Джайлса возвещают, что до полуночи осталось полчаса, и инспектор Филд говорит, что надо спешить, если мы хотим поспеть в Монетный двор[144], на том берегу Темзы. Берем кэб. Кучеру страшновато, он исполнен торжественного сознания своей ответственности. Сколько с нас за провоз, голубчик? — Ох, сколько дадите, инспектор Филд, что меня спрашивать! Где Паркер? В шинели, ремень затянут, Паркер ждет, как назначено, в полумраке подъезда, чтобы сменить верного Роджерса, оставленного нами в дебрях Сент-Джайлса. Вы готовы? Готов, инспектор Филд, а глаз — вот он у меня, горит на запястье. Эта узкая улочка, сэр, сердце Монетного двора. Здесь полно низкопробных ночлежек — видите, транспаранты в ставнях домов и бумажные абажуры на лампах обещают приезжему койку! Но улочка сильно изменилась, друг мой Филд, со времени первого моего знакомства с нею. Она сейчас несравненно спокойней, совсем ручная — не то, что семь лет тому назад, когда я здесь был в последний раз, правда? О да! Этим участком ведает теперь настоящий человек, первый сорт, — инспектор Хэйнс: он здорово их скрутил! Ну, ребята! Как вы тут нынче, ребята? Что, играем в картишки? Кто в выигрыше? Да вот я, мистер Филд, я, угрюмый джентльмен с влажными, приплюснутыми завитками бачков, трущий затуманенные глаза кончиком носового платка, похожего на грязную кожу угря, — сейчас я проигрываю, но полагаю, мне нужно вынуть трубку изо рта и отвечать вам на вопросы… надеюсь, вы в добром здоровье, мистер Филд? Ничего, мой мальчик, все в порядке! Депутат, кто у вас там наверху? Будьте так добры, покажите нам комнаты. Почему "депутат", инспектор Филд не может нам сказать. Он только знает, что так всегда зовут человека, который следит за койками и ночлежниками. Спокойно, депутат! И повыше вашу зажженную свечу в пузырьке из-под ваксы, потому что здесь во дворе страшная слякоть, а эта наружная лестница скрипит и вся в дырах. Опять в этих нестерпимо тесных конурах, подобных крысиным норкам или гнездам мерзких насекомых, но еще более смрадных, — толпы ночлежников, каждый спит на своей грязной низенькой выдвижной койке, скорчившись под дерюгой. Эй! Кто здесь есть? Вылезай! Дайте на вас посмотреть! Лицом к свету! Паркер, наш лоцман, ходит от койки к койке и поворачивает к нам заспанные лица ночлежников, как мог бы торговец поворачивать баранов. Иные просыпаются с руганью и угрозами. — Что? Кто говорит? Ох, если уставился в меня проклятый горящий глаз, куда я ни уйду, ничто мне не поможет. Вот я! Привстал в постели, можете на меня смотреть. Вы за мной? Не за вами, ложитесь и спите! И я ложусь, угрюмо ворча. Где бы ни задержалась на миг скользящая дорожка света, в ее конце тотчас возникнет ночлежник, покорно даст себя осмотреть и канет опять в темноту. Здесь, верно, снятся странные сны, депутат. Ну, спать они здоровы, говорит депутат и, вынув свечу из пузырька от ваксы, снимает пальцами нагар, сбрасывает его в пузырек и опять затыкает пузырек свечой. Вот и все, что я знаю. Что за надписи, депутат, на всех этих простынях непонятного цвета? А это, чтоб не раскрадывали белье. Депутат откидывает дерюгу на свободной койке и показывает. "Держи вора!" Лежать ночью, закутавшись в надпись, говорящую о моей жизни в подполье; засыпать, прижимая к груди тот крик, что преследует меня и не дает уснуть; а едва очнусь, снова встретить его, глядящего в упор, обвиняющего меня; встречать его как первого гостя в день Нового года, как свою Валентину в Валентинов день[145], как первое поздравление в день моего рождения, и как рождественский привет, и как прощание со старым годом! Держи вора! И знать, что меня непременно, как ни выкручивайся, должны задержать. Знать, что мне не по плечу борьба с личной энергией и проницательностью этих людей или с этой упорядоченной и прочной системой! Перейду я здесь улицу и, шмыгнув в лавчонку и во двор, пущусь в знакомый лабиринт переходов и дверей, приспособленных, чтоб можно было улизнуть, — всяческих люков, похожих на крышки и двойные донья в коробках фокусника. Но чего они стоят? Перед кем открываются они по кивку? Кто показывает нам тайну их устройства? Инспектор Филд. Не забудь про Старую Ферму, Паркер! Паркер не такой человек, чтоб забыть. Сейчас мы туда направляемся. Это бывший помещичий дом, и стоял он когда-то среди полей. В то время с его крыльца, верно, можно было увидеть что-нибудь приятнее этой чертовой улицы, по которой мы сейчас проходим под низко нависающими фасадами ветхих деревянных домов, запертых, сплошь в объявлениях — все повести и драмы Монетного двора! — и насквозь прогнивших. Этот длинный мощеный двор был когда-то выгоном, или садом, или цветником перед фермой. Может быть, тут была посредине голубятня, а вокруг нее поклевывала корм домашняя птица, и росли красивые вязы, где сейчас торчат коньки линялых крыш и дымовые трубы; и свистели дрозды, где сейчас услышишь только пересвист всякого рода жулья. Очень на то похоже, соглашается инспектор Филд, и мы заходим в общую кухню, что стоит во дворе, на отлете от дома. Ну, мальчики мои и девицы, как вы тут все поживаете? Где Черныш, который двадцать пять лет всегда стоит у Лондонского моста, размалевав себе кожу, чтоб изобразить больного? — Он тут, мистер Филд! — Как поживаете, Черныш? — Отлично, сэр! — Не играли нынче вечером на скрипке, Черныш? Вечер не тот, сэр! Нынче ему не до музыки, сэр, — встревает шустрый, улыбающийся юнец, здешний острослов. — Я ему прочитал назидательную лекцию; разъяснял ему, понимаете, чем он кончит. Среди этой публики много моих учеников. Вот этот молодой человек (он поглаживает по голове другого, который читает рядом с ним воскресную газету) — тоже из моих учеников. Это я научил его читать. Способный паренек, сэр. Он кузнец и добывает хлеб в поте лица своего, сэр, И я тоже, сэр. — Вон та молодая женщина — моя сестра, мистер Филд. Она тоже сделала большие успехи. Мне с ними много хлопот, сэр, но я считаю себя щедро вознагражденным, сэр, когда вижу, как они все теперь хорошо себя ведут, как похвально. В этом великое утешение, правда, сэр? — В середине кухни (вся кухня в восторге от неожиданного увеселения) сидит скромная хрупкая молодая женщина с прелестным младенцем на коленях. Она, как видно, принадлежит к этому обществу, но до странности не походит на других. У нее такое милое спокойное лицо и голос, и так она гордится, когда хвалят ее ребенка, — вы не поверите, ему же только девять месяцев! Неужели и она такая же дурная, как остальные? Инспектору его опыт не внушает веры в обратное и подсказывает ответ: "Ни на грош разницы!" В старом фермерском доме, когда мы подходим, играет рояль. Он смолкает. Выходит хозяйка. Я не возражаю, мистер Филд, чтобы джентльмены зашли, но лучше бы выбрать для этого более ранний час, а то жильцы жалуются на беспокойство. Инспектор Филд учтив и обходителен — знает, как подойти к этой даме и к женскому полу вообще. Депутатом на этот раз молодая девушка; она ведет нас наверх по крутой широкой старой лестнице, очень чистой, в чистую комнату, где спит много ночлежников и где расписные панели старых времен удивленно смотрят на выдвижные койки. Свежая побелка и запах мыла (нам уже кажется, что мы раззнакомились с ними чуть ли не в младенчестве!) превращают этот старый дом на ферме в необычайное явление, и долго после того, как мы его оставили, они сочетаются для нас в одно целое со странно неуместным образом миловидной матери с младенцем, — и даже долго после того, как мы оставили соседний уголок, еще овеянный сельской прелестью, где некогда под деревянной аркадой, что стоит, как стояла встарь, не брезговал попировать знаменитый Джек Шеппард и где по сей день два брата в широкополых шляпах, оба старые холостяки, (на Монетном дворе передают шепотком, будто они смолоду заключили между собой договор, что, если один когда-либо женится, то потеряет свою долю общей собственности), держат уединенную таверну и просиживают ночи напролет, посасывая трубки, в распивочной, среди стародавних бутылок и стаканов, как мы их воочию видели. Который час? Колокол св. Георгия[146] в Саутуорке бьет в ответ двенадцать. Спокойной ночи, Паркер: на Рэтклифской дороге уже поджидает Уильяме показать нам дома, где пляшут матросы. Хочется спросить, откуда родом инспектор Филд. Я бы уверенно ответил с Рэтклифской дороги, если бы он равным образом не был как дома повсюду, куда мы ни приходим. Его не смущает, как меня, полуночная Темза. Он не тревожится, что она ползет, черная и молчаливая, справа от нас, прорывается в шлюзы, плещется в столбы и сваи и в железные причальные кольца, скрывая странные предметы в своем иле, унося тела самоубийц и утопленников быстрее, чем это было бы прилично для ночных похорон, и приобретая многообразный опыт на пути от своей колыбели к могиле. Эти тайны не для него. На это имеется своя речная полиция! Уильямс, как положено, идет во главе. Мы немного запоздали, так что некоторые дома уже закрылись. Неважно. Вы и так покажете их немало. Все их содержатели знают инспектора Филда. Его пропускают повсюду свободно и радушно, куда бы он ни захотел пройти. Все эти дома так безотказно открыты для него и для нашего местного проводника, что, если признать за матросами право повеселиться на свой лад — а в этом праве, по-моему, им отказать нельзя, — я не вижу, как можно было бы лучше осуществлять надзор за такими местами. Я не хочу сказать, что здесь особенно изысканное общество или что танцы особенно грациозны — хотя бы не менее грациозны, чем на балу немецких кондитеров на улице Майнорис, куда мы заглянули по пути, — но в каждом заведении бдительно следят за порядком и, кого надо, тотчас выставляют. Даже когда человек, захмелев, уснул или стал не в меру весел, хозяин зорко его стережет, и его карманы не так легко обчистить, как на улице. В этих заведениях становится явственно видно, как в самом деле много в моряках колоритного и романтического, что требует особого к ним подхода. Они любят песни своего морского сентиментального склада (эти песни поются под градом полупенсов, кидаемых в певца без малейшего уважения к такту и мелодии обычно из большого свертка медяков, для того и припасенного, — и от которых он то и дело увертывается, точно от картечи, когда они пролетают у самой его головы). Олеографии в залах все на мореходные темы. Кораблекрушение, битва на море, корабль в огне, корабль мчится мимо маяка на отвесной скале, корабль взрывается, корабль идет ко дну, корабль наскочил на медь, люди лежат под шквалом на грот-рее, корабли и моряки пред лицом разнообразных опасностей — все это являет наглядное изображение действительности. А если что-нибудь в фантастическом роде, то уж никак не обойдется без могучего карапуза на чешуйчатом дельфине. Который это час? Начало второго. Блек и Грин ждут в Уайтчепле, чтобы раскрыть нам тайны Уэнтворт-стрит. Уильямс, прощайте! И лучшие друзья расстаются, когда приходит пора. На месте ли Блек и Грин, как условлено? О, конечно! Как только мы подъезжаем, они выскользают из тени. Невозмутимый Блек открывает дверцу кэба; невозмутимый Грин мысленно снимает приметы кучера. Затем оба, и Блек и Грин, открывают горящий глаз, каждый — свой, и ведут нас в намеченный путь. Нужная нам ночлежка упрятана в лабиринте улочек и дворов. Вход накрепко заперт. Мы стучимся в дверь и стоим насторожившись, смотрим вверх, не появится ли свет в том или другом закопченном, ветхом, с частым переплетом окне по безобразному фасаду дома, когда подходит еще один полицейский подумал, что мы пришли к своим в "малину". Тем часом сержант службы сыска перелез через забор, открыл калитку, спустился по лесенке в подвал, одолел еще какие-то мелкие преграды и постучал в окно. Теперь он возвращается. Хозяин сию минуту вышлет депутата. Депутат шумно поднимается с постели. Депутат зажигает свечу, отодвигает два-три засова и показывается в дверях. Депутат — это подрагивающая рубаха и штаны, лицо в зевоте, трясущаяся, взлохмаченная голова и путаница в мыслях. Нам нужен здесь кое-кто. — Вот вам свеча, можете пройти наверх и забрать хоть всех, если угодно, говорит, устраняясь, депутат и, усевшись в кухне на скамью, сонно скребет в волосах обеими пятернями. Эй, кто тут есть? А ну! Покажись. Прекрасно. Нет, не вы. Больше можете не беспокоиться! И дальше так, сквозь лабиринт затхлых комнат; и каждый откликается, точно лютый зверь на голос своего хозяина, который его укротил и вот входит к нему в клетку. Так! Стало быть, не нашли? — говорит депутат, когда мы спустились вниз. Женщина, неведомо зачем всю ночь сидящая в темноте у еле тлеющего кухонного очага, говорит, что здесь только бродяги и нищие воры через улицу. Мужчина, неведомо зачем всю ночь расхаживающий в темноте по кухне, советует ей придержать язык. Мы выходим. Депутат запирает дверь на засовы и снова укладывается в постель. Блек и Грин, вы знаете Барка? — Содержатель ночлежки и скупщик краденого? Еще бы, инспектор Филд! — Ведите к Барку! Барк спит во внутренней деревянной клети у двери на улицу. Пока мы на крыльце договариваемся с депутатом, Барк ворчит, лежа в постели. Мы вошли, и Барк вскочил с постели. Барк — рыжий злобный негодяй, с толстой красной шеей, которая как будто сама просится в петлю, когда он, бледный и дерзкий, высовывает голову над низкой дверцей клети. Речь у Барка своя, особенная такая-растакая. Не желаю, говорит Барк, такой-растакой полиции у себя в таком-растаком помещении и незнакомых джентльменов, туда их растуда!.. Не желаю, туда их растуда! Дайте мне мои штаны, и я пошлю вашу такую-растакую полицию туда и растуда! Дайте мне, говорит Барк, мои штаны, так их растак! Всажу им всем в печенку растакой свой нож. Сорву им растакие головы с плеч. В порошок их сотру, таких-растаких! Дайте мне мои штаны, говорит Барк, и я из них изо всех выпущу кишки! Бросьте, Барк, что в этом проку? Здесь Блек и Грин и сержант сыскной полиции с инспектором Филдом. Вы же знаете, что мы все равно войдем. — Знаю, что не войдете! говорит Барк. Дайте мне кто-нибудь мои штаны! Найти Барковы штаны, видимо, не так-то просто. Он взывает о них, как взывал бы Геркулес о своей палице. Дайте мне мои штаны, так их растак, говорит Барк, и я из них изо всех кишки выпущу! Инспектор Филд полагает, что не так уж важно, рад ли Барк своим гостям, или нет. Он, инспектор Филд, есть инспектор сыскной полиции, сержант есть сержант сыскной полиции, а Блек и Грин — констебли при отправлении службы. Не валяйте дурака, Барк, а не то, сами знаете, для вас же будет хуже. Плевать я хотел! говорит Барк. Подайте мне мои штаны! В два часа ночи мы спускаемся в темную кухню, оставив Барка исходить яростью наверху и невозмутимых Блека с Грином присматривать за ним. Кухня битком набита ворами, ведущими conversazione[147] при свете лампы. Эти поопасней всех, кого мы перевидали за ночь. Подзуживаемые гремящей наверху бешеной руганью Барка, они мрачно переглядываются, но все молчат. Мы снова поднимаемся. Барк получил свои штаны и стоит разъяренный в коридоре, спиной упершись в дверь, за которой лестница наверх. Мы и по другим признакам отмечаем — в Барке лютого индивидуалиста. Вместо "Держи вора!" он свои простыни метит клеймом "Украдено у Барка!". Теперь, Барк, мы пойдем наверх! — Нет, не пойдете! — Вы отказываетесь впустить полицию, вот как, Барк? — Да, отказываюсь! Ни полицию не пущу такую-растакую, и никого другого так их растак! Если бы растакие ребята на кухне были люди, как люди, они бы сейчас пришли сюда и прикончили б вас! Прикройте мне ту дверь, — говорит Барк, и вдруг мы оказываемся заперты в коридоре. Они пришли бы сюда и прикончили вас! — кричит Барк и ждет. Из кухни ни звука! Они пришли бы и прикончили вас! — снова кричит Барк и ждет. Из кухни ни звука! Мы, шесть человек, заперты в доме Барка в самой глубине самой дурной части Лондона глухою ночью, дом набит отъявленными грабителями и головорезами — и никто не пошевелится. Нет, Барк. Они знают, как тяжел закон, и слишком хорошо знают инспектора Филда и компанию. Мы оставляем буяна Барка управляться со своею яростью и со своими штанами: ему, конечно, в скорости напомнят об этой стычке — и вряд ли к его удовольствию. Блек и Грин выполняют здесь свое повседневное дело, они глубоко серьезны. Что касается Уайта, который ждет на Холборн-Хилле, чтобы показать нам дворы, въевшиеся в прогнившую Грейз-Инн-лейн[148], где тоже есть ночлежные дома и где (в одном из тупиков) воры держат свою "малину" и свою семинарию для обучения детей воровскому искусству, — то поскольку сейчас
Уж спорит утро с ночью — чья возьмет[149],
НАШ АНГЛИЙСКИЙ КУРОРТ
В осеннюю пору, когда в огромной столице еще более жарко, еще более шумно, еще более пыльно или еще более мокро от поливки, еще более людно и еще больше всяческих волнений и раздражений, чем обычно, — тихое взморье становится поистине благословенным уголком. То ли наяву, то ли во сне, сидя в это безмятежное утро у озаренного солнцем окна, на краю мелового утеса, на старомодном курорте, которому мы верны, мы чувствуем безотчетное желание написать с него картину. И он словно идет навстречу нашему желанию. Небо, море, берег и деревушка лежат пред нами так недвижно, точно приготовились позировать. Сейчас отлив. Легкая рябь пробегает по наливающимся колосьям на вершине утеса; точно ветерок робко пытается подражать, по памяти, морю; а мириады бабочек, порхающих над всходами редиски, так же неутомимы в своем роде, как чайки над морем в штормовую погоду, только у тех больший размах. Океан спокойно мерцает под солнцем, как дремлющий лев — его прозрачные воды чуть змеятся у берега; рыбачьи лодки в крошечной гавани все вытащены в прибрежную грязь, а две угольные баржи (наш курорт ведет морскую торговлю, располагая именно таким количеством судов, вокруг которых на четверть мили нет ни капли воды) в изнеможении лежат на боку, как уснувшая рыба какой-то допотопной разновидности. Ржавые кабели и цепи, канаты и кольца, основания свай и кольев и нагромождение деревянных противоволновых щитов валяются среди обломков скал в коричневой мешанине водорослей — точно какая-то семья гигантов в течение многих столетий заваривала здесь чай и имела дурное обыкновение выплескивать спитой чай на берег. По правде говоря, и сам наш курорт оказался как бы выброшенным на берег приливом времен. Озабоченные поддержанием его доброго имени, мы без всякой охоты должны признать, что то время, когда это милое полукружие домов, уходящее в конце деревянного мола в самое море, было веселым местом и когда маяк, возвышающийся над ним, на рассвете непременно озарял какую-нибудь компанию, расходящуюся с общественного бала, — что то время сейчас стало смутным воспоминанием. На нашем курорте и сейчас имеется унылое помещение, которое все еще называется Курзалом и, как предполагается, может сдаваться внаем для балов и концертов; и всего несколько сезонов тому назад сюда приезжал тщедушный старенький джентльмен, останавливался в местной гостинице и утверждал, что некогда танцевал здесь с досточтимой мисс Пипи, которая, как хорошо известно, была первой красавицей своего времени и жестокой виновницей бесчисленных дуэлей. Но это был такой дряхлый и скрюченный старик, он обладал таким очевидным ревматизмом в ногах, что требовалось гораздо более богатое воображение, чем то, которым обладает наш курорт, чтобы ему поверить; поэтому, за исключением управляющего Курзалом (который по сей день носит штаны до колен и который со слезами на глазах подтвердил заявление старика), никто не поверил в маленького хромого старого джентльмена и даже в досточтимую мисс Пипи, уже давно скончавшуюся. Что до нынешних балов и гуляний по подписке в Курзале нашего курорта, то менее невероятно, что здесь загуляют когда-нибудь раскаленные пушечные снаряды. Иногда какой-нибудь введенный в заблуждение бродячий чревовещатель, или Чудо-Ребенок, или жонглер, или некто с панорамой звездного неба, устаревшей на несколько звезд, нанимает этот зал на вечер и выпускает афиши, где вымарано название предыдущего города и кое-как вписано название нашего; но вы можете не сомневаться, что эта несчастная личность во второй раз у нас не покажется. В таких случаях старый, выцветший бильярдный стол, за которым уже мало кто играет (разве что призрак досточтимой мисс Пипи сыграет партию с каким-нибудь другим призраком), отодвигается в угол, а скамьи торжественно преображаются в кресла первых, задних и "оставленных" за особую плату рядов (каковые кресла остаются теми же самыми и после того, как вы внесли за них особую плату); горят несколько унылых свечей — пока позволит им гореть ветер; и тогда между гастролером и немногочисленной публикой происходит краткое состязание в том, кто на кого нагонит большую тоску; игра эта заканчивается обычно вничью. После этого гастролер немедленно отбывает с проклятиями, и мы о нем больше никогда не слышим. Но самое замечательное в нашем Курзале то, что здесь ежегодно с непостижимым постоянством и упорством объявляется распродажа "Фарфоровой посуды и безделушек". Откуда прибывает этот фарфор и куда он затем исчезает; почему он ежегодно ставится на аукцион, хотя никто никогда и не думает назначить за него хоть какую-нибудь цену; как получается, что это всегда один и тот же фарфор, и как не додумались — что обошлось бы дешевле, когда море рядом, — выбросить его к черту, скажем, еще в тысяча восемьсот тридцатом году, — все это остается загадкой. Каждый год вывешиваются объявления, каждый год управляющий Курзалом всходит на маленькую кафедру на помосте и предлагает фарфор для продажи, каждый год никто его не покупает, каждый год его куда-то убирают до следующего года, когда он снова появляется, точно все это — совершенно новая идея. Мы смутно вспоминаем также удивительную коллекцию часов, работы, как уверяли, парижских и женевских мастеров; это были часы с желчными циферблатами, на хилых белых подпорках, похожих на костыли, с маятниками, которые волочились как хромые ноги; эта коллекция в течение нескольких лет совершала такой же путь по кругу, пока, наконец, не впала в полный маразм и не канула куда-то. При Курзале есть библиотека. Здесь имеется колесо счастья, но оно заржавело, и запылилось, и никогда не вращается. Большая кукла с закрывающимися глазами разыгрывается здесь в лотерею вот уже скоро семь лет: требуются двадцать пять участников с паем по два шиллинга, но список все еще не заполнен. Мы имеем основания надеяться, что в будущем году розыгрыш, наконец, состоится, так как теперь не хватает только девяти участников и не хватало бы, собственно, только восьми, если б не участница под номером Два, которая подросла с тех пор, как ее занесли в список, и сняла свою фамилию, когда вышла замуж. Дальше по той же улице есть увесистый игрушечный корабль, с которым проделывают то же самое. Двое из мальчиков, которые подписались на эту лотерею, успели с тех пор уехать в Индию на настоящих кораблях; а один был смертельно ранен и умер на руках у жениха своей сестры, с которым он и послал домой последнюю весточку о себе. Это библиотека издательства "Минерва-пресс". Если вы охотник до такого рода чтения, приезжайте на наш курорт. Листы романов, ставшие уже чем-то очень похожим на папильотки, густо усеяны карандашными надписями: иногда одобрительными, иногда шутливыми. Некоторые из комментаторов, как и более пространно пишущие профессиональные критики, полемизируют друг с другом. Одного юного джентльмена, который насмешливо ставит "О!!" после каждого сентиментального пассажа, преследует по пятам на всем протяжении его литературной карьеры другой, который немедленно отмечает: "Грязное животное!" Мисс Джулия Милс прочитала все это собрание книг. Она оставила пометки на полях вроде: "Поистине трогательно, не так ли? Дж. М.", "Потрясающе! Дж. М.", "Покорена могучим обаянием волшебного пера. Дж. М.". Она также подчеркнула любимые черты в описании героя, как, например: "Его волосы, темные и волнистые, пышно обрамляли мраморный лоб, возвышенная бледность которого говорила о внутренней интеллектуальной силе". Это напоминает ей другого героя. Она добавляет: "Как похоже на Б. Л. Неужели это простое совпадение? Дж. М.". Вы с трудом догадались бы, которая из улиц нашего курорта главная, но вы ее сразу узнаете по тому, что она всегда запружена экипажами с ослиными упряжками. Когда бы вы ни пришли сюда, если вы увидите запряженных ослов, жующих клевер из тачек, которые стоят в ряд поперек всего узкого проезда, можете не сомневаться, что вы находитесь на нашей Главной улице. Нашу полицию вы можете узнать по мундиру, а также по тому, что она никогда и ни за что не вмешивается в чьи-либо дела — особенно же в дела бродяг и жуликов. В наших модных лавках вы найдете богатое собрание залежалого товара, по которому ползали мухи бесчисленных летних сезонов. Мы богаты устаревшими печатями, выцветшими подушечками для иголок, расшатанными складными стульями, ножевым товаром, вышедшим из употребления, миниатюрными корабликами, маленькими, куцыми подзорными трубами и изделиями из ракушек, которые выдают себя не за ракушки, а за что-то другое. Маленькие лопатки, тачки и корзиночки — главные предметы нашей коммерции; но и они не выглядят вполне новыми. Всегда кажется, что где-то уже напрасно пытались их сбыть, прежде чем они попали на наш курорт. Однако не надо предполагать, что наш курорт — пустое место, заброшенное всеми, кроме нескольких стойких личностей испытанной верности. Наоборот, если вы приедете сюда в августе или сентябре, много шансов за то, что вы не найдете, где приклонить голову. А если вы думаете найти дом или квартиру, где вам сбавили бы плату, то вряд ли вы могли бы пуститься в более безнадежное предприятие. И все же вам заметят, что каждый сезон — худший из всех, какие когда-либо были, и что домовладельческое население нашего курорта неизменно разоряется каждое лето. Они похожи на фермеров в том смысле, что способны перенести удивительно много разорений. Здесь есть великолепная гостиница — отличные бани с теплой и холодной водой и душем первоклассные купальные кабины — и сколько угодно хороших мясников, пекарей и торговцев колониальными товарами. Все они ведут свои дела, надо думать, единственно из филантропических побуждений, так как хорошо известно, что все они беспрерывно разоряются. Такой живой интерес к приезжающим и такая обходительность со стороны людей, которые разорены, свидетельствуют об их необыкновенной природной доброте. Вы сами придете к такому заключению, когда увидите, как энергично какой-нибудь пекарь помогает приезжему найти подходящую квартиру. По части избранного общества мы тоже не отстаем; напротив, можем считаться, как говорится, шикарным местом. Иногда к нам наезжает настоящая знать — даже герцоги и герцогини. Нам приходилось видеть, как среди ослиных упряжек появлялись такие блестящие кареты, что зрители принимались многозначительно подмигивать. При этих экипажах состоят ослепительные особы в плюше и пудре: они больше всех возмущены отсутствием комфорта на нашем курорте. По вечерам (особенно когда идет дождь) можно видеть, как они выглядывают, с самым недовольным выражением лица, из окошек крохотных, непропорционально тесных для их величественных фигур каморок, выходящих в глухие переулки. Лорды и леди благодушно мирятся с этой обстановкой; но если вы хотите видеть прислуживающие им великолепные создания в состоянии полной растерянности, вам надо посмотреть на них на нашем курорте, где им отводят, вместо всех их апартаментов, комнатки на задворках и укладывают на откидных кроватях. Вы не представляете себе, как близко они принимают это к сердцу. У нас есть мол — причудливый старый деревянный мол, к счастью без малейших архитектурных претензий, а посему весьма живописный. На него вытаскивают лодки, по нему разбросаны свернутые канаты; клетки для ловли омаров, сети, мачты, весла, рангоуты, паруса, балласт и заржавленные кабестаны образуют здесь непроходимый лабиринт. По молу вечно бродят, заложив руки в карманы, либо стоят, прислонившись к его стенке там, где он встречает своей крепкой грудью море, и смотрят в подзорные трубы, которые они носят с собой в тех же глубоких складах-карманах, — лодочники нашего курорта. Посмотрев на них, вы бы, вероятно, сказали, что это самые ленивые из всех лодочников мира. В течение всего сезона они слоняются взад и вперед в своих упрямых, негнущихся штанах, которые, по всем признакам, сделаны из дерева. Толкуют ли они между собой о судоходстве в Ламанше, прохлаждаются ли за кружками пива в трактире, вы подумаете, что это самые медлительные из людей. Тысяча шансов против одного, что, пробыв здесь десять сезонов, вы не увидите ни одного лодочника, который куда-то спешил бы. Его руки, когда они почему-либо не засунуты в карманы, имеют такой вид, точно он держит в каждой по солидному куску железа без всякого для себя неудобства; это говорит о большой физической силе, но он как будто никогда ее не применяет. На первый взгляд кажется, что это совершенно обленившийся человек. Единственное, что он способен делать с некоторым увлечением, это смолить. Он смолит все, что попадается под руку: мол, заборы, собственную лодку, дом, а когда ничего больше не остается, доходит очередь до шляпы и штормовой одежды. Но не судите о нем по его обманчивой внешности. Это — моряки из самых храбрых и искусных, какие только есть. Пусть поднимется ветер и перейдет в шторм, пусть море забушует так, что дрогнут самые мужественные сердца, пусть взовьется ракета с плавучего маяка на здешних опасных отмелях или пусть они заслышат, сквозь сердитый гул волн, сигнальные выстрелы с судна, терпящего бедствие, — и эти люди примутся за дело так бесстрашно, доблестно и героически, что никто на свете не мог бы их в этом превзойти. Злые языки могут возразить, что они и живут-то на заработки от спасания ценных грузов. Так оно и есть, и видит бог, они зарабатывают этим только на скудную жизнь, а подвергают себя смертельной опасности. Но оставим в стороне надежды на поживу. Пусть спросят этих грубых людей, в любую штормовую погоду: кто пойдет добровольно в спасательной лодке, чтобы спасти гибнущих людей — таких же, как они, бедняков, чья жизнь, на данной высочайшей стадии развития человеческого разума, не оценивается даже в фартинг, — и они тотчас составят команду этой лодки так же безотказно и весело, как если бы на этом прохлестанном штормом молу им отсчитали тысячу фунтов. За это, и в память об их товарищах, которых мы знали, которых во время такой же вот героической борьбы, на глазах у их детей, поглотили свирепые волны, а потом засосали пески морского дна, мы любим и уважаем лодочников нашего курорта и ревниво оберегаем вполне заслуженную их славу. На наш курорт привозят столько детей, что, если они не на дворе, как обычно бывает в хорошую погоду, непонятно, где, собственно, они помещаются: кажется, что вся деревушка слишком мала, чтобы вместить их. Днем вы видите, как на подоконниках сушатся на солнце бесчисленные башмачки, побывавшие в морской воде и облепленные песком. По утрам, во время купания, маленький залив непрерывно оглашается разноголосыми, но всегда пронзительными криками и всплесками; после чего, если погода посвежеет, на песке мелькают во множестве маленькие посиневшие ноги. Песок — самое любимое место детей. Они копошатся там, как муравьи; они так старательно зарывают в песок своих лучших друзей и так неутомимо строят замки из песка, которые опрокидывает первая же волна прилива, что любопытно подумать, до чего точно их игра, под музыку моря, предвещает реальности их будущей жизни. И еще любопытно наблюдать, как легко и свободно, по-видимому, сходятся дети с лодочниками. Они заводят среди них знакомства и выбирают себе друзей без чьей-либо помощи. Вы встретите одного из этих неуклюжих, коренастых парней рядом с крошечным мальчиком; он сидит и терпеливо чинит кораблик для этого мальчика, которого он мог бы раздавить насмерть, бросив в него пару даже самых легких из своих штанов. Вы отметите причудливый контраст между нежным маленьким существом и грубым мужчиной, который как будто вырезан из дерева самой твердой породы — между выжидательно протянутой тонкой ручонкой и огромными толстыми пальцами, едва ли способными даже прощупать снасти из ниток, которые они чинят, — между тоненьким голоском одного и грубым зыком другого — и все же эта дружба вполне естественна; мы неизменно наблюдаем взаимное доверие ребенка к человеку, в котором есть что-то настоящее и искреннее; и это необыкновенно радостно. Есть на нашем курорте и служба береговой охраны, и почти то же самое можно наблюдать — в меньшей степени, поскольку это лица должностные — у пограничников: это — крепкие, надежные, дисциплинированные, подготовленные люди, которые смело глядят вам прямо в глаза, а когда идут в ночной дозор, имея при себе запасные зюйдвестки, очень импонируют вам своим спокойствием и основательностью. Это умелые люди, аккуратные в своем домашнем хозяйстве, прилежные в саду; они вместе со своими женами, можно думать, не пропадут и в пустыне — и, к тому же, быстро населят ее. Что до начальника этой охраны, офицера с добродушным свежим лицом и синими глазами, которые проникают сквозь завесу любой самой ненастной погоды, — сердце радуется, когда он приходит по воскресеньям в церковь в синем сюртуке, светло-коричневом жилете, черном галстуке и золотых эполетах — приятное сочетание, связанное, в сознании всех англичан, с храброй, скромной и честной службой отечеству. Приятно смотреть на него, когда он в этой парадной форме; и если б мы были первым лордом адмиралтейства (а мы как раз удовлетворяем основному требованию к его должности, а именно: ровно ничего не знаем о море), мы бы завтра же назначили его командовать кораблем. У нас есть, конечно, и церковь: безобразный храм из кремня, похожий на окаменевший стог сена. Глава местного духовенства (который, к его чести, отдал много времени и денег делу просвещения и учредил великолепные школы) здравомыслящий, проницательный, крепкий джентльмен, время от времени имевший кой-какие неприятности с окрестными фермерами, причем в этой борьбе он как назло всегда оказывался прав. По новому уставу он должен был передать церковь нашего курорта другому священнику. В общем, у нас с церковью все благополучно. Мы иногда поругиваем наши времена слишком далеко зашедшего братства и нового, свободного от предрассудков взаимопонимания между народами (что наша христианская церковь не вполне одобряет), но это скоро проходит, и тогда у нас в церкви все опять вполне благополучно. Кроме того, на нашем маленьком курорте имеются еще две сектантские молельни; число их приверженцев относится к остальному населению как стадвадцатипушечный корабль к яхте. Но разногласия, которые раскололи нас недавно, были не религиозного порядка. Они возникли в связи с новой проблемой Газа. Наш курорт был потрясен до основания агитацией за Газ и против Газа. Почему, собственно, не надо газа, не было разъяснено, но существовала многочисленная противогазовая партия. Были отпечатаны и расклеены плакаты — потрясающее событие для нашего курорта. Противогазовая партия удовольствовалась тем, что написала мелом "Не надо газа!", "Долой газ!" и другие столь же гневные и воинственные кличи на немногих задних воротах и простенках, в соответствии со скромными возможностями нашего курорта. А партия "За газ" отпечатала и расклеила на столбах листовки, в которых разоблачала противогазовую партию с высоких принципиальных позиций, напоминая, что и в Священном писании сказано: "Да будет свет. И стал свет" и что не иметь света (то есть газового света) на нашем курорте значило бы идти против этих великих установлений. В результате этих громовых ударов или чего-то другого, противогазовая партия была разбита; в нынешнем сезоне мы уже могли насчитать и у нас несколько лавок, освещенных газом. А те приверженцы противогазовой партии, у которых есть лавки, остались в оппозиции и жгут сальные свечи, демонстрируя тем самым отсталость, которая сама себя наказывает, и заново иллюстрируя старую поговорку: если некто отрезал себе нос назло собственной физиономии, то они отрезали у себя газ назло собственной торговле. Другого населения, кроме того, о котором мы уже говорили, на нашем курорте нет. Есть еще несколько одряхлевших лодочников, которые выползают на солнышко, опираясь на палки; есть сумасшедший сапожник, — он доживает свой век в постоянных странствиях среди скал, словно ищет там свой потерянный разум, которого никогда не найдет. Жители соседних курортов иногда приезжают в колясках посмотреть на нас и сейчас же уезжают обратно, и можно думать, что, по их мнению, мы очень скучные люди; приезжает труппа итальянских мальчиков, приезжает Панч, приезжает театр марионеток, приезжают акробаты, приезжают эфиопы; приезжает народный хор и шумит по ночам (не всегда мелодично) под нашими окнами. Но все они скоро отбывают, и мы опять остаемся наедине с самими собой. У нас гастролировали как-то одновременно бродячий цирк и зверинец Уомбуэлла. И те и другие закаялись повторить это когда-либо, а зверинец чуть не стер нас с лица земли, когда уходил слон — его фургон был так велик, а наш курорт так мал! У нас есть прекрасное море, которое всем приносит отраду, море, полезное для тела, полезное для души. Иногда море как бы само повторяет мощными устами слова поэта:
Плывут по волнам корабли[151],
Их встречает родимый брег.
О нежность былая любимых рук,
Милый голос, умолкший навек!
Бей, бей, бей
О холодный утес, волна!
Где светлая радость погибших дней?
Никогда не вернется она.
…за отступающим Нептуном[152]
то гонятся, то от него бегут.
ПОЛЕТ
Когда Дон Диего де… не помню его фамилии — изобретатель самоновейших летательных машин, стоимость билета — столько-то франков с дам и на столько-то больше с мужчин, — когда Дон Диего, с разрешения Заместителя Хранителя Сургуча и его благородных соратников получит патент, действительный во всех владениях ее величества, и откроет в воздухе удобный пакгауз; когда у всех порядочных людей будет по крайней мере пара крыльев и они будут порхать, по воздуху во всех направлениях, — тогда и я полечу в Париж; мысленно я уже теперь парю над всем миром, без больших затрат и вполне независимо. В настоящее же время я должен полагаться на компанию Юго-Восточной железной дороги; вот я и сижу в экспрессе этой компании, в восемь часов очень жаркого утра, под очень жаркой крышей конечной станции этой дороги у Лондонского моста, подвергаясь "выгонке", как ранний парниковый огурец, дыня или ананас. Кстати об ананасах: еще никогда, кажется, не бывало в поездах столько ананасов, сколько их оказалось в этом поезде. Уф! Тепличный воздух вагона насыщен ананасными ароматами. Каждый французский гражданин и каждая гражданка везут домой ананасы. Маленькая пухленькая очаровательница в углу моего вагона (французская актриса, которая позавчера вечером, в Сент-Джеймском театре, при содействии славного малого Митчема[153], навсегда пленила мое сердце) держит ананас на коленях. Рядом с Пухленькой Очаровательницей сидит ее подруга, наперсница, мать или бог ее знает кто — какая-то загадка; она держит два ананаса на коленях и связку ананасов под сидением. Пропахший табачным дымом француз в алжирском бурнусе с остроконечным капюшоном, может быть, сам Абд-эль-Кадер[154], выкрашенный в ядовито-зеленый цвет и весь, с головы до ног, в грязи и в галунах, везет ананасы в крытой корзине. У высокого, строгого, меланхоличного француза с черной вандейковской бородкой, коротко остриженного, в жилете с широчайшей грудью и сюртуке с узкой талией; щеголяющего темными брюками, изящной, точно у дамы, обувью, дорогими запонками и булавками и тонким белоснежным бельем; темноглазого, высоколобого, горбоносого — прямо Люцифера или Мефистофеля, или Замиеля, обернувшегося элегантным парижанином, — у этого француза, из его чистенького чемоданчика, тоже торчит зеленый хвостик "ананаса. Уф! Если б мне пришлось долго оставаться под этой парниковой рамой, трудно сказать, во что бы я превратился — либо вытянулся бы в гиганта, либо начал бы прорастать, либо обернулся бы еще каким-нибудь феноменом! А Пухленькая Очаровательница ничуть не страдает от жары; она все такая же спокойная и такая же пухленькая. Посмотрите только на ее ленточки, оборочки, кантики, на ее шаль, перчатки, волосы, браслеты, шляпку, на все, что на ней! Как это у нее получается? Как это ей удается так все приладить? Как это выходит, что каждая мелочь на ней как бы принадлежит ей и составляет с ней одно целое? И даже г-жа Загадка —посмотрите на нее! Образец в своем роде! Загадка не молода и не красива, хотя при свечах еще как-нибудь сойдет; но она совершает над собой такие чудеса, что, когда, уже в недалеком будущем, она умрет, все будут поражены, увидев в ее постели старуху, очень отдаленно на нее похожую. Я не удивлюсь, если окажется, что она сама была некогда актрисой и тоже имела свою Загадку, которая при ней состояла. Может быть, и Пухленькая Очаровательница станет со временем Загадкой и будет ждать свою хозяйку за кулисами, с шалью в руках сидеть напротив Мадмуазель в железнодорожных вагонах, улыбаться и угодливо разговаривать, как это делает сейчас г-жа Загадка. Трудно этому поверить! Являются два англичанина, и теперь наше купе полно. Первый англичанин из финансового мира — румяный, очень респектабельный, вероятно Биржа и уж наверняка Сити. Второй англичанин весь поглощен одним занятием — он спешит. Ворвавшись в вагон, тычется как слепой; что-то кричит из окна насчет своего багажа, точно оглох. Душит себя под грудой верхней одежды, неизвестно почему, и при этом неистовствует как безумный. Не слушает никаких заверений носильщиков. Тучный, разгоряченный, все время вытирает голову, и ему еще жарче от того, что он так пыхтит. Совершенно не верит железнодорожному начальству, которое убеждает его, что "не надо спешить". Не надо спешить! Прилетим в Париж через одиннадцать часов. Для меня все едино в моем сонном углу — спешить или не спешить. Пока Дон Диего не доставит мне на дом крылья, мне остается лететь с помощью Юго-Восточной компании. По Юго-Восточной мне так или иначе легче лететь, чем в верхних слоях воздуха. Я должен только сидеть вот здесь, лениво размышляя о чем угодно, а меня в это время уносят вперед. Я никому не обязан давать отчет в моих ленивых, бездумных размышлениях в этом бездумном летнем полете; все для моего полета предусмотрено Юго-Восточной, и остальное уже не мое дело. Звонок! Душевно рад. От меня ничего не требуется, даже взмаха крыльями. Что-то за меня фыркнуло, что-то за меня взвыло, что-то объявило всему окружающему, что лучше убраться с моей дороги — и я поехал. Ах! Приятно дыхание свежего ветерка после душной теплицы, хотя он дует еще только по нескончаемым улицам и разносит дым над необозримой чащей труб. Вот мы видим — нет, уже не видим, уже проскочили — Бермондси, где живут дубильщики. Пых-пых! Вот уже исчезли вдали пароходы на Темзе. Пых-пых! Проносимся одним махом мимо маленьких улиц — новенький кирпич и красная черепица, кое-где флагштоки, вырастающие как высокие сорняки среди красных бобов, много открытых водостоков и канав, на благо народного здравия. З-з-з! Свалки — огороды — пустыри. Стоп! Станция Нью-Кросс. Толчок! Мы уже в Кройдоне. Чш-чш-чш! Туннель. Не знаю, как это получается, но когда я закрываю глаза в туннеле, мне начинает казаться, будто я со скоростью экспресса мчусь в обратном направлении. Сейчас у меня отчетливое чувство, что я еду обратно в Лондон. Вероятно, Пухленькая Очаровательница что-то забыла дома и повернула паровоз назад. Но нет! Долго было темно, а теперь задрожали бледные проблески света. Я все еще лечу к Фолкстон. Лучи становятся ярче, длиннее, они становятся предвестниками дня, становятся ярким днем — то есть стали, потому что туннель уже далеко позади, а я лечу в солнечном свете среди хлебов и цветущих хмелем полей Кента. В этом полете есть прелесть сновидения. Не знаю, где и когда мимо нас промелькнул неизвестно откуда взявшийся парламентский поезд; из тесных клеток на нас глянуло множество лиц, и кое-кто помахал нам шляпами. Мир Финансов говорит, что это было на станции Райгет. Он объясняет Загадке, что станция Райгет находится в стольких-то милях от Лондона, каковое сообщение Загадка подробно докладывает Пухленькой Очаровательнице. А по мне пусть хоть совсем не будет ни Райгета, ни Лондона, пока я лечу сквозь кентский хмель и хлеба. Мне-то какое дело! Бум! Мы минуем еще одну станцию и летим вперед без оглядки. Все летит. Плантации хмеля сначала любезно поворачиваются ко мне, открывая передо мной быстро убегающие правильные шеренги кустов, а затем уносятся вдаль. Так же уносятся пруды, камыши, стога, овцы, клевер в полном цвету, ароматный и прелестный на вид, хлеб в скирдах, вишневые сады, яблоневые сады, жнецы, сборщики колосьев, плетни, ворота, поля, которые постепенно суживаются в маленькие треугольники, коттеджи, сады, иногда — церковь. Бум, бум! Узловая станция! То лес, то мост, то пейзаж, то просека, то — бум! — маленькая станция, — вон там был матч в крикет и раскинуты две белые палатки, вон проносятся четыре коровы, потом поле турнепса, а вот вдруг ожили провода электрического телеграфа: они несутся мимо нас, сливаются в одну полосу, вздымаются, опадают, интервалы между ними непрерывно меняются, сужаясь и расширяясь самым причудливым образом. Вот мы тормозим. Грохот, скрежет, запах золы, залитой водой, — и мы останавливаемся. Безумный Пассажир, который уже несколько минут был настороже, хватает все свои пальто, бросается к двери, сотрясает ее и кричит "Эй!" — так ему не терпится поскорее попасть, еще не доехав до моря, на пароход, которого нет в помине. Появляется Железнодорожное Начальство. "Вы сходите, в Танбридже, сэр?" — "В Танбридже? Нет. Я до Парижа". — "Так еще сколько угодно времени, сэр. Не спешите. Здесь мы стоим пять минут, сэр, можно перекусить". Я имею счастье (опередив Замиеля на полсекунды) поднести стакан воды Пухленькой Очаровательнице. Кто мог предположить, что мы мчались с такой скоростью и что сейчас опять расправим крылья? В буфете полно народу, на платформе тоже, рабочий с лейкой неторопливо остужает накалившееся колесо, другой, с такой же неторопливостью, щедро угощает остальные колеса мороженым. Мы с Миром Финансов первыми возвращаемся в вагон, и, пока мы одни, он сообщает мне доверительно, что французы, как нация, "не годятся". Я спрашиваю — почему? Он говорит: довольно и того, что у них было царство террора. Я осмеливаюсь спросить, помнит ли он, что предшествовало упомянутому царству террора? Он говорит, что смутно. "Видите ли, — замечаю я, — то, что пожинаешь, было некогда посеяно". Мир Финансов повторяет, как нечто для него вполне достаточное, что французы революционеры "и всегда только этим и занимаются". Звонок. Пухленькая Очаровательница, поддерживаемая Замиелем (да разразит его гром!), дарит нас обольстительным взглядом, точно мы зрители боковой ложи, и поражает меня в самое сердце. Загадка ест бисквит. К ананасным запахам примешивается что-то похожее на херес. Безумный Пассажир в поисках своего вагона пробегает мимо него. От спешки он ослеп и ничего не видит. Как видно, Провидение судило ему быть единственным несчастным существом в нашем полете, у которого есть причины спешить. Он едва не отстает от поезда. Подхватывается Железнодорожным Начальством, когда поезд уже тронулся, и втискивается в вагон. Но все еще смутно подозревает, что где-то поблизости все-таки должен быть пароход, и высматривает его из окна безумным взглядом. Полет продолжается. Снопы колосьев, плантации хмеля, жнецы, сборщики колосьев, яблоневые сады, вишневые сады, большие и малые станции, Ашфорд. Пухленькая Очаровательница (которая все время очень мило беседует с Загадкой) вдруг вскрикивает: звук исходит из каких-то недр ее хорошенькой головки, кажется, из-под ее кокетливых бровей. "О боже, где мой ананас! Ах, мой ангел! Он где-то затерялся!" Загадка в отчаянии. Начинаются поиски. Он не затерялся. Замиель его находит. Я проклинаю Замиеля (в полете) на персидский манер: "Да перевернется лицо его вверх ногами, и пусть ослы восседают на могиле его дяди!" Становится свежее; вот открылась перед нами долина с пролетающими над ней воронами, которых мы скоро обгоняем в полете; вот и море, а в четверть одиннадцатого вот и Фолкстон. "Приготовьте билеты, джентльмены!" Безумный Пассажир бросается к двери. "Вы ведь до Парижа, сэр? Не надо спешить". Не надо, ни в малейшей степени. И вот мы медленно спускаемся к порту, и всем поездом минут десять снуем взад и вперед перед равнодушным "Отелем короля Георга". Король Георг обращает на нас не больше внимания, чем его тезки под водой в Спитхеде или под землей в Виндзоре[155]. Собака Короля Георга лежит и подмигивает нам, но не дает себе труда приподняться; а свадебные гости, видные в открытое окно Короля Георга (и порядком утомленные торжеством) не удостаивают нас ни единым взглядом, а ведь мы летим в Париж за одиннадцать часов. Первый джентльмен[156] в Фолкстоне уже, по-видимому, привык к этому. Между тем Безумный Пассажир снова мечется. Воображает, что все здесь против него и стараются изо всех сил не дать ему добраться до Парижа. Не слушает никаких утешений. Сотрясает дверь. Видит дымок на горизонте и уже "знает", что это "тот самый" пароход и что он ушел без него. Мир Финансов обиженно объясняет ему, что и он ведь тоже едет в Париж. Безумный высказывается в том смысле, что если Мир Финансов согласен опоздать на пароход, это его дело, а вот он не хочет. "Буфет находится в зале ожидания, леди и джентльмены. Не спешите, леди и джентльмены, едущие в Париж. Времени достаточно". Остановка на двадцать минут, по фолкстонскому времени, чтобы посмотреть, как Очаровательница ест сандвич, а Загадка поедает все, что есть съедобного, от свиного паштета, колбасы, варенья и крыжовника до кусочков сахару. Все это время водопад багажа, в облаке пыли, низвергается с пристани на палубу пароходика. Все это время Безумный Пассажир (а ему здесь нечего делать) наблюдает за ним вылезающими из орбит глазами, требуя, чтобы ему во что бы то ни стало показали его багаж. Когда багаж, наконец, появляется, завершая собой водопад, Безумный мчится закусить; на него кричат, за ним гонятся, его толкают, возвращают назад, бросают в отходящий пароходик вниз головой, и здесь моряки подхватывают его весьма нелюбезно. Славный летний день, безоблачное небо, спокойное море. Поршни машин мерно поднимаются снизу, чтобы взглянуть (и не мудрено!) на прекрасный день и при этом едва не ударяются железными головами о поперечную перекладину палубного люка, но так-таки не ударяются! У нас на борту еще одна парижская актриса, сопровождаемая еще одной Загадкой — Пухленькая Очаровательница приветствует свою товарку — о, как хороши зубки у Пухленькой! — а Загадка приветствует Загадку. Но моя Загадка скоро теряет дар речи — ей, прямо скажем, становится плохо после слишком разнообразного завтрака, — и она уходит вниз. Оставшаяся Загадка улыбается обеим товаркам-актрисам (а они, пожалуй, охотно перегрызли бы друг дружке горло) и приходит в восторг от всего окружающего. И вот я замечаю, что все французы на борту начинают вырастать, а все англичане — съеживаться. Французы приближаются к своему дому и тем самым получают некое преимущество, а мы его теряем. Замиель тот же, и Абд-эль-Кадер тот жег но каждый из них приобретает некую самоуверенность, которая покидает нас — например, Финансиста и меня. Они приобретают именно то, что мы теряем. Несколько британских джентльменов окружили штурмана; у себя они были воспитаны на том, чтобы все пародировать и ни о чем не знать правды — теперь они притихли и даже растерялись; и когда штурман говорит им (без особого восторга), что "он вот уже восемь лет на этом рейсе, а еще не видел старого города Буллум", один из них, надеясь сам не зная на что, спрашивает его, какой, по его мнению, отель лучший в Париже? И вот я ступаю на французскую землю, и меня здесь встречают три прекрасных слова: Свобода, Равенство и Братство, которые написаны (буквы немного слишком тонки при такой их высоте) на стене Таможни, а также большие треуголки, без какового торжественного головного убора ни одно дело общественного порядка не может быть совершено на этой земле. Вдали, за барьером, кричат и вопят все неистовые гостиничные агенты Булони, делая бешеные усилия добраться до нас. Безумный Пассажир каким-то, только ему одному известным образом, сумел угодить им в лапы и теперь отчаянно отбивается от комиссионеров в самой гуще водоворота; уже как-то установлено, что он едет в Париж; наконец, среди невообразимого шума, он спасен двумя треуголками и отдан вместе с нами во власть Таможни. Здесь я отказываюсь от какой-либо самостоятельности и вручаю свою судьбу некоему деятельному субъекту, обладающему сверхъестественной энергией, покатым лбом и сильно потрепанным костюмом табачного цвета; он наметил меня своей жертвой еще с пристани, до того, как судно вошло в порт. Он накидывается на мой багаж, который лежит на полу, где разбросан и багаж всех остальных пассажиров, будто обломки кораблекрушения на морском дне; уже предъявил его и взвесил, как "Собственность неизвестного пассажира", заплатил за него определенное количество франков определенному чиновнику, который сидит за окошечком, как театральный кассир (все операции вообще производятся здесь смаху, наполовину по-военному, наполовину по-театральному); и надо надеяться, что я получу все обратно, когда приеду в Париж — по крайней мере он говорит, что получу. Я ничего об этом не знаю, кроме того, что плачу ему небольшое вознаграждение, прячу в карман полученную от него квитанцию и сажусь на скамью среди всеобщего смятения. Железнодорожный вокзал. "Завтрак или обед, леди и джентльмены. До отхода поезда на Париж сколько угодно времени. Сколько угодно!" Большой зал, длинная стойка, длинные ряды обеденных столов, бутылки вина, мясные блюда, жареные цыплята, маленькие хлебцы, миски с супом, маленькие графинчики с коньяком, пирожные и фрукты. Приятно подкрепившись из этих источников, я снова пускаюсь в полет. Я увидел (прежде чем взлететь), как Замиеля представляет Пухленькой Очаровательнице и ее товарке-актрисе какой-то офицер в мундире, с талией, похожей на осиную, и в галифе, похожих на два баллона. Они вместе вошли в соседний вагон, сопровождаемые обеими Загадками. Они смеялись. А я один в купе (потому что Безумный не идет в счет) и один во всем мире. Поля, ветряные мельницы, низины, подстриженные деревья, ветряные мельницы, поля, фортификации, Аббевилль[157], солдаты на учениях и барабанный бой. Я уже забыл, где Англия и когда я там был в последний раз — что-то около двух лет назад, сказал бы я. Я лечу среди этих рвов и батарей, над грохочущими подъемными мостами, почти их касаясь, гляжу вниз на застоявшуюся воду во рвах, — и воображаю себя узником, который замыслил побег. Мы с товарищем заключены в крепости. Наша камера в верхнем этаже. Мы уже пытались вылезти в дымовую трубу, но она перекрыта железной решеткой, вделанной в каменную кладку. После нескольких месяцев работы мы расшатали решетку при помощи кочерги и уже можем поднять ее. Мы также соорудили крюк и сплели веревки из наших пледов и одеял. Наш план таков: подняться по дымоходу, укрепить веревку на его верхнем отверстии, на руках соскользнуть по ней на крышу кордегардии, далеко внизу, затем высвободить крюк, дождаться удобной минуты, когда часовой отойдет подальше, опять закрепить крюк, спрыгнуть в ров, переплыть его и доползти до надежного убежища в лесу. Время наступило — бурная, непроглядно-темная ночь. Мы взбираемся по дымоходу, спускаемся на крышу кордегардии, переплываем грязный ров, как вдруг — что это? "Кто идет?" Звук рожка, тревога, все пропало. Что это? Смерть? Нет, это Амьен. Опять фортификации, опять солдаты на учениях и барабанный бой, опять миски с супом, опять маленькие хлебцы, опять бутылки вина, опять графинчики коньяка, опять много времени на то, чтобы закусить. Все — отлично, и все наготове. Станция, воздушная как театральная декорация. Ожидающие. Дома, мундиры, бороды, усы, кое-где деревянные башмаки, много опрятных женщин и несколько детей с лицами стариков. Если это не наваждение, порожденное моим головокружительным полетом, взрослые и дети как будто поменялись местами во Франции. Мальчики и девочки похожи на маленьких мужчин и женщин, а мужчины и женщины — на бойких мальчиков и девочек. Звук рожка, свисток, полет продолжается. Мир Финансов входит в мое купе. Говорит, что буфеты "недурны", но находит их французскими. Признает за прислугой большую ловкость и вежливость в обхождении. Полагает, что десятичная денежная система играет свою роль при быстром подведении расчетов и признает, что она, пожалуй, действительно разумна и удобна. Добавляет все же, в виде общего протеста, что французы революционный народ и только этим и занимаются. Валы, каналы, собор, река, солдаты на учениях и барабанный бой, открытая местность, река, гончарные фабрики, Крейль. Опять стоянка — десять минут. Даже Безумный не спешит. Вокзал, гостиная с верандой; похоже на дом плантатора. Мир Финансов считает его шляпной картонкой, весьма непрочной. Внутри маленькие круглые столики; за одним из них товарки-актрисы и сопровождающие их Загадки с Осой и Замиелем устроились так, точно собираются пробыть здесь целую неделю. И вот, по-прежнему безо всяких хлопот, я опять лечу и в полете лениво размышляю. Что сделала Юго-Восточная со всеми ужасными деревушками, через которые мы проезжали некогда в дилижансе? Куда она девала всю летнюю пыль, всю зимнюю грязь, все мрачные аллеи низкорослых деревьев, все полуразвалившиеся почтовые станции, всех нищих (они по ночам выходили с огарками свечей к дилижансу и заглядывали к нам в окна), всех длиннохвостых лошадей, которые всегда кусали одна другую, всех почтальонов в высоких сапогах — все убогие кафе, где мы останавливались и где всегда был готов стол с длинной прозеленевшей скатертью, уставленный пиршественными бутылками уксуса и прованского масла и склянками с перцем и солью, соединенными попарно, как сиамские близнецы? Куда девались заросшие травой маленькие города; рыночные площади, где никогда не бывало рынков; лавки, где никто не торговал; улицы, по которым никто не ступал; церкви, куда никто не ходил; колокола, которые никогда не звонили; покосившиеся старые домики, залепленные разноцветными объявлениями, которых никто не читал? Куда девались двадцать два часа длинного-предлинного дневного и ночного путешествия, когда нам бывало либо невыносимо жарко, либо невыносимо холодно? Где теперь боль в суставах, где затекшие ноги, где тот француз в ночном колпаке, который никогда не позволял опустить оконце и который всегда валился на меня, когда засыпал, а когда спал, то всю ночь храпел, распространяя запах лука? Врывается голос: "Париж! Приехали!" Я, видно, чересчур налетался, но я не могу этому поверить. У меня такое чувство, точно меня околдовали и зачаровали. Было едва восемь часов — далеко до половины девятого, — когда мой багаж уже был осмотрен в этой, самой проворной из таможен при вокзале, и я уже покатил по мостовой в грохочущей наемной карете. Не может быть, что это уже парижская мостовая? Оказывается, да. Где еще могут быть все эти высокие здания, эти страшные на вид винные лавки, эти бильярдные, эти чулочные мастерские с деревянными ярко-красными или желтыми ногами в качестве вывесок, Эти дровяные склады, где снаружи нарисованы поленницы дров, а настоящие дрова распиливают в канаве, эти грязные перекрестки, эти картинки над темными подворотнями, на которых изображены строгие матроны с младенцами на руках. А ведь только сегодня утром… — но я еще подумаю об этом, когда сяду в теплую ванну. Здесь все очень похоже на ту запомнившуюся мне маленькую комнату в Китайских банях на Бульваре; и хотя я вижу ее сквозь пар, я определенно узнаю корзину с согретыми простынями, похожую на огромные песочные часы в плетеном футляре. Когда же я выехал из дому? Когда это было, что я в Лондоне оплатил проезд "до Парижа" и сложил с себя всякую ответственность за исключением того, что я должен хранить билет с тремя талонами, из которых первый был оторван в Фолкстоне, второй на борту парохода, а третий отобран в конце путешествия? Кажется, что это было много лет назад. Подсчеты бесполезны. Выйду погулять. Толпы на улицах, огни в магазинах и на балконах, изящество, разнообразие и красота, множество театров, нарядные кафе с раскрытыми окнами и оживленные группы за столиками прямо на тротуаре, яркий свет в домах, как бы вывороченных наизнанку, — скоро убеждают меня, что это не сон; что, как бы я сюда ни попал, но я в самом деле в Париже. Спускаюсь к сверкающему Пале-Роялю[158], иду по улице Риволи к Вандомской площади. Заглядываю в витрину магазина гравюр, и тут меня настигает Мир Финансов, давешний мой попутчик; он улыбается самодовольно и в высшей степени презрительно. "Вот народ! говорит он, указывая на Наполеона в витрине и Наполеона на Вандомской колонне. — Весь Париж помешался на этой одной идее! Мономания!" Гм! По-моему, я где-то видел счастливого соперника этого Наполеона. Когда я уезжал, была какая-то статуя на Гайд-парк-Корнер[159] и еще другая в Сити и одна или две гравюры в магазинах. Я иду к заставе Этуаль, достаточно оглушенный полетом, чтобы приятно усомниться в реальности всего окружающего: оживленной толпы; тенистых деревьев; дрессированных собак; карусельных лошадок; великолепной перспективы сверкающих фонарей; бесчисленных площадок, где слышится пение, где оркестры сияют лазурью и золотом, а Гурия с глазами как звезды расхаживает с кружкой для доброхотных жертвований. Так я и иду в свой отель, очарованный; ужинаю, очарованный; ложусь спать, очарованный; отодвигаю сегодняшнее утро (если в самом деле все это было сегодня утром) в глубь времен, благословляю Юго-Восточную компанию за то, что она в наши прозаические дни осуществила сказки "Тысячи и одной ночи", и бормочу себе под нос, направляя свой ленивый полет в страну мечты: "Не спешите, леди и джентльмены, мы прибываем в Париж через одиннадцать часов". И так все это хорошо налажено, что в самом деле не надо спешить!
НАША ШКОЛА
Я отправился взглянуть на нее прошлым летом и обнаружил, что железная дорога основательно ее искромсала. Магистраль поглотила площадку для игр, отсекла классную комнату и срезала угол дома; сильно сократившись в размерах, с позеленевшей от времени штукатуркой, он повернулся узким боком к дороге и напоминал забытый утюг без ручки, поставленный носом вверх. Как видно, всем школам, где мы учились, суждено было стать игралищем судьбы. У меня сохранилось смутное воспоминание о подготовительной школе для приходящих учеников, следы которой я тщетно разыскивал и которую, должно быть, снесли много лет тому назад, чтобы проложить на ее месте новую улицу. Мне кажется — хоть и не могу утверждать этого с уверенностью, — что школа эта помещалась над красильной мастерской. Я помню, что туда надо было подниматься по лестнице, о ступени которой мы часто обдирали себе коленки, и что мы постоянно царапали ноги о железную скобу, пытаясь соскрести грязь с неустойчивых детских башмачков. Владелица этого учебного заведения не удержалась у меня в памяти, зато толстый мопс, неизменно неистовствующий на коврике у дверей, при входе в длинный и узкий коридорчик и затаивший против меня личную вражду, — торжествует над временем. Лай этого грозного пса, его манера хватать нас всех по очереди за беззащитные ноги, его влажная черная морда, страшный оскал белых клыков и жесткий хвост, нагло загнутый крючком наподобие пастырского посоха, — все это живо и ярко в моей памяти. По какой-то необъяснимой ассоциации я заключаю, что мопс был французского происхождения и что звали его Фидель. Он принадлежал некоей особе женского пола, обитавшей преимущественно в комнате позади классов и, казалось, проводившей свою жизнь в беспрерывном чихании и ношении коричневого касторового капора. Перед ней свирепый мопс стоял на задних лапах, удерживая на носу кусок пирога, и не глотал его до тех пор, пока не сосчитают до двадцати. Однажды, помнится, меня пригласили полюбоваться этим зрелищем. Но будучи не в силах, даже в минуты наибольшей кротости, выносить мое присутствие, пес тут же набросился на меня, забыв и про пирог и про все на свете. Почему некое существо в трауре, называемое "мисс Фрост", связано с нашей подготовительной школой, я объяснить не берусь, У меня не сохранилось никакого впечатления о красоте мисс Фрост, если она была красива, или о духовном обаянии мисс Фрост, если она была умна. А вот имя ее и черное платье запомнились. Застряла у меня в памяти и столь же безликая фигура мальчика, чье имя прочно сложилось из слов "мистер Молс". Не питая никакого дурного чувства к Молсу — и вообще не питая к нему никаких чувств, — я заключаю, что ни он, ни я не могли любить мисс Фрост. Мое первое впечатление о смерти и похоронах связывается с этой бесплотной парой. Как-то зимним днем, когда дул пронзительный ветер, мы втроем испуганно забились в угол, закрывшись с головой передником мисс Фрост, и она шепотом говорила нам о ком-то, что его "завинчивают". Это единственное отчетливое воспоминание, которое сохранилось у меня о сих бестелесных созданиях, — это, да еще догадка, что манеры мистера Молса оставляли желать лучшего. Вообще говоря, я замечал, что всякий раз, как я вижу ребенка, всецело, до забвения окружающего, поглощенного раскопками в собственном носу, моя мысль в тот же миг обращается к мистеру Молсу. Но школа, которая была "нашей школой", до той поры как появилась железная дорога и разрушила ее, была заведением совсем иного рода. Когда я поступил туда, я был достаточно взрослым, чтобы переводить Вергилия и получать награды за блестящие познания, уже давно покрывшиеся ржавчиной времени. Эта школа пользовалась известностью в округе — никто не мог бы сказать почему, — и я имел честь занять там славное место первого ученика. Все мы были твердо убеждены, что наш директор не знает ничего, а один из младших учителей знает все. И я по сю пору склонен думать, что первое наше предположение было совершенно правильным. Мне представляется, что делом жизни нашего директора была кожевенная торговля и что он купил нас — я имею в виду нашу школу — у другого владельца, который отличался большой ученостью. Насколько обоснованно такое представление — этого я уже никогда не узнаю. Единственными науками, с которыми он имел хотя бы отдаленное знакомство, были графление бумаги и телесные наказания. Он вечно графил арифметические тетради с помощью тяжелой линейки красного дерева или бил провинившихся по ладоням этим же дьявольским орудием, или же, туго натянув чьи-нибудь штанишки своей огромной рукой, другой больно колотил тростью владельца этих штанишек. Не сомневаюсь, что только это занятие и скрашивало его существование. В нашей школе — разумеется, с легкой руки директора — деньги пользовались необычайным уважением. Я помню маленького идиота с глазами навыкате, с огромной головой и неиссякаемым запасом полукрон, который неожиданно появился среди нас в качестве привилегированного ученика, столовавшегося у директора, и, по слухам, приехал морем из какой-то таинственной страны, где его родители купались в золоте. Директор называл его "мистер" и, как передавали, кормил бифштексами и поил смородинной наливкой. И мальчишка прямо заявлял, что, если ему когда-нибудь откажутся подать на завтрак кофе с булочками, он напишет домой, в ту неизвестную часть земного шара, откуда он приехал, и его вызовут обратно, в край золотых россыпей. Он не посещал классов, а учился один, и столько, сколько сам пожелает — а желание у него было весьма слабое, — и мы объясняли это тем, что он слишком богат, чтобы делать ему выговоры. Его особое положение, и то, что мы смутно связывали его с морем, штормами, акулами и коралловыми рифами, породило вокруг его биографии самые фантастические легенды. О нем была написана трагедия белыми стихами (если мне не изменяет память, написана тою же рукой, что пишет сейчас эти строки), в которой отец его был выведен как пират, расстрелянный за длинный список злодеяний; перед смертью он успел передать жене тайну пещеры, где хранились его богатства и откуда теперь потоком текли полукроны для его единственного отпрыска. Дамблтон (так звали мальчишку) упоминался в трагедии как "еще не рожденный", когда его страшный отец покончил счеты с жизнью, и зрителям давалось понять, что отчаяние и горе миссис Дамблтон при известии о сей катастрофе отразилось на умственных способностях нашего пансионера. Это произведение имело огромный успех и дважды разыгрывалось в столовой, при закрытых дверях. Но об этом прознало начальство, пьеса была запрещена как клеветническая и навлекла на злополучного поэта крупные неприятности. Спустя года два, в один прекрасный день Дамблтон исчез. Ходили слухи, что директор сам отвез его в порт и отправил на пароходе обратно в Вест-Индию, однако ничего определенного об этом исчезновении так и не стало известно. Сейчас мысль о Дамблтоне почему-то связывается у меня с Калифорнией. Были у нас и другие таинственные ученики, наша школа, можно сказать, славилась ими. Мне вспоминается, например, некий тяжеловесный юноша, обладатель огромных серебряных часов с двойной крышкой и толстого перочинного ножа, в рукоятке которого помещался целый набор мелких инструментов; он непостижимым образом возник однажды за своим особым пюпитром рядом с кафедрой директора, с которым он вел непринужденную беседу. Жил он в директорской гостиной, ходил один на прогулки и не обращал на нас ни малейшего внимания — даже на меня, первого ученика, — разве что подставит ножку или же, встретившись где-нибудь на улице, злодейски сорвет с моей головы шапку и куда-нибудь забросит, причем совершал он этот отвратительный маневр на ходу, даже не соизволив остановиться. Одни считали, что познания этого феномена в древних языках необычайны, но каллиграфия и арифметика у него хромают, и что он приехал сюда подучиться; другие — что он собирается открыть свою школу и дал нашему директору двадцать пять фунтов наличными, чтобы иметь возможность познакомиться с работой нашей школы и набраться опыта. Самые мрачные пессимисты говорили даже, что он собирается нас купить, и на этот случай строились планы общего побега. Однако ничего подобного не произошло. Пробыв у нас целую четверть, причем за это время мы при самом тщательном наблюдении не могли заметить, чтобы он занимался чем-нибудь, кроме того, что чинил перья, изредка делал какие-то записи в своей секретной папке да исковырял острием ножа весь пюпитр, — он вдруг исчез, и место его опустело. Затем был еще один воспитанник, красивый кроткий мальчик с нежным цветом лица и густыми кудрями, который, как мы обнаружили, или воображали, что обнаружили (по каким признакам — о том я не имею ни малейшего понятия, да и тогда, вероятно, тоже не имел, но сведения эти тайно передавались из уст в уста), что мальчик этот — сын виконта и одной прелестной женщины, которую тот коварно покинул. Уверяли, что, если бы он добился своих законных прав, у него было бы двадцать тысяч в год; и что если его мать встретит когда-нибудь его отца, она застрелит его из серебряного пистолета, который с этой целью всегда носит с собою, заряженным по самое дуло. Это была неиссякаемая тема для россказней. Толки вызывал и юный мулат, о котором говорили, что он (хоть и будучи весьма дружелюбного нрава) прячет на себе кинжал. Впрочем, их обоих затмил еще один мальчик, который утверждал, что родился 29 февраля и что день рождения у него бывает только раз в пять лет. Подозреваю, что это была выдумка, но она обеспечила ему популярность на все время его пребывания в школе. Главной разменной монетой в нашей школе был грифель. Он обладал необъяснимой ценностью, которая никогда точно не определялась и никогда не сводилась к какой-нибудь норме. Иметь большой запас грифелей значило быть богатым. Мы жертвовали их для благотворительных целей и дарили в знак самой преданной дружбы. Когда приближались каникулы, в школе собирали подарки для воспитанников, чьи родные жили в Индии и которым поэтому некуда было уехать, — предполагалось, что это должно их подбодрить и заглушить их тоску по родному дому. Лично я всегда облекал эти знаки внимания в форму грифелей и был твердо уверен в том, что они послужат утешением для страждущих и станут их самым драгоценным сокровищем. Наша школа была примечательна своими белыми мышами. Реполовы, коноплянки и даже канарейки жили у нас в партах, ящиках, шляпных картонках и других необычных для птиц убежищах; но больше всего мы любили белых мышей. Мальчики обучали белых мышей гораздо успешнее, нежели учителя обучали мальчиков. Я помню одного белого мышонка, который жил в переплете латинского словаря, взбегал вверх по деревянной лесенке, возил римскую колесницу, брал ружье "к плечу", вертел колеса и даже недурно справлялся с ролью собаки из Монтаржи. Он мог бы достичь еще больших успехов, но, по несчастью, во время торжественного шествия в Капитолий сбился с пути, угодил в глубокую чернильницу и утонул, превратившись в негра. Благодаря мышам развивались наши технические способности. Мы строили им дома и мастерили приспособления для цирковых номеров. Самая знаменитая мышь принадлежала компании владельцев; много лет спустя некоторые из них строили железные дороги и паровозы и проводили телеграфные линии, председатель же этой компании ныне возводит заводы и мосты в Новой Зеландии. Младший учитель, о котором говорили, что он знает все, в отличие от директора, о котором говорили, что он не знает ничего, был костлявый молодой человек с кротким лицом и в порыжевшей одежде, похожий на священника. Молва гласила, что он неравнодушен к одной из сестер Максби (Максби жил недалеко от школы и был приходящим учеником) и покровительствует ее брату. Помнится, в предпраздничные дни он давал сестрам Максби уроки итальянского языка. Однажды он отправился с ними в театр в белом жилете и с розой в петлице, что мы сочли равносильным предложению руки и сердца. По нашему мнению, он до последней минуты ждал, что отец Максби пригласит его к обеду на пять часов и поэтому пренебрег обычным своим обедом в половине второго, в результате чего вообще остался без обеда. Мы расписывали друг другу, сколько он поглотил холодного мяса за ужином у мистера Максби, и дружно решили, что когда он вернулся домой, то не совсем твердо держался на ногах от разбавленного водою вина. Но мы любили его, потому что он хорошо знал мальчиков, и он принес бы школе много добра, если бы располагал большей властью. Он был учителем чистописания, математики, английского языка, составлял счета, чинил нам перья и вообще делал все, что потребуется. Он помогал учителю латыни обучать малышей (их натаскивали контрабандой в свободные минуты) и, будучи человеком воспитанным, посещал заболевших учеников на дому. Он был довольно музыкален и когда-то, в день получки, купил старый тромбон; но кусочек от этого музыкального инструмента потерялся, и когда наш учитель пытался порою играть на нем по вечерам, тромбон издавал самые невероятные звуки. Освобождался он всегда гораздо позже нас (из-за составления счетов), но во время летних вакаций совершал длинные пешеходные прогулки с котомкой за плечами, а на рождество отправлялся в Чиппинг-Нортон навестить своего отца, который, как говорили (без всяких к тому оснований), торговал свиньями, откормленными на сыворотке. Бедняга! Он был очень подавлен в день свадьбы сестры Максби, а потом стал еще больше покровительствовать ее брату, вопреки всеобщему мнению, что он будет вымещать на нем обиду. Он умер лет двадцать тому назад. Бедняга! Вспоминается мне и преподаватель латыни, бесцветный, сутулый, близорукий человек с костылем; он вечно ежился от холода и вечно закладывал себе в уши луковицы — от глухоты; у него всегда из-под всякой одежды торчали концы фланели, и он постоянно прижимал к лицу скомканный носовой платок то здесь, то там, каким-то ввинчивающим движением. Он обладал недюжинными знаниями и не жалел стараний, когда видел в ученике способности и рвение к наукам; в противном же случае он не утруждал себя. Он встает в моей памяти как человек не только бесцветный, но и вялый (если не считать редких вспышек), словно вечные шалости мальчишек замучили его и довели до состояния постоянной расслабленности, словно лучшая часть его жизни была выжата из него на этой живой мельнице. Я с ужасом вспоминаю случай, как он заснул однажды в душный день во время занятий с малышами и не проснулся от звука тяжелых директорских шагов; как директор среди мертвой тишины разбудил его вопросом: "Мистер Блинкинс, вы больны, сэр?" — как он в смущении пролепетал: "Да, сэр, мне что-то нездоровится", как директор сурово заметил: "Мистер Блинкинс, здесь не место болеть!" (это была правда, истинная правда!), и вышел торжественной поступью, точно дух короля в "Гамлете", не преминув опустить трость на зазевавшегося ученика и выместить таким образом на его особе свои чувства к учителю латыни. Был у нас и маленький толстенький учитель танцев, который приезжал на двуколке и учил старших мальчиков матросскому танцу (считалось, что это искусство нам очень пригодится в дальнейшей жизни); был маленький вертлявый француз, который даже в самую хорошую погоду являлся с зонтом без ручки и с которым наш директор был неизменно вежлив, потому (как мы считали), что если бы директор вздумал его обидеть, тот немедленно обратился бы к нему на французском языке и навеки осрамил его перед мальчиками, так как ни понять, ни ответить на этом языке он был неспособен. Был у нас, кроме того, работник, по имени Фил. В воспоминаниях Фил представляется мне потерпевшим кораблекрушение плотником, которого буря выбросила в нашу школу как на необитаемый остров, чтобы он мог развивать здесь заложенные в нем разнообразные таланты. Он чинил все, что ломалось, и мастерил все, что требовалось. Между прочим, он был и стекольщиком и вставлял все разбитые стекла, получая за каждое (как мы сильно подозревали) по девять пенсов, тогда как с родителей брали за то же стекло по три с половиной шиллинга. Мы были очень высокого мнения о его талантах механика и вообще считали, что директору известен какой-то его проступок, под страхом разглашения которого он и держал Фила в рабской зависимости. Мне особенно запомнилось, что Фил питал безграничное презрение к наукам; за это я его глубоко уважаю, ибо это доказывает, что он отлично понимал разницу в положении директора и его помощников. Этот непроницаемый человек время от времени прислуживал за столом, и он же содержал на хранении наши сундучки. Он был нелюбезен даже с директором и никогда не улыбался, кроме как в день роспуска на каникулы, когда в ответ на тост "Да здравствует Фил! Ура!" — он медленно выдавливал на своем деревянном лице ухмылку, которая и оставалась там до тех пор, пока все мы не разъезжались. Но когда однажды в школе вспыхнула скарлатина, Фил сам вызвался ходить за всеми больными мальчиками и заботился о них не хуже родной матери. Недалеко от нас была другая школа, и уж конечно наша школа не желала иметь с ней никакого дела. Это характерно для всяких школ — не только для тех, где обучают мальчиков. Что ж! Железная дорога смела нашу школу, и локомотивы проносятся теперь по ее пеплу.
Так вянет, уходя в небытие,
Все, чем гордится мир, —
НАШ ПОЧТЕННЫЙ ДРУГ
Мы в восторге от того, что он избран! Наш почтенный друг с триумфом прошел в парламент нового созыва. Он — достойный депутат от Многословия, наилучшим образом представленного округа Англии. Наш почтенный друг обратился к своим избирателям с поздравительным посланием, в коем он отдает должное этим благородным гражданам и каковое являет собой недурной образец сочинительства. Избрав его, — говорит он, они увенчали себя славой, и Англия осталась себе верна. (В одном из своих предвыборных обращений он отметил, прибегнув к мало известной поэтической цитате, что "нам никакая участь не страшна, была бы Англия себе верна"[160].) В этом же документе наш почтенный друг высказывает уверенность, что жалкие прихвостни враждебной партии никогда больше не поднимут голову и так и останутся пребывать в ничтожестве, заклейменные презрением на вечные времена. Далее он заявляет, что гнусные наймиты, которые хотели бы сокрушить священные оплоты нашей нации, недостойны называться англичанами; и что до той поры, пока волны не перестанут вздыматься вокруг нашего опоясанного океаном острова, его девизом будет: "Никаких уступок". Находятся тупицы, беспринципные и наглые, которые позволяют себе задавать вопрос — известно ли кому-нибудь, кто эти прихвостни, и что это за враждебная партия, и кого считать презренными наймитами, а кого священными оплотами, и что это за уступки, на которые мы никогда не пойдем, и если не пойдем, то почему? Но наш почтенный друг, депутат от Многословия, все это прекрасно знает. Наш почтенный друг избирался в парламент неоднократно и отдавал свой голос несчетное множество раз — это человек, столь искушенный в деле голосования, что вы никогда не знаете, что у него на уме. Когда кажется, что он голосует за то, что белее снега, на деле он, очень возможно, голосует за то, что чернее сажи. Когда он говорит "да", это так же похоже на "да", как и на "нет", и даже вернее — он имеет в виду именно "нет". В этом и заключаются государственные таланты нашего почтенного друга. Этим-то он и отличается от простых смертных, незнакомых с парламентским искусством. Вы-то, может быть, и не знаете, что он имел в виду тогда или что он имеет в виду теперь; но наш почтенный друг знает, и с самого начала знал, и то, что он имел в виду тогда, и то, что он имеет в виду теперь. Если же вы хотите сказать, что вы ни тогда не знали, ни теперь не знаете, что он имел в виду тогда, или что он имеет в виду теперь, то наш почтенный друг будет очень рад получить от вас недвусмысленный ответ — а не собираетесь ли вы сокрушить оплоты нашей нации? Наш почтенный друг, депутат от Многословия, обладает неоценимым свойством: он всегда имеет что-то в виду, причем это "что-то" всегда одно и то же. Когда он впервые вошел в парламент и мрачно заявил с места, что он, как один из членов палаты общин нашей великой и счастливой страны, может положа руку на сердце торжественно заверить, что никакие соображения на свете никогда и ни при каких обстоятельствах не заставят его поехать на север хотя бы до Бервика-на-Твиде; и когда он тем не менее на следующий год все-таки поехал в Бервик-на-Твиде и даже еще севернее — в Эдинбург, то он имел в виду одну и ту же мысль, единую и неделимую. И боже его сохрани (говорит наш почтенный друг) тратить попустуслова на человека, который заявляет, что не может этого понять! Нет, джентльмены, — с великим негодованием воскликнул наш почтенный друг среди громких одобрительных возгласов, сопровождавших одно из его выступлений, — нет, джентльмены, я отнюдь не завидую переживаниям человека, чей ум так устроен, что позволяет ему обращаться ко мне с подобными вопросами, а затем мирно почивать в своей постели, осмеливаясь считать себя гражданином страны, которая
Шагает по валам морским[161],
И дом ей — океан.
НАШ ПРИХОДСКИЙ СОВЕТ
Мы пользуемся высокой привилегией всегда, когда захотим, кипеть в котле. Мы — акционер Чепухаусского отделения Главного приходского британского акционерного банка. В нашем приходе имеется приходский совет, и мы можем подавать голос за одного из членов совета — и даже сами, возможно, вошли бы в приходский совет, если бы горели благородным и высоким честолюбием. Но мы им не горим. Наш приходский совет — весьма почтенное и важное совещательное собрание. Как сенат древнего Рима, он своей грозной внушительностью подавляет (или должен был бы подавлять) заезжих варваров. Он заседает в своем Капитолии (сказать точнее, в построенном для него капитальном здании) преимущественно по субботам и до самых недр потрясает землю отзвуками своего громового красноречия в некоей воскресной газете. Чтобы войти в наш приходский совет и гордо называться его членом, прилагаются исполинские усилия, свершаются геркулесовы подвиги. При каждых выборах всем, вплоть до последнего тупицы, растолковывают, что, если мы отвергнем Снозла, мы погибли, а если мы не проведем единогласно Бландербуза, мы недостойны самых дорогих англичанину прав. В приходе на глухих стенах, как румяные плоды, созревают плакаты, трактиры вывешивают флаги, наемные коляски расцветают пышным цветом литер, и каждого от волнения трясет, или должна бы трясти, лихорадка. В эти критические дни, определяющие судьбу нации, нам помогают прийти к должному решению два добровольца, оба — выдающиеся личности, из коих один подписывается "Рядовой прихожанин", другой — "Налогоплательщик". Кто они, что они, где они — никому не известно; но все, что утверждает один, оспаривается другим. Они оба — весьма плодовитые писатели и в одну неделю пишут столько писем, сколько их не написал и сам лорд Честерфилд; и чувства их по большей части так грандиозны, что их иначе не выразишь, как только прописными буквами. Чтобы вознести вас на высоту своего негодования, они применяют вместо воздушных шаров целую шеренгу добавочных восклицательных знаков; иногда они сообщают сокрушительную суровость звездам и звездочкам:
Обитателям Лунных Холмов Это ли не******** — вовлечь приход в долги на 2745 фунтов 6 шиллингов 9 пенсов и при этом выставлять себя строгим стражем экономии? Это ли не******** — утверждать как достоверность нечто, о чем установлено, что оно и морально и физически невозможно? Это ли не******** — называть 2745 фунтов 6 шиллингов 9 пенсов пустяком, а пустяк — важным делом? Согласны вы или нет, чтобы ****** представлял вас в приходском совете? Поразмыслить над этими вопросами вам советует Рядовой прихожанин.
Как раз по поводу этого важнейшего документа один из наших лучших ораторов, мистер Мэгг (с Малой Слизнячной улицы) объявил во всеуслышание, когда открыл четырнадцатого ноября большие дебаты: "Сэр, вот у меня в руке анонимный навет" — а противная фракция своим бурным протестом заставила говорившего смолкнуть, после чего и возникла та памятная дискуссия о порядке ведения собраний, которая никогда не перестанет привлекать к себе интерес законодательных органов. Во время того оживленного спора, о котором мы сейчас напомнили, можно было видеть, как не менее тридцати семи джентльменов, — в том числе немало людей большого веса, вплоть до мистера Вигзби (с Пустозвонной площади), — одновременно вскочили с мест; и при том же исключительном случае мистер Доггинсон — которого считают в нашем приходском совете "истым Джоном Буллем", а посему мы можем твердо положиться, что он всегда имеет готовое мнение о любом предмете, ровно ничего о нем не зная, — дал понять другому джентльмену тех же правил, но принадлежавшему к противной стороне, что если тот "посмеет нагличать" на его счет, то он, Доггинсон, прибегнет к крайней мере, а именно — раскроит ему его дражайший череп. То был исключительный случай. Но наш приходский совет блистателен и в обычное время. Так, например, он с большим достоинством утверждает свое превосходство. По всякому поводу и без повода он "позволяет себе спросить, кто вправе что-либо ему предписывать", или "помыкать им", или "попирать его ногами". Его великий девиз — самоуправление. Это значит, что если наш приходский совет станет, предположим, попустительствовать какому-нибудь безобидному непорядку, например, тифозной горячке, а государственная власть в нашей стране по несчастью окажется, предположим, в столь неумелых руках, что кто-то из должностных лиц почтет своим долгом противиться тифозной горячке — хотя такое сопротивление несовместимо с нашими традициями, — то тут наш приходский совет выступает с грозным манифестом о самоуправлении и настаивает на своем неотъемлемом праве иметь у себя столько тифозной горячки, сколько ему захочется. Между тем некоторые неразумные и опасные личности указывают, что хотя наш приходский совет, может быть, и может "держать в узде" свой приход, однако он, может быть, не сможет держать в узде свои болезни, которые пойдут гулять по всей стране (говорят они), оставляя за собой опустошение, горе, и смерть, и вдовство, и сиротство. Но таких господ наш приходский совет сразу ставит на место. Это наш приходский совет, краса и гордость приходских советов, во время недавней эпидемии ради своего излюбленного принципа принял славное решение полностью отрицать, будто где бы то ни было в Англии свирепствует болезнь, когда болезнь уже свирепствовала у дверей приходского совета. Доггинсон сказал, что во всем виноваты сливы; мистер Вигзби (с Пустозвонной площади) сказал, что во всем виноваты устрицы; мистер Мэгг (с Малой Слизнячной улицы) сказал под бурные аплодисменты, что во всем виноваты газеты. При сложившихся обстоятельствах благородное возмущение нашего приходского совета этим неанглийским институтом — Департаментом Здравоохранения — представляет, может быть, самую славную страницу его истории. Он и слышать не хотел о спасении. Как тот француз у мистера Джозефа Миллера[163], он собрался утонуть и чтоб никто не смел его вытаскивать! Распаленный гневом, он презрел грамматику и заговорил на неведомых языках или издавал невнятное мычание, напоминая скорее древнее дельфийское святилище, нежели святилище новых прорицателей, каковым он всенародно признан. Крайняя нужда толкает на крайности. Так и наш приходский совет: когда, еще не оперившийся, он оказался пред лицом горестного бедствия, он сразу вырос в крупного гусака. Но это опять-таки был особый случай. В более обыденную пору наш приходский совет вполне заслуживает восхваления. Наш приходский совет — горячий поборник парламентаризма. Игра в парламент — его самая любимая забава. Иные из его членов даже склонны рассматривать совет как небольшую пристройку к палате общин или как экзамен для прохождения в нее. Здесь, как и там, имеется свой балкон для гостей и происходят прения, отчеты о которых даются в печати (смотри упомянутую выше воскресную газету), и члены нашего приходского совета, как и там, одни считаются с регламентом, другие нет, одни стоят и говорят, другие сидят и молчат, но прежде всего они, как верное подобие своего образца, чрезвычайно драчливы. На заседаниях нашего приходского совета мистер Мэгг никогда не просит разрешения побеспокоить мистера Вигзби простым запросом. Он поступает хитрее. Едва увидев, что почтенный джентльмен, чье имя в представлении его коллег сочетается с Пустозвонной площадью, сел на свое место, он позволяет себе спросить у этого почтенного джентльмена, каковы будут намерения лично его и иже с ним в вопросе о том, чтобы замостить улицу на участке, известном под наименованием Свиные Дома. Мистер Вигзби отвечает (с оглядкой на ближайший номер воскресной газеты), что в связи с вопросом, поставленным ему почтенным джентльменом из оппозиции, он просит позволения сказать, что если бы этот почтенный джентльмен был любезен своевременно внести свой вопрос в повестку дня, то он (мистер Вигзби) обсудил бы со своими коллегами, насколько желательно при том обороте, какой принимает сейчас дискуссия о новом обложении на мостовые, отвечать на этот вопрос. Но так как почтенный джентльмен не был столь любезен внести вопрос в повестку дня (сторонники Вигзби бурно аплодируют), он вынужден отказать почтенному джентльмену в удовлетворении его любознательности. Мистера Мэгга, тотчас вскочившего для возражения, встречают шумными выкриками "Долой!" со стороны почитателей Вигзби и аплодисментами на Мэгговой половине зала. Мало того, пятеро джентльменов просят слова к порядку дня и один из них, в отместку за то, что с ним никто не считался, ошеломляет собрание требованием немедленно объявить заседание закрытым; но, сдавшись на уговоры, снимает свое чудовищное предложение, чреватое, если его принять, невообразимыми последствиями. Тогда мистер Мэгг, понимая, что повторно слова не получит, ставит председателю на вид, что вы, мол, сэр, должны строго держаться порядка дня; и пользуется случаем заявить, что ежели почтенный джентльмен, которого он видит пред собой, но не уронит своего достоинства, назвав его более определенно ("ого-го!" и ропот одобрения), полагает, что может его перекричать, то этот почтенный джентльмен — хотя бы грудью стоял за него Рядовой прихожанин, с которым он так близок (ропот одобрения и протеста, причем мистера Мэгга неизменно поддерживает Налогоплательщик), жестоко ошибается, в чем он сейчас убедится. Затем двадцать членов нашего приходского совета поочередно берут слово, чтобы растолковать, что имели в виду два великих человека, пока не выясняется — через час двадцать минут, — что ни тот, ни другой ничего не имели в виду. И тогда наш приходский совет переходит к делам. Мы сказали, что наш приходский совет как верное подобие своего образца бывает, играя в парламент, чрезвычайно драчлив. Больше всего он любит пререкания по личному поводу? Быть может, самым ужасающим столкновением этого рода изо всех, какие бывали у нас (впрочем, у нас их бывало так много, что сразу и не решишь), надо признать тот случай, когда произошло последнее торжественное объяснение между мистером Тиддипотом (из Толковых Рядов) и капитаном Бэнгером (из Дикой Пустоши). В затянувшейся дискуссии о том, можно ли рассматривать воду как необходимый для жизни продукт, относительно чего возник ряд резко противоречивых мнений и много тонких оттенков суждения, мистер Тиддипот, разразившись громовой речью против этой гипотезы, неоднократно прибег к обороту, что-де такой-то и такой-то слух "достиг его ушей". Капитан Бэнгер, сменивший его на трибуне и утверждавший, что в целях омовения и освежения на каждого взрослого человека из низших классов необходима пинта воды per diem[164], а на каждого ребенка — полпинты, направил в его адрес поток насмешек и свою искрометную речь заключил словами, что, должно быть, не слухи достигли ушей почтенного джентльмена, а уши почтенного джентльмена, полагает он, достигли оных слухов вследствие своей известной всем длины. Мистер Тиддипот незамедлительно встал, посмотрел прямо в лицо почтенному и доблестному джентльмену и покинул Зал. Возбуждение, к этому моменту уже мучительно напряженное, дошло до крайнего накала, когда капитан Бэнгер тоже встал и покинул зал. Переждав несколько секунд глубокой тишины — незабываемых секунд, в течение которых все молчали затаив дыхание, — взял слово мистер Чиб (из Фанфарной Аллеи), старейший член приходского совета. Он сказал, что в этом зале брошены были слова и взгляды, грозящие последствиями, которые будет оплакивать каждый мыслящий и чувствующий человек. Время не терпит. Клинок обнажен, и, может быть, сейчас, пока он это говорит, отброшены будут ножны. Он вносит предложение призвать обратно тех почтенных джентльменов, которые вышли из зала, и пусть они по настоянию всего собрания поручатся честью, что дело дальше не пойдет. Предложение при полном согласии всех партий было единодушно одобрено (ибо каждому хотелось иметь воюющие стороны перед глазами, а не где-то вне поля зрения, что ничуть не развлекательно), и мистера Мэгга отрядили привести назад капитана Бэнгера, а мистер Чиб отправился самолично на розыски мистера Тиддипота. Капитан был найден без труда: он наблюдал за движением омнибусов, заняв открытую позицию на верхней ступеньке крыльца у главного входа, в непосредственном соседстве с будкой приходского надзирателя. Мистер Тиддипот предпринял отчаянную попытку сопротивления, но не устоял под натиском мистера Чиба (на редкость крепкого старика восьмидесяти двух лет) и был благополучно доставлен в зал. Водворенные на свои места, мистер Тиддипот и капитан гневно глядели друг на друга, когда председатель призвал их отказаться от своих кровавых намерений и поставить о том в известность приходский совет. Мистер Тиддипот хранил глубокое молчание. Хранил глубокое молчание и капитан, с той лишь разницей, что стоявшие вокруг него могли наблюдать, как он скрестил руки на манер Наполеона Бонапарта и шумно фыркал — образ действия, слишком откровенно отдававший порохом. Грозное волнение охватило зал. Несколько членов совета сгрудились вокруг капитана, увещая его, несколько — вокруг Тиддипота; но и тот и другой заупрямились. Тогда выступил под громовые аплодисменты мистер Чиб и объявил, что теперь он должен, неукоснительно следуя своему тягостному долгу, внести предложение, чтобы оба почтенных джентльмена были взяты приходским надзирателем под стражу, отведены в ближайшую полицейскую часть и отпущены оттуда на поруки. Поскольку согласие партий нерушимо сохранялось, предложение нашло поддержку у мистера Вигзби — обычно выступавшего противником Чиба, — и было принято с восторгом всеми голосами против одного. Этот одинокий голос принадлежал Доггинсону, крикнувшему с места, что, мол, "пускай их идут на кулачки", но это грубое замечание было расценено так, как оно того заслуживало. Приходский надзиратель подвигался между тем по залу и пригласительно махал своею треуголкой обоим членам совета. Все ждали, не смея дохнуть. Мы сказали бы, что можно было услышать, как летит муха, но это слишком бледно изобразило бы тот всепоглощающий интерес и тишину. Вдруг в совете со всех сторон поднялся ропот восторженного одобрения. Капитан Бэнгер встал причем, сказать по правде, его тянули встать один приятель справа, другой слева, а третий подталкивал в спину. Полнозвучным, решительным голосом капитан сказал, что он высоко чтит приходский совет и высоко чтит его председателя; что он чтит и почтенного джентльмена из Толковых Рядов; но что собственную честь он чтит превыше всего. С этим словом капитан сел, произведя глубокое впечатление на весь совет. Тотчас вслед за ним встал мистер Тиддипот и был принят теми же знаками поощрения. Он также сказал — и изысканное красноречие Этого оратора придало его высказыванию свежесть и новизну, — что и он высоко чтит приходский совет; что и он высоко чтит его председателя. Что и он со своей стороны чтит почтенного и доблестного джентльмена из Дикой Пустоши; но что и он свою честь чтит превыше всего. — Однако, — добавил достойный член приходского совета, — если честь почтенного и доблестного джентльмена никто и никогда не ущемлял и не брал под сомнение в большей мере, чем я, то, значит, он человек незапятнанной чести. Капитан Бэнгер не замедлил снова встать и сказал, что после всех изъявлений, которые полностью отдают должное его чести, нисколько притом не роняя достоинства достойного джентльмена, он сам нанес бы урон своей чести и великодушию, если бы сразу же не отбросил всякое намерение ущемить честь достойного джентльмена или сказать что-либо недостойное его достойного самолюбия. Эти изъявления неоднократно прерывались бурными аплодисментами. Мистер Тиддипот сказал в ответ, что ему известно, каким достойным духом чести достойно преисполнен этот достойный и доблестный джентльмен, и что он принимает его достойное объяснение, приносимое в столь лестной для его достоинства форме; но приходский совет, надеется он, примет во внимание, что его (мистера Тиддипота) честь настоятельно потребовала от него этой не совсем приятной линии поведения, которую он должен был избрать, потому что к ней его обязывало чувство чести. Затем капитан и мистер Тиддипот, стоя в разных концах комнаты, несколько раз приподняли друг перед другом шляпу, и существует мнение, что этот инцидент (отчету о котором очередной номер воскресной газеты уделил несколько столбцов) послужит к избранию их обоих на будущий год церковными старостами. Приходский совет повел себя здесь как верное подобие своего образца парламента, и так он ведет себя всегда. В прениях, не найдя для подражания лучшего предмета, он достохвально воспроизводит витиеватое пустословие своего образца. Он вдается в ожесточенную партийную распрю, не думая, стоит ли того вопрос; он проводит неимоверно много прений, чтобы сделать крошечное дело; и больше придает значения форме, чем сущности — все в точном соответствии со своим образцом! Иные в нашем приходе высказывали сомнение, есть ли нам прок в приходском совете; но по нашему личному мнению приходу от него та же польза, что художнику от уменьшительного зеркала: отразив в своем маленьком фокусе все недостатки на поверхности образца, он позволяет увидеть их доведенными до абсурда.
НАШ ДОКУЧНЫЙ ЗНАКОМЕЦ
Надо ли говорить, что и у нас есть свой докучный знакомец? Он есть у каждого. Но тот докучный, которого мы имеем честь и удовольствие числить среди наших добрых знакомых, так типически докучен и столько в нем черт, общих, как нам представляется, для всего великого рода докучных, что мы соблазнились избрать его предметом одного из настоящих очерков. Пусть так его и примут — как типическое явление! Наш докучный знакомец слывет добродушным малым. Он может вывести из себя полсотни человек, но сам не потеряет душевного равновесия. Он сохраняет на лице тошнотно безмятежную улыбку, когда у остальных лица кривятся перед совершенством, достигнутым им в своем искусстве, и голос у него ровный, никогда не сбивающийся с ключа, не повышающийся ни на малую толику. Его тон — тон спокойной заинтересованности. Его суждения никогда не бывают неожиданными. Из всех его глубоко укоренившихся убеждений может быть упомянуто, что воздух Англии он полагает сырым и допускает, что в этом смысле наши веселые соседи — он всегда называет французов нашими веселыми соседями — имеют перед нами преимущество. Тем не менее он не может забыть, что Джон Булль — всегда Джон Булль, где бы он ни был, и что Англия со всеми ее недостатками — все-таки Англия. Наш докучный много путешествовал. Он никак бы не был законченным образцом докучных, если бы не путешествовал. Касаясь в разговоре своих путешествий, он редко когда не ввернет — зачастую в собственной своеобразной передаче — кое-что на языке той или другой страны, всегда при этом добавляя перевод. Назовите при нем городок Франции, Италии, Германии или Швейцарии, хотя бы самый захолустный, — он его прекрасно знает: прожил в нем две недели при особых обстоятельствах. А раз уж зашла речь об этом городке, так, может быть, вы знаете там статую над старым фонтаном в глубине дворика, за вторым… нет, третьим… постойте… да, третьим поворотом направо, если идти от почтовой конторы в гору, в сторону рынка? Как, и вы не знаете этой статуи? Ни этого фонтана? Удивительно! Туристы обыкновенно не ходят их смотреть (очень странно, но он ни разу не встречал путешественника, который их знал бы, за исключением одного немца, самого умного человека, какого встречал он в своей жизни!), но он думал, что уж вы-то такой человек, что должны были их высмотреть. И он описывает их в обстоятельной получасовой лекции — обычно уже за дверью, которую то и дело отворяют с другой стороны; и умоляет вас, если вы снова посетите тот городок, так уж на этот раз сходите и посмотрите на ту статую и на фонтан! Равным образом наш докучный, когда был в Италии, открыл страшную картину, которая с тех пор повергает в ужас значительную часть цивилизованного мира. Нам доводилось видеть, как за обедом гости, даже самые оживленные, каменели от нее на другом конце стола. Однажды он блуждал в горах, наслаждаясь целительным воздухом, когда случайно набрел на una piccola chiesa — маленькую церковку — или, пожалуй, правильней будет назвать ее una picolissima capella, то есть крошечной часовенкой, — и зашел в нее. В часовне не было никого, кроме одного cieco — слепца, — творившего свою молитву, и одного vecchio padre — старого монаха, — громыхавшего кружкой с даяниями. А над головой того монаха, сразу же, как войдете, справа от алтаря… справа от алтаря? Нет. Как войдете, слева от алтаря — или, скажем, ближе к середине, висела картина (сюжет — богоматерь с младенцем), поражавшая таким божественным выражением лиц, такой чистотой и теплотой и богатством тонов, такою свежестью письма — самый жаркий колорит и вместе с тем монументальный покой, — что наш докучный знакомец вскричал в упоений: "Это самая прекрасная картина в Италии!" И так оно и есть, сэр. Это не подлежит сомнению. Удивительно, что эта картина так мало известна. Даже не установлено, кто художник. Позднее он привел к ней Бламба, из Королевской академии (следует отметить, что наш докучный водит смотреть достопримечательности только видных людей и только видные люди водят с собою нашего докучного), и Бламб был так потрясен, что вы в жизни не видели ничего подобного! Он плакал как дитя! И тут наш докучный приступает к подробному описанию — ибо все предыдущее было лишь введением — и душит слушателей складками пурпурного покрывала. При столь же счастливом стечении нечаянных обстоятельств нашему докучному, когда он был в Швейцарии, случилось открыть долину, являющую такое великолепное зрелище, что Шамуни перед нею блекнет. Было это так, сэр. Он путешествовал верхом на муле — уже несколько дней не сходил с седла — и вот, когда он и его проводник, Пьер Бланко — вы, верно, знаете его?., ах, нет?., очень жаль, потому что это единственный проводник, заслуживающий так именоваться, — когда они с Пьером спускались под вечер среди этих вечных снегов к деревушке Ля-Круа, наш докучный знакомец заметил горную тропинку, круто заворачивающую вправо. Поначалу он не был уверен, тропинка ли это, и он даже сказал Пьеру: "Qu'est que c'est donc, mon ami? — что это такое, друг мой?" — "Ou, monsieur? — сказал Пьер. — Где сэр?" — "La — там!" — сказал наш докучный. "Monsieur, ce n'est rien du tout — сэр, там нет ничего, — сказал Пьер. — Allons!.. — Поспешим. Il va nieger! — Сейчас пойдет снег!" Но нашего докучного на такую удочку не возьмешь, и он твердо ответил: "Я хочу двинуться в том направлении — je veux y aller. И я твердо на том стою — je suis determine. En avant — ступайте!" В результате твердости, проявленной нашим докучным, они продолжали, сэр, свой путь два часа при свете заката и три при лунном свете (переждали в пещере, пока взойдет луна) еле приметной тропинкой, лепившейся порою над бездонной пропастью, пока не сошли вниз по головокружительной круче в долину, где, возможно — или, лучше сказать, вероятно, — не побывал до него ни один чужеземец. Какая долина! Громоздились горы на горы, лавины нависали, задержанные сосновым лесом; водопады, шале, горные потоки, деревянные мостики, все прелести швейцарского пейзажа, какие только может нарисовать воображение. Вся деревня высыпала встречать нашего докучного знакомца. Крестьянские девушки целовали его, мужчины пожимали ему руку, старая дама с милым и добрым лицом рыдала на его груди. Его с наивной торжественностью повели в единственную маленькую гостиницу, где наутро он слег и прохворал шесть недель, и за ним ухаживали любезная хозяйка (та самая добрая старая дама, что накануне рыдала у него на груди) и ее очаровательная дочка, Фаншетта. Мало сказать, что они были к нему необычайно внимательны, они в нем не чаяли души. В простоте своей они называли его l'Ange Anglais английским ангелом. Когда наш докучный покидал долину, не было там никого, кто не лил бы слез; многие из жителей провожали его несколько миль. Он просит вас и умоляет, как о личном одолжении: если вы когда-нибудь вновь соберетесь в Швейцарию (вы упомянули, что последняя ваша поездка туда была двадцать третьей по счету), непременно посетите ту долину и впервые в жизни посмотрите на подлинный швейцарский пейзаж. И если вы в самом деле хотите узнать буколический народ Швейцарии и понять его, назовите в той долине имя нашего докучного знакомца! У нашего докучного есть на Востоке необыкновенный брат, который каким-то образом был допущен раскурить трубку с Магометом Али[165] и сразу завоевал авторитет по всем восточным делам, начиная от Гаруна Аль-Рашида[166] и кончая нынешним султаном. Он придерживается обыкновения в письмах к нашему докучному высказывать загадочные суждения по этим восточным делам, особенно же по вопросам внешней политики; и наш докучный постоянно посылает выдержки из писем в газеты (которые их никогда не печатают), а другие выдержки носит при себе в бумажнике. Поговаривают даже, что его видели в Министерстве иностранных дел, где курьеры кланялись ему самым почтительным образом и немедленно передавали его карточку в святая святых. Этот восточный брат не раз поднимал в обществе невероятный переполох. Наш докучный всегда держит его наготове. Однажды, слышали мы, докучный, в первой же фразе своего рассказа, натолкнулся в пустыне на высокообразованного молодого отшельника и сразу сбил с него всю самоуверенность, хватив его по голове своим братом. Брат его с той поры, как выкурил трубку с Магометом Али, познал все и вся во внешней политике. Равновесие сил в Европе, происки иезуитов, гуманное и облагораживающее влияние Австрии, позиция и планы высокодушного героя, боготворимого счастливой Францией, — все это для брата нашего докучного знакомца просто как детская книжка. И по отношению к нему наш докучный проявляет даже излишнее самоотречение! "Сам я не притязаю на большее, нежели общее знакомство с этими предметами, — говорит он, доведя чуть не до нервного припадка десяток крепких мужчин, — но таково мнение моего брата, а он, полагаю, всем известен как весьма осведомленный человек". Самые обыкновенные случаи как будто бы нарочно происходят ради нашего докучного знакомца, самые обыкновенные места созданы нарочно для него. Спросите его, случалось ли ему когда-либо проходить в восьмом часу утра по Сент-Джеймс-стрит[167] в Лондоне, и он вам ответит, что случалось один-единственный раз в жизни. Но любопытно, что этот единственный раз выпал ему в тысяча восемьсот тридцатом году; и что, когда он, наш докучный, шел по названной вами улице в названный вами час в половину или в сорок минут восьмого… нет! он может сказать точнее… ровно без четверти восемь по дворцовым часам, он повстречал румяного, седого, добродушного джентльмена, который шел под коричневым зонтиком и, поравнявшись с ним, приподнял шляпу и сказал: "Чудесное утро, сэр, чудесное утро!.." Это был Вильгельм Четвертый![168] Спросите у нашего докучного, видел ли он новое здание парламента, выстроенное по проекту мистера Барри, и он вам ответит, что подробно он его еще не обозрел, но что вы ему напомнили о том, как ему особливо посчастливилось оказаться последним человеком, видевшим старое здание парламента, перед тем как его уничтожил пожар. Случилось это так: бедный Джон Спайн, знаменитый романист, повез его в Саут-Ламбет прочесть ему последние главы того, что, несомненно, было его лучшей книгой — как и сказал ему тогда же наш докучный, добавив: "Дорогой мой Джон, не меняйте больше ни слова, или вы все испортите!" — и, возвращаясь в клуб по Милбенку и Парламент-стрит, наш докучный остановился поразмыслить о Каннинге[169] и поглядеть на здание парламента. И вот — он сам не знает, как и почему, вы куда больше, чем он, сведущи в философии духовных явлений и скорее вы способны объяснить это ему, нежели мог бы он объяснить это вам, — но в это самое время пришла ему на ум мысль о пожаре. Да, пришла. Так-таки пришла. Он подумал, какое это было бы всенародное бедствие, если бы здание, связанное с памятью о стольких событиях, вдруг пожрал огонь! В ту пору на улице не было, кроме него, ни души. Покой, темнота, одиночество. Поглядев с минуту на здание — или, скажем, полторы минуты, но никак не более, — наш докучный знакомец пошел дальше своим путем, машинально повторяя: "Какое это было бы всенародное бедствие, если бы такое здание, связанное с такими событиями, уничтожил бы…" И тут подлетевший к нему страшно взволнованный человек докончил его фразу, возгласив "Пожар!". Наш докучный оглянулся — все строение охвачено пламенем. В гармонии и единстве с этими переживаниями наш докучный знакомец, если поедет куда-нибудь морем, попадет либо в наилучшее, либо в наихудшее плавание, какое известно по этому пароходству. Он или подслушал, как капитан, стиснув руки, сказал самому себе: "Мы все погибли!", или капитан открыто объявил ему, что никогда прежде он не совершал столь удачного рейса и никогда не сможет совершить такой же еще раз. Наш докучный ехал тем самым экспрессом по той железной дороге, когда производился, без ведома пассажиров, опыт езды со скоростью ста миль в час. По этому случаю наш докучный сказал всем прочим в вагоне: "Поезд идет слишком быстро, но сидите спокойно". Он был на музыкальном фестивале в Норвиче[170], когда в первый и последний раз прозвучало необычайное эхо, которому наука так и не нашла объяснения. Он и епископ услышали его в один и тот же миг и в изумлении переглянулись. Он присутствовал при знаменитой иллюминации собора св. Петра, глядя на которую в окно Ватикана, римский папа, как известно, воскликнул: "O Cielo! Questa cosa non sara fatta, mai ancora, come questa. — О небо! Это никогда не повторится снова в таком виде, как сейчас!" Всякий раз, когда он видел льва, его спасало только чудо. Он знает, что это не плод его воображения, потому что в каждом случае укротитель тут же отмечал это и поздравлял его со счастливым исходом. В жизни нашего докучного знакомца была полоса, когда он болел. Эта болезнь выросла в общественное бедствие. Стоит вам невинно заметить, что вы вполне здоровы или что еще кто-нибудь вполне здоров, и наш докучный, распространившись предварительно о том, что человек никогда не знает, какое благо здоровье, пока не утратит его, — вспомнит затем про ту свою болезнь и протащит вас через все ее симптомы, перипетии и лечение. Стоит вам невинно заметить, что вам нездоровится или что еще кому-нибудь нездоровится, и неизбежно воспоследует тот же результат. Вы узнаете, как наш докучный знакомец стал чувствовать вот здесь какую-то тяжесть, сэр, непонятного ему происхождения и сопровождаемую постоянным ощущением покалывания… или скорее рези… да, это будет вернее… рези, как будто режут тупым ножом. Да, сэр! Боль длилась, покуда у него не начинали сыпаться искры из глаз и вертеться в голове мельничные колеса, а по спине непрестанно стучать молотки — тук, тук, тук сверху вниз, вдоль всего позвоночника. Наш докучный, когда дело дошло до этого, почел своим долгом перед самим собой обратиться к врачу и спросил себя: "Кому бы это мне показаться?" Он, разумеется, подумал о Келлоу, в ту пору одном из самых выдающихся врачей в Лондоне, и он обратился к Келлоу. Келлоу сказал: "Печень!" — и прописал ревень и каломель, легкую пишу и умеренный моцион. Наш докучный подвергся такому лечению, и ему делалось с каждым днем все хуже, пока он не изверился в Келлоу и не обратился к Муну, на котором тогда была помешана половина города. Мун заинтересовался случаем. Нужно отдать ему справедливость, он очень заинтересовался случаем; и он сказал: "Почки!" Он переменил все лечение, сэр, — давал сильные кислоты, ставил банки и мушки. Время шло, а нашему докучному опять-таки делалось с каждым днем все хуже, пока он не сказал Муну напрямик, что ему было бы очень желательно провести консилиум с Клеттером. Клеттер, едва увидел нашего докучного, сразу сказал: "Отложение жира вокруг сердца!" Снаглвуд, приглашенный вместе с ним, не согласился исказал: "Мозговое!" Но на чем они все сошлись, это что нужно нашего докучного уложить в кровать, — на спину, — обрить ему голову, ставить пиявки, давать огромное количество лекарств и крайне ограничить в пище; так что он обратился просто в тень, вы его не узнали бы, и никто не думал, что он еще может поправиться. В таком он был состоянии, сэр, когда услышал о Джилкинсе — имевшем в ту пору очень небольшую практику и проживавшем где-то под самой крышей на Грейт-Портленд-стрит; однако он, понимаете, уже начинал завоевывать признание среди тех немногих, кто обращался к нему. Будучи в положении того утопающего, который хватается за соломинку, наш докучный знакомец послал за Джилкинсом. Джилкинс пришел. Докучному понравились его глаза, и он сказал: "Мистер Джилкинс, у меня предчувствие, что вы мне поможете". В ответе мистера Джилкинса отразился весь человек. Он сказал просто: "Сэр, я затем и пришел, чтобы вам помочь". Это подтвердило мнение нашего докучного насчет его глаз, и они вместе углубились в рассмотрение случая — погрузились с головой. Потом Джилкинс встал, прошелся по комнате, снова сел. И сказал такие слова: "Сэр, вас обманывали. Ваш случай несварение пищи, вызываемое ослаблением желудка. Через полчаса вы примете баранью котлету со стаканом доброго старого хереса, самого дорогого, какой есть в продаже. Завтра вы примете две бараньи котлеты и два стакана хереса. Послезавтра я вас навещу повторно". Через неделю наш докучный был на ногах, и этот день положил начало успеху Джилкинса! Наш докучный — первый человек по части секретных сведений. Он случайно знает много такого, чего не знает никто, кроме него. Он всегда может вам сказать, по какому пункту сейчас расхождения в кабинете министров; он много чего знает о королеве; он может рассказать вам забавные анекдоты о малолетних королевских детях. Он передаст вам личное мнение судьи об убийце Сладже и доложит, что думал судья, когда его судил. Он случайно знает, сколько заработал такой-то человек на такой-то сделке: ровно пятнадцать тысяч пятьсот фунтов стерлингов, а его доход составляет двенадцать тысяч в год. Наш докучный — первый человек и по части всякой таинственности. Он полагает — и вид у него убийственно многозначительный, — вы виделись в прошлое воскресенье с Паркинсом? — Да, виделись. — Он ничего особенного не говорил? — Не говорил. — Докучному это кажется странным. А что? — Так, неважно… Только он думал, что Паркинс заходил к вам, чтобы рассказать вам кое-что. — О чем же? — Докучный не вправе сказать, о чем. Он связан словом. Но он полагает, вы скоро услышите это от самого Паркинса, и он надеется, вас это не так поразит, как поразило его. Но, может быть, вы ничего не слышали про свояченицу Паркинса? — Ничего не слышал! — Ага! — говорит наш докучный знакомец, — тогда все понятно. Наш докучный первый человек и по части споров. Он без конца услаждается долгим, нудным, тягучим обменом слов в прениях ни о чем. Он считает, что они упражняют ум, и потому он очень часто "вовсе этого не думает". Или он "хотел бы знать, что вы, собственно, имеете в виду". Или он "сильно в этом сомневается". Или он "всегда держался как раз обратного мнения". Или он "не допускает этой мысли". Или он "позволит себе это отрицать". Или "вы, конечно, и сами этого не думаете". И тому подобное. Он однажды дал нам совет. Запоздалый совет, совершенно неприменимый, и уже потому решительно неприемлемый, что строился он на некоторой возможности, к тому времени окончательно отпавшей. Было это лет десять тому назад, но и по сей день наш докучный знакомец снисходительно и мягко упрекает нас при случае за то, что мы пренебрегли его мнением. Изумительным чутьем наш докучный выискивает другого докучного и липнет к нему. Нам случалось видеть, как он в две-три минуты из пятидесяти человек выбирал кого надо. Докучные любят (у них это выходит само собой) вступить в обстоятельное обсуждение уже исчерпанного ранее предмета и опровергать друг друга, покуда слушатели не увянут, но сами они останутся неувядаемо свежи в своей докучности. Это способствует их доброму взаимопониманию, впоследствии они отлично сходятся и дружески докучают друг другу. Стоит нам увидеть, как наш докучный остановился за дверью с другим докучным, мы знаем, что отныне он будет нахваливать другого докучного как едва ли не самого умного человека, какого он только встречал. И, чтоб на этом закончить разговор о нашем докучном знакомце, добавим: лично нас — просим запомнить — он ни разу не удостоил такой похвалы.
БЕССОННИЦА
"Мой дядя лежал с полузакрытыми глазами, ночной колпак съехал ему на самый нос. Мысли его уже начинали путаться, и вместо обстановки, окружавшей его, перед ним возникал кратер Везувия, Французская опера, Колизей, лондонская харчевня Долли, вся та мешанина из достопримечательностей разных стран, какой бывает набита голова у путешественника. Короче говоря — он отходил ко сну". Так пишет чудесный сочинитель Вашингтон Ирвинг в своих "Рассказах путешественника". А вот мне довелось недавно лежать не с полузакрытыми, а с широко открытыми глазами; и ночной колпак не съехал мне на нос, потому что я, из гигиенических соображений, никогда ночной колпак не надеваю, но зато волосы у меня спутались и разметались по подушке; и притом я отнюдь не отходил ко сну, а упорно, строптиво и яростно бодрствовал. Быть может, непреднамеренно и не задаваясь никакими научными целями, я тем не менее подтверждал на примере теорию раздвоения сознания; быть может, одна часть моего мозга, бодрствуя, наблюдала за другой, засыпающей. Как бы там ни было, что-то во мне больше всего на свете жаждало уснуть, а что-то другое не желало засыпать, проявляя упрямство, поистине достойное Георга Третьего[171]. Подумав о Георге Третьем — я посвящаю этот очерк своим мыслям во время бессонницы, так как у большинства людей бывает бессонница, и, стало быть, этот предмет должен их интересовать, — я вспомнил Бенджамина Франклина[172], а вслед за тем его очерк об искусстве вызывать приятные сновидения, что, казалось бы, должно включать в себя искусство засыпать. И поскольку я много раз читал этот очерк в раннем детстве и помню все, что читал тогда, так же крепко, как забываю все, что читаю теперь, я мысленно процитировал: "Встань с постели, взбей и переверни подушку, хорошенько, не менее двадцати раз, встряхни простыни и одеяло; потом раскрой постель и дай ей остынуть, сам же тем временем, не одеваясь, походи по комнате. Когда почувствуешь, что холодный воздух тебе неприятен, ляг опять в постель, и ты скоро уснешь, и сон твой будет крепок и сладок". Как бы не так! Я проделал все точно по предписанию и добился лишь того, что глаза у меня, если только это возможно, раскрылись еще шире. И появилась Ниагара. Быть может, я вспомнил ее по ассоциации — цитаты из Ирвинга и Франклина направили мои мысли в американское русло; да, я стоял на краю водопада, он ревел и низвергался у моих ног, и даже радуга, игравшая на брызгах, когда я в последний раз видел его наяву, снова радовала мой взор. Однако я столь же явственно видел и свой ночник, и так как сон, казалось, был на тысячи миль дальше от меня, чем Ниагара, я решил немножко подумать о сне. Только я это решил, как очутился, бог весть каким образом, в театре Друри-Лейн, увидел замечательного актера[173] и близкого моего друга (о котором в тот день вспоминал) в роли Макбета и услышал его голос, восхваляющий "целительный бальзам больной души"[174], как слышал неоднократно в минувшие годы. Итак, сон. Я заставлю себя думать о сне. Я твердо решил (продолжал я мысленно) думать о сне. Надо как можно крепче держаться за слово "сон", не то меня сейчас опять куда-нибудь занесет. Ну конечно, я уже чувствую, как устремляюсь почему-то в трущобы Клер-Маркет. Сон. Любопытно было бы, ради проверки того мнения, будто сон уравнивает всех, поразузнать, одинаковые ли сны посещают людей всех сословий и званий, богатых и бедных, образованных и невежественных. Вот, скажем, нынче ночью спит в своем дворце ее величество королева Виктория, а вот, в одной из тюрем ее величества, спит Чарли-Моргун, закоренелый вор и бродяга. Ее величество сотни раз падала во сне с той же самой башни, с которой и я считаю себя вправе падать время от времени. Чарли-Моргун тоже. Ее величество открывала сессию парламента и принимала иностранных послов, облаченная в более чем скудные одежды, коих недостаточность и неуместность повергала ее в великое смущение. Я, со своей стороны, испытывал неописуемые муки, председательствуя на банкете в Лондонской таверне в одном белье, и моему доброму другу мистеру Бейту, при всей его любезности, никак не удавалось убедить меня, что этот наряд — самый подходящий для случая. Чарли-Моргун раз за разом представал перед судом еще и не в таком виде. Ее величеству хорошо знаком некий свод, или балдахин, с непонятным узором, отдаленно напоминающим глаза, который порою тревожит ее сон. Знаком он и мне. Знаком и Чарли. Нам всем троим приходилось скользить неслышными шагами по воздуху, над самой землей; а также вести захватывающие беседы с различными людьми, зная, что все эти люди — мы сами; и ломать себе голову, гадая, что они нам сообщат; и несказанно дивиться тем тайнам, которые они нам открывали. Вероятно, мы все трое совершали убийства и прятали трупы. Нет сомнения, что нам всем порой отчаянно хотелось закричать, но голос изменял нам; что мы шли в театр и не могли в него проникнуть; что нам гораздо чаще снится юность, чем позднейшие годы; что мы… нет, забыл! Нить оборвалась. И вот я поднимаюсь. Я лежу в постели, рядом горит ночник, а я, без всякой на то причины и уже без какой бы то ни было видимой связи с предыдущими моими мыслями, поднимаюсь на Большой Сен-Бернар![175] Я живал в Швейцарии, много бродил по горам, но почему меня потянуло туда сейчас, и почему именно на Сен-Бернар, а не на другую какую-нибудь гору, — понятия не имею. Лежа без сна — все чувства обострены до того, что я различаю далекие звуки, в другое время неслышные, — я проделываю этот путь, как проделал его когда-то в действительности, в тот же летний день, в том же веселом обществе (двое с тех пор, увы, умерли!), и та же ведет в гору тропа, те же черные деревянные руки показывают дорогу, те же попадаются там и сям приюты для путников; тот же снег идет на перевале, и тот, же там морозный туман, и тот же промерзший монастырь с запахом зверинца, и та же порода собак, ныне вымирающая, и та же порода радушных молодых монахов (грустно знать, что все они жулики!), и та же зала для путешественников, с роялем и с вечерними разговорами у огня, и тот же ужин, и та же одинокая ночь в келье, и то же яркое, свежее утро, когда, вдохнув разреженного воздуха, точно окунаешься в ледяную ванну! Ну вот, видали новое диво? И с чего оно полезло мне в голову в Швейцарии, на горной вершине? Это рисунок мелом, который я увидел однажды в полутьме на двери в узком проулке близ деревенской церкви — первой церкви, куда меня водили. Сколько мне было тогда лет — не помню, но рисунок этот так напугал меня, — вероятно потому, что рядом было кладбище, сам-то человечек на рисунке курит трубку и на нем широкополая шляпа, из-под которой горизонтально торчат его уши, и вообще в нем нет ничего страшного, если не считать рта до ушей, выпученных глаз, да рук в виде пучков моркови, по пять штук в каждом, — что мне до сих пор становится жутко, когда я вспоминаю (а я не раз вспоминал это во время бессонницы), как я бежал домой и все оглядывался, и с ужасом чувствовал, что он гонится за мной — сойдя ли с двери, или вместе с дверью, этого уж я не знаю и наверно никогда не знал. Нет, опять мои мысли пошли куда-то не туда. Нельзя давать им так разбегаться. Полеты на воздушном шаре в минувшем сезоне. Они, пожалуй, годятся, чтобы скоротать часы бессонницы. Только надо держать их покрепче, а то я уже чувствую, что они ускользают, а вместо них — Мэннинги, муж и жена, висят над воротами тюрьмы[176] на Хорсмонгер-лейн. Удручающая эта картина напомнила мне, какую шутку сыграло со мной однажды воображение: быв свидетелем казни Мэннингов и покинув место казни, когда оба тела еще болтались над воротами (мужчина — обвислое платье, словно под ним уже нет человека; женщина прекрасная фигура, так тщательно затянутая в корсет и так искусно одетая, что и сейчас, медленно покачиваясь из стороны в сторону, она имела вид опрятный и нарядный), я потом несколько недель никакими силами не мог представить себе наружный вид тюрьмы (а потрясение, пережитое мною, снова и снова возвращало к ней мои мысли), не представив себе и двух трупов, все еще висящих в утреннем воздухе. Лишь после того, как я прошел мимо этого мрачного места поздно вечером, когда улица была тиха и безлюдна, и воочию убедился, что трупов там нет, мое воображение согласилось, если можно так выразиться, вынуть их из петли и похоронить на тюремном дворе, где они с тех пор и покоятся. Полеты на воздушном шаре в минувшем сезоне. Подсчитаем, сколько же их было. Поднимали лошадь, быка, женщину с парашютом и того акробата, что висел под корзиной, держась за нее, сколько помнится, главным образом пальцами ног. Никуда не годится, надо это запретить. Но в связи с такими вот опасными номерами мне приходит в голову, что упрекать публику, которая ими развлекается, пожалуй, несправедливо. Зрителям нравится видеть, как преодолевают трудности. Это очень легковерные зрители, они глубоко убеждены в том, что разряженный господин не упадет с лошади, а разряженная дама — с быка, что парашют благополучно спустится и что ноги не подведут акробата. Они идут смотреть не на поражение смельчака, а на его победу. Нельзя сравнивать публичные бои между людьми с борьбой между человеком и зверем, потому что за зверя никто не может поручиться, разве что это всегда один и тот же зверь, а тогда происходит уже не борьба, а просто представление, на которое публика ходит, твердо уверенная в том, что человек заранее смирил хищника и теперь ему ничто не грозит. А что публика эта не привыкла взвешивать шансы и предусматривать опасность, видно из того, как безрассудно она рвется на перегруженный пароход или осаждает ненадежную карету. И мне думается, что этот доброжелательный и сердечный от природы народ надо не ругать и не приписывать ему всякие дикарские инстинкты, а просвещать его и терпеливо, разумно — ибо он вполне доступен голосу разума — вести его к более гуманным и мудрым суждениям. Фу, как противно! В бессонницу мою стремглав ворвался человек с перерезанным горлом! Это вспомнился мне давнишний рассказ одного родственника, как он зимним вечером шел к себе домой в Хэмстед, а Лондон тогда был гораздо меньше нынешнего и на дороге было пустынно, как вдруг навстречу ему выбежал из тумана такой вот человек, а по пятам за ним — два сторожа из сумасшедшего дома, посланные его ловить. Очень, очень неприятно, когда тебя в часы бессонницы посещают этакие незваные гости! Полеты на воздушном шаре в минувшем сезоне. Надо вернуться к воздушным шарам. Как это из них ни с того ни с сего появился человек, истекающий кровью? А впрочем, все равно; лучше не вдумываться в это, не то он, чего доброго, воротится. Воздушные шары. Зрителям такого рода доставляет огромное удовольствие смотреть, как преодолевают физические трудности; объясняется это, вероятно, тем, что сами они по большей части ведут жизнь донельзя однообразную и прозаическую, и далее, что жизнь эта — непрерывная борьба с трудностями, и еще — что в их кругу всякий несчастный случай, всякая болезнь или увечье чревато такими серьезными последствиями. Это звучит как парадокс, но сейчас я его объясню. Возьмите к примеру рождественскую пантомиму. Никому ведь не придет в голову, что молодая мать, которая заливается-хохочет в задних рядах партера, когда на сцене ребенка бросают в кипяток или садятся на него, веселилась бы, случись такое на самом деле. И когда добропорядочный мастеровой на галерке от восхищения забывает обо всем на свете при виде того, как толстяка выталкивают из окошка третьего этажа! — не надо возводить на него напраслину, предполагая, будто он испытал бы хоть малейшую радость, увидев подобное происшествие на улице Лондона, Парижа или Нью-Йорка. Мне думается, разгадку восторженного поведения этих зрителей можно найти в том, что они на время чувствуют себя застрахованными от бед и злоключений; что несчастные случаи, которые в действительной жизни влекут за собой физические и нравственные страдания, слезы и жестокую нужду, здесь, преображенные силой весьма нехитрой поэзии, обходятся без малейшего вреда для кого бы то ни было, — ведь актер в пантомиме, притворяясь страдальцем, пользуется такими откровенно комическими приемами, что и притворства там, в сущности, никакого нет. И мне одинаково понятно, почему мать, оставив дома в высшей степени уязвимого младенца, упоенно следит за судьбой неуязвимого младенца на сцене, и почему, когда каменщик в рабочей куртке, ежечасно рискующий свалиться с лесов и быть увезенным в больницу, попадает в сказочный мир Креморна[177], он безмерно восхищается героями в сверкающих блестками костюмах, которые взмывают под облака на быке, либо вверх ногами, и которые — он твердо уверен, ибо никогда над этим не задумывался, — благодаря необычайной сноровке сумели оградить себя от таких случайностей, каким сам он и ему подобные подвергаются изо дня в день. И зачем это мне в часы бессонницы примерещился парижский морг страшные его столы и разбухшая, промокшая одежда, повешенная на гвоздь, с которой весь день каплет и каплет вода на что-то, тоже разбухшее и промокшее, что лежит в углу, как та куча гниющих перезрелых винных ягод, которую я видел однажды в Италии! Да к тому же отвратительный этот морг явился во главе целой вереницы полузабытых рассказов с привидениями. Нет, так нельзя. Нужно заставить себя думать о чем-нибудь другом; не то "конченый я енот"[178], как выразился сей понятливый зверек Соединенных Штатов, узнав того полковника, что стрелял без промаха. О чем же мне думать? О недавних случаях грубого насилия. Отличный предмет для размышлений, когда не спится. Случаи грубого насилия. (Впрочем, не могу не задать себе мимоходом такой вопрос: если бы сейчас, лежа без сна, я вдруг увидел страшный призрак, описанный в одном из этих рассказов, — призрак, который, закутавшись с головою в саван, в один и тот же час ночи всегда заглядывал в одну и ту же стеклянную дверь, — было бы мне легче от мысли, что это всего лишь плод моего воображения, как нам внушает наука?) Случаи грубого насилия. Мне кажется, нет смысла ратовать за то, чтобы снова ввести за такие преступления наказание плетьми. Возмущаться зверской, бессмысленной жестокостью вполне естественно и даже похвально, но я сомневаюсь, чтобы плети могли послужить здесь целительным средством. И движет мною отнюдь не жалость к преступнику, — он в моих глазах стоит намного ниже, чем, скажем, бешеный волк, — но забота о нравственном облике нашего общества, который за время, прошедшее после отмены плетей, стал куда благороднее. Привычка к таким наказаниям идет во вред народу. Когда плети отменили в Брайдуэле[179], когда перестали бить плетьми преступников, привязанных к телеге или к столбу, телесные наказания стали постепенно исчезать в приютах для умалишенных и в работных домах, в школе и в семье, повсюду уступая место более совершенной системе. Из-за того только, что несколько злодеев понесли недостаточно строгую кару, опрометчиво воскрешать в каком бы то ни было виде то дурное, от чего во многих его видах общество еще даже не успело до конца избавиться. Порка — вещь заразительная, ее трудно удержать в определенных границах. Нужно также упразднить наложение штрафов — варварство столь же несовременное, как "суд божий"[180], но в глазах людей непросвещенных неразрывно связанное с такими преступлениями. Нужно увеличить по меньшей мере вчетверо срок тюремного заключения за особенно злонамеренные проступки. Но главное — довольно нянчиться с заключенными, прославлять их и кормить крепким бульоном и бифштексами, а пусть их уделом станет тяжелый труд и неизменная изо дня в день пища — хлеб и вода. Этим мы добьемся куда большего, чем ежели спустимся в темный подвал ощупью разыскивать там плети среди ржавых обломков дыбы, железных клейм, цепей и виселиц с большой дороги, и тисков, которыми насмерть сдавливали людей в темницах Ньюгета. Дойдя до этого места в своих размышлениях, я обнаружил, что не сплю уже так давно, что мертвецы и те стали тоже просыпаться и скорбною толпой заполонять мои мысли. Поэтому я решил не бороться больше с бессонницей, а встать и отправиться на ночную прогулку, от какового решения мне сразу стало легче, как, вероятно, станет легче и моим читателям.
РАССКАЗ БЕДНОГО РОДСТВЕННИКА
Ему очень не хотелось говорить первым, прежде стольких почтенных членов их семейства, когда они, усевшись в кружок у огня в рождественский вечер, решили каждый рассказать какую-нибудь историю; и он скромно заметил, что было бы правильнее, если бы начать согласился "Джон, наш уважаемый хозяин" (за чье здоровье он предлагает выпить). Ему же самому, сказал он, так непривычно быть впереди других, что, право же… Но когда все хором вскричали, что начинать нужно именно ему, и заявили в один голос, что он может, должен и даже обязан начать, он перестал потирать руки, высвободил ноги из-под кресла и начал. Я не сомневаюсь (сказал бедный родственник), что мой рассказ удивит собравшихся здесь членов нашего семейства и в особенности Джона, нашего уважаемого хозяина, которому все мы так много обязаны за гостеприимство, оказанное нам сегодня. Но если вы удостоите своим удивлением слова человека, так мало значащего в семье, я могу сказать лишь одно: во всем, что вы от меня услышите, я буду строжайшим образом придерживаться правды. Я — не то, чем меня считают. Я нечто совсем иное. И для начала нужно, пожалуй, сказать несколько слов о том, чем же меня считают. Считается, если я не ошибаюсь, — а если ошибаюсь, что очень возможно, собравшиеся здесь члены нашего семейства поправят меня (тут бедный родственник смиренно обвел всех глазами, готовый принять любое возражение); считается, что я никому не враг, кроме как самому себе. Что я ни в чем не добился особенных успехов. Что меня постигла неудача в делах, потому что я был не деловит и легковерен и не догадался о корыстных замыслах моего компаньона. Что меня постигла неудача в любви, потому что я был до смешного доверчив и не допускал мысли, что Кристиана может обмануть меня. Что меня постигла неудача с наследством дядюшки Чилла, оттого что я оказался, на его взгляд, недостаточно расчетлив в житейских делах. Что всю жизнь меня, можно сказать, водили за нос и оставляли в дураках. Что я холост, дотягиваю шестой десяток и живу на скромный пенсион, который получаю раз в три месяца и дальнейшее упоминание о котором, как я вижу, было бы неприятно Джону, нашему уважаемому хозяину. Мои занятия и привычки люди представляют себе примерно так: Я снимаю комнату на Клепем-роуд — очень чистенькую комнату окном во двор в очень почтенном доме, — где не бываю в дневное время, разве что прихворну, и откуда ухожу в девять часов утра, словно бы на службу. Мой утренний завтрак — булочка с маслом и полпинты кофе — ждет меня в старой кофейне у Вестминстерского моста; затем я иду в Сити — сам не знаю зачем — и сижу в кофейне Гэрроуэя или на бирже, а не то брожу по улицам и заглядываю в присутствия и конторы, откуда некоторые мои родственники и знакомые по доброте своей не гонят меня и где я могу постоять у камина, если на улице холодно. Так я провожу время до пяти часов, после чего обедаю: это обходится мне в среднем один шиллинг и три пенса в день. Немножко денег у меня еще остается на вечер, и по дороге домой я захожу в мою старую кофейню, где выпиваю чашку чаю, иногда с гренками. И так, когда малая стрелка часов, описав круг, возвращается к девяти, я, описав свой круг, возвращаюсь на Клепем-роуд и, добравшись до своей комнаты, сразу ложусь спать, потому что уголь стоит дорого, и к тому же мои хозяева не любят, когда в комнате шумят и разводят грязь. Иногда кто-нибудь из моих родных или знакомых оказывает мне любезность — приглашает к себе отобедать. Это для меня праздник, и в такие дни я обычно гуляю в Гайд-парке. Я не общителен и по большей части гуляю один. Не то чтобы меня избегали из-за того, что я плохо одет; я одет вовсе не плохо, на мне всегда хороший черный костюм (вернее, очень темно-синий, этот цвет кажется черным, и притом гораздо дольше не выгорает); но говорю я теперь тихо, и люблю помолчать, и состояние духа у меня неважное, и вполне понятно, что люди не ищут моего общества. Единственное исключение из этого правила — маленький Фрэнк, мой двоюродный племянник. Я необыкновенно привязан к этому мальчику, и он меня любит. По природе своей это робкий ребенок; в толпе его недолго и затереть, если можно так выразиться, и позабыть о нем. А мы с ним прямо-таки отлично ладим. Сдается мне, что со временем этот бедный мальчик займет в семье такое же положение, какое нынче занимаю я. Разговариваем мы мало, а между тем понимаем друг друга. Мы с ним гуляем, взявшись за руки; и он без лишних слов знает, что у меня на уме, а я знаю, что у него на уме. Когда он был еще совсем маленький, я, бывало, останавливался с ним у витрин игрушечных лавок и показывал ему игрушки. Просто удивительно, как быстро он понял, что я много чего подарил бы ему, если бы это было мне по средствам. Мы с маленьким Фрэнком ходим иногда любоваться Монументом[181] — он очень любит Монумент — или поглядеть на мосты и на другие достопримечательности, за обозрение которых не нужно платить денег. Два раза, в день моего рожденья, мы ели на обед бифштекс и ходили за полцены в театр, где с большим интересом смотрели представление. Однажды я шел с ним по Ломберд-стрит[182], куда мы стали часто захаживать после того, как я рассказал ему, что там сосредоточены большие богатства, — он очень любит Ломберд-стрит, — и какой-то господин, обогнавши нас, сказал мне: "Сэр, ваш сынок обронил рукавичку". Уверяю вас, если будет мне позволено остановиться на столь пустячном обстоятельстве, — эти случайно брошенные слова, будто ребенок мой, тронули меня до глубины сердца, и я, глупый человек, даже прослезился. Когда маленького Фрэнка отдадут в школу, далеко от Лондона, я просто не представляю себе, как я буду без него жить, но я собираюсь раз в месяц ходить к нему в гости в такие дни, когда уроки кончаются рано. Мне говорили, что в это время мальчики играют на лугу; а если мои посещения вызовут недовольство, если найдут, что они выбивают ребенка из колеи, я могу посмотреть на него издали, так, чтобы он меня не видел, а потом уйти обратно в город. Мать у него из благородных и, чувствую я, не одобряет нашей дружбы. Разумеется, такой человек, как я, не может отучить его от застенчивости; но думаю, что, если мы совсем перестанем видеться, он будет скучать по мне, и долго скучать. Когда я умру у себя на Клепем-роуд, я оставлю в этом мире немногим больше того, что унесу с собой; но есть у меня одна миниатюра — портрет мальчика с открытым лицом и курчавой головкой, в рубашке с плоеным воротничком (портрет заказала моя мать, но мне не верится, чтобы он хоть когда-нибудь был похож на меня); за эту миниатюру много не выручишь, и я попрошу, чтобы ее отдали Фрэнку. Я приложил к ней письмецо для моего мальчика, в котором написал, что мне очень грустно было покидать его, хотя, признаться по совести, я не видел причин оставаться здесь. Я дал ему единственный совет, какой мог придумать, — насчет того, что плохо получается, если человек никому не враг, кроме как самому себе; и постарался его утешить, — а то он, чего доброго, затоскует обо мне, — указав, что для всех, кроме него, я был здесь лишним и ненужным; и что раз мне не удалось найти себе место в этом блестящем обществе, для меня же лучше будет, если я из него удалюсь. Вот так (сказал бедный родственник, откашлявшись и немного повысив голос) думают обо мне люди. Но самое замечательное, к чему я и веду мой рассказ, заключается в том, что это совсем, совсем неверно. Не такова моя жизнь, и не таковы мои привычки. Я даже не живу на Клепем-роуд. Я бываю там сравнительно очень редко. Большею частью я обитаю… мне даже совестно произнести это слово, до того заносчиво оно звучит, — в замке — Я не хочу сказать, что это — старинное родовое гнездо каких-нибудь баронов, но все же такое здание всегда называют замком. В нем я храню всю повесть моей жизни; сложилась она так: Когда я, будучи молодым человеком, не старше двадцати пяти лет, еще проживал у моего дядюшки Чилла, чьим наследником имел основания себя считать, и вскоре после того, как я взял в компаньоны Джона Спэттера (который раньше служил у меня клерком), я отважился сделать Кристиане предложение. Я давно любил Кристиану. Она была очень хороша собой, и во всех отношениях прекрасная девушка. Я не чувствовал расположения к ее матери, вдове, так как побаивался ее коварства и корыстолюбия; но ради Кристианы всячески старался не думать о ней плохо. Я никогда никого не любил, кроме Кристианы, и с самого нашего детства в ней был для меня весь мир, нет, много больше, чем весь мир! Кристиана с согласия матери приняла мое предложение, чем несказанно осчастливила меня. Житье мое у дядюшки Чилла было убогое и скучное, а моя каморка на чердаке — унылая, пустая и холодная, как темница в башне какой-нибудь суровой северной крепости. Но Кристиана любила меня, а больше мне ничего не было нужно. Я бы не поменялся судьбой ни с кем на свете. К несчастью, дядюшкой Чиллом владел страшный порок — скупость. Он был богат, но скаредничал, во всем себя урезывал, все прибирал к рукам и жил как последний бедняк. Так как у Кристианы не было приданого, я некоторое время не решался рассказать ему о нашей помолвке; но, наконец, написал письмо, в котором и сообщил, как обстоит дело. Письмо я передал ему из рук в руки вечером, перед тем как уйти к себе спать. На следующее утро я спустился вниз, пожимаясь от декабрьского холода, в нетопленном дядином доме он ощущался сильнее, чем на улице, ведь там нет-нет да и проглянет зимнее солнце, а веселые голоса и лица прохожих вносят хоть какое-то оживление, — и с тяжелым сердцем вошел в длинную низкую столовую, где сидел мой дядя. Комната была большая, а огонь в камине маленький, и было в ней высокое окно фонарем, на котором следы ночного дождя казались слезами бездомных. Окно глядело на мощенный булыжником запущенный двор с покосившейся ржавой железной решеткой, а на нас глядело оттуда уродливое строение, где когда-то работал над трупами известный хирург, — от него дом перешел к дяде по закладной. Мы вставали так рано, что в это время года завтракали всегда при свечах. Когда я вошел в комнату, дядя сидел у единственной, тускло горевшей свечи, так съежившись от холода в своем кресле, что я увидел его только подойдя вплотную к столу. Не успел я протянуть ему руку, как он схватил палку (с которой не расставался из-за больной ноги) и, замахнувшись на меня, сказал: "Дурак!" — Дядюшка, — вымолвил я, — я не ожидал, что вы так рассердитесь. — Я и вправду этого не ожидал, хотя он был черствый и гневливый старик. — Не ожидал! — подхватил он. — А ты когда-нибудь чего-нибудь ожидал? Ты когда-нибудь строил расчеты, думал о будущем, презренная ты собака? — Жестокие слова вы говорите, дядюшка! — Жестокие? Такие болваны, как ты, еще и не того заслуживают. Эй! Бетси Снэп! Посмотри-ка на него! Бетси Снэп, сморщенная, желтая, безобразная старуха, единственная наша служанка, как всегда по утрам, стоя на коленях, растирала дядюшке ноги. Призывая ее посмотреть на меня, он опустил свою тощую руку ей на макушку и повернул ее лицом ко мне. Картина эта при всей моей душевной тревоге невольно навела меня на мысль о мертвецкой во дворе, какой она, должно быть, бывала во времена хирурга. — Посмотри на этого молокососа! — сказал мой дядя. — На этого слюнтяя! Вот человек, про которого говорят, что он никому не враг, кроме как самому себе! Человек, который не умеет ответить отказом. Человек, который наживает такие барыши, что ему понадобился компаньон. Человек, который задумал жениться на бесприданнице и угодит в лапы Иезавелей[183], рассчитывающих на мою смерть! Теперь я знал, как сильна его ярость: не будь он вне себя, ничто не исторгло бы у него этого последнего слова, ибо он так ненавидел его и боялся, что ни произносить его, ни намекать на него при нем не смели. — На мою смерть! — повторил он так, будто, бросая вызов собственному отвращению к этому слову, бросал вызов мне. — На мою смерть… смерть… смерть! Но я эти расчеты разобью. В последний раз садись есть в моем доме, идиот несчастный, и подавись! Вы легко поверите, что меня не особенно прельщал завтрак, предложенный мне в таких выражениях; однако я сел на свое обычное место. Я понимал, что навсегда отвергнут дядей; но это я мог снести без труда, ведь сердце Кристианы принадлежало мне. Он, как всегда, съел плошку молока с хлебом, только взял ее на колени и повернулся вместе с креслом спиною к столу, за которым я сидел. Покончив с едой, он старательно загасил свечу, и в комнату вполз хмурый, мутно-серый свет зимнего дня. — Ну-с, мистер Майкл, — сказал дядя, — прежде, чем мы расстанемся, я хотел бы в вашем присутствии сказать несколько слов этим дамам. — Как вам угодно, сэр, — ответил я. — Но вы заблуждаетесь и жестоко нас обижаете, если думаете, что в нашем сговоре замешано какое-либо иное чувство, кроме чистой, бескорыстной и верной любви. На это он ответил только "Врешь!" и не прибавил более ни слова. Под полурастаявшим снегом и полузамерзшим дождем мы отправились к дому, где жили Кристиана и ее мать. Дядя был с ними хорошо знаком. Они сидели за завтраком и очень удивились, увидя нас в такой ранний час. — Ваш покорный слуга, сударыня, — сказал дядя, обращаясь к матери Кристианы. — Полагаю, что вы догадываетесь о цели моего посещения. До меня дошло, что у вас тут имеется непочатый край чистой, бескорыстной и верной любви. Я счастлив добавить к ней единственное, чего ей еще недостает. Я привез вам зятя, сударыня, а вам, моя красавица, — мужа. Сам я его знать не знаю, но приношу ему мои поздравления по случаю столь благоразумного выбора. Выходя, он злобно огрызнулся на меня, и больше я его никогда не видел. Совершенно ошибочно предполагают (продолжал бедный родственник), что моя дорогая Кристиана, подчинившись уговорам и влиянию своей матери, вышла замуж за богатого человека и что теперь, когда времена изменились, меня частенько обдает грязью из-под колес его коляски, в которой она разъезжает. Нет, нет, она вышла за меня. Поженились мы немного раньше, чем собирались, и вот каким образом это вышло. Я снял скромную комнатку и, все время думая о Кристиане, копил деньги и строил планы на будущее; а она однажды заговорила со мной очень серьезно и сказала так: — Милый мой Майкл, я отдала тебе мое сердце. Я сказала, что люблю тебя, и обещала стать твоей женой. Я твоя, что бы ни случилось с нами хорошего или дурного, настолько же твоя, как если бы мы поженились в тот день, когда были сказаны эти слова. Я хорошо тебя знаю, и знаю, что, если бы мы разлучились и наш союз был бы расторгнут, это омрачило бы всю твою жизнь, и те силы, которые у тебя есть, чтобы бороться, иссякли бы и сошли на нет. — Видит бог, Кристиана, — отвечал я, — ты говоришь истинную правду! — Майкл! — сказала она, протягивая мне руку и вся сияя юной любовью, не будем больше откладывать. Мне вполне достаточно того, что у тебя есть, а тебе и подавно. Я говорю от чистого сердца. Довольно тебе биться одному; давай биться вместе. Милый мой Майкл, нельзя мне скрывать от тебя то, чего ты не подозреваешь, но что терзает меня днем и ночью. Моя мать, не считаясь с тем, что все потерянное тобою потеряно из-за меня, и потому, что ты верил в мою преданность, польстилась на богатство и прочит мне другого жениха, на мою погибель. Этого я не снесу, потому что снести это — значит изменить тебе. Мне легче разделить твою бедность, чем видеть ее. Мне не нужно дома лучше того, какой ты можешь мне дать. Я знаю, что у тебя прибавится бодрости и мужества, если я стану твоей женой, и пусть так будет, когда ты захочешь. То был поистине благословенный день, и словно новый мир мне открылся. Очень скоро после этого мы поженились, и я привел мою жену к себе в дом. Вот так и возникло то счастливое жилище, о котором я говорил; тот Замок, где мы с тех пор живем с нею неразлучно. Там родились все наши дети. Первым ребенком была девочка, мы назвали ее Кристианой. Теперь она уже замужем, и ее сын так похож на маленького Фрэнка, что я с трудом отличаю их друг от друга. О том, как поступил по отношению ко мне мой компаньон, у людей тоже сложилось совершенно превратное мнение. Когда между мной и дядей произошла та роковая ссора, он не стал обращаться со мной презрительно, как с жалким простаком; и позднее он не завладел всем нашим делом и не вытеснил меня. Напротив, он проявил себя в высшей степени честным и добросовестным человеком. Выяснилось это следующим образом. В тот день, когда я расстался с дядей, и еще до того, как в контору прибыли мои вещи (которые дядя отправил следом за мной, не уплатив за перевозку), я пришел в нашу рабочую комнату на маленькой пристани, выходившую окнами на реку, и там поведал Джону Спэттеру обо всем, что случилось. В ответ Джон не сказал мне, что богатый старый родственник — это нечто осязательное, а любовь и прочие прекрасные чувства мечта и фантазия. Он обратился ко мне с такими словами: — Майкл, — сказал Джон, — мы вместе учились в школе, и обычно я ухитрялся обгонять тебя и считался лучшим учеником. — Было дело, Джон, — отвечал я. — А между тем, — сказал Джон, — я брал у тебя книги и терял их; брал взаймы твои карманные деньги и никогда их не возвращая; сбывал тебе мои сломанные ножи дороже, чем платил за них, когда они были новые; и, разбив окно, сваливал вину на тебя. — Не стоило бы вспоминать об этом, Джон Спэттер, — сказал я, — хотя все это правда. — Когда ты только что основал дело, которое нынче идет так успешно, продолжал Джон, — я явился к тебе, готовый ухватиться за какую угодно работу, и ты взял меня к себе в клерки. — И об этом не стоило бы вспоминать, мой милый Джон Спэттер, — сказал я, — хотя и это правда. — А убедившись, что у меня есть деловые способности и что я могу принести делу пользу, ты не захотел оставить меня в этой должности и вскоре решил, что тебе по справедливости следует взять меня в долю. — Вот об этом и вовсе не стоило бы вспоминать, Джон Спэттер, — сказал я. — Ведь я как тогда знал, так и теперь знаю твои достоинства и свои недостатки. — Так вот, мой добрый друг, — сказал Джон и локтем прижал к себе мою руку, как бывало в школе; в то время как мимо окон нашей конторы, формой напоминавших иллюминаторы, два суденышка легко скользили вниз по реке, увлекаемые отливом, точь-в-точь как мы с Джоном, в доверии и согласии, вместе уходили в наше жизненное плавание, — давай теперь же договоримся, дружески и по душам. Ты слишком мягок, Майкл. Ты никому не враг, кроме как самому себе. Вздумай я внушать это нелестное мнение нашим деловым знакомым, этак пожимая плечами, покачивая головой и сокрушенно вздыхая; вздумай я употребить во зло твое доверие… — Но ты никогда не употребишь его во зло, Джон, — заметил я. — Никогда! — сказал он. — Я просто говорю предположительно — вздумай я употребить твое доверие во зло и о некоторых подробностях наших общих дел умалчивать, другие выставлять напоказ, а о третьих поминать только вскользь и тому подобное, — тогда и моя сила и твоя слабость нарастали бы изо дня в день, пока я не вышел бы, наконец, на широкую дорогу к богатству, оставив тебя на голом поле, далеко от всяких дорог. — Верно, — сказал я. — Чтобы этого не случилось, Майкл, — сказал Джон Спэттер, — чтобы не случилось ничего даже близкого к этому, между нами должна быть совершенная откровенность. Ничего не скрывать друг от друга, всегда иметь в виду один, общий интерес. — Мой милый Джон Спэттер, — заверил я его, — я и сам не желаю ничего лучшего. — А если ты будешь слишком мягок, — продолжал Джон, и все лицо его светилось теплым, дружеским чувством, — позволь мне следить за тем, чтобы никто не мог воспользоваться этой твоей слабостью; не жди, что я буду потакать ей… — Мой милый Джон Спэттер, — перебил я его, — я вовсе не жду, что ты будешь потакать ей. Я хочу с ней покончить. — И я тоже, — сказал Джон. — Верно! — воскликнул я. — У нас с тобой одна цель; и если мы станем добиваться ее честно, полностью доверяя друг другу и всегда имея в виду один, общий интерес, содружество наше окажется удачным и счастливым. — Я в этом убежден! — ответил Джон Спэттер. И мы горячо пожали друг другу руки. Я привел Джона к себе в Замок, и мы отлично провели день. Содружество наше принесло обильные плоды. Как я и предвидел, мой друг и компаньон вносил в него то, чего недоставало мне; и совершенствуя как наше дело, так и меня самого, сторицей отплатил за ту малую помощь, какую я оказал ему в молодости. Я не очень богат (сказал бедный родственник, глядя в огонь и неторопливо потирая руки), потому что никогда к этому не стремился; но у меня есть все необходимое, я избавлен от нужды и от тревоги за завтрашний день. Мой Замок не блещет великолепием, но это очень уютное жилище, все в нем дышит теплом и весельем, это подлинно — домашний очаг. Старшая наша дочка, очень похожая лицом на мать, вышла замуж за старшего сына Джона Спэттера. Наши семьи тесно связаны и другими узами. Так приятно бывает по вечерам, когда все соберутся вместе, — а это случается часто, — и мы с Джоном беседуем о прошлом и о том общем интересе, который всегда нас объединял. У себя в замке я не знаю одиночества. Всегда возле меня есть кто-нибудь из моих детей или внуков, и мне отрадно — так отрадно! — прислушиваться к их молодым голосам. Моя дорогая, неизменно преданная жена, верная, любящая, всегда готовая помочь, поддержать и утешить, — вот главное, неоценимое благо моего дома, от которого происходят и все другие блага. Семья у нас музыкальная; всякий раз, как Кристиана замечает, что я немного утомился или чем-нибудь огорчен, она тихонько подходит к роялю и поет нежную песенку, которую певала еще в те дни, когда мы обручились. Я слабый человек и просто не могуслышать, чтобы ее пел кто-нибудь другой. Однажды ее заиграли в театре, где я был с маленьким Фрэнком, и мальчик спросил в изумлении: "Дядя Майкл, чьи это горячие слезы упали мне на руку?" Таков мой Замок, и такова истинная повесть моей жизни, которую я в нем храню. Я часто беру к себе маленького Фрэнка. Мои внучата очень радуются его приходу и затевают с ним игры. В это время года — на святках — я редко покидаю свой Замок. Ибо рождественские воспоминания удерживают меня там, а рождественские заветы гласят, что там и следует находиться. — И этот Замок… — раздался спокойный, добрый голос из круга собравшихся у камина. — Да, — сказал бедный родственник, задумчиво кивая головой и не отрывая глаз от огня, — мой Замок — воздушный замок. Джон, наш уважаемый хозяин, правильно понял меня. Это воздушный замок! Я кончил. Теперь пусть рассказывает кто-нибудь другой.
РАССКАЗ МАЛЬЧИКА
Жил некогда — много, много, лет тому назад — путешественник, и отправился он в путешествие. Путешествие было волшебное и казалось очень длинным, когда он его начал, и очень коротким, когда он проделал половину пути. Он шел недолгое время довольно темной тропой, никого не встречая, пока не набрел на прелестного ребенка. — Что ты тут делаешь? — спросил он ребенка. И ребенок ответил: — Я всегда играю. Поиграй и ты со мной! Он играл с ребенком с утра до ночи, и им было очень весело. Такое синее было небо, такое яркое солнце, такие зеленые листья, цветы такие красивые, и таких они слышали певчих птиц и так много видели бабочек, что лучше и желать нельзя. Так было в хорошую погоду. Когда же лил дождь, им нравилось следить, как падают капли и вдыхать свежие запахи. Когда поднимался ветер, было интересно его слушать и придумывать, что он говорит, шумно вылетая из своего жилья (как бы узнать, где у ветра жилье?), с воем и свистом гоня перед собой тучи, клоня деревья, гудя в трубе, раскачивая дом и заставляя море реветь и бушевать. А лучше всего было, когда шел снег, потому что ничего они так не любили, как следить за белыми хлопьями, падавшими быстро и густо, точно пушинки с груди миллионов белых птиц; и смотреть на сугробы — какие они мягкие и глубокие; и слушать тишину на тропках и дорогах. У них было множество самых чудесных на свете игрушек и самых удивительных книжек с картинками; все больше про ятаганы и чалмы, туфли без задников, про карликов и великанов, про джиннов и фей и про Синие Бороды, и про бобовые стебли и сокровища пещер и лесов, про Валентинов и Орсонов: и все было ново, и все — чистая правда. Но однажды случилось, что ребенок вдруг потерялся. Путешественник кликал его снова и снова, но ответа не было. Пошел он дальше своей дорогой и довольно долго не встречал никого, пока не набрел на красивого мальчика. — Что ты тут делаешь? — спросил он мальчика. И мальчик сказал: — Я всегда учусь. Учись и ты со мной. Стал он учиться вместе с тем мальчиком — выучил про Юпитера с Юноной, про греков и римлян, и уж не знаю про что, столько выучил, что мне всего не пересказать, и ему тоже, потому что половину он вскоре перезабыл. Но они не только учились: часто они предавались самым веселым забавам. Летом гребли на реке, зимой бегали по льду на коньках; без устали ходили пешком и без устали скакали верхом; играли в крикет и футбол и регби; играли в лапту, "зайцы и гончие", "делай, как я" и в разные другие подвижные игры — всех и не припомнишь; и никто не мог их победить. Бывали у них и каникулы, и крещенский пирог, и вечеринки с танцами до полуночи; их водили в настоящий театр, где они видели, как возникали из настоящей земли настоящие дворцы, золотые и серебряные, видели все чудеса мира, собранные вместе. Ну, а друзья — такие у них были добрые друзья и так много, что мне их сразу и не перечислить. Они были все одного возраста с красивым мальчиком и знали, что до конца своей жизни не станут друг другу чужими. Все же однажды случилось, что путешественник среди всех этих утех вдруг потерял мальчика, как раньше потерял ребенка, и покликав его безответно, пошел дальше своим путем. Довольно долго он шел, никого не встречая, пока не набрел на молодого человека. — Что ты тут делаешь? — спросил он молодого человека. И тот ответил: — Я всегда влюблен. Люби и ты со мной. Итак, он пошел с молодым человеком, и вот набрели они на самую хорошенькую девушку, какую только можно встретить, — совсем как Фанни, что прячется здесь в уголке, — у нее и глаза были, как у Фанни, и волосы, как у Фанни, и Фаннины ямочки на щеках, и она смеялась и краснела точь-в-точь, как Фанни, когда я сейчас говорю о ней. Молодой человек тут же и влюбился точь-в-точь как кто-то, кого я не хочу называть, с первого же разу, что пришел сюда, влюбился в Фанни. Влюбился, и его порой поддразнивали — как, бывало, Фанни поддразнивала кого-то; и случалось им поссориться — как ссорилась, бывало, Фанни с кем-то; и они мирились, и сидели в темноте, и каждый день писали друг другу письма, и никогда не бывали счастливы врозь, и всегда искали друг друга и делали вид, что не ищут, и на рождество были помолвлены, и сидели рядышком у огня, и вскоре должны были пожениться — все в точности так, как у Фанни с кем-то, кого я не хочу называть! Но случилось однажды, что путешественник их потерял, как терял других своих друзей, и, покричав им, чтоб они вернулись — а они не откликнулись, двинулся дальше в путь. Довольно долго он шел никого не встречая, пока не набрел на мужчину средних лет. — Что вы тут делаете? — спросил он мужчину. А тот в ответ: — Я всегда занят делами, займись и ты делами вместе со мной! И вот вместе с тем мужчиной стал он очень занятым человеком, и они шагали рядом через лес. Все его путешествие шло лесом, но сперва лес был редкий и зеленый, каким он бывает весной; теперь же он становился темным и густым, каким бывает летом; иные деревца, из тех, что покрылись листьями раньше всех, успели даже побуреть. Мужчина был не один, с ним была женщина почти того же возраста, что и он, — его жена; и у них были дети, которые тоже шли с ними. И вот они пробирались все вместе тем лесом, срубая деревья и прокладывая себе тропу сквозь гущу ветвей и кучи прелых листьев, и таская кладь и тяжело работая. Иногда они выходили на длинную зеленую дорогу, и в ее глубине им открывалась еще более густая чаща. Тогда доносился до них далекий, еле слышный голосок: "Отец, отец! Я — еще один ребенок! Подождите меня!" И тут появлялась вдалеке крохотная фигурка, которая бежала им навстречу и понемногу увеличивалась, приближаясь к ним. Когда она подходила совсем близко, они замыкали ее в свой круг, и целовали ее, и привечали; а потом шли все вместе дальше. Иногда они подходили к такому месту, где открывалось сразу несколько дорог, и тогда они все останавливались и один из детей говорил: "Отец, я ухожу в море", а другой говорил: "Отец, я уезжаю в Индию", а третий: "Отец, я иду искать счастья, где придется", а четвертый: "Отец, я ухожу на небо!" И вот, проливая слезы расставанья, уходили они в одиночку по тем дорогам, каждый ребенок своим путем; а тот ребенок, что ушел на небо, поднялся на воздух в золотом сиянии и исчез. Каждый раз, как наступала такая разлука, путешественник поглядывал на мужчину и замечал, что он смотрит поверх деревьев, в небо, где день уже клонился к вечеру и надвигался закат. И еще замечал он, что голова у него начинает седеть. Но отдыхать подолгу они не могли, потому что им надо было совершать свое путешествие и необходимо было все время заниматься делами. В конце концов разлук было уже так много, что не осталось при них ни одного ребенка, и шли они теперь втроем — путешественник, мужчина и женщина. И лес был теперь желтый; а потом стал бурым; и листья, даже в чаще леса, опадали с ветвей. И вот они подошли к лесной дороге темнее всех прежних и миновали ее, спеша в свой путь, не заглядывая и ее даль, когда женщина вдруг остановилась. — Муж мой! — сказала она. — Меня зовут. Они прислушались и услыхали голос, кличущий издалека по той дороге: "Мама, мама!" То был голос ребенка, который первым из детей скатал: "Я ухожу на небо!". И отец отозвался: — Подожди, еще не время: солнце скоро зайдет. Еще не время! Но голос звал: "Мама, мама!" — нисколько не считаясь с мужчиной, хотя волосы были у него теперь совсем белые и по лицу его катились слезы. Тогда мать, отступив в тень той темной дороги и уже отдалившись, хотя еще обнимала мужа за шею, поцеловала его и сказала: — Мой дорогой, меня призвали, и я иду! — И она ушла. И путешественник с мужчиной остались вдвоем. Они шли и шли вдвоем, пока не подошли очень близко к краю леса — так близко, что уже им виден был закат, горевший перед ними сквозь деревья красным светом. Но еще раз, пробиваясь сквозь гущу ветвей, путешественник потерял своего товарища. Он звал и звал, ответа не было, и когда он выбрался из лесу и увидел, что солнце мирно заходит в багряной дали, перед ним сидел на стволе упавшего дерева старик. Он спросил старика: — Что ты тут делаешь? — И старик со спокойной улыбкой сказал: — Я всегда вспоминаю! Вспоминай и ты со мной! И вот путешественник сел подле старика, лицом к ясному закату; и все его друзья тихо возвращались и становились в круг. Прелестный ребенок, красивый мальчик, влюбленный молодой человек, отец и мать с детьми: все они были здесь, и никого он не потерял. И вот он любил их всех и был с ними со всеми добр и терпелив, и смотрел на них с радостью, и все они уважали его и любили. И я думаю, этот путешественник не кто иной, как вы, дорогой мой дедушка, потому что вот так же вы добры со всеми нами и так же все мы вас уважаем и любим.
ДЛЯ ЧТЕНИЯ У КАМЕЛЬКА
Один, два, три, четыре, пять. Их было пятеро. Пятеро проводников сидели на скамье под стеной монастыря, что на самом перевале Большого Сен-Бернара в Швейцарии, и глядели на далекую вершину в красных пятнах от отсветов заходящего солнца, как будто выплеснули на гору в огромном количестве красное вино и оно еще не успело уйти в снег. Сравнение не мое. Его сделал по этому случаю самый рослый из проводников, дюжий немец. Остальные не обратили на его слова никакого внимания, как не обращали они внимания на меня, хотя я сидел тут же, на другой скамье у входа в монастырь по другую сторону ворот, и курил, как они, свою сигару, и — тоже, как они, — смотрел на заалевший снег и унылый навес чуть поодаль, где трупы запоздалых путников, вырытые из-под снега, постепенно ссыхаются, не подвергаясь тлению в этом холодном краю. Вино, расплесканное по вершине, у нас на глазах всосалось в снег; гора стала белой, небо темно-синим; поднялся ветер, и воздух сделался пронизывающе холодным. Пятеро проводников застегнули свои грубые куртки. Кому и подражать в таких делах, если не проводнику? Я тоже застегнулся. Гора в огне заката заставила приумолкнуть пятерых проводников. Это величественное зрелище, перед ним бы хоть кто приумолк. Но так как теперь гора уже отгорела, они снова заговорили. Я не то чтобы слышал кое-что из их прежних речей; вовсе нет: мне тогда еще не удалось отделаться от джентльмена из Америки, который в монастырской зале для путешественников сидел лицом к очагу и непременно хотел, чтобы я уяснил себе всю последовательность событий, приведших к накоплению достопочтенным Ананиасом Доджером чуть ли не самой крупной суммы долларов, когда-либо приобретенной в нашей стране. — Боже ты мой! — сказал проводник швейцарец по-французски — и мне, быть может, так и следовало передать его возглас, но я отнюдь не разделяю распространенного мнения, будто всякое упоминание имени господа всуе становится вполне невинным, если написать его по-французски. — Уж если вы завели речь о привидениях… — Да я не о привидениях, — возразил немец. — Так о чем же? — спросил швейцарец. — Кабы я знал о чем, — сказал немец, — я знал бы многое, чего не знаю. Неплохой ответ, подумал я, и во мне заговорило любопытство. Я передвинулся на своей скамье к тому концу, что был к ним поближе, и, прислонившись спиной к монастырской стене, отлично слышал их, не подавая виду, что слушаю. — Гром и молния! — сказал немец, оживившись. — Если человек нежданно приходит вас навестить и если он, сам того не зная, посылает некоего невидимого вестника, чтобы мысль о нем была весь день у вас на уме, — как вы это назовете? Если вы идете людной улицей — во Франкфурте, Милане, Лондоне, Париже, — и проходит мимо незнакомец, и вам подумалось, что он похож на вашего друга Генриха, а вскоре проходит другой, и опять вы думаете, что он похож на вашего друга Генриха, и у вас возникает странное предчувствие, что сейчас вы встретите вашего друга Генриха — и в самом деле встречаете, хотя были уверены, что он в Триесте, — как вы это назовете? — Дело довольно обычное, — пробурчали швейцарец и трое остальных. — Обычное! — подхватил немец. — Самое обычное! Как вишни в Шварцвальде. Как макароны в Неаполе. Неаполь, кстати, мне кое-что напомнил. Если старая marquesa[184] Сензанима вскрикивает вдруг за карточным столом на Кьядже — я сам это видел и слышал, потому что случилось это в семье у моих хозяев баварцев, и я в тот вечер прислуживал, — так вот, говорю я, если старая тагдиеза встает из-за карточного стола, побелев сквозь румяна, и кричит: "В Испании умерла моя сестра! Я ощутила на спине ее холодное касание!" — и если сестра так-таки умерла в ту самую минуту, — как вы это назовете? — Или если кровь святого Януария разжижается и начинает проступать по приказу монахов, что, как известно всему свету, неизменно происходит раз в году в моем родном городе, — сказал, выждав немного среди общего молчания, проводник неаполитанец и хитро прищурился, — как вы это назовете? — Это? — воскликнул немец. — Ну, это я, пожалуй, знаю, как назвать. — Чудом? — спросил неаполитанец, с той же хитринкой в глазах. Немец только сделал затяжку и рассмеялся; и все они затянулись и рассмеялись. — Эх! — сказал, наконец, немец. — Я же говорю о том, что бывает на самом деле. Когда я хочу видеть фокусы, я плачу деньги и смотрю настоящего фокусника — и плачу не зря. Очень странные случаются порою вещи и без духов. Духи! Джованни Баттиста, расскажи свою историю об английских молодоженах. Никаких там не было духов, а все-таки вышло непостижимое для ума. Или кто возьмется объяснить? Так как все молчали, я позволил себе оглянуться. Тот, в ком я признал Баттисту, раскуривал новую сигару, собираясь приступить к рассказу. Он был, как я рассудил, генуэзец. — Историю об английских молодоженах? — начал он. — Чепуха! Такую пустяковину и историей не назовешь. Ну да все равно. Зато истинная правда. Заметьте себе, господа, — истинная правда! Не все то золото, что блестит; но то, что я вам расскажу, истинная правда. Он это повторил не раз и не два. Лет десять тому назад я пришел с рекомендательными письмами в отель Лонга на Бонд-стрит, в Лондоне, к одному английскому джентльмену, который отправлялся на год-другой в путешествие. Письма ему понравились; сам я тоже. Он пожелал навести обо мне справки. Отзывы оказались благоприятные. Он меня нанял на полгода и назначил мне хороший оклад. Он был молод, красив, очень счастлив. Он полюбил молодую английскую леди с приличным состоянием и собирался на ней жениться. Вот я и должен был поехать с ними в свадебное путешествие. Он снял на три жарких месяца (дело было в начале лета) старый дом на Ривьере, неподалеку от моего родного города, от Генуи, на дороге из Италии в Ниццу. Не знаю ли я этот дом? Да, ответил я, знаю хорошо. Старый палаццо с большим садом. Дом пустоватый, довольно мрачный, темный — деревья близко подступают к окнам; но просторный, старинный, величественный — и на самом берегу. Джентльмен сказал, что ему точно так и описывали, и он-де доволен, что я знаю дом. Мебели мало — так это ведь так во всех старинных дворцах. А что мрачноват, так он ведь снял больше ради сада: и сам он и госпожа будут в летнюю жару отдыхать в тени. — Значит, все будет хорошо, Баттиста? — сказал он. — Не сомневайтесь, signore. Очень хорошо. Была у нас для нашей поездки легкая карета, недавно сделанная на заказ и во всех смыслах совершенная. Все у нас было совершенное; и не было ни в чем недостатка. Состоялась свадьба. Молодые были счастливы. Счастлив был и я, что все складывается так великолепно, что у меня такое хорошее место, что едем мы в мой родной город и что в дороге, сидя на запятках, я учу моему родному языку служанку, la bella Carolina[185], у которой в сердце был веселый смех; юную и розовую Каролину. Время летело. Но я видел — прошу вас, слушайте внимательно! (здесь проводник приглушил голос), — я видел, что порою моя госпожа становилась задумчива, странно задумчива. Пугливо задумчива. Как бывает с несчастными людьми. Будто ее охватывала сумрачная, непонятная тревога. Кажется, я начал это замечать, когда сам шагал в гору рядом с каретой, а господин уходил вперед. Во всяком случае, я помню, что это поразило мой ум однажды вечером на юге Франции, когда госпожа подозвала меня, чтобы я подозвал господина; и он воротился, долго шел рядом и говорил ей ласковые, ободряющие слова, взяв ее за руку и положив свою руку вместе с ее рукой на раскрытое оконце кареты. Он то и дело весело смеялся, как будто хотел от чего-то ее отвлечь. Потом и она начала понемногу смеяться, и все тогда снова пошло по-хорошему. Меня разбирало любопытство. Я спрашивал la bella Carolina, миловидную маленькую горничную, что с госпожой, не больна ли она? — Нет. — Не в духе? Нет. — Боится дурной дороги или разбойников? — Нет. — И это становилось тем более загадочным, что хорошенькая горничная, отвечая, не глядела на меня, а начинала вдруг любоваться видом. Но настал день, когда она объяснила мне тайну. — Если вам непременно нужно это знать, — сказала Каролина, — так вот: я кое-что подслушала и поняла так, что госпожу что-то преследует. — Как это — "преследует"? — Преследует сон. — Какой сон? — Сон о лице. Понимаете, перед свадьбой она три ночи кряду видела во сне лицо — всегда одно и то же, и только лицо. — Страшное? — Нет. Лицо смуглого, необыкновенного человека в черном, с черными волосами и седыми усами — красивый мужчина, но только замкнутый с виду и загадочный. Никогда в жизни она этого лица не видела, и даже похожего не видела никогда. Во сне оно ничего не делало, только пристально смотрело на нее из темноты. — Сон потом повторялся? — Ни разу больше. Ее смущает самое воспоминание о нем и больше ничего. — А почему оно ее смущает? Каролина покачала головой. — То же спрашивает и господин, — сказала la bella. — Она не знает. Ей самой непонятно, почему. Но я слышала, как она ему говорила — вчера вечером! — что если она найдет то лицо на одном из портретов в нашем итальянском доме (а она боится, что найдет), то она этого, кажется, не вынесет. Честное слово, я после этого не мог думать без страха (сказал проводник генуэзец) о нашем скором прибытии в старый палаццо: а ну как там на самом деле окажется такой портрет… и принесет несчастье? Я знал, портретов там очень много; и когда мы подъехали ближе к месту, мне уже хотелось, чтобы всю картинную галерею поглотил кратер Везувия. А тут еще, как нарочно, когда мы добрались до этой части Ривьеры, был угрюмый, грозовый вечер. Грянул гром; а гром в моем городе и его окрестностях, когда пойдет раскатываться между высоких холмов, так очень получается шумно. Ящерицы, точно с перепугу, выбегали из щелей в обвалившейся каменной ограде сада и забивались обратно; лягушки пыжились и квакали вовсю; ветер с моря ревел, с намокших деревьев лило, а молнии… клянусь телом Сан Лоренцо, в жизни я не видел таких молний! Все мы знаем, что такое старинный дворец в Генуе или близ нее — как его выщербили время и соленый ветер, как с драпировки, писанной красками на его фасаде, облупились слои штукатурки… как его окна в нижнем этаже затемнены ржавыми железными прутьями… как зарос травой его двор… как обветшали его флигеля… как все строение в целом кажется обреченным разрушению. Наш палаццо был в точности таков, каким ему полагалось быть. Он месяцами стоял запертый. Месяцами? Годами! В нем пахло сырой землей, как в могиле. Крепкий запах от апельсиновых деревьев по широкой задней улице и от лимонов, дозревающих на шпалерах, и от каких-то кустов, что выросли вокруг изломанного фонтана, проник каким-то образом в дом и так и не смог из него выйти. В каждой комнате был старый-престарый запах, ослабевший от того, что его держали взаперти. Он томился во всех шкафах и ящиках. В тесных коридорах, между большими комнатами, он вас душил. Когда вы снимали картину (вернемся к картинам), он оказывался и там — сидел, прилепившись к стене за рамой, как летучая мышь. По всему дому ставни в окнах были на запоре. Присматривали за домом две седые безобразные старухи — здесь же они и жили. Одна из них стояла в дверях со своим веретеном, что-то бормотала, наматывая нить, и, кажется, скорей впустила бы черта, чем воздух. Господин, госпожа, la bella Carolina и я, все прошли по палаццо. Я, хотя назвал себя последним, шел впереди, отворяя окна и ставни, и меня обдавали струи дождя, сыпались на меня комья известки, а время от времени падал и сонный комар или чудовищный, толстенный пятнистый генуэзский паук. Когда я впускал в комнату вечерний свет, входили господин, госпожа и la bella Carolina. Затем мы рассматривали одну за другой все картины, и я опять проходил вперед в следующую комнату. Госпожа втайне очень боялась встретиться с подобием того лица — мы все боялись; но ничего такого там не оказалось. Мадонна с Bambino[186], Сан Франческо, Сан Себастиано, Венера, Сайта Катэрина, Ангелы, Разбойники, Монахи, Храмы на закате, Битвы, Белые кони, Рощи, Апостолы, Дожи, все мои старые знакомые эти не раз повторялись, да! Смуглый красивый мужчина в черном, замкнутый и загадочный, с черными волосами и седыми усами, пристально глядящий на госпожу из темноты? — нет, его не было. Мы обошли, наконец, все комнаты, осмотрели все картины и вышли в сад. Он был обширный, тенистый и содержался неплохо, так как его сдали в аренду садовнику. В одном месте там был сельский театр под открытым небом; вместо подмостков — зеленый косогор; кулисы, три входа по одной стороне, душистые заслоны из кустов. Госпожа поводила своими ясными глазами, точно высматривала, не покажется ли на сцене то лицо; но все обошлось благополучно. — Ну, Клара, — сказал вполголоса господин, — видишь, нет ничего. Теперь ты счастлива. Госпожа повеселела. Она быстро свыклась с угрюмым палаццо. Поет, бывало, играет на арфе, пишет копии со старых картин или бродит весь день с господином под зелеными деревьями и по виноградникам. Она была прелестна. Он был счастлив. Бывало, засмеется и скажет мне, садясь на коня, чтобы поездить верхом с утра, пока не жарко: — Все идет хорошо, Баттиста! — Да, signore, слава богу, очень хорошо. В гости мы не ездили и у себя гостей не принимали. Я водил la bella к Duomo, в Annunciata, в кафе, в оперу и на деревенскую festa[187], в общественный сад, в театр на дневные спектакли, в театр марионеток. Милая девочка приходила в восторг от всего, что видела. Она выучилась по-итальянски — просто на диво! "Госпожа совсем забыла тот сон?" — спрашивал я иногда Каролину. "Почти, — отвечала, — почти совсем. Он стерся у нее из памяти". Однажды господин получил письмо и позвал меня. — Баттиста! — Signore? — Меня познакомили с одним джентльменом, и сегодня он у нас обедает. Его зовут синьор Делломбра. Устрой нам королевский обед. Странная фамилия. Я такой не знал. Но в последнее время австрийцы преследовали но политическому подозрению многих дворян, даже самых родовитых, и некоторые из них переменили фамилию. Возможно, этот был из их числа. Altro![188] Для меня Делломбра было имя как имя. Когда синьор Делломбра явился к обеду (продолжал проводник генуэзец, приглушая голос как в тот раз), я провел его в приемную, в sala granda[189] старого палаццо. Господин радушно принял его и представил госпоже. Встав, она изменилась в лице, вскрикнула и упала на мраморный пол. Тогда я обернулся на синьора Делломбра и увидел, что он одет в черное, что с виду он замкнутый и загадочный и что он красивый, смуглый мужчина, черноволосый, с седыми усами. Господин взял жену на руки и отнес в ее спальню, куда я тут же послал la bella Carolina. La bella сказала мне потом, что госпожа была напугана чуть не до смерти и всю ночь бредила тем своим сном. Господин был встревожен и раздражен, почти рассержен, но все же заботлив. Синьор Делломбра вел себя учтивым гостем и говорил о болезни госпожи очень почтительно и участливо. Несколько дней дул африканский ветер (так ему сказали в гостинице Мальтийского Креста, где он стоял), а этот ветер, как он знает, часто оказывается вреден для здоровья. Надо думать, прелестная леди скоро оправится. Он просит разрешения удалиться и снова нанести визит, когда он будет иметь счастье услышать, что ей стало лучше. Господин этого не допустил, и они отобедали вдвоем. Гость ушел рано. На другой день он верхом подъехал к воротам и справился, как здоровье госпожи. Так он наведывался в ту неделю два-три раза. По собственным моим наблюдениям и по тому, что говорила мне la bella Carolina, я уразумел, что господин надумал теперь излечить госпожу от ее бредового страха. Он был с ней сама доброта, но держался твердо и разумно. Он убеждал ее, что если поддаваться таким причудам, то это приведет к меланхолии или даже к потере рассудка. Что от нее одной зависит, придет ли она в себя. Если она хоть раз, преодолев свое странное расстройство, заставит себя принять синьора Делломбра, как приняла бы английская леди всякого другого гостя, то оно будет навсегда побеждено. Словом, signore явился снова, и госпожа приняла его как будто без замешательства (хотя с заметным напряжением и опаской), и вечер прошел мирно. Господин так был рад этой перемене и так ему хотелось ее закрепить, что синьор Делломбра стал в нашем доме частым гостем. Он в совершенстве разбирался в картинах, знал толк и в музыке и в книгах; его охотно принимали бы в любом угрюмом палаццо. Я примечал, и не раз, что госпожа не совсем поправилась. Она, случалось, потупит глаза перед синьором Делломбра и опустит голову или смотрит на него испуганным зачарованным взглядом, как будто гость имел над нею какую-то власть или от него исходило злое влияние. Бывало, погляжу я на нее, а потом на него, и мне казалось, что он в садовой тени или в полумраке большой sala и вправду "пристально смотрит на нее из темноты". Но и то сказать, я ведь не забывал, какими словами la bella Carolina описала мне то привидевшееся во сне лицо. Когда он побывал у нас вторично, я слышал, как господин сказал: — Ну вот, моя дорогая Клара, теперь все прошло! Делломбра пришел и ушел, и твои страхи разбились как стекло. — А он… он придет еще раз? — спросила госпожа. — Еще раз? Ну конечно — еще много раз! Тебе холодно? (Она дрожала.) — Нет, дорогой… но… я его боюсь: ты уверен, что так надо — чтоб он приходил еще? — Уверен, и тем тверже, что ты об этом спрашиваешь, Клара! — бодро ответил господин. Но теперь он надеялся на ее полное выздоровление, и с каждым днем его надежды крепли. Она была прелестна. Он был счастлив. — Все идет хорошо, Баттиста? — спрашивал он снова и снова. — Да, слава богу, signore, очень хорошо. Мы все (продолжал проводник генуэзец, сделав над собой усилие, чтобы говорить немного громче) на время карнавала поехали в Рим. Я на весь день отлучился из дому с одним своим приятелем сицилийцем, который приехал проводником с какой-то английской семьей. Поздно вечером, возвращаясь в нашу гостиницу, я столкнулся с маленькой Каролиной, бежавшей в растерянности по Корсо — а ведь она никогда не выходила из дому одна. — Каролина! Что-нибудь случилось? — Ох, Баттиста! Ох, ради всего святого! Где госпожа? — Госпожа, Каролина? — Она исчезла с утра — сказала мне, когда господин ускакал в свою прогулку, чтобы я к ней не заходила: она-де устала, так как не спала всю ночь (мучилась болью) и пролежит до вечера в постели; встанет, когда отдохнет. И вот исчезла!.. исчезла! Господин вернулся, взломали дверь, а ее нет! Моя красивая, моя добрая, моя невинная госпожа! Милая девочка так плакала, и металась, и все на себе рвала, что я не мог бы ее удержать, если бы она не упала в обморок мне на руки, точно подстреленная. Господин вернулся — совсем не тот господин, каким я знал его раньше: и лицом, и осанкой, и голосом он был так же мало похож на себя, как я на него. Он усадил меня в карету (маленькую Каролину я уложил в гостинице в постель и оставил на женскую прислугу), и мы бешено летели во мраке по унылой Кампанье. Когда рассвело и мы остановились у какого-то жалкого почтового двора, оказалось, что лошади все в разгоне — наняты еще за двенадцать часов до того и разосланы в разных направлениях. И заметьте себе — не кем, как синьором Делломбра, который проезжал тут в карете с забившейся в угол перепуганной англичанкой. Насколько я знаю (добавил проводник генуэзец, глубоко переведя дыхание), так никогда и не удалось напасть на ее след дальше того места. Мне больше ничего не известно, кроме того, что она исчезла, ушла в бесславное забвение, бок о бок с человеком, чье лицо, явившееся ей во сне, так ее страшило. — Ну и как вы это назовете? — сказал с торжеством проводник немец. Духи? Тут духи ни при чем! А вот как вы назовете другое — то, что я вам сейчас расскажу? Скажете, духи и тут ни при чем? Случилось мне раз (продолжал проводник немец) взять место при одном английском джентльмене, старом холостяке, собравшемся в путешествие по моей родной стране, по моему дорогому отечеству. Он был купец и вел дела с Германией, даже знал немецкий язык, но живал там только мальчиком, а с тех пор не ездил туда, как я понял, этак лет шестьдесят. Звали его Джеймс, и был у него брат-близнец, Джон, тоже холостяк. Братья были очень друг к другу привязаны. Дело они вели сообща, и была у них контора на Гудменс-Филдз, но жили они врозь. Мистер Джеймс проживал в Лондоне, на Поленд-стрит, как свернешь за угол с Оксфорд-стрит; а мистер Джон — за городом, в Эппинг-Форесте. Мы с мистером Джеймсом должны были выехать в Германию примерно через неделю. Точный день должны были назначить по ходу дел. Мистер Джон приехал к нам на Поленд-стрит (там же поселили и меня), собираясь прожить эту последнюю неделю с мистером Джеймсом. Однако на второй день он сказал брату: — Мне нездоровится. Думаю, ничего серьезного нет; разыгралась, видно, моя подагра. Поеду я лучше к себе, под опеку моей экономки, — старуха знает, как за мной ухаживать. Если я совсем поправлюсь, я вернусь сюда повидаться с тобой до твоего отъезда. Если же я буду чувствовать себя не настолько хорошо, чтобы собраться снова к тебе в гости, тогда уж ты сам приедешь повидаться со мной до отъезда. Мистер Джеймс, понятно, сказал, что приедет, они пожали друг другу руки — обеими руками, как всегда, — и мистер Джон сел в свой старомодный экипаж и покатил домой. И вот, на другой день после его отъезда, то есть, на четвертый день последней нашей недели, ночью, когда я крепко спал, меня разбудил мистер Джеймс — сам пришел ко мне в спальню во фланелевом халате, с зажженной свечою в руке. Он присел с краю на мою кровать и, глядя мне в лицо, сказал: — Вильгельм, я сильно подозреваю, что у меня начинается какая-то странная болезнь. Тут я заметил, что у него крайне необычное выражение лица. — Вильгельм, — продолжал он, — я не боюсь и не стыжусь рассказать вам то, что, может быть, постыдился бы и побоялся рассказать другому человеку. Вы родом из здравомыслящей страны, где таинственное привлекает исследователей и где не считают, что оно либо измерено и взвешено, либо не может быть измерено и взвешено… или что и в том и в другом случае можно полагать вопрос о нем давным-давно разрешенным на все времена. Мне только что явился призрак брата. Сознаюсь (сказал проводник немец), когда я это услышал, у меня пробежали по телу мурашки. — Мне только что, — повторил мистер Джеймс, глядя мне прямо в глаза, чтобы я видел, как твердо он владеет собой, — явился призрак моего брата Джона. Мне не спалось, и я сидел в постели, когда он вошел в мою комнату, одетый в белое, и, печально глядя на меня, прошел через всю комнату к письменному столу, просмотрел кое-какие бумаги, повернулся, так же печально, проходя мимо постели, поглядел на меня и вышел за дверь. Так вот: я ни в малой мере не сумасшедший и ни в малой мере не допускаю мысли, что этот призрак существует сам по себе вне меня самого. Я думаю, это мне предупреждение о том, что я заболеваю; и думаю — пожалуй, нужно бы отворить мне кровь. Я немедленно встал с постели (сказал проводник немец) и начал одеваться, успокаивая его и говоря, что сам схожу за доктором. Я был уже готов, когда мы услышали с улицы громкий стук в дверь и звон колокольчика. Так как моя комната была на чердаке и выходила окном во двор, а спальня мистера Джеймса — во втором этаже и окнами на улицу, мы вместе прошли в его комнату, и я поднял створку окна, чтобы посмотреть, что там такое. — Мистер Джеймс? — сказал человек под окном, отступая на другой тротуар, чтобы заглянуть к нам наверх. — Он самый, — сказал мистер Джеймс. — А вы — Роберт, слуга моего брата? — Да, сэр. К большому сожалению, сэр, я должен вам сообщить, что мистер Джон заболел. Ему очень плохо, сэр. Даже есть опасение, что он при смерти. Он хочет видеть вас, сэр. Тут у меня коляска. Прошу вас, поедем к нему. И, прошу вас, не теряя времени. Мы с мистером Джеймсом переглянулись. — Вильгельм, — сказал он, — это очень странно. Пожалуйста, поезжайте со мной. Я помог ему одеться, частью на месте, а частью в коляске; и лошади, высекая огонь копытами, быстро примчали нас с Поленд-стрит в Эппинг-Форест. Заметьте (сказал проводник немец), я вошел вместе с мистером Джеймсом в комнату к его брату, и то, что было дальше, я видел и слышал сам. Брат его лежал на кровати в дальнем конце длинной спальни. Его старая экономка была рядом, и другие слуги тоже: сдается, их было там еще трое, или даже четверо, и они находились при нем чуть не с полудня. Был он в белом, как тот призрак — иначе и быть не могло, потому что он лежал в ночной рубашке. И глядел он совсем как тот призрак — иначе и быть не могло, потому что он печально стал глядеть на брата, когда увидел его в дверях. Но когда брат подошел к его кровати, он медленно приподнялся в подушках, посмотрел ему в глаза и сказал этими точно словами: — Джеймс, ты уже видел меня сегодня ночью — и ты это знаешь! Сказал и умер!
Когда проводник немец умолк, я подождал еще в надежде услышать чьи-либо замечания об этой странной истории. Никто не нарушил тишины. Я оглянулся — и увидел, что проводников нет: все пятеро ушли так бесшумно, как будто призрачная гора поглотила их в свои вечные снега. Сейчас я был отнюдь не склонен сидеть один в этом страшном месте, на холодном ветру, торжественно обвевающем меня, — да и где бы то ни было, сказать по правде, не стал бы сидеть в одиночестве. Так что я вернулся в монастырскую залу и, убедившись, что американец все еще расположен рассказывать биографию достопочтенного Ананиаса Доджера, выслушал ее до конца.
С ОТЛИВОМ ВНИЗ ПО РЕКЕ
Ночь была очень темная и страшно холодная; восточный ветер пронизывал насквозь, неся с собой колючие крупинки с болот и топей, а быть может даже из Великой Пустыни и дряхлого Египта. В едкий туман, окутывавший Темзу близ Лондона, входили, быть может, и мельчайшие частицы Иерусалимского храма, и прах мумий, и песок из-под верблюжьей стопы, и даже ил из тех мест, где выводятся крокодилы, и крупицы, которые осыпались с лика тупоносых сфинксов, лишив их выражения, и мусор, оставленный караванами купцов в восточных чалмах, и частицы листьев из джунглей, и оледеневший снег с Гималаев. О, на реке было темно, очень темно, и холодно, страшно холодно. — А ведь вы, должно быть, повидали на своем веку немало всяких рек, послышался рядом со мной голос из глубины толстого драпового пиджака. — Правда, — ответил я, — как подумаешь, повидал немало. От Ниагары до горных рек Италии, которые, подобно национальному характеру, то смирны, то вдруг вскипят и выйдут из берегов, для того только, чтобы снова сократиться. Мозель, Рейн и Рону, Сену и Сону; реку святого Лаврентия, Миссисипи, Огайо; Тибр, По, Арно и… Пиджак кашлянул, словно соскучившись слушать, и я замолчал. Хотя, будь я настроен более жестоко, я мог бы и дальше дразнить его, без конца перечисляя реки. — А разве эта такая уж страшная после всех других? — спросил он. — Очень страшная, особенно ночью, — ответил я. — Сена в Париже тоже очень мрачна в такую пору, и, вероятно, она видела много больше преступлений и пороков, но Темза кажется такой широкой и огромной, такой молчаливой и пасмурной, являет собою такое подобие смерти в самом средоточии жизни большого города, что… Пиджак опять кашлянул. Ему не по вкусу пришлись мои разглагольствования. Налегая на весла, мы сидели в четырехвесельной гичке речной полиции, в глубокой тени Саутворкского моста — под угловой аркой с Сэррейской стороны, — приплыв вместе с отливом от Воксхолла[190]. Хотя мы стояли близко от берега, удержаться на месте было нелегко, потому что река сильно прибыла и отлив с большим напором стремился к морю. Мы подстерегали некиих водяных крыс человеческого происхождения и тихонько, как мыши, притаились в глубокой тени; наш фонарь был спрятан, и отрывочный разговор велся шепотом. Над головами у нас еле виднелись массивные железные балки моста, а под ногами словно погружалась на дно его громоздкая тень. Мы стояли здесь уже около получаса. Правда, спиной к ветру, но этот ветер, будучи решительно не в духе, никак не желал обходить нас стороной, а продувал прямо насквозь. Я был готов сесть хоть на брандер, лишь бы скорее перейти к действию, и робко предложил это моему приятелю Пиджаку. — Ну разумеется, — по возможности терпеливо объяснил он, — но только нам лучше не показываться в прибрежной зоне. Речные воры могут в миг отделаться от краденого, выбросив его за борт. А нам нужно застукать их с поличным, вот мы и прячемся в засаде, чтобы поймать врасплох. Если они нас увидят или услышат, все пропало. С опытом сыщика спорить не приходилось, и нам не оставалось ничего другого, как только просидеть на сквозном ветру еще полчаса. И поскольку водяные крысы по истечении этого времени рассудили за благо скрыться, не будучи изобличены в уголовщине, то и мы тоже двинулись вниз по течению не солоно хлебавши. — Мрачный у них вид, правда? — сказал Пиджак, заметив, что я оглянулся на фонари на мосту и на их длинные ломаные отражения в реке. — Очень, — сказал я, — невольно вздохнешь и задумаешься о самоубийцах. Какая ночь для страшного прыжка с этого парапета! — Да-да, но самое излюбленное место для желающих топиться — это мост Ватерлоо, — возразил Пиджак. — Кстати… стоп, суши весла, ребята!., не желаете ли вы потолковать на этот счет с самим Ватерлоо? На моем лице выразилось живейшее желание дружески побеседовать с мостом Ватерлоо, и поскольку мой приятель Пиджак был малый весьма обязательный, мы повернули обратно, вышли из фарватера и вместо того чтобы мчаться с отливом вниз по течению, стали подниматься против течения, опять держась близко от берега. Все краски, кроме черной, казалось, покинули землю. Воздух был черен, вода черна, баржи и понтоны черны; чернели сваи, чернели здания, и тени еще более глубокого оттенка чернели на черном фоне. Там и сям на верфи пылал уголь в железном факеле; но думалось, что и уголь был черным совсем недавно и скоро почернеет опять. Тревожное журчание воды, напоминавшее звук, с каким захлебываются и тонут, призрачное звяканье железных цепей, нестройное лязганье машин сливались в музыку, сопровождавшую плеск наших весел и их постукивание в уключинах. Даже самые эти звуки казались мне черными, как звук трубы показался красным слепому. Ловкие гребцы нашей гички шутя справились с отливом и лихо доставили нас к мосту Ватерлоо. Здесь мы с Пиджаком вышли на берег, прошли под черной каменной аркой и поднялись по крутой каменной лестнице. Не доходя нескольких шагов до верхней площадки, Пиджак представил меня мосту Ватерлоо (или знаменитому сборщику пошлины, олицетворявшему это строение), в необъятной шинели и меховой шапке, закутанному до самых глаз в толстую шаль. Ватерлоо принял нас весьма радушно и заметил, что ночь для нашего дела самая подходящая. Он сообщил нам, что мост сперва назывался Стрэнд, а теперешнее свое имя получил по предложению владельцев, когда парламент решил провести ассигновку в триста тысяч фунтов на сооружение памятника в честь одержанной над французами победы. Парламент понял намек и сэкономил деньги, заметил Ватерлоо с самым легким оттенком цинизма. Разумеется, покойный герцог Веллингтон первым перешел мост и, разумеется, заплатил пенни, и, разумеется, некий благородный лорд хранил эту монетку всю свою жизнь. Педаль и стрелку в проходной будке (весьма остроумное приспособление, страхующее от жульничества) изобрел мистер Летбридж, в то время служивший бутафором в Друрилейнском театре. Мы интересуемся самоубийствами? — спросил Ватерлоо. Гм! Что ж, можете быть уверены, он их видел немало. Да вот как раз на днях одна бедно одетая женщина вошла в будку, бросила пенни и хотела идти дальше на мост без сдачи! Ватерлоо это показалось подозрительным, он шепнул товарищу: "Пригляди за воротами", а сам побежал вслед за нею. Она дошла до третьего пролета и уже собралась спрыгнуть с парапета, как он ее подхватил и передал полиции. Утром в полицейском участке она рассказала, что хотела покончить с собой из-за того, что у нее неприятности и муж плохой. — Очень может быть, — заметил Ватерлоо, обращаясь ко мне и к Пиджаку и укутывая подбородок шалью. — Неприятностей на свете хватает, да и плохих мужей тоже. Другая молодая женщина прорвалась как-то среди бела дня, ровно в полдень, пустилась бежать по мосту; и прежде чем Ватерлоо ее догнал, вспрыгнула на парапет и боком бросилась в воду. Дали тревогу, лодочники подоспели вовремя: ей повезло. Платье поддержало ее на воде. — Вот оно как выходит, — сказал Ватерлоо. — Если люди бросаются с перил прямо, посередине пролета, то они не тонут, а разбиваются, бедняги, вот оно как, разбиваются об устои моста. А если вы спрыгнете с краю пролета, продолжал Ватерлоо, продев палец в петлю моего пальто, — если спрыгнете с краю, то попадете прямо в реку, под самой аркой, уж это верно. Чтовам надо сделать, это обдумать хорошенько, как вы прыгнете в реку! Был тут у нас бедняга Том Стиль из Дублина. Упал плашмя на воду, сломал грудную кость и прожил еще два дня! Я спросил Ватерлоо, есть ли у его моста такая сторона, которая чаще служит для этой страшной цели. Он задумался и сказал, что да, такая сторона есть. По его мнению, это Сэррейская сторона. Однажды трое приличного вида мужчин заплатили деньги, тихо и спокойно, прошли рядком шагов десять, и вдруг средний как заорет ни с того ни с сего: "Валяй, Джек!" — и мигом спрыгнул в воду. Нашли ли тело? Гм. Ватерлоо что-то не припомнит. Они были наборщики, вот кто они такие были. Удивительное дело, до чего люди проворны! Да вот, как-то на святках, уже вечером, подъезжает кэб, а в нем молодая женщина, по мнению Ватерлоо разве чуть подвыпила, а так недурна собой, очень недурна. Она остановила кэб у входа на мост, сказав, что хочет заплатить извозчику, что она и сделала, поспорив немного из-за платы, потому что сперва она как будто не очень-то знала, куда хочет ехать. Как бы там ни было, она заплатила за проезд и пошлину тоже, поглядела Ватерлоо прямо в глаза — понимаете ли, ему даже показалось, будто она его знает, — и сказала: "Как-никак, а я с этим покончу". Ну, кэб отъехал, оставив Ватерлоо в некотором сомнении, как вдруг женщина соскочила на полном ходу, не упала, даже не пошатнулась, пробежала несколько шагов по мосту, обогнала двух-трех пешеходов и бросилась в реку со второго пролета. На дознании показывали, будто она с кем-то поругалась в "Герое Ватерлоо" и будто бы все это вышло из-за ревности. Из своего опыта Ватерлоо вынес убеждение, что ревности тоже немало на свете. — Бывают ли у нас сумасшедшие? — отвечал Ватерлоо на мой вопрос. — Гм, бывают-таки. Да, мы задержали одного или двух, — надо полагать, сбежали из сумасшедшего дома. У одного не было полпенни, я его не пропустил, так он отступил немного назад, разбежался и трах головой об стенку, как баран. Шапку он окончательно испортил, а голове ничего не сделалось — по-моему, оттого, что и раньше у него не все было в порядке по этой части. Иной раз у человека не бывает полпенни. Если он в самом деле из бедных и устал, мы даем ему монетку и пропускаем. Другие же оставляют нам вещи — по большей части носовые платки. Я брал шарфы и перчатки, булавки от галстуков, перстни (больше от молодых господ, ранним утром), но чаще всего платки. — Завсегдатаи? — переспросил Ватерлоо. — Господи, ну конечно! У нас есть самые настоящие завсегдатаи. Один, до того ссохшийся, истасканный старикашка, что вы и представить себе не можете, является с Сэррейской стороны ровнехонько в десять часов вечера; должно быть, тащится куда-нибудь в притончик на Мидлсекской стороне. А возвращается он ровнехонько в три часа утра и тут уж едва переставляет одну за другой свои дряхлые ноги. Он всегда сходит вниз, к воде, потом опять поднимается по лестнице и уходит куда-то по Ватерлоо-роуд. Всегда проделывает одно и то же, и в одно и то же время, минута в минуту. И каждую ночь так — даже по воскресеньям. Я спросил Ватерлоо, не приходило ли ему в голову, а вдруг этот завсегдатай как-нибудь сойдет к воде в три часа ночи, да и не вернется. Ватерлоо ответил, что не похоже. Старый воробей, его на мякину не поймаешь такое мнение Ватерлоо вывел из своих наблюдений. — Есть и еще один старый чудак, — продолжал Ватерлоо, — тот проезжает точно по календарю, в одиннадцать часов шестого января, в одиннадцать часов пятого апреля, в одиннадцать часов шестого июля и в одиннадцать часов десятого октября. Ездит на маленьком шершавеньком пони, в этакой дребезжалке вроде кресла. Седые волосы, седые баки, закутан во всякие шарфы и шали. Обратно он проезжает в тот же день, и три месяца мы его больше не видим. Капитан флота в отставке, старый-престарый, большой чудак, служил еще при Нельсоне[191]. Он всегда норовит получить пенсию в Сомерсет-Хаусе до того, как часы пробьют двенадцать. Мне приходилось слышать, что ежели бы он получил пенсию после двенадцати, то, по его мнению, это противоречило бы акту парламента. Рассказав эти анекдоты самым естественным тоном, что служило лучшим доказательством их достоверности, наш приятель Ватерлоо снова погрузился в шаль, словно истощив все свои ораторские способности и вдоволь наглотавшись восточного ветра, но тут второй мой приятель Пиджак вмиг извлек его из глубины, спросив, не приходилось ли ему при исполнении обязанностей подвергаться оскорблению действием? Воспрянув духом, Ватерлоо немедленно пустился разрабатывать новую тему. Мы узнали, как "оба вот эти зуба" — тут он указал на пустоту, зияющую на месте двух передних зубов, — были вышиблены каким-то безобразником, который однажды ночью напал на него (Ватерлоо), пока его (безобразника) приятель шарил по карманам фартука, где хранилась пошлина; как Ватерлоо, махнув рукой на зубы (не до них было, заметил он), сцепился с похитителем фартука, упустив безобразника; и как он спас капитал и поймал грабителя, подвергнув его штрафу и заточению. А кроме того, как один парень, тоже ночью, напал на Ватерлоо, который в то время заведовал конным въездом на мост, и без церемонии перебросил его через колено, сперва раскроив ему голову кнутом. Как Ватерлоо "справился" и пустился вдогонку за этим парнем по Ватерлоо-роуд, через Стамфорд-стрит и кругом к Блекфрайерскому мосту, где парень "вломился" в распивочную. Как Ватерлоо тоже туда вломился, но "сообщник и подстрекатель" парня, который по воле случая оказался там же и выпивал у стойки, задержал Ватерлоо, а парень выскочил за дверь и пустился по Холленд-стрит, туда, сюда, и нырнул в пивную. Как Ватерлоо вырвался на свободу и побежал вслед за парнем, а за ним пропасть народу: увидев, что он бежит сломя голову и лицо у него в крови, люди вообразили бог весть что, и одни орали "Пожар!", а другие "Убийство!" в радостной надежде, что случилось либо то, либо другое. Как этого парня самым позорным образом накрыли в сарае, где он было спрятался, как в полицейском суде хотели уже передать дело на судебную сессию, но в конце концов парень помирился с Ватерлоо, уплатив за него доктору (Ватерлоо провалялся с неделю) и подарив ему "три фунта десять". Точно так же узнали мы и о том, что смутно подозревали и прежде: а именно, что эти ваши любители-спортсмены в день Дерби, будь они даже военные, могут, "если, — как говорит капитан Бобадил[192], — будет на то их добрая воля", вести себя отнюдь не так, как подобает джентльменам и людям чести: такому мало потешаться над штатскими олухами, остроумно посыпая их мукой и забрасывая тухлыми яйцами, ему подавай и другие развлечения — вздумал удрать, не заплатив пошлины, да еще набросился на Ватерлоо и хватил его хлыстом по голове; а когда, наконец, его призовут к ответу за это нападение, то он, по выражению Ватерлоо, "оказывается в нетях", то есть его не могут нигде разыскать, как я истолковал себе это выражение. Кроме того, в ответ на мои расспросы, переданные через моего приятеля Пиджака уважительно и восхищенно, Ватерлоо сообщил нам, что сборы с моста возросли больше чем вдвое после того, как пошлину уменьшили вдвое против прежнего. А когда мы его спросили, много ли фальшивой монеты попадается среди собранных денег, он ответствовал, сопровождая ответ взглядом более глубоким и загадочным, чем самые глубокие места в реке, что у него — не так уж много. После чего окончательно погрузился в свою шаль на весь остаток ночи. Тут я и Пиджак снова уселись в нашу четырехвесельную гичку и быстро понеслись вниз по реке вместе с отливом. И в то время как сердитый восточный ветер скреб и пилил нас, словно иззубренной бритвой, мой приятель доверительно сообщал мне разные интересные подробности насчет речной полиции; в промежутках мы нагоняли "дежурные лодки", болтавшиеся как водоросли в темных уголках под самым берегом — наша же лодка была "контрольная", — и они доносили нам, что "все в порядке", светя на нас потайным фонарем, и мы отвечали им тем же. В каждой из дежурных лодок сидел один пассажир — инспектор, а гребли там "распашными", что — к сведению тех, кто, в отличие от меня, не проходил этой науки под руководством лодочника-пожарного, выигравшего призовой ялик на гонках и за время моего обучения истребившего сотни галлонов рома с желтками (за мой счет) во всех известных трактирах выше и ниже моста, вовсе не потому, что он любил выпить, а потому, что медицина особенно рекомендует этот рецепт против больной печени, — значит грести втроем, причем двое гребут одним веслом каждый, а третий — двумя сразу. Так, плывя к морю по нашей черной дороге, под сурово нахмуренными бровями Блекфрайерского, Саутворкского и Лондонского мостов, поочередно возникавших перед нами, я узнал от моего приятеля, что в отряде речной полиции, в ведении которого находится район от Бэттерси[193] до Баркинг-Крика[194], насчитывается девяносто восемь человек, восемь дежурных лодок и две контрольных; что они скользят по реке так бесшумно и прячутся в таких темных углах — их как будто нет нигде и в то же время они могут оказаться где угодно, — что этот отряд постепенно превратился в службу речной охраны, так как на реке почти перевелись крупные преступления, да и на лондонских улицах благодаря усиленному надзору тоже стало гораздо труднее жить воровским промыслом. А что касается разного рода речных воров, сказал мой приятель, то среди них есть "бродяги", которые по ночам бесшумно шныряют между рядами судов в порту и, забравшись на нос, прислушиваются к двум храпам: храпу номер первый — капитанскому, и храпу номер второй — его помощника; капитаны и помощники всегда храпят оглушительно, наподобие орудийных раскатов, и уж наверняка захрапят, как только вернутся на корабль и завалятся спать. Услышав двойной артиллерийский храп, "бродяги" спускаются в капитанскую каюту, хватают капитанские невыразимые, которые эти господа имеют обыкновение скидывать прямо на пол, вместе с часами, деньгами, подтяжками, сапогами и всем прочим, а затем потихоньку убираются прочь. Есть еще "грузчики", или рабочие, которые разгружают суда. Они носят просторные брезентовые куртки с широким рубцом внизу, так что получается большой круговой карман, куда они могут, как клоуны в пантомиме, прятать тюки поразительных размеров. Очень много товаров крадут таким образом с пароходов (сообщил мне Пиджак); во-первых, потому, что пароходы перевозят больше товаров в маленьких тюках, чем другие суда, а во-вторых, потому, что пароходы должны разгружаться крайне быстро, чтобы вовремя уйти в обратный рейс. Грузчики легко сбывают свою добычу в матросских лавчонках, и против этого можно предложить единственное средство — чтобы эти лавки торговали с патентом, как распивочные, и были бы под таким же неослабным надзором полиции. Грузчики, кроме того, проносят контрабандой на берег украденные матросами товары. Табаку проносят столько, что продавцы контрабандного табаку находят для себя выгоду прессовать его, чтобы фунтовая пачка могла влезть в обыкновенный карман. Затем, сообщил мой приятель, есть еще "перевозчики", это не такое жулье, как грузчики; их дело переправлять на сушу более громоздкие кипы товара, несподручные для грузчиков. Они иногда продают матросам бакалею и прочие товары, для прикрытия истинного своего ремесла и для того, чтобы попадать на корабль беспрепятственно. Многие из них имеют свои лодки и наживают порядочные деньги. Кроме них, существуют еще "черпальщики", которые, под предлогом вычерпывания угля и тому подобного со дна реки, шныряют возле барж и других беспалубных судов и при случае сбрасывают за борт все, что под руку подвернется, а потом, когда баржа уйдет, потихоньку поднимают. Подчас они проделывают это с помощью своих черпаков. Некоторые работают прямо-таки артистически, и такое искусство называется "сухим черпанием". Кроме того, немало таких материалов, как обшивка, ценная древесина, медные гвозди, уносят с верфей корабельные плотники и другие рабочие и сбывают торговцам, многие из которых избежали разоблачения только благодаря отчаянной ругани и крайней находчивости при объяснении, откуда у них взялись краденые товары. Точно так же существуют еще и особые ловкачи, к кому "баржи приплывают сами собой" — они тут ни при чем, разве только сначала перерезали трос, а потом очистили баржу — ни в чем не повинные простачки, имевшие несчастье заметить эти суда, плывущие по реке без призора. Теперь мы очень проворно и почти бесшумно сновали между рядами бесчисленных судов, чьи корпуса, стоявшие близко один от другого, поднимались над водой, словно черные улицы. Там и сям шотландский, ирландский или иностранный пароход с высокой трубой и высокими бортами, разводя пары перед приливом, казался неподвижной фабрикой среди обычных строений. Улицы то расширялись в площади, то суживались в переулки; но ряды судов в темноте были так похожи на дома, что я почти вообразил себя в узких улочках Венеции. Все было удивительно тихо: оставалось полных три часа до высшей точки прилива, и никто еще не просыпался, кроме разве собак то тут, то там. Так, не поймав ни одного из бродяг, грузчиков, перевозчиков, черпальщиков и других злоумышленников, мы вышли на берег в Уоппинге, где в старом здании управления речной полиции теперь помещается полицейский участок и где старое здание суда, с окнами, выходящими на реку, выглядит довольно странно: самое устрашающее в нем — это чучело кошки под стеклянным колпаком, да очень приятный портрет превосходного старого офицера речной полиции, мистера Эванса, чья должность теперь перешла к его сыну. Мы просмотрели книги протоколов, которые ведутся отличным почерком, и не насчитали за целый год и пятисот записей, включая в это число пьяных и нарушителей общественного спокойствия. Потом мы заглянули в кладовую: там пахло пенькой и была свалена непромокаемая одежда, каболка, багры, весла, запасные носилки, рули, пистолеты, кортики и т. п. Затем в камеру, которая освежалась через отдушину, проделанную высоко в деревянной стене и похожую на кухонную полку; в камере сидел пьяный, которому было отнюдь не жарко и очень хотелось знать, скоро ли наступит утро. Затем в комнату получше сортом, дежурку, где стояла целая батарея каменных бутылок, в полной готовности, оставалось только налить их горячей водой и отогреть какого-нибудь незадачливого утопленника. Наконец мы обменялись рукопожатием с нашим приятелем Пиджаком и, чтобы согреться, бежали бегом всю дорогу до Тауэр-Хилла, подчас навлекая на себя сильнейшие подозрения полиции.
РАССКАЗ ШКОЛЬНИКА
Лет мне еще немного — правда, я становлюсь все старше и старше, но все-таки лет мне еще немного, — поэтому сам я не переживал никаких таких приключений, о которых стоило бы рассказать. Пожалуй, никому не интересно знать, какой выжига Достопочтенный, то есть наш директор, и какая ведьма "сама", и как они вымогают денежки у родителей, особенно за стрижку волос и леченье. Одному из наших мальчиков поставили в счет за полугодие двенадцать шиллингов шесть пенсов за две пилюли (значит, по шести шиллингов три пенса за штуку, — неплохо они наживаются на учениках!), а он даже не стал их глотать, — просто засунул в рукав куртки, и все. А говядина, — просто стыд и позор. Это вовсе не говядина. Настоящая говядина не одни только жилы. Настоящую говядину можно жевать. Кроме того, настоящую говядину всегда подают с подливкой, а на нашей и капли не увидишь. Другой наш мальчик уехал к родным совсем больной и слышал, как доктор говорил его отцу, что ума не приложит, почему заболел ребенок, разве только потому, что пил пиво, которое давали в школе. Ну, конечно, пиво-то его и доконало! Однако говядина — это совсем не то, что Старик Чизмен. Да и пиво тут ни при чем. Ведь я хотел рассказать о Старике Чизмене, а вовсе не о том, как нашим мальчикам расстраивают желудки ради наживы. Да что там, посмотрите только на корочку паштетов. Она не рыхлая. Она твердая — что твой свинец, только сырая, к тому же. Из-за нее наших мальчиков по ночам мучают кошмары, и тогда другие мальчики лупят их подушками за то, что они орут во сне и будят товарищей. Да и не мудрено, что орут! Как-то раз ночью Старик Чизмен принялся расхаживать во сне — надел шляпу поверх ночного колпака, схватил удочку и крикетную биту, да и спустился вниз, в приемную, а там, понятно, все решили, что это привидение. Но ведь он уж конечно никогда не дошел бы до этого, если бы не съел какой-нибудь гадости. Вот когда все мы примемся расхаживать во сне, тогда наше начальство, может, и призадумается. В то время Старик Чизмен еще не был младшим учителем латинского языка, — он сам был школьником. Когда он впервые попал в нашу школу, он был еще совсем маленький, а привезла его в почтовой карете женщина, которая его поминутно встряхивала и все время нюхала табак — больше он ничего не помнит про свое детство. Он ни разу не ездил домой на каникулы. Счета за его обучение и содержание (он не брал дополнительных уроков ни по одному предмету) отсылали в банк, и банк оплачивал их; и ему шили по два коричневых костюма в год, а с двенадцати лет он стал носить сапоги, только они всегда были ему велики. Во время летних каникул некоторые ребята; жившие поблизости, частенько прибегали в школу и взбирались на деревья за оградой площадки для игр только затем, чтобы поглазеть на Старика Чизмена, который сидел там и читал книжку один-одинешенек. Он всегда был тихоня, жидкий какой-то, словно чай у нас в школе, — а такого жидкого чая на всем свете не сыщешь! — и когда мальчики, бывало, свистнут ему, он только поднимет глаза и кивнет; а когда его спросят: "Эй, Старик Чизмен, чем тебя кормили за обедом?" — он ответит: "Вареной бараниной", а когда его спросят: "Не скучно тебе одному, Старик Чизмен?" — он ответит: "Скучновато бывает!", а потом они скажут: "Ну, прощай, Старик Чизмен!" — и слезут с деревьев. Конечно, это было тиранство все каникулы кормить Старика Чизмена одной вареной бараниной, но такие уж у нас были порядки. Иногда вместо вареной баранины его пичкали рисовым пудингом, уверяя, что это на редкость вкусное кушанье. А на мясо не тратились.

Так вот Старик Чизмен и жил. Кроме скуки, каникулы приносили ему и другие неприятности: ведь когда ученики съезжались в школу — очень неохотно, — он всегда был рад снова увидеться с ними; но их это раздражало, потому что они-то вовсе не были рады увидеться с ним, ну его и колотили головой об стену, так что у него кровь шла из носа. Но в общем Старика Чизмена любили. Однажды в его пользу даже собрали деньги по подписке и, чтобы хоть как-то развеселить его, подарили ему перед каникулами двух белых мышей, кролика, голубя и чудесного щенка. Старик Чизмен по этому случаю разревелся; но еще горше он плакал немного погодя, — когда все его животные перегрызли друг друга. Само собой разумеется, Старика Чизмена дразнили по-всякому: называли его Чижмен, Стрижмен, Сычмен и тому подобное. Но он никогда не обижался. И я вовсе не хочу сказать, что он был старый, — он был совсем не старый, просто его сразу так прозвали: Старик Чизмен. В конце концов Старика Чизмена назначили младшим латинистом. Как-то раз утром в начале нового полугодия его привели и представили школьникам в качестве "младшего учителя латинского языка, мистера Чизмена". Тогда все ученики сошлись на том, что Старик Чизмен — шпион и дезертир, потому что он переметнулся в лагерь неприятеля и продался за золото. И его ничуть не оправдывало, что он продался за ничтожное количество золота, — по слухам, за два фунта десять шиллингов в квартал и даровую стирку белья. Школьный парламент, заседавший по этому поводу, пришел к заключению, что Стариком Чизменом двигала лишь корысть и что он "из нашей крови отчеканил драхмы"[195]. Это выражение парламент позаимствовал из сцены ссоры Брута с Кассием. Когда, таким образом, было твердо установлено, что Старик Чизмен, гнусный предатель, пронюхал тайны наших учеников, вот и задумал выдать все, что ему известно, дабы подслужиться к начальству, — всем храбрым мальчикам было предложено основать Общество для борьбы с изменником. Председателем Общества стал Боб Тартер, первый ученик. Отец его поселился в Вест-Индии, и Боб не скрывал, что он нажил миллионы. Боб пользовался большим влиянием среди школьников и сочинил стихи, начинавшиеся такими словами:
Кто притворялся простаком,
Тихоней, смирным дураком,
А стал шпионом и врагом?
То Старый Чизмен…
НИКТО
Он жил на берегу большой реки, широкой и глубокой, всегда молчаливо катившейся к огромному, еще не открытому океану. Катилась она с тех пор, как мир стоит. Иногда она меняла направление и сворачивала в новое русло, оставив прежние свои берега сухими и бесплодными; но она всегда текла и текла, и будет она течь до скончания времен. Ничто не могло противиться ее могучему течению. Ни одному живому существу, ни цветку, ни листку, ничему на свете — ни живому, ни мертвому — не случалось воротиться из того неоткрытого океана. Река безудержно катилась к нему; и никогда не останавливалась, как не останавливается земля в своем вращении вокруг солнца. Он жил в мире, где все были заняты делом, и зарабатывал на жизнь тяжелым трудом. У него не было надежды стать когда-нибудь настолько богатым, чтобы хоть один месяц прожить без тяжелой работы, — но, видит бог, он был вполне доволен и работал не унывая. Он был из огромной семьи, где все сыновья и дочери, чтоб день прожить, должны были день отработать с раннего утра до поздней ночи. Только на такую участь он и мог рассчитывать и не искал иной. В той округе, где он проживал, очень много били в барабаны, и трубили в трубы, и держали речи; но к нему это не имело касательства. Весь шум и суматоху производила семья Сановных — племя, удивлявшее его своим бессмысленным поведением. Эти люди воздвигали перед его дверьми нелепые изваяния, чугунные, мраморные, бронзовые и медные; и застили свет в его окнах ногами и хвостами конных статуй. Он дивился, к чему это все, и усмехался на свой лад, грубовато и добродушно, и не прекращал своей тяжелой работы. Семья Сановных (а входили в нее все самые почтенные люди тех мест и все самые шумливые) надумала избавить его от труда самому о себе заботиться и взялась управлять им и его делами. — А ведь и вправду, — сказал он, — я все работаю, мне некогда; ежели вы будете так добры и станете обо мне заботиться за те деньги, что я вам выплачиваю, — ибо семья Сановных отнюдь не брезговала его деньгами, — вы с меня снимете груз, и я вам буду очень даже благодарен, потому как вы лучше все разумеете. Вот почему били в барабаны, и трубили в трубы, и держали речи, и ставили безобразные конные статуи, перед которыми ему полагалось падать ниц. — Я тут ничего не понимаю, — сказал он, смущенно потирая морщинистый лоб. — Но, наверно, ежели разобраться, так какой-то смысл в этом есть. — Смысл всего этого, — поспешила объявить семья Сановных, когда до нее дошли его слова, — высокая честь и слава за высокие заслуги. — Вот оно что! — сказал он. И рад был это услышать. Но сколько ни разглядывал он фигуры, чугунные, мраморные, бронзовые и медные, он среди них не нашел своего, казалось бы, заслуженного земляка, сына некоего варвикширского торговца шерстью[197], или кого-нибудь еще из своих достойных земляков. Ему не удалось найти среди них никого из тех, чьи знания избавили его и его детей от страшной обезображивающей болезни, чья отвага раскрепостила его дедов рабов, чья мудрая фантазия раскрыла перед самыми униженными новую, более высокую жизнь, чья изобретательность наполнила мир трудового человека множеством чудес. Зато нашел он там таких, о ком не знал ничего хорошего, и даже таких, о ком знал немало дурного. — Уфф! — сказал он. — Что-то я тут не все понимаю. Пошел он домой, сел у очага и выкинул это из головы. Очаг у него был убогий, затиснутый в прокопченные стены; но ему это место было дорого. Руки его жены загрубели в работе, и она до времени состарилась; но ему она была милее всех. Его дети росли хилые и полуголодные; но в его глазах они были красивы. Всей душой и больше всего на свете этот человек желал, чтобы дети его могли учиться. — Если я иной раз не туда подамся, — говорил он, — потому что я человек неученый, пусть хоть они получше во всем разбираются и не повторяют моих ошибок. Мне трудно получать удовольствие от книг и черпать из них знания, пусть это будет легко для моих детей. Но в семье Сановных поднялся бурный семейный спор о том, чему следует и чему не следует обучать детей этого человека. Одни члены семьи утверждали, что первый и необходимейший изо всех предметов такой-то; другие настаивали, что изо всех предметов первый и необходимейший такой-то; семья Сановных, расколовшись на фракции, писала памфлеты, держала советы,сплетала наветы, метала громы и молнии; члены семьи таскали друг друга по светским судам и церковным судам; забрасывали друг друга грязью, тузили кулаками и награждали тумаками в бешеной злобе. А человек той порой, в часы своего короткого вечернего отдыха у очага, видел, как восставал из огня демон невежества и утаскивал к себе его детей. Он видел, как его дочь, огрубев на черной работе, превращается в тупую неряху: видел, как его сын, уступая низким наклонностям, доходит до скотства и преступления; он видел, как первый луч разума, едва засветившийся в глазах его крошек, перерождается в такую злую хитрость и подозрительность, что он пожелал бы им лучше вырасти идиотами. — Я и тут мало чего понимаю, — сказал он, — но, думается мне, это неправильно. Нет, видит облачное небо над моей головой, не по правде со мной поступают! Снова смирившись (обычно вспышки гнева длились у него недолго, и был он по природе мягок), он, бывало, оглядится в воскресный или праздничный день и видит: кругом все одно и то же — только усталость и скука, а отсюда и пьянство со всеми его пагубными последствиями. И тогда он воззвал к семье Сановных и сказал, что мы-де — рабочий люд, и мне сдается, рабочему люду, как он ни пригнетен нуждой, — разумение, более высокое, нежели ваше (так оно выходит по моему убогому суждению), определило иметь потребность в здоровом отдыхе, который освежал бы ум. Посмотрите, до чего мы дошли, лишенные такого отдыха. Так вот! Доставьте мне безвредные развлечения, что-нибудь мне покажите, откройте мне отдушину! Но тут в семье Сановных поднялся уж и вовсе оглушительный шум. Пробился было чей-то еле слышный голос, предлагавший показать ему чудеса земли, величие мироздания, огромные исторические перемены, творения природы и красоты искусства — показать ему все это… разумеется, урывками, когда у него найдется время посмотреть, — но Сановные так разорались и взъярились, так пошли громить с кафедр, амвонов, и нести всякий вздор, и подавать петиции, и всячески друг друга обзывать и выволакивать в грязи, такой закрутили вихрь парламентских запросов и уклончивых ответов, — где рядом с "я бы рад" стояло наготове "я не смею", — что бедняга совсем ошалел и только растерянно озирался. — Неужели это все из-за меня? — сказал он в ужасе, затыкая уши. — Я всего лишь выставил безобидное предложение, подсказанное мне тем, что я видел в своем домашнем кругу, и тем, что знает каждый, если только нарочно не закрывает глаза! И я не понимаю, и меня не понимают. Что ж теперь будет? Он ниже склонялся над своей работой и все чаще спрашивал об этом сам себя, когда поползли слухи, что среди рабочих людей идет моровое поветрие, которое уносит их тысячами. Пошел он посмотреть и скоро убедился, что это правда. Мертвые и умирающие лежали вповалку в скученных и зараженных домах, где прошла его жизнь. Новая отрава пропитала воздух, и всегда-то темный и смрадный. Сильного и слабого, престарелого и малолетнего, и отца, и мать всех без разбора косила смерть. На какие средства мог бы он бежать? Он остался на месте, и кто был ему дорог, один за другим умирали на его глазах. Пришел к нему добрый проповедник и хотел помолиться с ним, чтобы смягчилось его омраченное сердце, но он ответил: — Ох, что проку, божий человек, приходить ко мне, раз я осужден оставаться в этом вонючем месте, где всякое чувство, данное мне для услаждения, приносит только пытку, и всякая минута моих считанных дней добавляет новые нечистоты к той куче, под которой я лежу, придавленный! Но дайте мне немножко воздуха и света, чтобы мне сквозь них заглянуть в небо, которого я сроду не видел; дайте мне свежей воды; помогите мне стать чище; сделайте легче этот тяжелый воздух и эту тяжелую жизнь, которые принижают наш дух и превращают нас в те бездушные и бессердечные создания, какими вы так часто видите нас; тихой и доброй рукой уберите тела наших умерших из этих тесных комнат, где мы так привыкли к страшному таинству смерти, что даже оно утратило для нас всякую святость. И тогда, учитель, я стану слушать — уж вам ли не знать, как охотно, — слова о том, чьи мысли были всегда с бедняками и кто имел сострадание ко всякому человеческому горю! Он снова был на своей работе, одинокий и печальный, когда его хозяин подошел и стал подле него, одетый в черное. Он тоже понес тяжелую утрату. Его молодая жена, его красивая и добрая молодая жена умерла; и умер его единственный ребенок. — Хозяин, это тяжело перенести… я-то знаю… но утешьтесь. Я бы вам подал утешение, когда б умел. Хозяин поблагодарил его от души, но добавил: — Ах уж вы, рабочие люди! Бедствие началось среди вас. Если бы вы жили более здоровой и пристойной жизнью, я не был бы тем вдовцом, тем обездоленным, каким стою перед вами сегодня. — Хозяин, — возразил тот, покачав головой, — я как будто начинаю понимать, что бедствия большей частью идут от нас, как пошло и это бедствие, и что они не перестанут растекаться по округе от наших бедных дверей, покуда мы не объединимся с той большой крикливой семьей, чтобы сообща устроить все, как надобно. Мы не можем зажить здоровой и пристойной жизнью, если те, кто взялся управлять нашими делами, не дадут нам для этого средств. Мы не можем сделаться грамотными, если те не станут нас учить; не можем разумно развлекаться, если те не позаботятся о наших развлечениях; мы иначе не можем, как молиться нашим собственным ложным богам, раз они понаставили столько своих богов во всех общественных местах. Злые последствия убогого обучения, злые последствия преступного небрежения, злые последствия неестественного воздержания в пище и отказа от облагораживающих удовольствий, — все они идут от нас и ни одно на нас не кончается. Они норовят распространиться вдаль и вширь! И всегда распространялись — вот как и это моровое поветрие. Это я как будто понял наконец. Но хозяин опять за свое: — Ах уж вы, рабочие люди! Мы, если услышим о вас, так непременно в связи с какой-нибудь бедой. — Хозяин, — ответил тот, — я — Никто, и обо мне едва ли может кто услышать (а и мог бы, так вряд ли захотел бы), покуда и впрямь не пришла беда. Но никогда она с меня не начиналась и на мне никогда не кончится. Она неизбежно приходит ко мне и от меня идет дальше. Слова его были так толковы, что, когда они дошли до Сановных, семья, отчаяние напуганная недавним несчастьем, решила объединиться с ним и сделать, что надобно, — или по меньшей мере все, что нужно для предотвращения нового морового поветрия. Но как только их страх поутих — а утихать он начал очень скоро, — они снова перессорились между собой и ничего не сделали. И тогда опять явился мор — сперва в низах, как и прежде, а потом, никого не щадя, пошел, как и прежде, гулять по округе и унес несчетное множество горлодеров. Но ни один из них, если и понимал в какой-то мере, то ни разу не признал открыто, что в этом есть и его вина. Так он, этот Никто, жил и умер, как исстари повелось; и вот она, в общих чертах, вся его история. Разве у него не было имени? — спросите вы. Может быть, имя ему было Легион. Неважно, как его звали. Назовем его Легионом. Если вы когда-нибудь бывали в бельгийских деревнях близ поля Ватерлоо, вы, верно, видели в той или другой церквушке памятник, поставленный товарищами по оружию полковнику А, майору В, капитанам С, О и Е, лейтенантам Р и О, прапорщикам Н, I и Р, семи капралам и ста тридцати рядовым, павшим на поле чести в достопамятный день. История человека, назвавшегося "Никем", это история рядовых земли. Они исполняют свой долг в бою; они вносят свою долю в дело победы; они падают, сраженные; они не оставляют имени — только свое собирательное имя. Победный путь самых гордых из нас ведет к той пыльной тропе, которой идут они. Подумаем же о них в этом году у рождественского камелька, и будем помнить о них и после, когда огонь догорит.
ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Когда дует ветер и в темные окна бьет дождь или мокрый снег, я люблю посидеть у огня, перебирая в памяти читанное мною в книгах о плаваниях и путешествиях. С детских лет такого рода книги имели для меня неотразимое очарование; я сам не понимаю, как это так получилось, что ни разу я не совершил кругосветного путешествия, не попал ни разу в кораблекрушение, не затирало льдом мой корабль, не подбили меня томагавком, не съели дикари. Канун Нового года. Я сумерничаю у камина, заглядевшись на красные угли, и со всех широт и долгот земного шара на меня надвигаются приключения, постигавшие путешественников. Они не соблюдают ни очереди, ни порядка, а являются и исчезают, как им заблагорассудится — "встанут тенью и уйдут"[198]. Один среди моря со своей непокорной командой, Колумб обозревает водную пустыню из капитанской рубки на юте и видит первое смутное мерцание луча, "поднимающегося и падающего с волнами, как факел на челне рыбака" засиявшую звезду некоего нового света. Брюс[199] в Абиссинии томится в клетке среди кровавых ужасов, которые многие годы спустя, уже на родине, будут мерещиться ему во сне. Франклин на исходе своего неудачного путешествия в Арктику[200] (жаль, что он потом предпринял еще одно!) — лежит, умирая от голода, со своими отважными спутниками: исхудалые, они распростерлись на жалком ложе, и ни один не в силах встать; все делят томительные дни между молитвой, воспоминаниями о домашних, оставленных на родине, и разговорами о прелестях еды; последний предмет неотвязно преследует их и во сне. Снова исследователи Африки, измученные, печальные и одинокие, попадают во власть пьяных кровожадных деспотов-работорговцев, стоящих на низшей ступени рода человеческого; а Мунго Парк[201] лежит изнемогший под деревом и, глядя на хлопочущую над ним незнакомку, с благодарностью вспоминает, как по всему широкому свету ему неизменно являлся добрый самаритянин в женском обличии. Тень на стене, в которой мой духовный взор различает очертания скалистого морского берега, приводит мне на память страшную повесть одного путешествия, исходящую от довольно неожиданного для подобной темы рассказчика — парламентской Синей книги. Главный герой повести — каторжник, и он, вместе с другими уголовниками, сбежал из места заключения. Это остров, они завладели лодкой и добрались до материка. Их путь лежит морским берегом вдоль скалистой кручи, и нет у них никакой надежды на конечное избавление, потому что, если случай и поможет им преодолеть все ужасы пути и выйти живыми к далекой цели, отряд солдат, отправленный более легкой дорогой им наперерез, неминуемо прибудет на место задолго до них, и они будут схвачены. Голод, как все они должны были предвидеть, начинает их терзать уже в самом начале. Иные умирают — и съедены; иные убиты остальными — и съедены. Этот мерзкий человек ел все время досыта, сохранил свою силу и выжил — один изо всех, но лишь затем, чтобы его поймали и вернули. Перенесенное им в пути было так невыразимо страшно, что его не повесили, как требовал закон, но отправили на его прежнюю каторгу работать в цепях. Проходит недолгий срок, и он подговаривает еще одного узника, опять завладевает лодкой и бежит вторично — по неизбежности тем же безнадежным путем, потому что выйти на другой они не могут. Вскоре погоня выходит ему наперерез, и он сталкивается лицом к лицу с отрядом преследователей. Он один. За время первого побега он приобрел ненасытную тягу к своей отвратительной пище. Он сманил в побег нового попутчика нарочно для того, чтобы убить его и съесть. Карманы на одном боку его грубой каторжной одежды набиты кусками человеческого мяса, которое он ест в свое удовольствие; в карманах на другом боку — нетронутый запас солонины (украденной впрок еще на острове), которая ему не по вкусу. Его вернули назад и повесили. Но всякий раз, когда видится мне на стене или в огне камина скалистый берег, я непременно различаю на нем и это чудовище, одинокого людоеда: он ест на ходу, а море ярится и идет на него стеной. Капитана Блая[202] (едва ли возможно облечь неограниченной властью человека хуже его) вот сейчас по приказу одного из его офицеров, Флетчера Крисчена, ссаживают с борта "Баунти" и пускают плыть по океану в открытой лодчонке. Новая вспышка огня в моем камине, и двадцатипятилетний "Четверг Октябрь Крисчен", сын умершего Флетчера Крисчена от матери-дикарки, вскакивает на борт корвета "Британец", захваченного штилем близ острова Питкерн; перед едой он произносит простую молитву на чистом английском языке; и знает, что хорошенький зверек на борту называется собакой, потому что в раннем детстве слышал о таких странных созданиях от своего отца и других мятежников, которые дожили до седых волос под сенью хлебных деревьев, непрестанно вспоминая в разговорах далекую утраченную родину. Смотрите, вот "Холсуэл", фрегат Ост-Индской компании, едва покинув родные берега, летит, очумелый, в январскую ночь прямо на скалы близ Сикомба[203], что на острове Пербек! На борту — две дочки капитана и еще пять женщин. Много часов корабль носило по волнам, вода стоит в нем на семь футов, грот-мачта срублена. Он мчится навстречу своей судьбе, и, кажется, кто-то читает мне вслух с детства знакомое описание гибели фрегата. "В пятницу шестого января, около двух часов пополуночи, когда корабль все еще дрейфовал и очень быстро приближался к берегу, мистер Генри Меритон, второй помощник, опять прошел в каюту, где находился тогда капитан. Опять между ними имел место разговор, и капитан выразил крайнее беспокойство за своих дочерей, которых горячо любил, и озабоченно спросил помощника, не может ли он что-нибудь придумать, чтобы их спасти. Когда тот с глубоким огорчением ответил, что это к сожалению, невозможно и единственная надежда ждать, что принесет им утро, капитан воздел руки в безмолвной и отчаянной мольбе. В эту страшную минуту корабль ударило с такой силой, что стоявшие в каюте стукнулись теменем о потолок, и крик ужаса при этом толчке донесся сразу со всех частей корабля. Многие из матросов, которые, надо отметить, почти все то время, пока бушевала буря, небрежно и нерачительно несли свои обязанности, теперь высыпали на палубу, где офицеры, сколько ни старались, никак не могли удержать их, когда от их работы мог бы еще быть какой-то прок. Они тогда все попрятались в свои подвесные койки, предоставив откачивать воду помощникам капитана и солдатам, трудившимся не покладая рук. Сейчас, встревоженные опасностью, грозившей им лично, те же матросы неистовым криком молили у неба и товарищей по несчастью той спасительной помощи, которую они могли бы обеспечить себе сами, если бы вовремя не пожалели усилий. Корабль продолжало бить о скалы; и вскоре, получив пробоину в подводной части, он накренился к берегу. Когда его ударило, несколько человек из команды вскарабкались на флагшток, испугавшись, что судно немедленно развалится на куски. В этот критический момент мистер Меритон обратился к несчастным с лучшим советом, какой можно было дать им; он предложил всем перейти на тот борт, которым судно накренилось к скалам, и порознь выбираться на берег, пользуясь каждой возможностью, какая представится. Сделав таким образом все, что было в его силах, для спасения павшей духом команды, он вернулся в рубку, где к этому времени собрались все пассажиры и большая часть офицеров. Последние всячески старались утешить несчастных женщин и с беспримерным благородством отдавались чувству сострадания к прекрасным и милым своим подругам по несчастью, забывая об опасности, грозившей им самим. В милосердном деле утешения принял теперь участие и мистер Меритон, высказывая убеждение, что судно продержится до утра, а утром все будут спасены. Видя, что один молодой джентльмен громкими возгласами выдает свой ужас и то и дело выкрикивает, что судно сейчас расколется, капитан Пирс бодро попросил его успокоиться, заметив, что, если корабль и распадется на куски, сам-то он не распадется и будет цел и невредим. Трудно дать убедительную картину этой прискорбной катастрофы, не описав места, где она произошла. "Холсуэл" наскочил на риф у той части берега, где он встает высокой и почти отвесной каменной стеной. Но как раз в том месте у ее подножья образовалась промоина — пещера в десять — двенадцать ярдов глубины, а в ширину равная длине большого корабля. Стены этой пещеры поднимаются почти вертикально, так что взобраться на них крайне трудно; а пол усеян острыми и неровными каменными глыбами — точно отвалившимися когда-то от ее потолка при землетрясении. Судно лежало бортом против устья пещеры, протянувшись в длину почти от одной ее боковой стены до другой. Но когда его ударило, было слишком темно, и несчастные люди на нем еще не могли уяснить себе всю опасность, весь безмерный ужас такого положения. В добавление к обществу, уже раньше собравшемуся в рубке на юте, сюда приняли трех негритянок и двух солдатских жен; их пятерых и еще мужа одной из них впустили, хотя матросам, когда они буйно ломились в дверь якобы за свечами, мистер Роджерс и мистер Браймер, третий и пятый помощники, оказали отпор и не дали войти. Итак, набралось теперь до пятидесяти человек. Капитан Пирс сидел — на стуле, на койке или на чем-то еще — между двумя своими дочерьми, поочередно прижимая их к сердцу. Остальное горестное общество расположилось на полу, усеянном музыкальными инструментами и обломками мебели и других вещей. Здесь же устроился и мистер Меритон. Он нарезал на кусочки несколько восковых свечей, рассовал их по разным местам рубки, засветил все, какие нашел, стеклянные фонари и уселся, решив дождаться рассвета, а тогда сделать, что будет в его силах, для спасения тех, кто разделял с ним опасность. Но, видя, что женщины истомлены и бледны, он принес корзину апельсинов и уговорил некоторых из них высосать для подкрепления сил немного соку. К этому времени они все были довольно спокойны, кроме мисс Менсел, бившейся в истерике на полу. Но, вернувшись к матросам, мистер Меритон увидел, что внешний вид корабля значительно изменился: борта заметно подались, а палуба, казалось, вздыбилась; обнаружил он и другие опасные признаки, указывавшие, что судно долго не продержится. Поэтому он попробовал пройти на бак и осмотреться, но тут же увидел, что корабль распался на две половины и передняя, изменив свое положение, легла мористей. В этой крайности, когда казалось — еще мгновение, и канешь в вечность, он решил ловить момент и последовать примеру судовой команды и солдат, которые теперь десятками покидали фрегат, пытаясь выбраться на берег, хотя вид и характер берега был им совершенно неизвестен. Пробуя разные средства, срубили между прочим флагшток и попытались уложить его как мостки между бортом корабля и скалами, однако безуспешно он раскололся, не достигши скал. Но при свете фонаря, поданного на палубу одним матросом через люк рубки, мистер Меритон увидел какой-то длинный брус, как будто положенный мостком с борта на скалы, и решил воспользоваться им для своего спасения. Итак, он лег ничком и пополз вперед; однако он скоро понял, что мост не связан со скалой. Он добрался до его конца и соскользнул, получив при падении сильный ушиб. Не успел он подняться на ноги, как его смыло прибоем. Тогда он поплыл и продержался на воде, пока новая волна не прибила его к задней стене пещеры. Там он ухватился за маленький выступ скалы, но руки онемели, и он чуть было не разжал их, когда один матрос, уже имевший упор под ногами, протянул ему руку и поддерживал его, пока он кое-как не утвердился на скале; отсюда он вскарабкался на уступ повыше, куда уже не достигал прибой. Мистер Роджерс, третий помощник, оставался при капитане и несчастных женщинах еще минут двадцать после того, как Меритон покинул корабль. Видя, что Меритон долго не возвращается, капитан спросил, что с ним случилось, на что мистер Роджерс ответил, что второй помощник вышел на палубу посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. На судно обрушилась затем большая волна, и женщины закричали: "Ох, бедный Меритон! Он утонул; если бы он оставался с нами, он был бы жив!" — и все они, в особенности мисс Мэри Пирс, выражали глубокое огорчение, полагая его погибшим. Теперь волна обрушилась на носовую половину судна, достигнув основания грот-мачты. Капитан кивнул мистеру Роджерсу, и они, взяв фонарь, прошли вдвоем на крытую палубу юта, где постояли немного, вглядываясь в скалы. Капитан Пирс спросил мистера Роджерса, как он думает, есть ли хоть какая-то возможность спасти девочек; и тот ответил, что не видит никакой, потому что они могли различить только черную поверхность отвесной скалы, пещера же, давшая укрытие тем, кто спасся, была им не видна. Тогда они вернулись в рубку, где мистер Роджерс повесил на место фонарь, а капитан Пирс сел между двух своих дочерей. Так как волны по-прежнему — и все быстрее — заливали судно, мистер Макманус, мичман, и мистер Шутц, пассажир, спросили Роджерса, что они могут сделать для своего спасения. "Следуйте за мной", — ответил Роджерс; и они отправились втроем на крытую палубу юта, а оттуда и на верхнюю палубу. Только они дошли, тяжелый вал обрушился через борт, и рубка подалась; до мистера Роджерса доносился, прерываясь, крик женщин, как видно настигнутых волной: рев моря временами заглушал их голоса. За Роджерсом на корму проследовал и мистер Браймер. Они стояли рядом минут пять, когда обрушился тот тяжелый вал, и вместе ухватились за какую-то куриную клетку. Та же волна, что оказалась роковой для многих из оставшихся внизу, вынесла его с товарищем на скалу, о которую они сильно ударились и изрядно расшиблись. На скале нашли пристанище двадцать семь человек; но сейчас был отлив, и будучи уверены, что с наступлением прилива их всех смоет, некоторые пробовали залезть повыше по задней или боковым стенам пещеры, куда не достигал бы прилив. Кроме Роджерса с Браймером это удалось еще от силы шестерым. Мистер Роджерс измучился вконец, пока добрался до этого места, и если бы понадобилось напряжение сил еще на несколько минут, он едва ли выдержал бы. Пробраться к мистеру Меритону ему теперь не позволяло то обстоятельство, что между ними двумя расположилось еще не менее двадцати человек, из которых ни один не мог подвинуться без риска для жизни. Они убедились, что весьма значительная часть экипажа — матросы, солдаты и кое-кто из младших офицеров — были в таком же положении, как и они, хотя многие из тех, кто добрался до нижних утесов, погибли при попытке залезть повыше. Теперь им была видна половина корабля, и в страшном своем положении они тешили себя надеждой, что она уцелеет до рассвета; потому что как ни тяжело было их собственное бедствие, они думали с отчаянной тревогой о страдании женщин на борту, и каждый вздымавшийся вал наполнял их трепетом за их судьбу. Но, увы! Их опасения оправдались — и очень скоро! Немного прошло минут с того мгновения, как мистер Роджерс взобрался на скалу, когда общий вопль, долго потом звучавший в их ушах — вопль, в котором был горестно различим крик женского отчаяния, — возвестил о страшной катастрофе. Несколько секунд — и все затихло, кроме рева ветра и грохота валов; разбитый корабль погрузился в пучину, и с той поры никто не видел хотя бы малого обломка от него". Этот печальный рассказ, такой подходящий для зимнего вечера, сменяет самая прекрасная и трогательная изо всех известных мне историй, связанных с кораблекрушением. Корабль Ост-Индской компании "Гровнер" на пути из Индии наскочил на мель у берега Кафрарии[204]. Решено, что офицеры, пассажиры и команда — всех сто тридцать пять душ — попытаются пройти пешком по бездорожью через дебри, кишащие лютым зверьем и жестокими дикарями, до голландских поселений на мысе Доброй Надежды. Наметив эту далекую цель, они в конце концов разделяются на две партии — и не довелось им больше встретиться на земле. Среди пассажиров — одинокий ребенок, семилетний мальчик, у которого здесь нет никого из родных; и когда первая партия тронулась в путь, мальчик горько заплакал, потому что с нею уходил один человек, который был к нему добр. Плачет ребенок — можно бы подумать, не большое это дело для людей в такой крайности; но это их растрогало, и его тотчас включают в отряд. С этого часа забота о мальчике становится для его спутников священным долгом. Его перевозят через широкие реки на плотике, который матросы подталкивают, переправляясь вплавь; его несут по очереди через глубокие пески и высокие травы (все остальное время он терпеливо идет сам); с ним делятся той тухлой рыбой, какую добывают себе в пищу; ложатся и ждут его, когда грубый плотник, его первый друг в отряде, поотстанет с ним. Ежечасно грозит им смерть во всяческих страшных обличиях — то львы или тигры, то дикари, то голод, то жажда, но они никогда — отец рода человеческого, да святится имя твое! — не забывают о ребенке. Капитан остановился, выбившись из сил, преданный ему рулевой возвращается, и товарищи видят, что он садится рядом с ним — и обоих не встретят больше люди до великого Судного дня; но, когда остальные спешат скорее вперед, спасая свою жизнь, они берут с собой ребенка. Плотник умирает, поев с голоду ядовитых ягод; стюард, приняв после него командование отрядом, берет на себя и священную опеку над ребенком.

Видит бог, чего только не делает он для бедного малыша! Как он бодро несет его на руках, когда сам слаб и болен; как он кормит его, когда сам недоедает; как прикрывает его полами своей рваной куртки, с женской нежностью глядит в его исхудалое личико и кладет его головку на свою загорелую грудь; как утешает его в его страданиях, а когда он поотстанет, захромав, поет ему песенки, забывая о собственных израненных, стертых ногах. Отбившись на несколько дней от отряда, они роют могилу в песке и хоронят своего доброго друга бондаря, двое одиноких путников в пустыне… а потом наступает час, когда они оба больны и просят своих несчастных, теряющих веру товарищей (как мало их осталось!) подождать их один день. Те ждут день подле них, ждут подле них два дня. Наутро третьего они очень тихо похаживают вокруг, подготовляя, что нужно, в дорогу; потому что ребенок заснул у костра и все единодушно решили не будить его до последней минуты. Эта минута проходит, костер догорает — и ребенок мертв. Верный друг его, стюард, недолго протянет после него. Тяжко гнетет его горе, несколько дней он кое-как плетется, потом ложится на землю и умирает. Но бессмертным духом своим — кто сомневается в том он вновь соединится с ребенком там, где и он и бедный плотник восстанут ото сна при словах: "Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне"[205]. Я вспоминаю, как разбрелись, как блуждали и как погибли почти все, кто был захвачен этим нашумевшим некогда кораблекрушением (спаслась в конечном счете лишь малая горсточка), вспоминаю еще долгие годы вновь и вновь оживавшую среди английских офицеров на мысе Доброй Надежды легенду о белой женщине с младенцем, которую будто бы видели плачущей у входа в дикарскую хижину где-то далеко в глубине страны — люди, перешептываясь, ставили это в связь с исчезновением нескольких леди, которые были сняты с тонущего корабля и которых не раз потом искали, но так и не нашли, — вспоминаю, и мысли об иного рода странствии приходят мне на ум. Мысли о страннике, который, нежданно отозванный из дому, свершил далекий путь и уже никогда не воротится. Мысли о том несчастливце, что безысходно погрузился в глубины своей печали, в горечь своей тоски, в беспомощное самоосуждение, в безнадежное желание выправить то, что сделал плохо, и сделать то, что оставил несделанным. Ибо много есть такого, чем он пренебрегал. Там дома иное из того, что его окружало, казалось мелочью, — но как много значат эти мелочи сейчас, когда их отделила от него необозримая даль! Немало, немало хорошего делали ему люди, а он не умел это почувствовать, как должно; и было немало мелких обид, которых он не простил; была любовь, на которую он отвечал слишком скупо, и дружба, которую слишком мало ценил; были миллионы ласковых слов, недосказанных им, миллионы недодаренных ласковых взглядов, несчетное множество легких маленьких дел, в которых он бы мог проявить себя по-настоящему большим и добрым человеком. Ах, мне бы один только день, восклицает он, один бы день, и я бы многое исправил! Но никогда не взойдет оно, солнце Этого счастливого дня, и никогда не вернется несчастный из своего далекого плена. Почему судьба этого путешественника вдруг заслонила предо мной, в новогоднюю ночь, все другие истории путешествий, только что занимавшие мой ум, и простерла надо мной торжественную тень? Или некогда и я отправлюсь в такое же странствие? Именно так. Кто скажет, не буду ли тогда и я терзаться таким же поздним сожалением? Не буду ли и я в моем изгнании вспоминать с тоской свой опустелый дом, свою несделанную работу? Я стою на берегу, где волны — года. Они вздымаются и опадают, и я почти не замечаю их; но с каждой волною прибой надвигается ближе, и я знаю, что в конце концов он и меня, как того, унесет в то же дальнее путешествие.
НАШ ФРАНЦУЗСКИЙ КУРОРТ
Завоевав, после многих лет верности, право на некоторое непостоянство по отношению к нашему английскому курорту, мы два или три сезона флиртовали с одним из французских курортов. Некогда он был известен нам только как город с очень длинной улицей, которая начиналась у бойни и кончалась у парохода; казалось, нам было суждено видеть эту улицу только на рассвете зимнего дня (в те времена на континенте еще не было железных дорог); проснувшись настолько, чтобы уже можно было понять, как неудобно мы спали, мы должны были, волею судьбы, громыхать по этой улице в парижском дилижансе, оставляя за собой море грязи и уже предвкушая переезд по другому, бурному морю. В связи с этой последней стихией перед моим умственным взором встает достойный француз в котиковой шапке с расшитым капюшоном поверх нее, который однажды был моим попутчиком в вышеупомянутом дилижансе. Проснувшись с бледным и помятым лицом, он огорченно посмотрел на грозные волны, с упоением резвящиеся на орудии пытки, которое именуется по морскому "бар", то есть отмель, и спросил нас, подвержены ли мы морской болезни. Чтобы он не был слишком потрясен видом того жалкого существа, в которое нам вскоре предстояло превратиться, а также для того, чтобы его утешить, мы ответили: "Сэр, ваш покорный слуга болеет морской болезнью всегда, когда только возможно". Он повернулся к нам, нисколько не вдохновленный этим блестящим примером: "О боже, а я болею всегда, даже тогда, когда это невозможно". Средства сообщения между французской столицей и нашим французским курортом совершенно изменились с тех пор; но моста через Ламанш все еще нет, и там продолжается прежняя качка. Если не говорить о тех редких случаях, когда погода бывает приличной, надо признать, что трудно совершить акт переезда в наш французский курорт с достоинством. Несколько мелких обстоятельств в своей совокупности превращают приезжающего в объект многих унижений. Во-первых, как только пароход входит в порт, все пассажиры попадают в плен: они сейчас же захватываются превосходящими силами таможенных чиновников и препровождаются в некий мрачный каземат. Во-вторых, дорога в каземат огорожена веревками высотой по грудь человека, а по ту сторону этих веревок все англичане, которые сами недавно перенесли морскую болезнь, а сейчас чувствуют себя хорошо, собираются, одетые по-праздничному, чтобы насладиться зрелищем полной деградации своих сограждан. "О боже милостивый! Как ему было плохо!" — "А вон тот промок до нитки!" — "А вон какой бледный!" — "А следующий — ну и зеленый же!" Даже мы сами (не лишенные от природы чувства собственного достоинства) сохраняем живое воспоминание о том, как мы двигались, шатаясь, по этому ненавистному проходу в сентябрьский день, при штормовом ветре, и как были встречены, точно неотразимый комический актер, бурей смеха и аплодисментов, потому что наши ноги вели себя до крайности глупо. А теперь — о том, что "в-третьих". В-третьих, пленников, запертых в мрачном каземате, проталкивают, по двое или по трое зараз, в другую, внутреннюю камеру, где изучают их паспорта; а у дверей, на проходе, стоит военная личность, которая рукой преграждает дорогу. Две мысли возникают обычно в уме британца во время этих церемоний: первая — что необходимо пробиться в эту камеру хотя бы ценой самых бешеных усилий, точно это спасательная шлюпка, а каземат — судно, идущее ко дну; вторая — что рука военной личности есть оскорбление нашего национального достоинства, и отечественное правительство должно по этому поводу "сделать демарш". Британские ум и тело разгорячаются в результате этих размышлений, и вот уже даются горячечные ответы на вопросы и совершаются самые экстравагантные поступки. Так, Джонсон настаивает, что Джонсон это его имя, данное при крещении, а вместо того чтобы назвать фамилию своих предков, произносит национальное "черт!". И никак уже нельзя заставить его увидеть различие между ключом от чемодана и паспортом, и он будет упорно протягивать первый, в то время как у него просят второй. Поэтому, когда настает "в-четвертых", он уже пребывает в состоянии чистейшего идиотизма. Когда его, в-четвертых, выталкивают через маленькую дверь в дико ревущую толпу комиссионеров, это уже — безумец с дикими глазами и волосами дыбом, пока его кто-нибудь не спасет и не успокоит. Если у него нет друзей и никто его не спасает, его обычно сажают в омнибус, везут на вокзал и доставляют в Париж. Тем не менее наш французский курорт, когда вы до него, наконец, доберетесь, — отличное место. Вокруг — разнообразная и красивая природа, а внутри — много характерного и приятного. Что и говорить, здесь могло бы быть поменьше дурных запахов и гниющего мусора и более совершенный сток; город мог бы быть чище во многих местах, а стало быть, и несравненно здоровее. И все же это светлый, свежий, приятный и веселый город; и если вам случится пройтись по любой из его трех хорошо замощенных главных улиц около пяти часов дня, когда тонкие кулинарные запахи наполняют воздух, а через окна гостиниц (здесь полным-полно гостиниц) видны длинные столы, накрытые к обеду и украшенные салфетками, сложенными веерообразно, вы по справедливости признаете, что это город, необыкновенно подходящий для того, чтобы в нем есть и пить. На вершине холма, над новым, деловым городом, есть старый, обнесенный стеной город, богатый холодными колодцами. Если бы он отстоял на несколько сот миль дальше от Англии — а ведь сейчас, в ясный день, отсюда можно разглядеть траву, которая растет в расщелинах меловых утесов Дувра, — вас бы уже давно замучили до смерти рассказами об этом городе. Он более живописен и причудлив, чем добрая половина тех скромных мест, которым туристы, следующие за своим гидом, как стадо овец, присвоили совсем незаслуженную славу. Не говоря уже о домиках со строгими двориками, о таинственных закоулках и многооконных уличках, тихо белеющих на солнце, здесь есть старинная колокольня, которая давно попала бы во все Ежегодники и Альбомы, если бы добраться до нее стоило дороже. К счастью, она избежала этой участи, так как находится всего-навсего на нашем французском курорте, и вы можете по собственному желанию любоваться ею, но никто не заставляет вас бесноваться от восторга. Мы считаем одной из величайших за последнее время удач то обстоятельство, что Билкинс, этот единственный авторитет по вопросам вкуса, нигде, насколько мы могли выяснить, не отметил нашего французского курорта. Билкинс нигде о нем не писал, нигде не отмечал какие-либо его достопримечательности, ничего в нем не измерял и вообще его не трогал. За это избавление да благословит небо и городок и память бессмертного Билкинса! На старых стенах, которые четырехугольником окружают верхний город, есть очаровательная дорожка под сводом тенистых деревьев. Гуляя там, вы разглядываете сверху улички; перед вами открываются то одни, то другие виды на новый город, на реку, на холмы и на море. Особую прелесть и своеобразие придают этому зрелищу некоторые высокие дома, которые берут начало внизу, в глубине улиц, но как бы расцветают к новой жизни наверху: двери, окна и даже сады этих домов выходят на городскую стену. Мальчик, который войдет в ворота одного из этих домов, взберется по многим ступенькам вверх и вылезет из окна четвертого этажа, может считать себя новым Джеком, который поднялся по бобовому стеблю в Волшебную страну. Здесь удивительно большое детское население; английские дети с гувернантками, читающими романы на ходу, во время прогулок по тенистым аллеям, или с няньками, которые судачат на скамейках; французские дети с улыбающимися боннами в белоснежных чепцах, а сами дети — если это мальчики — в соломенных головных уборах наподобие пчелиных ульев, рабочих корзинок и подушек для коленопреклонений в церкви. Три года назад в обеденное время всегда можно было встретить, среди этих гуляющих детей, трех сморщенных стариков, один из которых носил потертую красную ленточку в потертой петлице. Если они гуляли для того, чтобы нагулять аппетит, они, несомненно, жили в пансионе, где все было оплачено заранее; иначе бедность не позволила бы им совершать такие опрометчивые поступки. Это были понурые, подслеповатые, скучные старики, в сношенных башмаках, оборванные, в длиннополых сюртуках с высокой талией и жиденьких брюках, и все же какой-то призрак былого благородства витал над ними. Они мало разговаривали друг с другом, и вид у них был такой, что они могли бы, пожалуй, выразить даже кой-какие политические несогласия, если б у них хватило на то физической силы. Однажды я слышал, как Красная ленточка слабым голосом жаловался остальным двум на то, что кто-то "разбойник", а затем все трое стиснули челюсти и наверное заскрипели бы зубами, если б у них были таковые. Пришла зима, и Красная ленточка отправился туда, куда уходят все отслужившие ленточки, а в следующем году оставшиеся двое по-прежнему бродили здесь, спотыкаясь среди обручей и кукол, — привычные, хоть и непонятные для детей фигуры, они, вероятно, казались большинству из них безобидными созданиями, которые никогда не были детьми и на которых они, дети, никогда не будут похожи. Пришла еще одна зима, и еще один старик ушел, так что в этом году последний из триумвирата уже перестал гулять — к чему теперь гулять? — и сидел в одиночестве на скамье, а перед ним так же весело, как всегда, мелькали обручи и куклы. На Places d'Armes[206] старого города есть маленький захудалый рынок; отсюда он, через старые ворота, просачивается вниз по склону, чтобы смешаться с шумным рынком нижнего города и затеряться в его толчее и суматохе. В летнее утро очень приятно наблюдать с вершины холма этот рыночный поток. Он начинается, полусонный и скучный, с нескольких мешков зерна; разливается множеством сапог и башмаков; устремляется с грохотом вниз, по пестрому руслу старых веревок, старого железа, старой посуды, старого платья, гражданского и военного, старого тряпья, новых хлопчатобумажных товаров, ярких картинок с изображением святых, маленьких зеркалец и нескончаемой тесьмы; ныряет затем куда-то в сторону, теряясь из виду на некоторое время, как это бывает с ручейками, и лишь мелькнув на мгновение в виде рыночной пивной; и вдруг снова возникает за большой церковью, растекаясь пестрой толпой женщин в белых чепцах и мужчин в синих блузах, грудами домашней птицы, овощей, фруктов, цветов, горшков, сковород, церковных стульев, солдат, деревенского масла, зонтиков и других приспособлений для защиты от солнца, девушек-носильщиц с корзинами за плечами, поджидающих нанимателя, и низенького сморщенного старика в треугольной шляпе, у которого на груди целая кираса из стаканов, а на плечах — малинового цвета величественное сооружение, украшенное флажками и напоминающее расцвеченный таран мостильщика, только без ручки. Он звонит в колокольчик то здесь, то там, возвещая о том, что продает прохладительный напиток. Он кричит хриплым и надтреснутым голосом, который каким-то образом оказывается все-таки слышен сквозь гомон торгующихся покупателей и продавцов. Вскоре после полудня этот поток пересыхает на всем своем течении. Церковные стулья возвращены в церковь, сложены все зонтики, унесены все непроданные товары, исчезают все прилавки и стойки, выметена площадь, наемные кареты недвижно стоят в ожидании седоков, а на всех деревенских дорогах вы видите (если вы так же усердно бродите по дорогам, как мы) крестьянок, чисто и удобно одетых, которые возвращаются домой на удивительно славных осликах, живописно привесив к седлу молочные кувшины, аккуратные бочонки из-под масла и тому подобное. Есть на нашем французском курорте и другой рынок, то есть несколько деревянных хибарок среди улицы, у порта, — он посвящен рыбе. Наши рыболовные суда славятся повсюду; наши рыбаки, хоть и любят яркие цвета наперекор хорошему вкусу (смотри у Билкинса), принадлежат к числу самых живописных людей, каких мы когда-либо встречали. У них не только свой квартал в городе, но и несколько собственных деревень на близлежащих утесах. Они имеют свои собственные церкви и часовни; они общаются только друг с другом и заключают браки только между собой; у них свои собственные обычаи; и одежда у них собственного покроя и навсегда неизменная. Как только один из их мальчиков научится ходить, на него надевают длинный ярко-красный колпак; и как любой из них не подумает выйти в море без головы, так не подумает он выйти в море без этого необходимого к ней добавления. Далее, они носят необыкновенно щегольские сапоги с огромнейшими отворотами, которые хлопают по голенищам и очень прихотливо над ними вздымаются; а выше сапог, они упакованы в удивительные куртки и штаны юбочного покроя, — сделанные по всем признакам из просмоленного старого паруса и для того, чтобы они окончательно залубенели, пропитанные еще смолой и солью, — так что те, кто носит это одеяние, приобретают особую походку; есть на что посмотреть, когда они ходят, переваливаясь, среди своих лодок, бочонков, сетей и снастей. Тамошние девушки имеют обыкновение бегать к морю с корзинками и бросать их в лодки, когда те возвращаются на волне прилива, обещая свое сердце и руку тому славному рыбаку, который будет так мил и наполнит ей корзину. Бегают они босиком, и оттого обладают самыми прелестными ногами, какие природа когда-либо вытачивала из лучшего красного дерева; а ступают они как Юнона. Глаза их так лучисты, что их длинные золотые серьгикажутся тусклыми по сравнению со своими блестящими соседями; когда же они принарядятся и к Этим красотам и к свежим личикам прибавятся еще многочисленные юбки полосатые, красные, синие, всегда красивые, чистые и не слишком длинные — да еще чулки домашней вязки — темно-красные, синие, коричневые, фиолетовые, лиловые, которые им с утра до ночи вяжут женщины постарше, нянча детей, похожих на фламандские картины, — да еще кокетливые коротенькие ярко-синие жакеты, тоже вязаные и плотно облегающие их стройные фигуры; да ко всему этому еще прирожденное изящество, с каким они носят любой чепец и повязывают самым простым платком свои роскошные волосы, — ну, словом, запыхавшись от такого длинного перечня, скажем в заключение, что мы нимало не удивлялись тому, что всюду — в поле или на пыльной дороге, у ветряных мельниц или на какой-нибудь маленькой сочной лужайке над морем, — всюду, где нам встречались вместе молодой рыбак и рыбачка нашего французского курорта, рука молодого парня во всех случаях, как нечто само собой разумеющееся, и без нелепых попыток скрыть столь очевидную необходимость, обвивала шею или талию рыбачки. И глядя на крутые улицы — дом над домом, терраса над террасой, — на яркие одежды, разложенные под солнцем на грубых каменных парапетах, мы никогда и нисколько не сомневались, что приятная дымка, окутывающая эти предметы, вследствие того, что мы смотрим на них сквозь коричневые сети, подвешенные на высокие шесты для просушки, — что эта дымка, в глазах каждого настоящего юного рыбака, есть дымка любви и красоты, еще более оттеняющая прелести богини его сердца. Надо отметить, к тому же, что это люди трудолюбивые, семейственные и честные. И хотя мы хорошо помним, что, по указаниям Билкинса, обязаны преклоняться перед неаполитанцами, мы берем на себя смелость предпочесть им рыбацкое население нашего французского курорта — особенно после нашего последнего посещения Неаполя, в этом году, когда мы обнаружили во всем городе людей только четырех состояний, а именно: лаццарони, священников, шпионов и солдат, причем все они — нищие. Правительство в своей отеческой заботе разогнало всех своих подданных, кроме негодяев. А для нас теперь наш французский курорт неотделим от нашего хозяина в эти два летних сезона, г. Лойаля Девассера, гражданина и муниципального советника. Разрешите иметь удовольствие представить вам г. Лойаля Девассера. Его фамилия просто Лойаль; но поскольку он женат, а в этой части Франции супруг всегда добавляет фамилию жены к своей собственной, то он подписывается Лойаль Девассер. Он владелец небольшого компактного имения в двадцать или тридцать акров на склоне высокого холма; здесь он построил две дачи, которые сдает внаем с мебелью. Эти дома намного превосходят все другие на нашем французском курорте; мы имели честь жить в обоих и можем это засвидетельствовать. В прихожей первого из них красуется план имения, на котором оно получилось вдвое больше территории Ирландии; так что когда мы еще не освоились с этим имением (г. Лойаль всегда называет его "La propriete"), мы прошли три мили по прямой в поисках Аустерлицкого моста, который, как оказалось впоследствии, находился непосредственно под нашим окном. В другой части имения мы целую неделю тщетно искали Замок Старой Гвардии — который, по плану, должен был находиться в двух лье от столовой, пока однажды, сидя на скамье в лесу (на плане это был лес), в нескольких шагах от входной двери, не увидели у наших ног, в самом плачевном виде вниз головой и прогнившую дозелена, — самое Старую Гвардию, то есть деревянную статую высотой в семь футов, изображающую одного из воинов этого славного корпуса, берущего на караул, — к несчастью, ее повалило порывом ветра в предыдущую зиму. Вы можете заключить отсюда, что г. Лойаль стойкий приверженец великого Наполеона. Он и сам старый солдат — капитан Национальной гвардии; у него на камине стоит красивая золотая ваза, преподнесенная ему его ротой; его преклонение перед памятью славного полководца безгранично. Медальоны с изображением Наполеона, его портреты, бюсты, картины густо рассыпаны по всему имению. В течение первого месяца нашей жизни в этом доме мы постоянно, к нашему огорчению, сваливали Наполеона: стоило нам притронуться к полке в темном углу, как Наполеон непременно падал с шумом наземь; всякий раз, когда мы открывали дверь, все Наполеоны в доме сотрясались до основания. Однако г. Лойаль вовсе не такой человек, который строит воздушные замки, или, как он сказал бы на французский лад, "замки в Испании". У него необыкновенно дельные, изобретательные, умелые и ловкие глаза и руки. Его дома восхитительны. Он сочетает французскую элегантность и английский комфорт по-своему, оригинально и очень удачно. У него необыкновенный талант превращать в маленькие уютные спальни такие уголки под крышей, которые англичанин так же не подумал бы приспособить под нечто полезное, как не подумал бы обжить пустыню. Мы сами блаженно почивали в элегантной комнате постройки г. Лойаля, где наша голова покоилась так близко к кухонной трубе, как, вероятно, еще ни одна голова джентльмена, если он не трубочист по профессии. И в какой бы странный уголок ни проник гений г. Лойаля, он неизменно создает там стенной шкаф и вешалку. В каждом из наших домов мы могли бы упрятать в шкафы и повесить на гвоздики вещевые мешки и шляпы целого отряда гидов. В свое время г. Лойаль был местным купцом. С каким бы торговцем вы ни заключали сделку в этом городе, стоит показать ему свою карточку с адресом "у г. Лойаля", и лицо торговца сейчас же станет приветливее. Мы не думаем, что есть, или был когда-либо, или будет когда-нибудь человек, столь приятный по всеобщему признанию, каков г. Лойаль в общем мнении всех граждан нашего французского курорта. Они потирают руки и улыбаются, когда говорят о нем. О, какая это добрая душа, какой славный малый. Какое великодушное сердце, этот г. Лойаль! Это истинная правда. Г. Лойаль по природе джентльмен. Он обрабатывает свою землю собственными руками (с помощью одного невзрачного крестьянина, с которым то и дело случаются припадки); он копает и роет с утра до вечера, до седьмого пота, — "всегда трудится", как он говорит; но пусть он покрыт пылью, грязью, травой, водой и какими угодно пятнами, — они не могут скрыть в г. Лойале джентльмена. Это статный, прямой, широкоплечий, загорелый человек, который кажется еще выше благодаря бравой солдатской выправке; посмотрите в живые глаза г. Лойаля, когда он стоит перед вами в рабочей блузе и шапке, не очень чисто выбритый и сильно выпачканный в земле, и вы непременно различите в г. Лойале джентльмена, для которого вежливость есть нечто врожденное, и покраснеете при мысли о том, чтобы можно было бы потребовать от него расписки в подтверждение данного им слова. Нетрудно поверить г. Лойалю, когда он рассказывает вам в своей веселой и бойкой манере, как он ездил в Фулем, близ Лондона, чтобы купить те многие сотни деревьев, которые мы видим сейчас в его имении, — тогда еще голом, безлесном холме; как он прожил в Фулеме три месяца; как весело проводил вечера с садоводами; как на прощание его чествовали банкетом, и все садоводы встали как один человек, разом чокнулись стаканами (как это принято в Фулеме) и воскликнули: "Да здравствует Лойаль!" У г. Лойаля есть славная супруга, но нет детей; и он любит играть с детьми своих постояльцев в военные учения, бегать с ними взапуски и вообще готов делать с ними и для них все, что может делать хороший и сердечный человек. У него очень общительный характер, а его гостеприимство беспредельно. Поставьте у него солдата на постой, и он будет в восторге. Тридцать пять солдат находились у г. Лойаля на постое этим летом, и все они за два дня очень потолстели и посвежели в лице. Уже стало известно в войсках, что тот, кто попал к г. Лойалю на постой, "как сыр в масле катается"; и счастливец, которому выпадало по жребию идти к г. Лойалю, всегда подпрыгивал от радости, хотя бы и при полной воинской выкладке. Г. Лойаль никогда не потерпит в своем присутствии ничего такого, что задевало бы в каком-нибудь смысле военную профессию. Мы заметили ему как-то, что у нас иногда возникают смутные сомнения насчет того, хватает ли солдату одного су в день в качестве карманных денег на табак, чулки, питье, стирку и все прочие человеческие удовольствия. "Пардон! — сказал г. Лойаль, несколько омрачившись. — Это, конечно, не богатство, но — а la bonne heure[207] — это лучше, чем было когда-то". "Что, — спросили мы его в другом случае, — должны местные крестьяне, которые живут с семьей в одной комнате и обязаны через ночь брать на постой по одному солдату (а то и двоих), — что еще они должны давать этим солдатам?" — "Помилуйте! — сказал неохотно г. Лойаль — постель, мсье, и огонька, чтобы сварить что-нибудь, ну и свечу. И они делят свой ужин с этими солдатами. Не станут же они ужинать отдельно". — "А что они получают за это?" — спросили мы. Г. Лойаль стал как бы выше ростом, отступил на шаг, положил руку на грудь и сказал величественно, от своего имени и от имени всей Франции: "Мсье, это вклад в общее государственное дело". Дождя никогда не будет, если верить г. Лойалю. Когда уже невозможно отрицать, что дождь льет как из ведра, он говорит, что зато завтра будет ясная — очаровательная — великолепная погода. В его имении никогда не бывает жарко, утверждает он. И точно так же, никогда у него не бывает холодно. Цветы, говорит он, в восторге от того, что могут здесь расти; утро сегодня райское; сад похож на эдемский сад. Он несколько затейлив в своей речи. Когда мадам Лойаль уходит к вечерне, г. Лойаль с улыбкой замечает, что "она ушла спасать душу" — alle a son salut. Он очень любит курить, но ничто не заставит его курить в присутствии дамы. Его коротенькая черная трубочка сейчас же отправляется в нагрудный карман, прожигает ему дыру в блузе и чуть не поджигает его самого. В муниципальном совете и в других торжественных случаях он появляется в черной паре, с жилетом потрясающей ширины и в воротничке легендарных размеров. Славный г. Лойаль! Под блузой или жилетом бьется одно из самых благородных сердец той нации, которая так богата благородными людьми. Он знал поражения, но оставался на высоте при всех обстоятельствах. Не только тогда, когда, в фулемские времена, заблудился однажды ночью и какой-то негодяй англичанин, пообещав проводить его домой, водил его с собой во все ночные трактиры, в каждом из них пил "арфанарф"[208] за его счет и в конце концов сбежал, бросив его, совершенно беспомощного, на "Клифиуэй", которое, очевидно, было не чем иным, как Рэтклифской дорогой, но и в других, более серьезных случаях. Когда-то давно семья, состоявшая из матери и детей, оставалась без денег в одном из его домов целый год. У г. Лойаля — а он совсем не так богат, как мы хотели бы, — не хватало духу сказать им: "Уходите!". Так они и жили, и приходилось отказывать тем нанимателям, которые могли бы аккуратно платить. Наконец им все-таки помогли отплыть домой. Г. Лойаль расцеловал всех членов этого семейства и сказал: "Прощайте, мои бедные дети!", а потом уселся в опустевшей гостиной и закурил свою трубку мира. "А квартирная плата, г. Лойаль?" — "Ну, и что же? Квартирная плата!" Г. Лойаль качает головой. "Le bon Dieu"[209], — говорит г. Лойаль, — вознаградит меня за это"; и он смеется и покуривает свою трубку мира. Пусть же он курит эту трубочку в своем имении, в ожидании загробной награды, еще пятьдесят лет! На нашем французском курорте есть и общественные развлечения, а то какой бы это был французский курорт? Они пользуются всеобщим признанием и очень дешевы. Купанье в море — а оно может считаться самым любимым дневным развлечением, ибо французские посетители купаются в течение всего дня и очень редко, по-видимому, находятся в воде менее часа каждый раз поразительно дешево. Омнибусы подвозят вас, если вам это угодно, из соответствующей части города к берегу моря и доставляют обратно; в вашем распоряжении чистая и удобная купальная кабинка, платье, белье и все приспособления; и за все это взимается полфранка, или пять пенсов. На пристани обычно есть гитара, которая отважно пытается своим треньканьем перекрыть свирепый гул моря, и всегда есть какой-нибудь мальчик или женщина без голоса, которые поют песенки без мелодии; песня, которую нам приходилось чаще всего слышать, представляла собой призыв К "охотнику" не губить лучшую дичь — ласточку. Для купаний есть еще заведение, организованное на паевых началах, с эспланадой, по которой слоняются люди с подзорными трубками в руках; они как будто очень утомляются за свои деньги; есть также ассоциация индивидуальных владельцев кабинок, которые объединились в борьбе с грозным противником. Одним из таких является г. Лют, наш личный друг по купальной линии. Откуда взялась у него эта фамилия, непостижимо. Он такой же благородный и вежливый господин, как сам г. Лойаль Девассер; к тому же, невероятно тучный и очень жизнерадостный на вид. Г. Лют спас столько утопающих и получил за это столько наград, что его тучность как будто специально предусмотрена Провидением, чтобы он мог носить на себе эти медали; если б его объемы были объемами обыкновенного человека, он, конечно, не мог бы навесить их на себя все сразу. Но г. Лют выставляет напоказ свои знаки отличия только в особых случаях. В остальные дни они лежат, вместе со свертками грамот, указывающих, за что они были присуждены, в большом стеклянном ящике в гостиной его личной резиденции на берегу, где стоит также красный диван и где г. Лют хранит, кроме того, семейные портреты, портреты его собственной особы в купальной деятельности и в личной жизни, игрушечные лодочки, которые, при помощи часового механизма, мерно покачиваются взад-вперед, и другие сокровища. Далее, у нас есть удобный и веселый театр — вернее, был, потому что он сгорел. Перед оперой там всегда шел водевиль, и в нем (как водится) все, вплоть до маленького старичка в широкополой шляпе, с тросточкой и кисточкой, который играл либо Дядюшку, либо Папочку, неожиданно перескакивали от диалога к нежнейшим песенкам, чем приводили в замешательство непривычных к Этому приезжих из Англии, которые никак не могли разобрать, когда они поют и когда разговаривают, — впрочем, это и было почти то же самое. Но больше всего мы обязаны по части развлечений Благотворительному обществу, которое работает все лето, а выручку отдает беднякам. Некоторые из самых привлекательных fetes[210], которые оно устраивает, "Посвящены детям", как указывается в объявлении; и замечательно, с каким вкусом маленькую огороженную площадку превращают в элегантный, красиво освещенный сад, с какой сердечностью и энергией члены общества лично руководят детскими увеселениями. За пять пенсов с головы мы имеем здесь ослиные бега с английскими "жокеями" и другие деревенские развлечения; лотереи, в которых разыгрываются игрушки; карусели, танцы на лужайке под великолепный оркестр, огненные шары и фейерверк. Кроме того, почти еженедельно в течение всего лета — ну, а по каким дням недели, неважно устраивается fetes (называемая в этой части страны — ducasse) в какой-нибудь соседней деревне, и на этой ducasse народ — настоящий народ — танцует на зеленой траве под открытым небом, вокруг маленького оркестра, который и сам как будто танцует — столько здесь развевающихся на ветру флагов и лент. Нам думается, что от Жаркого пояса до Северного полюса не найти танцоров с такими удивительно гибкими ногами, снабженных столькими суставами в неположенных и неизвестных профессору Оуэну местах, как те, которые здесь резвятся. Иногда fetes устраивается людьми определенной профессии; и вы можете увидеть — на объединенной ducasse модисток и портних — веселых молодых женщин, так искусно превращающих обыкновенные и дешевые вещи в необыкновенные и изящные, при помощи здравого смысла и хорошего вкуса, что это может послужить полезным уроком всем слоям общества на некоем острове, который я мог бы назвать. Самая удивительная особенность этих прелестных представлений — непрерывная карусель; на деревянных конях этой машины взрослые люди всех возрастов без конца кружатся с величайшей торжественностью, а в центре круга жена владельца вращает ручку шарманки, способной играть только один мотив. Что до пансионов нашего французского курорта, то имя им — легион, и они потребовали бы отдельного трактата. Не без чувства национальной гордости мы отмечаем, что в них встречается больше скучных людей с берегов Альбиона, чем во всех клубах Лондона. Когда вы осторожно проходите где-нибудь поблизости, самые шарфы и шляпы ваших пожилых соотечественников кричат вам с мостовой: "Берегись! Мы нагоняем скуку!". Нам никогда не приходилось слышать на уличных перекрестках обрывки таких идиотских политических и общественных споров, какие можно услышать среди наших дорогих соотечественников. Они верят во все невозможное и не верят ничему из того, что есть правда. Они переносят слухи, задают вопросы и дают друг другу такие разъяснения и уточнения, которые потрясают нормальный человеческий разум. И все они то и дело бегают в Английскую библиотеку, где задают милейшей директрисе этого учреждений такие непостижимые загадки, что мы позволяем себе рекомендовать эту женщину милостивому вниманию ее величества в качестве достойной кандидатки на пенсию. Англичане составляют значительную часть населения нашего французского курорта, и к ним проявляют заслуженное уважение. Некоторые из форм обращения к ним, правда, довольно странны, как, например, когда прачка вывешивает на стене своего дома объявление, оповещающее, что она обладает необыкновенным английским инструментом — "mingle"[211], или когда трактирщик предлагает все необходимые приспособления для знаменитой английской игры "Nokemdon"[212]. Но для нас немаловажным достоинством нашего французского курорта является то, что здесь длительное и постоянное общение двух великих наций научило каждую из них уважать другую, учиться друг у друга и стать выше тех предрассудков, которые еще живы среди неумных и невежественных людей в обеих странах в равной мере. Разумеется, барабанный бой и звуки фанфар никогда не затихают на нашем французском курорте. Флаги вывешиваются непрерывно. Но мы с удовольствием признаемся, что считаем флаг весьма привлекательным предметом и от всего сердца радуемся этим внешним знакам безобидного веселья. Люди здесь, и в городе и в деревне, — дельные люди, которые упорно работают; они трезвы, умеренны, добродушны, жизнерадостны и, чаще всего, подкупают своими манерами. Сколько-нибудь справедливый человек, если только он не слишком желчен от природы, не мог бы наблюдать их, когда они веселятся на досуге, и не проникнуться уважением к людям, которые так легко, так невинно и так просто радуются жизни.
ПРИНЦ БЫК [213] (Сказка)
В былые времена и в золотой, разумеется, век — а когда он был, вы, надеюсь, знаете, потому что сам я, скажу вам прямо, не знаю, хотя всячески старался разузнать, — жил да был в одной богатой, изобильной стране могущественный принц по имени Бык. В свое время он много воевал за что ни придется, а то и вовсе ни за что; но потом остепенился и стал мирным, добрым, дородным и немного сонливым принцем. Этот всесильный принц женился на очаровательной принцессе по имени Прекрасная Свобода. Она принесла ему большое богатство, и народила несчетное множество детей, и приставила их ко всякого рода занятиям: кто сделался у нее ткачом, кто земледельцем, кто механиком, кто солдатом или матросом, кто врачом, юристом или проповедником. Сундуки у принца Быка были набиты сокровищами, погреба полны были тонких вин со всех концов земли, в шкафах у него сверкала богатейшая золотая и серебряная посуда, его сыновья были сильны, дочери красивы, — словом, вы могли бы подумать, что если жил когда на свете счастливый и удачливый принц, то уж наверно он звался принц Бык и никак не иначе. Но не всегда, как мы знаем, можно полагаться на видимость, далеко не всегда. И если видимость привела вас к такому суждению о принце Быке, то, значит, она и вас обманула, как не раз обманывала меня. Потому что у доброго принца были два острых шипа в подушке, две твердых шишки в короне, два свинцовых груза на душе, два неугомонных кошмара в ночные часы, две скалы поперек пути: он никак не мог подобрать себе подходящих слуг, и у него была крестной матерью властная старуха, по имени Под-сук-но. Она была фея, эта Под-сук-но, и вся была перевита красной тесьмой[214]. Она была омерзительно чопорна и церемонна и никогда не могла хоть на волос наклониться в ту или другую сторону своим от природы скрюченным станом. Но это была очень могущественная злая фея. Самое быстрое в мире она могла остановить, могла самое сильное превратить в самое слабое и самое полезное в самое бесполезное. Ей стоило лишь наложить свою холодную руку и назвать свое имя: "Под-сук-но". И все тотчас увядало. При дворе принца Быка — я, впрочем, говорю не о дворе в буквальном смысле слова, потому что принц был очень учтив и охотно подчинялся своей крестной матери, когда та, бывало, займет весь дворец для потомственных лордов и леди, — словом, во владениях принца Быка, среди огромной массы общества, которая на языке той вежливой страны именовалась знатью и чернью, было немало даровитых людей, вечно хлопотавших над тем или другим изобретением в целях поднять благосостояние подданных принца и усилить его могущество. Но всякий раз, как они предъявляли свои образцы на одобрение принца, выступала вперед его крестная мать, налагала на образцы свою руку и произносила: "Под-сук-но!" А потому повелось, что, если делалось особенно хорошее открытие, изобретатель обычно отвозил его в чужие края к другому принцу, не имевшему крестной матери, которая говорила бы "Под-сук-но!". Такое положение дел было, как я посужу, не очень-то выгодно для принца Быка. С годами — и это было хуже всего — принц Бык оказался в полном подчинении у своей нехорошей крестной матери и уже не делал сколько-нибудь серьезных усилий, чтоб освободиться от ее тирании. Я сказал, что это было хуже всего, но тут я погрешил против истины, потому что отсюда возникло вдобавок еще одно последствие, самое скверное. Многочисленному семейству принца так надоела, так опротивела Под-сук-но, что там, где надо было бы помочь государю выпутаться из трудностей, в которые ввергала его эта злая фея, все они усвоили себе опасное обыкновение брюзгливо и равнодушно отстраняться от него — как будто начисто забыв, что никакое зло не может постичь их отца, не отразившись неизбежно и на них самих. Так сложились дела при дворе принца Быка, когда этот великий государь почел необходимым пойти войной на принца Медведя. Между тем с некоторых пор он поглядывал с опаской на своих слуг, которые не только стали нерадивы и предались личному обогащению за счет его казны, но еще и взяли над ним страшную власть: они грозились уволиться, если их изобличали в малейшей погрешности; они уверяли, что проделывают огромную работу, когда не делали ровным счетом ничего; произносили от имени принца самые бессмысленные речи, какие только слышал свет, — словом, все, как есть, показывали себя поистине никуда не годными слугами; хотя иные из них — ничего не скажешь — предъявили превосходную рекомендацию с прежней службы. Так вот, принц Бык созвал своих слуг и сказал им всем: — Высылайте мою армию против принца Медведя. Оденьте ее, вооружите, кормите, снабжайте всем, что нужно или что потребуется вдруг — я плачу за все! Выполняйте ваш долг перед моими храбрыми солдатами, — сказал принц, выполняйте хорошенько, а золото мое пусть течет, как вода, в покрытие расходов. Разве слышал кто, чтобы я жалел когда-нибудь деньги на доброе дело! Он с полным правом мог это сказать, так как слыл поистине благородным и щедрым государем. Когда слуги услышали эти слова, они выслали армию против принца Медведя и засадили за работу армейских швецов, и армейских купцов — поставщиков провианта; и оружейников — изготовителей пушек и ружей, и мастеров, что делают порох, и тех, что льют пули, и тех, что делают ядра и гранаты; и накупили они всевозможного довольствия и кораблей, не смущаясь ценой, и, казалось, так были заняты, что добрый принц потирал руки и приговаривал (употребим его излюбленное выражение): "Вот и хорошо!" Но пока они хлопотали, государева крестная мать, к которой эти слуги были весьма расположены, неотступно наблюдала за ними с утра до ночи; и бывало, просунет она голову в дверь и спросит: "Как поживаете, деточки? О чем вы тут хлопочете?", а те в ответ: "О государственном деле, крестная!" — "Ого! отзовется злая фея. — Под-сук-но!" И тогда вся работа шла вкривь и вкось, а в голове у государевых слуг так начинало мутиться, что они воображали, будто творят чудеса. Такое поведение со стороны старой негодницы было куда как дурно, и ее бы следовало удавить, даже если бы она на этом и остановилась. Но она, как вы узнаете, на этом не остановилась. Ибо многие подданные государя, очень любившие государево войско — ведь оно состояло из самых храбрых людей! собрались и наготовили сообща всяческих припасов — еды и питья, и книг для чтения, и одежды для носки, и табаку на курево, и свечей для освещения, и все это заколотили в большущие ящики и погрузили на множество кораблей чтобы доставить этому храброму войску в холодную, суровую страну, где оно сражалось с принцем Медведем. Корабли уже снимались с якоря, как вдруг подходит злая фея и говорит: — Как поживаете, деточки? О чем вы тут хлопочете? — Мы, крестная, собрались везти все это добро войскам. — Ого! — говорит фея, — счастливого пути, дорогие мои! Под-сук-но! С того часу заколдованные эти корабли пошли без толку носиться по волнам — наперекор и ветру, и течению, и разуму; гоняло их по всем морям, и стоило им пристать в какой-нибудь гавани, как выходил им приказ немедленно отчаливать. Так и не довелось им сдать куда ни на есть свой груз. Такое поведение со стороны старой негодницы было опять-таки куда как дурно, и ее бы следовало удавить, даже если бы она не сделала ничего похуже; но она, как вы узнаете, сделала кое-что и похуже того. А именно, она села верхом на канцелярскую метлу и, бормоча, как заклятие, две фразы — "служу ее величеству" и "честь имею, сэр, быть вашим покорным слугой", вскоре спешилась в холодной, суровой стране, где высадилось войско принца Быка, чтобы сразиться с войском принца Медведя. В той стране на морском берегу она увидела много навезенных туда домов — чтобы войску было где жить, и горы провизии — чтобы войску было чем питаться, и горы одежды — чтобы войску было во что одеться; и тут же сидела на грязной земле и глядела на все это добро кучка офицеров, так же обвитых красной тесьмой, как сама старая злючка. Тут она обратилась к одному из них: — Кто вы, милок, и как вы поживаете? — Я — управление генерал-квартирмейстера, крестная матушка, и чувствую себя недурно. Потом она обратилась к другому: — А вы кто, милок, и как вы поживаете? — Я, крестная матушка, — интендантство, и чувствую себя очень недурно. Потом она обратилась еще к одному: — А кто вы, милок, и как поживаете? — Я, крестная матушка, — медицинская часть, и чувствую себя очень даже недурно. Затем она обратилась к нескольким джентльменам, надушенным лавандой и державшимся на большом расстоянии от других. — А вы кто такие, красавчики мои, и как же вы поживаете? И они ответили: — Мы? О! Мы уп'авление г'авного штаба, к'естная, и мы чувствуем себя п'евосходно! — Я очень рада видеть вас всех, любезные вы мои, — сказала злая старая фея. — Под-сук-но! Сказала, и провиант, одежда, дома — все пошло прахом; и те солдаты, что были здоровы, захворали; а те, что были больны, умерли жалкой смертью; и доблестная армия принца Быка погибла. Когда принцу принесли горестную весть о его великой потере, у него, сказать по правде, возникли сильные подозрения на крестную; но он знал, что и слуги его были, конечно, заодно со зловредной старухой и сделала она свое дело с их попустительства, а потому он решил уволить всех слуг от их должностей. Итак, он призвал к себе оленя, обладавшего даром речи, и сказал: — Добрый олень, скажи им, что они должны уйти. Добрый олень передал слова короля так по-человечьи, что вы бы его приняли не иначе как за человека, и слуги были уволены, — но только их заранее об этом предупредили, потому как они прослужили долгий срок. Вот тут-то и начинается самая необычайная часть в истории этого принца. Поскольку он уволил старых слуг, ему, понятно, понадобились новые. Каково же было его удивление, когда он узнал, что во всех его владениях, где было свыше двадцати семи миллионов жителей, имелось общим счетом не более двадцати пяти слуг! И так они по этой причине заважничали, что не рассуждали о том, стоит ли наниматься на службу к принцу Быку, а вывернули дело шиворот-навыворот и раздумывали, стоит ли еще оказывать такую милость принцу и нанять его своим хозяином! Пока они неторопливо обсуждали между собой этот вопрос, злая старая фея, перевитая красной тесьмой, неустанно обивала пороги у двенадцати старейших из двадцати пяти — а были они и старейшими из жителей страны, им было, если сложить их годы, около тысячи лет, — и спрашивала: "Вы хотите нанять хозяином принца Быка?.. А вы хотите нанять хозяином принца Быка?.." На что один отвечал: "Хочу, если хочет сосед", а другой: "Не хочу, если хочет тот, что живет через улицу", а третий: "Не могу, если тот или та или те могут или не могут, хотят или не хотят". А тем временем дела у принца Быка шли так, что хуже некуда. Наконец принц Бык, уже совсем не зная, что начать, сделал умное лицо, как будто бы его осенила совершенно новая мысль. А злая старая фея, только она это увидела, тут же берет его за локоток и говорит: — Как поживаете, мой принц, и о чем это вы думаете? — Я, крестная матушка, думаю о том, что среди двадцати семи миллионов моих подданных, никогда не состоявших у меня на службе, есть умные и дельные люди, благодаря которым я прославился и среди своих друзей и среди врагов. — В самом деле? — говорит фея. — В самом деле! — говорит принц. — Ну и что? — говорит фея. — А то, — говорит принц, — что если старое установленное сословие слуг ведет себя так плохо, если их так трудно нанимать и они так при этом задаются, так уж не следует ли мне набрать себе хороших слуг из тех людей? Едва слетели с его губ эти слова, как фея со смешком возразила: — Вы так думаете? Да, мой принц? Под-сук-но! И он тут же позабыл, что придумал, и стал жалобно звать своих старых слуг: — Ох, придите и наймите вашего бедного старого хозяина! Умоляю! На любых условиях! На этом пока заканчивается история принца Быка. Хотел бы я заключить ее словами, что с той поры он зажил счастливо, но, по совести, я не могу этого сказать; потому что, раз бок о бок с ним — фея Под-сук-но, а дети стали для него чужими и фея хоть убей не дает им к нему подступиться, — я, по правде говоря, просто не верю в возможность такого конца.
ОТДЫХ ОТ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ
Когда я сижу за книгами и бумагами в яркое сентябрьское утро, у открытого окна на вершине утеса, нависшего над морем, небо и океан встают передо мной как прекрасная картина в раме. Прекрасная картина — но с таким внутренним движением, с такой изменчивой игрой света на парусах кораблей и в кильватере пароходов, с такими ослепительными серебряными вспышками где-то далеко в море, такими необыкновенными бликами на кудрявых гребешках волн, когда они разбиваются о прибрежные камни и подкатываются ко мне, — картина, где слышна музыка шуршащей по гальке воды, шелест утреннего ветерка, который теребит снопы колосьев там, где копошатся у своих фургонов фермеры, пение жаворонков, гомон играющих где-то вдалеке детей — картина, полная такого очарования для зрения и слуха, о какой все картинные галереи мира могут дать только самое бледное представление. Шепот моря под моим окном навевает грезы, и мне кажется, будто я сижу здесь уже целое столетие. Не то, чтоб я состарился; каждый день на окрестных лужайках и заросших травой пригорках я убеждаюсь, что могу еще пройти почти любое расстояние, перепрыгнуть через что угодно и взобраться куда угодно; но я привык грезить под шум океана, а остальные факты реальной жизни, видимо, уплыли на кораблях куда-то далеко за горизонт: и вот, как бы я ни пытался это опровергнуть, я оказываюсь заколдованным королевским сыном, и меня заперли в башне у берега моря, чтобы укрыть от старой колдуньи, пожелавшей во что бы то ни стало быть моей крестной и предсказавшей мне еще в купели поразительное существо! — что я попаду в беду, прежде чем мне исполнится двадцать один год. Я вспоминаю, что жил в городе (во владениях моего августейшего отца, надо думать), и даже не очень давно, и город этот был тогда в самом прискорбном состоянии. Главные его обитатели были все превращены в старые газеты и в таком виде защищали оконные шторы от пыли, а наиболее ценное домашнее имущество было обернуто в папильотки. Я шагал по мрачным улицам, где все дома были заперты и заклеены старыми газетами и где мои одинокие шаги гулко отдавались на опустелых тротуарах. На городских проездах не было ни карет, ни лошадей — ничего живого, кроме нескольких сонных полисменов и нескольких предприимчивых мальчишек, которые пользовались всеобщим запустением, чтобы лазить на фонарные столбы. В западных районах не было движения; в лавках западных районов не было торговли. Водяные знаки, которыми мальчишки-поливальщики рано утром изукрасили мостовую, так и оставались нестертыми человеческой ногой. Возле конюшен расхаживали одичалые и страшные кохинхинские куры; как видно, в опустевшем городе не осталось никого, кто бы мог их кормить. В пивных, куда обычно подъезжали угощаться величавые лакеи, восседавшие, свесив ноги, на роскошных козлах, рядом с кучерами в париках, теперь было пусто и тихо, а оловянные кружки так блестели на полках, что никакой выпивки тут явно не было. Я видел балаган Панча, который прислонился к стене близ Парк-лейн как бы в обмороке. Он тоже был всеми покинут, и некому было даже увидеть его в этом печальном запустении. В Белгрейв-сквере я встретил последнего уцелевшего человека — конюха; он сидел на тумбе в рваном красном жилете, ел солому и плесневел от безделья. Если я верно припоминаю название городка, у берегов которого шепчется это море, — но сейчас на меня ни в чем нельзя полагаться, как я уже отмечал выше, — то называется он Павильонстон. Еще четверть века назад он представлял собой маленький рыбацкий поселок, а люди говорят, что было и такое время, когда это был поселок контрабандистов. Я слыхал, что он славился голландским джином и бренди и что в те времена жизнь фонарщика низко котировалась в страховых компаниях. Было замечено, что если фонарщик не очень усердно зажигал фонари, он жил спокойно; если же он старался поярче осветить масляными фонарями крутые и узкие улички, он обычно сваливался с утеса в море еще в расцвете лет. Сейчас газ и электричество проведены до самой кромки воды, и Юго-Восточная железнодорожная компания тревожит своими гудками самую глухую ночь. Но старый рыбацкий и контрабандистский городок сохранился и сейчас, и он настолько соблазнителен в этом отношении, что я собираюсь выйти как-нибудь ночью на будущей неделе, в меховой шапке, широких штанах и с пустым бочонком — на своего рода археологические изыскания. Пусть никто из тех, у кого есть мозоли, не приезжает в Павильонстон, потому что здесь есть крутые лестницы со сбитыми ступеньками, соединяющие между собой главные улицы; они сделают нового посетителя калекой в какие-нибудь полчаса. По этим переулкам я и убегу со своим бочонком. Угол одного из них я превращу в Фермопилы и буду с ножом в руках защищать этот проход от таможенников, чтобы дать спастись моим храбрым товарищам, а затем нырну в темноту и вернусь в объятия моей Сьюзен. Раз уж я заговорил об этих опасных ступеньках, отмечу, что здесь есть деревянные коттеджи с покатыми пристройками и задними двориками площадью в девять квадратных футов, украшенные гирляндами сушеной рыбы; в одном из этих коттеджей и живет (хотя Департамент охраны здоровья мог бы возражать против этого) моя Сьюзен. Юго-Восточная компания с ее поездами, которые приходят точно к часу океанского прилива, и ее великолепными паровыми пакетботами, принесла Павильонстону такую известность, что сейчас уже растет новый Павильонстон. Я и сам из нового Павильонстона. Мы сейчас немного перемазаны известью и глиной, но строимся вовсю. Мы строимся так быстро, что, пожалуй, несколько перестарались и построили целую улицу лавок, в которых торговля развернется, можно думать, только лет через десять. Мы, в общем, распланированы довольно разумно; еще немного усердия и упорства (а в этом никак не было недостатка до сих пор), и мы станем очень красивым местом. Должны стать, — потому что местоположение городка великолепное, воздух здесь восхитительный, а наши прохладные холмы и луга, покрытые сплошным ковром дикого тмина и украшенные миллионами полевых цветов, если верить нашим пешеходам, бесподобны. В новом Павильонстоне мы, пожалуй, немного злоупотребляем маленькими окнами, в которых больше кирпича, чем стекла: мы не слишком изобретательны по части отделки, и порой перед нами открываются неожиданные виды на море — через щели в входных дверях; в общем, все же, у нас уютно и комфортабельно, и уже имеются достаточные удобства. Но министр внутренних дел (если есть такой чиновник) должен бы очень поторопиться закрыть кладбище у старой приходской церкви. Оно находится в самом центре нашего города, и ничего не будет хорошего для Павильонстона, если оно там останется на слишком долгое время. Гордость Павильонстона — его Большой отель. Еще лет десять назад, когда вы ехали в Париж на специальном пароходе Юго-Восточной компании, вас обычно ссаживали на платформе у магистрали Павильонстонской станции (тогда еще не узловой) в одиннадцать часов темным зимним вечером, при резком ветре; в безлюдной пустыне за станцией ждал маленький омнибус, где вас хлопало по лбу дверью, как только вы входили, и никто на вас не обращал внимания, и вы были один на всем свете. Вы долго подпрыгивали по бесконечным меловым кочкам, пока вас не высаживали у необыкновенного строения, которое только что перестало быть хлевом, но еще не стало по-настоящему домом, где никто вас не ждал и никто не знал, что с вами делать, когда вы приезжали, и где вас долго носило по комнатам, пока не приносило каким-нибудь чудом к холодной говядине и, наконец, к постели. В пять утра вас выносило из постели; после убогого завтрака в очень помятой компании, среди всеобщего смятения, вас несло на борт парохода, и там вы лежали в жалком положении на палубе, пока за бугшпритом не встанет Франция и не запляшет на волне, усиленно кивая вам. Сейчас вы добираетесь в Павильонстон свободно и легко и ни за что не должны отвечать, доверившись целиком Юго-Восточной компании до той минуты, когда выходите из железнодорожного вагона, точно при высшей отметке прилива. Если вы намерены сразу совершить переезд на судне, вы должны только подняться на борт и быть там счастливым — если можете: я, например, не могу. Если же вы направляетесь в наш Большой Павильонстонский отель, самые бойкие носильщики, какие только есть под солнцем, с такими веселыми лицами, что это уже само по себе доброе приветствие, подхватывают ваш багаж на плечи, откатывают его в вагонетках, увозят его на тележках, все время наслаждаясь своей атлетической с ним игрой. Если вы склонны вести в Павильонстонском отеле светскую жизнь, вы вступаете в это заведение как в свой собственный клуб; и обнаруживаете, что для вас уже готовы газетная комната, столовая, курительная, бильярдная, музыкальный салон, общий завтрак, общий обед дважды в день (один скромный, другой парадный), горячие ванны и холодные ванны. Если хотите поскучать, скучные люди найдутся в изобилии; с субботы до понедельника в особенности на вас могут (если вы захотите) нагнать основательную скуку. Если же вы захотите жить уединенно в нашем Большом Павильонстонском отеле, скажите только слово, загляните в прейскурант, выберите себе этаж, выберите цену — и, пожалуйста, поселяйтесь в своем замке на день, на неделю, на месяц или на год, не ведая никаких приезжающих и отъезжающих, если только у вас нет, как у меня, склонности проходить рано утром по аллее из сапог и башмаков, которые до завтрака так исправно пребывают в полном блеске у всех комнатных дверей, что, по моему впечатлению, никто никогда не встает, чтобы забрать их внутрь. Быть может, вы собираетесь совершить переход через Альпы и хотите попрактиковаться в итальянском языке в нашем Большом Павильонстонском отеле? Обратитесь к управляющему — он всегда разговорчив, любезен и обладает всевозможными талантами. Или вам нужна помощь, содействие, успокоение, совет в нашем Большом Павильонстонском отеле? Пошлите за славным хозяином, и вот он уже ваш друг. Если случится вам или кому-нибудь из ваших когда-либо заболеть в нашем Большом Павильонстонском отеле, вы не скоро забудете его или его любезную супругу. А когда вы будете платить по счету в нашем Большом Павильонстонском отеле, ничто в нем не испортит вам настроения. Хороший постоялый двор во времена дилижансов и почтовых карет был очень достойным местом. Но никакой, даже самый лучший, постоялый двор не справится со своими обязанностями, когда надо принять ежедневно, в течение всего года, четыре или пять сотен человек, которые все промокли до костей, а половина смертельно измучена морской болезнью. Вот чем славен наш Большой Павильонстонский отель. И далее: кто в старомодной гостинице, в суматохе приездов и отъездов, качки и тряски, выйдя из вагона или сойдя с парохода, спеша приехать или торопясь уехать, мог бы подсчитать свои расходы? А в нашем Павильонстонском отеле нет такого слова, как расходы. Для вас все делается; за каждую услугу установлено определенное и умеренное вознаграждение; все цены вывешены во всех комнатах; и вы можете заранее написать себе счет так же точно, как бухгалтер. Если вы художник и хотели бы изучать за небольшие деньги физиономии и бороды разных наций, приезжайте, с получением сего, в Павильонстон. Вы найдете здесь представителей всех наций мира, все виды бритых и небритых физиономий, стриженых и отпущенных волос — все это непрерывным потоком проходит через наш отель. Курьеров вы увидите сотнями; толстые кожаные мешки дляпятифранковых монет, закрывающиеся с шумом выстрела, — тысячами; вы увидите больше багажа в одно утро, чем вся Европа, еще пятьдесят лет назад, могла увидеть за целую неделю. Наблюдать за поездами, пароходами, болеющими морской болезнью путешественниками и их багажом — это наше главное павильонстонское развлечение. По части других общественных увеселений мы не очень сильны. У нас есть литературное и научное общество, а также клуб для рабочих, и пусть он устраивает еще много-много летних праздников на поле, пусть у них кипит котелок, играет оркестр и танцует народ, и пусть я еще не раз на склоне холма буду с удовольствием наблюдать это приятное зрелище, слишком редкое в Англии! Есть еще две или три церкви и столько часовен, что я еще не успел их подсчитать. Но по части общественных развлечений у нас небогато. Если какой-нибудь мелкий антрепренер приедет со своей труппой, чтобы дать нам, в сенном сарае, представление ("Мэри Бакс, или Убийство на песчаных холмах"), мы его не очень привечаем: он у нас прогорает и спешит уехать. Нам больше нравятся восковые фигуры (особенно подвижные; в этом случае они не грозят нарушением второй заповеди)[215]. Цирк Кука (мистер Кук мой друг, и всегда оставляет по себе добрую память) дарит нам только один вечер проездом. Бродячий зверинец также не считает нас достойными более продолжительного визита. Он заглянул к нам недавно и привез жилой фургон с окнами из цветных стекол, который ее величество королева долго хранила в Виндзорском дворце, пока не нашла удобного случая передать его владельцу зверинца. С этого представления я унес пять недоуменных вопросов и с тех пор спрашиваю себя: привыкают ли звери когда-нибудь к этим тесным местам заключения; имеют ли обезьяны тот же ужасный запах, когда они на воле; наделены ли дикие звери от природы музыкальным слухом, и не по этой ли причине все четвероногие начинали вопить в отчаянии, как только вступал в дело оркестр; что делает жираф со своей шеей, когда его запирают в клетке; не испытывает ли слон стыда, когда его выводят из его логовища и заставляют стоять на голове в присутствии всей компании. Павильонстон становится гаванью только во время прилива, как, впрочем, я уже дал понять, когда говорил о специальных поездах. Во время отлива мы представляем собой кучу грязи с пустым каналом посредине, в котором всегда что-то копает и черпает пара мужчин в огромных сапогах — с какой, собственно, целью, я не мог бы вам объяснить. В это время все выброшенные на берег рыбачьи лодки валяются на боку как мертвые морские чудовища; угольные баржи и другие суда безнадежно увязают в грязи; пароходы имеют такой вид, точно их белые трубы уже никогда больше не будут дымить, а красные лопасти никогда не будут вращаться; зеленая морская слизь и водоросли на грубых камнях у входа кажутся памятниками древних приливов, которые уже никогда не вернутся; фалы на флагштоках поникают главой долу; свет маленького деревянного маяка теряется в ленивом сиянии солнца. Здесь я должен сказать о нашем маленьком деревянном маяке, что, когда он светится по ночам — красным и зеленым светом, — он так похож на фонарик у двери врача, что были случаи, когда обезумевшие мужья, поднятые по преждевременной домашней тревоге, кружили вокруг него, пытаясь найти ночной Звонок. Но как только начинается прилив, начинает оживать и павильонстонская гавань. Она слышит вздохи поднимающейся воды задолго до того, как приходит сама вода, и в ней сразу же начинается движение. Когда набегают первые маленькие волны, еще едва накатывающиеся одна на другую, флюгера на верхушках мачт пробуждаются и трепещут. По мере того как нарастает прилив, рыбачьи лодки приходят в хорошее настроение и начинают танцевать, флагшток поднимает ярко-красный флаг; пароход дымит, лебедки визжат, болтаются в воздухе лошади и кареты, появляются первые пассажиры с багажом. Вот уже все суда всплыли и бурно взыграли у пристани. Вагонетки, которые пришли сюда за углем, уже нагрузились доверху, пароход дымит вовсю и время от времени выдувает пар на гребной вал, как гигантский кит, чем приводит в чрезвычайное смятение нервных зевак. Вот уж поднялись и вода и ветер, и вам приходится придерживать шляпу на голове (если хотите увидеть, как дамы закрепляют свои шляпы китовым усом, приезжайте в Павильонстон!). Все в гавани бурлит, плещется, играет. Телеграф объявляет о специальном поезде из Лондона, и вы уже знаете, сами не зная — откуда, что прибывают двести восемьдесят семь человек. Рыбачьи лодки, которые уходили в море, входят в гавань на гребне прилива. Звонит колокол, свистит и шипит паровоз, плавно вкатывается поезд, и из него выскакивают, расталкивая друг друга, эти двести восемьдесят семь человек. Начинается не только морской, но и людской и багажный прилив — все это несется, течет и подпрыгивает. После бесконечной суматохи пароход отходит, и мы (на молу) бываем в восторге, когда его качает и валит на бок, и разочарованы, когда этого нет. Вот входит в гавань другой пароход; таможенники приготовились к встрече, собираются портовые рабочие, подбираются швартовы, и гостиничные носильщики спешат с грохочущими тележками и тачками, горя нетерпением начать новые Олимпийские игры с новыми партиями багажа. И так бывает у нас в Павильонстоне во время каждого прилива. И если вы хотите жить жизнью багажа или увидеть, как живут такой жизнью, или подышать упоительным воздухом, который нагоняет на вас сон в одну минуту в любой час дня и ночи, или размяться на море или в море, или побродить по Кенту или просто убежать из Лондона, чтобы насладиться всеми этими удовольствиями (или каким-нибудь одним из них), приезжайте в Павильонстон.
ОСТРОЛИСТ В трех ветках
ПЕРВАЯ ВЕТКА
Я сам
Всю жизнь я хранил одну тайну. Я застенчивый человек. Никто не заподозрит этого, никто не подозревает этого, никто никогда не подозревал этого, но все-таки я по натуре застенчив. Это и есть тайна, которой я не открывал до сих пор даже намеком. Я мог бы глубоко взволновать читателя рассказом о тех бесчисленных местах, куда я не попал, о тех бесчисленных людях, к которым не пришел в гости или которых не принял у себя, о тех бесчисленных случаях, когда уклонялся от приглашений и все — только потому, что я от рождения и по складу характера человек застенчивый. Но я не стану волновать читателя и приступлю к выполнению своего намерения. А намерен я дать безыскусственное описание своих путешествий, а также открытий, сделанных мною в гостинице "Остролист", где радушно встречают и людей и животных и где я однажды был занесен снегом. Это случилось в тот памятный год, когда я навеки расстался с Анджелой Лит, на которой вскоре должен был жениться, — а расстался я с ней, убедившись, что она предпочитает мне моего закадычного друга. Еще на школьной скамье я в глубине души признавал, что Эдвин гораздо лучше, чем я, и теперь, хотя сердце мое было жестоко уязвлено, я понял, почему Анджела предпочла его, а потому постарался простить их обоих. Тут-то я и решил отправиться в Америку, а оттуда… к черту на рога. Не сообщив о своем открытии ни Анджеле, ни Эдвину, но решив написать им по трогательному письму со своим благословением и прощением и отослать эти письма на почту с катером, который отойдет к берегу, в то время как сам я буду уже на пути в Новый Свет и вернуть меня будет невозможно, — иначе говоря, замкнув горе в своей груди и по мере сил черпая утешение в своем великодушии, я тайком покинул все, что мне было дорого, и тронулся в печальное путешествие, о котором уже говорил. Стояла самая глухая, темная зимняя пора, когда я в пять часов утра навсегда покинул свою квартиру. Брился я, разумеется, при свечах, очень озяб, и меня угнетало неодолимое чувство, будто я встал с постели, чтобы пойти на виселицу, — это чувство я неизменно испытываю, когда мне приходится вставать спозаранку в темное зимнее утро. Как ясно я помню, до чего унылый вид был у Флит-стрит, когда я вышел из Тэмпла! Пламя уличных фонарей трепещет на порывистом северо-восточном ветру, словно газ и тот корчится от холода; крыши домов побелели; звездное небо мрачно; рыночные торговцы и другие редкие ранние прохожие бегут рысцой, чтобы разогнать свою полузастывшую кровь; гостеприимный свет и тепло исходят из немногих кофеен и трактиров, открытых для подобных посетителей; жесткий, колючий снег (ветер уже забил им все щели) хлещет меня по лицу, как стальной хлыст. До конца месяца и до конца года оставалось девять дней. Почтовый пароход, направлявшийся в Соединенные Штаты, должен был выйти из Ливерпуля первого числа будущего месяца — если позволит погода, — и я мог располагать этими девятью днями по своему усмотрению. Я принял это во внимание и решил заехать в одно место (называть которое нет нужды) на отдаленной окраине Йоркшира. Оно было дорого мне, потому что именно там я впервые увидел Анджелу в одном фермерском доме, и я испытывал грустную радость при мысли о том, что зимой попрощаюсь с этим местом, перед тем как отправиться в изгнание. Признаюсь, мне не хотелось, чтобы меня начали искать раньше, чем я бесповоротно осуществлю свое намерение, поэтому я накануне отъезда написал Анджеле в обычном тоне, выразив сожаление, что срочное дело, все подробности которого она скоро узнает, неожиданно отрывает меня от нее на неделю или дней на десять. В то время Северная железная дорога еще не была построена, и ходили почтовые кареты, о которых я вместе с иными людьми теперь притворно грущу, но которых в те годы все боялись как огня. Я заказал себе место на козлах самой скорой кареты и вышел на Флит-стрит со своим чемоданом, чтобы сесть в кэб и добраться как можно быстрее до гостиницы "Павлин" в Излингтоне, откуда отходили почтовые кареты. Но когда один из наших тэмплских сторожей, который вынес мой чемодан на Флит-стрит, сказал мне, что огромные льдины, уже несколько дней плывшие по Темзе, за ночь примерзли друг к другу, и по ним можно перейти от садов Тэмпла на южный берег, я стал опасаться, как бы моя поездка на козлах в такой мороз не положила конец всем моим горестям. Что и говорить, сердце мое было разбито, но я еще не дошел до того, чтобы желать смерти от замерзания. Войдя в гостиницу "Павлин", где все проезжие из чувства самосохранения пили горячее пиво с сахаром, я спросил, нет ли свободного места внутри почтовой кареты. И тут узнал, что все равно, сяду ли я внутри или снаружи, но буду единственным пассажиром. Тогда я еще яснее понял, до чего плоха погода; ведь обычно в этой карете ехало особенно много публики. Однако я выпил стаканчик горячего пива (которое показалось мне необыкновенно вкусным) и сел в карету. Меня до пояса завалили соломой, и, сознавая, что вид у меня довольно нелепый, я тронулся в путь. Когда мы отъехали от "Павлина", было еще темно. Некоторое время по сторонам дороги появлялись и снова исчезали бледные, неясные призраки домов и деревьев, а потом наступил суровый, пасмурный морозный день. Люди растапливали камины, дым столбом поднимался в разреженном воздухе, а мы с грохотом катили к Хайгетской арке[216] по такой твердой земле, что мне казалось, будто я в жизни не слыхал, чтобы железные подковы стучали столь громко. Но вот мы выехали за город и увидели, что все вокруг нас — дороги, деревья, соломенные крыши домиков и усадебных строений, стога во дворах ферм — все как будто постарело и поседело. Работы на воздухе прекратились; на постоялых дворах в водопойных колодах замерзла вода; близ них не слонялись прохожие; двери были закрыты наглухо; в будках у застав ярко пылали огни, и дети (даже сборщики дорожных пошлин имеют детей и, видимо, любят их) — дети протирали пухлыми ручонками промерзшие стекла окошек, чтобы увидеть хоть одним блестящим глазком проезжающую мимо одинокую карету. Не помню, когда именно пошел снег, но помню, что, когда мы где-то меняли лошадей, кондуктор сказал: "Нынче старушка в небе что-то уж очень усердно ощипывает своих гусей". Тут я заметил, что так оно и есть: белый пух падает быстро и густо. Скучный день тянулся медленно, и весь этот день я дремал, как и полагается одинокому путешественнику. Я согревался и храбрился после еды и питья, особенно после обеда, — но все остальное время унывал и мерз. Я никак не мог понять, где мы едем и который теперь час, и вообще был, можно сказать, не в себе. Мне чудилось, будто карета и лошади все время, без передышки, поют хором "За счастье прежних дней"[217]. Они соблюдали ритм и выводили мелодию с величайшей точностью, а в начале припева ни разу не забыли усилить звук, что раздражало меня ужасно. Пока мы меняли лошадей, кондуктор и кучер прохаживались по дороге, притопывая ногами и оставляя отпечатки своих сапог на снегу, и вливали в себя столько утешения в жидком виде, не приносившего им ничего кроме пользы, что, когда снова стемнело, мне стало чудиться, будто это не кондуктор и кучер, а два огромных белых бочонка, поставленных стоймя. Иногда наши лошади спотыкались и падали — как нарочно всегда в безлюдных местах, — и мы поднимали их, что для меня было приятным развлечением, так как я за это время согревался. А снег шел, снег все шел и шел не переставая. Так мы ехали всю долгую ночь. Так через сутки добрались до Большой Северной дороги и весь день напролет снова пели "За счастье прежних дней". А снег шел, снег все шел и шел не переставая. Я забыл уже, где мы очутились на второй день в полдень и где следовало нам быть в это время; знаю только, что мы нарушили расписание, отстав на много миль, и с каждым часом запаздывали все больше. Намело огромные сугробы; вехи занесло снегом; дорога слилась с полями; исчезли заборы и живые изгороди, которые могли бы указать нам путь, — мы тащились по сплошной призрачно-белой пелене, которая в любую минуту могла провалиться под нами, а тогда мы неминуемо полетели бы под косогор. Но кучер и кондуктор — они вместе сидели на козлах и все время совещались, внимательно глядя по сторонам, — удивительно ловко отыскивали дорогу. Когда вдали появлялся город, он казался мне рисунком на огромной грифельной доске, причем церкви и дома, на которых снег лежал самым толстым слоем, были особенно густо заштрихованы грифелем. Когда же мы въезжали в город, я видел, что все часы на колокольнях стоят, циферблаты облепило снегом, а вывески гостиниц замело — чудилось, будто все здесь обросло белым мхом. Карета становилась просто-напросто громадным снежком; мужчины и мальчики, которые бежали за нами через весь город, вытаскивая наши увязающие колеса и понукая наших лошадей, казались мужчинами и мальчиками, вылепленными из снега, а унылая, дикая пустыня, в которую они, наконец, выпроваживали нас, была какой-то снежной Сахарой. Как будто хватит; однако я даю честное слово, что снег еще шел, снег все шел и шел не переставая. Весь день мы пели "За счастье прежних дней", и весь день — если только не проезжали город или деревню, — видели следы горностаев, зайцев, лисиц, изредка птичьи следы — и больше ничего. В девять часов вечера, на Йоркширских болотах, веселые звуки нашего рожка, желанные звуки человеческих голосов и мерцание движущихся фонарей рассеяли мою дремоту. Я понял, что здесь мы будем менять лошадей. Мне помогли вылезть из кареты, и я спросил слугу, чья обнаженная голова мгновенно стала белой как волосы короля Лира: — Что это за гостиница? — "Остролист", сэр, — ответил он. — Мне кажется, — сказал я виноватым тоном кондуктору и кучеру, — что здесь я должен остановиться. Надо отметить, что и хозяин, и хозяйка, и конюх, и форейтор, и все конюшенные власти уже успели спросить кучера (в то время как остальные обитатели гостиницы с величайшим интересом прислушивались к разговору), намерен ли он ехать дальше. А кучер уже успел ответить: "Да, я ее протащу до конца, — подразумевая под словом "ее" карету, — если только Джордж меня не бросит". Джорджем звали кондуктора, и он поклялся, что не бросит кучера. И вот слуги уже начали выводить сменных лошадей. Переговоры эти подготовили для меня почву, и когда я объявил, что сдаюсь, слова мои ни для кого не были неожиданностью. Признаюсь, что, если бы путь для меня не был расчищен этими переговорами, очень сомнительно, чтобы я, человек от природы застенчивый, решился высказать свое желание. Теперь же меня одобрили даже кондуктор и кучер. Все присутствующие поддерживали меня, говоря друг другу, что джентльмен сможет уехать дальше на почтовых завтра — сегодня он только зря продрогнет, — но ведь хорошего мало, если джентльмен продрогнет… а чего доброго, будет погребен заживо под снегом (последнее суждение, произнесенное весельчаком-слугой, вздумавшим сострить на мой счет, имело огромный успех); и вот из кареты вытащили мой чемодан, залубеневший, как труп на морозе; я дал, что полагается, кондуктору и кучеру, пожелал им спокойной ночи и счастливого пути и, немного стыдясь, что бросил их на произвол судьбы, последовал за хозяином, хозяйкой и одним из слуг "Остролиста" наверх. Мне показалось, будто я в жизни не видывал такой большой комнаты, как та, в которую они меня провели. В ней было пять окон с темно-красными шторами, которые не пропустили бы даже целой иллюминации, а в верхней своей части были очень замысловато перевиты и подобраны и самым причудливым образом извивались по стене. Я попросил комнату поменьше, но мне сказали, что комнаты поменьше нет. Впрочем, добавил хозяин, меня можно будет отгородить ширмой. Тут принесли огромную старинную японскую ширму с туземцами (японцами, надо думать), предающимися на всей ее поверхности каким-то бессмысленным занятиям, и оставили меня жариться перед громадным камином. Моя спальня находилась чуть не за четверть мили от этой комнаты, под самой крышей, в конце длинной галереи, а ведь никто не поймет, какое это бедствие для застенчивого человека, у которого нет ни малейшего желания встречаться с кем-нибудь на лестнице. Это была самая мрачная из всех спален, способных навевать кошмары на спящих, и вся мебель в ней, начиная с кровати под балдахином на четырех столбиках и кончая двумя старинными серебряными подсвечниками, была высокого роста, с прямыми плечами и осиной талией. Внизу, в моей гостиной, стоило мне выглянуть из-за своей ширмы, как ветер бросался на меня не хуже бешеного быка; если же я сидел в кресле, огонь обжигал меня до того, что лицо мое становилось красным, как новый кирпич. Камин был очень высокий, а над ним висело скверное зеркало, точнее волнистое зеркало, и даже когда я вставал во весь рост, оно показывало мне только верхнюю часть моего черепа, а ведь ни один череп не назовешь красивым, если верхушка его срезана на уровне бровей. Когда же я становился спиной к огню, темные своды мрака над ширмой и за нею притягивали мой взор, и в неясной дали подборы всех десяти штор на пяти окнах закручивались, переплетались и расползались по стене, словно гигантские черви. Мне кажется, что все замеченное мною во мне самом другие люди, сходные со мной по характеру, тоже наблюдают в самих себе; поэтому решаюсь сказать, что когда я путешествую, то едва я куда-нибудь приеду, как мне уже не терпится оттуда уехать. И вот, не успел я отужинать жареной курицей и подогретым портвейном, как уже во всех подробностях объяснил слуге порядок своего отъезда на следующее утро. Завтрак и счет в восемь. Экипаж в девять. Пара лошадей, а если будет нужно, то и четверня. Сколь я ни был утомлен, ночь показалась мне с неделю длиной. В передышках между кошмарами я думал об Анджеле, и меня все больше угнетала мысль, что я нахожусь на кратчайшем пути в Гретна-Грин[218]. Какое мне дело до Гретна-Грин? Не этой дорогой я отправляюсь к черту на рога, а через Америку, с горечью говорил я себе. Наутро я увидел, что снег все еще идет, что он шел всю ночь и что я занесен снегом. Ни выбраться из этой гостиницы на болотах, ни добраться до нее нельзя, пока дорогу не расчистят рабочие из города. Когда именно им удастся расчистить путь до "Остролиста", никто мне сказать не мог. Наступил сочельник. Правда, эти святки я всюду провел бы грустно, значит это не имело значения, но все-таки сидеть в заносах — то же самое, что умирать от холода, а это не входило в мои планы. Я очень скучал. Однако я так же не мог предложить хозяину и хозяйке принять меня в их общество (хотя мне этого очень хотелось), как не мог бы попросить их подарить мне что-нибудь из их столового серебра. Тут-то и обнаруживается моя великая тайна — врожденная застенчивость. Подобно большинству застенчивых людей, я всех считаю застенчивыми. Я не только стеснялся напрашиваться к хозяевам, но опасался, как бы такая просьба не повергла их в величайшее смущение. Пытаясь все же получше устроиться в одиночестве, я прежде всего спросил, какие книги имеются в доме. Слуга принес мне "Дорожный справочник", две-три старые газеты, небольшой песенник, к которому были припечатаны образцы тостов и застольных речей, маленький сборник острот, один из томиков "Перигрина Пикля"[219] и "Сентиментальное путешествие"[220]. В последних двух книгах я помнил каждое слово, но все-таки перечел их снова от доски до доски; потом попытался спеть все песни, помещенные в песеннике (среди них было и "За счастье прежних дней"), просмотрел решительно все остроты — в которых нашел огромные залежи меланхолии, вполне гармонирующей с моим душевным состоянием, — предложил все тосты, произнес все застольные речи и одолел газеты. В последних были только обычные объявления, отчет о собрании по поводу каких-то местных налогов и заметка о разбое на большой дороге. Я страстно люблю читать, и потому мне не могло хватить этого чтения до ночи его запас истощился уже к вечернему чаю. Предоставленный самому себе, я целый час раздумывал, чем бы мне заняться. Наконец мне пришло в голову (из которой я всячески старался изгнать Анджелу и Эдвина), что, пожалуй, стоит вспомнить все те гостиницы, в которых я бывал, и посмотреть, надолго ли это займет меня. Я помешал огонь в камине, слегка придвинул кресло к одной из створок ширмы (но не решился отодвинуть его подальше, ибо, слыша, как завывает ветер, знал, что он только того и ждет, чтобы наброситься на меня), — и начал. Впервые я получил некоторое представление о гостиницах еще в детской; поэтому я вернулся в детскую как к исходной точке и увидел себя возле одетой в зеленое платье желтолицей женщины с рыбьими глазами и орлиным носом, специальностью которой был мрачный рассказ об одном хозяине придорожной гостиницы, откуда все проезжие вот уже много лет непонятным образом исчезали бесследно, пока не обнаружилось, что хозяин видел цель своей жизни в том, чтобы превращать постояльцев в паштеты. Посвятив себя этой отрасли промышленности, он для ее усовершенствования прорубил потайную дверь за изголовьем кровати в спальне для постояльцев, и когда проезжий (отягощенный паштетами) засыпал, злодей-хозяин тихонько входил с лампой в одной руке и ножом в другой, резал спящему глотку и готовил из него паштеты, для чего держал в подполье вечно кипящие медные котлы, а тесто раскатывал поздней ночью. Однако даже он не был избавлен от угрызений совести: ложась спать, он неизменно бормотал: "Переперчил!", что его и выдало и подвело под суд. Не успел я разделаться с этим преступником, как из той же эпохи на сцену выступил другой, чьей первой профессией были кражи со взломом; занимаясь этим искусством, он однажды полез ночью в чужое окно, но тут ему отрезала правое ухо одна храбрая и очаровательная служанка (женщина с орлиным носом, хотя к ней ничуть не подходили такие эпитеты, таинственно намекала, что она-то и была этой служанкой). Через несколько лет храбрая и очаровательная служанка вышла замуж за хозяина одной деревенской гостиницы, который имел обыкновение постоянно носить шелковый ночной колпак и ни за что не соглашался снять его. Как-то раз ночью, когда он крепко спал, храбрая и очаровательная женщина приподняла его шелковый ночной колпак с правой стороны и увидела, что уха под ним нет; ну, тут она сразу догадалась, что он и есть тот самый изуродованный ею громила, а женился он на ней лишь затем, чтобы ее умертвить. Она тотчас же раскалила на огне кочергу и прикончила его. В награду за это король Георг пригласил ее к себе во дворец, и там члены королевского дома хвалили ее за великую предусмотрительность и доблесть. Та же рассказчица, которая, как я уже давно убедился, испытывала наслаждение вампира, пугая меня чуть не до потери сознания, имела в запасе другую быль из своей жизни, позаимствованную, как мне теперь кажется, из повести "Раймонд и Агнес, или Окровавленная монахиня"[221]. Она говорила, что все это случилось с ее деверем, который был неимоверно богат (чего нельзя было сказать о моем отце) и неимоверно высок ростом (чего тоже нельзя было сказать о моем отце). Впрочем, эта женщина-вампир неизменно старалась уколоть мое детское сердце подобными контрастами, выставляя дорогих мне родственников и друзей в самом невыгодном свете. Однажды деверь ехал по лесу верхом на великолепной лошади (у нас дома не было великолепной лошади) со своей любимой, очень ценной собакой, водолазом (у нас не было собаки), и, когда стемнело, подъехал к одной гостинице. Его впустила смуглая женщина, и он спросил, нельзя ли здесь переночевать. Она ответила, что можно, поставила его лошадь на конюшню, а его самого привела в комнату, где сидели двое смуглых мужчин. Когда он сел ужинать, попугай, находившийся в комнате, принялся твердить: "Кровь, кровь! Сотрите кровь!". Тут один из смуглых мужчин свернул попугаю шею, объяснив, что любит жареных попугаев и наутро хочет скушать этого самого попугая за завтраком. Наевшись и напившись до отвала, неимоверно богатый и высокий деверь пошел спать несколько раздосадованный, так как хозяева заперли его водолаза на конюшне, говоря, что не терпят собак у себя в доме. Больше часа он сидел очень тихо, все думая да раздумывая, и вдруг, когда свеча его уже догорала, услышал, что кто-то скребется за дверью. Он открыл дверь, и за нею оказался его водолаз! Пес тихонько вошел, принюхался, потом направился прямо в угол, заваленный соломой (смуглые мужчины говорили, что под нею лежат яблоки), раскидал солому и вытащил две простыни, пропитанные кровью. Тут свеча догорела, и деверь, заглянув в дверную щелку, увидел, как смуглые мужчины крадутся вверх по лестнице, — один, вооруженный кинжалом во-от такой длины (добрых пять футов), другой с косарем, мешком и заступом в руках. Я не помню, чем кончилось приключение деверя, потому, должно быть, что в этом месте рассказа я весь леденел от ужаса и чувство слуха отмирало во мне на целые четверть часа. Пока я сидел у камина в "Остролисте", эти жуткие истории перенесли меня в "Придорожную гостиницу"[222], в мое время получившую известность благодаря книжке ценою в шесть пенсов, со складной таблицей, на которой в среднем, овальном, отделении был помешен портрет Джонатана Брэдфорда, а в четырех угловых отделениях — изображения всех четырех эпизодов трагедии, случившейся в гостинице, причем таблица эта была раскрашена очень вольно, но в то же время экономно: так, румянец Джонатана непосредственно переходил на штаны конюха и, заехав в следующее отделение, становился ромом в бутылке. Потом я вспомнил, как хозяина нашли у кровати зарезанного путешественника, причем нож хозяина лежал у него в ногах, а рука была в крови; как этого человека повесили за убийство, несмотря на его уверения, что хотя он действительно пришел убить путешественника, желая воспользоваться его переметными сумами, но лишился чувств, увидев его уже убитым; и как спустя многие годы в этом преступлении сознался конюх. Тут меня пробрала дрожь. Я помешал огонь в камине, а потом стоял к нему спиной — столько времени, сколько мог выдержать его жар — и смотрел на мрак поверх ширмы и на червеобразные драпировки, расползающиеся по стене, как черви в балладе о Храбром Алонзо и Прекрасной Имогене[223]. В том городе, где я учился, был собор, а также гостиница, с которой у меня связаны более приятные воспоминания. Я тут же перенесся в нее. В этой гостинице останавливались наши друзья, сюда мы ходили повидаться с родителями, здесь нас угощали лососиной и курицей и дарили нам карманные деньги. Название гостиницы было в стиле церковников — "Митра", и в ней была буфетная комната, которую мы предпочли бы любой епархии — такая она была уютная. Я любил младшую дочь хозяина до безумия… но об этом ни слова. В этой гостинице плакала моя румяная сестричка, потому что мне подбили глаз в драке. И хотя теперь, когда я ночью сидел в "Остролисте", сестричка моя давно уже пребывала там, где нет ни плача, ни воздыхания, воспоминание о "Митре" все же растрогало меня. "Продолжение завтра", сказал я себе и взял свечу, собираясь лечь в постель. Но в эту ночь моя постель решила иначе: течение моих мыслей не прервалось. Подобно ковру-самолету, оно унесло меня в одно отдаленное место (однако в пределах Англии), а там я вышел из почтовой кареты у другой занесенной снегом гостиницы, — где я действительно останавливался несколько лет назад, — и вновь пережил во сне странное ощущение, испытанное мною там наяву. Примерно за год до того умер мой очень близкий друг. С тех пор каждую ночь, где бы я ни спал, я видел во сне этого друга — причем иногда он снился мне еще живым, а иногда вернувшимся из царства теней, чтобы утешить меня, но я неизменно видел его прекрасным, спокойным, счастливым, и ни разу не чувствовал страха. На сей раз я ночевал в уединенной гостинице, расположенной среди обширной болотистой равнины. Посмотрев из окна спальни на снежную пустыню, освещенную луной, я сел у камина и начал писать письмо. До этого часа я никому не говорил о том, что каждую ночь вижу во сне дорогого покойника. В письме же, которое я писал, я упомянул об этом, добавив, что мне очень любопытно узнать, приснится ли мне умерший и теперь, когда я утомлен путешествием и нахожусь в этом уединенном месте. Нет, не приснился. Открыв свою тайну, я утратил любимое видение. С тех пор я за шестнадцать лет видел этот сон только раз, когда был в Италии. Я проснулся (или мне показалось, что проснулся), ясно слыша памятный голос и беседуя с ним. Голос звучал над моей кроватью, поднимаясь к сводам старинной комнаты, и я умолял его ответить на один мой вопрос о жизни за гробом. Но вот голос умолк, а я все еще протягивал к нему руки, как вдруг услышал в глубокой тишине ночи звон колокола у садовой ограды и другой голос, призывавший всех добрых христиан молиться за души умерших — это было накануне дня поминовения всех усопших. Но вернемся в "Остролист". Когда я на следующий день проснулся, был сильный мороз, и низкие тучи грозили снова осыпать нас снегом. Позавтракав, я передвинул свое кресло на прежнее место и, сумерничая, так как свет пламени был ярче дневного света, а за окном все равно ничего не было видно, снова предался воспоминаниям о гостиницах. В Уилтшире была одна хорошая гостиница, где я как-то раз остановился в те времена, когда уилтширский эль еще был крепок и любое пиво еще не стало нестерпимо горьким. Гостиница стояла на краю Солсберийской равнины, и полночный ветер, стучавший в мое решетчатое окно, с воем летел ко мне от Стонхенджа[224]. При гостинице обитал один старик (судя по всему — друид, сверхъестественным образом доживший до наших дней и все еще здравствующий), с длинными белыми волосами и синеватыми, холодными, вечно устремленными вдаль глазами, который говорил, что некогда был пастухом, и, казалось, вечно высматривал на горизонте призрачное стадо овец, в незапамятные времена превращенных в баранину. Этот человек был суеверно убежден, что никто не может дважды сосчитать камни Стонхенджа и оба раза получить одинаковое число; он верил также, что каждый, кто сосчитает эти камни трижды девять раз, а потом станет посередине и скажет: "Не боюсь!", увидит страшное видение и упадет мертвым. Он говорил, что якобы видел дрофу (чего доброго, он был знаком и с дронтом![225]) при таких обстоятельствах: как-то раз поздней осенью он под вечер вышел на равнину и, смутно различив вдали нечто движущееся странными, судорожными прыжками, сначала подумал, что это сорванный бурей верх экипажа, потом решил, что это щуплый карлик верхом на маленьком пони. Некоторое время он следовал за видением, не нагоняя его; окликал его несколько раз, не получая ответа; гнался за ним несколько миль и, наконец, поравнявшись с ним, увидел, что это последняя дрофа в Великобритании, настолько выродившаяся, что лишилась крыльев и бежит по земле. Решив поймать ее или погибнуть, он сцепился с ней, но дрофа, в свою очередь решив не позволить ему ни того, ни другого, сбила его с ног, оглушила и убежала на запад, так что и след ее простыл. Быть может, этот странный человек в данной стадии своего перевоплощения был лунатиком, одержимым или разбойником; так или иначе, однажды ночью, проснувшись, я обнаружил во мраке, что он стоит у моей постели и страшным голосом произносит еретический символ веры. На следующий день я заплатил по счету и со всей возможной поспешностью уехал из этого графства. Необычная история случилась в одной маленькой швейцарской гостинице в то время, когда я жил в ней. Это был очень простой, неказистый дом в горной деревне, состоявшей из одной лишь узкой кривой улицы, а его парадная дверь открывалась прямо в хлев, через который и приходилось идти, пробираясь между мулами, собаками и домашней птицей, чтобы потом подняться по широкой голой лестнице в комнаты, обшитые некрашеным тесом, без штукатурки или обоев просто упаковочные ящики. За домом была только улица с редкими домами, игрушечная церковка со шпилем цвета меди, сосновый лес, ручей, туманы да горные склоны. Один молодой парень, работавший в гостинице, исчез за два месяца до моего приезда (дело было зимой), и люди предполагали, что он, должно быть, запутался в какой-то тайной любовной интриге, ну и завербовался в солдаты. Как-то раз ночью он встал и спрыгнул на деревенскую улицу с сеновала — где спал вместе с другим работником, — проделав все это так бесшумно, что его товарищ ничего не слышал и узнал обо всем только утром, когда его разбудили и спросили: "Луи, где Анри?". Пропавшего искали всюду, но тщетно, а потом бросили искать. Надо сказать, что возле гостиницы, так же как и возле каждого дома в деревне, была сложена поленница дров; но эта поленница была выше всех прочих, потому что хозяева гостиницы были богаче других жителей и у них в в доме дров сжигалось больше. Еще во время поисков пропавшего люди заметили, что один петух бантамской породы из птичника гостиницы, странным образом изменив своим привычкам, теперь взлетал на поленницу и стоял там целыми часами, надрываясь от крика. Прошло пять недель, шесть недель, а неугомонный бантамский петух, забросив все свои домашние дела, вечно торчал на верхушке поленницы и так усердно орал "ку-ка-ре-ку", что у него глаза на лоб вылезали. К тому времени стали замечать, что Луи воспылал лютой ненавистью к неугомонному бантамскому петуху, и в одно прекрасное утро некая женщина, сидя у окошка и грея на солнышке свой зоб, увидела, как работник Луи схватил полено и со страшным ругательством запустил им в неугомонного бантамского петуха, кукарекавшего на поленнице, так что петух упал мертвый. И тут женщину внезапно осенило: она сзади подкралась к поленнице, и, хорошо умея лазить (как и все тамошние женщины), вскарабкалась на нее, и, заглянув вниз, в колодец, образованный поленьями, взвизгнула, и закричала: — Держите Луи, он убийца! Звоните в колокола! Тело здесь! Я видел убийцу в тот же день, видел его, когда сидел у камина в "Остролисте", и вижу сейчас, как он лежит связанный на соломе в хлеву, и коровы с кроткими глазами обдают его паром своего дыхания, а вся деревня со страхом глазеет на него, ожидая, пока его заберет полиция. Тупой зверь самый неразумный из всех животных в этом хлеву, — с головой идиота и ничего не выражающим лицом, он украл у хозяина немного денег, о чем знал его товарищ, и вот додумался до такого способа убрать с дороги возможного свидетеля. Во всем этом он сознался на другой день, всем своим угрюмым и загнанным видом говоря, что раз уж его поймали и решили покончить с ним, так пусть хоть оставят, его в покое. Я увидел его еще раз в тот день, когда уезжал из гостиницы. В этом кантоне палач до сих пор делает свое дело при помощи меча, и я увидел убийцу, когда он сидел с завязанными глазами, прикрученный ремнями к стулу, на эшафоте посреди маленькой рыночной площади. И вот огромный меч (с ртутью, впаянной в клинок у острия) взметнулся, как пламя, вихрем завертелся над преступником, и все кончилось. Меня удивило не то, что казнь совершилась столь мгновенно, а то, что в радиусе пятидесяти ярдов от этого страшного серпа ничья другая голова не оказалась скошенной. Хороша была и та гостиница — с веселой доброй хозяйкой и честным хозяином, — где я жил под сенью Монблана и где одна из комнат оклеена обоями, изображающими зоологический сад, причем полосы их так неискусно пригнаны друг к другу, что иному слону достались задние лапы и хвост тигра, лев нацепил на себя хобот и бивни, а медведь как будто полинял и местами напоминает леопарда. В этой гостинице я подружился с несколькими американцами, и все они называли Монблан "Маунт-бланк", — все, кроме одного добродушного, общительного джентльмена, который так подружился с этой горой, что панибратски называл ее просто Бланк и даже говаривал за завтраком: "Нынче утром Бланк что-то уж очень высок", или, сидя вечером во дворе, изрекал: "Не может быть, сэр, чтоб у нас в Америке не нашлось таких смельчаков, которым ничего не стоит одним махом взобраться на верхушку Бланка часика за два… да!" Однажды я прожил две недели в одной гостинице на севере Англии, где меня преследовал призрак огромного паштета. Это был йоркширский паштет, похожий на крепость, — покинутую крепость, совершенно пустую, — но лакей был непоколебимо уверен, что согласно этикету нужно ставить этот паштет на стол за каждой едой. Спустя несколько дней я стал намекать разными деликатными способами, что, по-моему, с паштетом пора покончить: так, например, я сливал в него остатки вина из стаканов, складывал в него, как в корзину, тарелочки для сыра и ложки, совал в него винные бутылки, как в ведро со льдом, но тщетно — все это неизменно вытаскивали из паштета и снова ставили его на стол. Наконец, убоявшись, не сделался ли я жертвой галлюцинации и не расстроятся ли мое здоровье и умственные способности от ужаса, внушаемого мне каким-то воображаемым паштетом, я вырезал из него треугольник размером не меньше, чем музыкальный инструмент того же наименования, входящий в состав мощного оркестра. К чему привели мои старания — этого не смог бы предвидеть никто: лакей починил паштет. При помощи какого-то прочного цемента он ловко вмазал треугольник на прежнее место, а я заплатил по счету и обратился в бегство. "Остролист" начинал казаться мне довольно мрачным. Я предпринял экспедицию за пределы ширмы и добрался до четвертого окна. Тут порывы ветра заставили меня отступить. Вернувшись на свои зимние квартиры, я разжег огонь и принялся вспоминать еще одну гостиницу. Она находилась в отдаленнейшей глуши Корнуэлла. В этой гостинице справляли большой ежегодный Праздник Рудокопов, когда я со своими спутниками пришел туда ночью и очутился среди буйной толпы, пляшущей при свете факелов. У нас произошла поломка в темноте на каменистом болоте, в нескольких милях от гостиницы, и мне досталась честь вести в поводу одну из распряженных почтовых лошадей. Пусть какая-нибудь леди или джентльмен, прочитав эти строки, возьмет за повод рослую почтовую лошадь, когда постромки болтаются у нее между ногами, и войдет с нею в самую гущу кадрили из полутораста пар только тогда эта леди или этот джентльмен сможет составить себе правильное представление о том, как часто почтовая лошадь наступает своему вожатому на ноги. К тому же почтовая лошадь, вокруг которой кружатся в танце триста человек, скорей всего будет становиться на дыбы и брыкаться, нанося этим ущерб достоинству и самоуважению своего вожатого. Так, частично утратив свойственный мне обычно внушительный вид, появился я в этой корнуэллской гостинице, к несказанному удивлению корнуэллских рудокопов. Гостиница была полным-полна, и принять не могли никого, кроме почтовой лошади; впрочем, я и тому был рад, что избавился от этого благородного животного. Пока мы со спутниками обсуждали, где провести ночь и ту часть следующего дня, которая пройдет, прежде чем развеселый кузнец и развеселый колесник проспятся и будут в состоянии отправиться на болото и починить карету, какой-то добрый малый выступил из толпы и предложил нам две свои свободные комнаты и ужин из яиц, свиной грудинки, эля и пунша. Мы с радостью последовали за ним и очутились в чрезвычайно своеобразном, но чистом доме, где нас прекрасно приняли, ко всеобщему удовольствию. Но прием этот отличался одной необычной чертой: наш хозяин был мебельщиком, и стулья, предоставленные нам, оказались просто остовами, без всяких сидений, так что мы весь вечер проторчали на перекладинах. Однако это было еще не самое нелепое: когда мы за ужином развеселились и кто-нибудь из нас, позабыв, в какой странной позе он сидит, не удерживался от хохота, он немедленно исчезал. Я сам пять раз за то время, пока мы ели яйца и грудинку, попадал в положение, выбраться из которого самостоятельно было немыслимо, и меня, скрюченного, вытаскивали при свете восковой свечи из остова моего стула, словно упавшего в кадку клоуна в комической пантомиме. "Остролист" быстро навевал на меня скуку. Я начал сознавать, что моего запаса воспоминаний не хватит до того времени, когда меня откопают. Быть может, мне придется просидеть здесь неделю… несколько недель! Странная история связана с одной гостиницей в живописном старом городе на границе Уэльса, где я как-то раз провел ночь. В одной из спален этой гостиницы — большой комнате с двумя кроватями — произошло самоубийство: некий проезжий отравился, лежа на одной из кроватей, в то время как на второй кровати спал, ничего не ведая, другой утомленный путешественник. После этого случая постояльцы соглашались спать только на ней, а кровать самоубийцы пустовала. Рассказывали, что каждый, кто спал в этой комнате, хотя бы он приехал издалека и был совершенно чужим в этих краях, наутро, спускаясь в общий зал, неизменно чувствовал запах опия и что мысли его все время вертелись вокруг самоубийств, причем, кто бы он ни был, он обязательно упоминал об этом предмете вразговорах с другими людьми. Так продолжалось несколько лет, и, наконец, хозяин гостиницы был вынужден стащить злосчастную кровать вниз и сжечь ее вместе с постелью, пологом и всем прочим. Тогда странный запах (как говорили) немного ослабел, но не исчез окончательно. За очень редкими исключениями, каждый, кто ночевал в этой комнате, спускаясь утром в общий, зал, все старался вспомнить какой-то забытый сон, приснившийся ему в ту ночь. Когда он заговаривал об этом с хозяином гостиницы, тот, стараясь помочь ему вспомнить, называл разные предметы, хотя прекрасно знал, что ни один из них постояльцу не приснился. Но как только хозяин произносил слово "яд", тот вздрагивал и восклицал: "Да!" Он неизменно признавал, что видел во сне яд, но больше ничего не мог вспомнить. Затем перед моим умственным взором пронеслись и другие уэльские гостиницы, а вместе с ними — женщины в круглых шляпах и белобородые арфисты (благообразные старцы, но, к сожалению, аферисты), играющие за дверьми, пока я обедаю. Отсюда естественно было перейти к гостиницам в горной Шотландии, где угощают овсяными лепешками, медом, олениной, озерной форелью, виски, а иногда (благо все припасы имеются под рукой) местной овсянкой, сваренной с медом и виски. Однажды я спешно ехал на юг из шотландских горных областей, надеясь быстро сменить лошадей на почтовой станции, расположенной в глубине одного дикого исторического ущелья, как вдруг, подъезжая к станции, с огорчением увидел, что смотритель вышел из дому с подзорной трубой и принялся обозревать окрестности, отыскивая лошадей, ибо лошади где-то самостоятельно добывали себе пропитание и появились лишь часа четыре спустя. Вспомнив об озерной форели, я, по ассоциации, быстро перенесся в английские гостиницы для рыболовов (сколько раз я выезжал с ними на ловлю и весь долгий летний день лежал на дне лодки, усердно бездельничая, причем рыбы я таким способом добывал не меньше, чем другие вылавливали с помощью наилучших снастей и по всем правилам науки); вспомнил приятные белые, чистые спальни этих гостиниц с цветами на окнах, с видом на реку, на паром, зеленый островок, церковный шпиль и мост; вспомнил и несравненную Эмму — благослови ее бог! — девушку с блестящими глазами и прелестной улыбкой, которая прислуживала за столом с такой естественной границей, что укротила бы даже Синюю Бороду. Устремив глаза на огонь, я увидел теперь среди рдеющих углей длинный ряд тех замечательных английских почтовых станций, об утрате которых мы все глубоко скорбим, — ведь они были так просторны, так удобны, они представляли собой такие выразительные памятники английской жадности и вымогательству! Пусть тот, кто хочет видеть, как разрушаются эти дома, пройдет пешком от Бейзингстока или хотя бы Виндзора до Лондона через Хоунзло и поразмыслит об их погибающих останках: конюшни рассыпаются в прах; бездомные батраки и бродяги ночуют в надворных строениях; дворы зарастают травой; комнаты, где сотнями взбивали пуховые перины, теперь сдаются жильцам-ирландцам за восемнадцать пенсов в неделю; в убогом трактирчике — бывшем станционном буфете — вместо дров жгут ворота каретных сараев; одно из двух окон выбито, и чудится, будто станция пострадала в драке с железной дорогой; а в дверях торчит непородистый, кривоногий, отощавший бульдог. Что еще мог я увидеть в огне камина близ этой унылой деревенской почтовой станции, как не новый вокзал, где нечем похвастаться, кроме холода и сырости, где в кладовой для провизии нечего показать, кроме свежей побелки, и где не делается никакого дела, если не считать самодовольно-притворной возни с багажом? Потом я перенесся в парижские гостиницы: тут можно достать прелестное помещение в четыре комнатки, куда ведет лестница в сто семьдесят пять навощенных ступеней и где можно целый день звонить в колокольчик, не тревожа этим никого, кроме себя, а также съесть обед, хоть и дорогой, но не слишком сытный. Затем я перешел к французским провинциальным гостиницам, где огромная церковная колокольня возвышается над двором, где на улице весело звенят конские бубенчики, а во всех комнатах стоят и висят всевозможные часы, которые всегда врут, разве только если посмотришь на них в ту самую минуту, когда они, уйдя назад или вперед ровно на двенадцать часов, нечаянно покажут верное время. Оттуда я направился в маленькие итальянские придорожные гостиницы, где все грязное белье всех домашних (кроме того, что еще на них) вечно валяется у вас в передней; где летом москиты превращают ваше лицо в пудинг с изюмом, а зимой холод щиплет его до синяков; где вы получаете, что можно, и позабываете о том, чего получить нельзя; где я не прочь бы снова заваривать чай в носовом платке, опустив его в кипяток, потому что чайников там не имеется. Оттуда я перешел в другие гостиницы городов и местечек той же солнечной страны, — в старинные дворцовые и монастырские гостиницы, где, стоя на массивных лестницах, окаймляющих внутренний двор, среди леса колонн, можно смотреть вверх, на голубой небосвод; где можно любоваться величественными залами для банкетов, просторными трапезными, целыми лабиринтами таинственных спален с видом на великолепные улицы, нереальные и немыслимые. Оттуда я перенесся в душные маленькие гостиницы малярийных областей Италии, где у слуг бледные лица и стоит своеобразный запах — словно там никогда не открывают окон. Оттуда — в огромные фантастические гостиницы Венеции, где слышно, как покрикивает под окном гондольер, огибая угол дома; где запахи стоячей воды забиваются в одно определенное местечко под переносицей (и не покидают его, пока живешь в Венеции); где в полночь раздается звон огромного колокола в соборе св. Марка. Затем я ненадолго задержался в беспокойных гостиницах на Рейне, где стоит лечь спать — все равно когда, — как все остальные обитатели вскакивают, словно разбуженные набатным звоном, и где в столовой на одном конце длинного стола высятся несколько вавилонских башен из белых тарелок, а на другом расположилась компания толстяков, весь наряд которых состоит из драгоценностей и грязи, и стойко сидит за столом всю ночь напролет, чокаясь и распевая песни о "реке, что течет, о лозе, что растет, о рейнском вине, что играет, о рейнской жене, что пленяет" и "Пей же, пей, мой друг, пей же, пей, мой брат", и так далее. Оттуда я, само собой разумеется, направился в другие германские гостиницы, где вся пища перепарена настолько, что имеет одинаковый вкус, и где чувствуешь себя совершенно сбитым с толку, когда во время обеда на столе в самые неожиданные моменты появляются горячий пудинг или вареные вишни, приторные и вяжущие. Выпив глоток искристого пива из пенящейся стеклянной кружки и посмотрев в окно на знакомые студенческие пивные в Гейдельберге[226] и других местах, я отплыл за море, к американским гостиницам, в каждой из которых стоят не менее четырехсот кроватей и ежедневно обедают не менее девятисот леди и джентльменов. Вновь я по вечерам стоял в тамошних барах и пил всевозможные коктейли, коблеры, джулепы и слинги. Вновь я слушал своего друга генерала, с которым познакомился пять минут назад, причем он за это время успел сдружить меня на всю жизнь с двумя майорами, а те сдружили меня на всю жизнь с тремя полковниками, которые в свою очередь заставили двадцать два человека штатских полюбить меня, как родного брата, — вновь, повторяю, слушал я моего друга генерала, а он не спеша описывал мне достоинства нашей гостиницы: утренняя гостиная для джентльменов, сэр; утренняя гостиная для леди, сэр; вечерняя гостиная для джентльменов, сэр; вечерняя гостиная для леди, сэр; общая вечерняя гостиная для леди и джентльменов, сэр; музыкальная гостиная, сэр; читальня, сэр; свыше четырехсот спален, сэр; и все это было спроектировано и построено за двенадцать календарных месяцев, считая с того дня, когда здесь начали сносить ветхие лачужки, и обошлось это в пятьсот тысяч долларов, сэр! Вновь я подумал, что, на мой взгляд, чем больше, чем роскошнее, чем дороже гостиница, тем хуже в ней живется. И все же, я очень охотно пил коблеры, джулепы, слинги и коктейли за здоровье моего друга генерала и моих друзей майоров, полковников и штатских, отлично сознавая, что, сколько бы ни узрело сучков в их глазу мое забитое бревнами око, все-таки они — сыны доброго, щедрого, великодушного и великого народа. Все это время я, стремясь позабыть о своем одиночестве, путешествовал с большой скоростью, но тут вдруг устал не на шутку и бросил это занятие. "Что мне делать? — спрашивал я себя. — Что со мной будет? В какую крайность предстоит мне покорно впасть? Не поискать ли мне, подобно барону Тренку[227], мышь или паука и, найдя их, не заняться ли скуки ради их приручением? Но даже это грозит опасностью в будущем, Когда дорогу в снегу откопают, я, возможно, уже дойду до того, что, тронувшись в дальнейший путь, разрыдаюсь и попрошу, как тот узник, которого лишь на старости лет выпустили из Бастилии, чтобы меня вернули в комнату с пятью окнами, десятью шторами и замысловатыми драпировками". Дерзкая мысль пришла мне в голову. В другое время я прогнал бы ее, но сейчас, попав в столь отчаянное положение, крепко за нее ухватился. Не смогу ли я преодолеть свою врожденную застенчивость, не пускающую меня к столу хозяина и к его гостям, не смогу ли я преодолеть ее настолько, чтобы позвать коридорного и попросить его пододвинуть себе стул… и еще кое-что жидкое… и поговорить со мной? Смогу. Позову. И позвал.ВТОРАЯ ВЕТКА
Коридорный
Где он побывал за свою жизнь? — повторил он мой вопрос. Господи, да он побывал везде и всюду! А кем он был? Эх, кем-кем только он не был! Он много чего повидал? Да уж немало. Знай я хоть двадцатую часть того, что ему довелось пережить, я ответил бы именно так, заверил он меня. Да что там, ему гораздо легче перечислить то, чего он не видел, чем то, что он видел. Куда легче! Из всего виденного им, что было самым любопытным? Ну, он, право, не знает. Он не может так, сразу, назвать самое любопытное из всего, что он видел… вот разве единорог… единорога он видел на одной ярмарке. Но предположим, что молодой джентльмен, еще не достигший восьми лет от роду, увозит прекрасную молодую леди семи лет, — не покажется ли это мне довольно необыкновенной историей? Конечно, покажется. Так вот, эта необыкновенная история разыгралась у него на глазах, и он сам чистил башмачки, в которых они убежали, а башмачки эти были такие маленькие, что он даже не мог просунуть в них руку. Отец мистера Гарри Уолмерса жил, видите ли, в "Вязах", что близ Шутерс-Хилла, в шести-семи милях от Лондона. Молодец он был, красавец, голову держал высоко, и вообще был, что называется, с огоньком. Писал стихи, ездил верхом, бегал, играл в крикет, танцевал, играл на сцене, и все это одинаково превосходно. Он чрезвычайно гордился мистером Гарри — своим единственным отпрыском, однако не баловал его. Это был джентльмен с сильной волей и зоркими глазами, и с ним приходилось считаться. Поэтому хоть он и был прямо-таки товарищем своему прелестному, умному мальчику, радовался, что тот очень любит читать сказки, и не уставал слушать, как мальчик декламирует на память "Меня зовут Порвал!"[228], поет песни, например: "Светит майская луна, любовь моя" или "Когда тот, кто тебя обожает, только имя оставил…"[229] и тому подобное, все же он держал ребенка в руках, и ребенок действительно был ребенком, чего приходится пожелать многим детям! А каким образом коридорный узнал обо всем этом? Да ведь он был у них младшим садовником. Не мог же он работать младшим садовником — а значит летом вечно торчать под окнами на лужайке, — косить, подметать, полоть, стричь и прочее — и не знать, как живут хозяева. Он знал бы все, даже если бы мистер Гарри сам не подошел к нему как-то рано утром и, спросив: "Кобс, вы знаете, как пишется имя Нора?", тут же не принялся вырезывать это имя печатными буквами на заборе. Он не сказал бы, что до этого случая обращал внимание на детей, но, честное слово, приятно было видеть этих крошек, когда они гуляли вместе, по уши влюбленные друг в друга. А до чего он храбрый был, этот мальчик! Будьте покойны, он сорвал бы с себя шляпчонку, засучил бы рукавчики и пошел бы навстречу льву, — пошел бы, случись им с Норой повстречать льва, да если б она испугалась. Как-то раз они остановились близ того места, где коридорный выпалывал мотыгой сорняки на дорожке, и мальчик сказал, глядя снизу вверх: — Кобс, вы мне нравитесь. — Неужто правда, сэр? Вы делаете мне честь. — Да, нравитесь, Кобс. А почему вы мне нравитесь, как вы думаете, Кобс? — Право, не знаю, мистер Гарри. — Потому что вы нравитесь Норе, Кобс. — В самом деле, сэр? Очень приятно. — Приятно, Кобс? Нравиться Норе — это лучше, чем иметь миллионы самых блестящих брильянтов. — Совершенно верно, сэр. — Вы уходите от нас, Кобс? — Да, сэр. — Вы хотели бы поступить на другое место, Кобс? — Пожалуй, сэр; ничего не имею против, если место хорошее. — В таком случае, Кобс, — говорил он: — вы будете у нас старшим садовником, когда мы поженимся, И он берет под ручку девочку в небесно-голубой мантильке и уходит с нею прочь. Коридорный может меня заверить, что, когда эти малютки с длинными светлыми кудрями, блестящими глазками и прелестной легкой походкой бродили по саду, горячо влюбленные друг в друга, смотреть на них было приятнее, чем на картину, и так же интересно, как на театральное представление. Коридорный считает, что птички принимали этих детей за птичек, держались подле них и пели, чтобы доставить им удовольствие. Иногда дети подлезали под тюльпановое дерево, сидели там в обнимку, прижавшись друг к другу нежными щечками, и читали сказки о принце и драконе, о добром и злом волшебниках и о прекрасной королевне. Иногда он слышал, как они строят планы — поселиться в лесу, разводить пчел, держать корову и питаться только молоком и медом. Однажды он встретил их около пруда и услышал, как мистер Гарри сказал: — Пленительная Нора, поцелуйте меня, не то я сейчас брошусь в пруд вниз головой. И коридорный не сомневается, что так он и сделал бы, откажись она исполнить его просьбу. В общем, видя все это, коридорный чувствовал, что он и сам влюблен… только он хорошенько не знал, в кого именно. — Кобс, — сказал мистер Гарри как-то вечером, когда Кобс поливал цветы, — в конце июня я поеду в гости к своей бабушке, в Йорк. — Вот как, сэр? Надеюсь, вам там будет весело. Я сам поеду в Йоркшир, когда уволюсь отсюда. — Вы тоже поедете к своей бабушке, Кобс? — Нет, сэр. У меня ее нету. — Нет бабушки, Кобс? — Нет, сэр. Мальчик некоторое время смотрел, как Кобс поливает цветы, потом сказал: — Я очень рад, что поеду туда… Нора тоже едет. — Значит, вам там будет хорошо, сэр, — сказал Кобс, — потому что ваша милая будет у вас под боком. — Кобс, — воскликнул мальчик, вспыхнув, — я никому не позволю насмехаться над этим! — Я не насмехался, сэр, — смиренно объяснил Кобс, — и не думал вовсе. — Тем лучше, Кобс, потому что вы мне нравитесь, и вы будете жить у нас… Кобс! — Слушаю, сэр. — Как вы думаете, что подарит мне бабушка, когда я к ней приеду? — Не могу догадаться, сэр. — Пятифунтовая банкнота Английского банка, Кобс. — Фью! — свистнул Кобс. — Это изрядная сумма, мистер Гарри. — На эту сумму можно многое сделать, ведь правда, Кобс? — Еще бы, сэр! — Кобс, — сказал мальчик, — я открою вам один секрет. В Нориной семье Нору дразнят мною, вышучивают нашу помолвку… высмеивают ее, Кобс! — Такова, сэр, — изрек Кобс, — испорченность человеческой натуры. Мальчик — сейчас он был вылитый отец — немного постоял, обратив пылающее лицо к закату, потом ушел, сказав на прощанье: — Покойной ночи, Кобс. Я пойду спать. Если я спрошу коридорного, как случилось, что он тогда собирался уволиться, он не сможет ответить мне толком. Пожалуй, он мог бы остаться там и до сих пор, только пожелай. Но он, видите ли, был тогда молодой, и ему хотелось чего-то нового. Да, этого только ему и хотелось — перемены. Мистер Уолмерс сказал Кобсу, когда тот предупредил о своем уходе: — Кобс, — говорит, — вы чем-нибудь недовольны? Я спрашиваю потому, что, если кто-нибудь из моих слуг имеет основание быть недовольным, я по мере сил стараюсь выполнить его пожелания. — Нет, сэр, — говорит Кобс, — благодарю вас, сэр, мне здесь у вас так хорошо, как нигде не будет. Но, сказать правду, сэр, хочется мне пойти поискать свое счастье. — Ах, так, Кобс! — говорит он. — Хочу верить, что вы его найдете. Ну, коридорный может меня заверить — да и заверил, приложив к голове сапожную щетку и как бы отдавая честь в соответствии со своей теперешней профессией, — что он все еще не нашел своего счастья. Так вот, сэр! Коридорный покинул "Вязы", когда срок его службы кончился, мистер Гарри уехал к старой леди в Йорк, а старая леди была готова вырвать все зубы у себя изо рта (будь у нее зубы) ради своего внука, так она его обожала. И что же сделал этот младенец — а младенцем вы вполне можете его назвать и будете правы, — что же он сделал? Да сбежал от старой леди со своей Норой и отправился в Гретна-Грин жениться! Да, сэр, коридорный служил вот в этом самом "Остролисте" (он несколько раз уходил отсюда, ища места получше, но по той или другой причине всегда возвращался), как вдруг в один прекрасный летний день подъезжает почтовая карета, а из кареты выходят наши ребятишки. Кондуктор и говорит хозяину: — Не могу понять, кто они такие эти маленькие пассажиры; но молодой джентльмен сказал, что их обоих надо везти сюда. Молодой джентльмен выходит; помогает выйти своей леди; дает на чай кондуктору и говорит нашему хозяину: — Мы будем здесь ночевать. Отведите нам гостиную и две спальни. Отбивные котлеты и вишневый пудинг на двоих! — И тут он берет под ручку девочку в небесно-голубой мантильке и входит в дом смелей смелого. Коридорный предоставляет мне судить, до чего были удивлены все в гостинице, когда эти малютки одни, без старших, поднимались наверх и в особенности когда он, коридорный, уже увидевший детей, хотя они его еще не видели, сообщил хозяину свое мнение насчет той экспедиции, которую они предприняли. — Кобс, — говорит хозяин, — если так, придется мне отправиться в Йорк и успокоить их родственников. А тебе придется их сторожить и развлекать, пока я не вернусь. Но, прежде чем мне за это браться, Кобс, надо тебе самому убедиться, правильно ты догадался или нет. — Слушаю сэр, — говорит Кобс, — будет сделано сию минуту. И вот коридорный идет наверх и видит, что мистер Гарри сидит на грома-аднейшем диване (а диван и так-то большой был, но в сравнении с этими крошками казался Великой Уэйрской кроватью[230]) и вытирает глаза мисс Норе своим платком. Ножонки их, конечно, не доставали до пола, и коридорный прямо не в силах выразить, до чего маленькими казались ребятишки. — Это Кобс! Это Кобс! — кричит мистер Гарри, подбегает к коридорному и хватает его за руку. Мисс Нора подбегает к нему с другой стороны, тоже хватает его за руку, и оба прыгают от радости. — Я видел, как вы выходили из кареты, сэр, — говорит Кобс, — и мне показалось, будто это вы. Потом я решил, что не ошибся — узнал вас по росту и по фигуре… По какому делу вы едете, сэр?.. По брачному? — Мы хотим обвенчаться в Гретна-Грин, Кобс, — отвечает мальчик. Потому мы и убежали. Нора немножко приуныла, Кобс, но теперь она развеселится, раз мы узнали, что вы нам друг. — Благодарю вас, сэр, и благодарю вас, мисс, за ваше доброе мнение обо мне, — говорит Кобс. — У вас есть с собой багаж, сэр? Быть может, я поверю коридорному, если он даст мне свое честное слово, что маленькая леди взяла с собой зонтик, флакон с нюхательной солью, полтора круглых ломтика поджаренного хлеба с маслом, восемь мятных лепешек и головную щетку — на вид совсем кукольную. Джентльмен вез ярдов десять веревки, ножик, три-четыре листа почтовой бумаги, сложенных в несколько раз, апельсин и фарфоровую именную кружку. — Как вы намерены поступить, сэр? — спрашивает Кобс. — Утром уехать, — отвечает мальчик (храбрый он был прямо на удивление!), — и завтра обвенчаться. — Отлично, сэр! — говорит Кобс. — Вы согласны, сэр, чтобы я сопровождал вас? Когда Кобс сказал это, дети снова запрыгали от радости и закричали: — О да, да, Кобс! Да! — Так вот, сэр, — говорит Кобс, — простите, если я осмелюсь высказать свое мнение, но вот что я вам посоветую. Я знаю одну лошадку, сэр, которую можно запрячь в фаэтон, — а фаэтон взять напрокат, — и эта лошадка очень быстро довезет вас и миссис Гарри Уолмерс-младшую до места (причем я буду сидеть за кучера, если разрешите). Я не вполне уверен, сэр, что эта лошадка будет свободна завтра, но если бы даже вам пришлось прождать до послезавтра, стоит все-таки взять именно ее. Что касается счетика, сэр, то если даже все деньги у вас выйдут, не беспокойтесь: я совладелец этой гостиницы, так могу и подождать с оплатой. Коридорный уверяет меня, что, когда они захлопали в ладоши и снова запрыгали от радости, называя его "Добрый Кобс!" и "Милый Кобс!", а потом потянулись друг к другу через него и поцеловались от восторга, переполнившего их доверчивые сердечки, он решил, что поступает как самый подлый негодяй — до того совестно ему было обманывать их. — Не нужно ли вам чего-нибудь, сэр? — спрашивает Кобс, до смерти стыдясь самого себя. — После обеда нам хотелось бы пирожных, — отвечает мистер Гарри, сложив руки на груди, выставив вперед ногу и глядя в лицо Кобсу, — и еще два яблока… и варенья. К обеду подайте нам сухарной водицы. Хотя Нора привыкла пить поллафитника смородинной наливки за десертом — и я тоже. — Я закажу все это в буфете, сэр, — говорит Кобс и уходит. Коридорный и сейчас уверен, как был уверен тогда, что он лучше сразился бы с хозяином в бокс, лишь бы не вступать с ним в заговор, и что он всем сердцем желал, чтобы нашлось где-нибудь такое немыслимое место, где эти малютки могли бы заключить немыслимый брак и потом веки вечные наслаждаться немыслимым счастьем. Однако все это было невозможно, поэтому он выполнил приказание хозяина, и хозяин спустя полчаса уехал в Йорк. Коридорный удивляется, до какой степени все женщины в доме — все до одной, замужние и незамужние, — полюбили этого мальчика, когда узнали, что он затеял. Коридорный еле удерживал их, — ведь они уже готовы были броситься в комнату и расцеловать мистера Гарри. Они с риском для жизни взбирались на что попало, лишь бы взглянуть на него через стекло в двери. Они толпились у замочной скважины. Они были без ума от него и его смелости. Вечером коридорный пошел взглянуть, что поделывает беглая парочка. Джентльмен сидел на скамье в оконной нише, поддерживая обеими руками леди. А у нее слезы текли по щечкам, и она лежала очень усталая и полусонная, склонив головку на его плечо. — Миссис Гарри Уолмерс-младшая устала, сэр? — спрашивает Кобс. — Да, она утомилась, Кобс, — ведь она не привыкла уезжать из дому и теперь опять приуныла. Кобс, как вы думаете, не могли бы вы принести нам яблоко по-норфолкски?.. — Простите, сэр, — говорит Кобс. — Что вы изволили… — Печеное яблоко по-норфолкски, наверное, подкрепит ее, Кобс. Она их очень любит. Коридорный пошел заказать это подкрепляющее средство, и когда принес его, джентльмен подал яблоко леди, потом принялся кормить ее с ложечки и немного отведал сам, так как леди совсем засыпала и была довольно сердита. — Как вы думаете, сэр, — говорит Кобс, — не пора ли взять свечу и отправиться на покой? Джентльмен согласился с ним, и тут горничная стала первая подниматься по огромной лестнице, леди в небесно-голубой мантильке последовала за ней в сопровождении галантного джентльмена, и когда они подошли к ее дверям, джентльмен поцеловал ее и удалился в свои покои, а коридорный тихонько запер за ним дверь на ключ. Наутро во время завтрака коридорный еще острее почувствовал, какой он низкий обманщик, когда дети (они еще с вечера заказали кипяток с молоком и сахаром, гренки и смородинное желе) спрашивали его насчет лошадки. Он не прочь признаться мне, что с трудом мог смотреть в лицо этим крошкам, зная, какой он отъявленный лжец. Однако он, как троянец, продолжал рассказывать всякие небылицы про лошадку. Он сообщил детям, что, к несчастью, лошадка подстрижена лишь наполовину и в таком виде ее нельзя запрягать, так как это ей вредно. Но к вечеру ее, конечно, подстригут, а завтра в восемь часов утра подадут фаэтон. Сидя здесь, в моей комнате, и вспоминая обо всей этой истории, коридорный полагает, что миссис Гарри Уолмерс-младшая как будто начала сдавать. Перед сном ей не завили волос, а сама она не умела их расчесывать, и когда они падали ей на глаза, это ее смущало. Но ничто не смущало мистера Гарри. За завтраком он держал свою чашку и уплетал желе с таким видом, точно был не самим собой, а своим отцом. Коридорный предполагает, что после завтрака они принялись рисовать солдатиков, — во всяком случае, ему известно, что множество таких рисунков потом нашлось в камине, и все солдаты на них были изображены верхом. Позже мистер Гарри позвонил в колокольчик — удивительно, до чего хорошо держался этот мальчик! — и спросил бодрым тоном: — Кобс, тут поблизости есть хорошие места для прогулок? — Да, сэр, — ответил Кобс. — Тут есть, например, Дорожка Любви. — Ну вас совсем, Кобс! — Мальчик так именно и выразился. — Вы шутите! — Простите, сэр, — возразил Кобс. — тут одна дорожка действительно называется Дорожкой Любви. Гулять по ней очень приятно, и я почту за честь показать ее вам и миссис Гарри Уолмерс-младшей. — Нора, милочка моя, — сказал мистер Гарри, — это прелюбопытно. Нам, право, стоит посмотреть Дорожку Любви. Наденьте шляпку, душенька моя милая, и пойдемте туда с Кобсом. Коридорный предоставляет мне самому судить, каким подлецом он чувствовал себя, когда на прогулке эти малыши объявили ему, что решили, если он будет у них старшим садовником, платить ему две тысячи гиней в год за то, что он им такой верный друг. В эту минуту коридорному хотелось, чтобы земля разверзлась у него под ногами и поглотила его, — так стыдно ему было, когда сияющие глазки детей доверчиво смотрели на него. Итак, сэр, он по мере сил постарался перевести разговор на другую тему и повел детей по Дорожке Любви на заливные луга, где мистер Гарри чуть было не утонул, добывая водяную лилию для Норы — ведь этот мальчик ничего не боялся… Ну, вот, сэр, наконец они устали до смерти. Все вокруг было для них так ново и незнакомо, что они совершенно выбились из сил. И тут они улеглись на берег, поросший ромашками, совсем как "Дети в лесу", или лучше сказать — на лугу, и заснули. Коридорный не знает (быть может, я знаю?), но ничего, это не имеет ровно никакого значения, — не знает, почему он чуть не разревелся, когда поглядел, как эти прелестные ребятишки спят на травке в тихий, солнечный день и, наверно, даже сейчас не видят таких радужных снов, какие видели наяву. Но, господи! Как подумаешь о себе — чем ты сам-то занимался чуть не с колыбели, и до чего ты ничтожный человек, и почему всегда получается, что у тебя есть только "вчера" да "завтра", а "сегодня" для тебя не существует так даже как-то чудно делается! Так вот, сэр, они, наконец, проснулись, и тут коридорный кое-что подметил, а именно — что миссис Гарри Уолмерс-младшая не в духе. Когда мистер Гарри обнял ее за талию, она сказала, что он ей "так надоел!", а когда он сказал: "Нора, майская луна моя, разве ваш Гарри может вам надоесть?", она ответила: "Да, и я хочу домой!" Вареная курица и пудинг из хлеба с маслом несколько оживили ее, но коридорный должен сознаться мне по секрету, что не худо было бы ей внимательней прислушиваться к голосу любви и не так самозабвенно уплетать смородину. Тем не менее мистер Гарри держался хорошо, и его благородное сердце было по-прежнему полно любви. В сумерках миссис Уолмерс совсем осовела и расплакалась. Поэтому миссис Уолмерс ушла спать рано, по-вчерашнему, и мистер Гарри последовал ее примеру. Часов в одиннадцать — двенадцать ночи хозяин возвращается домой в наемной карете вместе с мистером Уолмерсом и какой-то пожилой леди. Мистера Уолмерса вся эта история как будто забавляет, но вместе с тем лицо у него очень серьезное, и вот он говорит нашей хозяйке: — Мы перед вами в большом долгу, сударыня, за то, что вы так заботились о наших детишках, и никогда не сможем вознаградить вас по заслугам. А теперь, сударыня, скажите, пожалуйста, где мой мальчик? Наша хозяйка отвечает: — За милым мальчиком присматривает Крбс, сэр. Кобс, проведи их в сороковой! Тут мистер Уолмерс говорит Кобсу: — А, Кобс, очень рад видеть вас! Я догадался, что вы здесь! А Кобс говорит на это: — Да, сэр. Ваш покорный слуга, сэр. Быть может, мне странно будет это слышать, но коридорный уверяет меня, что, когда он поднимался по лестнице, сердце у него стучало как молоток. — Простите, сэр, — говорит Кобс, отпирая дверь, — надеюсь, вы не прогневаетесь на мистера Гарри. Ведь мистер Гарри прекрасный мальчик, сэр, и впоследствии вы будете им гордиться. По словам коридорного, он в эту минуту был настроен так решительно, что, вздумай отец прекрасного мальчика ему противоречить, коридорный, наверно, дал бы ему затрещину, а там будь что будет. Но мистер Уолмерс сказал только: — Нет, Кобс, не бойтесь, друг мой. Благодарю вас! И тут он входит в комнату, потому что дверь уже открыли. Коридорный тоже входит со свечой в руке и видит, как мистер Уолмерс, подойдя к кровати, тихонько нагибается и целует личико спящего. Потом стоит и с минуту смотрит на него, удивительно похожий на мальчика (говорят, он сам когда-то увез миссис Уолмерс); потом осторожно трясет его за плечико: — Гарри, милый мой мальчик! Гарри! Мистер Гарри вскакивает и смотрит на него. Смотрит и на Кобса. И так развито было в этом малыше чувство чести, что он смотрит на Кобса, желая убедиться, не повредил ли он чем-нибудь своему другу. — Я не сержусь, дитя мое. Я хочу только, чтобы ты оделся и вернулся домой. — Хорошо, папа. Мистер Гарри быстро одевается. Когда он уже почти готов, слезы подступают у него к горлу и подступают все больше и больше, в то время как он стоит и смотрит на отца, а отец стоит и спокойно смотрит на него вылитый портрет своего сына. — Пожалуйста, нельзя ли… — до чего он был мужественный, этот ребенок, и как он удерживал набегающие слезы! — Пожалуйста, милый папа… нельзя ли мне перед отъездом… поцеловать Нору? — Можно, дитя мое. И вот отец берет мистера Гарри за руку, а коридорный идет впереди со свечой, и они входят во вторую спальню, где у кровати сидит пожилая леди, а бедная маленькая миссис Гарри Уолмерс-младшая крепко спит. Отец подносит ребенка к подушке, а тот на мгновение прижимается личиком к теплому личику бедняжки, ничего не ведающей маленькой миссис Гарри Уолмерс-младшей, и тихонько притягивает его к себе — зрелище, столь трогательное для горничных, которые заглядывают в дверь, что одна из них восклицает: "Как не стыдно их разлучать!". Но эта горничная, как сообщает мне коридорный, была от природы мягкосердечна. Впрочем, ничего худого о ней сказать нельзя. Отнюдь нет. Коридорный говорит, что тем дело и кончилось. Мистер Уолмерс уехал в карете, держа мистера Гарри за руку. Пожилая леди и миссис Гарри Уолмерс-младшая (впрочем, она так и не носила этой фамилии, потому что впоследствии вышла замуж за какого-то капитана и умерла в Индии) уехали на другой день. В заключение коридорный спрашивает меня, согласен ли я с ним вот в чем: во-первых, что не много найдется женихов и невест, которые были бы и вполовину так невинны и простодушны, как эти дети; во-вторых, что было бы куда как хорошо для многих женихов и невест, если бы их остановили вовремя и вернули домой порознь.ТРЕТЬЯ ВЕТКА
Счет
Снег шел целую неделю. Время это пролетело для меня так быстро, что я усомнился бы в том, что прошла неделя, если бы на столе у меня не лежало одно документальное доказательство. Дорогу расчистили уже накануне, а упомянутый документ был моим счетом. Он красноречиво свидетельствовал о том, что я ел, пил, грелся и спал среди гостеприимных веток "Остролиста" целых семь дней и ночей. Вчера я решил переждать еще сутки, чтобы дорога хорошенько укаталась, эта отсрочка была мне нужна для завершения моей задачи. Я приказал, чтобы счет мой лежал на столе, а карета стояла у подъезда "завтра в восемь часов вечера". И назавтра в восемь часов вечера я вложил свой дорожный пюпитр в кожаный футляр, заплатил по счету и облачился в теплые пальто и плащи. Теперь мне, конечно, не хватило бы времени добавить замерзшую слезу к тем сосулькам, которые, несомненно, в изобилии висели на фермерском доме, где я впервые увидел Анджелу. Мне нужно было доехать до Ливерпуля по кратчайшей дороге, получить там свой багаж и погрузиться на корабль. Хлопот было немало, и я не мог терять ни часа. Я простился со всеми здешними моими друзьями — и, пожалуй, даже на время со своей застенчивостью — и стоял уже с полминуты у подъезда гостиницы, пока конюх лишний раз обматывал веревкой мой чемодан, привязанный наверху кареты, как вдруг увидел фонари, движущиеся по направлению к "Остролисту". Дорогу так занесло снегом, что стука колес не было слышно, но все мы, стоя у подъезда, видели, как между окаймлявшими дорогу снежными сугробами к нам приближаются фонари, и притом очень быстро. Горничная тут же догадалась, в чем дело, и крикнула конюху: — Том, они едут в Гретну! Конюх, зная, что женщины нюхом чуют любую свадьбу и тому подобное, помчался по двору с криком "Сменную четверню!", и вся гостиница сразу пришла в движение. Мне было грустно, но интересно взглянуть на счастливца, который любит и любим, и, вместо того чтобы отбыть немедленно, я стоял у подъезда гостиницы, пока к ней не подъехали беглецы. Молодой человек с живыми глазами, закутанный в плащ, выскочил из кареты так стремительно, что чуть не сбил меня с ног. Он обернулся, чтобы извиниться, и — клянусь небом! — это был Эдвин! — Чарли! — воскликнул он, отшатнувшись. — Силы небесные, что ты здесь делаешь? — Эдвин! — воскликнул я, тоже отшатнувшись. — Силы небесные, а ты что здесь делаешь? Но тут я ударил себя по лбу, и невыносимо яркая вспышка сверкнула у меня перед глазами. Он втащил меня в маленькую приемную (где всегда теплился слабый огонек, но не было кочерги, и где проезжие ждали, пока запрягут лошадей) и, закрыв дверь, сказал: — Чарли, прости меня! — Эдвин! — отозвался я. — И тебе не стыдно? Ведь я любил ее так нежно! Ведь я так давно отдал ей свое сердце! Я больше не мог говорить. Моя горячность поразила его, но он имел жестокость сказать мне, что не думал, что я приму все это так близко к сердцу. Я посмотрел на него. Я уже не упрекал его. Но я смотрел на него. — Мой милый, милый Чарли, — продолжал он, — умоляю тебя, не думай обо мне дурно! Я знаю, ты имеешь право требовать от меня полнейшей откровенности, и, верь мне, я до сих пор всегда был с тобой откровенен. Я ненавижу скрытность. Это низкое свойство, и я не терплю его. Но мы с моей любимой скрывали все это ради тебя же самого! Он и его любимая! Это придало мне твердости. — Вы скрывали все это ради меня, сэр? — переспросил я, удивляясь, как может он произносить подобные слова с таким честным, открытым лицом. — Да… и ради Анджелы, — подтвердил он. Мне почудилось, будто комната неуклюже закружилась — как волчок, который вот-вот остановится. — Объяснись, — сказал я, держась рукой за кресло. — Милый, дорогой друг Чарли! — сердечным тоном отозвался Эдвин. Подумай сам! Вы с Анджелой были так счастливы; мог ли я скомпрометировать тебя в глазах ее отца, посвятив тебя в нашу помолвку и в наши тайные планы после того, как он отказал мне в руке своей подопечной? Право же, лучше для тебя, что ты искренне можешь сказать ему: "Он не посоветовался со мной, он ничего мне не сказал, ни слова". Если Анджела и догадывалась, если она по мере сил сочувствовала и помогала мне — благослови ее бог, какая это прелестная девушка и какая несравненная жена из нее получится! — то сам я тут ни при чем. Ни я, ни Эмелин, мы ни о чем не говорили ей, так же как и тебе. И по той же причине, Чарли, верь мне, по той же причине, ни по какой другой! Эмелин была двоюродная сестра Анджелы. Жила у нее в доме. Воспитывалась вместе с нею. Состояла под опекой ее отца. Имела средства. — Значит, в карете сидит Эмелин, мой дорогой Эдвин! — воскликнул я, обнимая его с величайшей нежностью. — Ну, знаешь, — сказал он, — неужели ты думаешь, что я отправился бы в Гретна-Грин без нее? Я выбежал из дома вместе с Эдвином, я распахнул дверцу кареты, я схватил Эмелин в свои объятия, я прижал ее к сердцу. Она была закутана в мягкие белые меха, как и вся снежная равнина вокруг нас, но она была теплая, юная и прелестная. Я своими руками запряг их передних лошадей и дал их слугам по пятифунтовой бумажке; я кричал им "ура", когда они отъезжали, а сам сломя голову умчался в противоположную сторону. Я не поехал в Ливерпуль, я не поехал в Америку, я вернулся прямо в Лондон и женился на Анджеле. До сего дня я так и не открыл ей той тайной черты своего характера, которая породила во мне недоверие и заставила меня предпринять ненужное путешествие. Когда она, и они, и восемь человек наших детей, и семеро ихних (я говорю о детях Эдвина и Эмелин, а их старшая дочь уже такая взрослая, что ей самой пора надеть подвенечное платье, в котором она будет еще больше похожа на мать), когда все они прочтут эти страницы — а они, конечно, прочтут их, — меня, наконец, разоблачат. Ничего! Я перенесу это. В "Остролисте" рождественские праздники пробудили во мне, по простой случайности, интерес к людям и стремление понять их и позаботиться о тех, кто меня окружает. Надеюсь, мне от этого не стало хуже и никому из близких или чужих мне людей не стало от этого хуже. И вот что я еще скажу: да цветет зеленый остролист, глубоко врастая корнями в нашу английскую почву, и да разнесут птицы небесные его семена до всему свету!МЕРТВЫЙ СЕЗОН
Холодной весной этого года мне выпало на долю оказаться на одном из курортов во время мертвого сезона. Жестокий северо-восточный шквал забросил меня туда из чужих краев, и я провел там в одиночестве три дня, полный решимости поработать на славу. В первый день я начал свою деятельность с того, что два часа смотрел на море и пытался своими пристальными взглядами смутить пограничную стражу. Покончив с этими важными занятиями, я уселся у одного из двух окон моей комнаты, намереваясь сделать нечто отчаянное в области литературного творчества и сочинить главу неслыханного совершенства, — с каковой главой настоящий очерк не имеет ничего общего. У курорта во время мертвого сезона есть та замечательная особенность, что все в нем требует осмотра. Я раньше и не подозревал об этой роковой истине, но как только сел писать, я сразу начал ее осознавать. Едва я ощутил вдохновение и обмакнул перо в чернила, часы на молу — часы с красным циферблатом и белым ободком — потребовали от меня, и в высшей степени настойчиво, чтобы я проверил свои карманные часы и установил, насколько я отклонился от гринвичского времени. Не собираясь отправляться в путешествие или производить какие-нибудь научные наблюдения, я не имел ни малейшей надобности в гринвичском времени и мог принять курортное время как нечто вполне для меня достаточное в смысле точности. Но часы на молу настаивали на своем, и я почувствовал необходимость положить перо, сверить с ними мои часы и впасть в серьезную тревогу по поводу полусекунд. Я опять взял в руку перо и уже готов был начать мою драгоценную главу, когда таможенный катер под моим окном потребовал, чтобы я сделал ему морской смотр, и притом немедленно. В данных обстоятельствах отмахнуться от таможенного катера было выше человеческих сил, потому что тень его топ-мачты падала на мою бумагу, а флюгер играл на еще не начатой первой мастерской главе моего сочинения. Оказалось необходимым поэтому отойти к другому окну; там я уселся верхом на стул — почти как Наполеон на бивуаке, как его изображают гравюры, — и начал осмотр катера, который на весь день преградил путь моей главе. Судя по снастям, он мог поставить множество парусов, но корпус его был так мал, что четыре гиганта (трое мужчин и мальчик) на борту, занятые его чисткой, заставили меня опасаться, что от катера ничего не останется. Пятый гигант, видимо считавший, что находится на "нижней палубе" — и действительно, нижняя половина его тела приходилась как раз там — задумчиво стоял в такой близости к маленькой пыхтящей трубе, что казалось, будто он раскуривает ее, как трубку. Несколько мальчишек наблюдали за этим с мола; и когда можно было надеяться, что внимание гигантов чем-то полностью занято, то один, то другой из мальчишек, ухватившись за веревку, свисавшую со снастей, взлетал в воздух над палубой как молодой дух шторма. Но вот шестой работник принес на катер два маленьких бочонка с водой; вот приехала тележка и доставила на катер большую корзину. Теперь я уже должен был считать, что катер отправляется в рейс, пришлось задуматься о том, куда, собственно, он уходит, и когда уходит, и почему уходит, и когда можно ждать его обратно, и кто им командует. Я задумался над этими важными вопросами, как вдруг пакетбот, готовясь к отплытию и выпуская отработанный пар, зарычал: "Посмотри на меня!" И я положительно был обязан посмотреть на пакетбот, который готовился к отплытию: туда уже устремились, с великим шумом, пассажиры, только что приехавшие по железной дороге. Команда надела просмоленные куртки — а мы понимаем, что это означает, — не говоря уж о белых тазах, сложенных аккуратными маленькими стопками, по дюжине в каждой, за дверью кормовой кают-компании. Я видел, как одна предусмотрительная дама, заранее смирившись, взяла себе тазик из этих запасов посуды, как взяла бы пропуск в буфет, улеглась на палубе, поставила этот сосуд у своего изголовья, укутала себе ноги одной шалью, торжественно закрыла лицо, по обычаю древних, другой шалью и, приготовившись таким образом, впала в оцепенение. Уже сбросили на палубу мешки с почтой (о, если б я так же хорошо выдерживал качку, как эти мешки); пакетбот перестал рычать, стал верповать и медленно пошел к белой отметке на отмели. Вот он вдруг нырнул, вот закачался, вот ударила волна в его борт, и никакой Альманах Мура[231] или мудрец Рафаэль[232] не сказали бы мне о том,что происходит на пароходе, больше, чем я уже знал сам. Знаменитая глава была уже почти начата, и была бы совсем начата, если б не ветер. Он упрямо дул с востока, ворчал в дымоходе и сотрясал весь дом. Это бы еще ничего; но, вглядываясь для вдохновения в серые глаза ветра, я должен был положить перо и отметить про себя, как выразительно все вблизи моря говорит о своей зависимости от ветра. Деревья, пригнутые в одном направлении; гавань, укрепленная сильнее всего с наветренной стороны; вал из гальки, наметанный на берегу все в том же направлении; множество стрел, указывающих, откуда ждать общего врага; и море, кидающееся им навстречу, точно разъяренное их видом. Это подало мне мысль, что я положительно должен выйти и погулять при ветре; поэтому я отказался от моей великолепной главы на этот день, полностью убедив себя, что у меня есть моральное обязательство перед самим собой — проветриться. Я и проветрился основательно, на большой — и очень высокой — дороге, идущей по вершине утесов. Здесь я встретил почтовую карету — пассажиры на империале придерживали шляпы на голове, да и самих себя тоже, — и отару овец, у которых ветер так взлохматил шерсть на шее, что они казались какими-то косматыми совами. Ветер играл с маяком, дул в него точно в огромный свисток, гонял водяную пыль над морем в виде туманного облака; суда качались и тяжело переваливались; местами длинные косые лучи света прокладывали крутые трапы от океана к небу. Я прошел десять миль и оказался в другом приморском городе, без утесов, где в это время был тоже мертвый сезон, как и в городе, из которого я пришел. Половина домов была заколочена; половина остальной половины сдавалась внаем; в городе было не больше деловой жизни, чем если бы он находился на дне моря. Никто, казалось, не процветал здесь, кроме стряпчего; перо его клерка, сидевшего под окном-фонарем его деревянного дома, усердно бегало по бумаге; медная дощечка на его двери одна только не была забрызгана солью и, по-видимому, была начищена до блеска еще сегодня утром. На берегу, среди люгеров и кабестанов, группы лодочников с обветренными лицами, напоминавшие каких-то тритонов, укрывались под зашитой этих люгеров и кабестанов или, став против ветра, смотрели в старые подзорные трубы. Колокольчик в зале "Адмирала Бенбоу" так отвык звонить за время мертвого сезона, что я не услышал его звона, когда хотел спросить себе завтрак, не услышала его и молодая женщина в черных чулках и толстых башмаках, которая заменяла, на время мертвого сезона, официанта, пока я не дернул его три раза подряд. Сыр в "Адмирале Бенбоу" был такой, какого можно ожидать в мертвый сезон, но домашний хлеб был хорош, а пиво — превосходно. Введенный в заблуждение каким-то одним днем ранней весны, когда было тепло и солнечно, Адмирал потушил огонь в камине и заменил его цветочными горшками, что было очень любезно и оптимистично с его стороны, но неразумно. Сейчас, во время моего посещения, в зале было холодно, как на том свете. Поэтому я позволил себе заглянуть, через каменный коридорчик, в кухню Адмирала; увидя, что перед кухонным очагом Адмирала, спинкой ко мне, стоит высокая скамья, я вошел в кухню, с хлебом и сыром в руках, продолжая жевать и поглядывая по сторонам. На скамье сидели крестьянин и два лодочника, покуривая трубки и попивая пиво из толстых пинтовых фаянсовых кружек — особенных местных кружек, опоясанных разноцветными кольцами, между которых шел орнамент в виде очищенных кореньев. Крестьянин рассказывал о том, что он видел всего за три ночи до того; это был потрясающий случай столкновения судов в Ламанше. Его рассказ дал моему воображению мотив, который я не скоро забуду. — В это самое время, — сказал он (это был от природы прозаический человек, но он теперь поднялся до высокого стиля, как того требовала тема), — ночь была светлая и тихая, только над водой стоял серый туман, который простирался, я думаю, не более чем на две или три мили. Я прохаживался по деревянным мосткам рядом с молом, неподалеку от того места, где это произошло, вместе с моим другом, по фамилии Клокер. Мистер Клокер торгует колониальными товарами вон там (при этом он указал чашкой своей трубки в таком направлении, что я мог бы заключить, что мистер Клокер — тритон, торгующий колониальными товарами под водой, на глубине двадцати пяти сажен). Мы курили трубки, расхаживали взад и вперед по мосткам и говорили о том о сем. Мы были совсем одни, если не считать того, что несколько ховеллеров (кентское название для портовых грузчиков, какими были его собеседники) топтались у своих люгеров в ожидании прилива, как это водится у ховеллеров (один из лодочников, задумчиво глядя на меня, призакрыл один глаз; это, как я понял, должно было означать: во-первых, что он приобщает и меня к разговору; во-вторых, что он подтверждает сказанное; в-третьих, что он причисляет себя к ховеллерам). Вдруг мистер Клокер и я прямо-таки приросли к земле; в тишине над морем мы услышали звук, будто зарыдала флейта или эолова арфа. Мы не понимали, что это значит, и судите о нашем удивлении, когда мы увидели, что ховеллеры, все как один, вскочили в свои лодки и спешат поднять паруса и отвалить, точно все разом сошли с ума! Они-то знали, что это был сигнал бедствия с тонущего переселенческого корабля… Когда я после этого возвратился в мой мертвосезонный курорт, пройдя двадцать миль хорошим шагом, я узнал, что знаменитый "Черный месмерист" собирается вечером осчастливить публику в Зале Муз, которую он для этого нанял. После хорошего обеда, сидя у огня в кресле, я начал колебаться в своем намерении посетить представление Черного Месмериста и склоняться к тому, что лучше остаться там, где я нахожусь. Этого требовала и галантность, поскольку я покинул Францию не один, а прибыл из тюрьмы Сент-Пелажи с моим знаменитым и несчастным другом мадам Ролан[233] (в двух томах, купленных по два франка за каждый в книжной лавке на площади Согласия в Париже, на углу Королевской улицы). Решив провести вечер teta-a-tete с мадам Ролан, я предвкушал, как всегда, большое удовольствие от общения с этой остроумной женщиной, от очарования ее смелой души, от ее увлекательной беседы. Должен признаться, что, если б у нее было чуть побольше недостатков, побольше каких-нибудь слабостей, я любил бы ее сильнее; но я хочу верить, что дело во мне, а не в ней. В этот раз мы провели вместе несколько печальных и памятных мне часов, и она снова рассказала мне, как бесчеловечно ее изгнали из Аббатства, как ее вторично арестовали, прежде чем она успела легко взбежать на пол-дюжину ступенек по лестнице своего дома, и отвезли в тюрьму, которую она покинула уже только в день казни. Мы с мадам Ролан расстались около полуночи, и я ушел спать, с огромными планами на будущий день касательно моей несравненной главы. Слышать, как на рассвете входили в гавань заграничные пароходы, и знать при этом, что я не у них на борту и не обязан вставать, было очень утешительно; и я встал, чтобы приняться за свою главу с огромным воодушевлением. Я настолько преуспел в этом> что уселся опять у моего окна, в это второе мое утро, и написал первые полстроки главы, которые тут же зачеркнул, потому что они мне не понравились; но тут я почувствовал угрызения совести по поводу того, что, в сущности, не осмотрел вчера курорт во время мертвого сезона, а сразу же ушел за его пределы со скоростью четырех с половиной миль в час. Очевидно, искупить этот грех я мог только тем, что выйду и буду осматривать его теперь, не откладывая этого дела ни на минуту. Вот почему — единственно во имя долга — я отложил мою блестящую главу до другого дня и вышел на улицу, заложив руки в карманы. Все дома и квартиры, которые когда-либо сдавались приезжим, были в то утро свободны. Как снежком, посыпало повсюду объявлениями "сдается внаем". Это заставило меня задуматься о том, что же делают владельцы всех этих жилищ во время мертвого сезона; чем они заполняют свое время, чем занимают свои умы. Не могут же они всегда ходить в методистские церкви, которые попадались на моем пути каждую минуту. Должны же быть у них какие-то другие развлечения. Может быть, они делают вид, что снимают квартиры друг у друга или, смеха ради, занимают друг у друга чай? Может быть, они отрезают ломти от своей собственной телятины и баранины и притворяются, что это — чужие? Может быть, они разыгрывают сценки из жизни, как это делают дети, и говорят: "Вот я сейчас приду в вашу квартиру, а вы запросите с меня на две гинеи больше, чем полагается; я скажу, что мне надо подумать до утра, а вы скажите, что другие леди и джентльмен, бездетные, уже почти согласились на ваши условия, и вы дали им слово ответить положительно через полчаса и уже собирались снять объявление о сдаче внаем, когда услышали стук в дверь; ну, тогда уж мне придется снять, сами понимаете". Множество таких предположений занимало мои мысли. Пройдя мимо обрывков афиш о прошлогодних гастролях цирка — они еще не отлепились от стен, — я оказался в поле, на окраине города, близ лесного склада, как раз там, где цирк давал свои представления; еще видна была монашеская тонзура на траве, обозначавшая место, где юная леди смело скакала на своей любимой лошади Светлячок. Возвратившись в город, я оказался среди лавок, и как выразительно они говорили о том, что теперь мертвый сезон! У аптекаря не было ни ящиков лимонада в порошке, ни косметического мыла и притираний для пляжа, ни волнующих духов: ничего не было, кроме больших пузатых красных бутылок, которые точно воспалились от зимних ветров и морской соли. У бакалейщика острые маринады, соус Гарвея, приправы д-ра Китченера, паштет из анчоусов, варенье "Денди" и все остальные роскошные возбудители аппетита зимовали где-то в подвале. Лавка фарфоровых изделий не предлагала никаких безделушек ни из каких дальних стран. "Модный базар" совсем сдался и только повесил на ставнях объявление, что магазин будет открыт после Троицы, а владельца, до того времени, можно найти в Уайлд-Лодж, Ист-Клифф. В заведении морских ванн, состоящем из чистых маленьких деревянных домиков высотой в семь-восемь футов, я видел самого владельца: он спал в ванне. Что до купальных кабинок, то они оказались (как они туда попали, пусть объяснит кто-нибудь другой) на вершине холма, по крайней мере в полутора милях от берега. Библиотека, которую я никогда не видел иначе, как с широко распахнутой дверью, была теперь наглухо закрыта; и два сердитых, плешивых старых джентльмена были, казалось, герметически закупорены внутри, вечно читая газету. То загадочное учреждение, которое называется Музыкальной лавкой, жило своей обычной жизнью (разве только, что теперь на складе было еще больше кабинетных роялей), точно для него разгар сезона или мертвый сезон — совершенно одно и то же. В витрине был тот же набор блестящих медных духовых инструментов, устрашающе-изогнутых, стоимостью, я думаю, в несколько тысяч фунтов; абсолютно немыслимо представить себе, чтобы кто-нибудь, в какой-либо сезон, играл на них или пожелал на них играть. Кроме того, в окне было пять треугольников, шесть пар кастаньет и три арфы, а также ноты всех полек в разноцветных обложках, какие когда-либо издавались, начиная с той первоначальной польки, где перед нами выступает, подбоченясь, пара высокородных и изящных поляков, мужчина и женщина, — и кончая "Дочерью Крысолова"[234]. Удивительное учреждение, неразрешимая загадка! Еще три лавки были примерно в том же состоянии, что и в разгар сезона. Во-первых, лавка, где продают часы для моряков и где можно еще видеть во множестве огромные старинные часы, предназначенные, как видно, смягчать падение с верхушки мачты и имеющие для завода нечто вроде пожарного гидранта. Во-вторых, лавка, торгующая матросской одеждой, где выставлены старые зюйдвестки, старые клеенчатые куртки, старые двубортные куртки и старый морской сундук с ручками, напоминающими пару серег из каната. В-третьих, — неизменная книжная лавка, где продают забытые приезжими книги. Здесь на обложках еще можно видеть, как доктор Фауст проваливается в красно-желтую преисподнюю под наблюдением трех чешуйчатых зеленых персонажей, у которых из лопаток тянутся длинные отростки в виде змей. Здесь еще продаются, по шесть пенсов за штуку, "Золотой Сонник" и "Норвудский прорицатель" с инструкциями насчет того, как испечь волшебный пирог и как гадать по чаинкам в чашке, и с изображением молодой женщины с высокой талией, возлежащей на диване в столь неудобной позе, что становится понятно, почему ей одновременно снится пожар, кораблекрушение, землетрясение, скелет, церковные врата, молния, похороны и молодой человек в ярко-синем сюртуке и панталонах канареечного цвета. Здесь есть также "Маленькие щебетуньи" и сборники комических песен Фэрберна. Есть также баллады на особой старой бумаге и со старым смешением шрифтов; где старик в кресле и в треуголке служит иллюстрацией к "Уиллу Уотчу, смелому контрабандисту";[235] а "Монах Серого Ордена"[236] представлен маленькой девочкой в кринолине и с корабликом вдали. Все как в те давние времена, когда эти предметы были для меня источником беспредельных восторгов. У меня ушло столько времени на то, чтобы вкусить от всех этих радостей, что мадам Ролан я мог посвятить не более часа перед сном. Мы с ней всецело сошлись во мнениях по поводу ее воспитания в монастыре, и я встал на следующее утро с глубоким убеждением, что наступил, наконец, день для написания великой главы. Но за ночь ветер стих, и когда я сидел за завтраком, я покраснел при мысли о том, что я ведь еще не побывал на Холмах. Я, такой отличный ходок, и не был еще на Холмах! Право же, в такое тихое и ясное утро это упущение должно быть наверстано. Следуя указаниям книги "Весь долг человека", я предоставил главу самой себе на данное время — и пошел на Холмы. Они были удивительно зелены и красивы и задали мне много работы. Когда я покончил со свежим воздухом и видами природы, пришлось спуститься в долину и осмотреть хмель (о котором я ничего не знаю) и позаботиться, равным образом, о вишневых садах. Затем я взял на себя труд подвергнуть допросу семейство бродяг, одетых в черное (мать у них, как они уверяли, — я не сомневаюсь, что уверяла меня в этом сама мать, — умерла неделю назад), и приложить к этому восемнадцать пенсов, которые произвели большое впечатление, вместе с моральными увещаниями, которые не произвели никакого впечатления. К моей непревзойденной главе я вернулся уже в конце дня. Тогда я решил, что она не по сезону, как и все вокруг, и отложил ее. Вечером я пошел в театр, на бенефис миссис Б. Уэджингтон, которая расклеила по всему городу призывы: "Не забудьте!". Сбор составил, по моим подсчетам, четыре шиллинга девять пенсов к началу представления, но, пожалуй, округлился в течение вечера до половины соверена. Не было ничего такого, что могло бы кого-либо задеть — кроме мистера Бринса из Лидса. Миссис Б. Уэджингтон пела под аккомпанемент рояля. То же делал и мистер Б. Уэджингтон; кроме того, он снял пиджак, закатал брюки и сплясал в деревянных башмаках. Б. Уэджингтона-младшего, в возрасте десяти месяцев, нянчила в это время в ложе дрожащая от холода молодая особа, и глаз миссис Б. Уэджингтон не раз косил в ту сторону. Мир всем Уэджингтонам, от А до Зет! Пусть они хоть где-нибудь придутся к сезону!
КАК ПОПАСТЬ В ОБЩЕСТВО
Среди превратностей, испытанных Домом, было и такое время, когда его снимал владелец цирка. Этот наниматель оказался записан в приходских книгах за соответствующий год, так что установить его фамилию не представило трудности. Труднее было найти его самого. Он вел кочевую жизнь, и поэтому оседлые люди потеряли его из виду, а те, кто кичился своей респектабельностью, не хотели сознаваться, что когда-либо имели с ним дело. В конце концов нам все же удалось обнаружить возле Детфорда, в болотистой и низменной местности среди огородов, деревянный дом на колесах; у дверей его курил трубку седоватый человек в вельветоне, с таким обветренным лицом, что оно казалось татуированным. Деревянный дом был поставлен на зимнюю стоянку около илистого речного устья, и все вокруг — скрытая туманом река, влажные болота и мокрые огороды — тоже курилось заодно с трубкой седоватого человека. За компанию со всеми этими курильщиками дымилась и труба деревянного дома на колесах. На вопрос: не снимал ли он в свое время Дома, Отдававшегося Внаем, Седоватый Вельветон с некоторым удивлением ответил: да, снимал. Значит, его зовут Мэгсмен? Совершенно верно, Мэгсмен, Тоби — во святом крещении Роберт, а в цирковом деле сызмала прозван Тоби… А что? Кажется, Тоби Мэгсмен ни в чем плохом не замечен. Кажется, ничего такого… Мы поспешили заверить его, что ничего такого не было. Просто мы наводим некоторые справки относительно Дома, так не скажет ли мистер Мэгсмен, почему он съехал. Пожалуйста, отчего не сказать? Все вышло из-за Лилипута. Из-за Лилипута? — Да, — повторил с расстановкой мистер Мэгсмен, — именно из-за Лилипута. Если это не слишком затруднит мистера Мэгсмена, быть может, он не откажется сообщить нам некоторые подробности? Подробности, сообщенные мистером Мэгсменом, были следующие: Во-первых, дело было давно, — когда еще не было запрещения на лотереи, да и на многое другое. Мистер Мэгсмен как раз подыскивал хорошее помещение, а когда увидел этот дом, сразу сказал себе: "Уж я тебя заполучу, если ты сдаешься. Никаких денег не пожалею", — Соседи очень обижались и стали жаловаться. А чего бы, кажется? Мы все устроили как следует. Первым делом вывесили афишу на холсте, с изображением Великана в брыжах и в испанских коротких штанах с буфами. Один только этот великан был высотой с полдома; а если еще подтянуть его на веревках и на блоке и укрепить на шесте, так голова приходилась вровень с крышей. Еще была у нас афиша про Женщину-Альбиноса, — как она красуется перед военным и моряком, и оба в полной форме. Была еще афиша с Диким Индейцем — как он скальпирует какого-то иностранца. А то была еще афиша с такой картинкой: два Удава душат ребенка Английского Плантатора, но только удавов мы не держали и детей тоже. Так же вот и афиша с Диким Ослом Прерий — диких ослов у нас не было; мы бы их даром не взяли. Ну и, наконец, была афиша с изображением Лилипута, и довольно схожая: как он стоит перед королем Георгом Четвертым, а его величество так удивляется, что при его толщине даже и выразить невозможно. Весь фасад был в афишах, так что в комнатах, которые по фасаду, были, конечно, полные потемки. Над входной дверью и окнами гостиной мы протянули полотнище, пятнадцать футов в длину и два в ширину: "Мэгсмен. Забавы и развлечения". Передняя была вся затянута зеленым сукном и уставлена растениями, наподобие беседки. Там постоянно играла шарманка. А насчет респектабельности — если уж три пенса за вход не респектабельно, чего еще, спрашивается, нужно? Так вот, насчет Лилипута: он этих денег, прямо надо сказать, стоил. В афишах его объявляли "Майор Тпсфаржский из Булградерской Императорской Бригады". Этого никто не мог выговорить, да и не к чему. Публика обыкновенно называла его Фаршский. А в нашем деле мы его звали Фарш. Это так получалось сокращенно. А еще потому, что настоящая его фамилия (я только сомневаюсь, чтоб она у него вообще была) — настоящая фамилия была Штекс. Вот уж действительно на редкость был мал, — не так, конечно, как его рисовали на афише, но где ж вы такого найдете? На редкость мал, а голова на редкость большая. А что у него было в голове — про то знал только он сам, если когда-нибудь составлял там полную опись, а это и для него было бы нелегкой работой. Очень хороший был Лилипут — таких поискать! Знал себе цену, но никогда не зазнавался. Когда мы, бывало, возили с собой Пятнистого Младенца, он этого младенца нянчил, прямо как мать, а ведь знал, что сам он — природный лилипут, а младенец-то нарочно разрисованный! Ни один великан тоже не слыхал от него худого слова. Правда, насчет Толстой Женщины из Норфолка он позволял себе по-всякому выражаться — но тут дела сердечные. Разве возможно человеку совладать с собой, когда женщина над ним насмеялась? И ведь на кого променяла? На Дикого Индейца! Фарш был слаб насчет женского пола — это уж так всегда, у всякого Чуда Природы. И непременно ему подавай крупных женщин. Я еще не встречал Лилипута, которому нравились бы маленькие. Недаром они называются — Чудо Природы. И еще одно у него крепко сидело в голове — и, значит, неспроста сидело. Он всегда был уверен, что ему суждено разбогатеть. Он никогда ничего не подписывал. Писать он умел (его обучил Безрукий Человек, который писал пальцами ног, — отлично писал и многих у нас обучил), но только Фарш скорее умер бы с голоду, чем стал зарабатывать свой хлеб писанием. Это особенно любопытно, если вспомнить, что у него ничего не было и ждать было неоткуда. Домик да блюдечко — вот и все имущество. Да и домик был просто ящик — только снаружи расписан как настоящий дом, в шесть окошек. Он туда залезал, надевал на указательный палец бриллиантовый перстень — на вид совсем как настоящий и звонил в колокольчик. Если смотреть из публики, получалось, что он сидит у окна гостиной. А блюдце у него было фарфоровое, для сборов после каждого представления. Я объявлял: "Леди и джентльмены, сейчас маленький человечек три раза обойдет зрителей и удалится за занавес". А он и в жизни, когда говорил что-нибудь важное, часто кончал этими словами; и так обычно прощался со мной перед сном. Даровитый был человек — даже можно сказать, поэт. Особенно он расходился, когда, бывало, сядет на шарманку и велит крутить ручку. Как музыка начнет отдаваться у него внутри, так он кричит: "Тоби, я чувствую, что разбогатею, — крути веселей! Увидишь, Тоби, я буду богат! Я уже считаю гинеи тысячами — крути веселей! Я слышу, как во мне звенит Монетный двор, Тоби! Меня так и распирает, сейчас стану с Английский банк!" Вот как действует на человека музыка, если он от природы поэт. Правда, кроме шарманки, он другой музыки не признавал, и даже терпеть не мог. А на публику он был постоянно зол. Это часто замечается у диковинок, которых показывают за деньги. Что его особенно обижало, это — зачем ему нет хода в общество. Все, бывало, говорил: "Чего бы мне хотелось, Тоби, так это — попасть в общество. А в моем проклятом положении разве попадешь в общество? Конечно, какой-нибудь неотесанный Дикий Индеец этого не чувствует. Разве он создан для общества? И Пятнистый Младенец не чувствует — он тоже не создан для общества. А я — дело другое". И никак мы не могли понять, куда Фарш тратит деньги. Жалованье ему шло хорошее — каждую субботу я ему аккуратно выкладывал денежки. Кроме того ешь вволю, а ел он как дятел — это уж все лилипуты так. Да еще на блюдце столько, бывало, соберет полупенсовых монет, что целую неделю ими позвякивает, — увяжет в платок и носит с собой. Однако ж денег у него никогда не водилось. Мы сперва думали, что это все Толстая Женщина из Норфолка, — но нет! Если Индеец до того тебе ненавистен, что ты ему скрипишь зубами прямо в лицо и тебя так и подмывает освистать его, когда он пляшет Военный Танец, не станешь же ты себе во всем отказывать, чтобы этот самый Индеец мог роскошествовать. Однажды, во время Эгэмских скачек, все вдруг разъяснилось. Публика в тот день что-то неохотно собиралась. Помню, Фарш звонит из окошка в свой колокольчик, а сам обернулся ко мне и шипит через плечо (ему приходилось стоять на коленях позади домика, потому что с ногами он там не помещался), обернулся и шипит: "Ну и публика, черт бы ее взял! Никак не соберешь!" Тут кто-то в толпе подымает над головой почтового голубя и объявляет: "У кого есть лотерейные билеты? Только что был розыгрыш! Главный выигрыш пал на номер три — семь — сорок два! Три — семь — сорок два!" Я уж проклял его про себя: зачем отвлекает публику. Ведь публика на все готова глядеть, кроме того, что ты ей показываешь. Если хотите проверить, соберите народ на любое представление, а потом впустите двух зрителей с опозданием и увидите — все только на них и будут глазеть, а на вас — никакого внимания. Так вот, я только было подумал: "Чтоб ты пропал, горластый!" — как вдруг вижу: Фарш швырнул свой колокольчик из окна, прямо в какую-то старушку, вскочил, опрокинул ящик, выдал, конечно, весь секрет, а сам уцепился за мои икры и говорит: "Неси меня в фургон, Тоби, вылей на меня ведро воды, приведи меня в чувство! Ведь я разбогател!" Двенадцать с лишним тысяч фунтов — вот сколько Фарш выиграл по этому билету! У него было полбилета, а весь билет выиграл двадцать пять тысяч. Первое, что он сделал, — вызвался биться с Диким Индейцем за пятьсот фунтов; ему чтобы биться отравленной штопальной иглой, а Индейцу — дубинкой; да только на Индейца никто таких денег не поставил. Тем дело и кончилось. Целую неделю он был не в себе. Если бы его в таком состоянии посадить на шарманку, хоть на две минуты, он, думается, лопнул бы. Но мы его к шарманке не допускали, а когда мистер Фарш опомнился, он нас всех щедро оделил. Потом послал за одним своим знакомым — очень приличный молодой человек, служил подручным шулера в игорном доме, и воспитание получил тонкое. Отец у него имел хорошую должность при конюшнях, да не повезло по коммерческой части — перекрасил старую серую лошадь в гнедую и продал за породистого рысака. Мистер Фарш и говорит этому молодому человеку (он себя называл Норманди, но это он врал): — Норманди, я хочу попасть в Общество. Пойдешь со мной? Норманди спрашивает: — Если я вас правильно понял, мистер Фарш, все расходы по переезду вы берете на себя? — Вот именно, — говорит мистер Фарш. — И насчет карманных денег тоже не беспокойся. Молодой человек поставил мистера Фарша на стул, пожал ему руку и отвечает стихами, а у самого на глазах слезы:
Вот и лодка у причала,
Скоро в море кораблю.
Я нимало не печалюсь
Еду с тем, кого люблю!
ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ[237]
I
Почти всем нам доводилось наблюдать романтические истории, происходившие в действительности. В качестве директора Конторы страхования жизни мне за последние тридцать лет пришлось, вероятно, чаще других людей наблюдать романтические истории, хотя на первый взгляд моя профессия, казалось бы, и не благоприятствует этому. Теперь я удалился от дел, живу на покое и поэтому располагаю возможностью, которой был раньше лишен, обдумывать на досуге свои наблюдения. Должен заметить, что мое прошлое теперь кажется мне более интересным, чем в те времена, когда оно было для меня настоящим. Ведь я, можно сказать, вернулся домой после спектакля, и теперь, когда занавес опустился, могу спокойно вспоминать все эпизоды драмы, — мне не мешают яркий свет, толкотня и суета театра. Позвольте мне рассказать одну такую романтическую историю из действительной жизни. Ничто так правильно не отражает души человека, как его лицо в сочетании с манерой держать себя. Чтение той книги, где на каждой странице, волею предвечной мудрости, запечатлены неповторимые черты характера того или иного мужчины или женщины, — трудное искусство, и его не очень усердно изучают. Пожалуй, оно требует некоторых врожденных способностей и, несомненно, требует (как и все на свете) кое-какого терпения и прилежания. Но можно утверждать с почти полной уверенностью, что мало кто изучает его терпеливо и прилежно: большинство полагает, будто все великое разнообразие человеческих характеров отражается в нескольких самых обычных выражениях лица, и не только не замечает, но и не ищет тех трудноуловимых отличительных черт, которые важнее всего, гак что, если вы, например, с большой затратой времени и внимания учитесь чтению нот или греческих, латинских, французских, итальянских, древнееврейских книг, то вы даже не пытаетесь что-нибудь прочесть на лице учителя или учительницы, которые обучают вас этому, заглядывая через ваше плечо в тетрадь или книгу. Быть может, это объясняется известной самоуверенностью: вы считаете, что вам ни к чему изучать выражения человеческих лиц, ибо вы их достаточно хорошо знаете от природы, а следовательно, не ошибетесь. Я, со своей стороны, признаюсь, что ошибался бесчисленное множество раз. Я ошибался в знакомых и (само собой разумеется) ошибался в друзьях, гораздо чаще в друзьях, чем в других людях. Как же получилось, что я мог так обманываться? Разве я совсем неправильно читал в их лицах? Нет. Верьте мне, мое первое впечатление от этих людей, внушенное мне их лицами и манерой держать себя, неизменно оказывалось правильным. Ошибка моя была в том, что я позволял этим людям сближаться со мной и самим говорить о себе.II
Перегородка, отделявшая мой личный кабинет от нашей конторы в Сити, была из толстого зеркального стекла. Через нее я мог видеть все, что происходило в конторе, но не слышал ни единого слова. Этой перегородкой я распорядился заменить стену, стоявшую здесь много лет — с тех пор, как построили дом. Не важно, потому ли я сделал эту замену, что хотел получать первое впечатление о приходивших к нам по делу незнакомцах, только глядя на их лица, но отнюдь не позволяя этим людям влиять на меня своими речами, или еще почему-нибудь; достаточно сказать, что я пользовался стеклянной перегородкой для этой именно цели и что любая контора страхования жизни всегда находится под угрозой мошенничества со стороны самых ловких и жестоких негодяев. Через эту-то стеклянную перегородку я впервые и увидел человека, историю которого хочу рассказать. Я не видел, как он вошел, видел только, что, положив на широкий прилавок шляпу и зонт, он перегнулся через этот прилавок, чтобы взять какие-то бумаги у клерка. Посетитель был человек лет сорока, черноволосый, весьма изысканно одетый, весь в черном — он был в трауре, — а его вежливо протянутую руку облегала черная лайковая перчатка. Волосы его, тщательно причесанные и напомаженные, были разделены прямым пробором, и незнакомец, наклонившись, обратил этот пробор к клерку с таким видом (казалось мне), словно хотел сказать: "Будьте добры, друг мой, принимайте меня за того, кем я хочу казаться. Следуйте прямо сюда, по песчаной дорожке; по траве не ходите — вторжений я не терплю". Как только я увидел этого человека, я почувствовал к нему сильнейшую антипатию. Он попросил несколько наших печатных бланков, и клерк, вручая ему бланки, стал давать объяснения. Признательная и любезная улыбка сияла на лице посетителя, а глаза его весело смотрели в глаза клерка. (Я слышал, сколько чепухи говорят о том, что скверные люди будто бы не могут прямо смотреть в лицо собеседнику. Не верьте этому предвзятому мнению. Нечестный человек всегда способен выдержать взгляд честного, если только этим можно что-нибудь выиграть.) Я заметил, что он уголком глаза увидел, как я смотрю на него. Он сейчас же обратил свой пробор к стеклянной перегородке, как бы говоря мне с милой улыбкой: "Прямо сюда, будьте добры. Сойдите с травы!" Немного погодя он надел шляпу, взял зонт и ушел. Я вызвал клерка к себе в кабинет и спросил: — Кто это приходил? Клерк держал в руках визитную карточку посетителя. — Мистер Юлиус Слинктон, проживающий в Мидл-Тэмпле[238]. — Он адвокат, мистер Адамc? — Думаю, что нет, сэр. — Мне показалось было, что он священник, но на карточке не написано "его преподобие", — сказал я. — Судя по его наружности, сэр, — сказал мистер Адаме, — он готовится к посвящению в духовный сан. Следует отметить, что посетитель носил изящный белый галстук и манишка у него была тоже очень изящная. — Зачем он приходил, мистер Адаме? — Только взять бланк для заявления, сэр, и бланк для поручительства. — Ему кто-нибудь посоветовал обратиться к нам? Он сказал кто? — Да, сэр, он объяснил, что пришел по совету одного из ваших друзей. Он видел вас, но сказал, что, не имея удовольствия быть с вами знакомым, не станет вас беспокоить. — А он знает, как меня зовут? — Да, сэр! Он сказал: "Я вижу, там сидит мистер Сэмсон!" — Он, должно быть, выражается очень изысканно? — Чрезвычайно изысканно, сэр. — Манеры у него, должно быть, вкрадчивые? — Совершенно верно, сэр, очень вкрадчивые. — Так! — сказал я. — Мне пока больше ничего не нужно, мистер Адамc. Спустя две недели я пришел на званый обед к одному своему другу, купцу, человеку со вкусом, собирателю картин икниг, и первый, кого я увидел среди гостей, был мистер Юлиус Слинктон. Он стоял перед камином, обратив к присутствующим свое честное, открытое лицо и глядя на них ласковыми большими глазами, но тем не менее (казалось мне) требуя, чтобы все подходили к нему по расчищенной и указанной им дорожке — никак не иначе. Я услышал, как он попросил моего друга представить его мистеру Сэмсону, и мой друг познакомил нас. Мистер Слинктон был очень счастлив встретиться со мной. Не чрезмерно счастлив — он не перебарщивал; он был счастлив, как прекрасно воспитанный, вполне светский человек. — Я думал, что вы уже знакомы, — заметил наш хозяин. — Нет, — сказал мистер Слинктон. — Я, правда, заходил в контору мистера Сэмсона по вашему совету, но я просто не считал себя вправе беспокоить самого мистера Сэмсона по таким пустякам, с которыми мог справиться любой клерк. Я заметил, что охотно оказал бы ему всяческое содействие, если бы знал, что его рекомендовал мой друг. — Я в этом уверен, — отозвался он, — и очень вам признателен. В другой раз я, быть может, буду менее щепетильным. Но, конечно, только в том случае, если приду по более важному делу, — ведь я знаю, мистер Сэмсон, как драгоценно время делового человека и как много на свете навязчивых людей. Я ответил на эти учтивые слова легким поклоном. — Вы собирались застраховать свою жизнь? — спросил я. — Нет, что вы! Я, к сожалению, вовсе не такой предусмотрительный человек, каким вы любезно считаете меня, мистер Сэмсон. Просто я наводил справки для одного своего приятеля. Но вы знаете, что такое приятели в подобных делах! Быть может, из всего этого ничего и не выйдет. Я очень не люблю беспокоить деловых людей справками для моих приятелей: ведь тысяча шансов против одного, что приятели так и не воспользуются этими справками. Люди так непостоянны, себялюбивы, беспечны! Не правда ли, мистер Сэмсон, вы каждый день убеждаетесь в этом по ходу своей работы? Я хотел было ответить обстоятельно, но он обратил ко мне свой ровный белый пробор, как бы говоря: "Прямо сюда, прошу вас!" — и я ответил: — Да. — Я слышал, мистер Сэмсон, — заговорил он снова (потому что обед, против обыкновения, запаздывал, — повар у нашего хозяина был новый), — будто недавно вы и ваши собратья понесли большую потерю. — В денежном отношении? — спросил я. Посмеиваясь над тем, что при слове "потеря" я так быстро вспомнил о деньгах, он сказал: — Нет, в отношении таланта и энергии. Не сразу поняв его намек, я призадумался. — Разве мы действительно понесли такую потерю? — спросил я. — А я и не знал об этом. — Выскажусь яснее, мистер Сэмсон. Я не предполагал, что вы ушли на покой. Дело еще не так плохо. Но мистер Мелтем… — А, так это вы про него! — сказал я. — Да! Мистер Мелтем — молодой секретарь страховой конторы "Неоценимые преимущества". — Вот именно, — подтвердил он с сочувственным видом. — Это действительно большая потеря. Он был самым дальновидным, самым своеобразным и самым энергичным из всех знакомых мне людей, работающих по страхованию жизни. Я говорил горячо, так как очень уважал Мелтема и восхищался им, а мой собеседник возбудил во мне смутные подозрения в том, что он подсмеивается над этим молодым человеком. Мистер Слинктон призвал меня к порядку, обратив ко мне аккуратную дорожку на своей голове и как бы повторяя все те же проклятые слова: "Будьте добры, сойдите с травы, — вот дорожка". — Вы знали его, мистер Слинктон? — Только понаслышке. Быть его знакомым или другом — это такая честь, которой я добивался бы, если бы он по-прежнему вращался в обществе; хотя мне, возможно, и не посчастливилось бы добиться этой чести, потому что я несравненно менее видный человек. Ему было немногим более тридцати лет, так, кажется? — Около тридцати. — Да… — вздохнул он все так же сочувственно. — Какие мы слабые существа! Расстроить свое здоровье, мистер Сэмсон, и стать неспособным к труду в таком возрасте!.. А что слышно — какие именно причины вызвали это несчастье? "Гм! — мысленно произнес я, взглянув на него. — А я вот не хочу идти по дорожке, я пойду по траве". — Какую причину называли вам, мистер Слинктон? — спросил я напрямик. — Скорей всего ложную. Вы знаете, что такое Молва, мистер Сэмсон. Я никогда не передаю другим того, что слышал: это единственный способ остричь когти и обрить голову Молве. Но когда не кто иной, как вы, спрашиваете меня, чем объясняют то, что Мелтем стал вести жизнь отшельника, это другое дело. Отвечая вам, я не потворствую праздным сплетням. Мне говорили, мистер Сэмсон, что мистер Мелтем бросил все свои дела и отказался от всех своих видов на будущее потому, что сердце его было разбито. Неудачная любовь, как я слышал… хотя это маловероятно, когда дело идет о столь достойном и привлекательном человеке. — Привлекательность и достоинства бессильны против смерти, — сказал я. — Ах, значит, та, кого он любил, умерла? Простите, пожалуйста. Об этом я не слыхал. Если так, все это действительно очень грустно. Бедный мистер Мелтем! Она умерла? Ах, боже мой! Печально, печально! Мне по-прежнему казалось, что сострадание его не совсем искренне, и я по-прежнему угадывал за всеми его слонами какую-то необъяснимую насмешку, но когда доложили, что обед подан и нам, как и всем прочим гостям, пришлось прекратить разговор, мистер Слинктон добавил: — Мистер Сэмсон, вы удивлены, что я так растроган судьбой человека, с которым не был знаком. Но и мне пришлось пережить нечто подобное. У меня тоже, и тоже недавно, умер близкий человек. Я потерял одну из своих двух прелестных племянниц, которые всегда жили в моем доме. Она умерла в юном возрасте — всего двадцати трех лет, — а пережившая ее сестра тоже не отличается крепким здоровьем. Мир — это могила! Он произнес это с глубоким чувством, и я начал раскаиваться в своей холодности. Я знал, что это мой горький опыт породил во мне холодность и недоверие к людям — подобные чувства вовсе не были свойственны мне от природы, — и я часто думал, как много потерял и жизни, потеряв доверчивость, и как мало приобрел, приобретя осторожность. Такие мысли были мне привычны, и беседа с мистером Слинктоном взволновала меня сильнее, чем могло бы взволновать более важное дело. За обедом я прислушивался к нему и заметил, как охотно откликались на его слова другие люди и как умело он выбирал темы, доступные и близкие его сотрапезникам. Беседуя со мной перед обедом, он завел разговор на тему, которая явно была знакома мне лучше всего и больше всего интересовала меня, и теперь, беседуя с другими, руководствовался тем же правилом. Общество собралось разнообразное, но он, насколько я мог заметить, сумел найти особый подход к любому из присутствующих. Он достаточно знал о занятиях каждого, чтобы тому было приятно поговорить с ним, и в то же время так мало, что скромные его расспросы казались естественными. Он все говорил и говорил, но, в сущности, вовсе не навязчиво, казалось, что это мы сами заставляем его говорить, — а я сидел и сердился на себя. Я мысленно разобрал его лицо на составные части, словно это были часы, и принялся подробно изучать их. Я не мог сказать, что мне не нравятся черты его лица, каждая в отдельности; еще меньше я мог сказать это, когда соединил их все вместе. "В таком случае, разве не чудовищно, — спросил я себя, — что я мог заподозрить и даже возненавидеть человека только потому, что он причесывается на прямой пробор?" (Замечу в скобках, что это не делало чести моему здравому смыслу. Наблюдая незнакомого человека и поймав себя на том, что какая-нибудь пустяковая черточка в нем кажется тебе отталкивающей, не следует закрывать на это глаза. Ведь она может послужить ключом к раскрытию всех его тайн. Несколько волосков могут указать, где спрятался лев. Очень маленьким ключиком можно отпереть очень большую дверь.) Через некоторое время я снова разговорился с ним, и нам удалось найти общий язык. В гостиной я спросил хозяина дома, давно ли он знаком с мистером Слинктоном. Тот ответил, что всего несколько месяцев; они познакомились у одного здесь присутствующего известного художника, а художник близко сошелся с мистером Слинктоном, когда тот путешествовал с племянницами по Италии, надеясь, что там поправится их здоровье. Планы Слинктона на будущее разрушила смерть одной из племянниц, поэтому он теперь готовится снова поступить в университет, получить диплом и принять сан священника. Мне пришлось убедить себя, что этим и объясняется его интерес к бедному Мелтему и что было почти жестоко с моей стороны заподозрить его из-за такого пустяка.III
Через день после этого я снова сидел за своей стеклянной перегородкой, как вдруг он снова вошел в контору. Едва я его увидел, еще не услышав его слов, как тотчас возненавидел пуще прежнего. Это длилось всего мгновенье, — не успел я взглянуть на него, как он приветливо помахал мне рукой в тугой черной перчатке и вошел в мой кабинет. — Добрый день, мистер Сэмсон! Как видите, я воспользовался вашим любезным разрешением ненадолго оторвать вас от занятий. Я не сдержал своего обещания не беспокоить вас иначе, как по важному делу, ибо дело у меня если позволительно употребить это слово в данном случае, — дело у меня самое пустяковое. Я спросил, чем могу быть ему полезным. — Благодарю вас, ничем. Я просто зашел в контору узнать, не изменил ли себе мой медлительный приятель — не превратился ли он в практичного и благоразумного человека. Но, конечно, оказалось, что он ничего не сделал. Я собственноручно передал ему ваши бланки, и он уверял, что обязательно их заполнит, но, конечно, ничего не сделал. Люди вообще неохотно делают то, что нужно, но особенно неохотно они страхуют свою жизнь. Для них это все равно что написать завещание. До чего суеверны люди — они думают, что, написав завещание, непременно вскоре же умрут. "Будьте добры, сюда, прямо сюда, мистер Сэмсон. Не вправо и не влево". Мне так и чудилось, будто он, улыбаясь, шепчет эти слова, а его невыносимый пробор торчал у меня прямо перед глазами. — Некоторые люди действительно так думают, — согласился я, — но их, по-моему, не очень много. — Ну, — проговорил он, пожав плечами и улыбнувшись, — хотел бы я, чтобы какой-нибудь добрый гений указал моему приятелю правильный путь. Я несколько опрометчиво пообещал его матери и сестре — они живут в Норфолке[239] последить за тем, чтобы он застраховал свою жизнь, да и сам он обещал им сделать это. Но он, должно быть, никогда не соберется. Поболтав еще минуты две о том о сем, он ушел. На следующее утро, не успел я отпереть ящики своего письменного стола, как мистер Слинктон снова явился. Я заметил, что он подошел прямо к двери в моей перегородке, ни на мгновение не задержавшись в конторе. — Вы можете уделить мне две минуты, дорогой мистер Сэмсон? — Пожалуйста. — Очень признателен, — сказал он, положив на стол шляпу и зонт, — я пришел рано, чтобы не прерывать ваших занятий. Дело в том, что меня застало врасплох заявление моего приятеля. — А разве он написал заявление? — спросил я. — Да-а, — ответил он, задумчиво глядя на меня; и вдруг его словно осенила неожиданная догадка, — или он только сказал мне, что написал? Быть может, это для него лишь новый способ увильнуть. Черт возьми, как это не пришло мне в голову! Мистер Адамс в это время распечатывал утреннюю корреспонденцию в конторе. — Как фамилия вашего приятеля, мистер Слинктон? — спросил я. — Беквит. Я выглянул в контору и попросил мистера Адамса проверить, получено ли заявление от Беквита, и если получено, принести его. Мистер Адамс, оказывается, уже положил это заявление на прилавок. Его легко разыскали в ворохе других бумаг, и клерк передал его мне. Альфред Беквит. Заявление о желании застраховать свою жизнь на две тысячи фунтов. Помечено вчерашним числом. — Адрес — Мидл-Тэмпл, мистер Слинктон. — Да. Мой приятель живет на одной лестнице со мной; дверь в дверь. Но я никак не ожидал, что он укажет на меня как на своего поручителя. — Однако это очень естественно с его стороны. — Совершенно верно, мистер Сэмсон, но я этого никак не ожидал. Та-ак! Он вынул из кармана печатный бланк. — Как же мне ответить на все эти вопросы? — Разумеется — по совести, — ответил я. — Ну, разумеется! — сказал он, с улыбкой подняв глаза. — Я хотел только сказать, что вопросов очень уж много! Но вы правы, что проявляете такую предусмотрительность. Вам необходимо быть предусмотрительным. Вы разрешите мне воспользоваться вашим пером и чернилами? — Пожалуйста. — И вашим столом? — Пожалуйста. Он уже высматривал на столе место между своей шляпой и зонтом, на которое можно было бы положить бланк. Затем он сел в мое кресло, перед моим бюваром и чернильницей, а я, став спиной к камину, увидел прямо перед собой длинную дорожку на его голове. Прежде чем ответить на какой-либо вопрос, он прочитывал его вслух и обсуждал. Сколько лет он знаком с мистером Альфредом Беквитом? Это ему пришлось сосчитать по пальцам. Какой образ жизни ведет мистер Альфред Беквит? На это ответить нетрудно: он в высшей степени умеренный человек, но, пожалуй, слишком усердно занимается спортом. Все ответы были удовлетворительны. Написав последний, мистер Слинктон просмотрел их с самого начала и, наконец, подписался очень красивым почерком. Потом спросил, все ли он сделал, что требовалось? Я ответил, что мы, вероятно, не будем больше его беспокоить. Он может оставить бумаги здесь? Пожалуйста. Очень признателен. До свиданья. В тот день ко мне до него приходил еще один посетитель, но не в контору, а на дом. Этот посетитель явился еще затемно, застал меня в кровати, и никто не узнал о его посещении, кроме моего преданного доверенного слуги. Второй бланк (ибо мы всегда требовали два поручительства) был послан в Норфолк и своевременно пришел обратно по почте. В нем также все ответы были во всех отношениях удовлетворительны. Мы выполнили все формальности, заключили соглашение и получили страховой взнос за год.IV
После этого я шесть-семь месяцев не видел мистера Слинктона. Однажды он зашел ко мне на квартиру, но меня не оказалось дома; в другой раз он пригласил меня отобедать с ним в Тэмпле, но я был занят. Приятель его застраховал спою жизнь в марте. В конце сентября или в начале октября я поехал в Скарборо[240] подышать морским воздухом и там встретил мистера Слинктона на взморье. Вечер был жаркий. Мистер Слинктон подошел ко мне, держа шляпу в руке, и опять у меня перед глазами очутилась та же самая дорожка, по которой мне так не хотелось идти. Он был не один, — с ним под руку шла молодая девушка. Она была в трауре, и я взглянул на нее с большим интересом. Здоровье у нее, по-видимому, было слабое, а лицо необыкновенно бледное и печальное, но она была очень хороша собой. Мистер Слинктон представил мне ее как свою племянницу, мисс Найнер. — Вы прогуливаетесь, мистер Сэмсон? Неужели вы умеете бездельничать? — Да, я умею бездельничать, и я прогуливаюсь. — Не погулять ли нам вместе? — С удовольствием. Мы направились в сторону Файли по прохладному морскому песку. Девушка шла между нами. — Смотрите, следы колес, — сказал мистер Слинктон. — Ага, понимаю — это от передвижного кресла для больных! Маргарет, милая моя, это, конечно, твоя тень! — Тень мисс Найнер? — повторил я, глядя на ее тень на песке. — Не эта, — со смехом объяснил мистер Слинктон. — Маргарет, дорогая моя, расскажи мистеру Сэмсону. — В сущности, рассказывать не о чем, — промолвила девушка, повернувшись ко мне, — просто, куда бы я ни пошла, я постоянно вижу, как за мной следует какой-то пожилой джентльмен, инвалид. Я рассказала об этом дяде, и он прозвал его моей тенью. — Он постоянно живет в Скарборо? — спросил я. — Нет, он поселился здесь на время. — А вы постоянно живете в Скарборо? — Нет, я тоже временно поселилась здесь. Дядя поместил меня в одну семью, надеясь, что здесь я поправлюсь. — А ваша тень? — спросил я с улыбкой. — Моя тень… — ответила она, тоже улыбаясь, — моя тень… так же как и я… видимо, не очень крепкого здоровья: по временам я теряю свою тень, а иногда моя тень теряет меня. Должно быть, нам обоим частенько приходится сидеть дома. Вот уже несколько дней как я не видела своей тени; а ведь бывает, что много дней подряд, куда бы я ни пошла, там, по какому-то странному совпадению, появляется и этот джентльмен. Я встречала его здесь даже в самых безлюдных глухих уголках. — Это он? — спросил я, указывая рукой вперед. Следы колес спустились к самой воде и, повернув, оставили на песке большую петлю. И вот мы увидели, что, дописывая и вытягивая эту петлю, по направлению к нам движется кресло на колесах, которое катит мужчина. — Да, дядя, — сказала мисс Найнер, — это действительно моя тень. Когда кресло приблизилось к нам, а мы к нему, я увидел в нем укутанного в пледы старика с поникшей на грудь головой. Кресло катил очень степенный, но очень сметливый на вид человек, седой и слегка прихрамывающий. Они уже миновали нас, как вдруг кресло остановилось и сидевший в нем старик махнул рукой и окликнул меня по имени. Я пошел обратно и минут на пять расстался с мистером Слинктоном и его племянницей. Когда я вернулся, мистер Слинктон заговорил первый. Больше того — я еще не успел к ним подойти, а он уже сказал, возвысив голос: — Хорошо, что вы не задержались дольше, мистер Сэмсон. а не то моя племянница умерла бы от любопытства, — так ей не терпится узнать, кто ее тень. — Это один из бывших директоров Ост-Индской компании, — сказал я. — Он близкий друг нашего общего знакомого, в доме которого я имел удовольствие познакомиться с вами. Некий майор Бэнкс. Вы слыхали о нем? — Никогда. — Очень богатый человек, мисс Найнер, но очень старый и очень хворый. Приятный, умный… весьма интересуется вами. Он как раз распространялся о том, что заметил, до чего вы и ваш дядя привязаны друг к другу. Мистер Слинктон снова снял шляпу и провел рукой по прямой дорожке, казалось, он сам спокойно прошелся по ней следом за мной. — Мистер Сэмсон, — сказал он, ласково взяв племянницу под руку, — мы всегда были глубоко привязаны друг к другу, — ведь у нас было очень мало близких родных. Теперь их стало еще меньше. Нас с тобой, Маргарет, связывают крепкими узами те, кого уже нет на свете! — Милый дядя! — пролепетала девушка, отвернувшись, чтобы скрыть слезы. — У нас есть общие воспоминания и горести такого рода, мистер Сэмсон, проникновенно продолжал он, — что было бы поистине странно, если бы мы относились друг к другу холодно и равнодушно. Если вы припомните одну нашу с вами беседу, вы поймете, о чем я говорю. Успокойся, милая Маргарет! Не падай духом, не падай духом. Моя Маргарет! Я не в силах видеть, как ты убиваешься! Бедная девушка была очень расстроена, но скоро овладела собой. Ее дядю тоже обуревали какие-то сильные чувства. Оказалось даже, что ему совершенно необходимо поддержать свои силы, и он пошел искупаться в море, оставив меня с девушкой на скалистом берегу и, очевидно, предполагая — но вы скажете, что ему простительно было позволить себе такую роскошь, — что племянница будет расхваливать его от всего сердца. Так она и сделала, бедняжка! От всего своего доверчивого сердца она хвалила мне дядю за его заботы о ее покойной сестре, и неутомимую преданность во время ее последней болезни. Сестра угасала очень медленно, и к концу у нее появились какие-то дикие и страшные фантазии, но он неизменно был терпелив с нею и ни разу не растерялся; всегда был мягок, внимателен и сдержан. Покойная сестра, да и сама Маргарет считали его лучшим из людей, добрейшим из людей и вместе с тем человеком исключительной силы воли, что служило надежной опорой для этих слабых девушек, пока длилась их жалкая жизнь. — Я покину его, мистер Сэмсон, и очень скоро, — говорила девушка, — я знаю, жизнь моя близится к концу, а когда меня не станет, он, надеюсь, женится и будет счастлив. Я уверена, что он так долго оставался холостым только ради меня и моей бедной, бедной сестры. Кресло на колесах сделало еще одну большую петлю по сырому песку и теперь снова возвращалось к нам, постепенно выписывая вытянутую восьмерку длиной в полмили. — Милая девушка, — сказал я вполголоса, оглянувшись кругом и взяв ее за руку, — нельзя терять ни минуты. Слышите вы тихий рокот моря? Она взглянула на меня с величайшим изумлением и тревогой и сказала: — Да. — А вы знаете, какой голос бывает у моря, когда надвигается шторм? — Да! — Вы видите, каким спокойным и мирным оно лежит перед вами; но ведь вы знаете и то, как грозно и беспощадно может оно показать нам свою силу хотя бы сегодня ночью! — Да! — Но если бы вы никогда не видели и не слышали этого или не слыхали о жестокости моря, разве вы могли бы поверить, что оно без всякой жалости вдребезги разбивает все предметы, лежащие на его пути, и без сожаления разрушает все живое? — Вы пугаете меня, сэр! — Чтобы спасти вас, милая, чтобы спасти вас! Ради бога, соберите свои силы и соберитесь с духом! Будь вы здесь одна, во власти прилива, грозящего подняться на пятьдесят футов над вашей головой, опасность была бы меньше той, от которой вас нужно спасти теперь. Восьмерка на песке была дописана, и к ней прибавилась короткая кривая, закончившаяся у скалы совсем близко от нас. — Клянусь Небом и Судьей всего человечества, я ваш друг и друг вашей умершей сестры, поэтому убедительно прошу вас, мисс Найнер, не теряя ни минуты, пойти со мною к этому джентльмену в кресле! Если бы кресло остановилось подальше, мне вряд ли удалось бы увести девушку; но оно стояло так близко, что не успела она опомниться, как я увел ее со скалы и мы подошли к нему. Я пробыл там с нею не более двух минут. Ровно через пять минут я почувствовал неизъяснимое удовлетворение, увидев с того места, где мы сидели и куда я вернулся, — что девушку поддерживает, или, вернее, почти несет, энергичный крепкий человек, помогая ей взобраться по крутым ступенькам, высеченным в скале. Я знал, что, когда этот человек с нею, она в безопасности, где бы она ни была. Я сидел один на скале, дожидаясь возвращения мистера Слинктона. Сумерки уже сгущались и повсюду ложились темные тени, когда он появился из-за скалистого мыса: шляпа висела у него на пуговице, одной рукой он приглаживал мокрые волосы, а другой проводил в них карманной гребенкой все ту же дорожку. — Моя племянница отошла куда-нибудь, мистер Сэмсон? — спросил он, оглядываясь по сторонам. — После захода солнца мисс Найнер стало холодно, и она ушла домой. Он как будто удивился — очевидно, она даже в мелочах привыкла не делать ни одного шага без его ведома. — Это я уговорил мисс Найнер, — объяснил я. — А! — промолвил он. — Ее легко уговорить… для ее же пользы. Благодарю вас, мистер Сэмсон, дома ей будет лучше. Сказать правду, место, где купаются, оказалось дальше, чем я думал. — Здоровье у мисс Найнер очень слабое, — заметил я. Он покачал головой и глубоко вздохнул. — Очень, очень, очень! Помните, я уже говорил вам об этом. С тех пор она ничуть не окрепла. Я с тревогой вижу, как мрачная тень, так рано упавшая на ее сестру, сгущается теперь вокруг нее самой и становится все темней и темней. Милая Маргарет, бедная Маргарет! Но не будем терять надежды. Кресло на колесах двигалось перед нами с быстротой, отнюдь не подобающей экипажу инвалида, и выписывало на песке какие-то загогулины. Отняв платок от глаз, мистер Слинктон заметил это и сказал: — Сдается мне, ваш знакомый, того и гляди, опрокинется, мистер Сэмсон. — Да, похоже на то, — согласился я. — Его слуга, как видно, пьян. — Слуги пожилых джентльменов иногда напиваются, — сказал я. — Майор, должно быть, легок, как перышко, мистер Сэмсон. — Как перышко, — подтвердил я. В это время кресло, к моему облегчению, скрылось в темноте. Некоторое время мы молча шагали рядом по песку. Но вот мистер Слинктон снова заговорил, и в его голосе все еще звучало волнение, вызванное нездоровьем его племянницы. — Вы еще долго здесь проживете, мистер Сэмсон? — Да нет. Я уезжаю сегодня в ночь. — Так скоро? Впрочем, дела постоянно требуют вашего присутствия. Люди, подобные мистеру Сэмсону, так нужны другим, что им приходится отказывать себе в отдыхе и развлечениях. — Может, и так, — сказал я. — Во всяком случае, я уезжаю. — В Лондон? — В Лондон. — Я тоже буду там вскоре после вас. Это я знал не хуже его. Но не сказал ему, что знаю. Не сказал и о том, какое оружие я взял с собой для самозащиты и теперь, шагая рядом с ним, сжимаю правой рукой у себя в кармане. Не сказал также, почему, когда стемнело, я старался идти подальше от воды. Мы ушли с берега, а дальше нам было не по пути. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и уже расстались, как вдруг он вернулся и сказал: — Мистер Сэмсон. позвольте спросить вас кое о чем. Бедный Мелтем, о котором мы когда-то говорили… он еще жив? — Когда я в последний раз слышал о нем, он был жив; но он такой болезненный человек, что долго не протянет и уж, во всяком случае, не сможет приняться за свои прежние занятия. — Ах! Ах! — проговорил мистер Слинктон с глубоким чувством. — Грустно! Грустно! Мир — это могила! И он пошел своей дорогой. Не его вина, если мир на самом деле не могила; но я не сказал ему этого, так же как не рассказал обо всем том, что описал выше. Он пошел своей дорогой, а я своей, и притом очень поспешно. Это случилось, как я уже сказал, либо в конце сентября, либо в начале октября. В следующий, и последний, раз я увидел его в конце ноября.V
Я твердо договорился с одним знакомым, что приду позавтракать у него в Тэмпле. Утро было холодное, дул резкий северо-восточный ветер, талый снег, перемешанный с грязью, лежал на улицах толстым слоем. Я не смог достать экипаж и вскоре промок до колен; но я все равно отправился бы в Тэмпл, даже если бы мне пришлось окунуться в эту слякоть по самую шею. Человек, пригласивший меня, жил в Тэмпле, на верхнем этаже углового дома с видом на реку. На двери в его квартиру была надпись: "Мистер Беквит". На противоположной двери на той же площадке: "Мистер Юлиус Слинктон". Двери обеих квартир были отворены настежь, и все, что говорилось в одной, было слышно в другой. Я еще ни разу не был здесь. Квартира производила гнетущее впечатление мрачная, душная, тесная: мебель, некогда хорошая и еще не ветхая, вся выцвела и загрязнилась; в комнатах царил ужасающий беспорядок; все было пропитано сильным запахом опиума, спирта и табака; каминная решетка, щипцы, совок и кочерга были сплошь покрыты безобразными пятнами ржавчины, а на диване перед камином в той комнате, где был приготовлен завтрак, лежал хозяин дома, мистер Беквит, с виду — горчайший пьяница, уже очень далеко продвинувшийся на своем позорном пути к смерти. — Слинктон еще не пришел, — сказал этот жалкий человек, с трудом поднявшись на ноги при виде меня. — Я позову его… Эй, Юлий Цезарь! Приходи, выпьем! Хрипло выкрикивая эти слова, он, как безумный, стучал кочергой о щипцы, — должно быть, он всегда вызывал своего собутыльника таким способом. Сквозь этот шум из квартиры напротив послышался голос мистера Слинктона, и вот он сам вошел в комнату. Он не ожидал, что будет иметь удовольствие встретиться со мной. Мне не раз приходилось видеть, как иных ловкачей припирают к стене, но я в жизни не видывал, чтобы человек так испугался, как испугался он, когда глаза его встретились с моими. — Юлий Цезарь! — заорал Беквит и, пошатываясь, стал между нами. Мистер Сэмсон, Юлий — мой закадычный друг. Юлий угощает меня спиртным утром, в полдень и вечером. Юлий — настоящий благодетель. Юлий вышвыривал чай и кофе в окошко, когда они у меня еще водились. Юлий выливает воду из всех кувшинов и наполняет их спиртными напитками. Юлий заводит меня, как игрушку, и толкает вперед… Вари жженку, Юлий! Ржавая, покрытая накипью кастрюля стояла на куче золы (очевидно, зола накапливалась здесь много недель), а Беквит вертелся, пошатываясь, между нами и, рискуя попасть головою в огонь, наконец вытащил кастрюлю и стал совать ее в руки Слинктону. — Вари жженку, Юлий Цезарь! Ну же! Делай свое всегдашнее дело. Вари жженку! Он так яростно размахивал кастрюлей, что я опасался, как бы он не раскроил ею голову Слинктону. Поэтому я протянул руку, чтобы остановить его. Шатаясь, он отошел к дивану, повалился на него, задыхаясь и дрожа в своем рваном халате, и налитыми кровью глазами уставился на нас обоих. Я заметил, что на столе не было никаких напитков, кроме коньяка, и никакой еды, кроме соленых селедок и горячего, сильно наперченного тушеного мяса с тошнотворным запахом. — Во всяком случае, мистер Сэмсон, — проговорил Слинктон, в последний раз обратив ко мне свою гладкую дорожку, — благодарю вас за то, что вы ограждаете меня от ярости этого несчастного. Каким бы образом вы ни попали сюда, мистер Сэмсон, с какой бы целью вы ни пришли, но за эту услугу я, во всяком случае, вас благодарю. — Вари жженку, — пробормотал Беквит. Не сообщив мистеру Слинктону, каким образом я попал сюда, я спокойно спросил: — Как поживает ваша племянница, мистер Слинктон? Он посмотрел в упор на меня, а я — на него. — К сожалению, мистер Сэмсон, моя племянница оказалась неблагодарной девушкой — неверной своему лучшему другу. Она покинула меня, не предупредив ни словом и без всяких объяснений. Очевидно, ее обманул какой-нибудь коварный негодяй. Вы, быть может, слыхали об этом? — Я действительно слышал, что ее обманул один коварный негодяй. И даже могу доказать это. — Вы в этом уверены? — осведомился он. — Вполне. — Вари жженку! — пробормотал Беквит. — У нас гости к завтраку, Юлий Цезарь. Делай свое дело — подавай наш обычный завтрак, обед, чай и ужин. Вари жженку! Слинктон перевел глаза с него на меня и, немного подумав, сказал: — Мистер Симсон, вы человек умудренный жизнью, и я тоже. Я буду говорить с вами начистоту. — Э, нет, не будете, — сказал я, качнув головой. — Повторяю, сэр, что буду говорить начистоту. — А я повторяю, что не будете, — сказал я. — Я знаю о вас все. Да разве вы можете говорить с кем-нибудь начистоту? Бросьте, бросьте! — Я скажу вам начистоту, мистер Сэмсон, — продолжал он почти спокойно, — что понимаю ваши намерения. Вы хотите спасти свои деньги и увильнуть от исполнения своих обязательств. Все это давно известные профессиональные уловки вашего брата — канцеляристов. Но вы не сделаете этого, сэр, вам это не удастся. Не легко вам будет бороться с таким противником, как я. В свое время придется нам разузнать, когда и почему мистер Беквит начал вести свой теперешний образ жизни. Больше мне нечего сказать об этом несчастном и его пьяных бреднях. А засим, сэр, пожелаю вам всего хорошего и большей удачи в следующий раз. Пока он говорил, Беквит налил полный стакан коньяку. И вдруг он выплеснул напиток Слинктону в лицо, потом швырнул в него стаканом. Слинктон, ослепленный, закрыл лицо руками, — стекло порезало ему лоб. На шум в комнату вошел четвертый человек. Он закрыл за собой дверь и стал спиной к ней; это был очень степенный, но очень сметливый на вид человек, седой и слегка прихрамывающий. Слинктон выхватил носовой платок и приложил его к глазам, чтобы успокоить боль, потом вытер кровь со лба. Он долго возился с этим, и я увидел, как за это время с ним произошла огромная перемена, вызванная переменой в Беквите, — ведь тот перестал задыхаться и дрожать, сел прямо и уже не спускал с него глаз. Никогда в жизни не видел я, чтобы чье-нибудь лицо дышало таким отвращением и решимостью, как лицо Беквита в эту минуту. — Посмотри на меня, негодяй, и узнай, кто я такой на самом деле! сказал Беквит. — Я нанял эту квартиру, чтобы превратить ее в западню для тебя. Я поселился в ней, притворившись горьким пьяницей, чтобы стать для тебя приманкой в этой западне. Ты попался в западню и не выйдешь из нее живым. В то утро, когда ты в последний раз был в конторе мистера Сэмсона, я увиделся с ним раньше тебя. Все это время мы знали о твоих намерениях и все это время были в заговоре против тебя. Как же было дело? Сначала ты ко мне подольстился и уговорил меня отдать в твое распоряжение две тысячи фунтов, а потом принялся отравлять меня спиртом; но спирт действовал недостаточно быстро, и ты замыслил доконать меня более сильным средством. Ты думаешь, я не видел, как ты, решив, что я уже ничего не соображаю, наливал что-то из своей скляночки в мой стакан? Слушай ты, убийца и мошенник: когда я сидел здесь вдвоем с тобой поздней ночью — а это случалось часто, — я двадцать раз был готов спустить курок своего пистолета и размозжить тебе голову! Это внезапное превращение жалкой твари, которую Слинктон считал своей отупевшей жертвой, в решительного человека, явно проникнутого твердым, беспощадным намерением поймать с поличным и прикончить своего врага, было для Слинктона ударом, вынести который ему в первую минуту оказалось не под силу. Он в буквальном смысле слова зашатался. Но ведь это большая ошибка предполагать, что расчетливый преступник может на каком-либо этапе своего преступного пути изменить самому себе и сделать хоть малейший шаг, противоречащий его натуре. Такой человек совершает убийство, и закономерно, что убийство становится высшей точкой его пути; такой человек вынужден отрицать, что совершил убийство, и будет отрицать — отважно и нагло. Обычно удивляются тому, что любой известный преступник, имеющий на своей совести тяжкое злодеяние, способен вести себя столь дерзко. Но если бы его могла терзать совесть, если бы у него вообще была совесть, разве он совершил бы преступление? Последовательный до конца, как и все подобные ему чудовища, Слинктон овладел собой и принял вызывающий вид, достаточно хладнокровный и спокойный. Он был бледен, он сразу осунулся, он переменился в лице, но не больше, чем шулер, поставивший на карту крупную сумму и проигравший игру, когда его перехитрили. — Слушай меня, негодяй! — сказал Беквит. — И пусть каждое мое слово, услышанное тобой, словно кинжалом пронзит твое злое сердце. Когда я нанял эту квартиру, чтобы стать у тебя на пути и внушить тебе преступный замысел, почему я предвидел, что он придет в голову такому дьяволу, как ты, едва ты увидишь меня таким, каким я кажусь теперь, и ознакомишься с моим образом жизни? Потому что ты не был загадкой для меня. Я тебя давно раскусил. И я знал, что ты и есть тот безжалостный негодяй, который ради денег убил одну невинную девушку, беспредельно доверявшую ему, и теперь постепенно убивает другую. Слинктон вынул табакерку, взял понюшку и рассмеялся. — Но смотри, — продолжал Беквит, не сводя с него глаз, не повышая голоса, не изменяя напряженного выражения лица, не разжимая кулаков. Смотри, каким тупым зверем ты все-таки оказался! Одурманенный пьяница, ни разу не выпивший и пятидесятой части тех спиртных напитков, которыми ты его поил, но выливавший их куда попало чуть ли не у тебя на глазах; пьяница, через три дня подкупивший человека, которого ты приставил сторожить и спаивать его; пьяница, с которым ты даже не соблюдал ни малейшей осторожности, но который так стремился избавить от тебя, как от дикого зверя, нашу землю, что прикончил бы тебя, даже будь ты в сто раз осторожней; пьяница, которого ты обычно покидал, когда он валялся на полу в этой комнате, и который позволял тебе уходить из нее живым и не узнавшим правды, даже тогда, когда ты переворачивал его на другой бок пинком ноги, — этот пьяница почти всякий раз в ту же ночь, через час, через несколько минут пробирался к тебе и следил за тобой, если ты бодрствовал, шарил у тебя под подушкой, если ты спал, рылся в твоих бумагах, брал пробы из твоих склянок и пакетиков с порошками, менял их содержимое, узнавал все тайны твоей жизни! Слинктон снова взял было щепотку табаку, но теперь медленно разжал пальцы, и когда табак просыпался на пол, стал растирать его ногой, не сводя с него глаз. — Этому пьянице, — продолжал Беквит, — ты разрешил во всякое время входить в твою квартиру, чтобы он мог пить крепкие напитки, которые ты нарочно ставил у него на виду, чтобы он поскорее умер, а он, считавший, что с тобой, как с тигром, нельзя бороться в открытую, добыл отмычки ко всем твоим замкам, пробы всех твоих ядов, ключ к твоим шифрованным записям. Он может рассказать тебе так же подробно, как и ты — ему, сколько времени ушло на отравление жертвы, какими дозами ей давали яды и как часто, какие наблюдались признаки постепенного разрушения ее души и тела, в чем выражалось расстройство ее ума, какие замечались перемены в ее наружности, какую физическую боль она испытывала. Он может сообщить тебе, как и ты ему, что все это ты записывал изо дня в день, ибо эти данные могли пригодиться тебе в будущем. Он может объяснить тебе даже более точно, чем ты — ему, где именно теперь хранится этот дневник. Слинктон перестал растирать ногой табак и взглянул на Беквита. — Нет, — проговорил тот, словно отвечая на вопрос Слинктона. — В ящике письменного стола с пружинным затвором дневника уже нет, и там его никогда не будет. — Значит, ты вор! — сказал Слинктон. Все с той же непоколебимой решимостью, которая внушала страх даже мне, ибо я знал, что преступнику уже не спастись, Беквит сказал: — И, кроме того, я — тень твоей племянницы. Слинктон с проклятием схватился за голову, вырвал клок волос и бросил его на пол. То был конец гладкой дорожки — Слинктон уничтожил ее, и мы вскоре увидим, что больше она ему не понадобилась. Беквит продолжал: — Всякий раз, как ты уезжал отсюда, я уезжал тоже. Хоть я и понимал, что, желая избежать подозрений, ты не торопился выполнять свой преступный замысел, все же я неотступно следил за тобой все то время, пока ты был вместе с этой бедной доверчивой девушкой. Когда я добыл дневник и смог прочитать его от начала до конца (это было ночью, накануне твоей последней поездки в Скарборо, — помнишь эту ночь? — ты спал с маленьким плоским пузырьком, привязанным к руке), я послал за мистером Сэмсоном, который до этого держался в тени. А вон там, у двери, доверенный слуга мистера Сэмсона. Мы втроем спасли твою племянницу. Слинктон оглядел всех нас, нетвердыми шагами отошел в сторону, вернулся на прежнее место и как-то дико огляделся кругом — словно гад, ищущий нору, где бы спрятаться. И тут я заметил, что наружность этого человека странным образом изменилась: казалось, тело его съежилось так, что одежда стала ему слишком широкой и вся обвисла. — Теперь ты узнаешь, — сказал Беквит, — и эта истина, надеюсь, покажется тебе горькой и страшной, — почему тебя преследовал лишь один человек, хотя страховая контора мистера Сэмсона готова была тратить любые средства на погоню за тобой, — теперь ты узнаешь, почему тебя выследил и поймал с поличным именно этот человек и он один. Я слышал, что ты иногда говорил про Мелтема, правда? Я заметил, что у Слинктона захватило дух. — Когда ты задумал увезти за границу прелестную девушку — впоследствии убитую тобой, — чтобы там начать злое дело, которое свело ее в могилу, ты сначала послал ее в контору Мелтема (сам знаешь, при помощи каких хитроумных доводов ты уговорил ее), и Мелтему выпало счастье видеть эту девушку и говорить с нею. Ему не посчастливилось спасти ее, хотя я знаю, что ради ее спасения он охотно пожертвовал бы собой. Он восхищался ею… я сказал бы, что он глубоко любил ее, если бы считал тебя способным понять это слово. Когда она пала жертвой, он твердо уверился в твоей виновности. Потеряв ее, он сохранил только одну цель в жизни: отомстить за несчастную и уничтожить тебя. Я заметил, как судорожно раздувались ноздри преступника, но губы его были крепко сжаты. — Этот человек, Мелтем, — непреклонно продолжал Беквит, — был твердо убежден в том, что тебе не ускользнуть от него на этом свете, если он со всем упорством и решимостью будет добиваться твоей гибели и посвятит себя выполнению этой священной обязанности, пренебрегая всем остальным, ибо он не сомневался, что, стремясь достигнуть своей цели, будет лишь слабым орудием в руках провидения и исполнит его волю, вычеркнув тебя из списка живых. Этот человек — я, и я благодарю бога за то, что выполнил свой долг! Если бы Слинктон пробежал десять миль, спасаясь от быстроногих дикарей, он и то не мог бы так явно страдать от стеснения в сердце и дышать с таким трудом, как теперь, когда смотрел на преследователя, который так беспощадно затравил его. — До сего времени ты не знал моего настоящего имени; теперь знаешь. Ты снова увидишь меня — телесными очами, — когда предстанешь перед судом. Ты снова увидишь меня, но уже духовными очами, когда на шее у тебя будет петля и толпа станет громко поносить тебя! Как только Мелтем произнес последние слова, преступник внезапно отвернулся, и нам показалось, будто он ударил себя ладонью по губам. В то же мгновение по комнате распространился какой-то странный резкий запах, и почти в то же мгновение Слинктон кинулся куда-то в сторону, побежал, подпрыгнул, я не в силах описать эту судорогу, — и рухнул на пол, так что сотряслись тяжелые старинные двери и зазвенели стекла в оконных рамах. То был заслуженный им конец. Увидев, что он мертв, мы вышли из комнаты, и Мелтем, протянув мне руку, проговорил устало: — Мне больше нечего делать на этом свете, друг мой. Но я снова увижу ее в иных пределах. Тщетно старался я ободрить его. Он говорил, что мог бы спасти девушку, но не спас, и упрекает себя за это, он потерял ее, и сердце его разбито. — Цель, вдохновлявшая меня, достигнута, Сэмсон, и теперь уже ничто не удерживает меня в жизни. Я не жилец на этом свете; я слаб и пал духом; у меня нет ни надежды, ни желаний, для меня все кончено. И правда, я едва мог поверить, что сломленный человек, говоривший сейчас со мною, — это тот самый человек, который производил на меня столь сильное и совсем иное впечатление, когда он неуклонно стремился к своей цели. Я убеждал его, как только мог, но он все твердил и твердил, терпеливо и просто: ничто не может ему помочь… сердце его разбито. Он умер на следующий год ранней весной. Его похоронили рядом с той несчастной девушкой, которую он оплакивал так нежно и горестно; все свое имущество он завещал ее сестре. Она не умерла и стала счастливой женой и матерью, выйдя замуж за сына моей сестры — преемника бедного Мелтема. Жива она и теперь, и, когда я прихожу к ним в гости, ее дети катаются по всему саду верхом на моей тросточке.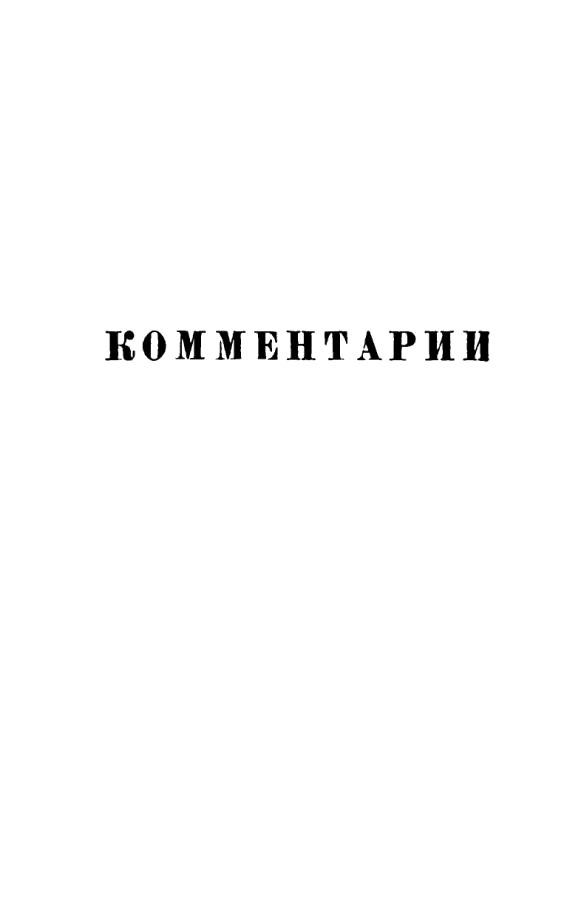
КОММЕНТАРИИ
«ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»
Роман «Тяжелые времена» был впервые опубликован в издававшемся Диккенсом журнале «Домашнее чтение» (апрель-август 1854 г.), после чего вскоре вышел отдельной книгой. В творчестве Диккенса роман «Тяжелые времена» занимает особое место. Его значение определяется не столько художественными достоинствами, хотя они несомненны, сколько исключительно большой остротой, с какой писателем были составлены кардинальные социально-политические вопросы эпохи. Это, пожалуй, наиболее публицистичный из романов Диккенса. Как известно, Диккенс во всех своих книгах касался существенных проблем общественной жизни Англии. После «Пиквикского клуба» он неустанно создавал одно за другим произведения, в которых судьбы героев в той или иной форме были связаны с условиями существования различных классов. Гуманист Диккенс почти с первых же шагов своего творчества обращал внимание на пороки буржуазной государственно-политической и общественной системы. Начиная с «Оливера Твиста» он изображал последствия социальной несправедливости для самых бедных слоев населения. Контраст между богатством и бедностью составляет центральный социальный мотив всего творчества писателя. Однако в подавляющем большинстве произведений Диккенс концентрировал свое внимание на судьбах мелкой буржуазии или, по английской терминологии, «низшей части среднего класса». Диккенс раскрыл на судьбах героев из этой среды тот процесс поляризации классов, в котором особенно ярко и драматично отражалось развитие капитализма. Драматизм состоял в том, что люди, прежде сами принадлежавшие к сравнительно обеспеченной части общества, беднели, пауперизировались, превращались в неимущих. Сочувствие Диккенса, как известно, всегда было на стороне тех, кто являлся жертвами так называемого буржуазного прогресса. Известно также, что писатель отражал эти явления жизни не в аспекте социально-экономическом или политическом, хотя всегда был точен в изображении конкретных условий, определявших судьбы его героев. В центре внимания Диккенса были проблемы нравственности. Именно под этим углом зрения им рассматривались те социальные процессы, которые играли роковую роль в судьбах его героев. В «Тяжелых временах» Диккенс впервые обратился к изображению основного противоречия капиталистического общества. Содержание романа определяется не контрастами между бедностью и богатством вообще, а конфликтом между трудом и капиталом. Великий реалист изобразил то, что К. Маркс назвал центральным конфликтом XIX века — борьбу между буржуазией и пролетариатом. Эта тема была не новой в английской литературе эпохи Диккенса. Уже до него появился ряд социальных романов, в которых тема борьбы между пролетариатом и буржуазией получила яркое художественное раскрытие. Наиболее значительными из произведений, предшествовавших «Тяжелым временам», были романы двух писательниц, принадлежавших вместе с Диккенсом и Теккереем к направлению критического реализма: «Шерли» (1847) Шарлотты Бронте и «Мэри Бартон» (1848) Элизабет Гаскел. В те же годы, в обстановке бурных революционных событий 1848–1849 годов Диккенс достаточно недвусмысленно заявил о своих позициях романом «Домби и сын», содержавшим резкую критику буржуазии. К теме борьбы рабочего класса Диккенс обратился тогда, когда рабочее движение в Англии после нанесенных ему тяжелых ударов и после временного спада опять активизировалось в начале 1850-х годов. Жизнь показала, что победа буржуазии отнюдь не привела к сглаживанию классовых противоречий. Именно в этой обстановке Диккенс и создал «Тяжелые времена». Его роман, таким образом, возник как непосредственный отклик на новую волну забастовок, прокатившуюся в промышленных районах страны в 1852–1853 годах. Писатель подчеркнул злободневность книги в ее подзаголовке. На титуле стояло:
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА Для нашего времениЯснее нельзя было заявить о публицистической направленности романа. Желая уже с самого начала указать читателю на то, с каких позиций рассматривается действительность, Диккенс снабдил книгу посвящением, которое также было полно значительности для современников. «Тяжелые времена» были посвящены Томасу Карлайлю, крупнейшему английскому публицисту второй четверти XIX века, которому принадлежала заслуга особенно острой постановки вопроса о социальных противоречиях в английской жизни. Современные Диккенсу читатели уже по посвящению могли судить о направленности романа «Тяжелые времена». Будучи боевым публицистическим произведением, книга не могла не вызвать разноречивых откликов. Точку зрения правящих классов на роман Диккенса выразил один из крупнейших идеологов «либеральной» буржуазии Томас Маколей. Он определил социально-политический смысл романа как «угрюмый социализм». Этим Маколей дал понять, что позиция Диккенса является антибуржуазной и что картину капиталистического общества он будто бы рисует в слишком мрачных тонах. Естественно, что Маколей осуждал Диккенса, а последующая буржуазная критика пыталась принизить значение романа, утверждая, что это самое слабое произведение писателя, недостойное его гения. Иную позицию заняли представители прогрессивных слоев английского общества. Известный публицист и теоретик искусства Джон Рескин выступил на защиту Диккенса. Имея в виду обычные и распространенные в буржуазной критике того времени упреки, предъявлявшиеся великому реалисту, Рескин писал в 1860 году: «Не следует отрицать пользу остроумия и проницательности Диккенса только потому, что он предпочитает говорить под лучами яркого сценического освещения. Основное направление и цель каждой из написанной им книг совершенно правильны, и тем, кто интересуется социальными вопросами, следует внимательно и серьезно изучить их все, а в особенности — „Тяжелые времена“. Они найдут, что многое здесь пристрастно, и могут решить, что раз пристрастно, значит несправедливо; но если они исследуют свидетельства другой стороны, которую Диккенс как будто не учитывает, то труд, потраченный на это, поможет им понять, что в конечном счете его взгляд является правильным, хотя он и выражен грубо и резко». Все доводы, при помощи которых Рескин хочет оправдать Диккенса, свидетельствуют о том, что истины, раскрытые писателем в своем романе, показались буржуазной публике ужасающими. В эпоху Диккенса смелым и объективно прогрессивным фактом было уже то, что писатель, вопреки утверждениям буржуазных идеологов о стабильности капитализма и классовом мире, выступил с произведением, в котором дал наглядное изображение не только несправедливости, царящей в обществе, но и борьбы против этой несправедливости. Для того чтобы по заслугам оценить значение романа, надо вспомнить известное письмо Ф. Энгельса к английской писательнице Маргарет Гаркнес. Оно относится к более позднему времени, к концу 1880 годов, но тем не менее его вполне уместно вспомнить здесь, ибо в своей оценке романа Гаркнес «Городская девушка» Энгельс высказал положения, в полной мере применимые и к «Тяжелым временам». Слабость произведения писательницы, по определению Энгельса, состояла в том, что оно давало только изображение бедственного положения пролетариата, не показывая борьбы, которую рабочие вели против капиталистов. В этом отношении Диккенс, стоявший гораздо дальше от организованного политического движения рабочего класса, чем М. Гаркнес, проявил и большую объективность и большую прозорливость. Его роман, пользуясь выражением Ф. Энгельса из письма к М. Каутской, выполнял свое назначение, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизменности существующего строя. Однако нельзя отрицать того, что, хотя Диккенс дал в романе изображение классовой борьбы, его собственная позиция в этом вопросе не была революционной. Читатель, знакомый с романом, знает, что Диккенс, показывая рабочих-чартистов, представил наиболее активного организатора их борьбы Слекбриджа в неприглядном свете. Для нас бесспорно, что неприязнь Диккенса к этому персонажу отражает ограниченность взглядов писателя на революционные методы борьбы, но это не дает основания отрицать социальную значимость романа. Внимательно читая «Тяжелые времена», мы со всей очевидностью обнаруживаем, что Диккенс в ярких красках изображает бедственное положение рабочих и считает вполне обоснованными и справедливыми с точки зрения гуманности их требования улучшить условия жизни и труда пролетариата. Не может быть никаких сомнений в том, что Диккенс осуждает жестокую капиталистическую эксплуатацию. Однако, изображая борьбу рабочих за свои человеческие права, Диккенс выделяет два направления в среде самих пролетариев. Одно из них, как уже сказано, представлено в образе агитатора Слекбриджа, прибывшего из Лондона, который требует решительных революционных действий. Другое направление предстает в герое романа Стивене, который, как мы знаем, уклоняется от борьбы. Сочувствие Диккенса на стороне Стивена, а решительно настроенного агитатора он изображает как отвратительного демагога. По поводу этого сопоставления образов в романе следует прежде всего сказать, что оно соответствует объективной исторической истине. Из истории чартистского движения известно, что в нем было два направления. Одно из них, более революционное, получило название партии «физической силы», другое — партии «моральной силы». Диккенс, таким образом, только отразил реальный факт, показав в образах романа разные тенденции в самом рабочем движении. Не приходится отрицать того, что партия «моральной силы» выражала реформистские мелкобуржуазные настроения в среде самого рабочего класса. Как бы то ни было, такова истина, и Диккенс не погрешил против нее в своем романе. Для его современников было очевидно, что если писатель и показывает в отрицательном свете одно из течений первой пролетарской партии Англии, то в целом его сочувствие на стороне рабочего движения, а не на стороне угнетателей народа — капиталистов. Английский прогрессивный писатель и критик Джек Линдсей, характеризуя отношение Диккенса к организованному рабочему движению, писал: «В этом вопросе, как и во многих других, Диккенс обнаруживает двойственность; он поддерживает стремление рабочих к объединению и подчеркивает, что народ сам должен завоевать права, которые ему никогда не будут предоставлены парламентом, но вместе с тем он испытывает некоторый страх перед массовой организацией. Он защищает тред-юнионизм, но опасается его последствий. Вот почему идеальным образом рабочего для него является Стивен Блекпул, одинаково враждебный и к забастовке и к хозяйничанию капиталиста. Вот почему в романе нет эффективного завершения ни в эмоциональной, ни в художественном отношении. Но автор не изображает Стивена абсолютным противником метода забастовочной борьбы. Стивен отказывается вступить в союз просто потому, что он дал слово Рейчел; а когда хозяин делает из этого вывод, что он против объединения рабочих, Стивен защищает своих товарищей и говорит, что они выполняют свой взаимный долг, объединяясь для защиты друг друга (J. Lindsay, Charles Dickens, L. 1950, p.311). Диккенс был решительным противником хищнической и стяжательской морали буржуазии, — того, что Карлайль определил как мораль «чистогана». Диккенс направил острие своей сатиры против буржуазной политической экономии так называемой манчестерской школы, которая обнажила все бездушие «морали» капиталистов. Мы обладаем замечательным документом, в котором Диккенс сам недвусмысленно выразил антибуржуазную направленность своего произведения. В письме к Чарльзу Найту 13 января 1854 года Диккенс писал о романе «Тяжелые времена»: «Моя сатира направлена против тех, кто видит только цифры и средние числа и ничего больше, — против представителей самого ужасного и противоестественного порока нашего времени, — против людей, которые на долгие годы вперед причинят больше ущерба действительно полезным истинам политической экономии, чем мог бы причинить я, при всем старании, за всю мою жизнь; эти люди с мозгами набекрень берут среднюю годовую температуру в Крыму в качестве обоснования для того, чтобы одеть солдата в нанковые штаны на ночь, когда и в мехах можно окоченеть насмерть, а рабочего, который ежедневно проходит по двенадцать миль к месту работы и обратно, они будут утешать, говоря ему, что расстояние между двумя населенными пунктами по всей английской территории в среднем не превышает четырех миль. Вот! И что с ними можно поделать?» Идейный замысел писателя получил также выражение в его поисках названия романа. Вот некоторые из названий книги, набросанных Диккенсом: «Упрямые вещи», «Факты мистера Грэдграйнда», «Жернов», «Тяжелые времена», «Дважды два — четыре», «Наш крепкоголовый друг», «Простая арифметика», «Подсчет — и больше ничего», «Все дело в цифрах», «Философия Грэдграйнда». Мы видим, таким образом, что пафос книги с самого начала определялся гневным возмущением Диккенса против бесчеловечности буржуазной идеологии чистогана, против пресловутой «философии фактов» Грэдграйнда, столь блестяще обличенной писателем на протяжении всего романа. Социальный строй, где человек это только единица в числе многих других единиц, осуждается Диккенсом со всей страстью, на которую он был способен. Мы знаем, что великому писателю был свойствен добродушный юмор. В других романах мы этот юмор найдем, но в «Тяжелых временах» его нет, как нет его и в «Повести о двух городах». Здесь Диккенс беспощадно сатиричен. Бездушию всей системы буржуазного общества писатель противопоставляет естественные живые человеческие стремления, проявляющиеся у отдельных героев. Жизнь, основанная на трезвом практическом расчете, не может закончиться ничем, кроме катастрофы. Яснее всего это выражает судьба детей мистера Грэдграйнда Тома и Луизы. Но мы знаем, что моральной и физической катастрофой завершается также судьба главного положительного героя романа Стивена Блекпула, запутавшегося в жизненных противоречиях. Однако и в этом виновато буржуазное общество с его ханжескими законами о браке и разводе, ставящее официальную мораль выше чувств живого человека. Краснокирпичный Кокстаун, где все так же прямолинейно, как и в философии фактов Грэдграйнда, — это душная темница для людей. Миру практического расчета Диккенс противопоставляет сердечные стремления людей, свойственное им чувство красоты, фантазию, жажду необыкновенного, не получающих удовлетворения в тесных каменных пределах, в которые закован человек общества, основанного на чистогане. Символически это воплощено в цирке Слири, появляющемся как в начале, так и в конце романа. Он несет с собой дыхание какой-то иной жизни, пусть причудливой и почти нереальной, но все же такой, где ощущается раскованность человека. «Тяжелые времена» — самый короткий из романов Диккенса. Он уступает в эпической широте другим его произведениям, но зато более концентрирован. Книга подобна короткому, до сильному удару, нанесенному человеком, возмущение которого достигло предела. Она доказывает, что Диккенс далеко не всегда был тем благодушным юмористом, каким его иногда представляют. В «Тяжелых временах» мы видим не только Диккенса гуманиста, но и борца. А. АНИКСТ
Стр. 7. Единое на потребу. — По евангельской легенде, Христос сказал женщине, которая, заботясь об угощении, не слушала его проповеди: «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно» (по-церковнославянски — «Едино же есть на потребу»), то есть нужно только внимать божьему слову. Евангельское выражение употреблено Диккенсом в ироническом смысле: мистер Грэдграйнд придает столь же большое значение своей теории. Первой главе третьей части романа, в которой изображен крах мировоззрения Грэдграйнда, Диккенс, продолжая сопоставление, дал название «Иное на потребу». Стр. 8. Избиение младенцев. — По евангельскому преданию, царь иудейский Ирод, узнав от восточных мудрецов о рождении Христа, будущего вождя Иудеев, стремился разыскать его и убить. Не найдя Христа, Ирод приказал перебить в стране всех мальчиков до двух лет. Стр. 11. …пришествие тысячелетнего царства… когда…миром будут править чиновники… — пародия па легенду о «тысячелетнем царстве Христа», которое ожидалось после его второго пришествия. Стр. 14. Просодия — здесь: правила стихосложения. Тройное правило — правило для решения арифметических задач, в которых величины связаны прямой или обратной пропорциональной зависимостью. …он достиг списка Б, утвержденного Тайным советом ее величества… — Список Б — перечень научных дисциплин, которые обязан знать учитель. Тайный совет — совещательный орган при короле Англии, состоит из членов кабинета и лиц, назначаемых королем по представлению премьер-министра. Здесь имеется в виду комитет по делам образования при Тайном совете, созданный в 1839 году; из этого комитета в дальнейшем было организовано министерство просвещения. …поступил по примеру Морджаны из сказки про Али-Баба и сорок разбойников… — Служанка Морджана — персонаж одной из арабских сказок — обнаружила в больших глиняных сосудах спрятавшихся разбойников и убила их, налив в сосуды кипящего масла. Стр. 15. Оуэн Ричард (1804–1892) — английский натуралист, известен своими исследованиями в области анатомии. Воз — одно из названий созвездия Большой Медведицы. …не вспоминал о …корове безрогой… — Имеется в виду английское детское стихотворение-скороговорка, которое начинается словами: «Вот дом, который построил Джек». Цитировано по переводу С. Я. Маршака. Стр. 16. Конхиологическал коллекция — коллекция раковин. Стр. 17. «…высоконравственными шутками и остротами в шекспировском духе». — Желая оградить свою труппу от преследований ханжески настроенных городских властей, мистер Слири настойчиво подчеркивает нравственный характер цирковой программы; однако он выбирает не совсем удачный образец: как известно, шекспировские шутки не всегда отличаются благопристойностью. Стр. 20. Миссис Гранди — олицетворение буржуазной «респектабельности» и ходячей морали. Часто упоминаемое, но не участвующее в действии лицо в комедии Томаса Мортона (1764–1838) «Бог в помочь»; роль миссис Гранди в пьесе сходна с ролью княгини Марии Алексеевны в «Горе от ума». Стр. 28. Адам Смит и Мальтус — дети Грэдграйнда названы в честь политэконома Адама Смита (1723–1790) и социолога-священника Томаса Мальтуса (1766–1834) — идеологов английской буржуазии. Стр. 34. Пегас (греч. миф.) — крылатый конь, олицетворение поэтической фантазии, вдохновения. Стр. 35. Ноев ковчег — по библейской легенде — корабль, на котором спаслись от всемирного потопа Ной и его род; в ковчеге были также собраны представители всех видов животного царства. Стр. 36. Кентавр (греч. миф.) — существо с туловищем коня и с головой, грудью и руками человека. Стр. 51. Хартия вольностей (Magna Charta Libertatum) — акт об ограничении королевской власти в пользу феодальных баронов, изданный королем Англии Иоанном Безземельным в 1215 году. Джон Булль — прозвище англичан; в литературный обиход вошло после появления серии памфлетов Джона Арбетнота «История Джона Булля» (1712). …хабеас корпус (Habeas Corpus Act) — английский закон 1679 года, по которому каждый арестованный имеет право требовать, чтобы в течение суток судья гласно предъявил ему обвинение; в противном случае арестованный из-под стражи освобождается. Этот закон, однако, не распространяется на лиц, подозреваемых в государственной измене и в особо тяжелых преступлениях; кроме того, английский парламент в прошлом много раз приостанавливал его действие. Билль о правах — парламентский акт 1689 года, принятый при вступлении на английский трон Вильгельма Оранского. Билль о правах закрепил руководящую роль в политической жизни страны за парламентом и является предметом гордости сторонников буржуазного парламентаризма. «Церковь и государство» — формула, характеризующая особенность положения английской церкви, а именно — ее тесную связь с государственным аппаратом. С XVI века английский король является главой национальной церкви. Презренно счастие вельможей и князей… — строки из поэмы Оливера Гольдсмита «Покинутая деревня» (1770). Перевод В. А. Жуковского. …кориолановского носа… — то есть римского носа. Кориолан Гней Марций — по преданию, гордый и высокомерный римский патриций, враг плебеев, изгнанный из Рима и перешедший на сторону вольсков — племени, воевавшего против Рима. Стр. 52. …не на что было купить пакли, чтобы посветить вам. — Один из видов заработка лондонских бедняков состоял в том, что они светили на улице богатой публике факелами из пакли, намотанной на палку и пропитанной смолою. Стр. 53. Вест-Энд, Мэйфэр — аристократические кварталы в западной части Лондона. Стр. 57. …Дефо, а не Евклид… — Дефо Дэниел (ок. 1660–1731) — английский писатель эпохи Просвещения, автор «Робинзона Крузо», «Молль Флендерс» и многих других романов, богатых описаниями путешествий и приключений. Евклид (IV в. до н. э.) — великий древнегреческий математик. …находили большее утешение у Гольдсмита, нежели у Кокера. — Гольдсмит Оливер (1728–1774) — английский писатель-сентименталист; среди его произведений наиболее известны роман «Векфильдский священник», поэма «Покинутая деревня», комедия «Ночь ошибок». Кокер Эдвард (1631–1675) — автор учебника арифметики. Стр. 64. «Поступать с людьми так, как я хотела бы, чтобы они поступали со мной» — перефразированные слова Христа из нагорной проповеди (еванг.). Синяя книга — сборник документов, относящихся к деятельности английского правительства; такие сборники выпускались в синих переплетах. Стр. 68. …позволит ли султан Шахразаде рассказывать дальше… — В новелле, обрамляющей сборник арабских сказок «1001 ночь», рассказывается, как некий царь, подозревая всех женщин в непостоянстве, казнил своих жен после брачной ночи. Шахразада избежала общей участи при помощи хитрости: она рассказывала целую ночь увлекательные истории, а утром обрывала рассказ на середине; это побудило царя откладывать казнь со дня на день, пока он совсем не отказался от мысли казнить Шахразаду. Стр. 81. …на радость и горе… — слова, произносимые священником во время венчания в англиканской церкви. Стр. 83. Суд по семейным делам, гражданский суд, палата лордов. — В 1854 году, когда вышел в свет роман «Тяжелые времена», в Англии все еще действовало законодательство о браке, проникнутое духом средневекового обскурантизма и ханжества. Бракоразводные дела рассматривались не светскими, а церковными судами, которые считали брак вообще нерасторжимым. В лучшем случае церковные суды давали санкцию на разлучение супругов — временное или постоянное. Разлучение, однако, не давало права вступать во второй брак. Для того чтобы церковный суд принял дело к слушанию, нужно было предъявить обвинение в адюльтере или жестоком обращении со стороны одного из супругов. Другие причины не принимались во внимание. Единственным средством получить действительный развод было специальное парламентское постановление. Для этого нужно было иметь решение церковного суда о разлучении и много денег. Развод был привилегией немногих знатных и влиятельных лиц. Об этом говорят цифры: за двести лет было издано лишь 229 парламентских актов о расторжении брака. Суд по семейным делам, о котором упоминает Диккенс, — это церковный суд, располагавшийся в Лондоне в группе зданий, известных под общим названием Докторс-Коммонс. В 1858–1859 годы Докторс-Коммонс был упразднен. Гражданский суд — это суд обычного права, опирающийся не на писаные законы, а на судебные прецеденты и обычаи. Через суды обычного права проходили дела о взимании убытков с прелюбодеев. Палата лордов — верхняя палата английского парламента, высшая апелляционная инстанция в Англии. В палату лордов направляли прошения о парламентском разводе. Мистер Баундерби не был далек от истины, определяя сумму, необходимую Блекпулу для получения развода: об этом свидетельствует любопытное обращение одного английского судьи к бедняку, судимому в 1845 году за двоеженство (первая жена ограбила его и убежала с другим человеком): «Вы должны были возбудить дело и потребовать возмещения убытков, которые другая сторона не была бы в состоянии уплатить, и вам пришлось бы уплатить судебные издержки самому — вероятно, 100 или 150 фунтов. Затем вам нужно было бы обратиться в церковный суд и получить развод a mensa et thoro (разлучение), а затем — в палату лордов, где, доказав, что все предварительные юридические процедуры совершены, вы получили бы разрешение жениться снова. Затраты могут достичь 500 или 600 фунтов, а может быть и тысячи. Вы говорите, что вы — бедный человек. Но я должен вам сказать, что нет одного закона для богатых и другого для бедных». Стр. 86. Парламентский поезд. — Парламентским актом в XIX веке были назначены дополнительные ежедневные рейсы поездов и карет (один рейс на каждом маршруте), оплачивавшиеся по сниженным тарифам — не больше пенни за милю. Стр. 88. Вавилонские башни — по библейской легенде, потомки Ноя решили построить в земле Сеннаар город Вавилон и башню «высотой до небес». Бог, желая покарать людей за такую дерзость, «смешал язык»: люди, ранее говорившие все на одном языке, стали говорить на разных языках и не понимали друг друга; поэтому Вавилонская башня осталась недостроенной. Стр. 92. …«Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». — По евангельскому преданию, слова Христа, сказанные им, когда к нему была приведена женщина, «взятая в прелюбодеянии» (по иудейским обычаям прелюбодеи побивались камнями). Стр. 94. …от одной из десяти заповедей… — По библейской легенде, бог дал пророку Моисею десять религиозно-нравственных правил (заповедей), одно из которых гласило: «Не убий». Стр. 108. …до того самого дня, когда в последний раз на земле возгласит труба архангела и даже алгебра будет развеяна в прах. — По христианским представлениям, Страшный суд должен быть возвещен семью трубными гласами; после каждого из них будут происходить космические бедствия. Стр. 125. …мать его имеет право на призрение — то есть имеет право на пособие от приходских властей. Пособие выдавалось только тем, кто родился в данном приходе и мог это доказать. Работный дом — дом призрения для престарелых инвалидов и детей-сирот. По закону 1834 года лица, имеющие право на пособие, могли получать его, только живя, в работном доме. Условия жизни в работных домах были чрезвычайно тяжелы и напоминали тюремный режим. …весь долг каждого человека… — намек на книгу «Весь долг человека», изданную в 1658 году и содержащую анализ нравственных обязанностей человека по отношению к богу и своим земным братьям. Стр. 129. …точно султан, сунувший голову в ведро с водой. — Имеется в виду эпизод из арабской сказки «Две жизни султана Махмуда», вошедшей в один из списков «1001 ночи». Шейх-волшебник, посетивший египетского султана Махмуда, окунул на мгновение его голову в водоем. За это время султану привиделось, будто он попал в дальние края, потерпел кораблекрушение, был обращен в рабство, а затем превратился в осла и пробыл в этом обличье несколько лет. Стр. 138. …среди своих пенатов… — Пенаты — древние боги-хранители домашнего очага (римск. миф.). Стр 140. Один знатный английский род взял себе прелестный итальянский девиз: «Что будет, то будет». — Che sara, sara — девиз (краткое изречение) на родовом гербе старинной английской аристократической семьи Расселов. Стр. 152. Объединенный Трибунал — вымышленное название чартистской организации. Стр. 153. …тот, кто продал свое первородство за чечевичную похлебку… — По библейской легенде, Исав — старший из сыновей патриарха Исаака — продал своему младшему брату Иакову привилегии старшинства за чечевичную похлебку. Каслри — лорд (1769–1822) — английский реакционный политический деятель, инициатор законов, направленных против рабочих союзов. Каслри — организатор кровавой бойни на Сент-Питер-Филдс, близ Манчестера, в 1819 году, когда специально вызванные войска разогнали митинг рабочих, собравшихся обсудить свои требования парламентской реформы. Здесь: намек на распространенное мнение, что Каслри — тайный агент австрийского министра иностранных дел Меттерниха, который был одной из крупных фигур в лагере европейской феодально-абсолютистской реакции. Стр. 163. Остров Норфолк — небольшой остров в Тихом океане, к востоку от Австралии; до 1914 года принадлежал Великобритании; в течение долгого времени служил местом отбывания каторжных работ. Стр. 172. Лорд Честерфилд (1694–1773) — английский дипломат и писатель. В опубликованных после смерти Честерфилда письмах к его незаконному сыну содержатся советы и указания, как вести себя в светском обществе. Стр. 175. …нищих вы всегда имеете с собой. — По евангельской легенде, Иуда Искариот упрекнул Христа за то, что он позволил помазать ему ноги драгоценным маслом (миром), тогда как масло можно было продать, а деньги раздать нищим. Христос ответил, что нищие, которым можно помочь добрым делом, всегда рядом, а он не всегда будет среди людей. Стр. 179. Медуза — одна из трех Горгон, уродливых змееволосых дев, взгляд которой превращал в камень все живое (греч. миф.). «Бездна бездну призывает» — библейское выражение (псалом 41). Стр. 180. Вестминстерская школа — одно из наиболее старинных и известных в Англии учебных заведений — расположена в Лондоне. Наиболее привилегированная группа учащихся Вестминстерской школы — так называемые «королевские стипендиаты»; они принимают участие в Коронации и по традиции раз в год на рождество ставят своими силами какую-либо пьесу римских комедиографов Теренция или Плавта па латинском языке. Стр. 201. «Увы, бедный Йорик» — слова Гамлета, произнесенные над черепом покойного шута Йорика («Гамлет», акт V, сц. 1-я). Трик-трак — старинная игра с фишками, передвигаемыми по расчерченной доске. Стр. 216. …человек ходит подобно призраку и напрасно суетится… — неточная цитата из библии (псалом 38). Стр. 217. Ромул и Рем — легендарные основатели Рима, братья-близнецы; брошенные на произвол судьбы, они были вскормлены волчицей. Стр. 220. Лестница Гигантов — лестница во Дворце Дожей в Венеции. Стр. 231. Добрый самаритянин, (самарянин) — евангельская притча о добром самарянине рассказана в ответ на вопрос: «Кто мой ближний?». Самаряне — особая народность в Палестине; религиозное установление запрещало иудеям общаться с самарянами. Однажды путник иудей был ограблен и изранен разбойниками. Иудеи — священнослужители, проходившие мимо, не оказали помощи ограбленному, а добрый самарянин перевязал ему раны и привез в ближайшую гостиницу. Стр. 246. «Святая инквизиция» — трибунал, учрежденный в XIII веке католической церковью для борьбы против еретиков. Стр. 283. …пели жаворонки (невзирая па воскресенье)… — Английские пуритане XVII века ввели законы, по которым в воскресенье запрещалось работать, петь светские песни и предаваться развлечениям. Стр. 300. …в цирке Ахтли… — Цирк Астли — лондонский цирк, существовавший с конца XVII по 60-е годы XIX века; на его сцене показывались мелодрамы с конно-цирковыми номерами. …на «Детей в леху». — «Дети в лесу» — спектакль на сюжет старинной английской баллады. Стр. 306. Гарвей Вильям (1578–1657) — английский анатом и хирург, создавший учение о кровообращении. Стр. 319. …без которых… самое очевидное национальное процветание… только зловещие письмена на стене… — По библейскому преданию, во время пира у последнего вавилонского царя Валтасара на стене появилась загадочная надпись, предвещавшая гибель царя и Вавилонского царства. А. ПАРФЕНОВ
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
Основная часть публикуемых в настоящем томе рассказов и очерков впервые была напечатана в журнале "Домашнее чтение" ("Household Words"), основанном Диккенсом[241] в 1850 году. Создавая "Домашнее чтение", Диккенс опирался на опыт таких популярных изданий XVIII века, как политическое "Обозрение" Д. Дефо, сатирико-нравоучительные журналы "Болтун" и "Зритель" Аддисона и Стиля, серию эссе "Пчела" О. Гольдсмита. Основными жанрами "Домашнего чтения" были эссе, рассказ, очерк. Публиковались в журнале и романы. Журнал Диккенса был рассчитан на самого широкого читателя. "Обращение к читателю", помещенное в первом номере "Домашнего чтения" от 30 марта 1850 года, содержало обещание издателя "сделать журнал другом и товарищем тысяч людей обоего пола, всех возрастов и состояний". Ряд статей, очерков и рассказов, опубликованных в журнале в 50-е годы, посвящен отдельным фактам общественной несправедливости. Основную массу публикаций журнала составляют фабульно-развлекательные рассказы и сказки, целью которых, по словам Диккенса, было "принести временное чувство освобождения от действительности", скрасить тяготы жизни. Сам Диккенс был не только требовательнейшим из редакторов, но и одним из самых активных авторов. За один лишь 1850 год им было написано для своего журнала тридцать шесть рассказов и очерков. К сотрудничеству в журнале (ставшем в мае 1859 года собственностью Диккенса и переименованном в "Круглый год"), привлекались как видные авторы того времени (Э. Гаскел, У. Коллинз, А. Троллоп, Э. Бульвер-Литтон), так и начинающие литераторы. Литературный материал, помещенный на страницах "Домашнего чтения", отличался идейным и стилистическим единством. Редактор не только направлял творческие поиски авторов, но зачастую заново перерабатывал принятые рукописи. Имена авторов в журнале не публиковались. Среди диккенсоведов по сей день ведутся споры по вопросу об авторстве Диккенса в связи с целым рядом произведений, опубликованных в "Домашнем чтении". Несомненно перу Диккенса принадлежат рассказы и очерки, отобранные к отдельному изданию самим писателем и выпущенные в 1858 году под названием "Переизданные рассказы" ("Reprinted pieces"). В настоящий том включены рассказы и очерки, представляющие все жанры литературной деятельности Диккенса в "Домашнем чтении". Часть рассказов сатира на социальные институты современной писателю Англии: на парламент ("Наш приходский совет") и его членов ("Наш почтенный друг"), бюрократию ("Рассказ бедняка о патенте"), систему государственного управления ("Принц Бык"). Очерки посвящены различным сторонам общественного быта и нередко представляют собой непосредственный отклик на злободневные события. Значительную часть публикуемых произведений составляют юмористические миниатюры, рассказы детективные и приключенческие.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ РАССКАЗОВ И ОЧЕРКОВ 50-Х ГОДОВ
(вошедших впоследствии в сборники "Переизданные рассказы", "Рождественские рассказы").
В журнале "Домашнее чтение" были опубликованы:
1850 год
"Сочинитель просительных писем" — 18 мая. "Прогулка по работному дому" — 25 мая. "Гений искусства" — 20 июля. "Сыскная полиция" — 27 июля и 10 августа. "Три рассказа о сыщиках" — 14 сентября. "Рассказ бедняка о патенте" — 19 октября. "Рождественская елка" — 25 декабря.
1851 год
"Рождения. У миссис Мик — сын" — 22 февраля. "С инспектором Филдом при отправлении службы" — 14 июня. "Наш английский курорт" — 2 августа. "Полет" — 30 августа. "Наша школа" — 11 октября.
1852 год
"Наш почтенный друг" — 31 июля. "Наш приходский совет" — 28 августа. "Наш докучный знакомец" — 9 октября. "Бессонница" — 30 октября. "Рассказ бедного родственника" — 25 декабря. "Рассказ мальчика" — 25 декабря.
1853 год
"С отливом вниз по реке" — 5 февраля. "Рассказ школьника" — 25 декабря. "Никто" — 25 декабря. "Далекое путешествие" — 31 декабря.
1854 год
"Наш французский курорт" — 4 ноября.
1855 год
"Принц Бык" — 17 февраля. "Отдых от столичной суеты" — 29 сентября. "Остролист" — 25 декабря.
1856 год
"Мертвый сезон" — 28 июня.
1858 год
"Как попасть в общество" (рассказ вошел в качестве главы в рождественскую повесть "Сдается внаем", написанную несколькими авторами) — 25 декабря.
Рассказ "Для чтения у камелька" впервые опубликован в 1852 году в издательстве "Кипсейк".
Рассказ "Пойман с поличным" был заказан Диккенсу американской газетой "Нью-Йорк Леджер", где был впервые опубликован в 1859 году. Затем рассказ был перепечатан в рождественском номере журнала "Круглый год" (25 декабря 1859 г.).
Стр. 323. Налог на окна. — До второй половины XIX века в Англии действовал закон, облагавший налогом всех домовладельцев по числу окон сверх восьми. Стр. 325. …учился во всех колледжах Оксфорда и Кембриджа… — Оксфорд и Кембридж — старейшие английские университеты, основанные в XII веке, делятся на несколько колледжей, имеющих каждый свой устав, но подчиненных ректору университета. Стр. 326. …в Кенте, близ Чатама… — Чатам — торговый порт в графстве Кент, в 30 милях к юго-востоку от Лондона. Стр. 328. «Придворный календарь» — справочник имен и указатель резиденций титулованных и нетитулованных дворян. «Придворные календари» издаются почти во всех графствах Великобритании. В них должны быть даны сведения обо всех лицах, когда-либо представленных ко двору. То, что Сидней Смит так удачно назвал «опасной роскошью нечестности»… — Сидней Смит (1771–1845) — философ-богослов, автор большого числа трудов и статей. Приводимая цитата взята из опубликованных Смитом в 1807 году «Писем Питера Плимли». Стр. 330. …утешенных в их смертный час покойным мистером Друэтом… — Друэт — управляющий детским приютом в Тутинге, привлеченный в 1849 году к судебной ответственности за бесчеловечное обращение со своими питомцами. Стр. 333. Хогарт Уильям (1697–1764) — видный английский художник и теоретик искусства, основоположник нравоописательной сатиры в живописи и графике; автор нескольких циклов гравюр, посвященных быту и нравам различных слоев английского общества XVIII века. Стр. 335. Тутинг — пригородный поселок в графстве Сэррей в Лондоне, где помещался приют для сирот и детей бедняков. Общественное внимание к нему было привлечено и 1849 году процессом Друэта, управляющего приютом, обвинявшегося в том, что он заморил до смерти нескольких питомцев. Ньюгет работного дома. — Ньюгет — во времена Диккенса центральная лондонская уголовная тюрьма. Стр. 340. Тэмпл — район юридических контор в Лондоне. Как тот человечек из детской песенки… — Далее приводится несколько измененный текст песенки «Когда я был холост» из популярнейшего детского стихотворного сборника «Матушка Гусыня». Диккенс слова из текста песенки «все мясо» подменил строкой «свой хлеб и сыр», намекая на нищету судейского чиновника. Стр. 341. Вестминстер-Холл. — К старинному зданию Вестминстер-Холла примыкало с запада крыло, в котором находилось несколько судебных учреждений. Королевская академия — английская академия художеств, учрежденная в 1768 году. На ежегодной выставке члены академии экспонируют сорок полотен. …твердо держусь тридцати девяти догматов англиканской церкви. — Имеются в виду догматы, подготовленные деятелями Реформации и введенные (одновременно с признанием англиканской церкви государственной) королевским указом 1553 года. Стр. 342. …напомнил мне сразу Векфильдского священника… — Векфильдский священник (Примроз) — герой одноименного романа (1762) английского писателя О. Гольдсмита. Альфред Великий — англосаксонский король Альфред Уэссекский (849–900). Жиль Блас — герой романа французского писателя А. Лесажа (1668–1747) «История Жиль Бласа» (1715–1735). Карл Второй (1630–1685) — король Великобритании (1660— 1685). Иосиф и его братья. — Имеются в виду персонажи библейской легенды (Книга Бытия). «Королева фей» — аллегорическая поэма (1590–1596) Эдмунда Спенсера (1552–1599). Том Джонс — герой романа английского классика эпохи Просвещения Генри Фильдинга (1707–1754) «История Тома Джонса, найденыша» (1749). «Декамерон» — сборник новелл итальянского писателя эпохи Возрождения Джованни Боккаччо (1313–1375). Тэм о'Шентер — герой поэмы Р. Бернса (1759–1796). …венчание венецианского дожа с Адриатикой… — обряд, с XII века ежегодно совершавшийся в Венеции и заключавшийся в том, что дож выезжал в море и бросал в него перстень. Море должно было быть покорно Венеции, как жена мужу. Великая Лондонская чума — эпидемия 1665 года, унесшая до ста тысяч жертв. Был ли он самим священником… или конгломератом из всех четырех… — Здесь перечисляются персонажи ранее упомянутого романа Гольдсмита. Роджер де Коверли — имя, которым один из издателей сатирико-нравоучительного журнала «Зритель» (1711–1714) Д. Аддисон назвал вымышленного постоянного персонажа своих очерков — сельского дворянина. Имя сэра Роджера было позаимствовано из народной песенки «Роджер из Коверли». Стр. 343. …рыцарских доспехов, какие выпускал из своего заведения Пратт… — Имеется в виду антикварный магазин в Лондоне на Бромптон-роуд. Стр. 344. …со складов всяких Сторсисов и Мортимерсисов или Гаррардзов и Девенпортсесесов. — Стор и Мортимер — фешенебельная лондонская ювелирная фирма. Стр. 348. Маклиз Дэниел (1806–1870) — английский художник, член Королевской академии с 1840 года, портретист и автор картин на исторические темы, личный друг Диккенса. Стр. 349. …старую полицию с Боу-стрит. — Лондонское центральное полицейское управление и уголовный розыск до 1829 года помещались в старинном здании на Боу-стрит. В 1842 году часть функций полицейского управления перешла ко вновь организованному Отделению уголовного сыска, и «красногрудых» (старая форма полицейских) сменили профессиональные сыщики. …к начальству Скотленд-Ярда… — Скотленд-Ярд — со времени реорганизации лондонской полиции (1829) здание центрального полицейского управления. Название (буквально — Шотландский двор) восходит к X веку, когда участок земли, на котором теперь находятся здания полицейского управления, был пожалован королем Эдгаром шотландскому королюКеннету для постройки его лондонской резиденции. Стр. 350. …у театра напротив… — Речь идет о театре Лицеум. …пришли инспекторы Уилд и Стокер… — Сыщики, упоминаемые в этом рассказе, — реальные лица, чьи имена Диккенс несколько изменяет (например, инспектор Филд фигурирует как Уилд, Уокер — как Стокер и т. п.). Стр. 351. …Уилки мог бы написать с него солдата… — Речь идет о картине шотландского художника Д. Уилки (1785–1841). Стр. 354. Челси — в эпоху Диккенса лондонский пригород на северном берегу Темзы; в настоящее время один из городских районов. Стр. 360. …в сторону Сэррея… — Сэррей — графство на южном берегу Темзы, часть которого входит в состав Лондона. Стр. 363. Смитфилд — городской район, где до 1855 года находился лондонский скотопригонный рынок. Через тринадцать лет на том же месте открылся Центральный продовольственный рынок. Стр. 367. Олд-Бейли — центральный лондонский уголовный суд. Стр. 369. Нью-Джерси — штат США на Атлантическом побережье. «Гробница» — тюрьма в Нью-Йорке, где содержались подследственные. Об ужасных условиях содержания в ней преступников Диккенс писал в «Американских заметках». Стр. 371. …представим себе Леверье, или Адамса… — Леверье Жан-Жозеф (1811–1877) — французский астроном. Адамс Джон Кук (1819–1892) — английский астроном. Леверье и Адамс в 1845–1846 годах одновременно и независимо друг от друга определили местонахождение планеты Нептун. Стр. 373. Кеннингтон — район в южной части Лондона. Театр Лицеум. — В театральном здании Лицеум (построенном в 1765 году) даются спектакли различных музыкальных и драматических трупп. В год опубликования рассказа здесь показывались музыкально-драматические «фантазии» театра мадам Вестри. Стр. 374. Ламбет — район Лондона на южном берегу Темзы, населенный беднотой. Стр. 375. Чипсайд — одна из центральных деловых магистралей Лондона. Улица, заселенная ремесленниками и торговцами. Стр. 378. Эпсом — городок в 15 милях к юго-западу от Лондона, где с 1730 года ежегодно проводятся скачки. С 1779— 1880 годов дни больших весенних скачек стали называться Дерби и Окс — по имени графа Дерби и по названию его охотничьего поместья. Дженни Линд (1826–1887) — известная шведская оперная певица, часто гастролировавшая в Англии. Уайтчепл — район Лондона с наибольшим процентом еврейского населения, «квартал портных». Стр. 379. …судили на очередной сессии в Гилдфорде. — Уголовные дела обычно рассматриваются в Англии на квартальных судебных сессиях в главном городе каждого графства. Гилдфорд — городок в 28 милях к югу от Лондона, с 1257 по 1930 год место квартальных сессий графства Сэррей. Стр. 384. …не считая нескольких понедельников… — Понедельник по ряду причин был нерабочим днем у некоторых групп трудящихся. У английских сапожников это шуточный праздник; на севере Англии «мясной понедельник» — день перед отпущением грехов. Первый понедельник после Крещения «понедельник пахаря» — праздник, известный со времен средневековья. Стр. 387. Вест-Бромвич — город в графстве Стаффордшир, к северо-западу от Бирмингема. Стр. 388. Английский банк. — Основанный в 1694 году, Английский банк до конца второй мировой войны формально являлся частным акционерным учреждением, но фактически выполнял функции Государственного банка: являлся казначейством и выпускал бумажные деньги. Саутгемптон-Билдингс — здание, где помещается Управление патентов Министерства труда. Тэмпл-Бар — старинные ворота (построены в XVII веке), оставшиеся от стены, отделявшей ранее торговую часть Лондона Сити от Вестминстера. В 1878–1879 годах были перенесены за городскую черту. Стр. 393. Уолвергемптон — город в графстве Стаффордшир, центр сталелитейной промышленности и производства металлических изделий. Стр. 394. …среди зеленого остролиста… — По старинному английскому обычаю, в рождественские праздники дом украшается ветвями остролиста. Стр. 396. Ньюмаркет — городок в графстве Кембридж. Со времени короля Якова I (1566–1625) известен как место скачек. Стр. 397. …как тот нищий в гостях у Бармесида… — Здесь упоминается эпизод из книги сказок «1001 ночь», в котором рассказывается о скупом богаче из знатного персидского рода Бармесидов, который предлагал нищему Шакабаку пустые блюда, красочно описывая отсутствующие яства и вина. Панч (сокращенное Пунчинелла от итал. Пульчинелла) — самый популярный персонаж английского кукольного театра (с XVII в.). Сценарий традиционного представления, в котором участвует Панч и его неизменный спутник собака Джуди, зафиксирован в книге «Панч и Джуди» (1828), принадлежащей перу литературоведа Дж. П. Коллнерса (1789–1883) и иллюстрированной Дж. Крукшенком (1792–1878). Стр. 398. Валентин — герой средневекового французского романа из Каролингского цикла о двух братьях, один из которых был вскормлен медведицей в лесу (Орсон), другой (Валентин) воспитывался при дворе императора Пепина. Первое издание «Истории Валентина и Орсона» относится к 1495 году. Впервые этот сюжет был перенесен на английскую почву в 1550 году. Желтый Карлик — злой персонаж сказки французской писательницы Марии д’Олнуа (1650–1705) — автора обработок сказок и исторических сочинений. Стр. 399. Матушка Банч. — Имя матушки Банч — легендарной содержательницы лондонской пивной XVI века — вошло в названия многих сборников анекдотов и шуток (XVII в.). Стр. 400. Филип Кворл — герой «Приключений Филипа Кворла» (1727), приписываемых перу Э. Дорингтона. Сэндфорд, Мертон и мистер Барлоу — герои популярной английской детской книги «История Сэндфорда и Мертона» Томаса Дэя (1748–1789). Стр. 401. Преданная собака из Монтаржи… — легендарная собака рыцаря Обри де Мондидье, обнаружившая убийцу своего хозяина в лесу Бонди близ Монтаржи. Джейн Шор (ум. ок. 1527 г.) — фаворитка Эдуарда IV; упоминается в ряде произведений английской литературы. Джордж Барнуэл — герой бытовой драмы Лилло (1693–1739) «История Джорджа Барнуэла, или Лондонский купец» (1731). «Нет ничего, чего бы не преображала мысль» — искаженная цитата из «Гамлета», акт II, сц. 2-я. Стр. 402. …похожею на жезл небесного цирюльника… — Жезл, выкрашенный по спирали красным и белым, является эмблемой цирюльника. Эта эмблема восходит ко времени, когда функции цирюльника и лекаря исполнялись одним лицом, и напоминает руку, забинтованную для кровопускания. Стр. 403. Овидий (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), Вергилий (70–19 гг. до н. э) — древнеримские поэты. Стр. 416. Джек Шеппард — знаменитый английский разбойник XVIII века, казненный в Лондоне. Стр. 418. Часы на колокольне Сент-Джайлса… — Сент-Джайлс — собор на Оксфорд-стрит, сооруженный в 1734 году архитектором Генри Флиткрофтом (1697–1769). В приходе Сент-Джайлс находились знаменитые лондонские трущобы «Воронье гнездо». Выставка. — Международная выставка в лондонском Гайд-парке впервые состоялась в 1851 году. …оглядывая мраморы Эльджина… — Эльджин Томас (1766–1841) — английский дипломат, продавший в 1816 году английскому правительству коллекцию древнегреческих скульптур и архитектурных фрагментов, занимающую специальный «зал Эльджина» в Британском музее. Стр. 419. …скульптурами Ниневии… — Ниневия — древняя столица Ассирийской империи на р. Тигр. В «Ниневийской галерее» Британского музея собрана коллекция барельефов VIII–VII веков до н. э. Стр. 421. Новый Южный Уэльс — западный штат Австралии, куда в XIX веке ссылались из Англии на каторжные работы политические и уголовные преступники. Стр. 425. Монетный двор — часть Лондонского района Саутуорк, в течение многих лет служившая убежищем для преступников. Стр. 426. Валентинов день — 14 февраля — традиционный английский праздник обручения влюбленных. Стр. 429. Колокол св. Георгия. — Имеется в виду церковь в приречном районе к югу от Темзы, примыкавшая к долговой тюрьме Маршалси. Стр. 433. Грейз-Инн-лейн — улица, где находился один из четырех главных судебных «Иннов», обладавших монопольным правом подготовки полноправных юристов. «Уж спорит утро с ночыо — чья возьмет» — цитата из Шекспира, «Макбет», акт III, сц. 4-я. …«беззаконные перестают наводить страх» (библ.) — цитата из Ветхого завета, книга Иова, III, 17. Стр. 444. Плывут по волнам корабли… — заключительные строфы стихотворения крупного английского поэта викторианской эпохи А. Теннисона (1809–1892). …за отступающим Нептуном… — цитата из Шекспира, «Буря», акт V, сц. 1-я. Стр. 446. Митчем — крупнейший во времена Диккенса театральный антрепренер. В Сент-Джеймском театре ставилось большинство ранних комических пьес и музыкальных комедий Диккенса. В 1842–1852 годах в театре игрались французские пьесы. Труппой театра, включавшей тогдашних французских звезд (в некоторых спектаклях участвовала знаменитая Рашель) руководил Митчем. Абд-эль-Кадер (ок. 1807–1883) — эмир алжирского Орана, руководил борьбой против французской оккупации Алжира, автор философского трактата «Напоминание думающему, совет безразличного». Стр. 450. …его тезки под водой в Спитхеде или под землей в Виндзоре. — «Ройал Джордж» («Королевский Георг») — военный корабль, затонувший в 1782 году в Спитхеде, на рейде перед портсмутским портом. В Виндзоре, в часовне св. Георга, погребен король Георг III (1738–1820). Первый джентльмен. — Имеется в виду Георг Четвертый (1762–1830), принц-регент (1811–1820), король Англии (1820–1830), получивший известность как законодатель мод своего времени и прозванный «первым джентльменом Европы». Стр~ 453. Аббевилль — город, центр департамента Сом. Стр. 456. Пале-Рояль — парижские дворцовые здания, служившие до 1831 года королевской резиденцией. С 1875 года — здания Государственного совета и театр Пале-Рояль. …какая-то статуя на Гайд-парк-Корнер… — Речь идет о статуях герцога Веллингтона (1769–1852), воздвигнутых в различных районах Лондона в честь решительной победы над Наполеоном при Ватерлоо (1815), одержанной армией под командованием Веллингтона. Стр. 467. …«нам никакая участь не страшна…» — слегка измененная цитата из трагедии Шекспира «Король Джон», акт V, сц. 7-я. Стр. 469. Шагает по валам морским… — строки из военной песни английского поэта Томаса Кемпбелла (1777–1844) «Вы, моряки Англии!». Стр. 471. «Корона и Скипетр», «Слон и Замок» — названия гостиницы и постоялого двора. Стр. 477. Джозеф Миллер (1684–1738) — английский актер, издавший в середине XVIII века сборник острот и изречений. Стр. 486. Магомет Али (1769–1849) — основатель династии египетских королей. Гарун аль-Рашид — могущественный багдадский калиф, герой сказок «1001 ночи». Стр. 487. Сент-Джеймс-стрит — улица, где находится дворец, служивший королевской резиденцией. Вильгельм IV (1765–1837) — король Англии, вступивший на престол в 1830 году. Стр. 488. Каннинг Джордж (1770–1827) — английский министр. …на музыкальном фестивале в Норвиче… — Первый музыкальный фестиваль в Норвиче (графство Норфолк) состоялся в 1770 году. В XIX веке фестивальные торжества происходили раз в три года. Стр. 493. Георг Третий (1738–1820) — английский король, признанный умалишенным и отстраненный от правления в 1811 году. Стр. 494. Бенджамин Франклин (1706–1790) — американский дипломат, автор политических, экономических и естественно-научных исследований. …в театре Друри-Лейн, увидел замечательного актера… — Друри-лейнский театр является одним из двух ведущих лондонских драматических театров XVIII–XIX веков. На сцене этого театра неоднократно выступал крупнейший трагик Англии, друг Диккенса, Уильям Макриди (1793–1873), стоявший во главе театра в 1841–1843 годах. Диккенс вспоминает последний спектакль Макриди «Макбет», состоявшийся 26 февраля 1851 года. «…целительный бальзам больной души…» — цитата из Шекспира, «Макбет», акт II, сц. 2-я. Эти и дальнейшие слова Макбета — восхваление сна. Стр. 495. Большой Сен-Бернар — альпийский перевал в Швейцарии. Стр. 496. …Мэннинги, муж и жена, висят над воротами тюрьмы… — супруги-преступники, казненные в ноябре 1849 года по обвинению в убийстве. Диккенс, присутствовавший при казни, собравшей пятидесятитысячную толпу, написал письмо в газету «Таймс», протестуя против подобных варварских зрелищ. Стр. 499. …попадает в сказочный мир Креморна… — Креморнский сад в Челси был местом популярных в середине XIX века увеселительных зрелищ. …«конченый я енот»… — Речь идет об одном из анекдотов знаменитого американского пионера охотника Дэвида Крокета (1786–1836), где он рассказывает о встрече с енотом, залезшим на дерево. Стр. 500. Когда плети отменили в Брайдуэле… — Погреба Брайдуэлского замка в Лондоне с XVI века были превращены в исправительную тюрьму и место заключения политических и религиозных преступников. Брайдуэл — часто нарицательное обозначение тюрьмы. Суд божий — восходящий к средневековью обычай решать исход сражения или спора личным единоборством. Стр. 503. Монумент — колонна, воздвигнутая в 1671–1677 годах по проекту архитектора Кристофера Ренна (1632–1723) в память о лондонском пожаре 1666 года. Стоит на том месте, дальше которого пожар не распространялся. Ломберд-стрит — с XII века лондонский финансовый центр — улица, где находится несколько крупных банков. Стр. 506. …угодит в лапы Иезавелей… — Иезавель — упоминаемая в библии жена царя Израиля, властная и коварная правительница. Ее имя употребляется для обозначения жестоких и порочных женщин. Стр. 533. Воксхолл — увеселительный сад и район, где он находился. Мост Воксхолл, построенный в 1816 году, соединял части сада, расположенного по обе стороны Темзы. Стр. 537. Нельсон Горацио (1758–1805) — знаменитый английский флотоводец. Стр. 539. Капитан Бобадил — персонаж комедии Бэна Джонсона (1572–1637) «Всяк в своем нраве» (1598). Стр. 540. Бэттерси — лондонский район на южном берегу Темзы. Баркинг-Крик — устье реки Родинга, впадающей в Темзу за городской чертой Лондона. Стр. 546. …«из нашей крови отчеканил драхмы» — искаженная цитата из Шекспира, «Юлий Цезарь», акт IV, сц. 3-я. Стр. 558. …сына некоего варвикширского торговца шерстью… — намек на Шекспира. Стр. 564. …«встанут тенью и уйдут» — цитата из Шекспира, «Макбет», акт IV, сц. 1-я. Брюс Джеймс (1730–1794) — шотландский исследователь Африки, автор пятитомного труда «Путешествия в поисках истока Нила в 1768–1773 гг.» (1790). Франклин на исходе своего неудачного путешествия в Арктику… — Джон Франклин (1786–1847) — американский исследователь Арктики; погиб в арктической экспедиции. Стр. 565. Мунго Парк (1771–1806) — шотландский путешественник, исследовавший Центральную Африку; автор книг «Путешествие во внутренние области Африки» и «Дневник миссии в Центральную Африку». Стр. 566. Капитан Блай. — Английский адмирал Уильям Блай (1754–1817) был вместе с восемнадцатью офицерами высажен восставшей командой корвета «Баунти» на шлюпку в открытом океане. Сикомб — утес на южном берегу полуострова Пербек в графстве Дорсет. Стр. 571. Кафрария — в XIX веке нейтральная область на юго-востоке Африки. Стр. 574. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих… то сделали мне» — строка из евангелия. Стр. 592. Принц Бык — памфлет Диккенса на методы ведения английским правительством Крымской войны 1853–1856 годов. Образ принца Быка олицетворяет Англию, принца Медведя — Россию (бык по-английски «булль» («bull»), а Джон Булль нарицательное имя, обозначающее истого англичанина). Стр. 593. …и вся была перевита красной тесьмой… — Красной тесьмой в Англии обычно завязывались важные государственные документы. В настоящее время «красная тесьма» — нарицательное обозначение бюрократии, бюрократической волокиты. Стр. 605. Вторая заповедь — «Не сотвори себе кумира» (библ.). Стр. 611. Хайгетская арка — ворота, сооруженные по указу лондонского епископа в XIV веке при въезде в Лондон на Большой Северной дороге. «За счастье прежних дней» — народная английская песня, обработанная Р. Бернсом. Стр. 615. Гретна-Грин — местечко в пограничной с Англией области Шотландии, где можно было зарегистрировать брак без многочисленных церковных и юридических формальностей. Перегрин Пикль — герой романа английского писателя Смоллета (1721–1771) «Приключения Перегрина Пикля» (1751). «Сентиментальное путешествие» — роман английского писателя Л. Стерна (1713–1768) «Сентиментальное путешествие мистера Йорика по Франции и Италии» (1768). Стр. 617. «Раймонд и Агнес…» — популярная двухактная драма неизвестного автора, впервые поставленная в 1825 году. Стр. 618. …в «Придорожную гостиницу»… — «Джонатан Брэдфорд, или Убийство в придорожной гостинице» — книга, имевшая широкое хождение в Англии в середине XIX века. Стр. 619. «Храбрый Алонзо и Прекрасная Имогена» — баллада Мэтью Льюиса (1775–1818). Стр. 620. Стонхендж — «Висячие камни» (сакс.) — остатки каменных сооружений кельтов (древнейших жителей Англии), возможно — место совершения религиозных обрядов жрецами-друидами. Дронт — крупная птица из отряда голубиных, вымершая в конце XVIII века. Стр. 629. Гейдельберг — город в Германии, старинный (с XIV в.) университетский центр. Барон Тренк — Фридрих Тренк (1726–1794) — прусский авантюрист, приговоренный за воинские преступления к пожизненному тюремному заключению; казнен в Париже по приказу Робеспьера как тайный агент Пруссии. Стр. 631. «Меня зовут Норвал» — строка из монолога героя трагедии английского писателя Джона Хома (1722–1808) «Дуглас», сюжет которой заимствован из шотландской народной баллады. «Светит майская луна», «Когда тот, кто тебя обожает» — стихотворения из «Ирландских мелодий» (1835) английского поэта-романтика Т. Мура (1779–1852). Стр. 635. Великая Уэйрская кровать — лондонская достопримечательность, огромная кровать двенадцати футов в обоих измерениях; находится в трактире Рай-Хаус в лондонском районе Уэйр. Стр. 648. Альманах Мура — популярное издание, содержавшее разного рода календарные сведения и предсказания. Первый Альманах был выпущен Ф. Муром в 1700 году. Мудрец Рафаэль — один из архангелов, упоминаемый в апокрифической книге Товита Ветхого завета. Стр. 651. Мадам Ролан. — Жанна Ролан (1754–1793) — политический лидер и экономический теоретик Французской революции 1789–1793 годов, автор «Мемуаров», написанных ею в ожидании казни в парижской тюрьме Сент-Пелажи. Стр. 653. «Дочь Крысолова» — популярная английская песенка. Стр. 654. «Уилл Уотч — смелый контрабандист» — популярная песня английского композитора Джона Дэви (1763–1824). «Монах Серого Ордена» — романс английского композитора У. Рива (1757–1815). Стр. 667. «Пойман с поличным». — В основе сюжета рассказа — судебное дело отравителя Уэнрайта. Стр. 670. Мидл-Тэмпл — один из четырех главных судебных «Иннов» и часть района Тэмпл, где он находился. Стр. 676. Норфолк — графство на восточном побережье Англии. Стр. 678. Скарборо — курорт на восточном берегу Англии. Иллюстрации, публикуемые на стр.: 19, 37, 63, 105, 139, 145, 183, 215, 227, 237, 263, 267, 299, 317, принадлежат художнику X. Френчу; на стр.: 91, 141, 191, 289, 381, 385, 545, 573 — Ф. Уокеру. Д. ШЕСТАКОВ
СОДЕРЖАНИЕ
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА Перевод В. Топер
Книга первая С е в Глава I. Единое на потребу...7 Глава II. Избиение младенцев...8 Глава III. Щелка...14 Глава IV. Мистер Баундерби...21 Глава V. Основной лад...28 Глава VI. Слири и его труппа...34 Глава VII. Миссис Спарсит...41 Глава VIII. Никогда не раздумывай...56 Глава IX. Успехи Сесси...62 Глава X. Стивен Блекпул...71 Глава XI. Тупик...76 Глава XII. Старушка...84 Глава XIII. Рейчел...89 Глава XIV. Великий фабрикант...98 Глава XV. Отец и дочь...103 Глава XVI. Муж и жена...112
Книга вторая Ж а т в а Глава I. Положение дел в банке...119 Глава II. Мистер Джеймс Хартхаус...133 Глава III. Щенок...144 Глава IV. Люди и братья...150 Глава V. Рабочие и хозяева...158 Глава VI. Расставанье...165 Глава VII. Порох...177 Глава VIII. Взрыв...192 Глава IX. Обретенный покой...206 Глава X. Лестница миссис Спарсит...216 Глава XI. Ниже и ниже...221 Глава XII. На краю пропасти...231
Книга третья С б о р в ж и т н и ц ы Глава I. Иное на потребу...236 Глава II. Смешно и нелепо...243 Глава III. Решительно и твердо...253 Глава IV. Кто-то пропал...261 Глава V. Кто-то нашелся...273 Глава VI. Звезда...282 Глава VII. Погоня за щенком...293 Глава VIII. Немножко философии...306 Глава IX. Заключение...312
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ Сочинитель просительных писем. Перевод Н. Вольпин...323 Прогулка по работному дому. Перевод Л. Борового[242]...332 Гений искусства. Перевод Н. Вольпин...340 Сыскная полиция. Перевод Н. Вольпин...349 Три рассказа о сыщиках. Перевод Н. Вольпин...372 Рассказ бедняка о„патенте. Перевод Н. Хуцишвили...384 Рождественская елка. Перевод Н. Вольпин...393 «Рождения. У миссис Мик — сын». Перевод Н, Вольпин...412 С инспектором Филдом — при отправлении службы. Перевод Н. Вольпин...418 Наш английский курорт. Перевод Л. Борового...434 Полет. Перевод Л. Борового...445 Наша школа. Перевод Н. Хуцишвили...458 Наш почтенный друг. Перевод Н. Хуцишвили...467 Наш приходский совет. Перевод Н. Вольпин...474 Наш докучный знакомец. Перевод Н. Вольпин...483 Бессонница. Перевод М. Лорие...493 Рассказ бедного родственника. Перевод М. Лорие...501 Рассказ мальчика. Перевод Н. Вольпин...513 Для чтения у камелька. Перевод Н. Вольпин...518 С отливом вниз по реке. Перевод Н. Дарузес...532 Рассказ школьника. Перевод М. Клягиной-Кондратъевой...543 Никто. Перевод Н. Вольпин...557 Далекое путешествие. Перевод Н. Вольпин...564 Наш французский курорт. Перевод Л. Борового...576 Принц Бык. (Сказка.) Перевод Н. Вольпин...592 Отдых от столичной суеты. Перевод Л. Борового...599 Остролист. Перевод М. Клягиной-Кондратъевой...608 Мертвый сезон. Перевод Л. Борового... 646 Как попасть в общество. Перевод 3. Александровой...656 Пойман в поличным. Перевод М. Клягиной-Кондратъевой...667
К о м м е н т а р и и А. Аникст. «Тяжелые времена»...695 Комментарии А. Парфенова и Д. Шестакова...702
Примечания
1
Единое на потребу. — По евангельской легенде, Христос сказал женщине, которая, заботясь об угощении, не слушала его проповеди: «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно» (по-церковнославянски — «Едино же есть на потребу»), то есть нужно только внимать божьему слову. Евангельское выражение употреблено Диккенсом в ироническом смысле: мистер Грэдграйнд придает столь же большое значение своей теории. Первой главе третьей части романа, в которой изображен крах мировоззрения Грэдграйнда, Диккенс, продолжая сопоставление, дал название «Иное на потребу». (обратно)2
Избиение младенцев. — По евангельскому преданию, царь иудейский Ирод, узнав от восточных мудрецов о рождении Христа, будущего вождя Иудеев, стремился разыскать его и убить. Не найдя Христа, Ирод приказал перебить в стране всех мальчиков до двух лет. (обратно)3
…пришествие тысячелетнего царства… когда …миром будут править чиновники… — пародия на легенду о «тысячелетнем царстве Христа», которое ожидалось после его второго пришествия. (обратно)4
Просодия — здесь: правила стихосложения. (обратно)5
Тройное правило — правило для решения арифметических задач, в которых величины связаны прямой или обратной пропорциональной зависимостью. (обратно)6
…он достиг списка В, утвержденного Тайным советом ее величества… — Список Б — перечень научных дисциплин, которые обязан знать учитель. Тайный совет — совещательный орган при короле Англии, состоит из членов кабинета и лиц, назначаемых королем по представлению премьер-министра. Здесь имеется в виду комитет по делам образования при Тайном совете, созданный в 1839 году; из этого комитета в дальнейшем было организовано министерство просвещения. (обратно)7
…поступил по примеру Морджаны из сказки про Али-Баба и сорок разбойников… — Служанка Морджана — персонаж одной из арабских сказок — обнаружила в больших глиняных сосудах спрятавшихся разбойников и убила их, налив в сосуды кипящего масла. (обратно)8
Оуэн Ричард (1804–1892) — английский натуралист, известен своими исследованиями в области анатомии. (обратно)9
Воз — одно из названий созвездия Большой Медведицы. (обратно)10
…не вспоминал о …корове безрогой… — Имеется в виду английское детское стихотворение-скороговорка, которое начинается словами: «Вот дом, который построил Джек». Цитировано по переводу С. Я. Маршака. (обратно)11
Конхиологическая коллекция — коллекция раковин. (обратно)12
«…высоконравственными шутками и остротами в шекспировском духе». — Желая оградить свою труппу от преследований ханжески настроенных городских властей, мистер Слири настойчиво подчеркивает нравственный характер цирковой программы; однако он выбирает не совсем удачный образец: как известно, шекспировские шутки не всегда отличаются благопристойностью. (обратно)13
Миссис Гранди — олицетворение буржуазной «респектабельности» и ходячей морали. Часто упоминаемое, но не участвующее в действии лицо в комедии Томаса Мортона (1764–1838) «Бог в помочь»; роль миссис Гранди в пьесе сходна с ролью княгини Марии Алексеевны в «Горе от ума». (обратно)14
Адам Смит и Мальтус — дети Грэдграйнда названы в честь политэконома Адама Смита (1723–1790) и социолога-священника Томаса Мальтуса (1766–1834) — идеологов английской буржуазии. (обратно)15
Пегас (греч. миф.) — крылатый конь, олицетворение поэтической фантазии, вдохновения. (обратно)16
Ноев ковчег — по библейской легенде — корабль, на котором спаслись от всемирного потопа Ной и его род; в ковчеге были также собраны представители всех видов животного царства. (обратно)17
Кентавр (греч. миф.) — существо с туловищем коня и с головой, грудью и руками человека. (обратно)18
Хартия вольностей (Habeas Corpus Act) — акт об ограничении королевской власти в пользу феодальных баронов, изданный королем Англии Иоанном Безземельным в 1215 году. (обратно)19
Джон Булль — прозвище англичан; в литературный обиход вошло после появления серии памфлетов Джона Арбетнота «История Джона Булля» (1712). (обратно)20
…хабеас корпус (Habeas Corpus Act) — английский закон 1679 года, по которому каждый арестованный имеет право требовать, чтобы в течение суток судья гласно предъявил ему обвинение; в противном случае арестованный из-под стражи освобождается. Этот закон, однако, не распространяется на лиц, подозреваемых в государственной измене и в особо тяжелых преступлениях; кроме того, английский парламент в прошлом много раз приостанавливал его действие. (обратно)21
Билль о правах — парламентский акт 1689 года, принятый при вступлении на английский трон Вильгельма Оранского. Билль о правах закрепил руководящую роль в политической жизни страны за парламентом и является предметом гордости сторонников буржуазного парламентаризма. (обратно)22
«Церковь и государство» — формула, характеризующая особенность положения английской церкви, а именно — ее тесную связь с государственным аппаратом. С XVI века английский король является главой национальной церкви. (обратно)23
Презренно счастие вельможей и князей… — строки из поэмы Оливера Гольдсмита «Покинутая деревня» (1770). Перевод В.А. Жуковского. (обратно)24
…кориолановского носа… — то есть римского носа. Кориолан Гней Марций — по преданию, гордый и высокомерный римский патриций, враг плебеев, изгнанный из Рима и перешедший на сторону вольсков — племени, воевавшего против Рима. (обратно)25
…не на что было купить пакли, чтобы посветить вам. — Один из видов заработка лондонских бедняков состоял в том, что они светили на улице богатой публике факелами из пакли, намотанной на палку и пропитанной смолою. (обратно)26
Веcт-Энд, Мэйфер — аристократические кварталы в западной части Лондона. (обратно)27
…Дефо, а не Евклид… — Дефо Дэниел (ок. 1660–1731) — английский писатель эпохи Просвещения, автор «Робинзона Крузо», «Молль Флендерс» и многих других романов, богатых описаниями путешествий и приключений. Евклид (IV в. до н. э.) — великий древнегреческий математик. (обратно)28
…находили большее утешение у Гольдсмита, нежели у Кокера. — Гольдсмит Оливер (1728–1774) — английский писатель-сентименталист; среди его произведений наиболее известны роман «Векфильдский священник», поэма «Покинутая деревня», комедия «Ночь ошибок». Кокер Эдвард (1631–1675) — автор учебника арифметики. (обратно)29
«Поступать с людьми так, как я хотела бы, чтобы они поступали со мной» — перефразированные слова Христа из нагорной проповеди (еванг.). (обратно)30
Синяя книга — сборник документов, относящихся к деятельности английского правительства; такие сборники выпускались в синих переплетах. (обратно)31
…позволит ли султан Шахразаде рассказывать дальше… — В новелле, обрамляющей сборник арабских сказок «1001 ночь», рассказывается, как некий царь, подозревая всех женщин в непостоянстве, казнил своих жен после брачной ночи. Шахразада избежала общей участи при помощи хитрости: она рассказывала целую ночь увлекательные истории, а утром обрывала рассказ на середине; это побудило царя откладывать казнь со дня на день, пока он совсем не отказался от мысли казнить Шахразаду. (обратно)32
…на радость и горе… — слова, произносимые священником во время венчания в английской церкви. (обратно)33
Суд по семейным, делам, гражданский суд, палата лордов. — В 1854 году, когда вышел в свет роман «Тяжелые времена», в Англии все еще действовало законодательство о браке, проникнутое духом средневекового обскурантизма и ханжества. Бракоразводные дела рассматривались не светскими, а церковными судами, которые считали брак вообще нерасторжимым. В лучшем случае церковные суды давали санкцию на разлучение супругов — временное или постоянное. Разлучение, однако, не давало права вступать во второй брак. Для того чтобы церковный суд принял дело к слушанию, нужно было предъявить обвинение в адюльтере или жестоком обращении со стороны одного из супругов. Другие причины не принимались во внимание. Единственным средством получить действительный развод было специальное парламентское постановление. Для этого нужно было иметь решение церковного Суда о разлучении и много денег. Развод был привилегией немногих знатных и влиятельных лиц. Об этом говорят цифры: за двести лет было издано лишь 229 парламентских актов о расторжении брака. Суд по семейным делам, о котором упоминает Диккенс, — это церковный суд, располагавшийся в Лондоне в группе зданий, известных под общим названием Докторс-Коммонс. В 1858–1859 годы Докторс-Коммонс был упразднен. Гражданский суд — это суд обычного права, опирающийся не на писаные законы, а на судебные прецеденты и обычаи. Через суды обычного права проходили дела о взимании убытков с прелюбодеев. Палата лордов — верхняя палата английского парламента, высшая апелляционная инстанция в Англии. В палату лордов направляли прошения о парламентском разводе. Мистер Баундерби не был далек от истины, определяя сумму, необходимую Блекпулу для получения развода: об этом свидетельствует любопытное обращение одного английского судьи к бедняку, судимому в 1845 году за двоеженство (первая жена ограбила его и убежала с другим человеком): «Вы должны были возбудить дело и потребовать возмещения убытков, которые другая сторона не была бы в состоянии уплатить, и вам пришлось бы уплатить судебные издержки самому вероятно, 100 или 150 фунтов. Затем вам нужно было бы обратиться в церковный суд и получить развод a mensa et thoro (разлучение), а затем — в палату лордов, где, доказав, что все предварительные юридические процедуры совершены, вы получили бы разрешение жениться снова. Затраты могут достичь 500 или 600 фунтов, а может быть и тысячи. Вы говорите, что вы — бедный человек. Но я должен вам сказать, что нет одного закона для богатых и другого для бедных».(обратно)
Последние комментарии
2 дней 3 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 12 часов назад