Михаил Шемякин: как я рассмешил офицера DST[1]
Однажды мой галерейщик Патрик Карпантье приобрел архивы Вернера Ланге, которые состояли из его воспоминаний, посвященных годам немецкой оккупации Франции, и редких фотографий торжественных мероприятий, на которых вместе с эсэсовскими офицерами присутствуют многие известные французские художники, скульпторы и другие деятели культуры. Воспоминания непредвзято обрисовывают сложную обстановку тех лет и отношения между оккупационными властями и художественным миром. И, опять же, в жизни получалось не совсем как в кино. «Во французский бар, входит эсэсовский офицер; художники, до этого весело болтающие и попивающие аперитив, встают и демонстративно покидают бар, не допив свои бокалы». А, судя по рассказам немецкого офицера и по фотоархиву, выясняется, что художники таскали к нему свои работы, приглашали в свои мастерские и с удовольствием посещали выставки, устраиваемые немецкими властями в Париже и Берлине. Разумеется, было и французское Сопротивление, были павшие в неравной борьбе герои, но в этой книге представлены материалы о тех, кого именуют коллабораторами, о тех, которые отнюдь не гнушались пожимать руки офицерам немецкого вермахта. Наверное, советским людям многое будет понятно в этой книге... Много прекрасных русских художников, скульпторов, графиков и других деятелей искусства было расстреляно, погибло в ГУЛАГе, но кто-то в это же время работал, творил, процветал или выживал... И, как сегодня принято говорить в оправдание, «время было такое...». Французы сегодня повторяют эту же фразу (разумеется, на французском).***
В конце шестидесятых годов в мою жизнь и в жизнь моих друзей вихрем ворвалась Дина Верни. Крупнейшая парижская галерейщица, муза Майоля, подруга и натурщица наших кумиров, известных всему миру художников и скульпторов. Как из волшебного короба, сыпались и извлекались священные имена и истории, напрямую связанные вот с этой маленького роста, упитанной пятидесятилетней женщиной, сидящей сейчас перед нами! Невероятно! «Верни? Это для французов, а для вас всех я — Дина Верная, потому что фамилия моего отца — Верный». «Матисс? Я бросила ему позировать, но, жалея его, послали вместо меня мою подругу Лиду Делекторскую. Она позировала ему дольше, чем я!» «Вламинк?! Он стал приставать ко мне, я дала ему по морде, оделась и ушла». «Осип Цадкин? Он был влюблен в меня, мы часто с ним бывали на природе за городом. Он бегал за мной, читал стихи, гонялся за бабочками». «Сутин? Бедняга! Я отвозила его в Парижский госпиталь, тайком, пряча от немцев. Он ведь был евреем!» Мы сидели вокруг нее с открытыми ртами и вытаращенными зенками. Кумиры кумирами, но это не самое главное, чем она нас заинтриговала и поразила. Что нас покорило и восхитило окончательно и бесповоротно — это то, что Дина была — героиней! Да, да, настоящей героиней времен немецкой оккупации любимой нами Франции. Активной и боевой участницей Сопротивления, попавшей в застенки гестапо, подвергнутой чудовищным пыткам и чудом оставшейся в живых. Чего только стоили ее рассказы о том, как ее, раздетую донага, гестаповские изверги запихивали по пояс в чан с водой и пытали электрическими проводами. Картинным жестом она обнажала плечо, на котором виднелись несколько пятен. «Вот это осталось на память о фашистах», — горестно произносила она. И мы, изрядно принявшие на грудь дорогих заграничных напитков, которые она закупала в недоступных советским людям «Березках», подвывая от восторга, лезли целовать ей это самое плечико, руки, ноги. Целовать ей — героине. Она-то знала, что мы, дети военных лет, сыновья офицеров и солдат, сражавшихся с тем самым фашизмом, поймем и оценим ее, пожалуй, как никто. Еще бы не смотреть на Дину горящим взором, после того как она в красках описала побег из гестаповского ада — тюрьмы, расположенной в старинном замковом строении, окруженном высоченной каменной стеной, на окнах которой были толстенные решетки, наверное, еще помнившие рыцарей-крестоносцев. Но разве можно было бы предотвратить Динин побег, ее освобождение, если бы за этим не стояли такие люди, как Пабло Пикассо, Аристид Майоль, с боевыми товарищами из партизанского подполья?!! Были подпилены решетки, связаны из разорванных простыней длиннющие веревки, по которым и спустилась в темноте ночи бесстрашная Дина. Веревки не хватило... Но упала она в объятья боевых друзей и осталась жива. И это не всё! На следующую ночь Дина была вновь под стенами покинутой ею тюрьмы, на сей раз без друзей, без Пабло, а только с гитарой. И всю ночь она пела песни Сопротивления на французском языке тем оставшимся заключенным, которые слушали ее за решетками окон и которые после каждой песни громко кричали ей: «Браво, Дина!!!» И только на рассвете она покинула своих узников-друзей. И в завершение этой умопомрачительной истории эта чудо-женщина брала гитару и начинала красиво поставленным, низким грудным голосом петь цыганские романсы, искусно подыгрывая себе на гитаре. И выясняется еще одна подробность ее фантастической биографии. Оказывается, что она много лет пела в хоре наших любимых цыган вместе с Владимиром Поляковым, Алешей и Валей Дмитриевичами! Да, это было ошеломляющее явление Дины Верни в Советской России! В газете «Советская культура» Наталья Кончаловская, вдова известнейшего художника Кончаловского, мать двух талантливейших режиссеров Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, печатает статью о Дине Верни, которая называется «Музы Майоля». В этой статье интервью Дины Верни с душераздирающей историей об отце Дины — Якове Верном — талантливейшем одесском пианисте, который вступил в войска Народного фронта добровольцем, но... «Потом фашисты напали на след Дины Верни и схватили ее и отца. Яков Верный (...) был сожжен в печах лагеря Аушвица, а Дина была заключена в тюрьму Френ». И после этой статьи Дина Верни стала известна по всему Советскому Союзу. Надо напомнить, что жители СССР были начисто лишены информации из мира Запада. Посещение загрангосударств было для нас недоступно, общение с иностранцами чревато крупными неприятностями. И как бы нам ни хотелось узнать побольше о нашей героине — Дине и ее окружении, кроме рассказа ее самой и статьи Натальи Кончаловской никаких других источников информации не было и не предвиделось еще долгие и долгие годы. Но вот я, изгнанный из СССР художник-нонконформист, прохожу проверку DST, секретной полиции по борьбе со шпионажем, вел ее офицер Пьер Левержуа. Через полтора года было выяснено, что агентом КГБ я не являюсь, и за эти полтора года общения мы с Пьером Левержуа стали приятелями. Я оформил обложку его книги воспоминаний, присутствовал на церемониях по случаю выхода этой книги, а он не пропускал ни одного моего вернисажа. И вот однажды, сидя у меня на кухне за стаканом чая, он завел разговор о Дине Верни. Его немного удивляло чересчур восторженное отношение многих русских деятелей культуры к этой парижской галерейщице. Надо сказать, что он был лично знаком с Диной и часто бывал в ее поместье, и, разумеется, по долгу службы прекрасно был знаком с ее биографией. Я стал с жаром описывать подвиги этой удивительной женщины, опираясь естественно на поведанные ею нам истории о борьбе с фашизмом, аресте, пытках, побеге, не забыв упомянуть и о ее погибшем отце Якове Верни. Реакция офицера секретной полиции Пьера Левержуа была неожиданной. В конце моего повествования он — расхохотался. А потом, видя мое недоумение, объяснил причину смеха. Дело в том, что господина Верни он встречает, живого и невредимого, каждый день, поскольку он его сосед, живущий в доме напротив. Зовут его не Яков, а Саша, и господин Верни не является отцом Дины — пианистом Яковом Верным, а пребывает в статусе бывшего мужа Дины Верни (в девичестве носившей фамилию Айбиндер). Да, действительно, ее отец Яков Айбиндер был сожжен в немецком концлагере, как миллионы других евреев. Но в Сопротивлении он не участвовал, иначе после «допросов с пристрастием» его скорее всего бы расстреляли или повесили. Разумеется, никаким пыткам молодая Дина Верни не подвергалась. Что же касается ее участия в Сопротивлении, то навряд ли ее, задержанную как еврейку во время облавы, отпустили бы на волю, несмотря на ходатайство за нее Аристида Майоля. А фотография смеющейся Дины Верни на балконе немецкой службы пропаганды с эсэсовским офицером ставит всё на свои места. Признаться, после того как я ознакомился с воспоминаниями немецкого офицера, мне было и стыдно, и горько. Стыдно за нашу наивность. Ведь только насмотревшись советских фильмов вроде «Подвига разведчика» с ироничным Кадочниковым, демонстрирующим ум и проницательность советского разведчика, и комичным Мартинсоном, играющим роль преглупейшего фашистского офицера, и других советских «шедевров», где немцы, как один, были выведены полными кретинами или злобными полудурками, можно было всерьез принимать столь откровенное вранье зарвавшейся Дины. А грустно потому, что навсегда были развеяны красивые картинки, напоминающие кадры из французского фильма «Пармская обитель», где молодой Жерар Филип в роли Фабрицио бежит из средневековой пармской тюрьмы, спускаясь на веревках, скрученных и связанных из простыней, а внизу его ждет прекрасная Мария Казарес в роли графини Джины, со своими верными друзьями. Возможно, и сама Дина сделала для нас своего рода «ремейк» на эту картину. Видно, тесное общение с художниками пробуждает фантазию...Вступление
Вернер Ланге написал свои «воспоминания» незадолго до смерти. Это не классические воспоминания о войне и оккупации Парижа. В книге не описаны военные действия, борьба с Сопротивлением, теракты, преследования евреев. Она — о другом. Автор — интеллектуал, человек утонченный, образованный, франкофил. Персонажи, проходящие перед нами, — это артистические личности, гении живописи и скульптуры, произведения которых составляют часть сокровищ великих музеев и самых престижных коллекций. Их имена встречаются во всех учебниках истории искусств. Я не буду их здесь перечислять, эти люди предстанут перед вами по мере чтения книги, хотя и не всегда в выгодном свете. Не по причине их подлости или криминальной политической позиции, а потому что они пытались жить нормально, когда нормальность исключалась, и преуспевать, когда нацистский оккупант вершил закон. Они — коллаборационисты. И вместе с тем — обожаемые художники! Коллаборационисты, которые не призывают к истреблению евреев, не пишут «Руины»[2], не публикуются в «Я повсюду»[3]. Коллаборационисты, которые живут своей жизнью — рисуют, лепят, выставляются. И сотрудничают с оккупантами только для того, чтобы продолжать творить, выставляться, зарабатывать деньги, лучше питаться. Интерес и очарование этого текста — в откровенной, почти наивной будничности повествования. Война и оккупация присутствуют, но лишь как источник ограничений и проблем: трудно купить краски, чтобы иметь возможность рисовать, или металл, чтобы отливать скульптуры. Уже написаны книги о жизни парижских художников той эпохи. Мы знаем, что она была богатой, продуктивной и необычайно плодотворной. Между 1940 и 1944 годами сняты великие фильмы, настоящие шедевры: «Дети райка» Рене Клера, «Ворон» Анри-Жорж Клузо. Жан Кокто, Саша Гитри, Жан-Поль Сартр заполнили залы театров. Музыка, живопись, опера — жизнь кипела во всех сферах искусства. Этим страницам придает увлекательность не столько описание событий, о которых те, кто интересуется данным периодом истории, и так хорошо знают, сколько эпизоды, связанные с повседневным существованием великих художников во время Оккупации, — эпизоды забавные и трогательные, трагические и анекдотичные. Именно эта «неприличная» сторона их жизни делает книгу особенно интересной и действительно уникальной. Тот факт, что обо всем рассказывает офицер немецкой Propagandastaffel (Службы пропаганды) — молодой человек, исполненный восхищения по отношению к французским знаменитостям из мира искусства, «заниматься» которыми входит в его служебные обязанности, — придает рассказу ни с чем не сравнимый колорит. Искренняя дружба, которая связывала Ланге с Майолем, Вламинком, его близкие отношения с Дереном и другими дают возможность описывать неизвестные ранее сцены, на что никакая другая историческая книга не может претендовать. После окончания войны, как только это стало возможно, Вернер Ланге обосновался в Париже из-за любви к искусству и франкофилии. Он продолжал посещать тех, с кем познакомился во время войны. И если он покончил с собой, то не по причине, связанной с периодом Оккупации, а из-за любовной истории. Во всяком случае, так мне сказали. Фотографии и текст этой книги, написанный на французском, который он никогда не пытался опубликовать при жизни, найдены среди его вещей другом, А.С, видным персонажем парижской ночной жизни 70-х и 80-х годов прошлого века, покровителем гомосексуальных заведений. Чтобы преодолеть финансовые трудности, А.С. продал их М.Ш., известному русскому художнику и скульптору, живущему во Франции и в Соединенных Штатах, искушенному коллекционеру. Папка «Доктор Ланге» уснула в одном из его шкафов до октября 2014-го, откуда она была извлечена в связи с разговором о Дине Верни — русской эмигрантке, известной галеристке, тайной советчице, музе и наследнице Майоля. И персонаже этой книги. Так текст сам свалился мне в руки, почти как в «Рукописи, найденной в Сарагосе»[4] или в «Мораважин»[5]. Когда я читал и перечитывал эти страницы на французском, у меня вырывалось: «Не может быть!» — настолько это было невероятно, похоже на «Американец в Париже»[6] или, скорее, на «Немец в Париже». Ибо черты «денди» лейтенанта Ланге, его «приятность» и даже иногда «простота» делают повествование уникальным, парадоксально притягательным. Уникальным из-за «эксклюзивности», если я могу так сказать об историях, которые он рассказывает, ибо частным эпизодам, приведенным здесь (практически они и составляют всю книгу), присущ характер интимности. Дело в том, что Вернер Ланге часто был единственным свидетелем событий. Он один сопровождает Арно Брекера в его путешествии по Франции. Один обедает с Пикассо в подпольном борделе черного рынка. Один едет в Баньюльс, чтобы убедить Майоля приехать в Париж на открытие большой выставки Брекера. Один получает неожиданные подарки французских художников, предназначенные Йозефу Геббельсу. Один спасает, почти случайно, Дину Верни из когтей гестапо. Многочисленные неизвестные ранее эпизоды поражают их безусловной (я бы сказал, физиологической) подлинностью. Мы как будто живем рядом с великими художниками и галеристами; как будто ходим вместе с ними по улицам Парижа — оккупированного, но настолько живого, что он не перестает очаровывать нас семьдесят лет спустя после окончания войны. Дар рассказчика доктора Ланге, доброжелательная острота взгляда уникального свидетеля погружают нас в волшебную атмосферу того особенного, драматичного времени в истории Франции. Все это делает книгу в высшей степени увлекательной: кажется, что не читаешь, а смотришь фильм. Виктор Дюпен, издательПредисловие
Вторая мировая война закончилась десятилетия назад, и все-таки мы продолжаем говорить о войне, об Оккупации, о Франции Виши. Проходят годы, но события еще у всех на устах. Десятки книг, радио- и телепередач посвящены этому периоду, как если бы то время продолжало притягивать, учить и питать память. Именно этот факт подтолкнул меня погрузиться в некоторые мои личные заметки, которые воскрешают в памяти четыре драматичных года истории Франции, названные Оккупацией. Немец, я находился в другом лагере. Я был оккупантом. Следовательно, я видел эпоху взглядом, отличным от вашего. Но, будучи оккупантом, я был из тех немцев, кто знал и любил французскую культуру больше, чем любую другую.Моя скромная жизнь
Я родился в 1911-м в Лейпциге, очень красивом городе, одновременно культурном и коммерческом центре, известном некогда своими международными ярмарками. После войны 1914–1918 годов наша семья обосновалась в Касселе, в земле Гессен, где мой отец руководил металлургическим заводом. В этой старинной столице королевства Вестфалия (замок которой, кстати, известен во Франции, ибо Наполеон III там приходил в себя после разгрома при Седане) я провел детство и юность. Именно там я открыл в себе, большей частью благодаря моему отцу, остро выраженный интерес к искусству. Лицеист, параллельно с основными предметами я изучал искусство в различных художественных мастерских Академии. В 1931-м, с дипломом бакалавра в кармане, я захотел заняться живописью, но мать настояла, чтобы я изучал историю искусств. Она боялась, и небезосновательно, что в качестве художника я не всегда смогу утолить голод. В то время, в Германии во всяком случае, если хотели изучать историю искусств, то выбор преподавателя определял и выбор университета. Поскольку я желал обучаться у профессора Панофского, преподавателя с мировым именем, я оказался в университете в Гамбурге. Это случилось, повторяю, в 1931 году. Два года спустя Гитлер пришел к власти, и профессор Панофский был вынужден покинуть Германию. Он отправился в Гарвард, где ему предложили кафедру. Грустный, потерянный, я не знал, что делать. Панофского я считал незаменимым. Но надо было продолжать учебу. Я выбрал профессора Пиндера из университета Мюнхена. Его обучение было противоположно обучению Панофского. Баварская столица еще хранила в 1933 году дух анархии и фронды, свои традиции и художественные вкусы, обозначенные «Голубым всадником»[7]. В свободное от университетских занятий время я много рисовал, не придавая значения художественным пристрастиям нового режима, доктринерскому реализму, который вскоре стал официальным искусством Третьего рейха. В 1935-м профессор Пиндер был переведен в университет Гумбольдта в Берлине. Я последовал за ним, ибо хотел закончить занятия по истории искусств и особенно защитить диссертацию на тему Фрауэнкирхе в Дрездене. (Это чудо будет полностью разрушено в результате бомбардировок союзников в конце войны.) Итак, я за ним последовал и стал, как и хотел, доктором философии. В Германии история искусств преподавалась в то время на факультете философии. Благодаря тому, что моя семья была зажиточной, я посетил во время занятий Италию, которая со времен Гёте притягивала многих романтичных немецких юношей моего типа. Но, побывав во Франции, я полюбил ее больше всего. Не могу вам передать, до какой степени был взволнован, увидев своими глазами чудесные соборы, планы которых были в моей голове. В Париже я провел целые дни, изучая Нотр-Дам. Но еще больше, чем исторические памятники, меня притягивало современное искусство, ибо все великие художники, жившие во Франции, имели необыкновенную репутацию за Рейном. Блестяще закончив университет, вооруженный замечательным дипломом, я поступил в Государственный музей Берлина. К несчастью, нацистский ураган уже прошел там, и я не находил в нем значительную часть картин, которые так любил. Они были теперь отнесены к категории «дегенеративного искусства». Раздел современного искусства нашего музея освободился от доброй части своих шедевров. К счастью, в музее я встречался с профессором Юсти[8], который собирал коллекцию современного искусства. Вместе с исчезнувшими шедеврами он потерял также свою должность директора и приходил в бюро лишь раз в неделю, и даже в этот день ему совсем нечего было делать. Мы много разговаривали. Откровенно, разумеется. Я бережно храню воспоминания о наших беседах. В 1939-м я работал над объединением музеев Берлина. Очень хорошо помню тот день 9 сентября, когда радиостанция маленького города Глейвиц в Верхней Силезии была атакована войсками поляков. Я не знал тогда, что на самом деле нападение совершили переодетые солдаты немецкой армии и что нацистское правительство затеяло эту провокацию с целью вторжения в Польшу. Это была война! С началом военных действий наши приоритеты изменились. Больше не было вопросов, связанных с обычной работой. Отныне надо было с максимальной осторожностью защищать экспонаты, эвакуировать их, помещать в хранилища. Нацистский режим готовился к войне и не придавал значения сохранению шедевров, которыми изобиловали немецкие музеи. Как эвакуировать и куда спрятать Пергамский алтарь, бюст Нефертити, Золотой шлем Рембрандта, Вывеску Жерсена Ватто? Позже я узнал от генерального директора Лувра Жака Жожара, что во Франции, в отличие от Германии, своевременно приняли меры предосторожности и знали, когда, куда и как эвакуировать произведения искусства. За год до начала войны, в 1938-м, большая часть коллекции Лувра уже покинула Париж. В своем рабочем кабинете в Лувре, во время Оккупации, Жак Жожар показал мне длинную вереницу переплетенных книг и каталогов, в которых были заботливо отмечены все перемещения экспонатов. В начале войны все залы Лувра были пусты. Оставалась одна Артемида Версальская. Жак объяснил, что мраморная скульптура была слишком хрупкой для транспортировки в грузовике, поэтому приняли решение оставить ее на месте. Ничего подобного не было в Берлине. В 1939 году мы бросились в лихорадочную и ожесточенную работу во всех отделах музея, сумасшедшую работу. Надо было разделить на части одни экспонаты, извлечь из витрин другие, упаковать, сколотить ящики для транспортировки. А что говорить о сотнях и тысячах старинных книг, многие из которых бесценны! Перевозить их было невозможно! Однажды, проходя через отдел археологии, наполненный греческим мрамором, я наткнулся на директора, профессора Вейкерта. Он смотрел на красивую мраморную голову, которую собирались снимать и упаковывать, как будто видел ее впервые. Профессор ничего не говорил, но по взгляду можно было понять его мысли: он думал, что больше никогда ее не увидит. Очевидно, Пергамский алтарь не мог быть упакован в ящик, а разделение плиток на части потребовало бы слишком много времени. Мы решили взять под защиту эту борьбу богов с титанами и окружили экспонат мешками с песком. Это был плохой вариант, ибо в контакте с сырым песком мрамор сильно пожелтел. Увы, я констатировал это лишь после войны. Едва окончив университет, я не имел никаких военных навыков. Меня оставили в покое в моем музее. Но 13 февраля 1940 года (я помню этот день, как если бы это было вчера) я получил повестку, вернее, приказ явиться в одну из казарм далеко от Берлина. Не подчиниться было невозможно. На следующий день я прибыл во Франкфурт-на-Одере с чемоданом в руках, чтобы научиться маршировать, отдавать честь и стать артиллеристом. Сержант-инструктор, который никогда не встречал раньше работника музея, спрашивал меня, можно ли себя прокормить этим ремеслом. После нескольких недель упражнений скорее образование, чем мои таланты рисовальщика, открыло мне двери бюро моего командира. И жизнь переменилась полностью. Я проводил отныне время за рисованием стратегических планов и даже участвовал в их подготовке. Командир батальона, руководивший до войны крупным банком в Берлине, быстро понял, что эта работа не соответствует ни моему образованию, ни темпераменту, и перевел меня в отдел пропаганды. Благодаря этому я не только получил звание офицера, но и оказался в том же году в Париже.Париж

Вернер Ланге в своем кабинете Propagandastaffel (Частная коллекция).
В Париже Propagandastaffel, иначе говоря, Служба пропаганды, занимала современное здание, дом № 52 на Елисейских Полях. Я был приписан к отделу культуры, моим непосредственным шефом был лейтенант Люхт, тесно сотрудничавший с Йозефом Геббельсом, министром пропаганды Рейха. Некоторые его называли даже другом доктора Геббельса. Наш отдел охватывал в основном три направления культуры: театр, музыку и живопись со скульптурой. Мне поручили живопись и скульптуру. Надо было заниматься главным образом «живым искусством»: самими художниками и скульпторами, выставками, галереями, салонами, большими и малыми событиями в мире искусства. Инструкции были очень ясными: шпионить за всеми и совать нос повсюду. К этому времени я уже очень хорошо знал культурную политику режима «наци»: она состояла из удушения любого нового веяния и навязывания художникам линии партии. Борьба с «дегенеративным искусством» значительно иссушила землю. Все, что не соответствовало партийной идеологии, объявили «дегенеративным» и приговорили к смерти. Барлах, Пехштейн, Кокошка попали в черный список. Они не имели больше права работать, принимать участие в выставках, их творения были изъяты из музеев. Закрыли Баухаус (Высшую школу строительства и художественного конструирования), колыбель модерна. Художники, которые там преподавали (Клее, Кандинский, Гропиус и многие другие), покинули Германию. Иностранные художники тоже не избежали преследований. Картины Матисса, Леже, Пикассо были сняты со стен музеев и исчезли в никуда. Все это я знал и не оправдывал, но статус военного требовал от меня действий, противоречащих и моим чувствам, и личному мнению об истинной ценности искусства. Я был обязан подчиняться приказам Propagandastaffel Надо было, следовательно, постоянно доказывать самому себе, что я человек, приспосабливаться к ситуации так, чтобы не в чем было себя обвинить. Могу без ложной скромности сказать: я преуспел в том, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, ибо в мой адрес не было высказано никаких упреков моими французскими друзьями ни во время войны, ни после ее завершения. К тому же после войны я смог вернуться во Францию, найти моих верных друзей и даже обосноваться там. Париж времен Оккупации не был тем Парижем, который я так любил до войны. Трудности, связанные с войной и ограничениями немецкой оккупации, делали тягостной повседневную жизнь: продуктовые карточки, затемнение, улицы без городского освещения. Тем не менее парижане, которые покинули столицу, вновь возвращались, и Париж, как всегда, бурлил, был полон жизни и развлечений. Франция оказалась разделена надвое, ее правительство во главе с генералом Петеном находилось в Виши, в свободной зоне. Но Париж, несмотря на оккупацию, оставался истинной столицей Франции, где все хотели жить — и я первый. Быстро водворился черный рынок, и те, у кого были деньги, не нуждались ни в чем. Рестораны обслуживали без карточек, хотя не имели на это права. Велосипеды заменили такси, и девушки улыбались, проезжая по Елисейским полям с развевающимися на ветру волосами. Потом наступило время «педальных такси»: мужчины с мускулистыми икрами передвигались по улицам аллюром, волоча прицеп, способный перевозить двух пассажиров. Многие смеялись над таким «такси», однако все пользовались этим недорогим видом транспорта. Больше, чем когда-либо, женщины хотели быть модными. Чулки на черном рынке стоили запредельно, и женщины красили ноги красителем на основе чая, рисовали даже модную черную стрелку сзади на ноге. Но вершиной изобретательности стала обувь. Поскольку кожа исчезла из свободной продажи, делались башмаки из ткани на деревянной подошве. Можете мне поверить: в магазинах можно было увидеть обувь очень элегантную, готовую удовлетворить самых капризных покупательниц. Единственным ее недостатком был шум, который она производила при каждом шаге. Женщины всем сердцем отвергали такую горькую участь, но вся Франция распевала припев Мориса Шевалье: «Деревянные подметки, клик-клак». Зато повсюду продавались довоенные духи. Особенно высоко их оценили немецкие солдаты, которые покупали духи для своих жен и невест, часто француженок. «Шанель № 5» уже стали самыми известными духами. Что до высокой моды, она тоже испытывала бум. Салоны, одни роскошнее других, конкурировали между собой: Магги Руфф[9] царила на Елисейских Полях, а Скиапарелли[10] — на Вандомской площади; Люсьен Лелонг, Марсель Роша, Жермен Лекомт[11] выходили беспрестанно в новых нарядах: то из тафты, то из кружева. Я не знаю, как, но, несмотря на войну, великим французским кутюрье всегда удавалось достать необходимый материал; модистки также творили истинные чудеса, создавая горы лент и цветов. Салон Альбуи на улице Колизе особенно задавал тон парижской экстравагантности. Театры тоже функционировали. В «Комеди Франсез» «Атласный башмачок» Поля Клоделя собирал полный зал. На бульварах многочисленная публика спешила аплодировать Эдвиж Фейер. Театр «Мадлен» представлял с аншлагом комедию Саша Гитри «Не слушайте, дамы», где он блистал в главной роли. Несмотря на свой возраст, Сесиль Сорель превосходно исполняла роль Марии Антуанетты в пьесе Марсель Маретт «Мадам Капет» при полном зале в театре «Монпарнас». Что касается Алисы Косеа[12], она очаровывала публику в театре «Амбассадор» в «Великолепном рогоносце» Кроммелинка. В 1941 году, кстати, она приняла на себя руководство этим театром.
 Возвращение Сесиль Сорель в Париж. Снимок сделан перед отелем Бристоль на ул. Фобур Сент-Оноре (Частная коллекция).
Возвращение Сесиль Сорель в Париж. Снимок сделан перед отелем Бристоль на ул. Фобур Сент-Оноре (Частная коллекция).
Кинотеатры тоже собирали полные залы. Молодой красавец Жан Маре мгновенно стал большой звездой благодаря «Вечному возвращению» Жана Кокто. Конечно, в отличие от театров, которые оставались французскими, кинотеатры подверглись влиянию оккупационной власти и были вынуждены демонстрировать много немецкой кинопродукции. Часто посредственные, немецкие фильмы служили в основном пропаганде и бойкотировались французской публикой, во всяком случае парижанами. Даже наиболее известный немецкий фильм того времени «Еврей Зюсс» совершенно не привлек зрителей. Как и в тридцатые годы, большие мюзик-холлы показывали свои ревю, полные перьев, стразов, мишуры, которые так нравились простому народу. Казино Парижа, кабаре «Фоли Бержер» и «Бал Табарин» собирали полные залы каждый вечер. Иветт Жильбер, Морис Шевалье, Клео де Мерод[13] были популярны, как никогда. Мистингетт, исчезнувшая из поля зрения на какое-то время, вновь появилась после перемирия, пела каждый вечер своим хриплым голосом и демонстрировала красивые ноги в прославленном танце апашей. «Лидо», подвальный зал отеля «Кларидж» на Елисейский Полях, тоже не пустовал. Первоклассные рестораны накрывали столы превосходными блюдами — и без всяких карточек! Французы и немцы встречались каждый вечер в «Максиме», который называли «коллаборационистским рестораном», в противоположность «Дуайену» и «Прюнье», которые оставались очень «французскими». Для тех, кто не мог себе позволить питаться в элитных ресторанах, имелись хорошие маленькие бистро, где можно было пообедать под музыку. Это были, на самом деле, неформальные обеды-спектакли, где часто выступали известные артисты, например Сюзи Солидор[14]. У этих мест, где охотно проводили ночь, был один недостаток — затемнение, которое вынуждало людей возвращаться в их пенаты, часто бегом, ибо они спохватывались в последнюю минуту. Итак, Париж Оккупации не был лишь тусклым, подавленным, опасным и голодным. Он был культурной и артистической мировой столицей, городом, полным жизни. Гораздо более живым, чем другие крупные города военной Европы. Намного более живым, чем Берлин, во всяком случае!
Елисейские Поля, 52
Очевидно, мои будни были не похожи на постоянный праздник. Я жил в Париже, чтобы работать, и я работал. Коридор, который вел к моему рабочему кабинету, осаждался с открытия бюро. Этот коридор являлся на самом деле залом ожидания. Чтобы получить аудиенцию, многочисленные посетители толпились там с утра. Часто это были хорошенькие секретарши, посланные хозяевами галерей, которые надеялись, вероятно, что я подпаду под очарование их молодых сотрудниц. Но этого не случалось. Девушки, таким образом, благоразумно ждали своей очереди: глаза устремлены на дверь, маленький листок в руках. На листке чаще всего указывались даты ближайшей выставки, ибо ни одна выставка не могла состояться без моей подписи, скрепленной печатью (впрочем, не припоминаю, чтобы я когда-нибудь отказал подписать эти маленькие листки). К счастью, были не одни просители. Меня навещали люди, которые приходили поболтать, — как друзья или, по крайней мере, добрые знакомые. Художники и их жены приходили, чтобы повидать меня, поговорить, поведать о последних сплетнях и интригах. Обосновавшись в Париже в отеле «Бристоль», Сесиль Сорель заходила часто почти по-соседски. Мистингетт приходила тоже, но никогда «просто так», у нее всегда была персональная просьба на дне ее сумочки. Люси Валор, жена Утрилло, часто наносила мне визиты, чтобы бесконечно рассказывать о живописи мужа и, как бы ненароком, о своей. Галерея Одетты Петриде имела исключительное право на произведения Утрилло. Она постоянно выставляла новые полотна, ибо эти картины с видами Монмартра имели большой успех. Галерея публиковала также свои монографии, и каждый раз ей нужно было получить разрешение на выход в свет. Точно так же, как и Луи Карре, который организовал выставку рисунков и пастелей Майоля и опубликовал по этому случаю альбом, содержащий репродукции всех выставленных шедевров, с предисловием Мориса Дени и Пьера дю Коломбье. Но наиболее важные события происходили, бесспорно, в галерее Шарпантье. Она занимала частный дом напротив Елисейского дворца, на улице Фобур Сент-Оноре. На первом этаже из красивого вестибюля открывался вид на огромный зал, устланный красным бархатом. Поднявшись на несколько ступенек по маленькой элегантной лестнице, можно было попасть в многочисленные залы экспозиции. Правее широкая лестница вела в салоны второго этажа. Дирекция и секретариат находились также на втором этаже. Именно там царил Раймонд Насента, сопровождаемый преданной секретаршей мадемуазель Ролландо. Это большое предприятие включало не только галерею, но также издательский дом, специализирующийся на книгах по искусству, и редакцию журнала Collection Comoedia-Charpantier, посвящавший специальные издания великим именам, таким, как Артюр Онеггер и Майоль. Выставки, всегда хорошо продуманные и заботливо подготовленные, посвящались то шедевру великого художника, например ван Донгена, то какой-либо теме: охоте, веку акварели и т.д. Работа галереи Шарпантье не была лишь коммерцией. Так, издательство опубликовало важный академический труд историка искусства и профессора Сорбонны Луи Ро, что, по всей видимости, не принесло дохода. Несмотря на войну и оккупацию, вернисажи галереи Шарпантье были светскими событиями первого ранга, где элегантная толпа теснилась как для того, чтобы посмотреть выставленные шедевры, так и для того, чтобы показать себя. В галерее Шарпантье я познакомился с одним из ее руководителей — графом де Лаборде, связанным с семьей Шнейдер-Крезо, человеком редкой элегантности, истинным сеньором прошлых времен. Граф много путешествовал до войны и любил мне рассказывать об этом, особенно о своих поездках в Померанию, в Потсдам, где он посетил со своим отцом восхитительный дворец Сан-Суси Фридриха Великого — магическое место, полное напоминаний о пребывании там Вольтера. Однажды, когда они пересекали парк в направлении Нового Дворца, за которым находился небольшой вокзал, предназначенный для приема императорской семьи, они обнаружили необычную суету. Весь перрон был заполнен охраной. Прибыл маленький поезд, из которого вышли три персоны, из них одна — совсем юная. Это были три императора Германии: Вильгельм I, Фридрих и Вильгельм — отец, сын и внук. Произошло это в 1888 году, который остался в истории Германии как «год трех императоров»! И юный граф де Лаборде их видел! Это была одна из историй, которые он любил рассказывать больше всего.Немцы
С 1940 года немецкая оккупационная армия открыла дорогу в столицу Франции всякого рода авантюристам и любителям легкой наживы. Надо сказать, что до 1939 года немало немцев жили в Париже. В начале войны они вынуждены были покинуть Францию, бросить свои жилища, а после перемирия вернулись, что было вполне нормально. Но этих немцев, которые возвращались к себе домой, сопровождала толпа людей, не достойных уважения, — авантюристов, решивших попытать удачи в Париже. Тогда в городе было много пустующих квартир. Их бывшими собственниками являлись евреи или те, кто предпочел скрыться в свободной зоне. Полностью меблированные, часто расположенные в хороших кварталах, эти квартиры были захвачены спекулянтами, которые быстро разбогатели благодаря черному рынку. В принципе Париж нуждался во всем. Но только в принципе. Ибо за деньги можно было найти все. Клиентов было достаточно. С одной стороны, в городе оставались состоятельные французы, а с другой — появились немцы, любители хорошо пожить и не желающие знать о моральных ограничениях. Обязанные упразднить черный рынок, немцы стали его самыми верными клиентами. Таким образом, «рынок» разрастался на глазах, и спекулянты накапливали слитки золота так легко, как если бы это были коробки спичек. Наиболее ловкие мошенники не ограничивались Францией, а привозили целые составы товаров из-за Рейна. Понимая свою выгоду, Германия быстро создала «легальную» службу покупок нелегальных товаров. Агенты государства, снабженные документами ad hoc (по случаю (лат.)), рыскали по всей оккупированной зоне. В систему были включены все сферы, в том числе искусство. Гитлер хотел построить огромный музей в Линце, своем родном городе в Австрии. Профессора Босса, директора Дрезденской галереи, назначили директором этого амбициозного проекта, хотя строительство музея еще не началось. Восс был обязан собрать шедевры для постоянной экспозиции будущего музея. Агенты с карманами, полными денег, отправились во все части оккупированной Европы. Конечно, это были не неотесанные чурбаны, а рафинированные эстеты и знатоки искусства. Таким образом в Париж из Гюстроу прибыли Бёмер и доктор Гурлитт, сын знаменитого историка немецкого искусства. Открытие немецкого посольства в Париже было, несомненно, большим событием, но также и несчастьем. Франция подписала перемирие, но не мирный договор. Армия контролировала завоеванную территорию, а военное правительство с генералом Штюльпнагелем во главе управляло оккупированной Францией. Открытие посольства лишь создало напряжение между военной и гражданской властями. Я не могу говорить за всех, но в своей сфере наблюдал настоящую войну за сокровища Лувра между посольством и отелем «Мажестик», резиденцией военного коменданта Парижа. Я уже говорил, что до того, как Франция была побеждена, сокровища Лувра были эвакуированы и укрыты во дворцах Шамбор, Балансе, Монталь. После прихода немецких войск эти хранилища находились под охраной армии, которая повсюду повесила таблички со следующим текстом: «Это здание, рассматриваемое как исторический памятник, отдано под военное покровительство». Обязанность защиты произведений искусства Франции была возложена на военную администрацию, этим занималась специальная служба под руководством графа Мет-терниха. Она отвечала за охрану объединенных коллекций из французских музеев, в первую очередь коллекций Лувра. Новый посол Отто Абец и его супруга француженка Сюзанна получили во владение прекрасный отель «Богарне» на улице Лилль[15]. В основном благодаря своей супруге, которая некогда была секретарем Люшера[16], основателя «Новых Времен»[17], Абец добился известности и успеха. В качестве посла Абец попросил армию обеспечить возвращение коллекции Лувра в Париж. Эта просьба не была бескорыстной. Посол хотел за счет этих сокровищ обеспечить себе гарантии в будущих мирных переговорах. Но граф Меттерних недвусмысленно отказал. Для него не было вопроса, трогать ли коллекцию Лувра, помещенную под защиту службы, которую он возглавлял. Абец был ошеломлен ответом графа. Жак Жожар, директор Лувра, которого я хорошо знал, был этим удовлетворен. Меттерних был известен как богатый аристократ и человек безукоризненной честности. Таким образом, никто не прикоснулся к экспонатам, и они пережили войну без ущерба. Propagandastaffel была подчинена военной администрации, которая находилась, как я уже говорил, в старом здании отеля «Мажестик», возле площади Этуаль, на авеню Клебер[18]. К счастью, я бывал в этом старинном дворце не чаще, чем раз в год; я заходил туда до начала холодов в Бюро распределения угля. Руководители этой службы бесконечно менялись, и каждый год я находился перед новым главой, вынужденный играть тот же спектакль, что и год назад. Снабженный длинным списком, я просил тонны угля для моих художников. Каждый раз мне отказывали, объясняя, что уголь предназначен в первую очередь для немцев, проживающих в Париже. Я терпеливо объяснял новому шефу, как и годом раньше, что художники тоже живые существа и боятся холода. Говорил примерно так: «В больших ателье значительно холоднее, чем в квартирах. Представьте себя на месте моделей, которые должны позировать нагишом в таком холоде. Итак, посмотрите в своих закромах и снабдите меня тем, что я прошу». Конечно, все происходило не так быстро, как я описал, но я всегда добивался цели и покидал «Мажестик» с улыбкой на губах и разрешением на уголь в кармане. Чаще я посещал Службу пропусков на улице Галилея. По простой причине: чтобы пересечь демаркационную линию и перейти в свободную зону, надо было иметь разрешение. Кстати, чтобы вернуться — тоже. На самом деле я не обязан был туда ходить. Просители должны были прийти в мое бюро, добиться моего благосклонного мнения, а потом, снабженные этим разрешением, идти на улицу Галилея. Такова была процедура. Но сотрудники службы надолго откладывали полученные просьбы, если вообще не забывали о них. Чтобы ускорить процесс, я собирал просьбы и, когда набиралосьдостаточное количество, сам шел на улицу Галилея. В результате я получал знаменитые Ausweis[19] за пять минут. В течение всего моего пребывания в Париже я сделал все, что смог, чтобы не вести себя как оккупант. Не посещал «немецкие лагеря» и имел очень мало контактов с немцами вне службы. Особенно избегал общаться с людьми из посольства и его окружения. Вечерами я отдыхал в компании французов, у меня было среди них много друзей, в числе которых могу назвать боксера Карпантье[20]. Мы часто встречались у Леона Вольтерра, еще одного моего друга, владельца «Лидо». Рюдье[21] заходил за мной в бюро, чтобы отвезти меня с друзьями за город, в Робинсон. Почти каждое воскресенье я ездил к Рюдье в Везинет. С самого начала я просил и добился разрешения носить гражданскую одежду, хотя, по крайней мере формально, считался военным. Очевидно, моя просьба противоречила приказам, особенно в военное время, но я объяснял начальству, что немецкая форма будет усложнять и даже компрометировать мои отношения с французскими художниками. Я не ошибся, ибо некоторые из них стали моими настоящими друзьями. Сомневаюсь, что это было бы возможно, если бы я представал перед ними в офицерском мундире. Принятая de facto дистанция с немецкими властями имела не одни лишь преимущества. В силу сложившихся обстоятельств я был лишен важной информации. Например, я совершенно не знал о том, что затевалось в музее «Игры в мяч» и узнал об этой организованной краже шедевров, принадлежавших еврейским коллекционерам, лишь после войны[22].Терешкович
Костя Терешкович[23] пришел просить моего согласия на организацию выставки в галерее Петриде, на авеню Де-классе. Я уже видел там некоторые его картины, но встретил его в первый раз. Костя был чрезвычайно симпатичным человеком. Он родился в 1902 году в Москве, где его отец работал психиатром. Но артистический вкус унаследовал скорее от деда, архитектора и друга Щукина[24] — знаменитого коллекционера, который собрал в своей личной галерее значительное количество шедевров, купленных, когда они были никому не нужны. Вкус и отвага эстета сделали его, возможно, самым известным коллекционером современного искусства Европы. Юный Костя мог, таким образом, досыта восхищаться произведениями Гогена, Сезанна, Матисса. Однажды Щукин сказал ему, что богатство его произведений не поверхностно, оно «проникает внутрь». Это откровение определило будущее художника. Благодаря таланту Костю приняли в Академию художеств, несмотря на то, что ему было лишь 15 лет. Правда, академические этюды его ничуть не интересовали. А потом случилась революция 1917 года — кровь и хаос. Тогда у Кости была идея завоевать Францию, «страну художников», где «это проникало внутрь». После трех лет скитаний — он побывал в Украине, на Кавказе, в Персии и Константинополе — в 1920 году Костя прибыл, наконец, в Париж. Ему было 18 лет. В Париже еще царил кубизм, грустный и депрессивный, а Костя был полон радостью жизни, «весной жизни», как сказал он сам. Костя хотел стать новым Ренуаром, которым он бесконечно восхищался: «В жизни уже есть столько скучных вещей, постараемся не производить новых».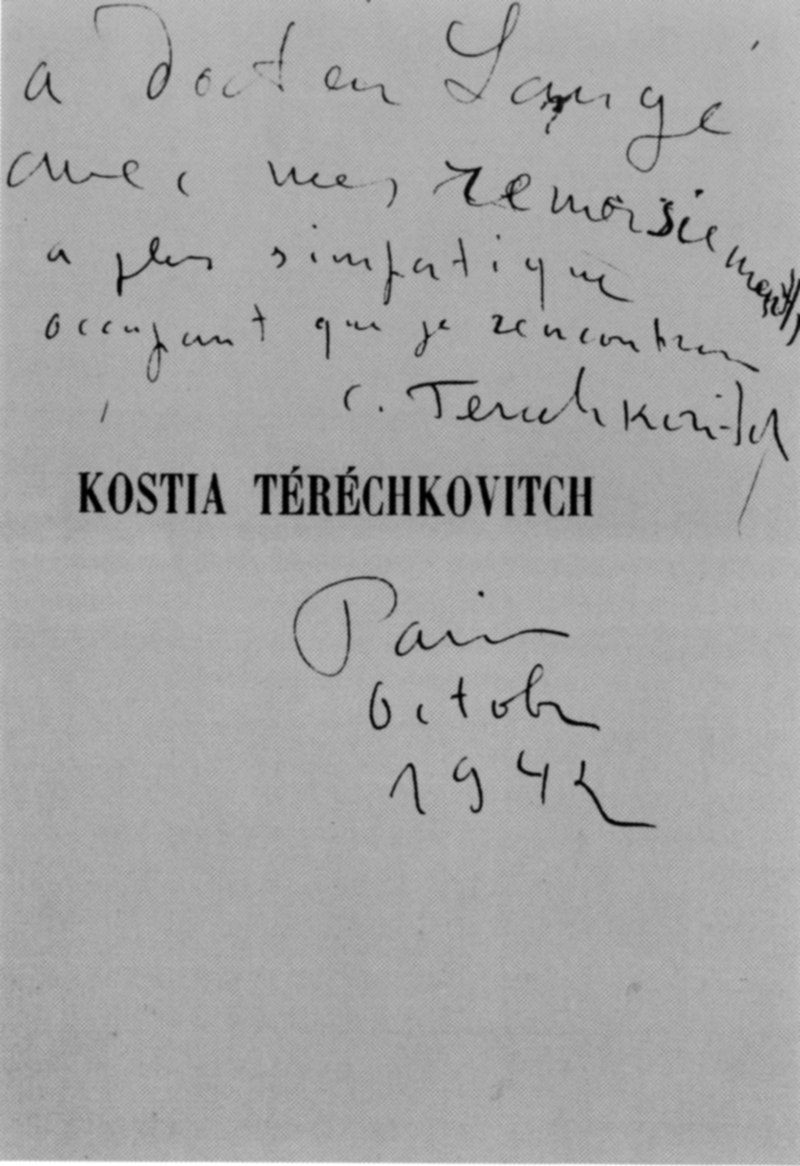 Автограф Кости Терешковича на книге Луи Шевронне издательства Секвана (Частная коллекция).
Автограф Кости Терешковича на книге Луи Шевронне издательства Секвана (Частная коллекция).
Владельцы галереи выбрали для этой выставки в мастерской Терешковича совокупность всего веселого и гармоничного, полотна, покрытые небольшими мазками такого цвета, что невозможно было не испытывать удовольствие, глядя на них. Танцовщицы «Бала Табарин» соседствовали с портретами Матисса, Дерена, Утрилло, Боннара и других знаменитых друзей Кости. Терешкович был явно счастлив, став парижским художником. Осуществилась его самая заветная мечта. Конечно, я дал свое согласие на организацию этой прекрасной выставки. Чтобы выразить признательность, Костя подарил мне свою книгу с надписью: «Доктору Ланге, с моей благодарностью самому симпатичному оккупанту, которого я когда-либо встречал». Это было в октябре 1942 года. Тремя годами позже, в 1945-м, я жил в деревенском доме недалеко от Дрездена. Война закончилась, я недавно вернулся в Германию и был рад краху бесчеловечного нацистского режима, принесшего людям столько бедствий. Ожидая, когда прояснится ситуация, я заполнял время рисованием. Получив приказ нового муниципального Совета коммунистов явиться в русскую Komendatura округа, я не слишком беспокоился и не ждал особенных неприятностей, поскольку знал, что не причинил никому зла. Я ошибался, ибо этот безобидный, как я полагал, визит, оказался долгим и тягостным, сообразно русским обычаям, во всяком случае, советским. Ведомый не знаю какой доброй звездой, я взял с собой книгу, подаренную Костей Терешковичем. Пришлось пройти пешком 15 километров. Как только я прибыл, меня бросили в камеру, где я провел пять дней. В полночь за мной пришли, чтобы сопроводить в местное ГПУ Все мои вещи были выставлены на бюро следователя, а на самом видном месте лежала книга Кости. Я был подвергнут трем часам жесткого допроса. Сидя на неудобном деревянном стуле, я отвечал на вопросы о моем пребывании в Париже, о моей работе во время Оккупации и... о том, почему Константин Терешкович подарил мне книгу. В конце концов, сухое «Возвращайтесь домой!» поставило точку в этом опасном приключении. Я уверен, что обязан этой неожиданной развязкой Костиному подарку. Другого объяснения у меня нет, ибо я был вызван вследствие клеветнического доноса, несомненно состряпанного новыми коммунистическими хозяевами части Германии. Кстати, они были сильно разочарованы, увидев, что я вернулся домой живым и здоровым. Месяцем раньше карта казино Ниццы спасла меня от лагеря заключенных на равнинах России (об этом эпизоде рассказано дальше), а благодарность Кости избавила меня тогда от смерти в концентрационном лагере в Сибири.
Салоны
Я изучал историю искусств и поэтому понимал, насколько важны салоны. Я знал, что они сделали известными Давида и Гросса. Мне были известны истории, связанные с картинами Мане Портрет мадемуазель Викторен и Завтрак на траве. Последняя работа была отвергнута официальным салоном при Наполеоне III, что заставило Мане основать с другими юными художниками прославленный «Салон отверженных». Помню рисунок, на который это событие вдохновило Мане: мы видим господ в цилиндрах, прогуливающихся со своими картинами в руках. Рисунок назывался Отверженные господа!. Я помнил и об «Осеннем салоне» в 1905 году, на котором Жорж Руо представил в первый раз свои произведения. Тогда разразился скандал из-за «Клетки фовистов» — зала, где были выставлены произведения Вламинка, Дерена, Матисса, Фриеза, Руо, брутальные цвета которых шокировали «знатоков». Кстати, с «Клетки фовистов» и начался фовизм. Таким образом, я знал о том, как опасно запрещать что-либо. Запреты не защищают от насмешек. Во время Оккупации общества художников продолжали функционировать почти как раньше. Они организовывали свои мероприятия. Помимо Большого Дворца выставки часто проводились в Музее современного искусства, построенном в 1937 году для Международной выставки, — огромном здании, прозванном также Токийским дворцом, которое простиралось от набережной Сены до авеню президента Вильсона. Общество французских художников и Национальное общество изящных искусств открыли «Салон» — академический и абсолютно скучный. Салон Тюильри был более современен и интересен. Но самым значительным оставался всегда «Осенний салон». Короче говоря, все продолжало идти своим чередом. «Салон художниц» отмечал, например, свое 60-летие в марте 1944-го отличной ретроспективой произведений Берты Моризо, Сюзанн Валадон и Мари Кассатт. Истина обязывает меня сказать, что все эти общества во время Оккупации существовали очень свободно. Мне только объявляли о своих приготовлениях, и я осуществлял чисто формальный «контрольный визит». Я должен был, в силу своих полномочий, дать зеленый свет художникам для выставления их работ — и я никогда не запрещал и даже никогда не спрашивал, что за картины будут на выставке. В 1943 году, когда я инспектировал «Осенний салон», я оказался в большом зале, зарезервированном для произведений Жоржа Брака. Это было очень смело со стороны организаторов! В Германии Брака объявили главой «дегенеративных художников», он являлся объектом особой ненависти. Тем не менее этот зал меня не напугал. Напротив, я был счастлив, что такое количество работ Брака собрано в одном месте. Мое внимание привлекло маленькое полотно — пейзаж, полностью сделанный из кубов. Позже я узнал, что эта картина и дала название всему направлению — после нее стали говорить о кубизме. Разумеется, я задавал себе вопрос, как отреагирует Берлин. Но между Парижем и Берлином была тысяча километров — и я решил ничего не говорить, оставить все как есть. Салоны были в ведении Луи Откёра, государственного советника. Именно он открывал их в качестве представителя французского правительства. Однажды эта устаревшая формальность меня развеселила. Прибыв на открытие салона в Музее современного искусства, я нашел господина Откёра слегка подавленным, ожидавшим меня на ступеньках лестницы в окружении... Республиканской гвардии! Проходя между конскими хвостами, мы добрались до входа, преследуемые многочисленной толпой. Разумеется, я никогда не просил об этой излишней торжественности. Должен признаться, что французская официальная помпезность удивляла меня не раз.Школа изящных искусств
Я любил левый берег — квартал галерей, где находилась Школа изящных искусств. Но само здание мне ничуть не нравилось. За исключением правой стороны Двора Чести, откуда был виден фасад дворца Анет-де-Диан де Пуатье. Париж был мировой столицей современного искусства, а Школа изящных искусств предоставляла официальное образование, очень академичное. Наиболее успешные ученики получали Римскую премию и возможность годичного проживания на вилле Медичи. Хотя я мало восприимчив к академизму, должен признать, что Школа хорошо учила ремеслу. Она давала ученикам хорошие навыки, не ограничивая их жесткими рамками. Майоль, Руссель, Вюйяр прошли через парижскую Школу искусств, что не помешало им работать в направлениях, отличных от академизма (в ателье Гюстава Моро, например). Поль Ландовски — именно он управлял Школой изящных искусств во время Оккупации — любезно порекомендовал мне посетить однажды галерею, названную «Римская премия». Там были выставлены качественные полотна на разнообразные сюжеты, не более того. Полотна, которые чудесно передавали дух «помпезного стиля» здания Школы и ее директора. Ландовски был скульптором, который придумал грандиозный наряд для площади Порт-де-Сен-Клу — фонтаны высотой 10 метров, украшенные в нижней части барельефом, воспроизводящим Париж и Сену. Эти барельефы, непонятно почему, изображают также вакхические сюжеты из греческой античности. К счастью, текущая вода скрывает все это.Опера
Опера занимала подобающее ей место важнейшего культурного центра Парижа, особенно ближе к концу Оккупации. Замечу, что роскошное здание Оперы явно требовало ремонта. Я знал, что до того, как обосноваться во Дворце Гарнье, построенном при Наполеоне III, французская Опера, основанная при Людовике XIV, занимала, по меньшей мере, двенадцать различных залов. Даже если строительство этого пышного здания закончилось во время Третьей Республики, шедевр архитектора Гарнье остается данью уважения Наполеону III и, в особенности, императрице Евгении. Жак Руше[25], который руководил Оперой во время Оккупации, сумел объединить вокруг Жермен Любен[26] и Жозе Бекман[27] вокалистов первого ранга. Что касается балета, руководимого Сержем Лифарем, когда-то первым танцовщиком «Русских балетов» Сергея Дягилева, он был просто лучшим в Европе. Оккупация обязывает, и Жаку Руше приходилось давать концерты немецкой музыки в большом зале Оперы. По правде говоря, это не было ему неприятно. Большой поклонник Вагнера, он должен был приехать в Берлин с Тристаном и Изольдой[28]. К великолепному составу исполнителей он добавил Жермен Любен — восхитительную, незабываемую Изольду. Оркестр под руководством юного берлинского дирижера Герберта Караяна был такого уровня, который не имел в то время ни один оркестр во Франции. Я никогда не забуду этой блестящей постановки великой оперы. Любопытно, что Палестрина[29], суровое и трудное для восприятия произведение Ханса Пфицнера, также имело триумф. Ослепительный Жозе Бекман продемонстрировал поразительную энергию. Пфицнер, известный своим трудным характером, приехал в Париж, чтобы наблюдать за исполнителями его музыки. Все это было удивительно. Молодой композитор Вернер Эгк[30], один из наиболее значительных представителей нового немецкого музыкального поколения, также приехал в Париж, чтобы показать свою оперу Пер Гюнт, уже триумфально встреченную во многих европейских столицах. Его балет Иоанн Царисский, поставленный и исполненный Сержем Лифарем, был принят тоже с большим энтузиазмом. Благодаря великодушной дружбе Жака Руше, который предоставил в мое распоряжение небольшую ложу с прямым выходом за кулисы, что позволяло мне приветствовать моих друзей-артистов во время антракта, я смог присутствовать на многих представлениях. Друживший с Сержем Лифарем и Жермен Любен, а также с Сержем Перетти, первым танцовщиком, я посещал Оперу очень часто. Во время приезда Майоля в 1942 году в Париж по случаю выставки Брекера я попробовал убедить Майоля, который сильно любил оперу, сопровождать меня. Но у Майолей не было машины, и они не могли, следовательно, легко добраться из Марли в Париж. Мы учли это в их следующий приезд — на этот раз они поселились в отеле «Кларидж» на Елисейских полях. Вечером в среду, в балетный день, я предложил Майолям воспользоваться моей маленькой ложей. (Лифарь и Перетти танцевали Болеро Равеля.) В антракте я узнал, что представление доставило им удовольствие, и мы пошли поприветствовать Лифаря в его ложу. Он нас встретил с голым торсом, мускулистым торсом казака, полный грации, очень красивый. Пораженный его видом, Майоль незамедлительно попросил артиста позировать для серии рисунков. Взгляд художника был просто прикован к фигуре Лифаря. Разумеется, Лифарь согласился. Более того, он навещал нас каждый день в течение всей следующей недели в «Кларидже» для бесконечных сеансов позирования.Жан-Габриэль Домерг
Еще до войны во время моего пребывания в Париже я заметил картины, которые украшали витрины магазинов класса люкс и не могли остаться незамеченными. На них были то букеты цветов, то женщины с глубоким декольте, сидящие в театральной ложе, то обнаженные модели, по-особенному чувственные. Художника, который изображал весь этот мир, звали Жан-Габриэль Домерг. Это был ухоженный бородач, может быть, даже слишком ухоженный[31]. Не имея ни таланта, ни художественного вкуса, он преуспел, войдя в круг состоятельных людей. В каждой большой квартире какого-нибудь буржуа, уже перегруженной картинами, тем не менее находилось место для его букетов и портретов вроде «Мадам в театре». Заказы стекались в таком количестве, что Домерг стал богаче своих клиентов. У него была шикарная квартира на улице Йены, виллы на Лазурном берегу (его дом в Каннах называли «Вилла Домерга») и бог знает, где еще. Приехав в Париж, я сразу заметил странное отсутствие картин Домерга в дорогих магазинах. Я быстро получил этому объяснение благодаря визиту его адвоката. «Его клиент» не вышел из моды, вовсе нет. Но «его клиент» опубликовал карикатуры на «немецкое правительство». Не видя их, ибо адвокат их мне не принес, я понял, что речь идет о карикатурах на Гитлера. Я был очень удивлен. По правде сказать, я не мог представить себе, что человек, рисующий такие картины, может иметь политические убеждения. Однако, видимо, он их имел, поскольку из осторожности после входа немецких войск в Париж удалился на побережье. Осторожность была оправданная, ибо на его парижскую квартиру наложили секвестр. «Это художник, надо его простить», — говорит мне его адвокат. Я следую за ним до квартиры Домерга. Она была огромна! Я никогда не видел таких больших квартир: череда бесчисленных комнат, украшенных картинами на стенах. Большой салон с окнами на улицу был преобразован в мастерскую. На мольберте — большая незаконченная афиша Мистингетт для ревю в парижском казино. Не увидев нашумевших карикатур, я сказал себе, что проступок Домерга не может быть ужасным — и подписал бумагу, позволяющую снять обвинение или реабилитировать его, как угодно. Но я не избавил его своей подписью от упреков. Особенно со стороны торговцев, которые снова видели Домерга, загрязняющего рынок. Они приходили, чтобы сказать мне: «Домерг — это дерьмо!» Они говорили правду, но надо было ему помочь. И я мог это сделать, не причинив себе вреда. Именно поэтому я подписал ту самую бумагу. Про Жана-Габриэля Домерга рассказывали злой, но забавный анекдот: «Художник умирает и предстает перед апостолом Петром, который, когда узнает, что тот рисовал голых женщин, да еще в Париже (просто Содом и Гоморра!), говорит ему: — Нет для тебя места на небесах! Художник отвечает: — Раз уж я дошел сюда, позволь мне, по крайней мере, посмотреть, как тут у вас. Апостол Петр открывает большие ворота, и покойный художник видит ангелов на облаках. Все очень красиво, кроме одного — рисующего человека с палитрой в руке. — Но это художник! Почему ему можно, а мне нет? — Это не художник, — отвечает ему Петр. — Это Жан-Габриэль!»Деятельность Заукеля
Неожиданное назначение Фрица Заукеля[32] главой Генерального комиссариата по трудовым ресурсам во Франции было внутренней революцией[33]. Подчиняющийся непосредственно указаниям Гитлера, в прошлом моряк, член партии с первого часа ее существования, он приобрел такое влияние, что никто не смел противоречить ему. Ограниченный, грубый, он внушал страх. Бюро найма, которые он открыл в Париже, были отделены от военной администрации. Возглавляемые низшими чиновниками, безынициативными, но хорошими исполнителями, эти бюро были похожи на государство в государстве. Вот почему, когда я увидел Жана Руаца, пришедшего однажды ко мне, едва живого, с повесткой в руках, я сказал себе, что не смогу ему помочь. Через два дня он должен был явиться на Восточный вокзал, чтобы присоединиться к группе рабочих, готовой к отправке в Германию. Руац возглавлял прекрасную галерею на улице Фридланд, и у него было два человека на иждивении: уже преклонного возраста мать и юная сестра. Без него бедные женщины буквально умерли бы от голода. Я знал, что он говорит правду. Я взял ручку, чтобы написать письмо, очень закрытое, на немецком, предназначенное чиновникам. В нем я объяснял, что господин Руац — ценный сотрудник, необходимый мне, и что он ни в коем случае не может уехать в Германию. Я отдал письмо Руацу, чтобы он отнес его в бюро, которое прислало ему повестку. Час спустя он вернулся, радостно улыбаясь. Добившись спасения Руаца из когтей службы Заукеля, я известил об этом моих французских друзей, чтобы они уведомляли меня о получении таких повесток. Мне удалось спасти и других. После войны мы с Руацем продолжали общаться. Он знал, что я хотел вернуться во Францию, и попробовал мне в этом помочь, избрав наилучший из возможных способов. В результате я получил документ, подписанный префектом полиции, в котором Руац брал на себя обязательство нести все расходы, связанные с моей поездкой и пребыванием во Франции. В то время такой документ позволял пересечь границу.Вильденштейн
Жорж Вильденштейн был признан крупнейшим торговцем картинами в мире. Явно предвидя ход событий, он покинул свою великолепную галерею на улице Боэти, в доме № 57, чтобы укрыться в Нью-Йорке. Галерея находилась под присмотром одного из его друзей-«арийцев», некоего господина Деко. Однажды до меня дошли слухи, что на улице Боэти происходит что-то «не слишком католическое». Я решил немедленно выяснить ситуацию, поскольку в соответствии с моими обязанностями должен был знать все, что касалось искусства, галерей, торговцев картинами. Не заставив себя просить, Деко рассказал, что ему нанесли визит немцы, военные и гражданские, приехавшие, по его словам, из Берлина. С молодой женщиной во главе! Деко был категоричен: «Это она была шефом». Они обошли галерею, говоря о будущих работах, требующихся преобразованиях. «Они вели себя, как владельцы галереи», — сказал Деко. Заинтригованный, но и достаточно раздраженный, я вернулся в бюро, чтобы поделиться узнанным с лейтенантом Люхтом, моим начальником. Люхт не удивился и объяснил, что он получил приказ о конфискации галереи Вильденштейна и ее замене немецкой галереей под руководством вышеупомянутой молодой женщины. Я взорвался от гнева, что было, кстати, непозволительно ни для моего чина, ни для моего положения. — Только я занимаюсь этой сферой! — кричал я. — Никто не может трогать парижские галереи. И особенно галерею Вильденштейна! Я вышел, хлопнув дверью. После возвращения в свое бюро я осознал, что превысил полномочия. Это было серьезной ошибкой, даже поводом послать меня на Восточный фронт. Потом, еще немного поразмыслив, я пришел к заключению, что последствий не будет. Я не считал себя незаменимым, но все-таки заменить меня было нелегко. Ибо художники, которыми я занимался, стали моими друзьями. Мой преемник потерял бы много времени на то, чтобы завоевать их доверие. Кроме того, поскольку в моих военных документах была путаница, мне была поручена лишь пропаганда. Люхт прекрасно об этом. Много раз он хотел представить меня к награде, но не смог этого сделать. Я не мог быть награжден из-за ошибки в документах. Мои умозаключения подтвердились. Я не только не был наказан — никто даже не заговорил со мной о деле Вильденштейна. Кроме самого Вильденштейна во время нашей встречи, очень приятной, после войны.Давид
Я мирно спал в номере отеля «Линкольн», когда меня внезапно разбудили сильные удары в дверь. Миновала полночь. Я пошел открывать, немного обеспокоенный, и оказался нос к носу с Эммануэлем Давидом[34], дрожавшим как осиновый лист. Я любил его галерею на Фобур Сент-Оноре, 52. Бывал там часто и подолгу. Галерея Друана-Давида[35] была известна и уважаема в Париже. Залы экспозиции находились в доме Элены Рубинштейн, рядом с ее салоном по продаже косметики. В глубине одного из залов стоял стол для пинг-понга, где мы играли много раз. Этим вечером, когда Давид был у себя и спокойно читал, он услышал шум перед входной дверью. Выйдя, он столкнулся с двумя немцами в военной форме, которые бросили ему в лицо: «Ты еврей!» После чего стали повсюду рыться, проверяли его документы. Обращаясь к нему, они говорили только одно слово — «еврей». Дошли до того, что заставили его расстегнуть ширинку и показать член. Это было полное безумие! Две вещи свидетельствовали против Давида: его фамилия, рассматриваемая нацистами как «еврейская», а также его имя Эммануэль... Если бы я не вмешался, он мог бы оказаться в концентрационном лагере в Дранси. Надо было действовать без промедления. Поскольку вышеупомянутые скоты носили форму, речь шла, вероятно, об СС. У меня не было ни связей в гестапо, ни контактов с СС. Военные презирали гестапо, я знал только, что их штаб-квартира находится на улице Фош. Отделенное от других военных ведомств, подчиняющееся непосредственно приказам самого Гиммлера, гестапо было государством в государстве. Я совсем не знал генерала СС Оберга. Мог бы знать, просто никогда его не встречал. Он был единственный, кто мог спасти Давида, ибо только он имел власть отдать контрприказ. Не быть военным карьеристом значило иметь много неудобств, но также и несколько преимуществ. Поскольку я не имел необходимых для карьериста связей и покровителей, военная иерархия для меня ничего не значила. Привыкнув обращаться напрямую к ответственным лицам, я зачастую шел к руководству, минуя нижестоящих офицеров. Чтобы попасть к Обергу, надо было пройти несколько постов охраны. В обычной ситуации я бы никогда к нему не попал. Но у меня был козырь, и я использовал его. На немцев всегда производят впечатление титулы, особенно университетские. А я был господин доктор] Я велел бедному Давиду возвращаться к себе, надел свою форму, сунул в карман документ, подтверждающий ученую степень, и направился на улицу Фош. Пройдя контроль с удивившей меня легкостью, я быстро оказался у генерала Оберга, который принял меня очень тепло, интересовался моей деятельностью в Париже и работой в Берлинском музее до войны. Наша беседа приняла нужный оборот, и я сказал себе, что настал момент для цели моего визита. Очень твердо я сказал генералу, что, несмотря на фамилию, а также имя, в венах Давида нет ни капли еврейской крови. Без малейшего колебания Оберг снял телефонную трубку и отдал при мне приказ, полностью прекращавший процедуру, запущенную против «еврея» Эммануила Давида, который внезапно перестал считаться «евреем».Андре Шоллер
Слава Андре Шоллера как эксперта была огромна, особенно в области живописи Коро. В отеле «Друо» к нему относились с особым почтением, подобным тому, которое ему оказывали, когда он занимал место эксперта на аукционе. Андре обратился ко мне, чтобы решить проблему, не связанную с искусством. Он хотел, чтобы я защитил Андре Паситти, одного из его незаконнорожденных сыновей, который не унаследовал от отца ничего, кроме имени и вкуса к живописи. Сначала сын помогал ему в работе, но постепенно экспертиза стала также его специальностью. Как многие молодые люди, он занимался незаконной торговлей, что не понравилось немецкой полиции. Арестованный, он гнил в одной камере с уголовниками. Естественно, отец пришел ко мне. Кто-то сказал, что я могу легко освободить его сына. «Говорят, вы можете...» Мне не понравились эти слова. Но что поделать? Андре Шоллер был любителем не только живописи, но и «слабого пола», как тогда говорили. Ошибочно, впрочем, ибо он сам был представителем поистине слабого пола. Чрезмерное увлечение женщинами стоило ему дорого. Насколько мне известно, он купил доходный дом в Париже, который ему ничего не приносил, потому что он милостиво селил там своих старинных подруг, каждую на отдельном этаже. Его последним завоеванием была русская, очень юная девица, Надин, дочь супруги Адольфа Вюстера[36]. Шоллер женился в весьма почтенном возрасте, его супруга была значительно моложе его, а он сам гораздо старше своего тестя. Он скончался вскоре после женитьбы, и злые языки говорили, что старик умер от любовного акта. Я добился освобождения его сына, но больше никогда не видел Шоллера. Наверное, Андре Паситти больше не арестовывали. Если бы его снова арестовали, я бы, несомненно, имел право на визит. Вот так, что вы хотите...Альфред Корто
В сентябре 1942 года я узнал, что мой брат погиб на русском фронте. Ему едва исполнилось 22 года. Моя мать была вдовой, я имел право на увольнительную. Тем не менее мне было в ней отказано. Без объяснения. Я хорошо понимал причину отказа, поскольку знал, что некоторые из моих начальников, особенно убежденные нацисты, считали, что я не являюсь «хорошим немцем». В их глазах я был франкофилом, слишком тесно связанным с французами, слишком дружелюбно относившимся к ним. После трагической смерти брата многие мои парижские друзья приходили выразить мне свои соболезнования, среди них был Андре Дюнуайе де Сегонзак[37]. В это время Альфред Корто[38] готовил важный концерт в Берлине. Он был для меня настоящим другом. Когда мне отказали в увольнительной, на которую я имел право, да еще в такой трагический момент, ему в голову пришла гениальная идея: он попросил, чтобы я его сопровождал в Берлин, куда он был приглашен самим Фюртванглером[39]. Мое начальство знало, насколько известен Корто в Европе и с каким почетом его принимали в Германии высокопоставленные «наци». Поэтому ему не отказали. Таким образом, месяц спустя Альфред и я сели на Северном вокзале в поезд, следовавший до Берлина. Благодаря Корто я мог увидеться с мамой, опустошенной смертью обожаемого сына. Я встретился с мамой в отеле «Эспланада», возле Потсдамской площади. В 1942 году эта великолепная площадь еще не подверглась разрушениям, в магазинах не было нехватки ни в чем. Корто установил свой «Стейнвей» не в зале, а посреди салона роскошного гостиничного номера. В течение многих дней мы наслаждались, присутствуя на напряженных репетициях Альфреда. Этот гениальный пианист всегда отдавал работе все силы, всю страстность своей души. В день концерта[40] зал филармонии, еще пощаженный бомбами, был переполнен.Под влиянием эмоций от встречи с матерью я совершенно забыл зарезервировать места. Естественно, свободных мест не было. Видя мою досаду, Корто попросил поставить два кресла из своей ложи возле фортепьяно. Смущенная, но, несомненно, очарованная, моя бедная мать слушала концерт посреди сцены Берлинской филармонии, возле мастера. Хотя мы и были в Берлине, столице Рейха, Корто играл лишь Шопена, завершив концерт знаменитой сонатой соль мажор, которую называют также Похоронным маршем. Корто исполнил ее с таким чувством, что в конце концерта зал взорвался громом аплодисментов. Моя мать рыдала. Корто встал, подошел к ней и прошептал: «Я играл этим вечером в честь вашего сына, павшего на поле боя, мадам!» И только после этого он повернулся к залу, где еще долго не стихали аплодисменты.
Деспьё
Шарль Деспьё[41] жил возле парка Монсури, истинного оазиса спокойствия в то время. Я пришел к нему после его настойчивого приглашения. Он хотел показать мне скульптурный портрет его врача, который был близок к завершению. Многие художники имели тогда мастерские рядом с парком, на близлежащих улочках. Анри Руссо (по прозвищу Le Douanier) уже нашел там пристанище. Улица Дуанье всегда будет подтверждением этого. Помимо живописи, у Деспьё была страсть к охоте. Входя в его ателье, я был буквально атакован сворой собак. Беспокойные, но славные, взбудораженные приходом постороннего, они бегали повсюду, прыгали во все стороны. Все это творилось в большой комнате, заполненной статуями, бюстами, тумбами и ящиками. Посреди этого цирка спокойно стоял и улыбался Деспьё. Он утверждал, что его собаки были такими ловкими, что никогда ничего не опрокидывали. Шарль Деспьё (Частная коллекция).
Шарль Деспьё (Частная коллекция).
Такой же ловкий, как и его собаки, маленький и гибкий, он передвигался между своих работ с живостью, приводящей в замешательство, поскольку ему было уже почти семьдесят. Ухоженная борода, хитрый взгляд, немного дьявольская улыбка — настоящий сатир! Наполовину молодой, наполовину старый, наполовину человек, наполовину фавн. Причина моего визита стояла на подставке, покрытая, как полагалось, влажной тканью. Деспьё осторожно снял ткань. Я знал вышеупомянутого врача и был поражен необычайным сходством — не столько физическим (черты лица были несколько упрощены), сколько психологическим и духовным. Большинство скульпторов делают портреты, похожие на модель, но мертвые. Только великие умеют придать жизнь материалу: сначала глине, а потом холодной бронзе. Деспьё удалось самое важное — его творение было живым. Ему понадобилось пятьдесят сеансов, чтобы достичь такого результата. Теперь портрет был завершен. Деспьё работал медленно, и все это знали. Поскольку Рюдье взялся отлить этот бюст, я был уверен заранее, что получится шедевр. Кстати, с портретом связана красивая история. Деспьё не собирался продавать его, он хотел вручить его своему врачу, чтобы отблагодарить за лечение — хорошее и... бесплатное. Врач всегда отказывался брать деньги у Деспьё, который строго следовал указаниям доктора, за исключением одного: он не мог бросить курить. Этот грех доставлял ему серьезные проблемы во время Оккупации. Купить хорошие сигареты тогда было непросто. Поздно получивший известность, Деспьё оставался человеком скромным, поглощенным материальными заботами. Он не превратился в мэтра, а остался таким же тружеником, каким был, когда начинал работать в мастерской Родена. Во время одного из редких приездов Дины Верни[42] в Париж мы решили провести воскресенье в Робинсоне, чтобы укрыться от парижской жары. Я был большим поклонником Майоля и очень любил Дину, его музу. Мы хотели поехать завтракать к Бландо, в маленький загородный ресторан, который особенно привлекал Рюдье. Там всегда можно было хорошо поесть. Поезд, который уходил с Люксембургского вокзала по направлению к Со, был переполнен. Говорили, что весь Париж спасался от столичного пекла. Чтобы занять время, мы болтали без всякой определенной цели о Рюдье, Майоле, Деспьё. Дина очень любила Деспьё и была обеспокоена его здоровьем. Последний раз, когда она его видела, он показался ей очень усталым, даже больным. Я ответил, смеясь: — Ну уж нет, он не болен! Ты знаешь его кузину? Он влюбился в нее. Я слышал, он устает из-за нее. Взрыв смеха Дины. Но, едва я произнес эти слова, как некая женщина сказала громко и раздраженно: — Это ложь! Я — кузина Деспьё! Оцепенение! Из осторожности мы продолжили беседу на немецком. Дина говорила по-немецки очень хорошо, потому что в детстве у нее была гувернанткой немка. В то время как мы разговаривали, она пристально рассматривала эту женщину. В ресторане Дина сказала мне, что это действительно кузина Деспьё. Она вспомнила, что видела ее в мастерской, когда позировала для Деспьё.
 Шарль Деспьё в своей мастерской (Частная коллекция).
Шарль Деспьё в своей мастерской (Частная коллекция).
Деспьё был человеком в высшей степени симпатичным, дружелюбным, любимым всеми. К несчастью, его мало занимало то, что творилось вокруг. Он был абсолютно равнодушен к политике и поэтому, не задумываясь о последствиях, присоединился к своим коллегам, более известным, чем он, и участвовал в поездке французских художников в Германию. (Я расскажу о ней потом.) Кроме того, его статья была помещена в каталоге парижской выставки Арно Брекера, главного скульптора Третьего Рейха. Точнее, статья в каталоге была им подписана, но, думаю, ему даже не дали прочитать ее текст, написанный за него. Заклейменный как коллаборационист после войны, бедный старик был так потрясен, что умер от этого.
Дюфи
В 1943 году во время поездки в Баньюльс, о которой расскажу позже, я посетил Рауля Дюфи, жившего тогда в Перпиньяне. Не знаю, повлияли ли на него мои советы вернуться в Париж, но весной 1944 года Дюфи восстановил свою мастерскую на Монмартре, пустовавшую в течение четырех лет. Слева от тупика Гельма, который начинается от бульвара Клиши, возвышается довольно большой дом с мастерскими. Дюфи работал там с 1911 года. На втором этаже находилась его квартира и одновременно мастерская. Мы встретились там. Он принял меня очень тепло и тотчас провел в свою мастерскую в глубине вестибюля, окна которой выходили одновременно на улицу и во двор. В отличие от Перпиньяна, где он показался мне вполне здоровым, теперь он с трудом передвигался, страдая от ревматизма. К моему изумлению, в мастерской были свалены груды картин, написанных в разное время. Мы долго рассматривали рисунки, особенно акварели, эскизы которых я видел в Перпиньяне: жатва, молотилки. Дюфи не слишком интересовался концепцией картин, даже композицией и изготовлением красок. Очарованный старинной техникой, особенно Грюневальдом, у которого он многому научился, он мечтал добиться того же свечения, что на картинах мэтра. На обороте каждой картины Дюфи написал таинственный номер, который, как выяснилось, соответствовал определенной технике. В тетради каждый номер сопровождала подробная пояснительная заметка, дополненная многочисленными приложениями. Экспериментируя, он иногда несколько раз менял технику, работая над одним сюжетом. Когда мы рассматривали крашенные пробы по дереву, человек, до этого молчаливо стоявший в углу мастерской, вмешался в нашу беседу. Дюфи познакомил нас. Это был его химик. Он долго объяснял мне, в чем состоит его работа. Оказалось, что он смешивал различные краски в порошке, масле и мастике — причем так искусно, что я, сам того не желая, увидел в нем соавтора произведений Дюфи.Кес ван Донген
Когда Кес ван Донген приходил ко мне, он каждый раз вспоминал Голландию. Он имел невероятный успех в Париже и мировую славу, но это не уменьшило его любовь к своей стране. Ван Донген часто говорил о полях желтых и красных тюльпанов на родине и мечтал однажды увидеть их сверху. Он даже хотел, чтобы я организовал обзор полей тюльпанов с самолета, хотя знал, что это было совершенно невозможно из-за войны. Кес приехал в Париж в сабо — молодой, высокий, красивый парень, совершенно без денег. Он познал нужду, жил в трущобах, спал в фургонах, его окружали подозрительные и опасные люди, подонки общества. Поскольку Кес был крепкого телосложения, он работал одно время грузчиком на Центральном рынке — носил бычьи туши, потом трудился маляром. Его все устраивало, он соглашался на любую работу и откладывал при возможности каждое су. Благодаря такой экономии Кес смог накопить немного денег, которые позволили ему однажды покинуть трущобы и обосноваться на Монмартре. С этого момента он занимался только живописью, впечатленный, возможно, даже слишком, «фовистами» Шату. И дело пошло! Через несколько лет ван Донген — уже салонный художник, живущий в центре Парижа. Покупателям чрезвычайно нравились его женские портреты, яркие и элегантные, — фейерверки шелка, обилие драгоценностей, сияющие цвета. Женщины с жеманными лицами были как куклы с подведенными глазами и накрашенными красным и голубым губами. Богатый и осыпанный похвалами, Кес ван Донген стал портретистом бомонда. Галерея Шарпантье решила организовать большую выставку[43] — почти ретроспективу — его произведений. Это был триумф модниц из высшего общества — все они были изображены на картинах. С редких мужских портретов смотрели Анатоль Франс, Ага Хан, Бонифас де Кастелян. Большое ателье художника на бульваре Курсель больше походило на киностудию — столько там было прожекторов, висевших высоко под потолком. Здесь проходили знаменитые «праздники ван Донгена», на которых все хотели побывать и о которых все говорили. Я заходил к нему время от времени, почти по-соседски, всегда с коробкой красок в руках. В то время трудно было достать краски, особенно белые, которые ему были нужны в большом количестве, чтобы изобразить драгоценности, которыми он украшал женщин. В качестве благодарности ван Донген награждал меня улыбкой, которая удивительным образом освещала его красивое аристократическое лицо. Однажды он показал мне незаконченный портрет мадам Утрилло, больше известной как «добрая Люси». Для портрета она использовала все драгоценности, которые имела. Ван Донген не мог завершить портрет из-за нехватки белой краски. С моей помощью он достиг намеченной цели.Три сестры, масло и Пикассо
На улице Дофин, рядом с Новым мостом, находился старый, ничем не примечательный бутик. Ставни всегда были закрыты, а входную дверь загораживали толстые доски. Все было грязным и создавало впечатление заброшенности. Тем не менее достаточно было постучать три раза, чтобы дверь открылась и наружу высунулась крупная кудрявая голова. Вас молчаливо оценивали, перед тем как позволить войти. В заведение пускали только знаменитых или, по крайней мере, известных людей. Переступив порог, вы попадали в плохо освещенный зал, заполненный столами и стульями. Это был небольшой тайный ресторан, где можно было отведать невероятные блюда: паштеты, жаркое, пирожные с кремом... Все то, чего нигде не было! Привилегированные господа, которые посещали это по-настоящему чудесное место, кулинарное логово, с виду простое и доступное, прозвали его «Три сестры, три красивых попки». Естественно, по той причине, что держали этот ресторан три сестры — полные женщины, на первый взгляд типичные торговки с черного рынка. Первая сестра занималась закусками, вторая делала жаркое. Третья сестра страдала от ревматизма, который мешал ей двигаться, и оставалась сидеть перед своей плитой с кондитерской выпечкой. И ее пирожные были действительно превосходны! Их брат, лентяй Раймонд, не допускался на кухню, даже на первый этаж. Целыми днями он сидел без дела в зале на втором этаже и крутил ручки своего радиоприемника, чтобы послушать «Би-би-си». И это в то время, когда заведение посещали немцы! Ему это было безразлично. Я поднимался на второй этаж, чтобы поздороваться с ним, и там меня часто встречали знаменитые три аккорда Пятой симфонии Бетховена, сопровождавшие новости на «Свободной Франции». Он даже не думал, что это могло мне не понравиться. Хорошо закрепившись на черном рынке, три сестры ни в чем не испытывали недостатка — причина, по которой они имели столько преданных клиентов. Тем не менее как-товечером им не хватило масла. Положение было отчаянное! Нормандский фермер, их поставщик, привез большой ящик масла, но, не желая платить большую пошлину при прохождении через немецкий контроль, остановился у ворот Майло. Сестры смотрели на меня умоляюще, с глазами, полными надежды, но я ни в коем случае не мог взять на себя эту обузу. Казалось, что все пропало, когда одного из гостей осенила гениальная идея: он сказал, что его брат работает пожарным, а казарма «Старая голубятня», где он сейчас находится, совсем близко от нас. Немецкие посты никогда не останавливали и не контролировали грузовики с пожарными. Находчивый посетитель попросил брата помочь, пообещав вкусно накормить. Часом позже мы услышали пожарную сирену со стороны улицы Дофин. Нормандское масло прибыло. Однажды вечером, это было в 1943 году, я обедал у славных трех сестер с Маратье. Едва мы сделали заказ, как раздались три удара в дверь. Пришли новые клиенты, среди них — Пикассо и Дора Маар со своей афганской борзой. Маратье был на «ты» с Пабло — их связывала настоящая дружба. Он так обрадовался этому сюрпризу, что пригласил их присоединиться к нам. Конечно, он представил нас друг другу таким образом, что Пикассо понял, кем я был. Обед прошел прекрасно. Я никогда не встречал раньше Дору Маар, видел только ее портреты, созданные Пикассо. Она мало разговаривала и выглядела напряженной, избегала сближения. Вся в черном, с правильными чертами лица и иссиня-черными волосами, очень красивая и необычная женщина. Я знал, что она приехала из Югославии. Это было очевидно: ее лицо выдавало славянское происхождение. Пикассо и Маратье, знавшие друг друга целую вечность, долго беседовали. Они много говорили о Гертруде Штайн, их большом друге, об их путешествиях — обо всем, кроме творчества Пикассо. Обмениваясь со мной фразами, Пикассо играл комедию, притворяясь, что говорит с обычным гостем, а не с немецким офицером. Один раз в месяц художники собирались у «Трех сестер». Само собой разумеется, попивая хорошее вино. Так было и в тот вечер. Мы были еще за столом, когда они уже спускались, один за другим. Художник Отон Фриез, керамист Мейодон, художник-кузнец Сюб. Я их всех знал. Они меня тоже знали, так же, конечно, как и Пикассо. Увидев нас за одним столом — меня, «наци» и его, «красную тряпку» для нацистов, — они были так взбудоражены, что очень быстро исчезли, ссылаясь на комендантский час. Я догадывался, что будет дальше. На следующее утро весь Париж узнает новость, и цены на картины Пикассо поднимутся. После этой забавной сцены мы пошли выпить кофе у Маратье, который жил в двух шагах от ресторана, на набережной Орлож, напротив Дворца правосудия. Салон Маратье был переполнен рисунками и картинами, среди которых были очень красивые «ню» Пикассо. Любопытно, что Пикассо внимательно изучал работы других, но подчеркнуто игнорировал свои. Время шло, приближался комендантский час. Пикассо посмотрел на часы, потом обратился ко мне с лукавой улыбкой. «Мсье, — сказал он, — нам надо уходить, комендантский час обязывает. Иначе, вам это хорошо известно, немцы нас арестуют». Все улыбнулись. Он умел быть забавным! Из всех живущих художников Пабло Пикассо несомненно являлся тем, кого нацисты ненавидели больше всего. Он был бесспорной звездой знаменитой выставки «Дегенеративное искусство», которая объехала многие города Германии. Враг Франко и друг испанских республиканцев, Пикассо считался сочувствующим коммунистам, а его картина Герника была откровенно антифашистской, потому что маленький испанский город бомбил немецкий легион «Кондор». В противоположность Шагалу и другим Пикассо остался в Париже и продолжал жить и работать на улице Гран Огюстин. Если бы он позволил себе что-то, выходящее за рамки, я должен был его наказать, согласно полученным инструкциям. К счастью, он не давал мне ни малейшего повода для вмешательства. Кроме того, его продавец, Анри Канвейлер, покинул Париж, поэтому Пикассо не выставлялся и, следовательно, не имел со мной дел. Канвейлер вынужден был уехать из Франции еще в 1914-м, поскольку был немцем. Его имущество тогда конфисковали. Он вернулся в Париж после Первой мировой войны, но не смог ничего возвратить, ибо Республика все распродала на аукционах. На этот раз Канвейлер покинул Францию, потому что был евреем, но принял меры предосторожности. Галерея официально принадлежала его коллеге и свояченице Луизе Лейрис, у которой в жилах не было ни капли еврейской крови. Галерея Лейрис избегала организовывать мероприятия. Ее собственница проявляла большую осторожность, старалась не привлекать к себе внимания. Не было никакого повода для моего визита к ней. Следовательно, я ни разу там не был. Так было лучше. Тем не менее я должен был «заниматься» Пикассо — по той простой причине, что Мартин Фабиани, торговец произведениями искусства и издатель, подготовил новое издание «Бюффон», которое он хотел (забавная идея) украсить гравюрами Пикассо. От меня не требовалось в такой ситуации определять выбор издателя, но для публикации этой книги предполагалась, чтобы не сказать — была необходима, моя подпись. Типичный случай: с одной стороны, я очень любил Пикассо, но с другой — как немецкий офицер, должен был подчиняться приказам. По минимуму, во всяком случае... И этот случай был сложнее предыдущего, когда доктор Пьерсиг из посольства позвонил мне, чтобы прочитать часть письма-извещения, полученного из Берна, в котором говорилось, что Скира готовил публикацию книги, посвященной работам Пикассо. Изданная в Швейцарии, она должна была затем продаваться подпольно во Франции. Внимательно выслушав, я спросил доктора Пьерсига, есть ли у него в кабинете мусорная корзина, и предложил ему бросить туда это письмо. На этот раз я не мог так легко отделаться.Воспоминания о группе «Наби»
Морис Дени лучше всего излагал позицию «Наби», говоря, что «всякое произведение искусства — это преобразование, эквивалент страсти, карикатура на полученные ощущения». Группу составляли молодые люди — Редон, Вир, Морис Дени, Серюзье, Рансон, Руссель, Боннар, продавец картин Воллар, а также мадам Дени. Они считали себя «наби», иначе говоря, пророками. Пророками чего, я не знаю. Они это знали, наверное. Спустя некоторое время после создания группы к ним присоединился большой швейцарский художник Валлотон и, самое главное, мой друг Майоль, который интересовался еще и живописью. В 1943 году Майоль жил у меня в отеле «Линкольн», на улице Байар. Аристид любил разговаривать за завтраком, но особенно — долгими вечерами, которые мы проводили вместе. Он был неиссякаем, когда говорил о том, что касалось начала его творчества. И, хотя в течение сорока лет он ничем, кроме скульптуры, не занимался, он оставался, по его словам, преданным «наби», их поискам, своим друзьям Вюйару, Дени, Русселю. Майоль был человеком замечательным и непредсказуемым. Он отказался, например, создавать фрески для Театра Елисейских Полей, хотя это был очень престижный и хорошо оплачиваемый заказ. Предлогом для отказа было то, что на работу якобы отводилось слишком мало времени. В результате Бурдель выполнил заказ вместо него. Дом Майоля в Марли был, между прочим, отражением того периода его жизни. Стены были увешаны картинами его друзей. Я никогда не забуду морской пейзаж Гогена, который он мне там однажды показал, как безделицу. Картина была необыкновенна! Майоль был тесно связан с К.-К. Русселем[44], своим соседом в Этан-ля-Виль. Руссель часто приходил в Марли с детьми, Жаком и Аннет, которые играли с юным Люсье-ном Майолем. Аристид тоже посещал Русселя, построившего себе дом настоящего буржуа, окруженный великолепным парком. Кроме того, соседкой Майоля была мадам Ваард, прозванная «Бе», которую Майоль обожал, как Рильке в свое время. Она вовлекала его в «более чем духовные дискуссии». Во всяком случае, он так считал. Разговоры с Майолем давали мне приятную возможность как бы проживать историю искусства изнутри. Между прочим, иногда Майоль поднимался ко мне в комнату с конспектами. Майоль прекрасно относился к Русселю, принял всем сердцем идеи «Наби», но, тем не менее, не любил Мориса Дени. Он понимал, разумеется, значение Дени как основателя и теоретика движения, приходил в восторг от его определения «неотрадиционализма», но говорил, что Дени работает больше пером, чем кистью, пишет больше, чем рисует. Кроме того, ему совсем не нравилась склонность Мориса Дени к религиозной живописи с ее палевыми красками, розовым и голубым. Однажды, к моему изумлению, он предложил мне поехать с ним в Париж, чтобы посетить своего старинного друга Мориса Дени, ставшего тем временем членом Института Франции. Увы, мы не смогли осуществить этот план, ибо Дени погиб несколькими днями позже в результате несчастного случая на площади Сен-Мишель. Майоль был очень расстроен и хотел знать подробности. По его просьбе я расспросил полицию. Мне сказали, что он умер «глупо». Выйдя из Института, Дени пошел вдоль набережной Конти. Когда он остановился на площади Сен-Мишель, чтобы перейти дорогу, порыв ветра поднял его длинный плащ и закрыл ему глаза. В результате он не увидел быстро приближающийся грузовик и был сбит. Вместо того чтобы нанести Морису Дени визит, мы приехали на его похороны.Поездка в Германию
Не знаю, кому первому пришла в голову эта мысль, но мы получили из Берлина приказ организовать официальное и разрекламированное в прессе посещение Германии группой талантливых французских художников. Доктор Геббельс очень дорожил этой идеей, так что не могло быть и речи о том, чтобы увильнуть или обсуждать приказ. Отто Абец, наш посол, взял дело в свои руки и составил список с фамилиями тех, кого надо было убедить совершить путешествие. Ему это удалось без труда, за двумя исключениями: не удалось уговорить Вламинка и Дерена. Не потому, что они не хотели ехать в Германию, вовсе нет. Просто они были рассержены друг на друга до смерти! Я хорошо знал их обоих. Когда я их встретил, Дерен и Вламинк не виделись уже несколько лет. Их давняя дружба внезапно прервалась за много лет до моего прибытия в Париж. Они разошлись полностью, к великому сожалению Вламинка, который мне сам это сказал. В их ссоре, честно говоря, не было озлобления. Я слышал об этом от обеих сторон. Это были две упрямые головы, вот и все. Вламинк часто приходил к Дерену, когда тот жил на улице Бонапарта, 31. Андре Дерен, который всегда любил театр, работал тогда для «Русского балета». Дягилев попросил его нарисовать декорации, и это отнимало много времени. Видя, что его поглощенный театром друг больше не рисует, Вламинк, острый на язык, сказал ему раздраженно: «Ты теперь не художник, ты танцовщица!» Дерен принял обидные слова близко к сердцу. Так закончилась их дружба, хотя до этого они были неразлучны. Я рассказываю об этом здесь, потому что их ссора создала мне проблемы, ведь именно мне была поручена практическая часть подготовки того самого путешествия по Германии. В сущности, это путешествие не было чем-то из ряда вон выходящим. Делегация французских художников должна была посетить несколько музеев и встретиться с немецкими художниками. Как будто ничего ужасного, ничего откровенно политического. Известных, обожаемых за Рейном Вламинка и Дерена, безусловно, надо было во что бы то ни стало уговорить, чтобы они согласились поехать в одном поезде. Я взялся за это с большим энтузиазмом. После огромных усилий мне удалось вырвать у них принципиальное согласие, но не добиться примирения. В какой-то момент я поверил, что мне это удастся. Вламинк был настроен более миролюбиво, но Дерен оставался непреклонным. Ни явного отказа, ни откровенного согласия. Это было опасно. Чем дальше, тем больше Берлин настаивал именно на этих двух именах. Абец выражал свое недовольство все грубее и грубее. Ситуация зашла очень далеко. Во время решающего собрания в «Ритце» (замаскированного под светский прием) был смещен сам комендант Парижа[45]. Это показало всю важность путешествия. После такой «демонстрации силы» Дерен и Вламинк не имели выбора и вынуждены были помириться. В группу вошли все, кто был в списке: Вламинк, Дерен, Легельт, Деспьё, Отон Фриез, Дюнуайе де Сегонзак, ван Донген, Удо, Ландовски и Бельмондо. Никто в итоге не отказался. Кто-то, может быть, согласился из опасения испортить отношения с немецкими властями, но большинство, думаю, поехало по доброй воле. После войны участники этой поездки были обвинены в коллаборационизме, некоторых арестовали. Несомненно, никто не был обязан ехать, но художники редко хорошо разбираются в политике. Майоль, который тоже мог бы оказаться в числе обвиняемых в «сотрудничестве с оккупантами», недвусмысленно отказался от приглашения, хотя Берлин требовал его присутствия. Ответ, который он мне прислал, был ясный и четкий: «Я знаю Германию, я ее посетил с графом Кесслером». В принципе, принимая во внимание мои обязанности, я должен был сам заниматься организацией поездки. Но поскольку нацистская пропаганда придавала этому событию первостепенное значение, я был отодвинут в сторону — благодаря Богу и к выгоде тех, кто был выше меня по чину и больше дорожил продвижением по карьерной лестнице. Так получилось, может быть, еще и потому, что я с самого начала задался вопросом: что могло бы заинтересовать французских художников в Германии? Что можно им показать и кто мог бы их встретить? Экспрессионисты больше не существовали — они умерли или эмигрировали. Те, кто остался в Германии, не могли ни выставляться, ни появляться на публике. Во Франции знали лишь Адольфа Циглера[46], произведения которого были признаны властью образцовыми, выставлялись по всей Германии, но могли вызвать только улыбку у французских художников. Программа поездки начиналась с посещения новой Государственной канцелярии Рейха. Затем группу везли во Врицен, к востоку от Берлина, где Арно Брекер ждал французов, чтобы проводить их в свои сверхогромные «государственные мастерские», где он производил гигантские, почти невообразимые скульптуры, предназначенные для украшения огромных проспектов «нового Берлина». Заслуживший полное одобрение власти и находящийся под влиянием идей Третьего рейха, Арно Брекер был все же одним из тех редких работающих в Германии художников, кого иностранные коллеги уважали за мастерство. Сальвадор Дали, например, приобрел прекрасный портрет Жана Кокто[47], который Арно Брекер сделал после войны. Из Берлина группа, к несчастью, была доставлена в Мюнхен для посещения мастерской помпезного портретиста Лео Самбержера[48]. После войны у Дерена были проблемы, и огромные! До такой степени, что ему пришлось покинуть мастерскую на улице Асса и переехать в Шамбурси. Отчаявшийся, с надломленной психикой, он продолжал рисовать, так и не обретя мир в душе — как по причине преследований, так и из-за жены Алисы, ставшей к тому времени настоящей истязательницей. Мне, знавшему ее милой, даже очаровательной, трудно это представить. В противоположность гиганту Андре, Алиса была маленькой и полненькой. В юности она казалась маленькой мадонной с красивыми глазами и пышной шевелюрой. С семи лет, как утверждают некоторые, малышка Алиса сожительствовала с неким чиновником Принсетом, который однажды решил взять ее в супруги — из страха ее потерять, наверное. Но было слишком поздно. Малышка уже зачастила к художникам из окружения Фернанды Оливье[49], которая ей сказала: «Зачем жениться? Чтобы развестись?» Алиса не поверила ей, но очень скоро встретила Андре Дерена и ушла от своего Принсета, все-таки успев побывать замужем за ним. Однажды, должно быть в 1941-м, Алиса Дерен, которую все звали малышка Алис, пришла ко мне, потому что, вернувшись в Париж после эмиграции, нашла огромные владения Андре Дерена (в Шамбурси, около Сен-Жермен-ан-Лэй) занятыми немецкими войсками. Она не могла заставить их уйти и пришла просить помощи в поиске подходящего жилья рядом с Сен-Жермен-де-Пре. Алиса знала, что многие квартиры в хороших кварталах пустовали. Удивительно, но она пришла не одна, а с маленьким Бобби — ребенком, который остался у Андре в результате связи с Раймондой, его моделью. Этот факт показывал, что она была доброй девушкой, ибо отношения между Андре и Раймондой нарушили покой в доме Дерена. Обосновавшись с Алисой в деревне, Дерен использовал мастерскую в Париже напротив Люксембургского сада (на улице Асса, 112). Он мог там спокойно работать, а также заниматься малышом. Я часто туда ходил. Он выделил себе угол, украшенный провинциальным пейзажем, который напоминал ему времена фовизма, небольшими натюрмортами, статуями из железа и терракоты (скульптурные поиски его некогда сильно занимали). В остальном мастерская принадлежала Бобби. Малыш имел в своем распоряжении большой и красивый театр марионеток, ящики, наполненные куклами. Дерен сам одевал кукол и лепил им головы. Бобби любил забавляться с этим театром к великой радости своего отца. Зная Алису как добрую девушку, я не мог себе представить ее терроризирующей Андре, который стал очень уязвим после обвинений в коллаборационизме. Она посмела, например, устраивать ему чудовищные скандалы под предлогом того, что он тратит ее деньги, хотя сама не заработала ни су. К несчастью для Андре они были женаты с условием общего права на имущество. Эти непрекращающиеся перебранки были настолько мучительны, что привели Дерена к помрачению рассудка. Наконец, «малышка» захватила все имущество Дерена. При участии предвзятого судьи, конечно. Дерен не был больше у себя дома и не имел права ничего трогать. Даже свои кисти! Ужасная ситуация. Вскоре после этого поистине скандального захвата дома несчастного Дерена сбил грузовик. Это случилось в 1954 году. В соответствии с волей Алисы погребение прошло с участием небольшого числа приглашенных и осталось незамеченным.После поездки
Через несколько дней после возвращения из Германии я нанес визит Андре Дерену. У меня не было никаких особенных дел к нему, мне просто хотелось услышать его впечатления. «Это было долго, очень долго, — сказал мне он. — И все бегом. Мой сын был в восторге от игрушек, которые я ему привез из Нюрнберга, а если он счастлив, я счастлив тоже. Вот так!» Возвращение из Германии. Восточный вокзал. На первом плане слева направо: Деспьё (второй, держит руки в карманах), Фриез, Вламинк, Ван Донген (с седой бородой), и, крайний справа, лейтенант Люхт (в кожаном пальто). На втором плане, между Вламинком и Ван Донгеном, издатель Анри Фламмарион (Частная коллекция).
Возвращение из Германии. Восточный вокзал. На первом плане слева направо: Деспьё (второй, держит руки в карманах), Фриез, Вламинк, Ван Донген (с седой бородой), и, крайний справа, лейтенант Люхт (в кожаном пальто). На втором плане, между Вламинком и Ван Донгеном, издатель Анри Фламмарион (Частная коллекция).
У меня не было необходимости посещать художников, участвовавших в поездке, ибо они сами приходили в мое бюро один за другим после возвращения, причем не с пустыми руками. Каждый нес свою картину, если не две или три. Кто-то им внушил, что надо отблагодарить доктора Геббельса за такое прекрасное путешествие. Вламинк пришел с очень красивой гуашью, изображающей голландский пейзаж. Сегонзак принес великолепный рисунок Прованса. Дерен извлек из своего ателье блестящий кровавого цвета портрет с изображением стоящей женщины. Неожиданно у меня в бюро оказалось собрание картин, которое заставило бы побледнеть от зависти искушенных коллекционеров! Очень представительное собрание, включающее лучшие образцы французского искусства того времени. Эти шедевры были беспорядочно свалены в моем бюро, по-другому не скажешь, когда Рене д’Укерманн[50] пришел меня навестить в связи с трудностями в его редакции. Пораженный увиденным, Рене сказал, что этому великолепному собранию шедевров недостает красивого обрамления: нарядных и дорогих рам. Он любезно предложил мне воспользоваться услугами издательства «Фламмарион» для оформления коллекции. Я был счастлив, поскольку мог избавиться от этого бремени, и принял предложение с радостью еще и потому, что знал: все будет сделано на самом высоком уровне. «Фламмарион» был очень хорошим издательским домом. Подарков были столько, что для их перемещения в дом № 26 на улице Расина[51] потребовалось совершить множество поездок на автомобиле. Больше я этим не занимался, а через некоторое время должен был покинуть Париж. Я часто мысленно возвращался к этой истории, надеясь, что подарки, так наивно предложенные Геббельсу, не были использованы как улики в обвинительном процессе, которому подверглись все эти великие художники после войны. Честно говоря, не знаю, что стало с теми произведениями.
Ля Турийер
В субботу утром, в день наплыва посетителей в бюро, я услышал в коридоре крики. Голос орущего был знаком всем: это был Вламинк, ругающий последними словами служащего бюро, молодого и педантичного француза. «Какой-то идиот!» было самым умеренным выражением. Вот что произошло. Приехав в Париж повидать Меттея[52], Вламинк поднялся на шестой этаж, только чтобы поздороваться со мной, а бедный паренек, сидящий на входе, попросил его заполнить анкету посетителя. В принципе, просьба не содержала ничего обидного, но ведь речь шла о такой знаменитости, как Вламинк... «Вот видите, — сказал мне он, упав в кресло, — Париж непригоден для жизни! Это ад. Слишком шумно. Невозможно разговаривать. У меня тишина. Приезжайте в Турийер, вся семья вас ждет». Будучи совершенно счастлив, получив это любезное приглашение, я позвонил Вламинкам, чтобы объявить О своем приезде на следующей неделе. Вламинк был в ужасе от «новомодных штук», он никогда не снимал сам телефонную трубку. Его супруга Берта подробно объяснила, как доехать до Вернея. Их дочь Эдвига, сказала она, будет ждать меня на вокзале. Несмотря на множество пересадок, путешествие было не очень долгим. Эдвига ждала меня на машине. Мы поехали сначала искать Годелин, ее сестру, которая делала покупки. Потом девушкам очень захотелось остановиться выпить стаканчик со своими друзьями. У меня не было другого выбора, кроме как следовать за ними. Все эти проволочки должны были немало разозлить Вламинка. Он ждал нас, стоя во дворе. Едва мы приехали, он повел нас садиться за стол. Мне было известно, что Вламинк — большой любитель поесть, но я не знал, что чувство голода приводило его в плохое настроение. Берта объяснила мне это позже. Итак, мы прошли без промедления в столовую, почти полностью занятую длинным столом и такими же длинными скамьями по обе стороны от него. Чувствуя себя виноватыми из-за опоздания, девушки очень быстро сели за стол. Надо сказать, что на столе было множество горшочков с деликатесными паштетами и огромный кусок мяса, один вид которого был невероятен в то время. Сидя напротив гениального Вламинка, истинного патриарха французской живописи, я думал о том, как трудно представить себе, что этот представительный хозяин Турийера когда-то был маленьким мальчиком в бедной семье из Везинет, а его бабушка торговала овощами. Фламандец по происхождению, Морис Вламинк не имел никакого отношения к аристократии. Он был настоящим потомком фламандцев, которые привыкли сражаться за свою независимость и действовать наперекор всему. Ярый анархист, почти террорист, в молодости, он на всю жизнь сохранил холерический, взрывной темперамент, ставший причиной многих ссор, в том числе с его старым другом Дереном. Женившись в восемнадцать лет, Морис имел трех дочерей от первого брака. Вламинк никогда не вспоминал о нем, хотя этот брак длился двадцать пять лет. Он рисовал уже в молодости, но мысль о том, что его увлечение может стать ремеслом, даже не приходила ему в голову. Надо было много работать, чтобы содержать семью. Когда в 1906 году Воллар купил у него всю его мастерскую, отец Мориса был крайне удивлен: «Это может продаваться?» Несмотря на этот первый успех, Вламинк продолжал зарабатывать на жизнь чем угодно, кроме живописи. Силач, он подрабатывал даже на соревнованиях по гребле. Кроме того, у него обнаружился незаурядный дар скрипача, который мог по достоинству оценить его отец, учитель музыки. Каждый вечер Морис отправлялся из Везинет в Париж — на поезде или пешком, когда в кармане не было ни единого су, — чтобы играть на балах или в театрах. Эта ночная работа не приносила существенного дохода, но имело одно преимущество: день был свободен — и Морис мог рисовать. Мне было известно, что в молодости Вламинк связался с анархистами, но я не знал, что именно в армии он проникся разрушительными идеями эпохи. Призванный в 1897 году, он полюбил духовой оркестр полка, что вполне естественно для музыканта. Может показаться невероятным, что в армейской библиотеке можно было найти книги Маркса, Золя, Кропоткина. Вламинк их буквально пожирал. Революционные идеи настолько захватили его, что он стал членом подпольного кружка анархистов. Куда это могло бы привести Вламинка, если бы им не владела всепоглощающая страсть к живописи? Следующая история мало кому известна, я услышал ее из уст самого Вламинка. Речь идет о его первой встрече с Дереном, которая произошла в результате незначительной аварии на железной дороге. Андре Дерен был сыном буржуа из Шату, родители прочили ему карьеру инженера, от которой он отказывался изо всех сил. Вынужденные выйти из поезда и продолжить свой путь пешком, молодые Морис и Андре оказались рядом. Разговаривая, они обнаружили, что у них общая страсть к живописи, похожие вкусы в области творчества. В итоге они решили работать вместе. После окончания воинской службы Вламинка будущие великие художники обосновались в общей мастерской, расположенной в наполовину разрушенном ресторане на острове Шату. Они рисовали дни напролет — с исступлением, не смешивая краски. Красный, желтый, голубой лопались на холсте, как взрывы. Так родился фовизм. Открытие ими полотен Ван Гога, выставленных у Бернхейма в 1901 году, укрепило их решение не сходить с выбранного пути. Тем не менее только в 1905 году Вламинк стал участвовать в выставках — таких, как «Салон независимых» и «Осенний салон», где он продал свою первую картину за смешные деньги — 100 франков. Именно в «Осеннем салоне» открыл для себя Вламинка Воллар, торговец полотнами «новой волны». Год спустя он купил у Вламинка все его ателье, не подозревая, что это важнейшее событие в истории искусства. Затем довольно быстро последовал контракт с Канвейлером. Это заставило Вламинка поверить, что он может жить своей живописью, хотя он прекратил подрабатывать игрой на скрипке лишь в 1910 году. Сын буржуа Дерен, гораздо более уверенный в себе, уже тогда перебрался на улицу Бонапарта. Но радоваться пришлось недолго. Началась Первая мировая война, и рынок картин обрушился. Чтобы прокормить семью, Морис был вынужден пойти на завод. Вернуться к занятиям живописью удалось лишь в 1917 году. Сейчас трудно представить его жизнь, полную лишений, тяжелого физического труда. Только в 1925 году Вламинк обосновался в Ля Турийер вместе с Бертой, своей новой женой, и двумя дочерями, родившимися от союза с ней. Вламинк дорожил этим домом, как можно дорожить надежным убежищем. Он все умел делать, этот человек. Он был талантлив во всем, даже в писательстве, до такой степени, что опубликовал несколько книг, в то время как писал только наброски. Книги интересные и очень хорошо написанные, хотя Вламинк никогда не считал себя писателем. «Это меня забавляет, — говорил он. — Мне не надо ни перед кем отчитываться, никому угождать». Я думал обо всем этом, сидя напротив большого человека, когда «Ешьте, ешьте!» вернуло меня к реальности. Вламинк был самым очаровательным из всех существ, но у себя дома он любил командовать. Едва я опустошил свою тарелку, он снова положил в нее большой кусок мяса. У него был аппетит обжоры. Честно говоря, признаю, что все было очень вкусно. Кофе подали в мастерской, большой комнате за столовой. Комната была несколько странная, Вламинк пристроил ее к своему дому. Войдя туда, вы поражались открывающемуся через застекленный проем двери виду на засеянные поля. «Это все мое!» — говорил Морис, явно гордясь тем, что он крупный землевладелец. Чашки с кофе — превосходным кофе — были поданы с ликером, «улучшающим пищеварение». Я не знаю, действительно ли он улучшает пищеварение, но мы снова и снова подливали его после проглоченной тяжелой пищи. Слишком тяжелой! Я сказал себе, что в следующий раз буду поститься неделю, перед тем как поехать к Вламинкам. У Мориса было свое постоянное место в углу мастерской, где стояло каштановое кресло, сильно продавленное. Когда он устраивался в нем, оно сплющивались под его значительным весом, и можно было подумать, что он сидит на полу. Он проводил часы в этом кресле: читал, писал, принимал гостей... Морис Вламинк в своем знаменитом продавленном кресле. Ля Турийер, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Морис Вламинк в своем знаменитом продавленном кресле. Ля Турийер, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
На маленьком столе рядом громоздились книги, рукописи, листки с неразборчивыми каракулями, трубки. Фотографии дочерей, ван Донгена, Утрилло были приколоты кнопками на шкафу за креслом. Повсюду были старинные полотна, скульптуры, африканские статуэтки. Вламинк давно открыл для себя негритянское искусство, неизвестное тогда в Европе, и собрал со временем прекрасную коллекцию африканских экспонатов. Морис отличался зычным голосом и привычкой во время спора разговаривать на повышенных тонах. Семейные беседы достигали уровня впечатляющих, если не сказать невообразимых, децибел, тем более что Эдвига, не обладая мощным голосом отца, унаследовала его способность перекрывать все другие голоса. Ей было всего двадцать два года, но она имела свое мнение обо всем. Говоря, она постоянно держала зажженную сигарету в углу рта. Это была настоящая дочь своего отца, она не только держала в руках весь дом, но руководила также фермой и самим Вламинком, когда он занимался сельскохозяйственными экспериментами. Старшая дочь, такая же активная и энергичная, тоже умела хорошо устраивать свои дела. Берта, благоговевшая перед мужем, не имела его бурного темперамента. Это была спокойная, уравновешенная женщина, она держалась скромно, и это, безусловно, вносило гармонию в семейную жизнь. Вообще из всех семей художников, которых я знал, семья Вламинков, несомненно, была самая счастливая и гармоничная.
 Берта, Эдвига и Морис Вламинки в Ля Турийер, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Берта, Эдвига и Морис Вламинки в Ля Турийер, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Обладая артистическими способностями, Морис любил читать вслух. Говоря с ним, можно было перескакивать с пятое на десятое, прерывать его, противоречить, но когда он брал книгу, дома всегда наступала мертвая тишина. В тот раз он взял свою последнюю книгу, «Портрет перед кончиной», и начал нам читать про Дуанье Руссо. Они познакомились у Воллара, в 1908-м. Потом он быстро прочитал отрывок о Гийоме Аполлинере, которого встретил у мадам Костровски, его матери, в Шату. После чтения этих эпизодов, весьма интересных, мы заговорили о живописи. Вламинк никогда не говорил о своем искусстве, он знал свое место: среди самых великих. Но он охотно говорил о других. Иногда хорошо, иногда плохо. Его мнения часто были категоричны. Никого он так не ненавидел и не презирал, как Пикассо. Для Вламинка Пикассо был ответственен за разложение искусства. «Он расчетливый маленький мерзавец, маленький пройдоха», — говорил он. Матисс ему не нравился тоже. «Посмотрите на полотна Матисса, — сказал он мне однажды. — Они лишь игра красок. Поменяйте их местами, переместите зеленое выше, розовое ниже, это ничего не изменит. Это не полотна, это дерьмо!» К Утрилло и его примитивистам он также больше не проявлял расположения. (Правда, мне хотелось бы верить в обратное.) Рассуждая таким образом, Морис направился к маленькой комнате в глубине мастерской. Комната была заполнена картинами. «Мои последние полотна», — сказал Вламинк строго. Потом он мне показал их одно за другим. Молча. Без комментариев. В полнейшей тишине. Но в этой тишине явственно было слышно: «Это я!» Каждый раз, когда он мне показывал картину, казалось, он говорил: «А ну-ка посмотри это. Неплохо, да?»
 Морис Вламинк показывает свои полотна Вернеру Ланге. Ля Турийер, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Морис Вламинк показывает свои полотна Вернеру Ланге. Ля Турийер, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Вскоре я получил новое приглашение. Вламинк никогда не писал и не отвечал на письма только для того, чтобы «поболтать». В Ля Турийер приходило много писем, не меньше чем к какому-нибудь министру. Берта взвалила переписку на свои плечи. По мере выполнения этой обязанности она приобрела такое мастерство, так ловко копировала стиль и характерные речевые обороты мужа, что было невозможно понять, кто пишет — она или сам Вламинк. Она научилась даже подделывать его подпись. В совершенстве! И на этот раз я не избежал традиционной пирушки. Я предусмотрительно приехал натощак. Сначала мы ели куропаток, как было принято у Вламинков. Гору куропаток! Видя мое удивление, он взорвался от смеха: «У меня нет ружья и, тем не менее, нет недостатка в дичи! А вот жаркое из говядины на исходе! Всю последнюю неделю жена не переставала мне твердить: „Морис, мяса больше нет, Морис, мяса больше нет“. Это просто сводило ее с ума. В доме нет мяса, хотя в хлеву полно живности. Было бы глупо не воспользоваться этим. Я нашел мальчишку с соседней фермы. Мы выбрали хорошую скотину, ради которой стоило пойти в случае необходимости в тюрьму. Я велел мальчишке все как следует приготовить для ночи: острый топор, хорошо наточенные ножи, чисто вымытый стол. А также свечи, много свечей. Электрический свет мог бы привлечь внимание соседа или прохожего. Все прошло хорошо, мы работали в поте лица, перепачканные кровью, когда дверь внезапно открылась — и я услышал крик Эдвиги, потрясенной всей этой кровью. Бедняжка искала меня повсюду и не находила, она не знала, что мы тайком закололи корову!» Вся Франция получала продукты по карточкам, а Вламинк питался лучше, чем до войны. Он очень любил рассказывать истории из обычной жизни и делал это так хорошо, что они становились необыкновенными. Морис имел дар истинного артиста. Однажды, в солнечный день, мы решили обойти его владения. Должно быть, он делал это не слишком часто, ибо как иначе объяснить его удивление от навеса, возведенного за его домом. Он его никогда не видел. Это была идея Эдвиги, которая предпочитала спать под навесом из-за жары. Морис нашел идею настолько глупой, что обозвал дочь дурой. Более того, он погрузился в размышления и решил, что Эдвига, должно быть, не совсем здорова. Меня он попросил принять ее в Париже, немного развлечь, сводить куда-нибудь. Она любила танцевать.
 Морис Вламинк и Вернер Ланге в Ля Турийер, 1942 г. Снимок Эдвиги Вламинк (Частная коллекция).
Морис Вламинк и Вернер Ланге в Ля Турийер, 1942 г. Снимок Эдвиги Вламинк (Частная коллекция).
Слишком юная, чтобы брать на себя такую ответственность, Эдвига занималась делами Ля Турийер день и ночь с замечательным самоотречением. Морис сказал мне, что послать ее на недельку в Париж было бы своего рода вознаграждением. Несколькими днями позже я ее увидел в моем бюро с маленьким чемоданом в руке. К моим дневным обязанностям, таким образом, прибавились обязанности эскорта — вечерние или, скорее, ночные: такими длинными оказались вечера.
Рюдье
Мастерские художественного литья Рюдье[53] находились в Малакофф, в предместье Парижа. Замечательное предприятие, единственное в своем роде, оно пользовалось мировой известностью, но после войны должно было закрыться в связи с кончиной Эжена Рюдье. Эжен Рюдье, литейщик (Частная коллекция).
Эжен Рюдье, литейщик (Частная коллекция).
Подпись «Алексис Рюдье, литейщик, Париж» внизу бронзовой статуи была залогом безупречного качества, самого лучшего и совершенного исполнения. Это Рюдье отлил произведения Родена, Бурделя, Майоля. Большие ворота открывались в узкий, но глубокий двор. На входе находилось скромное бюро, где работал секретарь, в глубине двора располагались мастерские. Двор был настоящим музеем. Произведения из бронзы ждали там, когда их заберут владельцы. Дождь и солнце завершали работу, придавая налет патины. Войдя, я увидел Мыслителя Родена, немного дальше — Жителей Кале[54], еще дальше — Тень[55] и, наконец, — Три грации Майоля. Это было восхитительно! Перед тем как войти в мастерскую, надо было пройти через просторный зал, где Рюдье складывал гипсовые слепки и формы. Там было много произведений Родена, Майоля, обнаженные фигуры Деспьё. На стене в глубине — большой слепок Дианы с оленем Бенвенуто Челлини, отлитый оригинал которой находится в Лувре. Оригинал был отлит во Франции для украшения арки во дворце Фонтенбло. Позже Генрих II подарил его Диане де Пуатье для ее замка Анет.
 Литейная мастерская Рюдье, 1942 г. На стене — статуя Бенвенуто Челлини «Диана, лежащая с оленем», отлитая для Геринга в 1941 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Литейная мастерская Рюдье, 1942 г. На стене — статуя Бенвенуто Челлини «Диана, лежащая с оленем», отлитая для Геринга в 1941 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Будучи рад видеть меня (мы уже стали друзьями), Рюдье объяснил, что эта Диана была первой отливкой, заказанной немцами. Специальной команде маршала Геринга было поручено украсить его охотничий замок в Каринхалле. Хорошо, что он остался доволен этой копией, подумал я. Он мог бы легко конфисковать оригинал в Лувре! Геринг поручил сделать себе и копию другой Дианы замка Анет: Дианы Жана Гужона. Считая себя большим знатоком, каким он, конечно же, не был, он приказал, чтобы собак убрали. Это разрушило чудесную композицию Гужона. Незадолго до высадки десанта в Нормандии Геринг заказал также копию Победы Самотраки. Так как немцы вот-вот должны были оставить Париж, работа над копией не была доведена до конца, незавершенный шедевр был переправлен в Германию, чтобы быть там законченным. Я узнал об этом гораздо позже. В большой мастерской Рюдье слепки были расставлены по полкам вдоль стен. Середина комнаты оставалась, таким образом, относительно свободной. Сюда рабочие приносили отлитую и полированную бронзу для последнего штриха, для патины. Помимо совершенства литья предприятие было обязано своей репутацией неслыханному качеству патины. Благодаря объяснениям моего друга Рюдье я знал все о том, как получают нужный цвет, имитируют тень, мазок кисти, делают шлифовку, наводят глянец. У Рюдье был необыкновенный маленький египетский кот из бронзы, совершенный близнец такого же кота из Лувра. Если бы их поменяли, никто бы этого не заметил. Его бледно-зеленая матовая патина была уникальна, неподражаема. Рюдье объяснил мне, что держал кота в течение нескольких месяцев в молоке. И он говорил правду! Бронзу он потом восстанавливал, чтобы остались лишь световые блики. Результат оказался просто божественным. Его опыт литья и наведения патины был такой, что он знал тонкости, не известные больше никому. Получив однажды приказ Абеца отлить копию конной статуи Карла Великого[56] из музея Карнавале для министерской канцелярии Берлина, Рюдье открыл, что этот маленький шедевр несомненно раньше был позолочен. Статуя была повреждена до такой степени, что не осталось и следа золота. Рюдье отказался от покрытия копии золотом, что рисковало оказаться китчем, но сделал ее полностью идентичной оригиналу, каким он был в 1940 году. Это было необыкновенно! Он нашел средство придать новому произведению патину и блеклость древности. Большие здания с правой стороны двора служили для литейного производства. Рюдье делал все отливки в песке, а не в воске, как большинство его коллег. Именно эта техника, чрезвычайно трудная для освоения, придавала поразительное изящество его творениям. У меня была возможность убедиться в этом, поскольку, к моему огромному счастью, я присутствовал при отливке Врат ада Родена[57]. В 1880 году литейная мастерская Рюдье полностью выполнила первый заказ этого шедевра, предназначенного украсить вход в Музей декоративных искусств. Роден настолько доверял Рюдье, что, сделав изложницу, даже не бывал у своего литейщика. Он считал, что Рюдье гораздо более компетентен, чем он сам, и поэтому не следил за его работой. Кстати, впоследствии Рюдье стал постоянным литейщиком музея Родена[58]. У Родена были причуды, свойственные только ему. Например, он настаивал, чтобы отливка во всех отношениях была идентична гипсовому слепку, даже если слепок имел изъяны. Рюдье рассказал мне, что глиняная скульптура Евы[59] держалась вертикально благодаря прочной железной арматуре. Когда отливали скульптуру, заметили, что из правой ноги вылез железный прут. Роден, неизвестно почему, отказался переделывать отливку. И сегодня еще можно видеть торчащий из бронзы прут. — А, у него были свои идеи! Одно из любимых выражений Рюдье, который не был красноречив. Он любил рассказывать истории. Историю Человека со сломанным носом[60], например. Работа в глине была закончена, когда голова упала и нос был поврежден, ударившись о край табурета. Роден не хотел больше трогать скульптуру. «Из-за предрассудков», — сказал мне Рюдье. Когда работу выставили, и критики, и любители были уверены, что это портрет Микеланджело. Все обжигатели гипса были итальянцами. По мнению Рюдье, итальянцы отличались особенной ловкостью в этом тонком и деликатном деле. Рюдье работал не только с бронзой, ему прекрасно удавались и отливки из свинца, более хрупкого и трудного в работе материала. Майоль часто заказывал Рюдье свинцовые отливки. Он считал, что они хорошо сочетаются с округлыми формами его женских скульптур, а время, к тому же, превосходно подправляет цвет. Рюдье приобрел такое мастерство в этой области, что получил до войны огромный заказ для Версаля. Все фигуры в версальском парке, так же, как и украшения крыш, были из свинца. Время подточило этот красивый, но хрупкийматериал, надо было все переделывать, укреплять. Труднее всего, по словам Рюдье, было вынести эти громадины из парка. Все статуи Версаля прошли через его литейную мастерскую. Рюдье был человеком очень приятным, дружелюбным, и его мастерская являлась магическим местом для каждого, кто восприимчив к красоте, к искусству. Я оказался у Рюдье, потому что он получил весьма значительный заказ немецкого правительства — в то время такое случалось не часто. Речь шла обо всех работах Арно Брекера в бронзе, которые предназначались для его большой выставки в галерее «Оранжери», или, скорее, большой ретроспективы его произведений. (Выставка состоялась в 1942 году.) Альберт Шпеер[61], близкий друг Брекера, добился, что Рюдье получил нужное количество металла, поскольку работы главного скульптора Рейха часто имели внушительные размеры.
 Эжен Рюдье перед скульптурой Арно Брекера, отлитой в его мастерской. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Эжен Рюдье перед скульптурой Арно Брекера, отлитой в его мастерской. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Маленький дом рядом с мастерской, наполненный превосходными произведениями искусства и окруженный розами, был местом встречи важных клиентов, а также служил для их проживания, если они желали остаться на несколько дней. Во время Оккупации Рюдье жил в нем со своей женой, ибо они не могли больше совершать привычные поездки туда и обратно между Парижем и Вези-нет, где у них был очень красивый дом. Поскольку бензин продавался в ограниченном количестве, они ездили туда лишь в воскресенье. Я это знаю, потому что они меня часто приглашали их сопровождать — к моему большому удовольствию.
 Эжен Рюдье и Вернер Ланге перед произведением Арно Брекера (Частная коллекция).
Эжен Рюдье и Вернер Ланге перед произведением Арно Брекера (Частная коллекция).
Богатый дом Рюдье в Везинет окаймлял красивый парк с прудом. Замечательное место! Дом был заполнен шедеврами. Скульптуры были повсюду, даже в парке, под большими деревьями. Со стороны улицы перед домом возвышалась Тень Родена[62], скульптура два метра высотой, предназначенная украшать могилу Рюдье. Это зловещее напоминание о смерти меня немного удивило, ведь Рюдье был полон сил. В большом парке можно было увидеть Три грации Майоля, работы Бурделя и Родена; свинцовый трехметровый Фавн Дарде[63] улыбался дьявольской улыбкой среди деревьев. За парком была маленькая вилла, старинная собственность жены Рюдье, где семья поселила серьезно заболевшего Антуана Бурделя (там он и умер). После его кончины семья Рюдье продала виллу Люси Валор[64] в год ее брака с Морисом Утрилло. Мы с Рюдье были хорошими друзьями, но, разумеется, не могли быть постоянно вместе. Я был удивлен, когда однажды встретил его рядом с моим бюро на Елисейских Полях. Обычно он предупреждал о приезде через своего секретаря или приходил без приглашения в полдень, чтобы выпить аперитив у своего друга Франси, который держал бар на углу авеню Монтень и улицы Байяр. (Его «Американский бар» потом был заменен бутиком «Диор».) В ответ на мой вопрошающий взгляд Рюдье начал с того, что его племянник Жорж, которого я не знал, устроил в Монруж маленькую промышленную литейную мастерскую, специализировавшуюся на запасных частях для железной дороги. От Жоржа долго не было вестей. Оказалось, что его арестовала и увезла на улицу Соссэ[65] немецкая полиция. Мне ничего не оставалось, кроме как направиться по указанному адресу. Дорогу туда я хорошо узнал после истории с Диной Верни, моделью Майоля, о чем расскажу позже. Довольно приветливые, должен сказать, офицеры немецкой полиции объяснили мне, что Жорж Рюдье замешан в спекуляциях металлом. Никакой политики, следовательно. Уф-ф! Я боялся, что он участник Сопротивления или что-то в этом роде. Поскольку мои худшие предположения не подтвердились, у меня появился шанс вытащить его оттуда. Тем не менее я долго вел переговоры, прежде чем смог убедить полицейских, что не надо делать из мухи слона. Мне пришлось трудно, потому что металл являлся во время войны стратегически важным материалом, и, следовательно, обвинение было достаточно серьезным. Естественно, я не преминул заметить, что дядя арестованного — литейщик Арно Брекера и, таким образом, «большой друг Германии». В конце концов они согласились отпустить арестованного, но с условием, что он закроет мастерскую и магазин — в противном случае он мог снова заняться спекуляцией. Чтобы не создавать для Жоржа проблему, я предложил в ответ отдать предприятие под непосредственное руководство его дяди, человека надежного и «большого друга Рейха». Мое предложение было принято, и я покинул здание полиции с молодым Рюдье, бледным, но довольным. Не имея автомобиля, ни личного, ни служебного, я ходил за покупками пешком или ездил в метро. За исключением тех случаев, когда ко мне приезжал Рюдье, что бывало довольно часто. Как Вламинк, он любил большие мощные автомобили. Три американских машины стояли в старинных конюшнях его дома в Везинет. Разумеется, он не мог ими пользоваться — достать столько бензина в то время было невозможно. Вынужденный искать другие транспортные средства, он запрягал красивую лошадь по кличке Рипп в маленький английский автомобиль. Его видели разъезжающим по улицам Парижа: он управлял двухместной машиной, которую тащила лошадь. Такое передвижение было весьма забавным, но слишком медленным. В результате он купил старый «Ситройен» с возможностью ездить на газе. Французам было запрещено использовать бензин, но поскольку его всегда можно было найти на черном рынке, а Рюдье не был стеснен в средствах, бак «Ситройена» никогда не пустовал. Бутылка с газом, хорошо заметная позади машины, служила только для того, чтобы избежать полицейского контроля. На случай, если бы он был остановлен, чего так и не случилось, Рюдье соорудил маленький кран, который перекрывал поступление бензина и переводил машину на газ. Майоль во время своего пребывания в Париже в 1943 году (об этом я расскажу дальше) тоже не раз пользовался машиной Рюдье.
Добрая Люси
Мадам Утрилло заходила в мое бюро так часто, что я даже стал себя спрашивать, не питает ли она слабость ко мне. Мне было лишь тридцать лет, тогда как ей... Она упрекала меня за то, что я не навещаю их, ее и Утрилло, когда бываю у Рюдье в Везинет, хотя часто туда езжу. Однажды в воскресенье я все же преодолел несколько метров, которые разделяли земли Рюдье и Утрилло, и увидел на входной двери обезоруживающую надпись: «Добрая Люси». Она встретила меня со всей любезностью, но заперла за собой дверь, выходя. Значит, подумал я, правда то, что про нее говорят: Морис Утрилло был буквально заперт у себя дома, постоянно находясь под бдительным наблюдением жены. Люси с гордостью продемонстрировала мне свой сад, в котором все деревья были подстрижены, давая место ухоженной лужайке, окруженной аркадой камней. Был там также большой вольер, заполненный экзотическими птицами. Все выглядело довольно причудливо, включая дом, который претендовал на сходство со швейцарским шале. Во всю длину фасада, странно выбеленного известью, Люси построила террасу, украшенную с каждого угла огромным стеклянным шаром. Эти странные шары могли светиться разными цветами, в соответствии с настроением мадам: красным, желтым, синим. Люси очень гордилась своим изобретением. Внутри дома все было бело-золотое — ослепительное, мерцающее, монотонное. Даже фортепиано! К счастью, однообразие нарушали несколько картин на стене — известные улочки Монмартра, написанные Морисом. Утрилло был счастлив меня видеть. Фактически запертый в доме, бедняга видел мало людей и имел право только на маленький стакан красного вина. Его мастерская находилась на втором этаже в конце узкой лестницы: маленькая комната с мольбертом посередине. Перед мольбертом — стул. В этой монашеской обстановке он создавал свои картины, которые нравились как французам, так и иностранцам. Автограф Мориса Утрилло для Вернера Ланге в каталоге его произведений для выставки в галерее Петридé с 18.04.1942 по 10.05.1942 (Частная коллекция).
Автограф Мориса Утрилло для Вернера Ланге в каталоге его произведений для выставки в галерее Петридé с 18.04.1942 по 10.05.1942 (Частная коллекция).
Он был в процессе работы над видом Сакре-Кёр в снегу. Рядом стояла готовая картина — тот же храм летом. Люси приколола в уголке листок, на котором написала: «Снег!» Это был приказ мужу создать зимний вариант. Критики часто обвиняли Утрилло, что он работал, смотря на почтовые открытки, и редко писал с натуры. Несправедливый упрек! Утрилло удавалось воссоздавать натуру, основываясь на почтовых открытках, тогда как у многих получались лишь открытки, хотя они и рисовали с натуры. Это был скромный гений и поистине трогательный человек. За жилым домом находилась маленькая хижина, в действительности часовня, куда Утрилло долгое время ходил каждую пятницу предаваться размышлениям в день смерти Жанны д’Арк... До своего замужества «добрая Люси» попытала удачу в литературе, даже в театре. Ее пьесы, написанные за нее другими, проваливались одна за другой. Это начинало ей дорого стоить, хотя у нее и были деньги. Ее брак с Утрилло стал чрезвычайным событием. Люси обсудила брачный контракт с Сюзанной Валадон, матерью художника. Бедняга Морис пытался избежать женитьбы буквально до последнего момента — он сопротивлялся даже в церкви во время брачной церемонии. Выйдя замуж, Люси обрела две заботы: надо было заставить мужа работать и помешать ему пить. Оказавшись вдали от Монмартра, Утрилло был лишен доступа к бистро Везинет. Он должен был рисовать, рисовать и еще раз рисовать. Люси взяла на себя все остальное: подписывала контракты с торговцами, занималась рекламой. До того дня, пока не открыла, что и у нее тоже дар. Она настойчиво просила меня посмотреть свои натюрморты и особенно портрет Мориса. Хороший портрет, но сразу было видно, что мэтр, мягко говоря, помог своей жене. Я узнал позже, что она обязывала продавца покупать свое полотно каждый раз, когда он брал картину Мориса. Добрая Люси была опасной женщиной! Вечером, за столом, Рюдье рассказали мне забавную историю, случившуюся на предыдущей неделе. Мадам Утрилло плакала у мясника Везинет, торгуясь с ним из-за куска говядины. Мясник не уступал. Это было время продуктовых талонов, достать хороший кусок мяса было нелегко. В отчаянии Люси предложила мяснику картину Утрилло. Естественно, он тут же отрезал ей отличный кусок говядины. На следующий день она принесла ему свою картину, подписанную «Фернанд Александрии». После моего возвращения в Париж в 1950 году я случайно повстречал Люси у Поля Боэти. Ее объем увеличился вдвое, лицо было намазано густым слоем тонального крема, разукрашенная шляпа тоже была в два раза больше, чем прежде. Толстую шею украшали три ряда жемчужин. В ответ на мое дружеское приветствие она бросила почти разочарованно: «А мне сказали, что вы умерли». Сказав это, «добрая Люси» поспешила с гордостью продемонстрировать свою награду за участие в Сопротивлении. Я все еще спрашиваю себя: кому она могла так усердно сопротивляться? Бедному Морису, наверное.
Жорж Маратье
Жорж Маратье[66] был в числе первых, кто пришел меня навестить на Елисейских Полях. Мы подружились еще до войны. Поскольку у меня не было времени его уведомить об этом, он не знал, что я в Париже, но ему показалось, что он узнал мою подпись под немецким документом, разрешающим открытие выставки, и он пришел убедиться в этом лично. Мы познакомились в 1938 году. Я собирался посетить в Париже выставки, о которых говорили в Берлине. Во время моих беспрестанных поездок я как-то оказался на углу улицы Лилль и Бон, где афиша «Гийом Аполлинер и его друзья-художники» привлекла мое внимание. Картины и документы, посвященные поэту, занимали все залы галереи. Видя мою явную заинтересованность, хозяин галереи подошел ко мне. Это был Жорж Маратье. Влюбленный до безумия в искусство начала века[67], он стал преданным другом Аполлинера, хотя познакомился с ним незадолго до его смерти. Они встретились 11 ноября 1918 года, в день, когда Франция праздновала окончание Первой мировой войны. Поэт умирал в маленькой квартире[68]. Ослабленный вследствие ран, полученных на войне, он подхватил испанку, свирепствовавшую в Париже. Слишком слабый, Аполлинер умер от болезни. После его кончины Маратье сблизился с Жаклин, его вдовой, поддерживая ее, как только мог, в том числе и материально. Хотя Жаклин больше не жила в Париже, она сделала все, чтобы квартира Аполлинера оставалась такой, какой она была в момент его смерти: стены покрыты полотнами Дуанье Руссо, Пикассо, великих кубистов, картинами Мари Лорансен. Даже каска, пробитая пулей, которая ранила поэта, была там. Жаклин никогда не думала продавать эти картины, стоившие уже тогда немало. Все было необычно в этой истории. Серьезно раненный во время войны, Гийом познакомился в госпитале Парижа, где он лечился, с Жаклин — очень красивой женщиной, великодушной и милосердной. Она была его сиделкой, до того как стать женой. Они поженились в 1918 году, за несколько месяцев до смерти Аполлинера. Свидетелями у них на свадьбе были Пикассо и Воллар. Жаклин много помогала Маратье в подготовке к этой выставке. Именно она предоставила значительную часть выставленных шедевров и писем. Большая картина Мари Лорансен, царившая в центре экспозиции, являлась собственностью Жаклин. Картина была написана в то время, когда Аполлинер и Жаклин были любовниками. «Аполлинер и его друзья-художники» представляла Гийома в окружении его лучших друзей — Пикассо, Фернана Оливье и самой Жаклин, истинной хранительницы храма. Маратье знал о жизни Аполлинера все. Можно сказать, что ни одна мелкая подробность не ускользнула от него. Он часто встречал Анжелику Костровицкую, красивую польскую аристократку, мать двух мальчиков, рожденных от неизвестных отцов; одним из этих мальчиков был Аполлинер. Рожденный в Риме, он провел свое детство на юге Франции и приехал в Париж лишь в возрасте двадцати лет. Гийом Аполлинер в 1917 г. (Частная коллекция).
Гийом Аполлинер в 1917 г. (Частная коллекция).
Человек без родины, бедняк, без каких-либо связей, он терпел сильную нужду. Став по счастливому стечению обстоятельств репетитором детей одного богатого немца, он влюбился в их красивую гувернантку. Эта страстная любовь вдохновила его на первые поэмы, опубликованные в «Белом журнале». В это же время он встретил двух своих лучших друзей: Пабло Пикассо и Макса Жакоба — и Мари Лорансен, которая, кстати, и представила его Пикассо. Любовь с первого взгляда. Эти двое были так красивы и влюблены, что вдохновили Дуанье Руссо, другого большого друга Аполлинера, на его картину Муза, вдохновляющая поэта. Именно для чествования Руссо, по случаю представления его картины в «Салоне независимых», Аполлинер организовал в Бато-Лавуар в мастерской Пикассо знаменитый банкет, который вошел в историю искусства. Маратье рассказал мне о том, чего я не знал: Аполлинер сидел в тюрьме за кражу картины из Лувра, хотя на самом деле не был виноват. Еще я узнал о том, что он хотел покончить с собой, когда Мари Лорансен оставила его ради другого.
 Жорж Маратье, Вернер Ланге и Жаклин Аполлинер после войны (Частная коллекция).
Жорж Маратье, Вернер Ланге и Жаклин Аполлинер после войны (Частная коллекция).
Я узнал все это в 1938 году. В 1940 году многое изменилось до такой степени, что Маратье был готов закрыть галерею. Жорж не принадлежал к тем галеристам — типичным, должен сказать, — мир которых ограничивается картинами, которые они продают, и деньгами, которые они получают или не получают. Жорж интересовался литературой, танцем, музыкой, комедией. Он основал «Издательство Горы», выпускающее театральные пьесы, сотрудничал с «Русскими балетами» Сергея Дягилева. Полиглот, он проводил на радио Чикаго конференцию о культурной жизни Франции. Именно в его галерее я познакомился однажды с Вильгельмом Уде, немецким коллекционером и любителем искусства, обосновавшимся во Франции с начала века, владельцем маленькой галереи. Его называли «первооткрывателем» Дуанье Руссо, и он действительно им был. Любитель «наивной» живописи, он особенно интересовался группой художников, названной «художники воскресенья», среди которых были Бошан[69], Вивьен[70] и Серафина[71], домохозяйка Уде в Сан лис. Он называл их «художниками священного сердца». Благодаря ему их работы сегодня занимают важное место в великих музеях. Выставка «Аполлинер и его друзья-художники» напоминала о том времени, когда эти художники объединились вокруг Гертруды Стайн. Поскольку я не был с ней знаком, Уде настоял, чтобы Маратье представил нас друг другу.
Гертруда Стайн
Двумя днями позже мы нанесли визит Гертруде Стайн. Поскольку я мало о ней знал, Маратье рассказал по дороге: американка, она была наследницей венского банкира-еврея. Менее богатая, чем ее отец, она, тем не менее, сказал мне Маратье, имела «огромные финансовые возможности». Гертруда и ее младший брат Лео покинули Америку из-за любви к французской живописи, особенно Гогена и Сезанна. Богатые и экстравагантные, они остановились в Париже, потому что во Флоренции любитель Сезанна порекомендовал им маленькую французскую галерею на улице Лафитт, где, по его словам, они найдут самого лучшего Сезанна. Это была, совершенно очевидно, галерея Воллара. По словам Маратье, немного завидовавшего, наверное, своим коллегам, Воллар и Стайны не могли не слышать друг о друге. Во-первых, потому что, как и они, Воллар приехал издалека, с острова Реюньон. Во-вторых, потому что, как и они, он был взбалмошным, эксцентричным, экстравагантным. Будучи уже очень известным торговцем, он имел сотни полотен Гогена, Сезанна, Ренуара, Пикассо, Брака, Дерена, Вламинка, но не продавал их, даже не выставлял. Во время первого визита Стайнов Воллар продержал их несколько часов, не показав им ни одной картины. И только в конце вечера, видя их совершенно измотанными, он принес с первого этажа небольшой пейзаж Сезанна, который Стайны купили, не раздумывая, почти не глядя. По крайней мере, так рассказал мне Маратье. Красивые истории правдивы или становятся правдивыми со временем. Как бы то ни было, Воллар и Стайны стали большими друзьями, и Воллар заработал много денег благодаря богатой Гертруде. Мы почти приехали на улицу Кристин, где Гертруда Стайн проживала в 1938 году, когда Маратье сказал мне, что вошедшим в историю адресом навсегда останется ее дом на улице Флерюс, поначалу почти пустой, поскольку его стены были предназначены для будущих коллекций. Одной из первых картин, которую там повесили, была Обнаженная девушка с корзиной цветов. Саго, мелкий торговец, который ее продал, сказал, что молодой художник только что прибыл из Испании. Речь шла о Пикассо, который быстро стал своим человеком на улице Флерюс. Всем сегодня известен его Портрет Гертруды Стайн[72], но мало кто знает, что богатая американка перебралась на несколько месяцев на Монмартр, чтобы позировать в Бато-Лавуар. После девяноста сеансов позирования работа не была завершена! Картина не давалась Пикассо. Он полностью стер голову Гертруды и нарисовал ее по памяти. Не слишком похоже на правду, но я любил эти истории о шедеврах. Правдивые или нет, какая разница? Когда я был студентом, я обожал историю о Микеланджело, рисующем фрески в Сикстинской капелле под крики папы Юлия II, бывшего вне себя от гнева. Легенда гласила, что Микеланджело создал этот шедевр, когда он не был даже «настоящим» художником! Портрет Гертруды Стайн работы Пабло Пикассо.
Портрет Гертруды Стайн работы Пабло Пикассо.
Чем больше Маратье мне говорил о Гертруде Стайн, тем больше мне не терпелось познакомиться с ней, увидеть картины из ее коллекции. Именно на улице Флерюс, сказал мне Маратье, Гертруда Стайн стала великой писательницей. Я прочитал ее «Три жизни» и «Становление американцев» гораздо позже, это действительно две очень хорошие книги. Нам открыла дверь на улице Кристин старая дама. Это была верная секретарша и друг Гертруды Стайн, Алиса Токлас, миниатюрная женщина. Маратье и Алиса явно были знакомы, они принялись болтать, как если бы продолжали беседу, начатую накануне. Они говорили о кухне: о хороших рецептах, хороших блюдах, хороших винах — обо всем том, о чем я, обычный немец, совершенно ничего не знал. Лицо Алисы Токлас, с ее орлиным носом, было странным. Но еще более странным показался мне голос, скрипучий, даже ржавый, и ее жуткий англо-французский акцент. Разговор продолжался для меня целую вечность, но ничего нельзя было поделать. Только после того как они закончили свою беседу, нас проводили в салон, где находилась Гертруда Стайн.

Гертруда Стайн и Алиса Токлас перед войной (Частная коллекция).
Даже сегодня я очень хорошо помню свое впечатление. Гертруда была очень импозантной, но я не сказал бы, что она выглядела слишком полной. Скорее, она была величественной. Сейчас я спрашиваю себя, не создавала ли это впечатление, в том числе, ее манера одеваться. У нее были очень широкие плечи и голова в ореоле короны седых волос, подстриженных, как у римских императоров, что придавало ей вид исторического монумента. Картины были повсюду. Много работ кубистов: Хуана Гриса, Пикассо. Большой портрет Гертруды работы Пабло Пикассо доминировал в комнате. Копии этой картины имеются во многих коллекциях, но у Гертруды Стайн я увидел оригинал, который находится сейчас в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. Узнав немного позже его историю, я сказал себе, что она стала походить на свой портрет через тридцать лет после его создания. В этом было нечто магическое. Представляясь, я произнес свою фамилию на французский манер. Ланге по-французски звучало как Л’Анж. — А, голубой ангел, — сказала Гертруда, улыбаясь. — Марлен... Разговор мог бы быть нелегким, я был все-таки представителем нацистской Германии, «Германии Гитлера», как тогда говорили, но благодаря этому легкому намеку на Марлен Дитрих беседа оживилась, стала дружеской. Мы были среди знатоков и любителей живописи. Остальное не принималось в расчет. Пока мы говорили, Алиса накрыла небольшой стол скатертью, вышитой ею самой и украшенной забавным девизом Гертруды Стайн: «Роза есть роза есть роза есть роза». Этот девиз присутствовал, кстати, и на ее бумаге для писем. Была подана выпечка, тоже изготовленная белыми ручками Алисы. Мы, естественно, говорили о Германии. Сначала немного, потом лишь о ней. Гертруда задавала мне тысячу вопросов. Не спрашивая меня, между прочим, был ли я сам нацистом. Я им не был, но я был немцем, жил и работал в Германии. Новый режим не нравился ей, она его не понимала. Она не касалась «еврейского вопроса», но желала знать все о политике нацистов в области искусства. Гертруда хотела, чтобы я объяснил ей концепцию «дегенеративного искусства». Я попытался это сделать как можно лучше, но сомневаюсь, что мне это удалось. Когда мы собрались уходить, она настойчиво попросила меня зайти к ней перед возвращением в Берлин. Времена были смутные, стоял сентябрь 1938 года, только что было подписано Мюнхенское соглашение. Когда я вернулся к ней, я нашел ее задумчивой, обеспокоенной политической ситуацией. Она сказала, что не верит в то, что соглашение, подписанное в Мюнхене, защитит Францию от войны. «Ситуация изменится на противоположную», — сказала она, я это помню очень хорошо.
 Эмблема Гертруды Стайн с ее девизом: «Роза есть роза...» и с инициалами «Г.С.» (Гертруда Стайн) и « А.Т.» (Алиса Токлас), сделанная из серебряной бумаги. Подарок Гертруды Стайн Вернеру Ланге (Частная коллекция).
Эмблема Гертруды Стайн с ее девизом: «Роза есть роза...» и с инициалами «Г.С.» (Гертруда Стайн) и « А.Т.» (Алиса Токлас), сделанная из серебряной бумаги. Подарок Гертруды Стайн Вернеру Ланге (Частная коллекция).
В момент прощания она протянула мне маленький пакет, заботливо упакованный, со словами: «На память от меня». Она не хотела, чтобы я его открыл сразу. Это был очень красивый бумажный коллаж, слегка рельефный, изображающий розы в вазе, с девизом Гертруды Стайн «Роза есть роза есть роза есть роза», с инициалами «Г.С.» заглавными буквами и «А.Т.» строчными. Все было окаймлено кружевом в позолоченной бумаге. Очень красиво и трогательно! Я увез этот драгоценный для меня подарок в Берлин. Мобилизованный в начале войны, я оставил его моей матери, уехавшей в деревню. В 1940 году Гертруды Стайн уже не было в Париже. Маратье сказал мне, что она в свободной зоне[73]. Перед тем как уехать, Гертруда доверила ему дом на улице Кристин. Поручение, с которым он справился очень хорошо.
Вандомская площадь и Театр Елисейских Полей
Спустя несколько дней после неожиданного визита моего друга Маратье я направлялся на Вандомскую площадь, чтобы встретиться в ним в его новой галерее. Он обосновался там недавно, после возвращения с войны, где он был медбратом. После поражения Жорж оказался в Арле. Теперь он поселился в доме № 17[74], рядом с отелем «Ритц». Взяв в компаньоны некоего Рене Друина, Маратье вложил в новую галерею всю душу. Чрезвычайно сведущий в своем деле, Жорж организовывал грандиозные выставки — например, выставку Антуана Бурделя, открытую Луи Откёром[75]. Речь на открытии выставки была произнесена Морисом Дени, одним из старых участников группы «Наби», ставшим членом Института Франции. Я не могу не процитировать маленькую часть этой речи, поскольку она соответствовала стилю той эпохи и затрагивала важнейшую для нее тему. Вот что говорит Морис Дени, чтобы представить произведения своего друга Антуана Бурделя: «Это наша древняя галло-романская и христианская почва, это дух Запада — вот что мы видим в мифологии Бурделя. Греки стремились к каноническому совершенству, который скрывал и смягчал упадок их искусства. Бурдель, наоборот, бежит от правил, он перемещает линии, он подчеркивает случайность. Он импрессионист. Он подчиняется лишь логике своего ремесла и остроте своих ощущений». Галерея Маратье, Вандомская площадь (Частная коллекция).
Галерея Маратье, Вандомская площадь (Частная коллекция).
Галерея Маратье была большой и красивой. Широкие окна ее многочисленных залов выходили в небольшой сад отеля «Ритц», где немецкие генералы любили попивать свой кофе. Было видно, как они, совершенно беззащитные, прогуливались с чашками в руках по двое или по трое, рассуждая, несомненно, о важных вещах. Я сказал однажды в шутку Маратье, что его галерея идеально подходит для покушения на высших чинов немецкой армии. Недосягаемые в обычное время, они были здесь видны как на ладони, буквально в нескольких метрах. Моя шутка явно произвела на него впечатление. «Невообразимо!» — прошептал он, хотя вообразить такое покушение, напротив, было очень легко. У Маратье я однажды познакомился с Эдвином Ливенгудом[76], американцем. Интересный человек, он говорил по-французски с очень грубым акцентом. Прожив в Париже достаточно долго для того, чтобы начать рисовать, он быстро осознал отсутствие таланта и стал чем-то вроде тени Маратье, который не только ввел его в свой круг, но и научил ремеслу. Я также познакомился у Маратье с влиятельным бельгийцем по имени Ван ден Клип, разбогатевшим на продаже джутовой ткани. Если я правильно понял, он был в то время озабочен вложением своих денег в произведения искусства, в которых он разбирался не хуже, чем в джутовой ткани. Восприимчивый, как большинство бельгийцев, к живописи, Ван ден Клип преуспел в составлении прекрасной коллекции, ценность которой росла год от года. Ловкий, как дьявол, Эдвин Ливенгуд смог не только продать ему множество картин, но и жениться на его очаровательной дочери Кристелле. Благодаря финансовой помощи тестя Ливенгу-ду удалось открыть прекрасную галерею на улице Изящных искусств, но в 1941 году с ним случилась беда — его интернировали (очевидно, в лагерь рядом с Компьеном). Эдвин ничего не имел против немцев, но был американским гражданином. С 11 сентября 1941 года Германия объявила войну Соединенным Штатам, и все американцы во Франции и Наварре были помещены за решетку. И вот я снова направляюсь к отелю «Мажестик», в штаб-квартиру немецкого командования. У меня уже был некоторый опыт освобождения французов, а со временем я приобрел даже все необходимые навыки для этого. Ливенгуд был американцем, и я поначалу не знал, как взяться за дело. Тем не менее мне удалось добиться его освобождения. Маратье, который очень любил Ливенгуда, был счастлив, что все закончилось хорошо. Я знаю, трудно представить спустя десятилетия после войны, что все получалось так легко, что немцы освобождали людей по простой просьбе офицера моего звания. Но так было, ничего не поделаешь. Я рассказываю только о том, что я пережил, видел, слышал. Итак, счастливый Маратье потащил меня за пределы галереи, чтобы показать красивый частный отель, расположенный на Вандомской площади по соседству с «Ван Клиф и Арпельс»[77]. Он вел переговоры (не знаю, с кем), чтобы открыть огромную галерею на нескольких этажах. Здание было совершенно пусто. Большие ворота открывались во двор, мощенный мраморной плиткой. Фасад, украшенный четырьмя коринфскими колоннами, должно быть, относился ко времени Людовика XV. Величественная лестница вела на первый этаж вестибюля, выходившего к большим залам, идеальным для выставок полотен. Не видя причин, по которым немецкие власти могли бы препятствовать этому начинанию, я поздравил друга с прекрасной находкой. Так галерея Жоржа Маратье переехала из дома № 17 на Вандомской площади в дом № 20. Первая выставка в новом помещении была посвящена Эдуарду Вюйару, умершему в Ля Боле в 1940 году. Маратье и Вюйар были очень близки. Его лучший друг и однополчанин Жак Руссель был сыном художника К.-К. Русселя, друга Вюйара с детства: они учились в одном классе в лицее Кондорсе. Это Руссель убедил Вюйара, почти против его воли, поступать вместе с ним в Академию изящных искусств Парижа. Оба с легкостью поступили туда, но затем покинули это прославленное заведение, которое они находили замшелым и покрытым пылью, ради Академии Жюлиана, где они встретили Боннара, Мориса Дени и Гогена. Дружба между Вюйаром и Русселем стала еще более крепкой, когда первый женился на Мари, сестре второго. Лучший друг Жоржа Маратье был, таким образом, племянником Вюйара. После смерти Вюйара, у которого не было детей, все его наследство перешло к его любимой сестре и Русселям, чья семья постепенно увеличивалась. Как эксперт, приглашенный для того, чтобы справедливо поделить наследство, Маратье был очень озабочен этим обстоятельством. Тем же самым ему пришлось заниматься и после смерти К.-К. Русселя в 1944 году. Несмотря на войну и Оккупацию, великолепная выставка Вюйара имела большой резонанс. Надо сказать, что Маратье превзошел самого себя. Картины были наилучшим образом выбраны и превосходно размещены. Вдохновленный огромным успехом, Маратье перешел к подготовке не менее грандиозной выставки К.-К. Русселя, которому к тому времени было 78 лет. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы представить публике картины без согласия самого мэтра. Он был приглашен за два или три дня до открытия, когда все полотна были уже развешаны. Предполагалось, что это будет просто визит вежливости, но Руссель вдруг обнаружил, что ни одна его картина не подписана. Взрыв хохота! Что делать? Мэтр был уже слишком стар для того, чтобы карабкаться по лестнице с кистью в руках. — Жак, — сказал неожиданно Руссель своему сыну, — вы будете участвовать в конкурсе подписей вместе с Жоржем. Тот, кто выиграет, получит право подписать мои картины. Сказано — сделано. Мы замерли. Под одобряющим взглядом Русселя его сын и хозяин галереи какое-то время упражнялись на клочке бумаги. Маратье победил и, таким образом, получил право поставить на картинах подпись «К.-К. Руссель», что он и сделал, хотя и совершил при этом несколько явных ошибок.
 Второй этаж галереи Маратье с картиной К.-Х.Русселя в глубине (Частная коллекция).
Второй этаж галереи Маратье с картиной К.-Х.Русселя в глубине (Частная коллекция).
Мало кто знает об этом забавном эпизоде. Я видел экспертов, оценивающих подписи с помощью лупы, но полотна Русселя, подписанные Маратье, никогда не вызывали сомнений. Некоторые из них даже находятся в национальных музеях. Как-то раз я с удивлением узнал, что Маратье был в Propagandestaffel, но не для того, чтобы повидать меня. Едва я успел удивиться этому, как Жорж уже открывал дверь моего бюро. Явно взволнованный, он сказал мне, что место директора Театра Елисейских Полей свободно и он хочет его занять. Жорж всегда мечтал быть директором театра и говорил, что когда-нибудь настанет благоприятный момент. Он уже встретился в нашем учреждении с лейтенантом Франком, моим коллегой, который отвечал за театральную жизнь Парижа. Немецкие власти реквизировали Театр Елисейских Полей, поэтому все зависело от Франка. Маратье решил, что достаточно лишь постучать в нужную дверь. Однако, будучи существом агрессивным, закомплексованным, полным противоречий, Франк резко ответил: «Нет!» Я объяснил Маратье, что до войны Франк был человеком неприметным, без размаха, страдал от комплекса неполноценности. Этим объяснялась его грубость — сестра жестокости. Ограниченный нацист, он считал себя, в силу своего невежества, всемогущим повелителем парижских театров. Маратье должен был сначала прийти ко мне. Но что сделано, то сделано. Теперь надо было запастись терпением. Я подождал несколько дней, не больше недели, перед тем как взяться за Франка. Не в его бюро — там он чувствовал себя на вершине власти и был слишком самоуверен. Я обратился к нему в столовой, за обедом. Как бы между прочим я спросил, чем ему не нравятся торговцы картинами. Франк не был идиотом и тотчас понял, куда я клоню. — Тем, что они занимаются живописью, а не театром! — ответил он сухо. Я попытался ему объяснить, что живопись и театр имеют много общего и пустился в рассуждения, порой сам не слишком хорошо понимая, что говорю. Кальвадос помогал. Франк слушал меня, расслабляясь все больше и больше. Наша беседа затянулась до конца обеда. Поскольку надо было вернуться к работе, я спросил, что ему дало то, что он сказал Маратье «нет». Он размышлял несколько секунд, перед тем как ответить в своем обычном стиле: «Да ничего, просто вы мне осточертели...» — Скажите ему «да», — нажимал я, — и я не буду вам больше надоедать! — Я вас очень люблю, Ланге, — ответил он мне, улыбаясь, — но вы невыносимы с вашими французами! Ладно, идите, согласен. Ваше здоровье, тем не менее! Мы опорожнили стаканы залпом, что явно означало: наш договор был скреплен печатью. Я пошел с этой доброй вестью на Вандомскую площадь. Маратье не хотел мне верить. Он был без ума от радости! Речь, которой я так хорошо заморочил Франка, была не просто сотрясением воздуха; даже наиболее туманная ее часть содержала истину — в том, что касалось Театра Елисейских Полей, по крайней мере. Просто потому, что это святилище комедии и музыки было возведено, украшено, вскормлено чередой великих художников, начиная с архитекторов Августа и Клода Перре[78], работавших по проекту Генри Ван де Вельде[79]. Они сделали фасад очень скромным, но увенчали его блестящей фреской Антуана Бурделя, изображающей Аполлона и муз. Три зала были украшены работами великих художников: там были фрески Бурделя и картины Вюйара, потолок расписывал Морис Дени, а над занавесом потрудился К.-К. Руссель. Наделенный превосходной акустикой, большой зал был, конечно, полностью отдан музыке и танцу. «Русские балеты» Сергея Дягилева, Павлова[80], Шаляпин, Тосканини[81] навсегда остались в истории театра. Маратье пришел в переломный момент. Он тщательно подготовил церемонию открытия. Премьера была намечена на 1 апреля 1943 года. Речь идет об исторической пьесе «Оставшийся в живых» Жан-Франсуа Ноёля, сюжет которой связан с жизнью Шарля Темерера, герцога Бургонского. Я помню тот день, как будто он был вчера. Постановка была доверена Раймону Руло[82], главные мужские роли исполняли он сам и великолепный Серж Реджиани[83], главные женские роли — Мишель Альфа и Сюзанна Флон[84]. Это был триумф! Жорж Маратье хорошо делал все, за что бы ни брался. Надо признать, что парижские театры процветали во время Оккупации: полные залы, великие актеры, прекрасные произведения.
Майоль в Баньюльсе
«Аустерлиц» — это слово звучало странно для человека, выросшего в Германии. Час славы для Франции, поражение Австрии, оккупация Вены наполеоновскими войсками... Но в 1942 году оккупирован был Париж, а я, офицер немецкой армии, одетый в гражданское, садился на вокзале Аустерлиц в поезд, который должен был увезти меня на юг, в свободную зону. В то время мы ожесточенно работали над большой выставкой Арно Брекера. В 1927 году он жил и работал в Париже, где на его творчество оказали большое влияние скульптуры Аристида Майоля. Узнав об этом, я решил поехать к Майолю, чтобы попросить у него его работы для вернисажа. В начале войны Майоль удалился в Баньюльс, свой родной город, расположенный в свободной зоне. Сделав свое расплывчатое предложение, я объяснил руководству: Майоль никогда не согласится приехать, если только я не поеду в Баньюльс, чтобы пригласить его лично. На самом деле (хотя я и не знал об этом) Майоль мог бы согласиться приехать в Париж и без моего визита. Истинная причина моих ухищрений была в том, что я мечтал пересечь демаркационную линию и увидеть жизнь в свободной зоне. Может быть, я искал довоенную Францию, которую так любил. Будучи военным, я должен был не только совершить это путешествие в гражданской одежде, но еще и получить разрешение правительства Виши. Оформить для меня документы удалось лично Бринону[85]. Я ехал в скором поезде. Удобно устроившись, я ничем не отличался от обычного штатского, едущего на юг, в отпуск. Меня окружали мирные люди, и мне вдруг показалось, что нет ни войны, ни Оккупации. Чтобы выиграть время, я выбрал ночной поезд, который следовал через Орлеан. Переправа через Луару была великолепной, искрометной. Затем, перед пересечением демаркационной линии, мы остановились во Вьерзоне: немецкая полиция проверяла документы, удостоверяющие личность, и разрешения на въезд. Я заметил беспокойство на лицах французов. Капрал, который проверял наше купе, посмотрел на меня недоумевающе: немец, едущий на «другую сторону»? Он, должно быть, находил это странным. Остановка не было слишком долгой. Я ожидал большей назойливости, копания в вещах, вопросов. Ничего подобного! Все прошло, как если бы мы пересекали границу в мирное время. Таким образом, скоро поезд уже мчался по свободной зоне: Лимож, Каор, Монтобан. День стал заниматься только после Тулузы. Очень долгая остановка была в Нарбонне: выходило множество пассажиров с сотнями сумок и чемоданов. Перрон напоминал улей: он кишел бегущими и кричащими людьми. Затем мы миновали Перпиньян, Коллиук, Пор-Вандр и, наконец, добрались до Баньюльса. Аристид Майоль в Баньюльсе, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Аристид Майоль в Баньюльсе, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Дом Майоля был расположен наверху, слева от пляжа. К нему можно было пройти мощеной улочкой, круто поднимающейся между старыми домами. Было тепло и солнечно. Наверху справа деревянная дверь открывалась на крутую лестницу с каменными перилами, которая вела в сад с большими деревьями и к розовому дому с зелеными ставнями — цели моего путешествия. Семья Майоля была в полном составе. Все собрались в зале: Аристид, его жена Клотильда и их сын Люсьен. Аристид посчитал необходимым сходить за бутылкой 6аньюльского вина, и мы выпили, как старые друзья после разлуки. Стояла такая прекрасная погода, что оставаться в доме было преступлением. Мы остановились на площадке лестницы, откуда открывался прекрасный вид на крыши старого Баньюльса с холмами Альбера на заднем плане. Я тотчас воспользовался этим, чтобы исполнить поручение моего друга Рюдье, который продал в Париже большую статую Майоля и не успел передать причитающиеся ему деньги — весьма значительную сумму. Движение денег между двумя зонами не было свободным, поэтому я предложил себя в качестве курьера, не вполне отдавая себе отчет, к чему это могло бы привести в случае досмотра или обыска в поезде. Спекуляция валютой строго наказывалась, но я об этом даже не подумал; все прошло хорошо, и я передал адресату посылку — огромный пакет с банкнотами. Я не знал даже, сколько денег перевозил. Вино подействовало благотворно — беседа завязалась легко, и мы вскоре перешли к вопросу, где мне остановиться. Майоль сказал, что в это время невозможно найти комнату. Баньюльс — город рыбаков, туристы сюда приезжали редко, поэтому отелей было немного. После появления «двух Франций» в них обосновалось много людей, женщин с детьми; город был переполнен, объяснял мне Майоль. — Я нашел выход, — сказал он. — Дина[86] на некоторое время уехала, ее квартира свободна. Люсьен вас проводит. Идите, не задерживайтесь, потом вернетесь, будем завтракать. В полдень дом Майоля благоухал душистыми травами. Клотильда была настоящей мастерицей по части кулинарии. Столовую украшал портрет Люси, тетушки Майоля. Дом, в котором мы находились, принадлежал ей, и Аристид нарисовал эту картину уже давно. Майоль не имел привычки беседовать после еды или соблюдать сиесту, как это было принято на юге. Не обращая внимания на других, он усаживался в свое кресло и принимался читать. Воспользовавшись передышкой, ибо отец любил главенствовать в разговоре, Люсьен потащил меня в сад. Он хотел узнатьпарижские новости, ему недоставало столичной жизни. Но мы недолго были одни. Если Майоль рядом, оставаться долго наедине невозможно. Активный, деятельный, он хотел постоянно что-то организовывать, вовлекать других. Едва мы вышли, как Майоль присоединился к нам с корзиной, наполненной инжиром из сада. — Ешьте, мальчики, — сказал он. — Я их собрал специально для вас. Потом пойдем в мастерскую. Мастерская располагалась под землей, в естественном склоне земельного участка. Пройти туда можно было через сад. Вход находился прямо перед фиговыми деревьями, божественные плоды которых мы только что попробовали. Комната походила на подвал, стена которого была продырявлена, чтобы туда проникал через фильтр листьев приглушенный свет из сада. Напротив входа в скалистом склоне была видна дверь, ведущая в винный погреб. «Ключ хранится у моей жены», — сказал мне Аристид, подмигивая. Напротив окна стояла неоконченная гипсовая скульптура. «Я работаю над статуей Дины, — сказал Майоль. — Нужно еще много сделать. У девушки пока нет рук. Я предпочитаю работать с гипсом. Лучше видны детали, и потом можно больше добавить или убрать. Посмотрите: мне удалось поставить левую ногу, просто толкая ее вперед. Я очень люблю этот материал, хотя литейщикам не нравятся большие гипсовые статуи. Они считаются слишком хрупкими. Правда, были случаи, когда мне приходилось восстанавливать мои работы по кусочкам. Теперь я очень внимателен». Не будучи болтуном, Майоль говорил много, но слушать его всегда было увлекательно. Для меня, во всяком случае. Находясь с ним в его мастерской, я чувствовал себя избранным. Внезапно он прекратил говорить и нагнулся, чтобы подобрать с земли длинную острую пилу. Что-то на бедре девушки его явно не устраивало. Он поскреб это место пилой, потом смешал на краю деревянной дощечки немного гипса с водой, чтобы выровнять испорченное место шпателем, потом рукой. Это было волшебство!
 Аристид Майоль с пилой за работой над статуей Гармонии. Баньюльс, 1942 г. Снимок Вернера Ланге. (Частная коллекция).
Аристид Майоль с пилой за работой над статуей Гармонии. Баньюльс, 1942 г. Снимок Вернера Ланге. (Частная коллекция).
Люсьен, недовольный тем, что не удалось закончить разговор, после посещения мастерской увлек меня на прогулку в порт, уверенный, что отец не отправится за нами. Мне нравились небольшие порты, и я последовал за ним с удовольствием. Тем более, что я никогда не видел великодушно подаренный родному городу Майолем «Памятник мертвым», который находился в порту, на скале над морем. В городе было действительно очень много людей. Они громко говорили, кричали, повсюду бегали дети. Мы решили укрыться в бистро недалеко от пляжа. Хозяин бистро, приятель Люсьена, принимал сообщения для Майоля, когда ему звонили. Наступило время аперитива. Поговорить с глазу на глаз с Люсьеном было весьма кстати для меня, ибо я нуждался в его советах. Майоль еще не знал, что я приехал для того, чтобы уговорить его участвовать в выставке Арно Брекера. Люсьен находил идею хорошей. Он считал, что «старик» будет счастлив вновь увидеть Париж, особенно свой дом в Марли-ле-Руа, который он не видел с начала войны. Люсьен полагал, что помешать может только его мать. Сам я думал, что Клотильда во всем подчиняется Аристиду и, кроме того, как все женщины, любит парижскую жизнь. Видно, я ошибался. Люсьен был убежден, что надо сначала уговорить ее. Если это удастся, победа обеспечена.
 Баньюльс, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Баньюльс, 1942 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
В это время мы увидели входящие в порт баркасы, полные свежей, только что пойманной рыбы. Как устоять перед таким соблазном? Мы решили пообедать в порту, чтобы быстрее вернуться. После ночи, проведенной в поезде, я устал и думал лишь о том, как бы поскорее добраться до постели. Хорошо отдохнув, я направился на следующий день с утра к розовому дому. Майоли настаивали, чтобы мы позавтракали вместе. Я вошел прямо в кухню через зеленую дверь, где был накрыт очень красивый стол. Увидев меня, Клотильда воскликнула: «Так это правда: скоро мы увидим Париж?» Люсьен хорошо поработал, мне ничего не надо было делать. Поскольку Аристид не завтракал, я нашел его позже в зале. Он сидел в большом ротанговом кресле и читал. «Встреча с графом Гарри Кесслером[87], — сказал мне Аристид без обиняков, — была большой удачей в моей жизни. Какой вкус, какой интеллект!» Человек необыкновенно богатый, скончавшийся за несколько лет до начала войны, Гарри Кесслер собрал в своем доме в Веймаре, городе Гёте, впечатляющее количество шедевров. Кесслер обожал Францию. Восприимчивый к современным художественным направлениям, столицей которых был Париж, он бывал в нем часто и подолгу. Окруженная легендами, таинственностью, фигура графа Кесслера очаровала весь Париж. Он был окружен всеобщим вниманием. Поговаривали, что он внебрачный сын кайзера[88]. Еще больше, чем живописью, граф был увлечен скульптурой. Его часто видели у Родена. В 1942-м мне исключительно повезло — я встретился с Хелен фон Ностиц[89] и слышал ее рассказы о вечерах в Медоне, где она играла Бетховена для Родена и Кесслера. Майоль был тогда слишком молод и мало известен, чтобы быть принятым в культурную элиту. Но Кесслер, который увидел у Воллара его работы из терракоты, был так впечатлен, что захотел во что бы то ни стало показать их Родену. Он был очень настойчив, и Роден приехал специально для того, чтобы их увидеть (невероятное событие!). Эти маленькие скульптуры Майоля так напомнили Кесслеру Грецию, что он решил подарить молодому художнику путешествие в Элладу, к истокам скульптуры. Об этом путешествии, которое во многом определило его судьбу, Майоль рассказал мне во всех деталях. Прибыв в порт Пирей, он тотчас же почувствовал себя как дома — настолько ему напомнило то, что он увидел, родную Каталонию. Кесслер говорил, что зерна, посеянные в античности, взошли в Майоле. Он считал, что Майоль творит с тем же чувством, что и древние греки. После Греции Кесслер отправил его посетить (вернее, изучить) Англию, а затем Германию. Закончив рассказывать обо всем этом, Майоль достал из ящика листок бумаги и протянул мне. Эту бумагу он сделал сам для своих сангин и гравюр. Бумага, которая была в продаже, даже самая дорогая, ему не нравилась. Он делал ее сам, по-старинному, с нитями шифона. — Видите этот лист? — сказал мне он. — Такой же я послал графу Кесслеру в Веймар. Знаете, что он сделал? Он произвел множество таких листов! Кесслер мог себе позволить все. Ему принадлежал издательский дом, и он, таким образом, имел возможность оценить присланную бумагу. Для производства бумаги Майоля он построил мануфактуру недалеко от Марли, в Монвале. Главой предприятия стал племянник Майоля Гаспар. Кесслер не ошибся, считая бумагу Майоля уникальной по качеству: ее использовали только для наиболее редких и дорогих изданий, например, для великолепного тома «Эклогов»[90] Вергилия, иллюстрированного гравюрами Майоля. Клотильда прервала эти восхитительные разглагольствования Майоля за бутылкой доброго баньюльского вина. Приближался час завтрака. Заметив, что говорили о Монвале, Клотильда воскликнула: «А, опять эта сумасшедшая история, которая меня раздражает!» Ее рассказ был действительно невероятен. Граф Кесслер, которому были известны все секреты немецкой дипломатии, знал, что между Францией и Германией скоро будет война[91], и решил предупредить об этом своего друга Майоля. Чтобы не разглашать государственную тайну, он послал в Марли телеграмму из трех слов: «Закопайте ваши статуи». Майоль закопал некоторые из статуй в саду. Не понимая, что происходит, соседи нашли это странным. Майоль был для многих «другом фрицев». Взбудораженные горожане решили, что он закопал в саду пулеметы, а в гипсовых статуях спрятал военные планы. Что касается бумажного производства в Монвале, оно, несомненно, должно было стать базой для бомбардировок Парижа. Толпа подожгла мануфактуру, она сгорела полностью. Вооруженные солдаты патрулировали Марли. Майоль рисковал быть не только арестованным, но даже убитым разъяренной толпой. «Патриоты» захватили его дом и пытались обнаружить военные планы в переписке между Майолем и Кесслером. Она касалась проектов издательства, в которых «патриоты» ничего не понимали. Короче, дело могло зайти очень далеко, если бы Клемансо лично не вмешался и не положил конец всеобщему психозу. Это произошло, увы, слишком поздно. Прославленная мануфактура в Монвале стала грудой пепла и не могла быть восстановлена. — Идите есть, — позвала Клотильда. — Пулеметов у нас нет, зато имеется отличное жаркое, прямо из печи. На следующий день после полудня Майоль проводил меня на вокзал. На перроне он отдал мне сумку, наполненную виноградом, и каравай свежего хлеба со словами: «С этим вы не умрете от голода». Это было очень трогательно. В глубине души он так и остался крестьянином. У меня не лежала душа так быстро покинуть юг Франции. Я был в свободной зоне, надо было использовать это. Недолго думая, в Нарбонне я пересел на поезд до Марселя. Прибыв туда поздно вечером, я снял комнату в дешевом отеле, напротив вокзала Сен-Шарль. Встав на заре, я провел целый день, бродя по городу. Полностью измотанный в конце дня, я уселся за стол на террасе у Бассо, в ресторане на Бельгийской набережной. В ожидании своего буйабес я заказал аперитив. Едва успел сделать глоток, как какой-то человек вежливо спросил разрешения присоединиться ко мне. Его немецкий был окрашен сильным берлинским акцентом. Удивленный, я решил сначала, что меня узнали или выследили, но быстро забыл о своем подозрении, ибо человек оказался словоохотливым, он был явно счастлив от возможности говорить на родном языке, излить душу. Это был известный берлинский коммерсант, еврей. К счастью, он успел покинуть Германию в самом начале войны и оказался во Франции. Сначала в Париже, потом в свободной зоне. Выбитый из колеи, он никак не мог ни осознать, что с ним произошло, ни свести концы с концами. Он тосковал по родине, чувствовал себя потерянным, дезориентированным. У меня, незнакомца, он спрашивал совета. Я был взволнован и, разумеется, тронут. Конечно, я не мог открыть ему, что являюсь офицером вермахта. Чтобы не напутать его, я сказал, что сам нахожусь в похожей ситуации и бежал из Германии из-за своих политических убеждений. Кажется, он мне поверил. Я предложил ему буйабес, он с радостью принял угощение, и мы провели чудесный вечер в воспоминаниях о берлинской жизни до 1933 года. Это был первый и последний еврейский беженец, которого я повстречал за всю войну. На следующее утро я сел в поезд до Ниццы. Поезд шел вдоль берега, и я любовался восхитительными видами. В Ницце я остановился в отеле «Руаяль»[92], в очень красивой комнате с большим балконом с видом на Английский променад. Чтобы искупаться, мне надо было только перейти дорогу.
 Вернер Ланге в Ницце, 1942 г. (Частная коллекция).
Вернер Ланге в Ницце, 1942 г. (Частная коллекция).
За Английским променадом следовал променад Соединенных Штатов, где, к моему удивлению, я увидел американских солдат, охранявших консульство США. Находясь в Ницце, я не мог не зайти в казино рядом со Средиземноморским дворцом. Чтобы я попал туда, на мое имя оформили «карту легитимности», со штемпелем. Я хранил ее всю войну. Тремя годами позже я оказался, к моему несчастью, в окруженном русскими Берлине. Укрывшись в одном из кварталов на южной окраине, я сменил свою офицерскую форму на сутану священника. Мои военные документы, удостоверение личности — все сгорело, осталась только эта карта казино Ниццы. Произошло то, что должно было произойти. Война закончилась. В один прекрасный день я был задержан русским патрулем. Обычный дурацкий контроль. Унтер-офицер, сержант или капрал, не знаю, кем он был, с горем пополам задавал мне вопросы на немецком, более чем приблизительном. Я протянул ему мою карту казино Ниццы, единственный документ, который у меня остался, сказав, что был угнан в Германию как французский рабочий и пытаюсь вернуться домой в Ниццу. Я говорил по-немецки очень медленно, стараясь делать ошибки. Это подействовало. Выслушав мою речь, русский угостил меня сигаретой и сказал: «Доброго возвращения во Францию». Я счастливо отделался. Если бы он узнал, что я был переодетым немецким офицером, меня бы арестовали и я бы закончил свои дни в лагере на окраине России. Карта казино, таким образом, спасла мне жизнь. Вернувшись в Париж, я объяснил свое долгое отсутствие тяжелым характером Майоля: «трудно поддается», «невозможно переубедить» и т.д. На самом деле Аристид и Клотильда согласились сразу, единственное их беспокойство было связано с переездом из свободной зоны в оккупированную. Они боялись трудностей и хлопот, хотя все было намного проще, чем они представляли. Согласившись приехать в Париж, Майоль поставил лишь одно условие: «Приезжайте нас встречать лично, со всеми документами, чтобы нам этим не заниматься». Конечно, я с радостью согласился. Между тем подготовка к выставке Брекера была в самом разгаре. Все шло хорошо, хотя новые трудности появлялись каждый день. Я был, если так можно сказать, на переднем крае и поэтому не мог отсутствовать несколько дней без всяких объяснений. Перед тем как поехать к Майолю, я уведомил об этом моего шефа, лейтенанта Люхта, и другой офицер Propagandastaffel занялся моей работой, по-моему, очень интересной.
 Вернер Ланге (в форме, слева) сопровождает Аристида и Клотильду Майолей на открытии выставки Арно Брекера в Оранжери. Париж, 1942 г. (Частная коллекция).
Вернер Ланге (в форме, слева) сопровождает Аристида и Клотильду Майолей на открытии выставки Арно Брекера в Оранжери. Париж, 1942 г. (Частная коллекция).
В день приезда Майолей я встретил их на вокзале Аустерлиц в сопровождении Мимины Брекер[93]. Propagandastaffel забронировала для них прекрасные апартаменты на втором этаже «Клариджа», с великолепным видом с балкона на Елисейские Поля. Знаменитая пара оказалась в центре всеобщего внимания — и французов, и, особенно, немцев. В их честь были устроены приемы, один из них был дан Отто Абецем в отеле «Богарне».
 Вступительное слово Абеля Бонара, министра образования, на открытии выставки произведений Арно Брекера в Оранжери, сад Тюильри. В первом ряду слева направо: Мимина Брекер, Арно Брекер, Фернан де Бринон, генерал Барг Хаузен, гауляйтер Фриц Сокель, посол Отто Абец. Во втором ряду между Миминой и Арно Брекерами можно видеть Сержа Лифаря и Жана Кокто (Частная коллекция).
Вступительное слово Абеля Бонара, министра образования, на открытии выставки произведений Арно Брекера в Оранжери, сад Тюильри. В первом ряду слева направо: Мимина Брекер, Арно Брекер, Фернан де Бринон, генерал Барг Хаузен, гауляйтер Фриц Сокель, посол Отто Абец. Во втором ряду между Миминой и Арно Брекерами можно видеть Сержа Лифаря и Жана Кокто (Частная коллекция).
В день открытия выставки[94] Аристид попросил меня устроить так, чтобы он был как можно менее заметен. Он не хотел находиться ни в числе почетных гостей, ни среди «официальных представителей». Его не было на первом плане рядом с Арно и Миминой Брекер, Бриноном, Бенуа-Мешеном[95], генералом Баркхаузеном, Отто Абецем, Сержем Лифарем, Жаном Кокто и другими знаменитостями, принявшими участие в мероприятии. Инаугурационную речь Абеля Боннара[96] он слышал издали. Пребывание в «Кларидже» было неприятно для Майоля: слишком много визитов и просьб. Он решительно хотел вернуться домой, удержать его было невозможно. Я проводил его и Клотильду до демаркационной линии. Мы попрощались во Вьерзоне.
 Вильгельм Кемпф и Альфред Корто, концерт 15.05.1942 г. в честь открытия выставки произведений Арно Брекера в Оранжери, сад Тюильри (Частная коллекция).
Вильгельм Кемпф и Альфред Корто, концерт 15.05.1942 г. в честь открытия выставки произведений Арно Брекера в Оранжери, сад Тюильри (Частная коллекция).
 Арно Брекер, Шарль Деспьё, Аристид Майоль и Луи Откёр на открытии выставки Арно Брекера в Оранжери. Париж, 1942 (Частная коллекция).
Арно Брекер, Шарль Деспьё, Аристид Майоль и Луи Откёр на открытии выставки Арно Брекера в Оранжери. Париж, 1942 (Частная коллекция).
Арно Брекер в Баньюльсе (октябрь 1943 года)
Очень талантливый портретист, Брекер задался целью сделать бюст Майоля. Поскольку он не мог попросить его позировать в Париже, а тем более в Германии, ему осталась одна возможность: отправиться в Баньюльс. В 1943 году свободная зона больше не существовала. Брекер тщательно готовился к этому визиту. Он решил поехать в Каталонию на машине и... попросил меня сопровождать его. Отказать Брекеру тогда не мог никто и ни в чем. Я сел в поезд на Мулхаус, где мы должны были встретиться. Машина Брекеров была сильно нагружена, много места занимал ящик с черновым вариантом бюста Майоля, сделанным по фотографии. Белфорт, Безансон, Арбуа, Лорс-ле-Сонье, пересечение Роны возле Сен-Жени-ан-Савуа, а затем Гренобль, где мы на время остановились. Это объяснялось тем, что Рене д’Укерманн[97], который занимался книгой Арно Брекера О скульптуре, опубликованной издательством «Фламмарион» по случаю его парижской выставки, пригласил Брекеров провести несколько дней у него в Ля Тронш, рядом с Греноблем. Красивое имение принадлежало раньше художнику Эберту[98]. Оно состояло из двух зданий, соединенных галереей, с крыши террасы которой открывался прекрасный вид на Альпы. Внутри было много картин Эберта и ценных предметов искусства. Д’Укерманн имел обыкновение проводить лето в этом имении. Я его знал, поскольку помог ему однажды оформить пропуск, когда Гренобль еще был в свободной зоне. Когда мы приехали, нас встретил не только Рене, но также Клод, младший сын Анри Фламмариона. Арно Брекер, Рене д’Укерманн и Клод Фламмарион в Ля Тронше. Октябрь 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Арно Брекер, Рене д’Укерманн и Клод Фламмарион в Ля Тронше. Октябрь 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Известный человек в этих местах, наш хозяин пригласил на завтрак префекта и его помощника. После еды, устроившись на террасе среди апельсиновых деревьев, мы внезапно услышали сильный взрыв. Смущенный, префект сказал: «Они взорвали военную технику». Под словом «они» подразумевались участники Сопротивления. Страна кишела ими. Я объяснил это Брекеру.
 Рене д’Укерманн, Мимина Брекер, префект Изера, Арно Брекер и Клод Фламмарион в Ля Тронше. Октябрь 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Рене д’Укерманн, Мимина Брекер, префект Изера, Арно Брекер и Клод Фламмарион в Ля Тронше. Октябрь 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Будучи в этом регионе, мы не могли не посетить монастырь Гранд Шартрез. Чтобы сократить путь, мы решили рискнуть и поехать через Альпы, дорогой Наполеона, до Гапа. Арно Брекер выбирал маршрут в зависимости от достопримечательностей, которые стоило увидеть, и мест, которые надо было посетить. После Гапа это были Ньон, Оранж, Авиньон, Ним, Монпелье, Безье, Перпиньян и Порт-Вандр. Я уведомил Брекеров о трудностях с ночлегом в Баньюльсе, особенно для нескольких человек, и мы решили остановиться в Порт-Вандр, в нескольких минутах езды на машине от дома Майоля. На следующий день, позавтракав, мы поспешили в Баньюльс. Наше прибытие в розовый дом вызвало взрыв радости у всех. Едва мы устроились, едва завязалась беседа, как Майоль уже потащил Брекера в подвал, в свою мастерскую, где находилась незаконченная гипсовая Гармония. Я помог Брекеру перенести его ящики с начатым бюстом, чтобы он мог начать работать. Сеансы начались на следующий день утром. Майоль позировал, стоя перед окном своей мастерской, без свидетелей. Не было даже речи о том, чтобы их беспокоить. Все же я это сделал однажды по просьбе Клотильды, которая сказала мне голосом, не терпящим возражений: «Сходите за нашими мужчинами: время садиться за стол». Превосходный кулинар и чрезвычайно гостеприимная женщина, мадам Майоль настояла, чтобы мы обедали у нее в течение всей работы над портретом. Итак, я спустился в пещеру позвать мужчин к столу и воспользовался этим, чтобы сделать несколько фотографий, которые стали единственными документальными свидетельствами этой работы Брекера.
 Аристид Майоль позирует Арно Брекеру. Слева — статуя Гармонии. Баньюльс, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Аристид Майоль позирует Арно Брекеру. Слева — статуя Гармонии. Баньюльс, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Сеансы длились долго, а никаких дел у меня не было. Выручал автомобиль. Мы ездили в Испанию, а однажды втроем (Мимина Брекер, Люсьен и я) нанесли визит Раулю Дюфи, который жил в Перпиньяне с начала войны. Он обосновался на первом этаже, на улице ля Гар. Помещение было не очень большое, с маленькой комнатой, приспособленной под мастерскую. Мы встретили Дюфи, когда он возвращался из деревни возле Тулузы с большой папкой, полной рисунков на сельские темы.
 Арно Брекер за работой над бюстом Аристида Майоля. Баньюльс, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Арно Брекер за работой над бюстом Аристида Майоля. Баньюльс, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Наконец бюст был закончен. Брекер позвонил Рюдье, который выслал своего рабочего-формовщика в Баньюльс, чтобы сделать слепок на месте. Не знаю, как Брекер (он никогда не говорил об этом), но Майоль был очень доволен результатом. Мы готовились к возвращению домой, когда, к нашему изумлению, Майоль попросил Брекера взять его с собой под предлогом того, что его литейщик выставил на продажу без его согласия головы Трех граций и он хотел поскорее «все это» прояснить. В действительности (я узнал об этом позже) его беспокоила судьба его модели, Дины, от которой у него уже давно не было известий. Брекер сначала колебался по причине преклонного возраста Майоля, но Аристид сильно настаивал, и в день отъезда в автомобиле стало на одного человека больше. Первая остановка — Каор. Центр Сопротивления. Надо было проявлять исключительное внимание, чтобы не оказаться в машине вместе с бомбой. Я строго запретил шоферу открывать рот: он не знал ни слова по-французски. Большой обеденный зал в отеле был заполнен людьми, похожими на подпольщиков. Я уверен, что это были подпольщики. Мы пообедали быстро, мало говорили за едой. Следующая остановка — в Блуа. И, наконец, — Париж, куда мы прибыли живые и здоровые. Брекеры, по своей привычке, остановились в «Ритце». Майоля я отвез в «Линкольн», мое обычное жилище, так как он пожелал остаться вместе со мной. Каждое утро я готовил хороший кофе, выходил в кафе напротив за круассанами, и мы завтракали. Майоль рассказывал о своих любовных приключениях, многочисленных, но без продолжения, и о свирепой ревности жены, которая даже прогоняла его моделей.
 Клотильда Майоль и Мимина Брекер, Баньюльс, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Клотильда Майоль и Мимина Брекер, Баньюльс, 1943 г. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
На этот раз ему нравилось в Париже. Когда-нибудь Дина вернется, говорил он, он закончит Гармонию, приведет в порядок свое творение, отсортирует оттиски. В то время как мы завтракали в «Линкольне», Дина была арестована. Конечно, мы об этом не знали. Дина была не единственной заботой Майоля. Уже довольно давно он заказал Рюдье отливку Трех граций, скульптуры, изготовленной между 1936 и 1938 годами, если мне не изменяет память. Три обнаженных фигуры и основание были отлиты по отдельности. Теперь надо было соединить эти части, отсечь лишнее, провести тщательную отделку. Майоль очень хотел присутствовать на этой стадии работы. Рюдье пришел за ним в отель в назначенный день, и мы поехали втроем в литейную мастерскую. Майоль не желал, чтобы свинцовые отливки были покрыты патиной, он хотел, чтобы металл отражал свет. Это требовало особой работы, так как надо было убрать выемки, места соединения и т.д. Когда мы прибыли в Малакофф, Три грации уже были готовы и находились в глубине двора. Свет хорошо отражался; никаких изъянов, стыков, швов не было видно. Заметно удовлетворенный, Майоль обошел вокруг, провел рукой по свинцовым ягодицам граций, указывая Рюдье, где ударить молотом. «Вот прекрасное литье! — сказал он. — Если бы вы знали, сколько у меня было хлопот с этими девушками!» Конечно, нам было любопытно услышать эту историю. По своему обыкновению, работая над большими скульптурами, Майоль делал гипсовые модели. Однажды утром он нашел одну из фигур на полу, разбитую на кусочки. Не падая духом, Майоль принялся снова за работу. Юная девушка вновь встала на прежнее место, ей недоставало лишь рук. Чтобы удостовериться в точности исполнения, Майоль обычно проводил рукой сначала по формам модели, а потом по гипсу. И именно тогда, когда он гладил формы молодой особы, которая позировала ему, внезапно открылась дверь. Это была Клотильда. Разразился скандал! Настолько большой, что модель должна была уехать незамедлительно без лишних слов. В результате третья грация осталась однорукой. Раздосадованный, Майоль сделал руки по памяти, но не был полностью удовлетворен результатом. По правде говоря, после того как три грации были соединены, недостаток не был заметен, однако Майоль стоял на своем: для него руки средней грации были плохо сделаны. И когда Рюдье попросил у него разрешения поставить среднюю девушку в парке его дома в Везинет, Майоль согласился, но при условии, что руки будут отрезаны. Я всегда восхищался этой скульптурой у Рюдье. Майоль был прав, она выглядела лучше без «этих фальшивых рук».
Дина Верни
В Баньюльсе, во время моего первого приезда, я воспользовался квартирой отсутствующей Дины Верни. Я познакомился с ней позже, в Париже, когда она пришла ко мне в дом № 52 на Елисейских Полях, чтобы поделиться своими лучшими воспоминаниями о мэтре. Потом мы проводили много времени вместе: бывали в ресторане «Корнилофф» (хозяин которого служил шеф-поваром еще у Николая II), ездили в Робинсон вместе с моими друзьями Бландо. Но Дина довольно быстро уехала, поскольку была нужна Майолю, чтобы закончить Гармонию. После этого у меня не было вестей от нее. Дина Верни. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Дина Верни. Снимок Вернера Ланге (Частная коллекция).
Однажды, после возвращения из моей поездки в Баньюльс с Брекерами, я нашел в своем кабинете странный конверт, отправленный из Белфорта. Бумага была вырезана в виде круга, исписана мелким почерком, с пятнами от конфитюра. Ошеломленный, я прочел: «Вернер, я в тюрьме во Френе. Скорей спаси меня. Дина». Адрес моего бюро тоже был написан по кругу. Прочитав и перечитав еще раз сообщение, я вздохнул с облегчением. Не потому, что Дина была арестована, а потому, что ее экстравагантное и нелегальное письмо чудом прошло через сети военной цензуры, которая нас тоже контролировала. Дина была родом из России (ее настоящая фамилия была Орлова), но еврейка. Это было плохо. Еще хуже было то, что тюрьма во Френе подчинялась гестапо. Дина могла быть переведена в гестапо в любой момент, если только уже не находилась там. С наивным видом я попытался навести справки на улице Соссэ, надеясь услышать, что Дина арестована за спекуляцию долларами. Я внушал себе, что это не слишком серьезно. Но я себя обманывал: пока я размышлял, что могу предпринять для ее освобождения, лейтенант Люхт вызвал меня, чтобы показать письмо, подписанное самим Гиммлером, суть которого сводилась к тому, что «эта русская еврейка» должна быть ликвидирована. Как добиться освобождения после такого? С хладнокровием, которое меня удивляет до сих пор, я сказал Люхту, глядя ему прямо в глаза: «Герр Люхт, я никогда не читал это письмо и никогда ничего не слышал о его содержании». Люхт опустил голову и ничего не ответил. Письмо явно не предназначалось нижним эсэсовским чинам, которые занимались Диной. Но, с другой стороны, я не мог быть уверен, что Люхт сохранит содержание письма в тайне. Таким образом, надо было действовать быстро. Позвонив снова на улицу Соссэ, я узнал, что Дина как раз на допросе. Зная их методы, я попросил парня не торопиться, сказав ему, что она не так уж хитра, звезд с неба не хватает. Это было неправдой. На самом деле, напротив, Дина была очень умной. Явно забавляясь, мой собеседник внезапно сказал, что, если я хочу ее видеть, мне надо только прийти к нему в бюро. Я не поверил своим ушам. «Прийти ее увидеть» означало «увести ее». Я был уверен в этом. Я попросил моего секретаря тотчас же позвонить Рюдье, Люхту и Майолю, который постоянно находился в отеле «Линкольн», чтобы пригласить их позавтракать на улицу Матиньон, в «Большой ресторан» рядом с отелем «Беркли».
 Дина Верни и Вернер Ланге на терассе здания Propagandastaffel, Елисейские Поля (Частная коллекция).
Дина Верни и Вернер Ланге на терассе здания Propagandastaffel, Елисейские Поля (Частная коллекция).
Прибыв на улицу Соссэ, я поднялся на четыре лестничных марша, по четыре ступени каждый, по лестнице, которая вела в то самое бюро, и столкнулся нос к носу с Диной, с милым и невинным видом сидящей на стуле. — Вы можете забрать эту девушку, герр Ланге, — услышал я. — Мы закрываемся на обед. Завтра вы приедете с ней во Френ разбираться с ее делами! Я официально отдал честь, и мы направились к выходу, ничего больше не спрашивая. Болтушка, Дина начала говорить со мной уже в коридоре. «Заткнись!» — сказал я ей сквозь зубы. Оказавшись на улице, уже можно было разговаривать. Я подумал, что после Френа она явно нуждалась в хорошем завтраке. Мы направились на улицу Матиньон, где присоединились к нашим друзьям. Придя в ресторан, я открыл дверь театральным жестом и впустил Дину внутрь. Все были взволнованы, особенно старый Майоль. Увидев свою любимую модель, о которой у него давно не было известий, бедный человек сильно побледнел. Дина, напротив, как хорошая актриса, играющая к тому же главную роль, не показала никакого волнения. Спокойно, как если бы ничего не случилось, она взяла меню и заказала завтрак, а потом поела с большим удовольствием. На следующий день я был обязан прибыть с ней во Френ. Я не мог уклониться от этого. Под пристальными взглядами эсэсовцев я чувствовал себя не слишком хорошо, однако мои объяснения удовлетворили их, и нас отпустили. Оказалось, что Дина делила камеру с женщиной из Белфорта. Пятнадцать лет спустя я встретил ее в Париже на улице. Она меня узнала. Я боялся, что, один раз легко отделавшись, Дина снова примется за свое. В Париже было много искушений. Мне удалось убедить ее незамедлительно вернуться в Баньюльс. Чтобы быть уверенным, я лично проводил ее на вокзал. В качестве благодарности Майоль подарил мне красивый рисунок лежащей на спине женщины. Это была его прежняя модель, до Дины. Имелось посвящение: «Моему другу Ланге». Дина уехала, он захотел вернуться тоже. Я снова проводил его до Вьерзона. Там мы попрощались, не зная, что это было настоящее прощание, окончательное. Весной 1944 года пришло ужасное сообщение о его смерти: он погиб в автокатастрофе, когда возвращался из Перпиньяна со своим другом, врачом, после визита к Дюфи. Узнав эту новость, Отто Абец сказал, что Майоль был убит участниками Сопротивления из-за своих хороших отношений с немцами. Я никогда не верил в эту версию. Думаю, что использовать имя Майоля в целях пропаганды было бестактно.
Арно Брекер
Как большинство европейских художников, Арно Брекер в юности жил и работал в Париже, точнее, на Монпарнасе. Находясь под влиянием Майоля, он когда-то делал изящные статуэтки, размер которых соответствовал скромным размерам его ателье. Затем ему представился случай провести некоторое время в Риме, где он продолжал формировать свой стиль, перед тем как окончательно обосноваться в Берлине с Миминой, молодой гречанкой, которую он взял в жены. Брекеру особенно удавались портреты (это был его любимый жанр), но он мечтал о крупных, монументальных произведениях и осуществил свою мечту, создав знаменитого Прометея. Он так понравился новому режиму, установившемуся в Германии с 1933 года, что правительство купило эту скульптуру и тотчас заказало другие, предназначенные для украшения Государственной канцелярии Третьего рейха, которую должен был построить и построил Альберт Шпеер. В этом огромном здании, возведенном на улице Восс, все было слишком большим. В его неоклассическом, диспропорциональном стиле проглядывало что-то нелепое. Зеркальная галерея по размерам превосходила галерею в Версале. Что касается бюро Гитлера, оно было просто фантастической величины. Чтобы украсить портал над входом, Шпеер заказал Брекеру две статуи таких же нереальных размеров (их называли тогда «сюрреалистическими»). Кроме того, было заказано множество барельефов для интерьера. Две колоссальные обнаженные фигуры, Несущая факел и Несущая меч[99], обозначили начало карьеры Арно Брекера как первого скульптора Рейха. Благодаря солидному бюджету, которым распоряжался Альберт Шпеер, Брекер смог создать грандиозные статуи, тщательно отделанные и прекрасно отшлифованные, изображающие мужественных героев и полных грации женщин. Я знал Брекера с тридцатых годов и положительно оценивал его работы. Критики в большинстве хвалили их, отмечали отсутствие в них напыщенности и несомненный талант скульптора. Любопытно, что из-за необычной манеры, в которой он выполнял женские волосы, его прозвали «лучшим парикмахером Берлина». Брекер знал Париж так хорошо, что был гидом Гитлера во время его краткого посещения Парижа в 1940 году. Он любил Париж и приезжал туда часто. Именно поэтому я познакомился с ним. Брекер мечтал о парижской выставке. Могу уверенно утверждать, что его «историческая» выставка в «Оранжери» в Тюильри была уникальной. Он выбрал один зал среди многих других, потому что мог выставить там свои произведения огромных размеров. Будучи уже министром вооружения, Шпеер был так воодушевлен проектом, что обеспечил необходимое для отливки скульптур количество металла. Это было потрясающе! Гипсовые слепки были отправлены Рюдье, ибо он занимался отливкой статуй. Рисунки находились у меня, поскольку я должен был заниматься их обрамлением. Хотя Служба искусства Берлина получила приказ полностью обеспечить выставку, я быстро понял: если я не займусь этим лично, ничего не будет сделано и выставка не состоится, во всяком случае, к обозначенному сроку. Это я, признаюсь, предложил «Оранжери» Бреке-ру. Не только по причине расположения в центре Парижа, но и потому, что там проходили важные художественные события. Брекер сразу нашел идею превосходной. Но «Оранжери» зависела от Национального музея Лувра, института, который мы все уважали, поэтому я пошел к господину Жожару[100], его директору, чтобы рассказать ему о проекте. Его бюро находилось на первом этаже, в крыле, расположенном между павильоном Мольен и Большой галереей на набережной, вход был с площади Карусель. Я нанес столько визитов Жаку Жожару, что дорога стала для меня привычной. Его секретарь, мадам Сопик, супруга скульптора[101], встречала меня всегда очень любезно. Я очень любил разговаривать с господином Жожаром, моим старшим собратом и выдающимся знатоком искусства, с большим почтением относившимся к Вильгельму фон Боде[102], которым я тоже восхищался, ибо он больше, чем кто-либо другой, способствовал мировому признанию музеев Берлина. Жак знал, что, до того как стать офицером, я был специалистом в области истории искусств и работал с великими коллекциями. Мы часто говорили о необходимости защищать шедевры в это ужасное время. Таким образом, я был в курсе того, как экспонаты Лувра готовились к эвакуации в провинцию. Я даже видел и перелистывал документы, перечисляющие произведения, подлежащие эвакуации. Отчасти из любопытства, отчасти ради шутки я спросил, где находится Джоконда. Не колеблясь, он ответил, что она в музее Энгра в Монтобане, вместе с многими другими шедеврами. Потом он объяснил, что размещение картин в Монтобане доставило ему большие хлопоты, так как атмосферные условия там были отличны от условий в Париже, и он боялся, что краскам будет нанесен ущерб. Жизненно необходимо было найти лак для ретуши, который, к сожалению, исчез во время войны. Даже граф Меттерних, к которому обратился Жожар, не смог ему помочь. К счастью, я выручил его благодаря дому «Лефевр-Фуане»[103], снабжавшему меня красками как художника-любителя. Я знал, что Морис прятал все, что можно, в подвале, и подумал, что у него наверняка найдется один-два бидона лака для ретуши. Он не смог мне отказать, и я передал лак Жаку Жожару. Когда я представил ему мой проект выставки Брекера в «Оранжери», он дал свое согласие без колебаний. К слову, он ценил талант Брекера вне зависимости от политических аспектов. Все шло как нельзя лучше, за исключением того, что надо было без промедления позаботиться об издании каталога к выставке (ждать, пока Служба искусства Берлина возьмется за эту работу, можно было бесконечно). Генри Фламмарион, предложивший свои услуги, доверил художественное и издательское руководство проектом Рене д’Укерманну, проживавшему в отеле «Монморанси-Бур»[104] на улице Шерш-Миди (здание было подарено Наполеоном мадам Сен-Жан). Выбор этого отеля с прекрасно оформленными интерьерами свидетельствовал об отменном вкусе господина д'Укерманна. Как и можно было ожидать, результат оказался безупречным: каталог на ста двадцати страницах, украшенный ста двадцатью гравюрами и отличным текстом Шарля Деспьё. Бедняга пострадал из-за этого текста после Освобождения, хотя, вероятнее всего, он над ним не работал, а только подписал его. Итак, все шло превосходно, когда внезапно гестапо «обнаружило», что мадам Фламмарион, урожденная Анжел, была еврейкой. На самом деле гестаповцы ничего не знали, просто ее девичья фамилия показалась им «типично еврейской». Я хорошо знал Фламмарионов, все они были лютеранами. Не понимая, что предпринять, я был в ужасе. Если подозрения гестапо подтвердятся, у нас не будет каталога. Каталог Парижской выставки Арно Брекера издательства «Фламмарион», подписанный Шарлем Деспьё и Арно Брекером для Вернера Ланге (Частная коллекция).
Каталог Парижской выставки Арно Брекера издательства «Фламмарион», подписанный Шарлем Деспьё и Арно Брекером для Вернера Ланге (Частная коллекция).
Узнав эту новость, Арно Брекер побежал, обезумев от ярости, к шефу гестапо, который, конечно же, знал о восхищении Гитлера Брекером. Дело «Мадам Анжел, в замужестве Фламмарион», таким образом, было незамедлительно похоронено. Я был счастлив, пока в день открытия выставки не обнаружил, что никто в Берлине не подумал о входных билетах! Пришлось срочно обратиться к господину Жожару, который любезно предоставил нам несколько рулонов билетов в Лувр. Открытие выставки прошло очень торжественно, причем скорее благодаря французам, а не немцам. Я слушал речи Боннара и Бенуа-Мешена, находясь в толпе рядом с Майолем и Рюдье. Вламинк, Дерен, Фриез и ван Донген, также приглашенные на открытие, не пришли. На вернисаже можно было послушать великолепный концерт: выступали пианисты Вильгельм Кемпф и Альфред Корто, а также певица Жермен Любен. Все большие бронзовые скульптуры, выставленные в Париже, были предназначены для украшения площадей и улиц Берлина. Говорили, что Шпеер ждал окончания войны, чтобы начать работы по преобразованию столицы Рейха. Что произошло дальше — известно. Как бы то ни было, надо отдать должное Арно Брекеру: даже в громадных скульптурах на выставке проявлялся его талант. Лица колоссов были выразительны, как настоящие портреты. Я видел, как Брекер работал над бюстом Майоля (в Баньюльсе), а позже — над бюстом Вламинка. Ему удалось буквально оживить эти скульптуры. К сожалению, я не смог увидеть его портрет Жана Кокто.
Конец
Нам говорили, что немецкие генералы не очень-то боялись высадки десанта. Они ожидали его и готовились. Их беспокоило только то, что они не знали места высадки. Таким образом, мы не были удивлены 6 июня 1944 года, узнав о десанте союзников в Нормандии. Но прорыв через Авранш вызвал всеобщую растерянность. Союзники прорвали нашу оборону и угрожали Парижу. Охваченные паникой, гражданские немцы покидали столицу, где им жилось так легко и приятно. В начале августа я получил приказ явиться в восточный форт, в Сен-Дени. Комендатура приняла решение защищать Париж, вместо того чтобы объявить его открытым городом, как я надеялся. Поскольку я должен был туда явиться без вещей, я оставил их в отеле «Линкольн», хозяйка которого имела не только английскую внешность, но и «за-ла-маншские идеи», если так можно сказать. Я знал об этом, поскольку она всегда говорила со мной довольно свободно. Перед моим уходом она дружески пожала мне руку и сказала: «Удачи!» Она не любила ни Оккупацию, ни оккупантов, но мы хорошо ладили, несмотря ни на что. Восточный форт составлял часть старинных укреплений Парижа. Он давно потерял свое военное значение и находился возле Сен-Дени. Это был большой прямоугольный двор, окаймленный старыми постройками и окруженный крепостным валом. Коменданту форта, старому капитану, давно было пора в отставку, и у него в подчинении было совсем мало людей. Солдаты из гарнизона форта фланировали и болтали, забыв о дисциплине. Все это имело откровенно забавный вид. Обнаружив меня на месте, капитан сказал, что где-то в здании должно быть орудие. Он не знал точно где, но поскольку я был формально приписан к артиллерии, он мне приказал его найти и организовать оборону форта. Орудие я обнаружил очень быстро. Оно устарело уже к началу Первой мировой войны и нуждалось в ремонте. Его место было перед Домом инвалидов, рядом с другими старинными образцами вооружения. Таково было мое мнение, но солдат не должен размышлять, он обязан подчиняться и выполнять приказы. С помощью нескольких солдат мне удалось выкатить этот музейный экспонат на середину двора и установить перед входом в форт. Теперь надо было найти боеприпасы. Их не было. Нам оставалось надеяться, что один вид ужасного оружия впечатлит врага и обратит его в бегство. Дни протекали мирно. Стояла теплая погода, мы часто ходили купаться. На мосту перед входом в форт всегда были французы, интересовавшиеся тем, что происходит внутри. Мы их не прогоняли. Телефон работал, что позволяло поддерживать контакт с моими парижскими друзьями, особенно с Рюдье, ставшим очень близким мне человеком. Но в один прекрасный день телефон замолчал. Он больше не работал. Никто не мог нам сказать, что происходит. Единственным источником информации стали французы, собирающиеся каждый день на мосту. От них мы узнали овосстании, поднятом Сопротивлением в Париже, и о том, что дивизия Леклерка у ворот столицы. Как-то один из этих ротозеев протянул мне экземпляр «Газеты свободной Франции». Я никогда раньше ее не видел. В ней был иронический рассказ о бегстве правительства Виши в Баден-Баден, а потом в — Зигмаринген. Я помню заголовок: «С одного водного курорта — на другой». Время от времени солдаты приходили мне рассказать о том, что происходит за пределами наших хлипких укреплений. Мы были заперты, изолированы, и бедные парни спрашивали себя, что с ними будет. Я им говорил, что, если мы пленники, вероятно, не надо двигаться с места. Форт был идеальным местом заключения. Они не находили это слишком забавным. Однажды, к моему приятному удивлению, я увидел Рю-дье. Поскольку телефон не работал, он решил приехать посмотреть, все ли у меня в порядке. Увидев, что мне особенно нечего делать, он предложил съездить к ним в Ве-зинет пообедать. Я принял предложение с радостью, как ради еды, так и ради новостей. Мы были полностью отрезаны от мира. После превосходного как всегда обеда Рюдье посоветовали мне дезертировать, не возвращаться в форт. Они готовы были спрятать меня, пока немцы не уйдут. Учитывая ситуацию, это могло произойти со дня на день. Они были правы, я это знал, но такое решение могло бы иметь для меня тяжелые последствия. Взволнованный и дезориентированный, я вернулся в мое бюро на Елисейские Поля. Оттуда уже все уехали, там не было больше никого и ничего. Я провел ночь в коридоре, не сомкнув глаз, вытянувшись на неудобном, очень коротком диване. Утром я принял решение. Я не мог дезертировать. Если бы я был объявлен дезертиром, моя мать подверглась бы преследованиям нацистского режима. Таков был заведенный порядок. Мне надо было вернуться в форт. На следующий день утром я окончательно покинул дом № 52 на Елисейских Полях. Два дня беспричинного отсутствия в военное время не были пустяком. Я опасался встречи с капитаном, но ничего страшного не случилось. После суровой, но краткой нахлобучки он мне сказал, что только исключительные обстоятельства не дают ему возможности послать рапорт туда, «куда я сам знаю». Не стоило труда уточнять, я понял. Надо ли его благодарить или нет, я не знал. Усталым жестом он отпустил меня, и я пошел спать рядом со своим старым орудием. Погода по-прежнему стояла хорошая. Внешне все выглядело спокойно. Правда, снаружи можно было видеть странный балет машин, беспрестанно снующих туда и обратно. Ночью горел свет в большом здании напротив форта, какие-то люди быстро поднимались и спускались по лестнице. Не знаю, почему, но я был убежден, что это тайные собрания Сопротивления, или «маки», как говорили тогда. В четверг 24 августа вечером зазвонили все колокола Парижа. Никогда раньше я не слышал такого. Почти напротив были слышны колокола Сакре-Кёр, немного дальше — Нотр-Дам. Союзники входили в Париж. Это было понятно без всяких слов. Мы ждали приказов. Хоть чего-нибудь! Но ничего не происходило. Ни на следующий день, ни позже. Можно было бы подумать, что наш маленький гарнизон брошен. Так мы считали, во всяком случае. Поскольку нас никто не атаковал, мы не шевелились. Все было спокойно до того вечера, когда в форт въехал грузовик, заполненный немецкими солдатами и беспорядочно сваленными вещами. Прыжок — и я в грузовике. Так завершилась (бесславно, должен сказать) моя карьера оккупанта. Покидая Париж не слишком достойным способом, в этом грузовике, я не знал, вернусь ли. Но я вернулся — не как оккупант, а как влюбленный, влюбленный робкий и признательный.Примечания
1
DST — французская тайная полиция. — Примеч. ред. (обратно)2
Книга Люсьена Ребате, бестселлер времен Оккупации. — Здесь и далее примечания издательства Edition du Rocher. (обратно)3
Журнал, в котором Робер Бразийяш во время войны призывал к убийствам левых политиков и участников Сопротивления. (обратно)4
Роман Яна Потоцкого. (обратно)5
Роман Блез Сандрар. (обратно)6
Мюзикл Винсента Минелли. (обратно)7
Группа художников-экспрессионистов Мюнхена, в которую входили В. Кандинский и П. Клее. (обратно)8
Людвиг Юсти — важнейшая фигура культурной европейской жизни между двумя мировыми войнами. Основанный им в 1919 году музей во Дворце кронпринцев, первый музей искусства модерн в Германии, был закрыт в 1933 году. (обратно)9
Магги Руфф (настоящее имя Маргарит Безансон де Вагнер) — французская художница-модельер. (обратно)10
Эльза Скиапарелли — итальянка, парижский модельер и дизайнер, изобретательница Rose shocking. (обратно)11
Жермен Лекомт — французский модельер. (обратно)12
Алиса Косеа — румынская актриса и певица, режиссер и директор театра «Амбассадор». Ее карьера была прервана арестом после освобождения Франции от оккупации. (обратно)13
Клео де Мерод (полное имя Клеопатра Диана де Мерод) — танцовщица и икона стиля. В противоположность тому, что утверждает автор, она удалилась в Эндр во время Оккупации. В 1950 году выиграла процесс против Симоны де Бовуар, которая сравнивала ее с кокоткой во «Втором поле». (обратно)14
Сюзи Солидор (настоящее имя Сюзанна Луиза Мари Марион Ро-шер) — французская певица, актриса и романистка. (обратно)15
Построенный в 1714 году, этот частный дом был приобретен принцем Эженом де Богарне, который сделал значительные преобразования в стиле ампир. Король Пруссии купил здание после падения Империи и устроил там королевскую дипломатическую миссию, ставшую посольством Пруссии в 1871 году, затем посольством Веймарской республики в 1918 году и, наконец, посольством нацистской Германии в 1933 году. Именно в этом здании уборщица обнаружила в корзине для бумаг знаменитое письмо, которое положило начало делу Дрейфуса. (обратно)16
Жан Люшер — коллаборационист, журналист и руководитель прессы, расстрелянный в 1946 году в форте Шатийон. (обратно)17
«Газета-прожектор» коллаборационистов. (обратно)18
После того как здание принадлежало высшему военному командованию во время Оккупации, в старинном отеле «Мажестик» помещалась штаб-квартира ЮНЕСКО, потом служба Министерства иностранных дел, а именно Центр международных конференций. Затем здание было продано Францией за 460 млн евро публичному обществу инвестиций КАТАР, Катари Диар, которая переоборудовала его в роскошный отель. Именно здесь были подписаны документы о согласии Парижа положить конец войне во Вьетнаме в 1973 году и о согласии на прекращение военных действий в Камбодже в 1991 году, а также Договор Клебера, подписанный после мятежа на севере Республики Кот-д’Ивуар в 2003 году. (обратно)19
Аусвайс — немецкий пропуск, ценный документ во время Оккупации. (обратно)20
Жорж Карпантье — звезда бокса, первый французский чемпион мира, завоевавший звание в Соединенных Штатах в 1920 году. (обратно)21
Эжен Рюдье — сын Алексиса Рюдье. Отец и сын Рюдье — знаменитые французские литейщики, которые отлили в бронзе работы наиболее известных скульпторов эпохи, в том числе Родена. (обратно)22
Вернер Ланге намекает здесь на хищение произведений современного искусства, прозванного нацистами «дегенеративным искусством». Картины Пикассо, Матисса, Ван Гога, принадлежавшие еврейским семьям, были складированы в музее «Игры в мяч». Наиболее ценные экспонаты находились в зале де Мартир. Нацисты продали эти произведения или обменяли их на картины, которые были им больше по вкусу. Французские власти, антиквары и французские торговцы живописью приняли участие в этом постыдном, но доходном деле. (обратно)23
Константин Терешкович — французский художник русского происхождения. Записался в Иностранный легион в 1939 году, чтобы бороться с немцами, но демобилизовался после поражения в 1940 году. Награжден орденом Почетного легиона в 1951 году. Умер в 1978 году в Монако. (обратно)24
Сергей Щукин — предприниматель и известный коллекционер произведений искусства. Его коллекция была конфискована по приказу Ленина в 1918 году. Она является основой коллекций современного искусства Эрмитажа и Пушкинского музея в Москве. С. Щукин скончался в Париже в 1936 году. (обратно)25
Жак Руше был видной фигурой во французской культурной жизни в течение полувека, являлся директором парижской Оперы на протяжении более чем 30 лет. После Освобождения предстал перед Палатой по гражданским делам и был смещен с должности в 1945 году. (обратно)26
Жермен Любен — французская оперная певица. Сопрано, получившее мировую известность. Арестована и осуждена после Освобождения. Лишилась французского гражданства и права на проживание во Франции, ее имущество конфисковали. После войны занималась преподаванием. Режин Креспен, другая оперная звезда, была одной из ее учениц. (обратно)27
Жозе Бекман — бельгийский баритон, имевший мировую известность, оплот парижской Оперы в эпоху Жака Руше. (обратно)28
В 1941 году в Берлинской государственной опере состоялось представление, посвященное празднованию годовщины падения Парижа, под управлением Герберта Караяна, уполномоченного Гитлером. Представление было дано в присутствии Винифред Вагнер, директора Байрейтского фестиваля, невестки Рихарда Вагнера и личного друга Гитлера. (обратно)29
Палестрина написана в Мюнхене в 1917 году Бруно Вальтером. Это вагнерианское произведение, дань уважения мэтрам полифонии Ренессанса. Пфицнер видел в Палестрине манифест, направленный против музыки новой венской школы, основоположником которой был Шёнберг. (обратно)30
Вернер Эгк — ученик Карла Орфа, отдавший свой талант для создания «новой музыки», провозглашенной Третьим Рейхом. (обратно)31
Жан-Габриэль Домерг — салонный художник, чрезвычайно разносторонний, претендовал на роль творца будущих звезд, молодых красоток. Член Института Франции, создатель афиши первого Каннского международного кинофестиваля. Одно время был куратором музея Жакмар-Андре. (обратно)32
Фриц Заукель — крупный нацистский сановник, прозванный «работорговцем Европы», поскольку он организовал депортацию рабочих из оккупированных стран в Германию. (обратно)33
В 1942 году. (обратно)34
Эммануэль Давид — торговец предметами искусства, открывший Карзу и Бернара Бюффе, эксклюзивным представителем которого он был. Бывший фронтовик, участник двух мировых войн, кавалер ордена Почетного легиона. (обратно)35
Галерея, известная во всем мире, основанная Эммануэлем Давидом и Арманом Друаном. Открыта в 1942 году. (обратно)36
Адольф Вюстер (1888–1972) — французский художник, известный своими пейзажами и натюрмортами. (обратно)37
Андре Дюнуайе де Сегонзак (1884-1974) — художник, гравер и иллюстратор. В ноябре 1941 года участвовал с другими наиболее известными французскими художниками в «научной поездке» в Германию, организованной Арно Брекером. (обратно)38
Альфред Корто — один из лучших пианистов первой половины XX века, дирижер, основатель Высшей школы музыки в Париже. Официальное признание во время Оккупации и концертные поездки в нацистскую Германию нанесли существенный ущерб его репутации. (обратно)39
Вильгельм Фюртванглер — великий немецкий дирижер, легендарный директор Берлинского филармонического оркестра. (обратно)40
Автор не упоминает (может быть, он этого не знает) о важном обстоятельстве: соглашаясь на это турне, Альфред Корто спросил и добился позволения на бесплатный концерт для французов, угнанных на работу в Берлин, и для французских заключенных. Он был первым французским музыкантом, выступавшим в Берлине после перемирия. (обратно)41
Шарль Деспьё (1874-1946) — французский скульптор, известный во всем мире. Оказал влияние на многих художников, в том числе на Поля Бельмондо. (обратно)42
Дина Верни (1919-2009) — русская по происхождению, модель и муза Майоля. Известная галеристка, основательница музея Майоля в Париже. (обратно)43
В 1943 году. (обратно)44
Кер-Ксавье Руссель (1867-1944) — член группы «Наби», прозванный «наби-пастухом» по причине своей любви к природе. (обратно)45
Генерал Отто фон Штюльпнагель — командующий немецкими войсками во время Оккупации и военный комендант Парижа с 1941 по 1942 год. Арестованный после войны, он был перемещен в Париж для суда, но покончил с собой в 1948 году в тюрьме «Шерш-Миди». (обратно)46
Адольф Циглер (1892–1959) — любимый художник Гитлера, который поручил Циглеру очистить немецкую живопись от «дегенеративных художников». Сенатор Рейха от изобразительных искусств, с 1936 года президент Палаты изобразительных искусств Рейха. (обратно)47
Произведение выставлено в доме-музее Сальвадора Дали в Кадакесе, в Каталонии. (обратно)48
Лео Самбержер (1861–1949) — мюнхенский художник, один из подписавших «Декларацию немецких художников против большевистского, масонского и еврейского искусства», опубликованную в 1933 году и направленную в основном против Эмиля Нольде, Пауля Клее, Людвига Мис ван дер Роэ. (обратно)49
Фернанда Оливье (настоящее имя — Амели Ланг) была дружна с Г. Аполлинером и П. Пикассо в начале его розового периода и периода кубизма (1904–1912). (обратно)50
Литературный директор издательства «Фламмарион». (обратно)51
Адрес «Фламмариона». (обратно)52
Андре Меттей — очень активный торговец произведениями искусства во время Оккупации. (обратно)53
Основанное тремя братьями Рюдье, среди которых был Алексис, предприятие получило особенную известность после смерти последнего. Его сын и наследник Эжен Рюдье добился международного признания. После смерти Эжена Рюдье в 1952 году его вдова исполнила последнюю волю мужа — разбила изложницы и сожгла архив, чтобы никто не мог следовать по стопам ее покойного супруга. (обратно)54
Фрагмент знаменитого ансамбля Родена. (обратно)55
Знаменитая скульптура Родена, представляющая стоящего обнаженного человека, голова которого сильно наклонена к левому плечу. (обратно)56
Статуэтка из сокровищницы собора Метца. Много раз продавалась в течение XIX века. Была куплена мэрией Парижа, передана в музей Карнавале, а потом в Лувр. (обратно)57
Автор не упоминает об этом, но речь идет о заказе Арно Брекера, первого скульптора Третьего рейха. (обратно)58
После смерти Огюста Родена в 1917 году Эжен Рюдье добивался исключительного приоритета для отливок, заказанных музеем Родена. (обратно)59
Произведение, предназначенное в оригинале для Врат ада, но незавершенное, потому что модель, которая была беременна, не могла больше позировать. Огюст Роден выставил ее позже, не доделывая. (обратно)60
Портрет рабочего из квартала Сен-Мишель, известного под именем Биби. (обратно)61
Альберт Шпеер — главный архитектор Третьего рейха, член нацистской партии с 1931 года. Министр вооружения и боеприпасов. Во время Нюрнбергского процесса был судим и приговорен к тюремному заключению. Автор бестселлера «В сердце Третьего рейха», опубликованного сначала в Германии в 1969 году, потом в других странах. (обратно)62
Тень Родена — скульптура, изображающая Адама. Была предназначена сначала для Врат ада, но выставлялась как самостоятельное произведение, как и Ева. Подобно Еве, Тень не была завершена (отсутствовала одна рука). Эта скульптура украшает могилу Эжена Рюдье на кладбище Везинет.(обратно)
Последние комментарии
4 часов 1 минута назад
4 часов 18 минут назад
4 часов 39 минут назад
7 часов 21 минут назад
14 часов 44 минут назад
20 часов 28 минут назад