


Мать «прикладывает» ко мне руни

МЫ С БРАТЦЕМ КОСТЕЙ СИДЕЛИ НА ПОЛУ И ИЗ ДОЩЕЧЕК И ЩЕПОЧЕК СТРОИЛИ ИЗБУШКУ. Братец тянул:
— В ней будут зыть мысы...
Мышей я боялся и возразил:
— Нет, будут жить тараканы!
Костя боялся тараканов и, чуть не плача, закричал, головой завертел:
— Не талаканы, а мысы!
Мать смотрела в окно и сердито крикнула:
— Эй, плойма, уймись, покойников несут!
Мы оставили работу и кинулись к окнам.
По дороге на длинных, расшитых петухами и травами полотенцах мужики несли три гроба: один большой, а два совсем маленьких. Уцепившись обеими руками за большой гроб, баба в черном платье и новых красных лаптях во весь голос вопила:
— И на кого ты нас, родимый, по-ки-ну-ул? И как мы без тебя будем жить-то?
Мать побледнела:
— Господи, горе-то какое!.. Бывало, девка в полночь колокольный сполох подымет, и заразе конец, а нынче и колокола не помогают.
Отец чинил лапоть:
— Фершал на хворых глядел и сказал, что по селу гуляет иноземная хворь — инфлюэнца и еще наша, российская болесть — глотошная: ее дифтеритом называют.
Мать повысила голос:
— Глотошная гуляет, а флюэнцы нет! Народ бога прогневил, вот за грехи и мучаемся. Бог нас карает!
Отец досадливо крякнул:
— Уж полно выдумывать-то! «Карает...» А ты слушай, что я сказываю! У кого в семьях хворые, то фершал заливает карболовкой полы, лавки и столы... Бабы, конечно, ворчат и после фершала полы и лавки ножами скоблят и крещенской водой брызгают...
Мать недоверчиво глянула на отца:
— Зачем же хозяева пускают фершала поганить избы?
— Как же ты не пустишь, когда он делает для нас пользу?.. На Цыганском прошпекте одна бойкая баба не пустила, так урядник прибежал и из окна раму выставил. Фершал же, словно пожарник, из кишки все избяное нутро какой-то красной водой облил!
Мать села на лавку и вздохнула:
— От фершалов добра не жди! Недавно на завалинке бабы толковали: на Волге, мол, дохтора с фершалами холеру в народ пущали. Правда ли, нет ли, но будто тех дохторов мужики убили!
Выронив из рук кочедык, отец с досадой рявкнул:
— Дубы темные, вот и убили! Небось помещики, чиновники и попы с дьяконами издали докторам кланяются — без них жить не могут.
Тряхнув черными, словно вороново крыло, волосами, отец вызывающе добавил:
— Народ неученый, и никто его не учит: ни царь, ни губернатор, ни уездное земство, ни старшина, а уж о старосте и толковать нечего! Нам надо своих сынов учить... Разорюсь, а выучу!
Мать отмахнулась, будто от назойливой мухи:
— Сотый раз никак ты пустословишь!., «Выучу»... На ученье капитал нужен, а у тебя в каждом кармане блоха на аркане... Да и зачем твоим сынам грамота? Вот ты, к примеру, грамотник, а какой толк? Писарем тебя не ставят, старостой и старшиной не выбирают... Землю-то пахать и неграмотники умеют!
Отец вспыхнул:
— Разве я в писаря метил или прошусь? Для себя грамотный: больше других вижу и понимаю, что на белом свете делается и что в нашей державе творится...
Мать перебила:
— Это я от тебя тоже сто раз слыхала! «Больше других вижу»... Видишь таракана с лягушку!
Отец промолчал.
Мы с Костей принялись достраивать избушку.
Вдруг ни с того ни с сего отец замурлыкал:
— Наш кот Васька захирел —
Инфлюэнцей заболел:
Ничего не ест, не пьет И того гляди умрет!
Мать вскочила и негодующе зашумела: v
— Перестань дурачиться! Эх, ветродуй, ветродуй! Людей смерть косит, везде печаль да слезы, а ты, как на веселой масленице, распелся. Добрые-то люди святым молятся, просят их перед богом ходательствовать, от хвори-болезней сохранить...
Усмехнувшись, отец ощерил крупные белые зубы:
— Не я песню сложил, а так в календаре написано. В нем много умственного есть. Вот хоть бы про попа:
Не все попу масленица —
Пришел великий пост!
С капусты да с картошечки Поджал наш попик хвост.
Сидит поп у окошечка И думает о том,
Полопать бы немножечко Хоть каши с молоком!
Мать прикрикнула:
— Не ври! Сам придумал. В календаре такую мерзость про священника не напишут!
Отец ухмыльнулся:
— Это верно! Правдивую песню о попе не напечатают... А молиться мне не хочется и некогда: собираюсь в Скопино ехать — клепки купить. Скоро осень, и бабы начнут надоедать: сделай, мол, кадушку под соленья, а где я клепки возьму? Нет, Анна, сама молись! Я слыхал, что бабьи молитвы скорее к богу долетают и он от них никак не может отбиться!..
Кот Васька сидел рядом с отцом: серый, лобастый, точно урядник усатый, и громко мурлыкал. Костя рассмеялся:
— Васька по-ет!
Я погладил кота:
— Не пой, а святым молись! Слышишь? Молись, не то умрешь: кто тогда станет мышей ловить?
Мать ногами затопала:
— Цыц, охальники, языками молоть! С отца пример берете? Вот его, ветродуя, сатана в ад утащит и заставит языком горячую сковороду лизать.
Отец поднялся:
— Ладно, поеду в Скопино, а ты сынов не пугай и от заразы береги. Слышишь? Я знаю твой характер: разойдешься и начнешь об аде и дьяволах рассказывать... Дети напугаются... Ни Костю, ни Мишку на улицу не выпускай: запрись с ними в избе, а то заразу притащите!
Мать отозвалась:
— Бог не захочет, никто не захворает, а уж если он огневается, то детей хоть в сундуке прячь — зараза все равно найдет! Без божьей воли — не растет колос в поле и с головы волос не падает.
Отец по-тараканьи шевельнул усами:
— Бог-то бог, да сама не будь разиней. У меня гляди: если твои волосы бог не трогает, так я их...
И повертел рукой, показывая, что сделает с волосами матери.
— А ты не петушись! На глазах детей только пьяницы да басурманы на жен кричат...
Сурово сдвинув брови, отец ответил:
— Должна ты мое слово уважать?
Мать уклончиво пожала плечами:
—. Раз в долгу, то должна—
б
• • •
 ТОЛЬКО ОН УЕХАЛ, МАТЬ ЗАМЕТАЛАСЬ, ЗАСУЕТИЛАСЬ:
— Соседский Васька умер. В одну неделю как свечка истаял. От глотошной задохнулся. Уж не знаю, вести вас к нему прощаться или не водить? Не придешь — огне-ваются, а пойдешь... Может зря мы боимся? Бывает — в семье по трое хворают: один — умрет, а двое — выживут. Почему так? Богу виднее, кого и когда к себе взять!
Костя схватил мать за подол и заныл:
— Пойдем к Ваське! Мам, пойдем!
И мать решилась идти:
— Собирайтесь! Положимся на волю божию...
Дорогой мать втолковывала:
— Кто младенцем умирает, того бог возлюбил. Грехов на Ваське нет, и его невинную душеньку ангел в рай понесет. А в раю-то жисть завидная! Никто не плачет, не горюет, не хворает, не голодует, подати староста не дерет, и остается одна-единственная заботушка: на цимбале играть, молитвы петь и краснобокие яблочки есть...
Костя был страстным любителем печеной картошки и спросил:
— А там пеценая калтоска есть?
Мать удивленно протянула:
— Кар-тош-ка-а? Уж чего, чего, а этого добра в раю много!
— А там талаканы есть?
— Нет, бог не пускает в рай ни тараканов, ни пауков, ни мышей!
Я спросил:
— Цимбала что?
— Не знаю. Будто большая балалайка...
У нас в селе на балалайках играли многие. Парни, помню, вечерами ходили по улице и припевали и приплясывали:
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя!
Ай, барыня угорела —
Много сахару поела.,.
Я и подумал: если так перед богом играть и припевать, то в раю, наверно, весело? И тут я вспомнил о душе и спросил мать:
— А душенька у Васьки какая?
— Душенька? Как кукла. Ангел ее за пазуху положит и на небо несет...
— Зачем же за пазуху-то?
— А как же? За пазухой душенька не озябнет,— она ведь совсем-совсем голенькая! — не потеряется и дьявол ее не утащит...
ТОЛЬКО ОН УЕХАЛ, МАТЬ ЗАМЕТАЛАСЬ, ЗАСУЕТИЛАСЬ:
— Соседский Васька умер. В одну неделю как свечка истаял. От глотошной задохнулся. Уж не знаю, вести вас к нему прощаться или не водить? Не придешь — огне-ваются, а пойдешь... Может зря мы боимся? Бывает — в семье по трое хворают: один — умрет, а двое — выживут. Почему так? Богу виднее, кого и когда к себе взять!
Костя схватил мать за подол и заныл:
— Пойдем к Ваське! Мам, пойдем!
И мать решилась идти:
— Собирайтесь! Положимся на волю божию...
Дорогой мать втолковывала:
— Кто младенцем умирает, того бог возлюбил. Грехов на Ваське нет, и его невинную душеньку ангел в рай понесет. А в раю-то жисть завидная! Никто не плачет, не горюет, не хворает, не голодует, подати староста не дерет, и остается одна-единственная заботушка: на цимбале играть, молитвы петь и краснобокие яблочки есть...
Костя был страстным любителем печеной картошки и спросил:
— А там пеценая калтоска есть?
Мать удивленно протянула:
— Кар-тош-ка-а? Уж чего, чего, а этого добра в раю много!
— А там талаканы есть?
— Нет, бог не пускает в рай ни тараканов, ни пауков, ни мышей!
Я спросил:
— Цимбала что?
— Не знаю. Будто большая балалайка...
У нас в селе на балалайках играли многие. Парни, помню, вечерами ходили по улице и припевали и приплясывали:
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя!
Ай, барыня угорела —
Много сахару поела.,.
Я и подумал: если так перед богом играть и припевать, то в раю, наверно, весело? И тут я вспомнил о душе и спросил мать:
— А душенька у Васьки какая?
— Душенька? Как кукла. Ангел ее за пазуху положит и на небо несет...
— Зачем же за пазуху-то?
— А как же? За пазухой душенька не озябнет,— она ведь совсем-совсем голенькая! — не потеряется и дьявол ее не утащит...
 Мы вошли в Васькину избу. В углу, в люльке, бессильно попискивал младенец, а на двух маленьких скамеечках стоял белый гробик. От него хорошо пахло сосной. У гробика толпились печальные бабы и шептались:
— Ваське бы жить — он уж большим стал,—а вот тому, в люльке-то, можно бы и умереть!
Это было так жестоко, что я схватил мать за руку и заплакал.
Встревоженная мать спросила:
— Ты что? Покойника боишься?
— Нет, младенца жалко! Зачем так тети сказали?
Мать замялась, но потом тихо ответила:
— Потому что Васька скоро бы стал и пахарем, и косцом, а этого, в люльке-то, ждать долго. Уж если богу нужен младенец, так пусть бы маленького и брал!
Эти слова были такими же злыми и жестокими, и потому я продолжал плакать. Мать подтолкнула меня ближе к гробику:
— Последний раз взгляни на Ваську!
Я помахал покойнику рукой. Костя тоже рукой махнул. Мать грубо вытурила нас из избы:
— Эх, проститься-то с покойником не умеете! Руками только уезжающим машут: скоро, мол, увидимся, а вы... Господи, научи несмышленышей жить!
Мы шли домой, и мать опять нам втолковывала:
— Васька счастливый! Его безгрешную душеньку ангел в рай понесет...
— Когда?
— Через сорок дней...
— А где Васькина душенька сорок дней будет жить?
— Где придется! По кладбищу, по овинам, по сен-ницам станет скитаться...
Мне стало жаль Васькиной душеньки, и я предложил:
— Мам, давай ее к нам позовем? Пусть на полатях спит!
Родительница даже вскрикнула:
— Молчи, а то душенька и без званья может к нг^м прилететь!..
Тут я вспомнил рассказ матери о райской жизни и Ваське позавидовал:
— Васька счастливый! Мам, я пойду с ним в рай? Мам, я там буду красные яблочки есть. Ты не бойся, мы с Васькой вместе будем на цимбалах играть и петь:
Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...
Мать больно треснула меня по затылку:
— Не мели чепухи!.. Всякому человеку дан свой срок жизни. Когда бог надумает, тогда к себе и зовет...
Но я не унимался:
А бог Ваську звал?
— Кабы не звал, Васька бы не умер!
— А как его бог звал? Кричал? Ты слыхала, как бог кричал?
— Не слыхала, а звал...
Я хотел еще о чем-то спросить, но мы подошли к дому, и мать таинственно шепнула:
— Ш-ш-ш! Глядите, у нас в углу Бука сидит! Она тебя за язык схватит...
Мы с братцем прижались друг к другу, и я еле слышно спросил:
— Мам, а Бука большая?
— С огородное пугало. По темным углам прячется и ребятишек за языки хватает!.. Глаза у Буки словно пуговицы, нос — луковицей, волосы — мочальные, губы — шлепанцы, уши — свинячьи, ноги — собачьи, голос — кошачий...
В темный запечный угол мы с братцем смотрели долго-долго, но Бука не показывалась. Костя сказал:
— Ее нет — она на улицу убезала...
Через несколько дней братец захворал, а потом слег и я.
Костя был слабым, хилым, рыхлым, и потому болезнь переносил плохо: плакал и жаловался:
— Голову ска бо-бо! Голлыско бо-бо!
Я как мог, так и утешал:
— У меня тоже головушка и горлышко болят, но я не плакаю!
Кот Васька лежал между нами, теплый, с ласковой шерстью, и мурлыкал. Братец положил на кота голову:
— Васька, у меня голову ска бо-бо!
Мать заметила, схватила кота за ухо и кинула на пол:
— П-ш-е-л вон!
Костя заплакал, закапризничал:
— Дай киску! Дай, дай!
— Нельзя кошку в свою постель класть — у тебя в голове лягушка заведется и станешь дурачком!..
Братец не переставал плакать, и мать взяла его на руки:
— Ты уж сутки не спишь, на глазах таешь... Усни, сыночек, успокойся, и хворь пройдет!
Села на лавку и начала Костю укачивать:
ю
Ой, лю-ли, мое дитятко,
Спи-тко, усни, дитя материно!
Все ласточки спят,
И галочки спят;
Куницы спят,
И лисицы спят...
Ласточки спят по гнездышкам,
Галочки — по кустикам,
• Мышки — по норочкам,
Младенцы спят по люлечкам...
Костя все равно стонал, капризничал и не засыпал.
В избу вошла соседка Авдотья Тиманкова и попросила взаймы горсть соли. Как бы между прочим сказала:
— Над вашей избой ворон кружится... Чего он угля-дел?
Мать отшатнулась:
— Ворон? К беде!
Тут же открыла окошко, выглянула и заговорила:
— Вижу, вижу тебя, ворон! Крикни, ворон, на сухой корень; корень — иссохнет, ворон — издохнет!..
Закрыв окно, мать облегченно вздохнула:
— Так от воронов заговариваются. Лежите, ребята, лежите: ворон вас не утащит!
Ворон утащил с Авдотьиного двора цыпленка, и мать даже улыбнулась:
— Мой заговор от нас ворона отогнал!
Чтобы уберечь нас от смерти, мать пошла в церковь, купила там пятачковую свечу, зажгла и понесла домой. Шла и огонек прикрывала от ветра полой зипуна. Так горящую и внесла в избу, и поставила перед иконами:
— Теперь, слава богу, свечка дорогой не потухла, и ваша жизнь, сыночки, тоже не погаснет!..
Через неделю Костя умер.
Мать терзалась:
— Господи, за что младенцев судишь и наказываешь? Лучше бы меня покарал!
Костю тоже положили в маленький сосновый гробик. В окно светило солнце, а на гробик падал широкий, похожий на старинный меч, яркий луч света. В нем плавали пылинки, а мне думалось, что это ангел прилетел..*
Братца похоронили.
У меня же, видимо, была не глотошная, а инфлюэн-ца, и такой чих открылся, что мать подала мне свой головной платок:
— Раз чихаешь, то не умрешь: это уж давняя примета!.. Только нос крепче зажимай, а то вместе с чихом и душеньку вычихаешь, а вернется она на старое место или нет, никто не скажет!
Мать тут же настригла с кончика котова хвоста волос и их сожгла. Пепел бережно собрала на ладонь и поднесла к моему носу:
— Клади в ноздри! Набивай, набивай! Это от чиха самое хорошее средствие!..
Скоро чих прекратился, и я стал подниматься с постели, а недели через две в селе кончилась эпидемия.
Мое выздоровление радовало родителей, но смерть Кости их так потрясла, что я этой радости почти не замечал. Еще бы! Костя, как младший брат, по сельскому обычаю должен был стать наследником отца. К этой мысли все привыкли, а тут... Отец как-то сразу сник, сгорбился и за что бы ни принимался, все валилось из рук. Несколько раз он спрашивал мать:
— Сознайся, к кому без меня детей водила? Где они заразы добыли? Ни с того ни с сего не могли захворать!
Мать не сознавалась и мне велела молчать.
Отец где-то дознался, как мы ходили прощаться с Васькой. Дознавшись, схватил мать за волосы и завертел и засверкал злобно-безумными глазами:
— Я те-бе за Кос-тю...
Но не ударил, а заплакал и выбежал из избы.
Вернулся только вечером. Мать опустилась на колени:
— Иванушка, я перед тобой за Костю виновата! Запряги меня, вместо Гнедка, в соху и бороздой опояшь нашу избу и двор, а то как бы смерть еще и Мишку не скосила!
Отец сверкнул глазищами:
— Что? Не выдумывай, а то я тебя так кнутом «опояшу», что и про борозду забудешь!
Мать поднялась:
— Мужики своих баб в сохи запрягают и борозды пропахивают — смерти дорогу пересекают, только ты хочешь быть умнее всех и для сына не стараешься. Гляди, Иванушка, если что с Мишкой случится, ты в ответе! Ты!.. Если уж борозду не хочешь, так хоть по углам усадьбы лошадиные головы на шестах поставь! Вон дядя Лексей Буров с сыном Спирькой на кладбище ездили, четыре лошадиных черепа привезли и на шестах держат — хворь от семьи отгоняют...
Отец перебил:
— Не зная броду — не суйся в воду! Не знаешь, для чего те лошадиные головы на шестах, и не говори... Буровы воздвигли их для пчел!
Мать изумилась:
— Для пчел?
— Для них... У Буровых в саду ульи. Пчелиный рой из улья вылетит и куда же ему деться? В лесу на дереве сядет, а тут где? Вот рои-то в лошадиные головы и кинутся, привьются, а Буровы их в пустой улей, и будет новая пчелиная семья в саду жить!
Мать на это ничего не ответила.
Вечером же, после ужина, мы с отцом легли спать, а мать опустилась на колени и стала молиться:
— Господи, даю тебе обет сходить в Саровский монастырь помолиться и мощам святого угодника божия Серафима поклониться...
Мы вошли в Васькину избу. В углу, в люльке, бессильно попискивал младенец, а на двух маленьких скамеечках стоял белый гробик. От него хорошо пахло сосной. У гробика толпились печальные бабы и шептались:
— Ваське бы жить — он уж большим стал,—а вот тому, в люльке-то, можно бы и умереть!
Это было так жестоко, что я схватил мать за руку и заплакал.
Встревоженная мать спросила:
— Ты что? Покойника боишься?
— Нет, младенца жалко! Зачем так тети сказали?
Мать замялась, но потом тихо ответила:
— Потому что Васька скоро бы стал и пахарем, и косцом, а этого, в люльке-то, ждать долго. Уж если богу нужен младенец, так пусть бы маленького и брал!
Эти слова были такими же злыми и жестокими, и потому я продолжал плакать. Мать подтолкнула меня ближе к гробику:
— Последний раз взгляни на Ваську!
Я помахал покойнику рукой. Костя тоже рукой махнул. Мать грубо вытурила нас из избы:
— Эх, проститься-то с покойником не умеете! Руками только уезжающим машут: скоро, мол, увидимся, а вы... Господи, научи несмышленышей жить!
Мы шли домой, и мать опять нам втолковывала:
— Васька счастливый! Его безгрешную душеньку ангел в рай понесет...
— Когда?
— Через сорок дней...
— А где Васькина душенька сорок дней будет жить?
— Где придется! По кладбищу, по овинам, по сен-ницам станет скитаться...
Мне стало жаль Васькиной душеньки, и я предложил:
— Мам, давай ее к нам позовем? Пусть на полатях спит!
Родительница даже вскрикнула:
— Молчи, а то душенька и без званья может к нг^м прилететь!..
Тут я вспомнил рассказ матери о райской жизни и Ваське позавидовал:
— Васька счастливый! Мам, я пойду с ним в рай? Мам, я там буду красные яблочки есть. Ты не бойся, мы с Васькой вместе будем на цимбалах играть и петь:
Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...
Мать больно треснула меня по затылку:
— Не мели чепухи!.. Всякому человеку дан свой срок жизни. Когда бог надумает, тогда к себе и зовет...
Но я не унимался:
А бог Ваську звал?
— Кабы не звал, Васька бы не умер!
— А как его бог звал? Кричал? Ты слыхала, как бог кричал?
— Не слыхала, а звал...
Я хотел еще о чем-то спросить, но мы подошли к дому, и мать таинственно шепнула:
— Ш-ш-ш! Глядите, у нас в углу Бука сидит! Она тебя за язык схватит...
Мы с братцем прижались друг к другу, и я еле слышно спросил:
— Мам, а Бука большая?
— С огородное пугало. По темным углам прячется и ребятишек за языки хватает!.. Глаза у Буки словно пуговицы, нос — луковицей, волосы — мочальные, губы — шлепанцы, уши — свинячьи, ноги — собачьи, голос — кошачий...
В темный запечный угол мы с братцем смотрели долго-долго, но Бука не показывалась. Костя сказал:
— Ее нет — она на улицу убезала...
Через несколько дней братец захворал, а потом слег и я.
Костя был слабым, хилым, рыхлым, и потому болезнь переносил плохо: плакал и жаловался:
— Голову ска бо-бо! Голлыско бо-бо!
Я как мог, так и утешал:
— У меня тоже головушка и горлышко болят, но я не плакаю!
Кот Васька лежал между нами, теплый, с ласковой шерстью, и мурлыкал. Братец положил на кота голову:
— Васька, у меня голову ска бо-бо!
Мать заметила, схватила кота за ухо и кинула на пол:
— П-ш-е-л вон!
Костя заплакал, закапризничал:
— Дай киску! Дай, дай!
— Нельзя кошку в свою постель класть — у тебя в голове лягушка заведется и станешь дурачком!..
Братец не переставал плакать, и мать взяла его на руки:
— Ты уж сутки не спишь, на глазах таешь... Усни, сыночек, успокойся, и хворь пройдет!
Села на лавку и начала Костю укачивать:
ю
Ой, лю-ли, мое дитятко,
Спи-тко, усни, дитя материно!
Все ласточки спят,
И галочки спят;
Куницы спят,
И лисицы спят...
Ласточки спят по гнездышкам,
Галочки — по кустикам,
• Мышки — по норочкам,
Младенцы спят по люлечкам...
Костя все равно стонал, капризничал и не засыпал.
В избу вошла соседка Авдотья Тиманкова и попросила взаймы горсть соли. Как бы между прочим сказала:
— Над вашей избой ворон кружится... Чего он угля-дел?
Мать отшатнулась:
— Ворон? К беде!
Тут же открыла окошко, выглянула и заговорила:
— Вижу, вижу тебя, ворон! Крикни, ворон, на сухой корень; корень — иссохнет, ворон — издохнет!..
Закрыв окно, мать облегченно вздохнула:
— Так от воронов заговариваются. Лежите, ребята, лежите: ворон вас не утащит!
Ворон утащил с Авдотьиного двора цыпленка, и мать даже улыбнулась:
— Мой заговор от нас ворона отогнал!
Чтобы уберечь нас от смерти, мать пошла в церковь, купила там пятачковую свечу, зажгла и понесла домой. Шла и огонек прикрывала от ветра полой зипуна. Так горящую и внесла в избу, и поставила перед иконами:
— Теперь, слава богу, свечка дорогой не потухла, и ваша жизнь, сыночки, тоже не погаснет!..
Через неделю Костя умер.
Мать терзалась:
— Господи, за что младенцев судишь и наказываешь? Лучше бы меня покарал!
Костю тоже положили в маленький сосновый гробик. В окно светило солнце, а на гробик падал широкий, похожий на старинный меч, яркий луч света. В нем плавали пылинки, а мне думалось, что это ангел прилетел..*
Братца похоронили.
У меня же, видимо, была не глотошная, а инфлюэн-ца, и такой чих открылся, что мать подала мне свой головной платок:
— Раз чихаешь, то не умрешь: это уж давняя примета!.. Только нос крепче зажимай, а то вместе с чихом и душеньку вычихаешь, а вернется она на старое место или нет, никто не скажет!
Мать тут же настригла с кончика котова хвоста волос и их сожгла. Пепел бережно собрала на ладонь и поднесла к моему носу:
— Клади в ноздри! Набивай, набивай! Это от чиха самое хорошее средствие!..
Скоро чих прекратился, и я стал подниматься с постели, а недели через две в селе кончилась эпидемия.
Мое выздоровление радовало родителей, но смерть Кости их так потрясла, что я этой радости почти не замечал. Еще бы! Костя, как младший брат, по сельскому обычаю должен был стать наследником отца. К этой мысли все привыкли, а тут... Отец как-то сразу сник, сгорбился и за что бы ни принимался, все валилось из рук. Несколько раз он спрашивал мать:
— Сознайся, к кому без меня детей водила? Где они заразы добыли? Ни с того ни с сего не могли захворать!
Мать не сознавалась и мне велела молчать.
Отец где-то дознался, как мы ходили прощаться с Васькой. Дознавшись, схватил мать за волосы и завертел и засверкал злобно-безумными глазами:
— Я те-бе за Кос-тю...
Но не ударил, а заплакал и выбежал из избы.
Вернулся только вечером. Мать опустилась на колени:
— Иванушка, я перед тобой за Костю виновата! Запряги меня, вместо Гнедка, в соху и бороздой опояшь нашу избу и двор, а то как бы смерть еще и Мишку не скосила!
Отец сверкнул глазищами:
— Что? Не выдумывай, а то я тебя так кнутом «опояшу», что и про борозду забудешь!
Мать поднялась:
— Мужики своих баб в сохи запрягают и борозды пропахивают — смерти дорогу пересекают, только ты хочешь быть умнее всех и для сына не стараешься. Гляди, Иванушка, если что с Мишкой случится, ты в ответе! Ты!.. Если уж борозду не хочешь, так хоть по углам усадьбы лошадиные головы на шестах поставь! Вон дядя Лексей Буров с сыном Спирькой на кладбище ездили, четыре лошадиных черепа привезли и на шестах держат — хворь от семьи отгоняют...
Отец перебил:
— Не зная броду — не суйся в воду! Не знаешь, для чего те лошадиные головы на шестах, и не говори... Буровы воздвигли их для пчел!
Мать изумилась:
— Для пчел?
— Для них... У Буровых в саду ульи. Пчелиный рой из улья вылетит и куда же ему деться? В лесу на дереве сядет, а тут где? Вот рои-то в лошадиные головы и кинутся, привьются, а Буровы их в пустой улей, и будет новая пчелиная семья в саду жить!
Мать на это ничего не ответила.
Вечером же, после ужина, мы с отцом легли спать, а мать опустилась на колени и стала молиться:
— Господи, даю тебе обет сходить в Саровский монастырь помолиться и мощам святого угодника божия Серафима поклониться...
• • •
УТРОМ Я ПРОСНУЛСЯ И ОГЛЯДЕЛСЯ: ОТЦА В ИЗБЕ НЕ БЫЛО, А МАТЬ У ПЕЧИ ВОЗИЛАСЬ. Я спросил: — Мам, ты какой обед богу понесешь? Похлебку с картошкой? А бог молоко пьет? Возьми горшок молока! Мать изумленно на меня воззрилась: — Господи, помилуй! Мишка, ты не сдурел ли? О каком обеде толкуешь? — Нет, мам, я не сдурел, а ты сама вчера молилась и богу посулила обед — хотела его в монастырь отнести! Мать давно не улыбалась, а тут фыркнула: — Ну что ты мелешь! Я дала богу обет ~ обещание в монастыре помолиться.,. Я сел завтракать и стал думать. Человек умирает — тело в землю зарывают, душу ангел или дьявол утаскивают... Все это понятно, но откуда же люди взялись? Об этом я спросил мать. Она ответила: — По-разному толкуют, а кому верить — не знаю! Одни сказывают, что первого человека бог из земли слепил, а вот нищенка мордовка мне толковала иное: будто не бог лепил, а дьявол! Слепить-то слепил, а живым сделать не смог. Тут подошел бог и сказал: «Если не умеешь, то не суй поганого носа не в свое дело!» Дунул человеку в рот, и человек побежал! — Мам, а тот человек был мужиком или бабой? — Вот глупенький! Раз человек, то мужик, а баба есть баба... Вот мужик-то один по земле ходил, ходил и загрустил, затосковал — вольный свет стал немилым. Бог это увидел и наслал на мужика сон. Пока мужик спал, бог подкрался и вырезал у него одно ребро, да из реб-ра-то бабу и сделал! Потому-то бабы и выносливее и крепче мужиков. Еще бы! Мужик из рыхлой земли, а баба — из твердой кости... Я поинтересовался: — И меня дьявол из глины и земли делал? Мать руками замахала: — Что ты, что ты! Нет, ты не из глины и не из земли. — А из чего же? — Курочка снесла яичко, на нем посидела, и ты из яичка вылупился: маленький, черненький, писклявень-кий, волосенки реденькие — смешной такой!.. У нас было столько кур, сколько у меня на руке пальцев и еще одна — черная курица. Я подумал, что она-то и вывела меня, но, чтобы не ошибиться, спросил мать: — Меня Чернушка высидела? — Она, она... — А почему она? — Потому, что курица черная и ты черный... Это меня убедило, и я уверовал, что Чернушка дала мне жизнь. Хотелось только знать: других мальчишек тоже куры высиживают? Ну, например, нашего соседа Лаврушку Егранова? Я об этом и спросил мать. Она улыбнулась: — Нет, Лаврушка из воробьиного яичка! — Почему ты знаешь? — Потому, что у Лаврушки на носу веснушки... Это было тоже правдой: у Лаврушки пестрели такие веснушки, что их и воробьи с синицами не выклевали бы! На моем же носу веснушек не было, и я с гордостью на одной ноге заплясал: — Эх, я от курицы, а Лаврушка только от воробьихи! Туг мимо окна проковыляла какая-то девчонка, и я спросил мать: — Девчонки тоже из ребер сделаны? — Нет, они из голубиных яичек... — А почему? — Потому что девчонки смиренные и кроткие, как голуби... Вскоре наша Чернушка повела себя странно: хохлилась, важдичала и не только кур и голубей, но и самого петуха по двору гоняла. Даже на чью-то забежавшую во двор собаку кинулась драться! Мать сказала: — Чернушка хочет вывести малых деточек-цыплято-чек. Надо ее в лукошко на яички посадить... Сказала так и тут же принесла из амбара лукошко, настелила в него соломы и, отступив в сторонку, полюбовалась: — Вот какое будет у наседки гнездо! Потом мать положила в лукошко десяток яиц, перекрестила их, закрыла платком и под ним яйца перемешала: — Теперь сюда дьявол не залезет и яиц не испортит... А ты, Мишка, тоже к наседке не подходи! Она злая-презлая: глаза выклюнет или руки окровянит... Мне хотелось, чтобы Чернушка не только цыплят, но и мальчика высидела, и потому я подходил и упрашивал: — Не злись! Высидишь мне братца, стану тебя зернышками и червяками кормить, водичкой поить... И тятька с мамкой тебе зернышек дадут!.. Не злись, у меня братец умер. Выведи другого мальчика: маленького, черненького... Я буду его Костей звать. Выведи, а то тятька мамку за волосы хватал и ругался! Чернушка смотрела зло и настороженно: ворчала, топорщилась, становилась широкой и норовила клюнуть меня в лицо, но я вовремя отскакивал... Не знаю, сколько дней прошло, но наседка вывела девять цыплят и ни единого мальчика! Десятое яйцо оказалось испорченным. Мать его выбросила и через левое плечо три раза плюнула: — Тьфу, тьфу, тьфу! Это «болтун»... Все-таки дьявол хоть одно яйцо, но испортил! И как он до крещеных яиц осмелился дотронуться? Я не отозвался: дьявол не был виновным — я с наседкой часто болтал, и яйцо сделалось болтуном... МОЮ ВЕРУ В ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТ КУРИЦЫ РАЗРУШИЛ ПРОХОЖИЙ. Он говорил отцу: — Завидую тебе, хозяин, на- следника растишь! Беда гореванная, когда у мужика одни дочери. У меня, к примеру, пять девок, и от них хоть головой в омут! Обчество земли не прибавляет, а дочери есть-пить просят... Прохожий спросил меня: — Тебя как звать-то? — Мишкой... — Хорошее имячко! Где же тебя, Мишка, родители нашли? В капусте? Я горделиво ответил: — Нет, не в капусте! Меня черная курица из яичка высидела, а Лаврушку Егранова — воробьиха: у него на носу веснушки. Прохожий рассмеялся: — Ишь, затейник, чего выдумал! Куры только цыплят выводят, а младенцев родители в капустных грядках находят. Тоном знающего человека, я заметил: — Мальчишек и девчонок бог из глины и земли лепит! Прохожий смутился: — Что делает бог на небесах, нам, грешным, неведомо! Слыхал я, что ангел божий младенца с неба приносит и в капустных грядках оставляет, Хотя эта новость меня ошеломила, но я еще оказался в состоянии спросить прохожего: — А зачем же ты одних девок в капусте брал, а теперь плачешь? Он развел руками и переглянулся с отцом: — Брал... Соседям ангел божий мальчишек приносил, а мне одних девчонок... Отказался бы, да нельзя: так уж богом положено... И вот, когда прохожий от нас ушел, я дал реву: — А мамка сказывала, что я из куриного яичка! И Лаврушка из яичка, только из воробьиного, а девчонки — из голубиных... Отец ответил: — Мать пошутила... Капустник ты! Я выбежал в огород и пошарил по грядкам капусты. Между ними младенцев не было. Тогда я стал смотреть в небо. Больше всего волновало то, как ангел меня на землю нес: ведь вон какая высота! Ангел мог бы нечаянно меня уронить, и тогда... А может и уронил, да я на мягкую землю упал? Хорошо, что в наш огород свалился, а если бы в соседский? Дед Михайла Тиман-ков стал бы моим отцом или дядя Митрофан? Быть их сыном я не желал и потому решил: — Убежал бы от них к тятьке Ивану и к мамке Анне! Прошло несколько дней, и я уже смирился с тем, что не курицин сын, а капустник. Однако мое спокойствие вновь было потревожено. Из Питера приехала крестная — Анисья Столбова —j и подарила мне коробочку леденцов: — Вот, крестничек, от меня и от дяди Андрея гостинчик! Ешь, скорее вырастешь, женим, и будешь отцу с матерью кормильцем. Мать счастливо улыбнулась: — Он у нас — тьфу, тьфу, тьфу, как бы не сглазить! — не по дням, а по часам растет. Помнишь, каким я его родила? С кулачок был, а теперь вон какой вытянулся! Я навострил уши: — Мам, а ты как меня родила? — Тяжело, сынок! Перед родами-то меня угораздило через помело перешагнуть, а уж раз так, то будет тяжело. Спасибо попу сказываю: на своем животе пояс отпустил, и мне сразу стало легче... Все это было интересно, но я чувствовал, что мать утаивала главное, и спросил: — Мам, ты меня в капусте нашла? А тятька тоже искал? Крестная сурово сдвинула брови: — Это еще что за говор? В капусте только подкидышей находят, а ты от законных родителей происходишь... Анисья Столбова была для нашей семьи авторитет ной: часто ездила к мужу в Питер, многое видела, мно гое знала, и потому ей я сразу поверил, но все-такг спросил мать: — А где я был, когда ты меня еще не выродила? Она стыдливо опустила глаза: — Во рту сидел. Под языком. Когда с кулачок вырос, я тебя выплюнула... — А как же ты картошку ела? — Ела, глотала и тебя жеванкой кормила... Я пальцем полазил у себя во рту, а потом попросил мать: — Покажи, где я под языком сидел? Мать головой замотала: — Ну тебя! Пристал как смола. Я настаивал, и мать открыла рот и приподняла язык. Осмотрев подъязычие, я 'остался довольным: все-таки под материным языком не плохо сидеть! Но в таком счастливом убеждении я пробыл недолго. Мальчишки-купальщики выловили в Мирском пруду труп младенца: маленького, синего, страшного. Село всполошилось. Только и говору было: — Нагуляла какая-то ветродуйка дите и его, безвинного, в воду... — И как только сердце вытерпело? —■ Кто дите смерти предает, тот уж не человек, а зверь! Бабы собирались на завалинках и вспоминали, у кого из вдов и девок были в последние дни грузные животы, но ни единой подозрительной не находили. Мы, мальчишки-малолетки, во всем происшедшем разбирались плохо, и Мотька Вахняев, отчаянный драчун, полужених, стал нас просвещать: — Девка или вдова родила: ребенок плачет, а она его за ноги и в пруд! Я спросил: — Он у вдовы под языком сидел, и она младенца выплюнула? Мотька расхохотался, схватился за живот, свалился на лужайку, ноги задрал: — Ха-ха-ха! «Выплюнула»... Насмеявшись, дал мне щелчка в лоб: — Надо, малек, своей головешкой думать, а не мамку слушать! : И со всеми подробностями рассказал нам, как рож даются младенцы. Я убежал домой. Забрался под лавку и решил: «Умру, а отсюда никуда не пойду! Все меня обманывают: мамка, прохожий, крестная и тятька тоже...»
 Под лавкой я и уснул.
Разбудил меня отец:
— Мишка, ты что, словно кутенок, под лавку забился?
Я в это время и был похожим на загнанного кутенка. Не вылезая из-под лавки, завизжал:
— Об-ман-щи-ки-и! Сказали, что я от Чернушки, в капусте нашли, у мамки под языком рос, а вовсе не под языком — в животике лежал...
Словом, я пересказал отцу всю ту голую правду, которую услышал от Мотьки Вахняева. Отец крутил и крутил ус, а потом сказал:
— И ты из-за такого пустяка воешь? Да ведь так родятся телята, жеребята, кутята, котята, ягнята и козлята...
— А яблони?
— Из семечек вырастают...
— А горох?
— Тоже из зерен...
В этот день я постиг тайну своего появления на свет'
Под лавкой я и уснул.
Разбудил меня отец:
— Мишка, ты что, словно кутенок, под лавку забился?
Я в это время и был похожим на загнанного кутенка. Не вылезая из-под лавки, завизжал:
— Об-ман-щи-ки-и! Сказали, что я от Чернушки, в капусте нашли, у мамки под языком рос, а вовсе не под языком — в животике лежал...
Словом, я пересказал отцу всю ту голую правду, которую услышал от Мотьки Вахняева. Отец крутил и крутил ус, а потом сказал:
— И ты из-за такого пустяка воешь? Да ведь так родятся телята, жеребята, кутята, котята, ягнята и козлята...
— А яблони?
— Из семечек вырастают...
— А горох?
— Тоже из зерен...
В этот день я постиг тайну своего появления на свет'
• • •
 МАТЬ ЧАСТО ГОВАРИВАЛА: — Все отцы как деревянные! Они не понимают, что детей можно вырастить смирными, покорными и богоугодными или разбойниками, ши-бенниками. Как руки приложишь, таким сын или дочь будут!..
И мать усердно «прикладывала» ко мне руки. Когда отца в избе не бывало, мать пальцем показывала на икону:
— Видишь? Это бог. Боженька. Он вседержитель, всемилостивый, всеблагий, всеведающий, всевидящий, всеслышащий. Бог нас кормит, поит, одевает, обувает, согревает... Без бога — ни до порога, а с богом — хоть за море бежать!
Я слушал и недоумевал: «Когда же бог нас кормит, если мы сами едим? И сами одеваемся, и греет нас не бог, а солнышко?»
Бог на иконе был длинноволосым, большеносым и бородатым. Он походил на сельского священника Николая Модератова. Мне казалось, что священник и есть бог...
Рядом с бородатым богом стояла икона божией матери. Она была во всем кумачевом и легко, словно перышко, держала нежной ручкой пухлощекого, толсторукого и толстоногого младенца. Я спросил мать:
— Как у божихи мальчика звать?
Мать посуровела:
— Это что за «божиха»? Божья мать, богоматерь, богородица, владычица небесная, спасительница и заступница наша... Понял? Она держит на руках бога-младенца, а зовут его Иисусом Христом...
Я почти ничего не понял:
— А тот бог, который с бородой?
— Так тот бог-отец, а этот младенец — ему сын и, значит, бог-сын...
Я понял так: на нашей божнице стоит целая семья огов! А как же? Бог-муж, божиха-жена и их наследник, >рмилец и поилец бог-сын... Только одно оставалось • ^понятным: чего младенец в руке держит? То ли мяч,
. л ли колобок? Мать сказала, что Иисус держит в руке ашу землю. Я усомнился:
— Она, что ли, круглая? А почему я не падаю?
Мать и сама-то в круглую землю не верила и потому
сказала:
— Нет, не круглая! Земля похожа на сковороду, да ведь икону-то рисовал богомаз из села Мамлеева. Богомаз-то, может, и не слыхал, что земля на трех китах держится, а киты в море плавают, а море в божьем корыте волнуется...
Чтобы сильнее подействовать на мое воображение, мать таинственно шептала:
— Бог — всевидящий и потому все, все до крошечки, до пушиночки видит! Он всезнающий и все о тебе, обо мне, об отце, о крестной знает. За все наши прегрешения бог гневается и наказывает...
У меня от страха сердце сжималось. Еще бы! Если мать больно наказывала, то бог еще сильнее... Правда, я потом узнал, что бог своими руками людей не бьет, а посылает пророка Илью, и тот, раскатываясь по высокому небу на огненных конях и на огненной колеснице, кидает в грешников молнии и громы...
Мать также говорила, что бог может отнять язык, руки, ноги... Этого я особенно страшился! Подкатит Илья-пророк, схватит за язык и вырвет... Или руки отрежет. И ноги тоже... Что я тогда без языка, без рук и ног стану делать?
Чтобы такой беды не случилось, я старался крепче держать язык за зубами, руки — за спиной, но вот ноги... Спрятать их было невозможно, и это меня сильно угнетало и держало в постоянной настороженности.
Мать усердно учила меня молиться. Перво-наперво надо было наловчиться складывать троеперстие, но оно у меня долго не получалось. Мать сердилась:
— Да что у тебя пальцы-то, словно грабельные зубья: не гнутся, не ворочаются, а торчат врозь? Уроды — не уроды... Не троеперстие, а кукиш складываешь. Бог его увидит и тебя громом-молнией в щепки разнесет!
Троеперстие я научился складывать случайно. Доставал из солонки щепоть соли и взглянул на свои пальцы: они сами собой сложились в троеперстие, и я испытал такую радость, что даже закричал:
— Мам, глянь, я сложил!
И тут же ткнул себя щепотью в лоб, в живот, в правое и левое плечи, да так, что соль посыпалась! Мать вскрикнула:
— Что ты наделал? Кто соль рассыпает, тот сам на части рассыплется и в семье ссору заведет. Собери все до единой крошечки-солиночки!
Пришлось собрать.
После этого мать меня похвалила:
— А за то, что научился троеперстие складывать, молодец!
Хотя бог и был гневен и страшен, но детское любопытство и лукавство пересилило страх: я решил испытать бога и с замиранием сердца перекрестился кукишем. Было тихо, и я обрадовался: «Ага, бог не увидел мой кукиш и молнию с громом не послал!»
Но если бог проморгал, то мать заметила и дернула меня за вихор:
— Не забывай, как надо троеперстие складывать! Бога не обманешь, не обведешь: он каждое слово слышит, каждый шаг видит, а уж такой-то кукиш тем более зрил!
Я спросил:
— А почему же бог меня молнией и громом не расщепал?
— И птица с пути сбивается, а ты маленький, глупенький, и бог на первых порах тебя пожалел и простил: «Погляжу, как он завтра станет молиться!»
Мой ум воспринимал явления только в зримых образах. Бог на иконе был понятным, а на небе — нет. Я до рези в глазах смотрел в высокое небо, но бога не видел. И в моем уме зародилось сомнение: «Бог не может на
гг
небе сидеть! Там ни лавки, ни скамейки, ни табуретки — держаться не за что!»
Правда, я вспомнил, что мухи, пауки и тараканы ползают по потолку вниз спиной и не падают... Тут же представил и ползущего по небу вниз спиной бога и рассмеялся:
— Нет, бог на небе не живет, а если бы по-тараканьи ползал, то бы на землю ляпнулся и кости переломал!
Мать ревностно следила за тем, чтобы я во время еды молчал, не чавкал, головой не крутил, ногами не дергал, хлебных крошек на пол не ронял, а кончив есть, ложку бы облизывал.... Она наблюдала за мной и говорила:
— Знаешь, кто есть торопится?
— Нет...
— Собака... Жуй дольше — проживешь на свете больше!.. А чавкает свинья. Болтает и трещит сорока — поэтому люди за столом молчат. Башкой крутит сова. И ты по-совиному головой не крути! Кто ногами вертит — дьявола тешит. Хлебные крошки на пол не роняй — хлеб прогневишь: родиться перестанет — он почтения и уважения требует. А ну, собери с пола крошки! И ложку оближи, а то дьявол ее оближет и она будет смрадом пахнуть...
После еды надо было бога благодарить: «Слава тебе, создателю, за то, что насытил меня хлебом насущным»... Я долго не мог одолеть трудного слова «насущным» и говорил «насучным». Мать гневалась:
— Не «насучным», а насущным! На сучьях и на сучках хлеб не растет.
Вначале я благодарил бога старательно, а потом это мне надоело. Однажды я выскочил из-за стола, кое-как пробормотал привычные слова и хотел бежать, но мать успела схватить меня за рубаху:
— Постой, молодчик, погоди! Ты что это богу-то, словно собаке кость, бросил? Разве так нашего кормильца, поильца и милостивца благодарят? А ну, благодари как следует!
Пришлось благодарить громко, но мать опять осталась неводольной:
— Не кричи! Бога благодарят от души, а когда кричат, он уши пальцами затыкает и к молящемуся спиной поворачивается...
Я тут же представил, как бог повернулся ко мне спиной и воткнул в уши пальцы... И спину бога представил: широкую, как у двоюродного дяди Митрофана...
МАТЬ ЧАСТО ГОВАРИВАЛА: — Все отцы как деревянные! Они не понимают, что детей можно вырастить смирными, покорными и богоугодными или разбойниками, ши-бенниками. Как руки приложишь, таким сын или дочь будут!..
И мать усердно «прикладывала» ко мне руки. Когда отца в избе не бывало, мать пальцем показывала на икону:
— Видишь? Это бог. Боженька. Он вседержитель, всемилостивый, всеблагий, всеведающий, всевидящий, всеслышащий. Бог нас кормит, поит, одевает, обувает, согревает... Без бога — ни до порога, а с богом — хоть за море бежать!
Я слушал и недоумевал: «Когда же бог нас кормит, если мы сами едим? И сами одеваемся, и греет нас не бог, а солнышко?»
Бог на иконе был длинноволосым, большеносым и бородатым. Он походил на сельского священника Николая Модератова. Мне казалось, что священник и есть бог...
Рядом с бородатым богом стояла икона божией матери. Она была во всем кумачевом и легко, словно перышко, держала нежной ручкой пухлощекого, толсторукого и толстоногого младенца. Я спросил мать:
— Как у божихи мальчика звать?
Мать посуровела:
— Это что за «божиха»? Божья мать, богоматерь, богородица, владычица небесная, спасительница и заступница наша... Понял? Она держит на руках бога-младенца, а зовут его Иисусом Христом...
Я почти ничего не понял:
— А тот бог, который с бородой?
— Так тот бог-отец, а этот младенец — ему сын и, значит, бог-сын...
Я понял так: на нашей божнице стоит целая семья огов! А как же? Бог-муж, божиха-жена и их наследник, >рмилец и поилец бог-сын... Только одно оставалось • ^понятным: чего младенец в руке держит? То ли мяч,
. л ли колобок? Мать сказала, что Иисус держит в руке ашу землю. Я усомнился:
— Она, что ли, круглая? А почему я не падаю?
Мать и сама-то в круглую землю не верила и потому
сказала:
— Нет, не круглая! Земля похожа на сковороду, да ведь икону-то рисовал богомаз из села Мамлеева. Богомаз-то, может, и не слыхал, что земля на трех китах держится, а киты в море плавают, а море в божьем корыте волнуется...
Чтобы сильнее подействовать на мое воображение, мать таинственно шептала:
— Бог — всевидящий и потому все, все до крошечки, до пушиночки видит! Он всезнающий и все о тебе, обо мне, об отце, о крестной знает. За все наши прегрешения бог гневается и наказывает...
У меня от страха сердце сжималось. Еще бы! Если мать больно наказывала, то бог еще сильнее... Правда, я потом узнал, что бог своими руками людей не бьет, а посылает пророка Илью, и тот, раскатываясь по высокому небу на огненных конях и на огненной колеснице, кидает в грешников молнии и громы...
Мать также говорила, что бог может отнять язык, руки, ноги... Этого я особенно страшился! Подкатит Илья-пророк, схватит за язык и вырвет... Или руки отрежет. И ноги тоже... Что я тогда без языка, без рук и ног стану делать?
Чтобы такой беды не случилось, я старался крепче держать язык за зубами, руки — за спиной, но вот ноги... Спрятать их было невозможно, и это меня сильно угнетало и держало в постоянной настороженности.
Мать усердно учила меня молиться. Перво-наперво надо было наловчиться складывать троеперстие, но оно у меня долго не получалось. Мать сердилась:
— Да что у тебя пальцы-то, словно грабельные зубья: не гнутся, не ворочаются, а торчат врозь? Уроды — не уроды... Не троеперстие, а кукиш складываешь. Бог его увидит и тебя громом-молнией в щепки разнесет!
Троеперстие я научился складывать случайно. Доставал из солонки щепоть соли и взглянул на свои пальцы: они сами собой сложились в троеперстие, и я испытал такую радость, что даже закричал:
— Мам, глянь, я сложил!
И тут же ткнул себя щепотью в лоб, в живот, в правое и левое плечи, да так, что соль посыпалась! Мать вскрикнула:
— Что ты наделал? Кто соль рассыпает, тот сам на части рассыплется и в семье ссору заведет. Собери все до единой крошечки-солиночки!
Пришлось собрать.
После этого мать меня похвалила:
— А за то, что научился троеперстие складывать, молодец!
Хотя бог и был гневен и страшен, но детское любопытство и лукавство пересилило страх: я решил испытать бога и с замиранием сердца перекрестился кукишем. Было тихо, и я обрадовался: «Ага, бог не увидел мой кукиш и молнию с громом не послал!»
Но если бог проморгал, то мать заметила и дернула меня за вихор:
— Не забывай, как надо троеперстие складывать! Бога не обманешь, не обведешь: он каждое слово слышит, каждый шаг видит, а уж такой-то кукиш тем более зрил!
Я спросил:
— А почему же бог меня молнией и громом не расщепал?
— И птица с пути сбивается, а ты маленький, глупенький, и бог на первых порах тебя пожалел и простил: «Погляжу, как он завтра станет молиться!»
Мой ум воспринимал явления только в зримых образах. Бог на иконе был понятным, а на небе — нет. Я до рези в глазах смотрел в высокое небо, но бога не видел. И в моем уме зародилось сомнение: «Бог не может на
гг
небе сидеть! Там ни лавки, ни скамейки, ни табуретки — держаться не за что!»
Правда, я вспомнил, что мухи, пауки и тараканы ползают по потолку вниз спиной и не падают... Тут же представил и ползущего по небу вниз спиной бога и рассмеялся:
— Нет, бог на небе не живет, а если бы по-тараканьи ползал, то бы на землю ляпнулся и кости переломал!
Мать ревностно следила за тем, чтобы я во время еды молчал, не чавкал, головой не крутил, ногами не дергал, хлебных крошек на пол не ронял, а кончив есть, ложку бы облизывал.... Она наблюдала за мной и говорила:
— Знаешь, кто есть торопится?
— Нет...
— Собака... Жуй дольше — проживешь на свете больше!.. А чавкает свинья. Болтает и трещит сорока — поэтому люди за столом молчат. Башкой крутит сова. И ты по-совиному головой не крути! Кто ногами вертит — дьявола тешит. Хлебные крошки на пол не роняй — хлеб прогневишь: родиться перестанет — он почтения и уважения требует. А ну, собери с пола крошки! И ложку оближи, а то дьявол ее оближет и она будет смрадом пахнуть...
После еды надо было бога благодарить: «Слава тебе, создателю, за то, что насытил меня хлебом насущным»... Я долго не мог одолеть трудного слова «насущным» и говорил «насучным». Мать гневалась:
— Не «насучным», а насущным! На сучьях и на сучках хлеб не растет.
Вначале я благодарил бога старательно, а потом это мне надоело. Однажды я выскочил из-за стола, кое-как пробормотал привычные слова и хотел бежать, но мать успела схватить меня за рубаху:
— Постой, молодчик, погоди! Ты что это богу-то, словно собаке кость, бросил? Разве так нашего кормильца, поильца и милостивца благодарят? А ну, благодари как следует!
Пришлось благодарить громко, но мать опять осталась неводольной:
— Не кричи! Бога благодарят от души, а когда кричат, он уши пальцами затыкает и к молящемуся спиной поворачивается...
Я тут же представил, как бог повернулся ко мне спиной и воткнул в уши пальцы... И спину бога представил: широкую, как у двоюродного дяди Митрофана...
 МАТЬ МОЛИЛАСЬ БОГУ ЧАСТО, УСЕРДНО, ПОДОЛГУ ВЫСТАИВАЯ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ИКОНАМИ. Богу бы и гневаться на мою мать не за что было, но он все-таки огневался: у нее опухли десны и стали кровоточить. Мать полоскала их крещенской водой, мазала елеем и натирала толченой солью. Врачевание пользы не принесло — десны кровоточили и зубы качались. Мать сокрушалась:
— Вперед умнее буду: не стану на ночь на столе не-доедки оставлять! Вот кусок хлеба оставила, мыши его съели, и у меня от этого десны распухли.
Я спросил:
— А бог?
— Что бог? Он на меня огневался и мышей послал.
— Молись ему — он поможет!
Мать раздраженно ответила:
— Молись, хоть рука отвались!.. Я уж великомученику Антипу молилась — он с зубов боль снимает,— да молитва не помогает...
— Антип не хочет помогать?
— Разве я знаю, хочет он или не хочет! К нему не к сельскому писарю и не к дьячку — не сбегаешь, не спросишь...
Не знаю, чем бы закончилась болезнь материных десен, не вмешайся сосед Тиманков Михайла. Он посоветовал матери:
— Ты, Анна Лександровна, сходи в Котловань, нарви дикого чесноку, с неделю поешь и... Лук лечит от семи недуг и твои десны вылечит!
Мать послушалась доброго человека и стала собираться в поле:
— Пойдем, сынок, в Котловань: научу тебя дикий лук собирать.
Я был рад-радешенек побыть в поле и потому сразу согласился. Мать вывела меня за гумны и показала:
— Котловань вон там! Во-он!
Шли мы недолго, и перед нами возник огромный, похожий на чашу котлован. Я спросил:
— А кто тут землю рыл? Мужики? Тятька тоже рыл?
Мать снисходительно улыбнулась:
— Глупенький, да разве люди такую ямищу лопатами выроют? Тут было чудо, и его сотворил господь наш небесный!
Слушать о чудесах я любил и потому попросил:
— Расскажи про чудо! Расскажи! Сам бог яму вырыл? Он как ее рыл? С ангелами?
Мать от прямого ответа уклонилась:
— Старики сказывают, будто богатый купец откуда-то девушку-красавушку увез. Девушка-то горькими сле-зьми плакала и заливалась: «Ваше купеческое степенство, не делайте меня несчастной: отпустите к родному батюшке и родимой матушке!» Купец только бородищу погладил и не ответил...
Девушке хотелось вольной-волюшки, и она разорвала свою белую грудушку, вынула горячее сердечушко и бросила купцу под ноги: «Нет, не владеть тебе мною — вольною пташечкой!»
Купец озверел: сапожищем-каблучищем на девичье сердце наступил, а оно и взорвись! Словно тыща тыщ громов враз грянули. Землю, будто овсяную полову, на все стороны выбросило, и на месте сердца оставило эту котловину — ее мы Котлованью зовем...
Я задыхался от жалости к девушке-полонянке:
— А купец что?
Мать вздохнула:
— Да что о нем, охальнике, вспоминать-то? Был богат, спесив, а стал прахом, по ветру развеянным...
— А девушкино сердце?
— Я же тебе сказала: оно взорвалось и землю кровью обрызгало! Видишь, какая земля-то красная? Ее глиной зовут, а это не глина — земля такой от крови сделалась. Теперь-то уж ее дожди да непогоди вымыли, а раньше тут сплошная красная земля лежала...
Края-берега Котловани были покрыты мелким кустарничком, а на дне зеленела трава. Я спросил:
— Мам, а как же... почему же на такой глине трава растет?
— Да что ей не расти-то? Солнышко обогревает, дождики поливают, ветерки обдувают, росы умывают, и трава растет... Сперва-то Котловань была всклень воды — хоть на лодке катайся, но девичья кровь берег расслабила, вода из Котловани вырвалась и во-он туда хлынула! Вон! Видишь, какой овражище промыла? И в нем не удержалась: дальше побежала и, сказывают, в какую-то реку влилась...
— А та река?
— Не была я дальше-то и не знаю...
Мы спустились на дно Котловани, и мать сразу нашла тонкие, узкие, плоские перышки дикого лука. Я тоже нашел и вырвал из земли с луковичкой. Мать даже вскрикнула:
— Зачем так? Лук перестанет родиться. Ты о себе думай и о других людях не забывай: все мы болезны и смертны...
Луковичка была не больше крупной горошины и делилась на мелкие дольки. Мать сказала:
— Это девичьи слезы. Они не пропали, а диким луком проросли!
Луку мы нарвали горсти три и пошли домой. Мать рассказывала:
— Мы тут один раз с бабушкой из Скопина шли. Ночью. Вдруг ни с того ни с сего берега и дно Котловани и засветились. Словно вбда под луной. Мы — бежать! Немного отбежали, оглянулись — никакого света. Постояли, подождали, и опять будто зеркало засияло. Я тогда у бабушки спросила: что, мол, это за свет? Она ответила: «Девичье сердце ночами светит!»
Две недели мать ела дикий чеснок и стала выздоравливать и принялась бога благодарить:
— Слава тебе, создателю, за то, что помог рабе своей Анне от хвори-немощи исцелиться!
Это была такая неправда, что отец не смолчал и возмущенно проговорил:
— Полно блудословить-то! Не бог, а сосед Михайла помог...
— Правда, правда, мам! Дедушка Михайла тебе велел лук есть.
У матери глаза покруглели:
— Что ты, щенок, сказал? Ну-ка, повтори!
— Дедушка Михайла тебе помог десны вылечить, вот что я сказал! Бог тебя не лечил.
Отец рассмеялся:
— Так, сынок, так! Правду-матку режь в глаза...
Но только отец вышел из избы, как мать горестно
вздохнула:
— Ну, Мишка, ты и глуп! А дедушку-то Михайлу кто надоумил про лук сказать? Бог внушил!
— А что же тебе бог не внушил?
МАТЬ МОЛИЛАСЬ БОГУ ЧАСТО, УСЕРДНО, ПОДОЛГУ ВЫСТАИВАЯ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ИКОНАМИ. Богу бы и гневаться на мою мать не за что было, но он все-таки огневался: у нее опухли десны и стали кровоточить. Мать полоскала их крещенской водой, мазала елеем и натирала толченой солью. Врачевание пользы не принесло — десны кровоточили и зубы качались. Мать сокрушалась:
— Вперед умнее буду: не стану на ночь на столе не-доедки оставлять! Вот кусок хлеба оставила, мыши его съели, и у меня от этого десны распухли.
Я спросил:
— А бог?
— Что бог? Он на меня огневался и мышей послал.
— Молись ему — он поможет!
Мать раздраженно ответила:
— Молись, хоть рука отвались!.. Я уж великомученику Антипу молилась — он с зубов боль снимает,— да молитва не помогает...
— Антип не хочет помогать?
— Разве я знаю, хочет он или не хочет! К нему не к сельскому писарю и не к дьячку — не сбегаешь, не спросишь...
Не знаю, чем бы закончилась болезнь материных десен, не вмешайся сосед Тиманков Михайла. Он посоветовал матери:
— Ты, Анна Лександровна, сходи в Котловань, нарви дикого чесноку, с неделю поешь и... Лук лечит от семи недуг и твои десны вылечит!
Мать послушалась доброго человека и стала собираться в поле:
— Пойдем, сынок, в Котловань: научу тебя дикий лук собирать.
Я был рад-радешенек побыть в поле и потому сразу согласился. Мать вывела меня за гумны и показала:
— Котловань вон там! Во-он!
Шли мы недолго, и перед нами возник огромный, похожий на чашу котлован. Я спросил:
— А кто тут землю рыл? Мужики? Тятька тоже рыл?
Мать снисходительно улыбнулась:
— Глупенький, да разве люди такую ямищу лопатами выроют? Тут было чудо, и его сотворил господь наш небесный!
Слушать о чудесах я любил и потому попросил:
— Расскажи про чудо! Расскажи! Сам бог яму вырыл? Он как ее рыл? С ангелами?
Мать от прямого ответа уклонилась:
— Старики сказывают, будто богатый купец откуда-то девушку-красавушку увез. Девушка-то горькими сле-зьми плакала и заливалась: «Ваше купеческое степенство, не делайте меня несчастной: отпустите к родному батюшке и родимой матушке!» Купец только бородищу погладил и не ответил...
Девушке хотелось вольной-волюшки, и она разорвала свою белую грудушку, вынула горячее сердечушко и бросила купцу под ноги: «Нет, не владеть тебе мною — вольною пташечкой!»
Купец озверел: сапожищем-каблучищем на девичье сердце наступил, а оно и взорвись! Словно тыща тыщ громов враз грянули. Землю, будто овсяную полову, на все стороны выбросило, и на месте сердца оставило эту котловину — ее мы Котлованью зовем...
Я задыхался от жалости к девушке-полонянке:
— А купец что?
Мать вздохнула:
— Да что о нем, охальнике, вспоминать-то? Был богат, спесив, а стал прахом, по ветру развеянным...
— А девушкино сердце?
— Я же тебе сказала: оно взорвалось и землю кровью обрызгало! Видишь, какая земля-то красная? Ее глиной зовут, а это не глина — земля такой от крови сделалась. Теперь-то уж ее дожди да непогоди вымыли, а раньше тут сплошная красная земля лежала...
Края-берега Котловани были покрыты мелким кустарничком, а на дне зеленела трава. Я спросил:
— Мам, а как же... почему же на такой глине трава растет?
— Да что ей не расти-то? Солнышко обогревает, дождики поливают, ветерки обдувают, росы умывают, и трава растет... Сперва-то Котловань была всклень воды — хоть на лодке катайся, но девичья кровь берег расслабила, вода из Котловани вырвалась и во-он туда хлынула! Вон! Видишь, какой овражище промыла? И в нем не удержалась: дальше побежала и, сказывают, в какую-то реку влилась...
— А та река?
— Не была я дальше-то и не знаю...
Мы спустились на дно Котловани, и мать сразу нашла тонкие, узкие, плоские перышки дикого лука. Я тоже нашел и вырвал из земли с луковичкой. Мать даже вскрикнула:
— Зачем так? Лук перестанет родиться. Ты о себе думай и о других людях не забывай: все мы болезны и смертны...
Луковичка была не больше крупной горошины и делилась на мелкие дольки. Мать сказала:
— Это девичьи слезы. Они не пропали, а диким луком проросли!
Луку мы нарвали горсти три и пошли домой. Мать рассказывала:
— Мы тут один раз с бабушкой из Скопина шли. Ночью. Вдруг ни с того ни с сего берега и дно Котловани и засветились. Словно вбда под луной. Мы — бежать! Немного отбежали, оглянулись — никакого света. Постояли, подождали, и опять будто зеркало засияло. Я тогда у бабушки спросила: что, мол, это за свет? Она ответила: «Девичье сердце ночами светит!»
Две недели мать ела дикий чеснок и стала выздоравливать и принялась бога благодарить:
— Слава тебе, создателю, за то, что помог рабе своей Анне от хвори-немощи исцелиться!
Это была такая неправда, что отец не смолчал и возмущенно проговорил:
— Полно блудословить-то! Не бог, а сосед Михайла помог...
— Правда, правда, мам! Дедушка Михайла тебе велел лук есть.
У матери глаза покруглели:
— Что ты, щенок, сказал? Ну-ка, повтори!
— Дедушка Михайла тебе помог десны вылечить, вот что я сказал! Бог тебя не лечил.
Отец рассмеялся:
— Так, сынок, так! Правду-матку режь в глаза...
Но только отец вышел из избы, как мать горестно
вздохнула:
— Ну, Мишка, ты и глуп! А дедушку-то Михайлу кто надоумил про лук сказать? Бог внушил!
— А что же тебе бог не внушил?
• • •
 ВМЕСТО ОТВЕТА МАТЬ СТАЛА МЕНЯ ЗАПУГИВАТЬ:
— Такие мысли дьявол внушает: он у тебя за левым плечом сидит и в ухо нашептывает — с пути истинного сбивает. Ты слушай правым ухом: за правым плечом ангел божий...
Вот я не велела по средам и пятницам скоромное есть: скоромничают только баре да собаки... Ты кого послушался: меня или дьявола? Дьявола! Он тебе на ухо шептал: «Не слушай матери — ешь сметану и в среду!» И ты ел, оскоромился, перед богом и родной матерью согрешил...
Я был пристыжен и терялся в догадках: «Как могла мамка узнать, что я с молока сметану снял и съел? Ведь я тогда схитрил, соломинкой проткнул пенку и из-под нее всю сметану выцедил. А вот дьявол... Он будто мне в ухо не шептал!»
Уличенный в грехе, я подумал: «Наверно, бог мамке сказал? Он все время с божницы смотрел... Надо бы мне тогда икону чем-нибудь завесить!»
Отпираться было бессмысленно и пришлось сознаться:
— Я сперва сметаны не хотел, а потом захотел и через соломинку ее высосал...
Мать кивнула:
— Вот, вот! Дьявол тебя соблазнил: «Ешь сметану, мать не узнает!» И соломинку взять ты бы сам не догадался — тоже дьявол надоумил.
Я полюбопытствовал:
Мам, тебе про сметану и про меня бог сказал?
— Бог? Он, он! Мишка, мол, сметану съел.
— А дьявол что?
— Он радуется: «Соблазнил мальчишку и теперь его можно в ад посадить и кипятком голову и шею мыть»... Дьявол хитрый! Если, к примеру, не перекрестясь за стол сядешь, то дьявол будет с тобой от одного куска хлеб есть и из одной ложки похлебку хлебать!
— А если я перекрещусь?
ВМЕСТО ОТВЕТА МАТЬ СТАЛА МЕНЯ ЗАПУГИВАТЬ:
— Такие мысли дьявол внушает: он у тебя за левым плечом сидит и в ухо нашептывает — с пути истинного сбивает. Ты слушай правым ухом: за правым плечом ангел божий...
Вот я не велела по средам и пятницам скоромное есть: скоромничают только баре да собаки... Ты кого послушался: меня или дьявола? Дьявола! Он тебе на ухо шептал: «Не слушай матери — ешь сметану и в среду!» И ты ел, оскоромился, перед богом и родной матерью согрешил...
Я был пристыжен и терялся в догадках: «Как могла мамка узнать, что я с молока сметану снял и съел? Ведь я тогда схитрил, соломинкой проткнул пенку и из-под нее всю сметану выцедил. А вот дьявол... Он будто мне в ухо не шептал!»
Уличенный в грехе, я подумал: «Наверно, бог мамке сказал? Он все время с божницы смотрел... Надо бы мне тогда икону чем-нибудь завесить!»
Отпираться было бессмысленно и пришлось сознаться:
— Я сперва сметаны не хотел, а потом захотел и через соломинку ее высосал...
Мать кивнула:
— Вот, вот! Дьявол тебя соблазнил: «Ешь сметану, мать не узнает!» И соломинку взять ты бы сам не догадался — тоже дьявол надоумил.
Я полюбопытствовал:
Мам, тебе про сметану и про меня бог сказал?
— Бог? Он, он! Мишка, мол, сметану съел.
— А дьявол что?
— Он радуется: «Соблазнил мальчишку и теперь его можно в ад посадить и кипятком голову и шею мыть»... Дьявол хитрый! Если, к примеру, не перекрестясь за стол сядешь, то дьявол будет с тобой от одного куска хлеб есть и из одной ложки похлебку хлебать!
— А если я перекрещусь?
 — Полетит на пол и как бешеная змея станет в узлы вязаться и сам себе хвост грызть... Ты, Мишка, меня и ангела-хранителя слушайся. Ангел за тебя бога просит, с дьяволом борется, а я уму-разуму учу!
— А тятьку надо слушаться?
Мать замялась, покраснела:
— Отца-то? Слушайся и его, но меня больше!
Я подумал, что ангел с дьяволом так же борются, как мальчишки на улице: схватятся, сцепятся, на землю упа-
дут, катаются по ней, норовят друг друга подмять, голыми пятками сверкают, пыль подымают... Такая борьба интересна, но кто в ней побеждает: ангел дьявола, или наоборот? Об этом я тоже спросил мать. Она уклончиво ответила:
— Раз на раз не приходится. Моя мать, а твоя бабушка сказывала, как ангелы с дьяволами сражались. На наше поле, на Зайчихинское, слетелись и... Сперва-то дьяволы поле заняли. Милиены милиенов. Бабушка-то сама видела, как дьяволы слетались. Вот, слышь, появится вихрь: кружится, пыль поднимает, словно сумасшедший несется, а в его средине, как в воронке, тыщи тыщ дьяволов... И ангелы тоже прилетали и тоже тьма тьмущая!
И вот слетелись и стенами друг против дружки встали,—от Ивняговских лощин до Котловани,—и кинулись друг на дружку и стали биться, ребра, рога и крылья ломать. Молнии блестели, громы гремели, бури-ураганы шумели, земля тряслась и трескалась...
Мать достала из сундучка тряпичный узелок, развязала его и выложила на стол камень, похожий на большой человеческий палец:
— Видишь? На том поле нашла. Это палец дьявола. Он, наверно, ангела кулаком ударил и себе палец сломал!..
Это был обыкновенный белемнит, но я тогда этого не знал и матери поверил. Смотрел на палец дьявола и боялся: хотя он мертвый, но как бы не ожил!
Завернув палец в тряпицу, мать положила его в сундучок:
— Если руку или ногу поранишь,то я с этого пальца пыли наскоблю, раны посыплю и они заживут!..
Раз было такое страшное сражение, то, наверно, не только дьяволы себе пальцы ломали, но и ангелы калечились? Мать на это ответить не смогла и только руками развела:
— Побитых-то ангелов Илья-пророк на небо увез, а сколько, не знаю... Вот стрелы каменные, которыми пророк в дьяволов стрелял, на Зайчихином поле остались. Одну я нашла. Просо полола, а стрела-то в бороздке лежала...
И мать подала мне кремневую стрелу.
Я ее долго разглядывал, а мать продолжала рассказывать:
— В том сражении никто не победил, и ангелы с дьяволами до сего часу враждуют!
— Из-за чего?
— Из-за человеческих душ. Человек умрет, и ангел хочет душу на небо взять, а дьявол тянет ее в ад. Схватятся бороться и если друг друга не одолевают, то идут на перекресток дорог и там куриные яйца катают: кто выиграет, тот душу и забирает!
— А если дьявол хорошую душу заберет?
— Бывает и так! Заберет и станет мучать до самого конца мира: тогда бог рассудит...
Я спросил мать:
— А если я грешу, то что мой ангел делает?
— Горючие слезы льет — о твоей душе скорбит.
— Э-э, ангел только хнычет! Дьявол сильнее его.
Мать пожала плечами:.
— Не сильнее, а хитрее! Он может ангела вокруг пальца обвести...
Дьявол мне нравился больше: сильный, хитрый, самого ангела забивает и обманывает. Всем бы хорош, но вот сажает в ад и там заставляет языком горячую сковороду лизать!.. Ангела же мне было просто жаль: его обманывают, побеждают, а он, словно сиротка, плачет... И тут у меня возник вопрос:
— Мам, как моего ангела звать?
— Михайлой... Архистратиг Михаил... Осенью мы Михайлов день празднуем...
— А тятькиного как звать? Иваном?
— Полетит на пол и как бешеная змея станет в узлы вязаться и сам себе хвост грызть... Ты, Мишка, меня и ангела-хранителя слушайся. Ангел за тебя бога просит, с дьяволом борется, а я уму-разуму учу!
— А тятьку надо слушаться?
Мать замялась, покраснела:
— Отца-то? Слушайся и его, но меня больше!
Я подумал, что ангел с дьяволом так же борются, как мальчишки на улице: схватятся, сцепятся, на землю упа-
дут, катаются по ней, норовят друг друга подмять, голыми пятками сверкают, пыль подымают... Такая борьба интересна, но кто в ней побеждает: ангел дьявола, или наоборот? Об этом я тоже спросил мать. Она уклончиво ответила:
— Раз на раз не приходится. Моя мать, а твоя бабушка сказывала, как ангелы с дьяволами сражались. На наше поле, на Зайчихинское, слетелись и... Сперва-то дьяволы поле заняли. Милиены милиенов. Бабушка-то сама видела, как дьяволы слетались. Вот, слышь, появится вихрь: кружится, пыль поднимает, словно сумасшедший несется, а в его средине, как в воронке, тыщи тыщ дьяволов... И ангелы тоже прилетали и тоже тьма тьмущая!
И вот слетелись и стенами друг против дружки встали,—от Ивняговских лощин до Котловани,—и кинулись друг на дружку и стали биться, ребра, рога и крылья ломать. Молнии блестели, громы гремели, бури-ураганы шумели, земля тряслась и трескалась...
Мать достала из сундучка тряпичный узелок, развязала его и выложила на стол камень, похожий на большой человеческий палец:
— Видишь? На том поле нашла. Это палец дьявола. Он, наверно, ангела кулаком ударил и себе палец сломал!..
Это был обыкновенный белемнит, но я тогда этого не знал и матери поверил. Смотрел на палец дьявола и боялся: хотя он мертвый, но как бы не ожил!
Завернув палец в тряпицу, мать положила его в сундучок:
— Если руку или ногу поранишь,то я с этого пальца пыли наскоблю, раны посыплю и они заживут!..
Раз было такое страшное сражение, то, наверно, не только дьяволы себе пальцы ломали, но и ангелы калечились? Мать на это ответить не смогла и только руками развела:
— Побитых-то ангелов Илья-пророк на небо увез, а сколько, не знаю... Вот стрелы каменные, которыми пророк в дьяволов стрелял, на Зайчихином поле остались. Одну я нашла. Просо полола, а стрела-то в бороздке лежала...
И мать подала мне кремневую стрелу.
Я ее долго разглядывал, а мать продолжала рассказывать:
— В том сражении никто не победил, и ангелы с дьяволами до сего часу враждуют!
— Из-за чего?
— Из-за человеческих душ. Человек умрет, и ангел хочет душу на небо взять, а дьявол тянет ее в ад. Схватятся бороться и если друг друга не одолевают, то идут на перекресток дорог и там куриные яйца катают: кто выиграет, тот душу и забирает!
— А если дьявол хорошую душу заберет?
— Бывает и так! Заберет и станет мучать до самого конца мира: тогда бог рассудит...
Я спросил мать:
— А если я грешу, то что мой ангел делает?
— Горючие слезы льет — о твоей душе скорбит.
— Э-э, ангел только хнычет! Дьявол сильнее его.
Мать пожала плечами:.
— Не сильнее, а хитрее! Он может ангела вокруг пальца обвести...
Дьявол мне нравился больше: сильный, хитрый, самого ангела забивает и обманывает. Всем бы хорош, но вот сажает в ад и там заставляет языком горячую сковороду лизать!.. Ангела же мне было просто жаль: его обманывают, побеждают, а он, словно сиротка, плачет... И тут у меня возник вопрос:
— Мам, как моего ангела звать?
— Михайлой... Архистратиг Михаил... Осенью мы Михайлов день празднуем...
— А тятькиного как звать? Иваном?
— Да...
— А твоего Анной? Мать вспыхнула: — Как так Анной? Ангелы — не бабы, а мужики! — Тогда твоего ангела зовут Анном? — Отстань! Только бог знает, как бабьих ангелов зовут. — А почему? — Не знаю... Я подумал, подумал и спросил: — Мам, ангелов бог родил? — Он не баба, чтобы родить! Не родил, а сотворил... Камнем о камень стукнул, и посыпались ангелы, архангелы, архистратиги, херувимы... Вот, оказывается, как все просто было! Но тут я вспомнил о дьяволах: — Мам, дьяволов тоже бог сотворил? Она нахмурилась: — Этого еще не хватало! Дьяволов самый старший сатана сотворил. Тоже камнем о камень ударил, и дьяволы, словно блохи, на землю посыпались и на людей накинулись... — А самого старшего сатану кто сотворил? — Уймись, языкатый! Темная я, неграмотная и не знаю, и не спрашивай меня об этом. Но я не унимался: — А кто мне за правое плечо ангела посадил? — Всем людям ангелов попы дают. Младенца в церковь крестить принесут, поп ангела выберет и даст... Слова матери я понял так: в церкви есть много-много ангелов. Поп подходящего подберет и новорожденному за правое плечо посадит. Но ангел ангелом, а кто же человеку за плечо дьявола сажает? Тоже поп? Спросил об этом у матери, и она огневалась: — Тьфу! Поп не дает, дьявол сам прилетает... После этого разговора, я нашел два камня и ударил одним по другому. Посыпались искры, но ни единого ангела или дьявола не выскочило, а очень хотелось посмотреть, какие они на вид-то? Теперь, когда я узнал, что у меня за плечами сидят дьявол и ангел, то почувствовал какую-то тяжесть, постоянную нудную обузу. Я пытался непрошенных пассажиров стряхнуть с себя, но это не удавалось. Тогда я стал ложиться на левый бок. Я не просто лежал, но старался сильнее прижаться к постели и все ждал и ждал, когда дьяволу будет невтерпеж, и он закричит караул, но этого не случилось — дьявол не задохся!
• • •
 ОДНАЖДЫ МАТЬ ПОДНЯЛАСЬ РАНЫМ-РАНО:
— Ты, отец, всю ноченьку храпел, а я до утра глаз не сомкнула!
Сперва домовой по избе бродил и все посудой гремел: чашки, ложки, чугунки перебирал, а потом на чер-
дак улез и там выл, плакал, стонал — у меня от страху волосы дыбом вставали! Под утро я немного забылась, но домовой опять в избу пришел и стал меня щекотать. Что усмехаешься? Вон, сказывают, в селе Нехорошеве одну бабу домовой до смерти защекотал... И меня пощекотал и стал душить. Словно тыщу пудов на грудь навалилось. Кричу — голосу нет! Сталкиваю с себя тяжесть — силы не хватает... И чего, скажи, домовой всю ночь канителился? Может проголодался? Не сварить ли ему кашу?
Отец хмыкнул:
— Свари... Кошки сбегутся, съедят и тебе спасибо скажут!.. Не домовой тебя душил, а на левом боку спала — сердцу тяжело: это уж я на себе испытал...
Мать раздраженно ответила:
— Я тебе не в шутку, а ты смешки пускаешь! Домовой проголодался: его надо кормить, а то завоется и нам житья не даст. Вон, сказывают, недавно у Мазуле-вых так случилось: ночью домовой поднялся и старуху щипал... А все из-за горсти пшена: поскупилась домовому кашу сварить!
Отец скосил на мать чернущие несмешливые глаза.
Я же поверил: раз мать своими ушами домового слышала, значит он есть, проголодался, и его надо скорее кормить!..
Истопив печь, мать полезла на чердак, поставила там горшок каши и запричитала:
— Дедушка домовой, домоседушка дорогой, караульщик и сторож наш! Раба божия Анна пришла — горшок каши принесла. Голову перед тобой, дедушка, клоню и об одном молю: не плачь по ночам и часто, не рви мое сердце на части, не дави, не души — есть кашу поспеши!
На следующий день мать опять на чердак полезла и оттуда меня окликнула:
— Мишка, гляди! Дедушка домовой всю кашу съел и горшок вылизал. Я говорила, что он проголодался, а отец смеялся: «Кошки съедят»...
После этого я боялся один в избе и в сенях оставаться и словно тень бегал за матерью. Она ворчала:
— Что ты за мной осенней паутиной вяжешься? Вон Лаврушка Егранов: сидит и сидит один дома!
И только мать так проговорила, Егранов Лаврушка как из-под земли вырос;
— Мишка, побежим на Казенный пруд: там много мальчишек! Купаются...
Мать зашумела:
— Малы еще по прудам-то бегать! Ты, Лаврушка, иди, а Мишке некогда!
Лаврушка убежал. Мать посмотрела ему вслед:
— Глазу материнского над ним нет! Не пуганый еще. Вот Водяной с Русалкой за ноги схватят и утопят... У нас, я помню, девка Фроська в пруд полезла, а Водяной с Русалкой ее и подстерегли: за ноги схватили и »на дно поволокли. Фроська-то билась, вырывалась, кричала, людей звала, да что люди сделают? Испугались нечистой силы и от пруда убежали!
Я спросил:
— А почему ангел-хранитель Фроську не хранил? рн тоже утонул?
I Мать даже рот открыла и долго не могла ответить, а потом сказала:
— Ангелы и дьяволы ни в огне не горят, ни в воде не тонут...
Это уж я знал и прервал:
— Ангел не сладил с Водяным и Русалкой?
— Не знаю...
— А Русалка кто?
— Внучка Водяного. Она на берег выйдет, сядет и ну свои волосы холить, лелеять да прихорашивать! Как только парень на Русалку глянет, так от нее не отстанет: она в воду, и он, как безумный, за ней... Я, Мишка, тоже один раз чуть в руки Водяному не попала! На речке Вярзинке дело-то было... Иду, а кустарничек по бережку-то, и в кустарничке Водяной заорал: Му-у-у-у! Бык и бык! Я бежать, а мне навстречу Русалка: руки в стороны развела и хочет поймать... Я уж не помню, как из того кустарничка на поле выскочила да домой! Прибежала, отцу рассказываю, а он смеется: «Это не Водяной кричал, а птица выпь»...
Мать стала собираться в лес:
— Ты побудешь дома, а я в лес по орехи схожу!
Я боялся и сказал:
— Не буду один сидеть дома! Не буду! Вот тятька из поля приедет и тогда иди..
— А ты не в избе сиди, а на крылечке. Только во Двор никого не пускай — там Шишига!
Я насторожился:
33
^ М. Суицид*
— Какой Шишига?
— Разве я тебе не сказывала? Это злой дух и дьяволов кум. Куриные гнезда обворовывает. Яйца выпивает, а скорлупу сорокам кидает. Я давно замечала: кто-то из куриных гнезд яйца тащит, а кто, догадаться не могла. Спасибо твоей тетке Фешке Жильцовой — она надоумила: вас, мол, Шишига обкрадывает! Я и давай за гнездами следить. Недавно вечером увидела: кто-то в гнездо полез... Это был Шишига!
— Мам, он какой?
— Да ведь какой... Голова — пестом, волосы — кустом, уши — овечьи, глаза — человечьи, нос крючком, борода помело, а спину дугой свело — горбатой сделало... Да, так вот, увидела я его и над куриными гнездами разбитый горшок повесила!
— Зачем?
— Как зачем? Шишига разбитых горшков боится. Он думает, что и ему, как горшку, голову разобьют!.. Ну, сынок, ты домовничай, а я пойду и тебе для забавы орешков принесу...
До полудня я возле избы шатался, но ни в нее, ни во двор даже не заглядывал: боялся дьявола, домового или Шишигу встретить. Очень хотелось есть, но даже если бы я умирал с голоду, и то в избу не зашел...
В полдень приехал отец. Гнедка привязал к наклеске телеги, кинул ему накошенной травы и пошел во двор. Я посмотрел в щель и замер: отец ловко, словно мальчишка, забрался на чердак конюшни и стал из куриных гнезд брать яйца и класть в карманы. Потом осторожно слез на землю, поправил на животе пояс и весь красный, точно в бане парился, вышел со двора:
*— Мишка, ты тут? Я на минуточку отлучусь, а потом будем обедать!
Он вернулся быстро. Я не удержался и сказал:
— Мамка думала, что яйца из гнезд Шишига крадет, а это ты воруешь!
Отец сердито отрезал:
— Я не ворую, а свои беру! Понял?
— Понял. А зачем берешь?
— Мать мне денег на махорку не дает, а я хожу в лавочку и яички на табак меняю. Понял? Матери об этом ни гу-гу!.. И никакого Шишиги и домового нет — все это выдумка.
— А каша? Кашу-то домовой съел!
Отец засмеялся:
ее съел! Вкусная бы
— «Съел»... Не домовой, а я ла> Да маловато!..
ОДНАЖДЫ МАТЬ ПОДНЯЛАСЬ РАНЫМ-РАНО:
— Ты, отец, всю ноченьку храпел, а я до утра глаз не сомкнула!
Сперва домовой по избе бродил и все посудой гремел: чашки, ложки, чугунки перебирал, а потом на чер-
дак улез и там выл, плакал, стонал — у меня от страху волосы дыбом вставали! Под утро я немного забылась, но домовой опять в избу пришел и стал меня щекотать. Что усмехаешься? Вон, сказывают, в селе Нехорошеве одну бабу домовой до смерти защекотал... И меня пощекотал и стал душить. Словно тыщу пудов на грудь навалилось. Кричу — голосу нет! Сталкиваю с себя тяжесть — силы не хватает... И чего, скажи, домовой всю ночь канителился? Может проголодался? Не сварить ли ему кашу?
Отец хмыкнул:
— Свари... Кошки сбегутся, съедят и тебе спасибо скажут!.. Не домовой тебя душил, а на левом боку спала — сердцу тяжело: это уж я на себе испытал...
Мать раздраженно ответила:
— Я тебе не в шутку, а ты смешки пускаешь! Домовой проголодался: его надо кормить, а то завоется и нам житья не даст. Вон, сказывают, недавно у Мазуле-вых так случилось: ночью домовой поднялся и старуху щипал... А все из-за горсти пшена: поскупилась домовому кашу сварить!
Отец скосил на мать чернущие несмешливые глаза.
Я же поверил: раз мать своими ушами домового слышала, значит он есть, проголодался, и его надо скорее кормить!..
Истопив печь, мать полезла на чердак, поставила там горшок каши и запричитала:
— Дедушка домовой, домоседушка дорогой, караульщик и сторож наш! Раба божия Анна пришла — горшок каши принесла. Голову перед тобой, дедушка, клоню и об одном молю: не плачь по ночам и часто, не рви мое сердце на части, не дави, не души — есть кашу поспеши!
На следующий день мать опять на чердак полезла и оттуда меня окликнула:
— Мишка, гляди! Дедушка домовой всю кашу съел и горшок вылизал. Я говорила, что он проголодался, а отец смеялся: «Кошки съедят»...
После этого я боялся один в избе и в сенях оставаться и словно тень бегал за матерью. Она ворчала:
— Что ты за мной осенней паутиной вяжешься? Вон Лаврушка Егранов: сидит и сидит один дома!
И только мать так проговорила, Егранов Лаврушка как из-под земли вырос;
— Мишка, побежим на Казенный пруд: там много мальчишек! Купаются...
Мать зашумела:
— Малы еще по прудам-то бегать! Ты, Лаврушка, иди, а Мишке некогда!
Лаврушка убежал. Мать посмотрела ему вслед:
— Глазу материнского над ним нет! Не пуганый еще. Вот Водяной с Русалкой за ноги схватят и утопят... У нас, я помню, девка Фроська в пруд полезла, а Водяной с Русалкой ее и подстерегли: за ноги схватили и »на дно поволокли. Фроська-то билась, вырывалась, кричала, людей звала, да что люди сделают? Испугались нечистой силы и от пруда убежали!
Я спросил:
— А почему ангел-хранитель Фроську не хранил? рн тоже утонул?
I Мать даже рот открыла и долго не могла ответить, а потом сказала:
— Ангелы и дьяволы ни в огне не горят, ни в воде не тонут...
Это уж я знал и прервал:
— Ангел не сладил с Водяным и Русалкой?
— Не знаю...
— А Русалка кто?
— Внучка Водяного. Она на берег выйдет, сядет и ну свои волосы холить, лелеять да прихорашивать! Как только парень на Русалку глянет, так от нее не отстанет: она в воду, и он, как безумный, за ней... Я, Мишка, тоже один раз чуть в руки Водяному не попала! На речке Вярзинке дело-то было... Иду, а кустарничек по бережку-то, и в кустарничке Водяной заорал: Му-у-у-у! Бык и бык! Я бежать, а мне навстречу Русалка: руки в стороны развела и хочет поймать... Я уж не помню, как из того кустарничка на поле выскочила да домой! Прибежала, отцу рассказываю, а он смеется: «Это не Водяной кричал, а птица выпь»...
Мать стала собираться в лес:
— Ты побудешь дома, а я в лес по орехи схожу!
Я боялся и сказал:
— Не буду один сидеть дома! Не буду! Вот тятька из поля приедет и тогда иди..
— А ты не в избе сиди, а на крылечке. Только во Двор никого не пускай — там Шишига!
Я насторожился:
33
^ М. Суицид*
— Какой Шишига?
— Разве я тебе не сказывала? Это злой дух и дьяволов кум. Куриные гнезда обворовывает. Яйца выпивает, а скорлупу сорокам кидает. Я давно замечала: кто-то из куриных гнезд яйца тащит, а кто, догадаться не могла. Спасибо твоей тетке Фешке Жильцовой — она надоумила: вас, мол, Шишига обкрадывает! Я и давай за гнездами следить. Недавно вечером увидела: кто-то в гнездо полез... Это был Шишига!
— Мам, он какой?
— Да ведь какой... Голова — пестом, волосы — кустом, уши — овечьи, глаза — человечьи, нос крючком, борода помело, а спину дугой свело — горбатой сделало... Да, так вот, увидела я его и над куриными гнездами разбитый горшок повесила!
— Зачем?
— Как зачем? Шишига разбитых горшков боится. Он думает, что и ему, как горшку, голову разобьют!.. Ну, сынок, ты домовничай, а я пойду и тебе для забавы орешков принесу...
До полудня я возле избы шатался, но ни в нее, ни во двор даже не заглядывал: боялся дьявола, домового или Шишигу встретить. Очень хотелось есть, но даже если бы я умирал с голоду, и то в избу не зашел...
В полдень приехал отец. Гнедка привязал к наклеске телеги, кинул ему накошенной травы и пошел во двор. Я посмотрел в щель и замер: отец ловко, словно мальчишка, забрался на чердак конюшни и стал из куриных гнезд брать яйца и класть в карманы. Потом осторожно слез на землю, поправил на животе пояс и весь красный, точно в бане парился, вышел со двора:
*— Мишка, ты тут? Я на минуточку отлучусь, а потом будем обедать!
Он вернулся быстро. Я не удержался и сказал:
— Мамка думала, что яйца из гнезд Шишига крадет, а это ты воруешь!
Отец сердито отрезал:
— Я не ворую, а свои беру! Понял?
— Понял. А зачем берешь?
— Мать мне денег на махорку не дает, а я хожу в лавочку и яички на табак меняю. Понял? Матери об этом ни гу-гу!.. И никакого Шишиги и домового нет — все это выдумка.
— А каша? Кашу-то домовой съел!
Отец засмеялся:
ее съел! Вкусная бы
— «Съел»... Не домовой, а я ла> Да маловато!..
• • •
 МАТЬ ВЕРНУЛАСЬ ТОЛЬКО В СУМЕРКИ, И ОТЕЦ ВСТРЕТИЛ ЕЕ ВОРЧЛИВО:
— Где тебя леший носил? Мне надо в ночное ехать, а Мишку оставить не с кем...
Мать грохнула тяжелый мешок на лавку:
— Нечистая сила попутала! Сперва-то я зашла в Скопинские вершинки.
В них полмешка орехов нарвала, но показалось мало, и я в барский лес перебралась. Полный мешок набила и домой пошла. Иду, а из леса выйти не могу! Толкусь на одном месте, словно крученая овца! Вечереет, а я все плутаю, и вдруг леший как заголосит, как заухает! Матушка-кормилица, пречистая богородица, что мне де-лать-то? Я бегом да бегом и опять... на прежнем месте очутилась! А леший не унимается: ухает, земля дрожит, и лес стонет...
Тут я вспомнила, как меня бабушка учила от лешего заговариваться. Скинула с себя рубаху-исподницу, вывернула ее наизнанку и опять на себя надела, да как крикнула: «Леший-лесовик, коварный старик, не кружи меня, не пугай меня — возьми выкуп с меня!» Кинула в кусты горсть орехов и...
Мать молча обвела нас взглядом:
— ...и что вы думаете? Словно глаза мои открылись: да ведь вон куда надо идти-то!
Отец усмехнулся:
— Это не леший, а филин ухал! А кружение у тебя было от жадности: хотела все орехи сорвать и вон какой мешище нагрохала — Гнедку впору везти...
Мать отмахнулась:
— Пустомелишь бог знает чего! Леший он леший и есть: одному в лесу скучно, вот он со мной, как кот
с мышью, и поиграл. Ему утеха да потеха, а я чуть не заплакала...
И мать уже с досадой добавила:
— И все это из-за жены твоего двоюродного братца Митрофана, из-за Аксиньи, чтобы ей было пусто! Ут-ром-то я из дому вышла, а она, видать, нарочно из окошка выщелкнулась и шерсть прядет, и веретеном крутит... Все говорят: через окно пряху увидишь, лучше домой воротись, а то наплачешься! Вот и я плакала...
Отец даже зарычал:
-- Хватит выдумывать! С больной головы на здоровую сваливаешь... Я поеду в ночное, а вы тут ужинайте...
И ушел.
Только отец со двора, а наша корова и заревела! Мать спохватилась, засуматошилась:
— Ох, забыла корову-то доить! Мишка, найди корочку хлебца — Рыжонку попотчую: чем больше ее ласкаешь, тем она больше молока дает... Корова у нас добрая, да уж больно старая: зубы постерлись и зимами плохо солому жует. Нам бы телочку на племя, да вот грех-то какой: Рыжонка приносит бычков! Уж я и молилась, и свечу в церкви ставила — упрямится наша коровушка!.. А вчера на завалинке бабы толковали да советовали, как сделать, чтобы корова телочку принесла... Сейчас пойду попробую, выйдет — гоже, а не выйдет — такова воля божья!
Взяв подойник, корочку хлеба и сковородник, мать пошла во двор. Я боялся оставаться в избе и побежал вслед. Мать села верхом на сковородник и стала бегать по двору:
— Коровушка Рыжонушка, принеси нам телушку!..
Рыжонка встревожилась, голову опустила, рога выставила и угрожающе заревела: «М-м-му-у-у!» Потом стала копытами бить и навоз откидывать...
Я испугался:
— Мам, слезь со сковородника! Слезь, Рыжонка за-пыряет!
Отбросив сковородник, мать протянула корове корочку хлеба:
— Не сердись, матушка, на дуру-хозяйку! Нужда барыню в бараний рог гнет, и меня нужда на сковородник посадила — фармазонничать заставила. Нам от тебя телушка нужна. Ты уж старая, на плохих кормах долго не продержишься: принеси телушку, а я ее выкормлю и выращу! Не сердись, кормилица, за правдивые слов^: все мы смертны — нынче живы, а завтра на кладбище потащут...
После дойки коровы мы с матерью сели ужинать. Я вспомнил о лешем:
— Мам, лешего кто видел?
МАТЬ ВЕРНУЛАСЬ ТОЛЬКО В СУМЕРКИ, И ОТЕЦ ВСТРЕТИЛ ЕЕ ВОРЧЛИВО:
— Где тебя леший носил? Мне надо в ночное ехать, а Мишку оставить не с кем...
Мать грохнула тяжелый мешок на лавку:
— Нечистая сила попутала! Сперва-то я зашла в Скопинские вершинки.
В них полмешка орехов нарвала, но показалось мало, и я в барский лес перебралась. Полный мешок набила и домой пошла. Иду, а из леса выйти не могу! Толкусь на одном месте, словно крученая овца! Вечереет, а я все плутаю, и вдруг леший как заголосит, как заухает! Матушка-кормилица, пречистая богородица, что мне де-лать-то? Я бегом да бегом и опять... на прежнем месте очутилась! А леший не унимается: ухает, земля дрожит, и лес стонет...
Тут я вспомнила, как меня бабушка учила от лешего заговариваться. Скинула с себя рубаху-исподницу, вывернула ее наизнанку и опять на себя надела, да как крикнула: «Леший-лесовик, коварный старик, не кружи меня, не пугай меня — возьми выкуп с меня!» Кинула в кусты горсть орехов и...
Мать молча обвела нас взглядом:
— ...и что вы думаете? Словно глаза мои открылись: да ведь вон куда надо идти-то!
Отец усмехнулся:
— Это не леший, а филин ухал! А кружение у тебя было от жадности: хотела все орехи сорвать и вон какой мешище нагрохала — Гнедку впору везти...
Мать отмахнулась:
— Пустомелишь бог знает чего! Леший он леший и есть: одному в лесу скучно, вот он со мной, как кот
с мышью, и поиграл. Ему утеха да потеха, а я чуть не заплакала...
И мать уже с досадой добавила:
— И все это из-за жены твоего двоюродного братца Митрофана, из-за Аксиньи, чтобы ей было пусто! Ут-ром-то я из дому вышла, а она, видать, нарочно из окошка выщелкнулась и шерсть прядет, и веретеном крутит... Все говорят: через окно пряху увидишь, лучше домой воротись, а то наплачешься! Вот и я плакала...
Отец даже зарычал:
-- Хватит выдумывать! С больной головы на здоровую сваливаешь... Я поеду в ночное, а вы тут ужинайте...
И ушел.
Только отец со двора, а наша корова и заревела! Мать спохватилась, засуматошилась:
— Ох, забыла корову-то доить! Мишка, найди корочку хлебца — Рыжонку попотчую: чем больше ее ласкаешь, тем она больше молока дает... Корова у нас добрая, да уж больно старая: зубы постерлись и зимами плохо солому жует. Нам бы телочку на племя, да вот грех-то какой: Рыжонка приносит бычков! Уж я и молилась, и свечу в церкви ставила — упрямится наша коровушка!.. А вчера на завалинке бабы толковали да советовали, как сделать, чтобы корова телочку принесла... Сейчас пойду попробую, выйдет — гоже, а не выйдет — такова воля божья!
Взяв подойник, корочку хлеба и сковородник, мать пошла во двор. Я боялся оставаться в избе и побежал вслед. Мать села верхом на сковородник и стала бегать по двору:
— Коровушка Рыжонушка, принеси нам телушку!..
Рыжонка встревожилась, голову опустила, рога выставила и угрожающе заревела: «М-м-му-у-у!» Потом стала копытами бить и навоз откидывать...
Я испугался:
— Мам, слезь со сковородника! Слезь, Рыжонка за-пыряет!
Отбросив сковородник, мать протянула корове корочку хлеба:
— Не сердись, матушка, на дуру-хозяйку! Нужда барыню в бараний рог гнет, и меня нужда на сковородник посадила — фармазонничать заставила. Нам от тебя телушка нужна. Ты уж старая, на плохих кормах долго не продержишься: принеси телушку, а я ее выкормлю и выращу! Не сердись, кормилица, за правдивые слов^: все мы смертны — нынче живы, а завтра на кладбище потащут...
После дойки коровы мы с матерью сели ужинать. Я вспомнил о лешем:
— Мам, лешего кто видел?
 — Дедушка Михайла Тиманков. Ходит, слышь, домовой выше леса, головой вертит и по ветвям бородой метет...
— Выше леса? Почему же такого высокого ты не увидела?
— Его не всегда увидишь. Он делается и выше деревьев и ниже травы, а то еще в медведя, волка или зайца обратится. Этих оборотней на белом свете тьма-тьмущая! И люди, когда дьяволу душу продают, тоже оборотнями делаются. Я еще в девках ходила и ночью из хоровода бежала. Было темным-темно: пальцем в глаза ткнут, и не узнаешь, кто обидел. Слышу впереди ножищами топают. Я приостановилась, пригляделась, а это какой-то мужик. Вдруг он башкой оземь стукнулся и стал волком. Я ему и скажи: «Стыдно, дядя, дьявольскими делами заниматься! Молился бы богу». Оборотень-то словно дым пропал: то ли сквозь землю провалился, то ли улетел!
Я слушал и вздрагивал: по спине ледяные муравьи бегали — было очень страшно, и я взмолился:
— Мам, не сказывай, я боюсь!
— Не надо, так не стану!.. Это меня бог пожалел — одного лешего наслал, а вот если бы еще Кикимору: пропала бы моя головушка!
— Кикимора? Это кто?
— Он сродственник лешего и тоже нечистая сила. Твой дедушка Илья Кикимору видел. Дедушка-то был богатырем, а Кикимора ростом с веник. Головенка похожа на луковицу, но только корнями вверх, а перьями вниз. Перья-то и есть Кикиморова борода... Сам Кикимора и мал, да голос у него бедовый: крикнет — лес дрожит, с деревьев птичьи гнезда падают, а с мужицких голов — картузы летят!
— А что Кикимора дедушке Илье сделал?
— Ничего! Не сладил. И свистел и кричал... Листья с деревьев сыпались, а дедушка сидел, трубку курил и над Кикиморой смеялся: «Напрасно, погань, храбришься да пыжишься, меня напугать думаешь. Я тебя схвачу и в узел завяжу!»
Кикимора стал хитрить и сделался змеей, да по де-реву-суховалу к дедушке начал подбираться. Ползет, извивается, а дедушка-то дерево в одном месте трубочным соком и намазал. Кикимора подполз, трубочного соку лизнул и словно на огне завертелся. Дедушка, не будь промах, схватил поганца и на черную тучу забросил. А туча-то ужасть как бежала, и пока Кикимора в ум приходил, да оглядывался и глаза протирал, так она к ефиопам улетела!
— К ефиопам? А они кто?
— Сказывают, что тоже люди: только черные, будто чугунные, и живут на самом краю света...
— Раз Кикимора у ефиопов, так чего же ты боялась?
— К ефиопам старшой брат улетел, а младший-то в барском лесу живет!
• • •
НАСЛУШАЛСЯ Я МАТЕРИНЫХ РАССКАЗОВ И СТАЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОГА СТРАШИТЬСЯ. Как на икону гляну, так меня в пот бросает! Вдруг да богу чем-нибудь не понравлюсь? Сделает меня каким-нибудь зверем или червяком!
Из-за боязни во время моленья я от икон отворачивался. Мать это заметила и сурово спросила:
— Ты что?
— Чего?
— «Чего, чего»! Рыло от икон отворачиваешь, вот чего! Или на бога противно глядеть?
— Нет, мам, не противно, а я бога боюсь: он сердитый и сделает меня земляным червем...
Мать сразу переменилась:
— Бог —■ высоко, а вот злые люди — близко: их бойся! Есть у нас в селе ведьма — вот от кого прячься! Прошлой зимой дело-то случилось. Ночью у меня голова разболелась — будто кто ее на части разламывал! То ли я в тот день рано трубу закрыла и угорела, то ли ветром голову прохватило, но еле на ногах держалась, а в виски будто звонкими молотками тюкали...
Встала я с постели и вышла на крыльцо свежего воздуха глотнуть. Морозище стоял — дух захватывало! Огляделась и увидела, как из одной трубы старуха в ступе вылетела: на плече — черный кот, в руке — большущая метла...
Сперва-то я старуху не узнала, а как пригляделась, так и ахнула: «Ах, батюшки, да ведь это же Дарья!»
Я спросил:
— Она чья?
Мать спохватилась:
— Тьфу, проговорилась! Не скажу, чья, а то когда-нибудь о ней языком вякнешь и тогда беда!.. Старуха она и старуха: даже ласковая, разговорчивая, а я ее встречаю — язык не поверну с ней заговорить. Ведьма! Это она, злодейка, нашему селу жисть портит: то рожь ржавчиной изукрасит, то тучи от полей отгонит, то град на просо нашлет... Только и спасенья от граду, если окошко откроешь, да градовой туче помелом погрозишь, а то бы сидело село без хлеба и каши!..
Когда я тебя грудью кормила, так Дарья у меня молоко отняла. Ты плакал, есть просил, а молока-то не было!
— Мам, а ты зачем Дарье молоко отдавала? Крикнула бы тятьку: он бы Дарью кнутом!..
— Я ведьму и близко к себе не подпускала! Она дома сидела и чужое молоко крала. В дверной косяк нож воткнет, под нож подойник или ковшик подставит, и в него из ножа молоко течет... Так Дарья отняла молоко и у коровы дедушки Лексея Миклашина. А коро-вища-то какая! Ведерница. Вымя с лукошко. Пришла она как-то из стада и будто ножом отрезала — ни единой капли молока! Дедушка Лексей побежал к попу и заказал молебен святому Мамонтию. И сам и вся семья молились, но толку никакого. Может Мамонтий и хотел бы корове помочь, да ведьма его пересилила?
Тогда дедушка Лексей семь раз на карачках под корову слазил и сам сел доить. Молока ни капельки, а крови с полведра налилось.
Что делать? Дедушка повел корову на базар, и кто, ты думаешь, ее купил? Да ведьмин муж! Знал, дьявольский угодник, что корова перестала доиться, но все равно купил. Стал ее в свой двор вводить, да как за повод дернет! Корова-то от внезапности с ног слетела и с испугу заревела, а Дарья на крыльце стояла и волшебст-вовала: «Будь хозяину с хозяйкой покорной!» И корова покорилась: в тот же день полное ведро молока дала!..
Все, что мать рассказала, я понял, но вот куда Дарья в ступе летала, не знал и спросил:
— Мам, а ведьма в ступе на небо летала?
— На небо? Бог ее с неба так шугнет, что она и костей не соберет! Дарья летала и до сих пор летает в киевскую землю. Там есть Троицко-Печерская лавра — монастырь — а насупротив нее — Лысая гора. Так вот на эту гору со всего свету ведьмы слетаются и шабашничают: адские вина пьют и перед самим сатаной, страмницы, пляшут и хвостами машут...
Я даже вскрикнул:
— Хвостами? Да ведь ведьмы-то бабы!
— Ну так что же, что бабы! У каждой ведьмы есть хвост. Я слыхала, будто в Новоселках,—это от нас верст двадцать пять будет,—жила ведьма и от мужа хвост прятала. Муж-то все равно хвост увидел и его отрубил. Ведьма-то, сказывают, хвост к прежнему месту приставила, и он прирос. Тогда она села в ступу и от мужа насовсем улетела, и где сейчас живет, никто не знает!
— Мам, а Сатана что на Лысой горе делает?
— На золотом троне сидит, на гармонии играет, хвостом вертит, копытом пристукивает, черными словами бога лает, а ведьмы каждое слово повторяют, и такой на горе содом стоит, что в монастыре службу трудно справлять!
Опустив голову и погрустнев, мать сказала:
— Вот и живем, как мыши в норе: боимся людям на глаза показаться, не шумим, не буяним — страшимся ведьмам и колдунам досадить. Ты, сынок, будь со всеми ласков и приветлив, старайся жить незаметно — тише воды, ниже травы. Кто живет тихо — не терпит лиха, а кто бойко — всегда ему неустойка!
У меня невольно делалось смиренное личико, и это матери нравилось:
— Старайся, старайся! Бог твое смирение увидит и в «Книгу живота» запишет.
Я не знал, что это за книга такая:
— Мам, та книга у бога в животе?
— Эк сболтнул! Разве книги в животах лежат?
— А почему же у бога «Книга живота?»
— Так это же по-церковному, а по-нашему просто: «Книга жизни».
— А зачем бог в книгу запишет?
Мать удивленно на меня посмотрела:
— Как же не записывать-то? Бог — один, а нас — тьма и милиены, и все ершистые: тут с любой памятью забудешь, кто и что греховодил или доброе дело творил. Потому бог и записывает!..
Я и старался жить по совету матери — боялся на людей взглянуть: в каждом мужике и старухе видел колдуна или ведьму. Особенно боялся старух и потому каждой улыбался и кланялся, но это меня от беды не спасло: на левой руке появились бородавки! Мать встревожилась:
— Голыми руками лягушек брал?
— Нет, я только прутиком двух лягв гонял...
— Двух? Какие они?
— Одна — серая, а другая — зеленая...
— Сколько раз тебе втолковывать: не связывайся с разной нечистью! Лягушки — оборотни. Серая-то
раньше урядничихой была и мужа день и ночь пилила: «Вот этого мужика в клоповник посади! У этого имущество опиши». Бог на урядничиху глядел, глядел, терпенье потерял и сделал ее лягвой. Вот она злой-то слюной на всех и брызжет!
— Нет, мам, на меня не брызгала!
— Если не брызгала, то глядела...
Вот это было правдой. Серая лягушка действительно на меня смотрела пристально. Я тоже на нее смотрел. У нее были красивые, редко мигающие глаза...
Теперь я сказал матери:
— Лягушка не мигала...
— «Не мигала»... Оборотни все такие! Им хоть плюй в глаза — все роса. Лягушка и насажала тебе бородавок. Возьми-ка вот медную монету, три ею бородавки и заговор шепчи: «Бородавки на руке — закопаю вас в песке; срублю головы монетой — бородавок у меня нету!»
Я взял монету:
— Мам, а зеленая слюной брызжет?
— Нет, зеленая смирная! Я от добрых людей слыхала, что среди зеленых лягушек есть царевна-королевна. Раньше-то она с отцом с матерью жила, а когда стала невестой, ее подземный царь за своего сына посватал. Не захотелось царевне-королевне расставаться с красным солнышком и светлым месяцем, и она отказалась за подземного царевича замуж идти. Подземный царь разгневался и обратил царевну-королевну в зеленую лягушку. Так она, бедная, и страдает и горькие слезы проливает. И до тех пор будет мучиться, пока не найдется какой-нибудь парень и не скажет: «Я тебя беру замуж!» Тут лягушка сделается царевной и пойдет с парнем под венец!
— Мам, а если я ее взамуж возьму?
— Ты? Гоже бы к царю в зятья попасть! И молодую корову бы тогда купили, и избу новую справили, да и Гнедко у нас старый — жеребенка бы во двор привели...
Бородавки я тер усердно, и дня через три на их месте появились нарывы...
Чем дальше, тем больше я опасался нечистой силы. Весь окружающий меня мир, все вещи, вся природа были наполнены невидимыми, таинственными, преимущественно злыми духами. Они проникали всюду, обитали во всех углах, щелях, подпольях, в печных трубах, на чердаках, в кринках, самоварах, бочках...
Я боялся всего, постоянно озирался по сторонам и прислушивался. Когда ложился спать, то крестил свою постель, и свой рот, уши, нос, волосы, чтобы в них не поселился дьявол. Я укрывался с головой: боялся увидеть дьявола... Словом, я заболевал! Мне пришло в голову зарезать преследовавшего меня дьявола. Да, да! Я перекрестил нож и положил его рядом с собой. Не знаю, уснул ли я или уж стал бредить наяву, но только дьявола увидел хорошо: рогатый, облезлый, словно чесоточная телка, он выскочил из лохани и лапами потянулся ко мне: «Вот кого я утащу в ад!» Я затрясся от страха, схватил нож и ударил дьявола по лапам... Ударил и тут же пришел в ясное сознание: я почти напрочь отмахнул себе конец безымянного пальца! Правда, я не вскрикнул, не застонал, а тихонечко поднялся и перевязал палец тряпицей. Нож вытер и положил на стол...
Утром мать увидела на столе нож и огневалась:
— Кто ножик на ночь тут оставлял? Сколько гово-рено: дьявол этим ножом кого-нибудь из нас зарежет!
• • •
НО ОСОБЕННО СТРАШНО МНЕ СТАНОВИЛОСЬ ПОСЛЕ ПОСИДЕЛОК И ВЕЧЕРОК. На них к нам собирались все соседи, которым хотелось языки поточить, и здесь говорили больше об ужасном.
Помню, пришли к нам на вечерки бабы.
Грузная, рыхлая, бесцветная Зячиха села на лавку, вставила гребень в донце, привязала мочку льна и уставилась на нее немигающим взглядом. Мать такую странность заметила и спросила:
— Ты что все на лен поглядываешь? Или он у тебя особый какой?
Зячиха и головы не повернула:
— Попритчилось мне. На затылке шишка вскочила — тряхнуть неможно...
— К ворожее бы сходила!
— Была, да никакой помочи! Третьеводни у нас нищий ночевал и сказывал, как в селе Мадаеве от такой
хвори лечатся. Я бы тоже так вылечилась, да с пеленок пугливая!
У матери глаза загорелись:
— Ну-ка, ну-ка, расскажи, что тебе нищий советовал? Он, говоришь, из Мадаева? О-о, там место лесное и всяких колдунов, ведьм и оборотней в каждой избе, за каждым кустом!
Зячиха продолжала смотреть в одну точку:
— Страшно! Нищий-то грамотей и нам с мужем книгу «Черная магия» читал. Она не печатная, а рукописная. Ее сам старший дьявол красными чернилами написал. В книге говорится: «В полночь сними с себя крест, повесь его на шею козла, а сам на коленях ползи к скотскому кладбищу. Доползешь и сотвори молитву дьяволу»...
Мать вскрикнула:
— Дьяволу? Да ты что?
Зячиха кивнула:
— Да, ему! Боговы молитвы читают богу, а дьяволовы — дьяволу. Нищий и молитве нас с мужем научил: «Шикалу, ликалу! Шагадам, магадам, викадам. Набаз-гин, дюлазгин, фиказгин. Бейхамаишь, гайлушаишь, эламаишь. Ликалу! Шию, шию, дан, ба, ба, бан, ю. Шию, шию, нет оли-ба, ба, аггин, ю. Шию, шию, бала, ли, ба, ба, дам, ю. Мяу! Згин! Згин! Згин! Гааш! Згин! У-у-у! Згин! Згин!»
Мать испуганно попятилась к печи:
— Господи, спаси и помилуй мя, грешную!
Зячиха плюнула через левое плечо:
— Тьфу, провалиться бы ей, этой чертовой молитве! Язык сломаешь, пока слово скажешь... Так вот, молитву дьяволу прочитаешь и пять раз копыту дохлой лошади поклонись, но руками не трогай — копыто может убить!
Поклонишься и на коленях домой ползи. Тут на тебя накинутся черти, колдуны, ведьмы, кикиморы, шишиги, лешии, водяные, русалки и начнут кричать, пищать, мяукать, лаять, ржать, мычать, за волосы хватать, за сарафан дергать, а ты молчи и оглянуться не смей, а то каменным столбом сделаешься. Когда к дому приползешь, да крест с козла снимешь и на себя наденешь, тогда нечистая сила отвяжется!..
Я слушал Зячиху, и меня будто морозом обдавало, а у матери глаза то округлялись, то совсем закрывались, и лицо краснело, белело, и губы вздрагивали. Вдруг Зячиха указала пальцем на пол и прошептала:
— Анна, к вам счастье ползет! Гляди, черный таракан!
Все бабы затаились и как завороженные смотрели на таракана, а он полз не спеша, вразвалочку, точно сельский староста. Зячиха продолжала шептать:
— Дедушка Михайла Тиманков. Ходит, слышь, домовой выше леса, головой вертит и по ветвям бородой метет...
— Выше леса? Почему же такого высокого ты не увидела?
— Его не всегда увидишь. Он делается и выше деревьев и ниже травы, а то еще в медведя, волка или зайца обратится. Этих оборотней на белом свете тьма-тьмущая! И люди, когда дьяволу душу продают, тоже оборотнями делаются. Я еще в девках ходила и ночью из хоровода бежала. Было темным-темно: пальцем в глаза ткнут, и не узнаешь, кто обидел. Слышу впереди ножищами топают. Я приостановилась, пригляделась, а это какой-то мужик. Вдруг он башкой оземь стукнулся и стал волком. Я ему и скажи: «Стыдно, дядя, дьявольскими делами заниматься! Молился бы богу». Оборотень-то словно дым пропал: то ли сквозь землю провалился, то ли улетел!
Я слушал и вздрагивал: по спине ледяные муравьи бегали — было очень страшно, и я взмолился:
— Мам, не сказывай, я боюсь!
— Не надо, так не стану!.. Это меня бог пожалел — одного лешего наслал, а вот если бы еще Кикимору: пропала бы моя головушка!
— Кикимора? Это кто?
— Он сродственник лешего и тоже нечистая сила. Твой дедушка Илья Кикимору видел. Дедушка-то был богатырем, а Кикимора ростом с веник. Головенка похожа на луковицу, но только корнями вверх, а перьями вниз. Перья-то и есть Кикиморова борода... Сам Кикимора и мал, да голос у него бедовый: крикнет — лес дрожит, с деревьев птичьи гнезда падают, а с мужицких голов — картузы летят!
— А что Кикимора дедушке Илье сделал?
— Ничего! Не сладил. И свистел и кричал... Листья с деревьев сыпались, а дедушка сидел, трубку курил и над Кикиморой смеялся: «Напрасно, погань, храбришься да пыжишься, меня напугать думаешь. Я тебя схвачу и в узел завяжу!»
Кикимора стал хитрить и сделался змеей, да по де-реву-суховалу к дедушке начал подбираться. Ползет, извивается, а дедушка-то дерево в одном месте трубочным соком и намазал. Кикимора подполз, трубочного соку лизнул и словно на огне завертелся. Дедушка, не будь промах, схватил поганца и на черную тучу забросил. А туча-то ужасть как бежала, и пока Кикимора в ум приходил, да оглядывался и глаза протирал, так она к ефиопам улетела!
— К ефиопам? А они кто?
— Сказывают, что тоже люди: только черные, будто чугунные, и живут на самом краю света...
— Раз Кикимора у ефиопов, так чего же ты боялась?
— К ефиопам старшой брат улетел, а младший-то в барском лесу живет!
• • •
НАСЛУШАЛСЯ Я МАТЕРИНЫХ РАССКАЗОВ И СТАЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОГА СТРАШИТЬСЯ. Как на икону гляну, так меня в пот бросает! Вдруг да богу чем-нибудь не понравлюсь? Сделает меня каким-нибудь зверем или червяком!
Из-за боязни во время моленья я от икон отворачивался. Мать это заметила и сурово спросила:
— Ты что?
— Чего?
— «Чего, чего»! Рыло от икон отворачиваешь, вот чего! Или на бога противно глядеть?
— Нет, мам, не противно, а я бога боюсь: он сердитый и сделает меня земляным червем...
Мать сразу переменилась:
— Бог —■ высоко, а вот злые люди — близко: их бойся! Есть у нас в селе ведьма — вот от кого прячься! Прошлой зимой дело-то случилось. Ночью у меня голова разболелась — будто кто ее на части разламывал! То ли я в тот день рано трубу закрыла и угорела, то ли ветром голову прохватило, но еле на ногах держалась, а в виски будто звонкими молотками тюкали...
Встала я с постели и вышла на крыльцо свежего воздуха глотнуть. Морозище стоял — дух захватывало! Огляделась и увидела, как из одной трубы старуха в ступе вылетела: на плече — черный кот, в руке — большущая метла...
Сперва-то я старуху не узнала, а как пригляделась, так и ахнула: «Ах, батюшки, да ведь это же Дарья!»
Я спросил:
— Она чья?
Мать спохватилась:
— Тьфу, проговорилась! Не скажу, чья, а то когда-нибудь о ней языком вякнешь и тогда беда!.. Старуха она и старуха: даже ласковая, разговорчивая, а я ее встречаю — язык не поверну с ней заговорить. Ведьма! Это она, злодейка, нашему селу жисть портит: то рожь ржавчиной изукрасит, то тучи от полей отгонит, то град на просо нашлет... Только и спасенья от граду, если окошко откроешь, да градовой туче помелом погрозишь, а то бы сидело село без хлеба и каши!..
Когда я тебя грудью кормила, так Дарья у меня молоко отняла. Ты плакал, есть просил, а молока-то не было!
— Мам, а ты зачем Дарье молоко отдавала? Крикнула бы тятьку: он бы Дарью кнутом!..
— Я ведьму и близко к себе не подпускала! Она дома сидела и чужое молоко крала. В дверной косяк нож воткнет, под нож подойник или ковшик подставит, и в него из ножа молоко течет... Так Дарья отняла молоко и у коровы дедушки Лексея Миклашина. А коро-вища-то какая! Ведерница. Вымя с лукошко. Пришла она как-то из стада и будто ножом отрезала — ни единой капли молока! Дедушка Лексей побежал к попу и заказал молебен святому Мамонтию. И сам и вся семья молились, но толку никакого. Может Мамонтий и хотел бы корове помочь, да ведьма его пересилила?
Тогда дедушка Лексей семь раз на карачках под корову слазил и сам сел доить. Молока ни капельки, а крови с полведра налилось.
Что делать? Дедушка повел корову на базар, и кто, ты думаешь, ее купил? Да ведьмин муж! Знал, дьявольский угодник, что корова перестала доиться, но все равно купил. Стал ее в свой двор вводить, да как за повод дернет! Корова-то от внезапности с ног слетела и с испугу заревела, а Дарья на крыльце стояла и волшебст-вовала: «Будь хозяину с хозяйкой покорной!» И корова покорилась: в тот же день полное ведро молока дала!..
Все, что мать рассказала, я понял, но вот куда Дарья в ступе летала, не знал и спросил:
— Мам, а ведьма в ступе на небо летала?
— На небо? Бог ее с неба так шугнет, что она и костей не соберет! Дарья летала и до сих пор летает в киевскую землю. Там есть Троицко-Печерская лавра — монастырь — а насупротив нее — Лысая гора. Так вот на эту гору со всего свету ведьмы слетаются и шабашничают: адские вина пьют и перед самим сатаной, страмницы, пляшут и хвостами машут...
Я даже вскрикнул:
— Хвостами? Да ведь ведьмы-то бабы!
— Ну так что же, что бабы! У каждой ведьмы есть хвост. Я слыхала, будто в Новоселках,—это от нас верст двадцать пять будет,—жила ведьма и от мужа хвост прятала. Муж-то все равно хвост увидел и его отрубил. Ведьма-то, сказывают, хвост к прежнему месту приставила, и он прирос. Тогда она села в ступу и от мужа насовсем улетела, и где сейчас живет, никто не знает!
— Мам, а Сатана что на Лысой горе делает?
— На золотом троне сидит, на гармонии играет, хвостом вертит, копытом пристукивает, черными словами бога лает, а ведьмы каждое слово повторяют, и такой на горе содом стоит, что в монастыре службу трудно справлять!
Опустив голову и погрустнев, мать сказала:
— Вот и живем, как мыши в норе: боимся людям на глаза показаться, не шумим, не буяним — страшимся ведьмам и колдунам досадить. Ты, сынок, будь со всеми ласков и приветлив, старайся жить незаметно — тише воды, ниже травы. Кто живет тихо — не терпит лиха, а кто бойко — всегда ему неустойка!
У меня невольно делалось смиренное личико, и это матери нравилось:
— Старайся, старайся! Бог твое смирение увидит и в «Книгу живота» запишет.
Я не знал, что это за книга такая:
— Мам, та книга у бога в животе?
— Эк сболтнул! Разве книги в животах лежат?
— А почему же у бога «Книга живота?»
— Так это же по-церковному, а по-нашему просто: «Книга жизни».
— А зачем бог в книгу запишет?
Мать удивленно на меня посмотрела:
— Как же не записывать-то? Бог — один, а нас — тьма и милиены, и все ершистые: тут с любой памятью забудешь, кто и что греховодил или доброе дело творил. Потому бог и записывает!..
Я и старался жить по совету матери — боялся на людей взглянуть: в каждом мужике и старухе видел колдуна или ведьму. Особенно боялся старух и потому каждой улыбался и кланялся, но это меня от беды не спасло: на левой руке появились бородавки! Мать встревожилась:
— Голыми руками лягушек брал?
— Нет, я только прутиком двух лягв гонял...
— Двух? Какие они?
— Одна — серая, а другая — зеленая...
— Сколько раз тебе втолковывать: не связывайся с разной нечистью! Лягушки — оборотни. Серая-то
раньше урядничихой была и мужа день и ночь пилила: «Вот этого мужика в клоповник посади! У этого имущество опиши». Бог на урядничиху глядел, глядел, терпенье потерял и сделал ее лягвой. Вот она злой-то слюной на всех и брызжет!
— Нет, мам, на меня не брызгала!
— Если не брызгала, то глядела...
Вот это было правдой. Серая лягушка действительно на меня смотрела пристально. Я тоже на нее смотрел. У нее были красивые, редко мигающие глаза...
Теперь я сказал матери:
— Лягушка не мигала...
— «Не мигала»... Оборотни все такие! Им хоть плюй в глаза — все роса. Лягушка и насажала тебе бородавок. Возьми-ка вот медную монету, три ею бородавки и заговор шепчи: «Бородавки на руке — закопаю вас в песке; срублю головы монетой — бородавок у меня нету!»
Я взял монету:
— Мам, а зеленая слюной брызжет?
— Нет, зеленая смирная! Я от добрых людей слыхала, что среди зеленых лягушек есть царевна-королевна. Раньше-то она с отцом с матерью жила, а когда стала невестой, ее подземный царь за своего сына посватал. Не захотелось царевне-королевне расставаться с красным солнышком и светлым месяцем, и она отказалась за подземного царевича замуж идти. Подземный царь разгневался и обратил царевну-королевну в зеленую лягушку. Так она, бедная, и страдает и горькие слезы проливает. И до тех пор будет мучиться, пока не найдется какой-нибудь парень и не скажет: «Я тебя беру замуж!» Тут лягушка сделается царевной и пойдет с парнем под венец!
— Мам, а если я ее взамуж возьму?
— Ты? Гоже бы к царю в зятья попасть! И молодую корову бы тогда купили, и избу новую справили, да и Гнедко у нас старый — жеребенка бы во двор привели...
Бородавки я тер усердно, и дня через три на их месте появились нарывы...
Чем дальше, тем больше я опасался нечистой силы. Весь окружающий меня мир, все вещи, вся природа были наполнены невидимыми, таинственными, преимущественно злыми духами. Они проникали всюду, обитали во всех углах, щелях, подпольях, в печных трубах, на чердаках, в кринках, самоварах, бочках...
Я боялся всего, постоянно озирался по сторонам и прислушивался. Когда ложился спать, то крестил свою постель, и свой рот, уши, нос, волосы, чтобы в них не поселился дьявол. Я укрывался с головой: боялся увидеть дьявола... Словом, я заболевал! Мне пришло в голову зарезать преследовавшего меня дьявола. Да, да! Я перекрестил нож и положил его рядом с собой. Не знаю, уснул ли я или уж стал бредить наяву, но только дьявола увидел хорошо: рогатый, облезлый, словно чесоточная телка, он выскочил из лохани и лапами потянулся ко мне: «Вот кого я утащу в ад!» Я затрясся от страха, схватил нож и ударил дьявола по лапам... Ударил и тут же пришел в ясное сознание: я почти напрочь отмахнул себе конец безымянного пальца! Правда, я не вскрикнул, не застонал, а тихонечко поднялся и перевязал палец тряпицей. Нож вытер и положил на стол...
Утром мать увидела на столе нож и огневалась:
— Кто ножик на ночь тут оставлял? Сколько гово-рено: дьявол этим ножом кого-нибудь из нас зарежет!
• • •
НО ОСОБЕННО СТРАШНО МНЕ СТАНОВИЛОСЬ ПОСЛЕ ПОСИДЕЛОК И ВЕЧЕРОК. На них к нам собирались все соседи, которым хотелось языки поточить, и здесь говорили больше об ужасном.
Помню, пришли к нам на вечерки бабы.
Грузная, рыхлая, бесцветная Зячиха села на лавку, вставила гребень в донце, привязала мочку льна и уставилась на нее немигающим взглядом. Мать такую странность заметила и спросила:
— Ты что все на лен поглядываешь? Или он у тебя особый какой?
Зячиха и головы не повернула:
— Попритчилось мне. На затылке шишка вскочила — тряхнуть неможно...
— К ворожее бы сходила!
— Была, да никакой помочи! Третьеводни у нас нищий ночевал и сказывал, как в селе Мадаеве от такой
хвори лечатся. Я бы тоже так вылечилась, да с пеленок пугливая!
У матери глаза загорелись:
— Ну-ка, ну-ка, расскажи, что тебе нищий советовал? Он, говоришь, из Мадаева? О-о, там место лесное и всяких колдунов, ведьм и оборотней в каждой избе, за каждым кустом!
Зячиха продолжала смотреть в одну точку:
— Страшно! Нищий-то грамотей и нам с мужем книгу «Черная магия» читал. Она не печатная, а рукописная. Ее сам старший дьявол красными чернилами написал. В книге говорится: «В полночь сними с себя крест, повесь его на шею козла, а сам на коленях ползи к скотскому кладбищу. Доползешь и сотвори молитву дьяволу»...
Мать вскрикнула:
— Дьяволу? Да ты что?
Зячиха кивнула:
— Да, ему! Боговы молитвы читают богу, а дьяволовы — дьяволу. Нищий и молитве нас с мужем научил: «Шикалу, ликалу! Шагадам, магадам, викадам. Набаз-гин, дюлазгин, фиказгин. Бейхамаишь, гайлушаишь, эламаишь. Ликалу! Шию, шию, дан, ба, ба, бан, ю. Шию, шию, нет оли-ба, ба, аггин, ю. Шию, шию, бала, ли, ба, ба, дам, ю. Мяу! Згин! Згин! Згин! Гааш! Згин! У-у-у! Згин! Згин!»
Мать испуганно попятилась к печи:
— Господи, спаси и помилуй мя, грешную!
Зячиха плюнула через левое плечо:
— Тьфу, провалиться бы ей, этой чертовой молитве! Язык сломаешь, пока слово скажешь... Так вот, молитву дьяволу прочитаешь и пять раз копыту дохлой лошади поклонись, но руками не трогай — копыто может убить!
Поклонишься и на коленях домой ползи. Тут на тебя накинутся черти, колдуны, ведьмы, кикиморы, шишиги, лешии, водяные, русалки и начнут кричать, пищать, мяукать, лаять, ржать, мычать, за волосы хватать, за сарафан дергать, а ты молчи и оглянуться не смей, а то каменным столбом сделаешься. Когда к дому приползешь, да крест с козла снимешь и на себя наденешь, тогда нечистая сила отвяжется!..
Я слушал Зячиху, и меня будто морозом обдавало, а у матери глаза то округлялись, то совсем закрывались, и лицо краснело, белело, и губы вздрагивали. Вдруг Зячиха указала пальцем на пол и прошептала:
— Анна, к вам счастье ползет! Гляди, черный таракан!
Все бабы затаились и как завороженные смотрели на таракана, а он полз не спеша, вразвалочку, точно сельский староста. Зячиха продолжала шептать:
 — Кто черных тараканов обидит, тот из рук счастье упустит!
Таракан скрылся в подпечье, и все облегченно вздохнули...
Фадичкина Наталья, здоровенная, рябоватая, но приятная на лицо баба, сказала:
— Кому тараканы ко двору, а кому хочется, чтобы они ушли со двора. Раз я ходила в село Лопатино и там видела, как бабы тараканов выводили. Если в семье пятеро, то ловят пять тараканрЭ, сажают р лапоть И тот
лапоть тащат через избяной порог на улицу, на дорогу и там бросают. Бабы сказывали, будто все тараканы в этой избе пропадают, а куда, не знают!
Авдотья Тиманкова, крупная, красноликая, мужеподобная вдова, похлопала ладонищей по толстому, точно тумба, колену и протянула:
— Да-а, тараканы, лошадиное копыто... Они, я вам, бабоньки, скажу, штуки не простые, а их возлюбила нечистая сила. Вот вы наши овраги знаете, а из них овраг Штаны — особливый! В нем нечистая сила гнездо свила...
Бабы уставились на Авдотью:
— Неужто гнездо?
— А кто видел-то?
— Я видела! Потому вам и сказываю. Осенью ходила в барский лес по орехи. Туда-то с восходным солнышком прокралась, а уж оттуда перед теменью вышла: остерегалась на барского полесовщика наткнуться. И пошла я не дорогой, а удумала путь укоротить — через Штаны перелезть. Но правду люди говорят: «Ворона прямо летает, да крылья ломает» — так и со мной случилось!
Добралась я до оврага, огляделась, прислушалась: тихо, мирно, барского полесовщика не видно, и я, как девчоночка-недоросточек, села и на заду в овраг съехала. На дне оврага поднялась, шагнула, и тут над моим ухом лошадь заржала — и-го-го-го! Так заржала, что меня будто огромило. Руки, ноги затряслись, и вижу: впереди лошадиная нога шагает! Одна. Подкова блестит. Шерсть на ноге черная, лохматая, и на ней шматки грязи насохли — видимо, по болоту лазала...
У меня не только сердце упало — волосы дыбом поднялись. И тут лошадиная нога как запляшет! Будто парень в хороводе...
Я хотела персты сложить и перекреститься, но не смогла: вместо пальцев на руках — лошадиное копыто!
Творю молитву, а у меня из горла-то, словно у застоявшейся кобылы: и-гого-го!
Так до мельницы Андреяна Митряева и ржала...— Авдотья еще раз стукнула себя по колену и обвела 6aj6 снисходительным взглядом:—Вот вам и лошадиная нога!
Нет, лучше десять шишек на башке носить, чем у нечистой силы милости просить...
В углу, на отшибе, без донца и веретена сидела Та-расиха — дальняя родственница отца: старуха-бродяга, называвшая себя странницей. Каждую весну она запирала свою избу и уходила с мужем бродяжить. Иногда они нанимались батрачить, рыбачить, сторожить, но нигде на постоянном деле долго не задерживались.
Так вот, Тарасиха слушала, слушала и сказала:
— Не знаю, бабоньки, как вы, а я до озноба дьяволов боюсь!.. Года три тому шла я из Астрахани к Царицыну: там меня старик дожидался... И вот как-то в сумерки свернула я к хутору на ночевку. Пошла балкой, а в ней болото! И как только я первый шаг сделала, так дьяволы мне навстречу и кинулись. Не меньше тыщи! Бледно-огненные, востроголовые... Я иду, а дьяволы спереди, сзади, с боков прыгают, пляшут и промеж ног шмыгают! Я молитву читаю: «С нами бог, и расточатся врази его!», но дьяволы не расточались. Я бегу, дьяволов ногами топчу и опять диво-дивное: ни единый не крикнул и не ойкнул...
Уж болото кончалось, и тут я грудь с грудью столкнулась с большущим дьяволищем! Не знаю, как вышло, но я его схватила и кричу: «Ага, подлый, попался!»
Мать веретено уронила:
— Господи, неужто ты, тетка, до дьявола дотронулась? Да как ты осмелилась вонючую мерзость брать?
Тарасиха вздохнула:
— Схватить-то я его схватила, а он ни горячий, ни холодный, ни сухой, ни мокрый и меж пальцев, как воздух, проскочил и из глаз пропал!
Мать зябко поежилась:
— Страсть и ужасть! Я бы умерла или захворала.
Тарасиха кивнула:
— Еще бы! И у меня сердце обмерло. Все внутренности от страху перевернулись, и после того часу я в Царицыне месяц в больнице вылежала. Лихоманка трясла. Исхудала я, пожелтела и думала, что перед очи господни представлюсь, но он меня не принял: жди, мол, вместе с мужем придешь!
Зячиха спросила:
— А что тебе в больнице сказали?
— Дохтор сказал, что меня не черти по болоту гоняли, а болотный газ. Он, мол, из земли выходит и будто дьяволы танцует. Совсем меня дохтора и фершала засмеяли, и я из больницы ночью убежала!
Мать оживилась, даже глаза /сверкнули:
— Моя бабушка была искусницей лихоманку заговаривать. Ее двенадцать злых сестер на человека напускают. Первая сестра — Огнея: человека жаром обдает. Вторая сестра — Трясея: человека трясет. Сестры Ле-дея и Ознобея — человека морозят, и оттого у него зубы щелкают. Гнетея — гнетет. Грынуша — дыханье забивает, в грудях хрип подымает. Глухея — уши заваливает: слух отнимает. Ломотея — жилы рвет и кости ломает. Пухнея — тело вздувает. Желтея — вместо румянца на лицо желтуху кладет. Корчея — судорогами и корчами человека изводит. Глядея *— не дает глаз открыть и бессонницей морит. А над всеми сестрами есть старшая сестра — Невея. Уж если она за человека примегся, то могилу рой и гроб припасай!
Бабы слушали и удивлялись:
— Гляди ты, какая черная свора и орда на человека накидывается!
— А не помнишь ли ты, Анна, какими словами твоя бабушка лихоманку заговаривала?
Мать кивнула:
— Помню, помню! Тут есть два заговора: если первый не поможет, то читают другой... Первый-то вот какой: «Заговариваю я у рабы божией (надо по имени назвать!) двенадцать скорбных недугов: от трясовицы, от колотья, от свербежа, от стрельбы, от огневицы, от ломотья, дерганья, морганья, слепоты, глухоты, желтухи, черной немочи... Ты, злая трясовица, уймись, а не то прокляну; ты, неугомонное колотье, остановись, а не то сошлю в преисподнюю; ты, свербеж, кончись-обор-вись, а не то утоплю в кипятке; ты, стрельба, остановись, а не то засмолю тебя в бочку и брошу в подземные воды; ты, огневица, охладись, а не то заморожу крещенским морозом; ты, ломотье, сожмись, а не то сокрушу тебя камнем; ты, дерганье, затаись, а не то распилю тебя на мелкие частицы и брошу в кипящую воду; ты, морганье, окрутись, а не то в банной печи засушу; ты, слепота, скорчись, а не то утоплю тебя в кипящей-ши-пящей смоле; ты, глухота, провались, а не то дегтем вымажу и свинье на хвост привяжу; ты, желтуха, провались в тартарары, а не то на красном солнышке высушу} ТЫ, черная немочь, отвяжись, а не то заставлю в ступе воду толочь. Все недуги откачнитесь, отвяжитесь, удалитесь от рабы божией и по сей час* сей день,
по всю жисть, моим крепким словом наказываю и приказываю!»
Тяжело дыша, мать села на лавку, и восхищенная Тарасиха сказала:
— Если со мной еще раз лихоманка приключится, то я к тебе, Анна, заговариваться приду!
Мать смутилась:
— Что ты, что ты! Нет, я по-бабушкиному не умею. Раз нет талану, то его не пришьешь к сарафану! Бабушка, бывало, заговорные слова шепчет, а хворый слушает и, словно живой карась на горячей сковороде, корчится и подскакивает. У бабушки была сила, а у меня ее нету!
Зячиха качнула большим дряблым телом:
— Ну, а другой-то какой же заговор? Слова-то какие?
Мать поднялась:
— Он грознее первого! «Встану я, раба божья, благо-словясь, пойду, перекрестясь, из двери в двери, из ворот в ворота, из околицы в поле, путем-дорогой к синему окиан-морю. У окиан-моря стоит дерево карколист — на нем огненный лист и на сучьях иконы Косьмы и Демьяна да апостолов Петра и Павла. Я, раба божия, прибегаю к вам и молю сказать: для чего выходят из моря-окиана двенадцать злых сестер и отбивают от сна, еды, тянут жилы, сосут кровь, как черви, точат печень, пилят желтые кости и суставы? Косьма и Демьян, Петр и Павел, скажите-прикажите сестрам: тут им не житье-жилище, не прохладище; пусть бегут в болотище, в глубокие озерища, за быстрые реки и темные боры: там будет житье-жилище, прохладище».
Тарасиха даже вздрогнула:
— Вот, Анна, ты сказала, что хворые перед бабушкой дрожали, а я здоровая перед тобой трясусь! Стало быть, в тебе тоже есть сила...
Мать промолчала.
А Тарасиха продолжала:
— Со мной было много страху, а с моим стариком ее больше! Лет пять назад он к барину Ненюкину в работники нанялся. (Именье-то Ненюкина, наверно, знаете? Отсюдова, пожалуй, верст тридцать!).
Вечером же барин моего старика позвал и сказал: «Тарас, что-то с моим жеребцом Вороном нехорошо бывает! Каждое утро я его потным вижу. Уж не конюх ли ночами гоняет? Приглядись, и если что заметишь, полтинник к празднику подарю!»
Полтинник — деньги большие, и мой старик согласился. Дождался темени и во дворе, за углом конюшни, затаился. Слышит, Ворон беспокоится — будто от зверя отбивается. Потом и дверь конюшни отворилась, что-то блеснуло....
Тарасиха окинула баб взглядом:
— Кого бы вы думали, мой Тарас увидал?
И почти шепотом ответила:
— Жеребца выводил сам Степан Тимофеевич Разин! С саблей, и глаза холодным огнем горели. Моего старика заметил и сказал: «На барина Ненюкина хребет гнешь? За полтинник нанялся за мной подглядывать? Вот за это и стой у конюшни до моего приезда!»
И Тарас словно часовой вытянулся, замер, а Разин на Ворона вскочил и из глаз пропал.
Перед первыми петухами с неба звездочка упала и во дворе чего-то блеснуло: это Степан Разин появился. Ворон весь в пене и дышал, как кузнечный мех. Разин с коня спрыгнул и в конюшню его пустил, а Тараса взглядом ожег: «Благодарствую за верность! Завтрашней ночью опять сюда приходи: я тебе саблю дам, коня дам, и поедем с тобой бар-помещиков рубить-давить!»
Мой старик собрался с духом и ответил: «Степан Тимофеевич, не могу я с тобой ехать: старуха у меня больно плоха — постоянно хворает». А Разин перебил Тараса: «Знаю, какая у тебя старуха, знаю! Пусть она в родное село идет и там с полгодика одна поживет, а когда мы бар-помещиков передушим, то я обещаю взять ее в царский дворец куфаркой — будет моим казакам пищу варить и жарить!..»
Утром Тарас побежал к Ненюкину: «Ваше благородие, на жеребце Вороне сам Разин ночами гоняет!» Ненюкин сразу озлился, да как закричит: «Дурак! Лентяй! Смутьян! Никакого Разина нет — ему давно голову отрубили... Ты спал, старый черт, и теперь мелешь бог знает чего. Уходи из именья!»
Мы от Ненюкина-то дай бог ноги! В Нижний Новгород ушли. Избавь нас, царь небесный, от такого темного места, как барская усадьба!
Мать сказала:
— Степанова душенька по Россее мечется: бывших дружков-товарищей ищет...
Авдотья как-то мечтательно проговорила:
— А что, бабоньки, может Степан-то Разин и объявится? Вот пойдет по Россее-матушке развеселая мас-леница-колобродица! Куда помещикам бежать — где прятаться?
Зячиха молвила:
— А по моему разуменью, твоему Тарасу все это приснилось! Спал он.
Тарасиха почесала кругленький, словно луковичка, нос:
— Наяву было!.. Я все думаю, почему у меня планида жизни такая? Другие бабы о дьяволах только слышат, а я, куда ни пойду, везде на них наткнусь...
Сказав так, Тарасиха поднялась:
— Гоже с вами калякать-то, да надо домой идти — старик, поди, бранится!
Ее никто не удерживал, не отговаривал, и она вышла. Но только закрыла избяную дверь, как в сенях завопила:
— А-а-а-а-а! Ка-ра-у-ул!
И опрометью влетела в избу:
— Анна, у вас там дьявол! Рогами в сенную дверь стучит...
Я сидел на печи и так перепугался, что не своим голосом закричал:
— Мамонька, возьми на ручки! Во-озь-ми-и!
Она отмахнулась:
— Сиди уж там, таракан запечный! Никто тебя не утащит — никому ты такой не нужен!
И тут же выскочила из избы.
Мать вернулась скоро и, давясь смехом, проговорила:
— Ой, умру! Ой! Это не дьявол стучал, а корова: пить хочет...
Я сразу перестал плакать и расхрабрился:
— Э-э, бабушка, какая ты боягузка! Коровьих рогов испугалась...
Она смущенно отозвалась:
— Да, оконфузилась я!.. Теперь и знаю, что за дверью корова, а все равно одна на улицу не выйду — боюсь. Буду уж лучше с вами, бабы, лясы точить!
Наталья Фадичкина сказала:
— Ты, бабушка, нечистой силы боишься, а от моей прабабки дьявол сломя рога убегал и улетал!
Тарасиха недоверчиво глянула на Наталью:
— Хочешь нам сказку рассказать?
— За сколько купила — за столько и продаю! Как мне сказывали — так и я вам слово в слово передам... Прабабушка людей и скотину лечила. Такие лекарства варила, каких уж теперь ни фершала, ни дохтора, ни аптекари не делают. Она клала в горшок хрен, редьку, белену, полынь, табак, белые мухоморы, перец, череми-цу, ландыш, зверобой, ромашку, серу, смолу, деготь, куриный помет, воск, мед, и все это в печи варила и по трое суток томила.
Не только свои, скопинские, но и из других сел лечиться приезжали, а один раз старуха-помещица пожаловала!
Сидела как-то прабабушка у окна — шерсть разбирала и услыхала, как на улице колокольцы заиграли. Прабабушка подумала: «Какой-нибудь барин проезжает!» Выглянула в окошко, а к избе подкатила тройка буланых! Из кареты вышел высокий господин: в лисьей шапке, в шубе и в валенках. Старуха подивилась этому: «Лето, жара, а он в зимнем одеянии ездит! Лихоманка, что ли, его трясет?»
Барин вошел в избу, шапки не снял, лба не перекрестил и спросил: «Ты, хозяйка, будешь ворожея?» Старуха ответила: «Я ворожея, а на что тебе такая понадобилась? В городах бы лечились: там дохтора, фершала и всякие лекарства есть!» А он и говорит: «Я не господин, а дьявол и к тебе приехал по большой нужде»...
Прабабушка не испугалась: «Уж не душу ли мою вздумал поторговать? Не старайся — не продам. Вон — бог, а вон — порог».
Дьявол не отступил: «Душу оставь себе, но сделай мне другую милость! Видишь, какие у меня лапы-то? Я в человека обратился, среди мужиков и купцов толкался, торговался, а вот руки им подать не мог — волосатые они у меня. Убери, старуха, с моих лап волосы, и я тебе насыплю мешок золота»...
Старуха с досадой подумала: «Ишь, вражья сила, чего захотел! Нет, я тебе не потатчица и не пособница»... Подумала так, а сказала другое: «Ладно, уберу с твоих лап шерсть, но золота не возьму — не люблю его!»
Поставив на скамейку горшок снадобья, старуха сказала дьяволу: «Суй лапы в горшок, да гляди, чтобы по самые локти!» Дьявол обрадовался; рукава засучил, лапы в горшок сунул, да как взвизгнет! И ногами затопал...
Так его снадобьем обожгло, что он из шубы выскочил, рогами потолочину проломил и в небо взмылся!
Старуха из избы вышла, в небо глянула, а дьявол-то уж к облакам подлетает... Подлетел, рожищами облако прохудил, и из него вода полилась. Дьявол лапы подставил и начал с них снадобье смывать. Весь дождь израсходовал и к другому облаку метнулся.
Вернулась старуха в избу,— глядь, а дьяволова-то шуба на полу лежит! Стала прабабушка шубу разглядывать да прикидывать, что из нее можно сшить, ничего, видно, не удумала и сказала: «На кой ляд мне дьяволова шкура? Сожгу ее!»
Затопила печь, бросила шкуру в огонь, дождалась, когда та испепелилась и печь заслонкой закрыла.
Следующим утром моя прабабушка поднялась и печь открыла — хотела варево варить... Глянула в печь-то, а в ней дьяволова шкура целехонька лежит!
С того дня старуха ни одного полена дров не покупала и до самой смерти дьяволовой шкурой печь топила...
Иногда дьявол прилетал и в окошко стучал: «Старуха, отдай мою шкуру! В таком виде я ни к мужикам, ни к купцамне могу подойти». Прабабушка показывала горшок, дьявол отскакивал от окна и улетал — только смрад после себя оставлял! Но вот старуха умерла, и дьявол ночью свою шкуру утащил...
Я слушал Наталью и невольно на окна посматривал: вдруг да дьявол и к нам в избу заглянет? И он заглянул! В нижней половинке окошка показалась дьявольская рожа: круглая, глазастая, широкоротая, беззубая и почему-то однорогая. Бабы тоже дьявола увидели, взвизгнули, и только Наталья не испугалась: кинулась к окну и погрозила дьяволу пальцем:
— Я скоро приду и тебя, озорник, выпорю!
Дьявол в ответ крикнул:
— Меня за тобой тятька прислал!
Наталья кивнула бабам на дьявола:
— Это мой старший сынишка Ефимка... Тыкву выдолбил, на голову надел и балаганничает!
Мать осуждающе покачала головой:
— Ты его крещенской водой сбрызни, а то он сатанинский облик носит! И елеем на лбу крестик напиши...
Под «крылом» отца
— Кто черных тараканов обидит, тот из рук счастье упустит!
Таракан скрылся в подпечье, и все облегченно вздохнули...
Фадичкина Наталья, здоровенная, рябоватая, но приятная на лицо баба, сказала:
— Кому тараканы ко двору, а кому хочется, чтобы они ушли со двора. Раз я ходила в село Лопатино и там видела, как бабы тараканов выводили. Если в семье пятеро, то ловят пять тараканрЭ, сажают р лапоть И тот
лапоть тащат через избяной порог на улицу, на дорогу и там бросают. Бабы сказывали, будто все тараканы в этой избе пропадают, а куда, не знают!
Авдотья Тиманкова, крупная, красноликая, мужеподобная вдова, похлопала ладонищей по толстому, точно тумба, колену и протянула:
— Да-а, тараканы, лошадиное копыто... Они, я вам, бабоньки, скажу, штуки не простые, а их возлюбила нечистая сила. Вот вы наши овраги знаете, а из них овраг Штаны — особливый! В нем нечистая сила гнездо свила...
Бабы уставились на Авдотью:
— Неужто гнездо?
— А кто видел-то?
— Я видела! Потому вам и сказываю. Осенью ходила в барский лес по орехи. Туда-то с восходным солнышком прокралась, а уж оттуда перед теменью вышла: остерегалась на барского полесовщика наткнуться. И пошла я не дорогой, а удумала путь укоротить — через Штаны перелезть. Но правду люди говорят: «Ворона прямо летает, да крылья ломает» — так и со мной случилось!
Добралась я до оврага, огляделась, прислушалась: тихо, мирно, барского полесовщика не видно, и я, как девчоночка-недоросточек, села и на заду в овраг съехала. На дне оврага поднялась, шагнула, и тут над моим ухом лошадь заржала — и-го-го-го! Так заржала, что меня будто огромило. Руки, ноги затряслись, и вижу: впереди лошадиная нога шагает! Одна. Подкова блестит. Шерсть на ноге черная, лохматая, и на ней шматки грязи насохли — видимо, по болоту лазала...
У меня не только сердце упало — волосы дыбом поднялись. И тут лошадиная нога как запляшет! Будто парень в хороводе...
Я хотела персты сложить и перекреститься, но не смогла: вместо пальцев на руках — лошадиное копыто!
Творю молитву, а у меня из горла-то, словно у застоявшейся кобылы: и-гого-го!
Так до мельницы Андреяна Митряева и ржала...— Авдотья еще раз стукнула себя по колену и обвела 6aj6 снисходительным взглядом:—Вот вам и лошадиная нога!
Нет, лучше десять шишек на башке носить, чем у нечистой силы милости просить...
В углу, на отшибе, без донца и веретена сидела Та-расиха — дальняя родственница отца: старуха-бродяга, называвшая себя странницей. Каждую весну она запирала свою избу и уходила с мужем бродяжить. Иногда они нанимались батрачить, рыбачить, сторожить, но нигде на постоянном деле долго не задерживались.
Так вот, Тарасиха слушала, слушала и сказала:
— Не знаю, бабоньки, как вы, а я до озноба дьяволов боюсь!.. Года три тому шла я из Астрахани к Царицыну: там меня старик дожидался... И вот как-то в сумерки свернула я к хутору на ночевку. Пошла балкой, а в ней болото! И как только я первый шаг сделала, так дьяволы мне навстречу и кинулись. Не меньше тыщи! Бледно-огненные, востроголовые... Я иду, а дьяволы спереди, сзади, с боков прыгают, пляшут и промеж ног шмыгают! Я молитву читаю: «С нами бог, и расточатся врази его!», но дьяволы не расточались. Я бегу, дьяволов ногами топчу и опять диво-дивное: ни единый не крикнул и не ойкнул...
Уж болото кончалось, и тут я грудь с грудью столкнулась с большущим дьяволищем! Не знаю, как вышло, но я его схватила и кричу: «Ага, подлый, попался!»
Мать веретено уронила:
— Господи, неужто ты, тетка, до дьявола дотронулась? Да как ты осмелилась вонючую мерзость брать?
Тарасиха вздохнула:
— Схватить-то я его схватила, а он ни горячий, ни холодный, ни сухой, ни мокрый и меж пальцев, как воздух, проскочил и из глаз пропал!
Мать зябко поежилась:
— Страсть и ужасть! Я бы умерла или захворала.
Тарасиха кивнула:
— Еще бы! И у меня сердце обмерло. Все внутренности от страху перевернулись, и после того часу я в Царицыне месяц в больнице вылежала. Лихоманка трясла. Исхудала я, пожелтела и думала, что перед очи господни представлюсь, но он меня не принял: жди, мол, вместе с мужем придешь!
Зячиха спросила:
— А что тебе в больнице сказали?
— Дохтор сказал, что меня не черти по болоту гоняли, а болотный газ. Он, мол, из земли выходит и будто дьяволы танцует. Совсем меня дохтора и фершала засмеяли, и я из больницы ночью убежала!
Мать оживилась, даже глаза /сверкнули:
— Моя бабушка была искусницей лихоманку заговаривать. Ее двенадцать злых сестер на человека напускают. Первая сестра — Огнея: человека жаром обдает. Вторая сестра — Трясея: человека трясет. Сестры Ле-дея и Ознобея — человека морозят, и оттого у него зубы щелкают. Гнетея — гнетет. Грынуша — дыханье забивает, в грудях хрип подымает. Глухея — уши заваливает: слух отнимает. Ломотея — жилы рвет и кости ломает. Пухнея — тело вздувает. Желтея — вместо румянца на лицо желтуху кладет. Корчея — судорогами и корчами человека изводит. Глядея *— не дает глаз открыть и бессонницей морит. А над всеми сестрами есть старшая сестра — Невея. Уж если она за человека примегся, то могилу рой и гроб припасай!
Бабы слушали и удивлялись:
— Гляди ты, какая черная свора и орда на человека накидывается!
— А не помнишь ли ты, Анна, какими словами твоя бабушка лихоманку заговаривала?
Мать кивнула:
— Помню, помню! Тут есть два заговора: если первый не поможет, то читают другой... Первый-то вот какой: «Заговариваю я у рабы божией (надо по имени назвать!) двенадцать скорбных недугов: от трясовицы, от колотья, от свербежа, от стрельбы, от огневицы, от ломотья, дерганья, морганья, слепоты, глухоты, желтухи, черной немочи... Ты, злая трясовица, уймись, а не то прокляну; ты, неугомонное колотье, остановись, а не то сошлю в преисподнюю; ты, свербеж, кончись-обор-вись, а не то утоплю в кипятке; ты, стрельба, остановись, а не то засмолю тебя в бочку и брошу в подземные воды; ты, огневица, охладись, а не то заморожу крещенским морозом; ты, ломотье, сожмись, а не то сокрушу тебя камнем; ты, дерганье, затаись, а не то распилю тебя на мелкие частицы и брошу в кипящую воду; ты, морганье, окрутись, а не то в банной печи засушу; ты, слепота, скорчись, а не то утоплю тебя в кипящей-ши-пящей смоле; ты, глухота, провались, а не то дегтем вымажу и свинье на хвост привяжу; ты, желтуха, провались в тартарары, а не то на красном солнышке высушу} ТЫ, черная немочь, отвяжись, а не то заставлю в ступе воду толочь. Все недуги откачнитесь, отвяжитесь, удалитесь от рабы божией и по сей час* сей день,
по всю жисть, моим крепким словом наказываю и приказываю!»
Тяжело дыша, мать села на лавку, и восхищенная Тарасиха сказала:
— Если со мной еще раз лихоманка приключится, то я к тебе, Анна, заговариваться приду!
Мать смутилась:
— Что ты, что ты! Нет, я по-бабушкиному не умею. Раз нет талану, то его не пришьешь к сарафану! Бабушка, бывало, заговорные слова шепчет, а хворый слушает и, словно живой карась на горячей сковороде, корчится и подскакивает. У бабушки была сила, а у меня ее нету!
Зячиха качнула большим дряблым телом:
— Ну, а другой-то какой же заговор? Слова-то какие?
Мать поднялась:
— Он грознее первого! «Встану я, раба божья, благо-словясь, пойду, перекрестясь, из двери в двери, из ворот в ворота, из околицы в поле, путем-дорогой к синему окиан-морю. У окиан-моря стоит дерево карколист — на нем огненный лист и на сучьях иконы Косьмы и Демьяна да апостолов Петра и Павла. Я, раба божия, прибегаю к вам и молю сказать: для чего выходят из моря-окиана двенадцать злых сестер и отбивают от сна, еды, тянут жилы, сосут кровь, как черви, точат печень, пилят желтые кости и суставы? Косьма и Демьян, Петр и Павел, скажите-прикажите сестрам: тут им не житье-жилище, не прохладище; пусть бегут в болотище, в глубокие озерища, за быстрые реки и темные боры: там будет житье-жилище, прохладище».
Тарасиха даже вздрогнула:
— Вот, Анна, ты сказала, что хворые перед бабушкой дрожали, а я здоровая перед тобой трясусь! Стало быть, в тебе тоже есть сила...
Мать промолчала.
А Тарасиха продолжала:
— Со мной было много страху, а с моим стариком ее больше! Лет пять назад он к барину Ненюкину в работники нанялся. (Именье-то Ненюкина, наверно, знаете? Отсюдова, пожалуй, верст тридцать!).
Вечером же барин моего старика позвал и сказал: «Тарас, что-то с моим жеребцом Вороном нехорошо бывает! Каждое утро я его потным вижу. Уж не конюх ли ночами гоняет? Приглядись, и если что заметишь, полтинник к празднику подарю!»
Полтинник — деньги большие, и мой старик согласился. Дождался темени и во дворе, за углом конюшни, затаился. Слышит, Ворон беспокоится — будто от зверя отбивается. Потом и дверь конюшни отворилась, что-то блеснуло....
Тарасиха окинула баб взглядом:
— Кого бы вы думали, мой Тарас увидал?
И почти шепотом ответила:
— Жеребца выводил сам Степан Тимофеевич Разин! С саблей, и глаза холодным огнем горели. Моего старика заметил и сказал: «На барина Ненюкина хребет гнешь? За полтинник нанялся за мной подглядывать? Вот за это и стой у конюшни до моего приезда!»
И Тарас словно часовой вытянулся, замер, а Разин на Ворона вскочил и из глаз пропал.
Перед первыми петухами с неба звездочка упала и во дворе чего-то блеснуло: это Степан Разин появился. Ворон весь в пене и дышал, как кузнечный мех. Разин с коня спрыгнул и в конюшню его пустил, а Тараса взглядом ожег: «Благодарствую за верность! Завтрашней ночью опять сюда приходи: я тебе саблю дам, коня дам, и поедем с тобой бар-помещиков рубить-давить!»
Мой старик собрался с духом и ответил: «Степан Тимофеевич, не могу я с тобой ехать: старуха у меня больно плоха — постоянно хворает». А Разин перебил Тараса: «Знаю, какая у тебя старуха, знаю! Пусть она в родное село идет и там с полгодика одна поживет, а когда мы бар-помещиков передушим, то я обещаю взять ее в царский дворец куфаркой — будет моим казакам пищу варить и жарить!..»
Утром Тарас побежал к Ненюкину: «Ваше благородие, на жеребце Вороне сам Разин ночами гоняет!» Ненюкин сразу озлился, да как закричит: «Дурак! Лентяй! Смутьян! Никакого Разина нет — ему давно голову отрубили... Ты спал, старый черт, и теперь мелешь бог знает чего. Уходи из именья!»
Мы от Ненюкина-то дай бог ноги! В Нижний Новгород ушли. Избавь нас, царь небесный, от такого темного места, как барская усадьба!
Мать сказала:
— Степанова душенька по Россее мечется: бывших дружков-товарищей ищет...
Авдотья как-то мечтательно проговорила:
— А что, бабоньки, может Степан-то Разин и объявится? Вот пойдет по Россее-матушке развеселая мас-леница-колобродица! Куда помещикам бежать — где прятаться?
Зячиха молвила:
— А по моему разуменью, твоему Тарасу все это приснилось! Спал он.
Тарасиха почесала кругленький, словно луковичка, нос:
— Наяву было!.. Я все думаю, почему у меня планида жизни такая? Другие бабы о дьяволах только слышат, а я, куда ни пойду, везде на них наткнусь...
Сказав так, Тарасиха поднялась:
— Гоже с вами калякать-то, да надо домой идти — старик, поди, бранится!
Ее никто не удерживал, не отговаривал, и она вышла. Но только закрыла избяную дверь, как в сенях завопила:
— А-а-а-а-а! Ка-ра-у-ул!
И опрометью влетела в избу:
— Анна, у вас там дьявол! Рогами в сенную дверь стучит...
Я сидел на печи и так перепугался, что не своим голосом закричал:
— Мамонька, возьми на ручки! Во-озь-ми-и!
Она отмахнулась:
— Сиди уж там, таракан запечный! Никто тебя не утащит — никому ты такой не нужен!
И тут же выскочила из избы.
Мать вернулась скоро и, давясь смехом, проговорила:
— Ой, умру! Ой! Это не дьявол стучал, а корова: пить хочет...
Я сразу перестал плакать и расхрабрился:
— Э-э, бабушка, какая ты боягузка! Коровьих рогов испугалась...
Она смущенно отозвалась:
— Да, оконфузилась я!.. Теперь и знаю, что за дверью корова, а все равно одна на улицу не выйду — боюсь. Буду уж лучше с вами, бабы, лясы точить!
Наталья Фадичкина сказала:
— Ты, бабушка, нечистой силы боишься, а от моей прабабки дьявол сломя рога убегал и улетал!
Тарасиха недоверчиво глянула на Наталью:
— Хочешь нам сказку рассказать?
— За сколько купила — за столько и продаю! Как мне сказывали — так и я вам слово в слово передам... Прабабушка людей и скотину лечила. Такие лекарства варила, каких уж теперь ни фершала, ни дохтора, ни аптекари не делают. Она клала в горшок хрен, редьку, белену, полынь, табак, белые мухоморы, перец, череми-цу, ландыш, зверобой, ромашку, серу, смолу, деготь, куриный помет, воск, мед, и все это в печи варила и по трое суток томила.
Не только свои, скопинские, но и из других сел лечиться приезжали, а один раз старуха-помещица пожаловала!
Сидела как-то прабабушка у окна — шерсть разбирала и услыхала, как на улице колокольцы заиграли. Прабабушка подумала: «Какой-нибудь барин проезжает!» Выглянула в окошко, а к избе подкатила тройка буланых! Из кареты вышел высокий господин: в лисьей шапке, в шубе и в валенках. Старуха подивилась этому: «Лето, жара, а он в зимнем одеянии ездит! Лихоманка, что ли, его трясет?»
Барин вошел в избу, шапки не снял, лба не перекрестил и спросил: «Ты, хозяйка, будешь ворожея?» Старуха ответила: «Я ворожея, а на что тебе такая понадобилась? В городах бы лечились: там дохтора, фершала и всякие лекарства есть!» А он и говорит: «Я не господин, а дьявол и к тебе приехал по большой нужде»...
Прабабушка не испугалась: «Уж не душу ли мою вздумал поторговать? Не старайся — не продам. Вон — бог, а вон — порог».
Дьявол не отступил: «Душу оставь себе, но сделай мне другую милость! Видишь, какие у меня лапы-то? Я в человека обратился, среди мужиков и купцов толкался, торговался, а вот руки им подать не мог — волосатые они у меня. Убери, старуха, с моих лап волосы, и я тебе насыплю мешок золота»...
Старуха с досадой подумала: «Ишь, вражья сила, чего захотел! Нет, я тебе не потатчица и не пособница»... Подумала так, а сказала другое: «Ладно, уберу с твоих лап шерсть, но золота не возьму — не люблю его!»
Поставив на скамейку горшок снадобья, старуха сказала дьяволу: «Суй лапы в горшок, да гляди, чтобы по самые локти!» Дьявол обрадовался; рукава засучил, лапы в горшок сунул, да как взвизгнет! И ногами затопал...
Так его снадобьем обожгло, что он из шубы выскочил, рогами потолочину проломил и в небо взмылся!
Старуха из избы вышла, в небо глянула, а дьявол-то уж к облакам подлетает... Подлетел, рожищами облако прохудил, и из него вода полилась. Дьявол лапы подставил и начал с них снадобье смывать. Весь дождь израсходовал и к другому облаку метнулся.
Вернулась старуха в избу,— глядь, а дьяволова-то шуба на полу лежит! Стала прабабушка шубу разглядывать да прикидывать, что из нее можно сшить, ничего, видно, не удумала и сказала: «На кой ляд мне дьяволова шкура? Сожгу ее!»
Затопила печь, бросила шкуру в огонь, дождалась, когда та испепелилась и печь заслонкой закрыла.
Следующим утром моя прабабушка поднялась и печь открыла — хотела варево варить... Глянула в печь-то, а в ней дьяволова шкура целехонька лежит!
С того дня старуха ни одного полена дров не покупала и до самой смерти дьяволовой шкурой печь топила...
Иногда дьявол прилетал и в окошко стучал: «Старуха, отдай мою шкуру! В таком виде я ни к мужикам, ни к купцамне могу подойти». Прабабушка показывала горшок, дьявол отскакивал от окна и улетал — только смрад после себя оставлял! Но вот старуха умерла, и дьявол ночью свою шкуру утащил...
Я слушал Наталью и невольно на окна посматривал: вдруг да дьявол и к нам в избу заглянет? И он заглянул! В нижней половинке окошка показалась дьявольская рожа: круглая, глазастая, широкоротая, беззубая и почему-то однорогая. Бабы тоже дьявола увидели, взвизгнули, и только Наталья не испугалась: кинулась к окну и погрозила дьяволу пальцем:
— Я скоро приду и тебя, озорник, выпорю!
Дьявол в ответ крикнул:
— Меня за тобой тятька прислал!
Наталья кивнула бабам на дьявола:
— Это мой старший сынишка Ефимка... Тыкву выдолбил, на голову надел и балаганничает!
Мать осуждающе покачала головой:
— Ты его крещенской водой сбрызни, а то он сатанинский облик носит! И елеем на лбу крестик напиши...
Под «крылом» отца
 СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ :МАТЬ МНЕ СКАЗАЛА: г ^ — Бери-ка мел и кресты рисуй!
» Везде рисуй: над окнами, над дверями, на дверях... Через крест ни один дьявол к нам в избу не залетит!
Я, конечно же, с удовольствием схватил кусок мела и начал выводить кресты, а мать смотрела и приговаривала:
— Так, так! У добрых-то людей кресты давно намалеваны, и только нашему отцу все не надо да лишнее... Вот дьявол ему на шею сядет и тогда...
Внезапно появился отец. Осуждающе глянул на мою работу:
— Вы с матерью совсем ошалели!.. Вся наша улица едет в лес за грибами. На телегах. С кадушками. Барин разрешил солить грибы в лесу и соленые по домам развозить...
Я заныл:
— Тять! Мам! Я тоже с вами в лес! Я дома не останусь! Я с вами...
Теперь, спустя много лет, я понял, что отец тогда в шутку ответил отказом:
СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ :МАТЬ МНЕ СКАЗАЛА: г ^ — Бери-ка мел и кресты рисуй!
» Везде рисуй: над окнами, над дверями, на дверях... Через крест ни один дьявол к нам в избу не залетит!
Я, конечно же, с удовольствием схватил кусок мела и начал выводить кресты, а мать смотрела и приговаривала:
— Так, так! У добрых-то людей кресты давно намалеваны, и только нашему отцу все не надо да лишнее... Вот дьявол ему на шею сядет и тогда...
Внезапно появился отец. Осуждающе глянул на мою работу:
— Вы с матерью совсем ошалели!.. Вся наша улица едет в лес за грибами. На телегах. С кадушками. Барин разрешил солить грибы в лесу и соленые по домам развозить...
Я заныл:
— Тять! Мам! Я тоже с вами в лес! Я дома не останусь! Я с вами...
Теперь, спустя много лет, я понял, что отец тогда в шутку ответил отказом:
 — А кто будет дом караулить? Придется тебе домовничать!
Я до того испугался, что дико завизжал и ногами затопал:
— А-а-а-а-а-а! Не останусь с дьяволами, с Букой и Шишигой! Не останусь! Жить не буду! Не буду, не буду, не буду! Меня дьяволы сожрут. Они вон, вон, вон! А-а-а-а-а! Я хочу в рай. Хочу к Косте. А-а-а-а-а!..
...Сколько я был без памяти, не знаю, а когда очнулся, то увидел себя укрытым множеством одежек. Отец с матерью бранились:
— Ты во всем виновата! Ты! Костю погубила и этого припадочным делаешь. Больше сына не касайся: я за него перед всем миром ответчик...
Мать перебила:
— Ты — перед миром, а я — перед богом!
— Ха, «перед богом»... Это все равно, что перед дубовым столбом... Я тебе сказал: больше Мишки не касайся — беру его под свое крыло!.. И на себя тоже глянь: кем ты стала? Святошей! Если без ангелов, архангелов, святителей-покровителей и присноблаженных дурачков жить не можешь — иди в монашки! Иди!
Задыхаясь от негодования, мать ответила:
— Дурень, а еще грамотник! Кто замужнюю бабу в монастырь возьмет? Кто? Туда девок и вдов принимают...
Я сбросил с себя одежки, вскочил и подбежал к родителям. Они так переглянулись, так переглянулись, чт мне стало зябко. Отец положил руку на мое плечо:
— Завтра с нами в лес поедешь. А все, что мать тебе твердила о боге, ангелах, дьяволах, святых и пророках — на все это плюнь.
Мать закричала:
— На бога плевать? Антихрист! Ветродуй!
Отец даже головы к матери не обернул:
— Материны побрехушки только вот этого стоют!..
И ногой наступил на плевок...
...Меня качало, толкало, подбрасывало. Я открыл глаза и понял: лежу в телеге, а она будто сумасшедшая скачет по колдобинам. По обеим сторонам дороги стенами высились могучие дубы, чернокожие липы и зеленые осины. Отец глянул на меня и подмигнул:
— Не слыхал, как я тебя с постели в телегу переносил?
И не дождавшись ответа, спрыгнул с телеги и за уздечку повернул Гнедка в сторону от дороги:
— Вот и приехали! Тут грибное место и вода близко.
Мать схватила было лукошко, но отец прикрикнул:
— Не горит, не торопись: вместе пойдем!
Он степенно^ распряг Гнедка, пустил его на траву, но вдруг подхватил лукошко и метнулся в кусты:
— Я вон в те березы...
Мать улыбнулась:
— Отец-то боится, что я больше его грибов наломаю!..
У старой кособокой липы мать ногой швырнула прошлогоднюю листву. Из-под нее показался похожий на чайное блюдечко подгруздок. Мне стало завидно, и я сказал:
—■ Мам, я тоже тут поищу?
Она торопливо развела руки — загородила ими грибное место и стала похожей на клушку, прикрывающую крыльями своих цыплят:
— Нет, нет, нет! Я сама, а ты себе другое местечко поищи!
Я едва не рассмеялся: мать, как и отец, тоже ревновала!..
Отступив на несколько шагов, я продолжал смотреть, как мать ломала подгруздки. Наконец она поднялась и счастливо улыбнулась:
— Тринадцать подгруздков на одном месте!
Послышался голос отца:
— А-у-у-у-у!
Мать осуждающе проговорила:
— И чего он словно угорелый бегает? Пошел в одну сторону, а кричит с другой...
И неохотно отозвалась:
— А-а-у...
Вывернувшись из-за деревьев, отец подбежал, заглянул в материно лукошко и протянул:
— О-о-о, как много! А я вот...
В его лукошке было три подгруздка и шесть черных груздей.
Отец опять убежал, а мать подошла к березе, покопалась возле ее корней. И снова встала на колени...
Я кружился тут же, но отойти боялся: вдруг меня леший или Кикимора схватят?
И вот когда я бесцельно кружился, то заметил совсем рядом, в папоротнике, белый груздь. Я кинулся вперед, чуть было не раздавил его. Груздь оказался крепким, ножка держалась прочно, и сгоряча я вырвал его из земли с корнем. Кинулся было к матери, но сразу же и опомнился: подошел не торопясь, вразвалочку и скучным голосом проговорил:
— Мам, положи в свое лукошко!
Она глянула и ойкнула;
— Ой, какой богатырь! Ну, Мишка, я сколько лет грибничаю, а такого еще ни разу не видывала. Сам-то на него полюбуйся: видишь, какое кружево носит? Словно невеста перед венцом закрывается.... Да, белый груздь над всем грибным миром царь! Я где-то слыхала, как он водил грибы против мухоморов воевать, но не победил: так мухоморы в лесу и живут!
Только так мать проговорила, показался отец. Мать протянула ему мой груздь:
— Гляди, какого богатырища Мишка подвалил!
Отец заметно растерялся: часто заморгал, и руки
задрожали. Стал разглядывать груздь и головой покачивать:
— Ну, ну! Может, у груздя есть братья? Ты, сынок, где это взял?
Мне, как и матери, стало жаль грибного места, и я солгал:
— Вон там...
И провел отца совсем в другую сторону. Здесь ни одного гриба не оказалось. Отец опять убежал. Я же вернулся на грибное место и там нашел еще два груздя. Мать смеялась:
— Я догадалась, что ты отца в другую сторону повел, но промолчала. Из тебя хороший грибник вырастет!
— Почему же хороший? Я отца обманул...
— И-и, полно-ка зря толковать! Грибники и охотники сроду друг дружку обманывают, и это за грех не считается: попу на исповеди сознаешься, а он только смеется...
Я покачал головой:
— Не поймешь вас! То большой грех, то маленький...
— А то как же! Недаром в народе говорится: «Грех — с орех, а грешок — не лезет попу в мешок». Не сокрушайся-ка!
К полудню наша телега была завалена грибами. Мать ими полюбовалась и сказала:
— Хватит! Всех грибов не собрать, не сломать, не засолить! Давайте поедим, а то страсть есть хочется — под ложечкой сосет!
Раскинув на траве столешницу, мать выложила на нее хлеб, соль, вареные картофелины, свежие огурцы и пареные свеклины. Ох и вкусна же была еда! Второпях я и бога забыл поблагодарить, а когда спохватился, то вспомнил: мать тоже не благодарила!
Мы с отцом взяли ведра и пошли в овраг за водой. Он был глубоким, заросшим мелким осинником и высокой травой. Там, на самом дне, звенел тихий ручеек, и мы из него набрали воды. Она припахивала лежалой листвой и травами. Я осмотрелся и тихонько спросил отца:
— А тут лошадиная нога не живет?
Он усмехнулся:
— Нет, тут только вода живет! Раньше,— это было давным давно,—воины Степана Разина в этом овраге раненых товарищей лечили да отхаживали. Вот у этого ручейка больные-то и лежали!
— А почему больных не в селе лечили?
— Стало быть, нельзя было! Опасно. По селам-то раненых хватали и в Арзамас везли, а там сидел царский генерал... Он велел раненых жестоко пытать, кнутом бить, раскаленным железом палить и гак до смерти замучивал...
— А тетка Авдотья Тиманкова сказывала, будто ее в Штанах лошадиная нога гоняла...
— «Гоняла»... Мать с Авдотьей столько наврут, что навранного и сами не допрут! — не на шутку рассердился отец.
Мы принесли воду и стали грибы перебирать и от земли и листьев отмывать, а мать укладывала грибы в кадушку и густо посыпала солью. Мой груздь мать положила сверху:
— Пусть наши грибы людям глаза радуют!..
Нам бы домой собираться, но отец позвал меня:
— Пойдем, я тебе чудо покажу!
Он завел меня в кусты и показал на высокий орешник:
— Видишь?
— Ничего не вижу!
— Как так? Грибы на ветках сушатся!
— А ты зачем их нанизал?
— Чудак! Не я, а белка. На зиму еду запасает... Толкуют, что у зверя ума нет... Без ума белка бы плохие грибы на кустах развесила, а тут белые висят... Нет, у нее губа не дура и язык не лопата!
Домой мы возвращались по-темному. Теперь лес казался строже, загадочнее, угрюмее, и мне было страшновато. Да и отец почему-то старался не шуметь и даже Гнедка не понукал.
Я подумал, что отец с матерью остерегаются лешего и тихонько спросил:
— Мам, ты ныне лешего с Кикиморой не видела? Она с досадой отозвалась:
— А кто будет дом караулить? Придется тебе домовничать!
Я до того испугался, что дико завизжал и ногами затопал:
— А-а-а-а-а-а! Не останусь с дьяволами, с Букой и Шишигой! Не останусь! Жить не буду! Не буду, не буду, не буду! Меня дьяволы сожрут. Они вон, вон, вон! А-а-а-а-а! Я хочу в рай. Хочу к Косте. А-а-а-а-а!..
...Сколько я был без памяти, не знаю, а когда очнулся, то увидел себя укрытым множеством одежек. Отец с матерью бранились:
— Ты во всем виновата! Ты! Костю погубила и этого припадочным делаешь. Больше сына не касайся: я за него перед всем миром ответчик...
Мать перебила:
— Ты — перед миром, а я — перед богом!
— Ха, «перед богом»... Это все равно, что перед дубовым столбом... Я тебе сказал: больше Мишки не касайся — беру его под свое крыло!.. И на себя тоже глянь: кем ты стала? Святошей! Если без ангелов, архангелов, святителей-покровителей и присноблаженных дурачков жить не можешь — иди в монашки! Иди!
Задыхаясь от негодования, мать ответила:
— Дурень, а еще грамотник! Кто замужнюю бабу в монастырь возьмет? Кто? Туда девок и вдов принимают...
Я сбросил с себя одежки, вскочил и подбежал к родителям. Они так переглянулись, так переглянулись, чт мне стало зябко. Отец положил руку на мое плечо:
— Завтра с нами в лес поедешь. А все, что мать тебе твердила о боге, ангелах, дьяволах, святых и пророках — на все это плюнь.
Мать закричала:
— На бога плевать? Антихрист! Ветродуй!
Отец даже головы к матери не обернул:
— Материны побрехушки только вот этого стоют!..
И ногой наступил на плевок...
...Меня качало, толкало, подбрасывало. Я открыл глаза и понял: лежу в телеге, а она будто сумасшедшая скачет по колдобинам. По обеим сторонам дороги стенами высились могучие дубы, чернокожие липы и зеленые осины. Отец глянул на меня и подмигнул:
— Не слыхал, как я тебя с постели в телегу переносил?
И не дождавшись ответа, спрыгнул с телеги и за уздечку повернул Гнедка в сторону от дороги:
— Вот и приехали! Тут грибное место и вода близко.
Мать схватила было лукошко, но отец прикрикнул:
— Не горит, не торопись: вместе пойдем!
Он степенно^ распряг Гнедка, пустил его на траву, но вдруг подхватил лукошко и метнулся в кусты:
— Я вон в те березы...
Мать улыбнулась:
— Отец-то боится, что я больше его грибов наломаю!..
У старой кособокой липы мать ногой швырнула прошлогоднюю листву. Из-под нее показался похожий на чайное блюдечко подгруздок. Мне стало завидно, и я сказал:
—■ Мам, я тоже тут поищу?
Она торопливо развела руки — загородила ими грибное место и стала похожей на клушку, прикрывающую крыльями своих цыплят:
— Нет, нет, нет! Я сама, а ты себе другое местечко поищи!
Я едва не рассмеялся: мать, как и отец, тоже ревновала!..
Отступив на несколько шагов, я продолжал смотреть, как мать ломала подгруздки. Наконец она поднялась и счастливо улыбнулась:
— Тринадцать подгруздков на одном месте!
Послышался голос отца:
— А-у-у-у-у!
Мать осуждающе проговорила:
— И чего он словно угорелый бегает? Пошел в одну сторону, а кричит с другой...
И неохотно отозвалась:
— А-а-у...
Вывернувшись из-за деревьев, отец подбежал, заглянул в материно лукошко и протянул:
— О-о-о, как много! А я вот...
В его лукошке было три подгруздка и шесть черных груздей.
Отец опять убежал, а мать подошла к березе, покопалась возле ее корней. И снова встала на колени...
Я кружился тут же, но отойти боялся: вдруг меня леший или Кикимора схватят?
И вот когда я бесцельно кружился, то заметил совсем рядом, в папоротнике, белый груздь. Я кинулся вперед, чуть было не раздавил его. Груздь оказался крепким, ножка держалась прочно, и сгоряча я вырвал его из земли с корнем. Кинулся было к матери, но сразу же и опомнился: подошел не торопясь, вразвалочку и скучным голосом проговорил:
— Мам, положи в свое лукошко!
Она глянула и ойкнула;
— Ой, какой богатырь! Ну, Мишка, я сколько лет грибничаю, а такого еще ни разу не видывала. Сам-то на него полюбуйся: видишь, какое кружево носит? Словно невеста перед венцом закрывается.... Да, белый груздь над всем грибным миром царь! Я где-то слыхала, как он водил грибы против мухоморов воевать, но не победил: так мухоморы в лесу и живут!
Только так мать проговорила, показался отец. Мать протянула ему мой груздь:
— Гляди, какого богатырища Мишка подвалил!
Отец заметно растерялся: часто заморгал, и руки
задрожали. Стал разглядывать груздь и головой покачивать:
— Ну, ну! Может, у груздя есть братья? Ты, сынок, где это взял?
Мне, как и матери, стало жаль грибного места, и я солгал:
— Вон там...
И провел отца совсем в другую сторону. Здесь ни одного гриба не оказалось. Отец опять убежал. Я же вернулся на грибное место и там нашел еще два груздя. Мать смеялась:
— Я догадалась, что ты отца в другую сторону повел, но промолчала. Из тебя хороший грибник вырастет!
— Почему же хороший? Я отца обманул...
— И-и, полно-ка зря толковать! Грибники и охотники сроду друг дружку обманывают, и это за грех не считается: попу на исповеди сознаешься, а он только смеется...
Я покачал головой:
— Не поймешь вас! То большой грех, то маленький...
— А то как же! Недаром в народе говорится: «Грех — с орех, а грешок — не лезет попу в мешок». Не сокрушайся-ка!
К полудню наша телега была завалена грибами. Мать ими полюбовалась и сказала:
— Хватит! Всех грибов не собрать, не сломать, не засолить! Давайте поедим, а то страсть есть хочется — под ложечкой сосет!
Раскинув на траве столешницу, мать выложила на нее хлеб, соль, вареные картофелины, свежие огурцы и пареные свеклины. Ох и вкусна же была еда! Второпях я и бога забыл поблагодарить, а когда спохватился, то вспомнил: мать тоже не благодарила!
Мы с отцом взяли ведра и пошли в овраг за водой. Он был глубоким, заросшим мелким осинником и высокой травой. Там, на самом дне, звенел тихий ручеек, и мы из него набрали воды. Она припахивала лежалой листвой и травами. Я осмотрелся и тихонько спросил отца:
— А тут лошадиная нога не живет?
Он усмехнулся:
— Нет, тут только вода живет! Раньше,— это было давным давно,—воины Степана Разина в этом овраге раненых товарищей лечили да отхаживали. Вот у этого ручейка больные-то и лежали!
— А почему больных не в селе лечили?
— Стало быть, нельзя было! Опасно. По селам-то раненых хватали и в Арзамас везли, а там сидел царский генерал... Он велел раненых жестоко пытать, кнутом бить, раскаленным железом палить и гак до смерти замучивал...
— А тетка Авдотья Тиманкова сказывала, будто ее в Штанах лошадиная нога гоняла...
— «Гоняла»... Мать с Авдотьей столько наврут, что навранного и сами не допрут! — не на шутку рассердился отец.
Мы принесли воду и стали грибы перебирать и от земли и листьев отмывать, а мать укладывала грибы в кадушку и густо посыпала солью. Мой груздь мать положила сверху:
— Пусть наши грибы людям глаза радуют!..
Нам бы домой собираться, но отец позвал меня:
— Пойдем, я тебе чудо покажу!
Он завел меня в кусты и показал на высокий орешник:
— Видишь?
— Ничего не вижу!
— Как так? Грибы на ветках сушатся!
— А ты зачем их нанизал?
— Чудак! Не я, а белка. На зиму еду запасает... Толкуют, что у зверя ума нет... Без ума белка бы плохие грибы на кустах развесила, а тут белые висят... Нет, у нее губа не дура и язык не лопата!
Домой мы возвращались по-темному. Теперь лес казался строже, загадочнее, угрюмее, и мне было страшновато. Да и отец почему-то старался не шуметь и даже Гнедка не понукал.
Я подумал, что отец с матерью остерегаются лешего и тихонько спросил:
— Мам, ты ныне лешего с Кикиморой не видела? Она с досадой отозвалась:
 — Полон лес людей: не только леший — сам дьявол бы испугался и, задеря на плечо хвост, убежал бы!
Вот это было новостью! Мать признавалась, что леший и Кикимора и даже дьяволы людей боятся!
Тут впереди раздался резкий окрик:
— Стой, плати за сбор грибов!
Отец молча достал из кармана гривенник и отдал барскому полесовщику, а потом на Гнедка прикрикнул:
— Чего уши-то развесил? Ждешь, когда с хозяина и за лесной воздух гривенник сдерут? Н-н-о-о!
Полесовщик угрожающе заорал:
— Полегче языком мели!
Мать ткнула отца кулачком в спину:
— Поезжай скорее! Хочется тебе к барскому полесовщику репьем цепляться?
Выехав из леса, отец раздраженно сказал:
— Видел, сынок, настоящего-то лешего? Материн леший — туман. Тьфу на него, а тут... тут власть и ружье!
— Полон лес людей: не только леший — сам дьявол бы испугался и, задеря на плечо хвост, убежал бы!
Вот это было новостью! Мать признавалась, что леший и Кикимора и даже дьяволы людей боятся!
Тут впереди раздался резкий окрик:
— Стой, плати за сбор грибов!
Отец молча достал из кармана гривенник и отдал барскому полесовщику, а потом на Гнедка прикрикнул:
— Чего уши-то развесил? Ждешь, когда с хозяина и за лесной воздух гривенник сдерут? Н-н-о-о!
Полесовщик угрожающе заорал:
— Полегче языком мели!
Мать ткнула отца кулачком в спину:
— Поезжай скорее! Хочется тебе к барскому полесовщику репьем цепляться?
Выехав из леса, отец раздраженно сказал:
— Видел, сынок, настоящего-то лешего? Материн леший — туман. Тьфу на него, а тут... тут власть и ружье!
• • •
С ЭТОГО ДНЯ К ОТЦУ ПОТЯНУЛИСЬ ПРОСИТЕЛИ. Первым, помню, заявился дьячок Соловьев Алексей: тихий, обремененный семьей. Он принес бочку: — Иван Ильич, почини посудину: грибы не в чем посолить! Отец заважничал и закуражился: — Некогда! Яровые убираю, молотьба, озимые сеять, а работник я один. Вот когда сын подрастет, тогда уж будет вольготность... Дьячок завздыхал: — Эх, Иван Ильич! Неужели у тебя каменное сердце? Сам понимаю: зимой бы или ранней весной надо чинить, да ведь человек-то я русский — когда гром грянет, тогда и перекрещусь, а в тихое время не догадаюсь. Нет, ты уж почини! Отец наконец согласился: — Ладно, починю! Закуривай, да потолкуем о нашей веселой жизни! — Какое веселье! Лапти бы обул, да отец Николай к службе в храме не допустит... Меняя обручи на бочке, отец цедил сквозь зубы: — Починю твою посудину, но больше одной зимы она все равно не продержится! Дьячок обрадовался: — Зиму простоит и слава богу! Недавно новой была, а уж сгнила... Да, от времени все ветшает. Недаром в народе говорят: «Сенька городит, мостит и хоро-мит, а время и Сенькины сени надломит»... Любой богатырь изнашивается. Цари царствующие и господа господствующие не могут на земле вечную жизнь купить, а уж мы с тобой!.. Отец перебил: — Какие в нашем царстве-государстве новости? Может, что отец Николай рассказывал, дьякон или сам в газете вычитал? — В этом году много грибов уродилось. Отец дьякон сказал, что такое бывает к войне. По срокам бы тоже войне быть! Все войны, видишь ли, начинались в двенадцатом году. С Польшей воевали в 1612 году, со Швецией — в 1712, с Францией — в 1812 году... Как сто лет отрежется, так и война! Вот теперь, стало быть, 1912 год: войны пока нет, но все в руке божией! Отец мрачно протянул: — «Война»... Кому она нужна? Тебе? Мне? Нет! Ты скажи другое: правда ли, будто царь золотодобытчиков-рабочих расстрелял? За что? Дьячок утер рукавом пот со лба: — Отец Николай сказывал, что убиенных две с половиной сотни и покалеченных две сотни и семь десятков. О сем строго-настрого велено молчать: государева тайна, а мы его рабы! — Вот так и живем: черт горы качает, а нас как веники трясет... «Мы — рабы»... Да, мы рабы, и немые рабы! «Тайна»... Нам не привыкать молчать. Говорим о грехе, а людей убиваем! Как это понять? Или царю грехи прощаются? Кто прощает? Попы? А какое у вас право? Дьячок сидел точно на горячих угольях: — Нет, я объяснить не смогу! В церкви есть большие чины, а я самый низкий... Закончив ремонт, отец постучал кулаком по дну бочки: — Одну зиму будет держаться моим мастерством, а Другую — молитвами хозяина... Дьячок сунул в руку отца деньги: — Благодарствую, Иван Ильич! И погрозил пальцем: — О нашем разговоре ни гу-гу! Я ничего не говорил, и ты меня не слушал: так-то лучше, а то схватят за ушко, да повесят на солнышко сушиться... Когда дьячок ушел, отец сосчитал полученные медяки и улыбнулся: — Заработал мужичок на табачок!.. О нашем разговоре с дьячком ты, Мишка, никому ни слова. Понял?..
• • •
 НА ДРУГОЙ ДЕНЬ К НАМ ПРИШЕЛ ДЬЯКОН. Отец улыбнулся и мне шепнул:
— Гляди, все духовенство к нам с тобой прет! Значит, и мы люди нужные...
Тряхнув густой гривой и размашисто перекрестясь, дьякон пробасил:
— Ивану Ильичу мое уважение!
Отец показал мне глазами на перегородку, и я за нее нырнул, но в щель между досками было видно, как дьякон сел, шапку на лавку положил и окинул взглядом избу:
— Пришел новую кадушку заказывать...
Польщенный отец задрал бороду и огладил ее:
— Сделаю! И возьму недорого.
Дьякон рявкнул:
— Р-р-р! Мы не цыгане — торговаться не станем. Я отдаю пятишницу, а ты делаешь хорошую кадушку!
Отец даже отступил:
— Пятишницу? Много, Иван Лександрыч! Много! Я не грабитель...
Дьякон нахмурился:
— От денег не отказывайся: не святой! Все мы люди и деньги любим...
— Ну ладно, возьму пятишницу и такую кадушку смастерю — заглядишься и упадешь! Бросишь ее с колокольни — не разобьется и не потечет.
— А если бы не так, то я бы к тебе, мастер, и не пришел! Знаю твои золотые руки. Творишь не ради денег, а по велению сердца. Потому и живешь бедно...
Отец сел, на дьякона уставился.
— Иван Лександрыч, кадушка — творение рук человеческих, и я ее с охотой сделаю, но меня думка грызет, а спросить отца Николая боюсь...
— Что-нибудь вычитал, грамотей? Спрашивай, я w урядник!
Отец колебался и тяжело вздыхал. Дьякон трону его за руку: г
— Говори же, что это за думка такая зубастая? *
— Зубастая, Иван Лександрыч! Грызет и грызет. О библии хочу спросить. В ней сказано, будто бог cd" творил небо, землю и все на ней живущее. Ведь так?
— Так...
— Так-то так, да кто этому был свидетель? Кто поручится, что все произошло по-писаному? А может, бог ничего не творил и все живущее на земле существует вечно?
Дьякон уставил на отца изумленный взгляд:
— Вон ты какой, Иван Ильич! Скажу без кривды: твое мудрствование, будь оно при других изложено, могло бы кончиться весьма печально. Таких вольнодумцев раньше живыми на кострах сжигали, а теперь в Сибирь на каторгу гонят. Понял? Ты бога не разумом постигай, а верой. Есть ли бог, нет ли его; творил ли он землю и все на ней сущее или не творил, а ты верь! И чем крепче вера, тем меньше будут думки грызть. Давай-ка, Иван Ильич, покончим сей опасный разговор! Мне домой время...
Поднявшись, дьякон положил на стол золотой пятирублевик и пришлепнул его ладонищец:
— Другому мастеру и гроша бы не поверил, а тебе, бессребренник, вперед отдаю!.. На мои суровые слова не гневайся: я, как ты ведаешь, сам состою на службе да еще немалую семью кормлю. Чтобы жить — надо служить! Понял?..
Проводив дьякона, отец вернулся в избу и сел к столу. Обхватил руками голову и закачался. Я испугался.
— Тять, у тебя зубы болят?
Он простонал:
— Ду-ша бо-лит!..
— Душа? Разве душа хворает?
— Душа сильнее зубов болит! Ты слыхал, о чем я дьякона-то спрашивал? Не ответил он мне! Я его насквозь вижу: боится правду сказать, боится семью без хлеба оставить. Да-а-а, кому служишь — тому и пятки лижешь. Недаром говорится, что у святых отцов не найти концов!
Я спросил:
_ — Тять, а дьякон кому пятки лижет?
— Все они, сынок, пятки лижут! Все! Дьячок — дья-•ну и попу; дьякон — попу; поп с дьяконом и дьяч-•м — благочинному; благочинный с попами, дьяконами дьячками — архиерею...
В моем воображении сразу же возникла смешная .ртина: поп, благочинный, дьякон и дьячок сидят на >ленях и лижут голую ногу волосатого архиерея...
Но вот откуда-то вернулась мать, и я похвалился:
— У нас сам дьякон был!
Мать нахмурилась:
— Чего он? Уж не водки ли клянчил?
Отец отозвался:
— Трезвый... Новую кадушку заказал и вот золотой ятирублевик вперед отдал.
— Пятирублевик? Ты что это дьякона так ободрал?
— Да я больше двух целковых с него бы и не взял, но дьякон насильно мне пятишницу навязал! Надеется на меня — хорошую кадку желает...
Мать головой покачала:
— Пьяница, а понимает, какие у тебя руки-то!.. Ну ладно, давайте обедать...
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ К НАМ ПРИШЕЛ ДЬЯКОН. Отец улыбнулся и мне шепнул:
— Гляди, все духовенство к нам с тобой прет! Значит, и мы люди нужные...
Тряхнув густой гривой и размашисто перекрестясь, дьякон пробасил:
— Ивану Ильичу мое уважение!
Отец показал мне глазами на перегородку, и я за нее нырнул, но в щель между досками было видно, как дьякон сел, шапку на лавку положил и окинул взглядом избу:
— Пришел новую кадушку заказывать...
Польщенный отец задрал бороду и огладил ее:
— Сделаю! И возьму недорого.
Дьякон рявкнул:
— Р-р-р! Мы не цыгане — торговаться не станем. Я отдаю пятишницу, а ты делаешь хорошую кадушку!
Отец даже отступил:
— Пятишницу? Много, Иван Лександрыч! Много! Я не грабитель...
Дьякон нахмурился:
— От денег не отказывайся: не святой! Все мы люди и деньги любим...
— Ну ладно, возьму пятишницу и такую кадушку смастерю — заглядишься и упадешь! Бросишь ее с колокольни — не разобьется и не потечет.
— А если бы не так, то я бы к тебе, мастер, и не пришел! Знаю твои золотые руки. Творишь не ради денег, а по велению сердца. Потому и живешь бедно...
Отец сел, на дьякона уставился.
— Иван Лександрыч, кадушка — творение рук человеческих, и я ее с охотой сделаю, но меня думка грызет, а спросить отца Николая боюсь...
— Что-нибудь вычитал, грамотей? Спрашивай, я w урядник!
Отец колебался и тяжело вздыхал. Дьякон трону его за руку: г
— Говори же, что это за думка такая зубастая? *
— Зубастая, Иван Лександрыч! Грызет и грызет. О библии хочу спросить. В ней сказано, будто бог cd" творил небо, землю и все на ней живущее. Ведь так?
— Так...
— Так-то так, да кто этому был свидетель? Кто поручится, что все произошло по-писаному? А может, бог ничего не творил и все живущее на земле существует вечно?
Дьякон уставил на отца изумленный взгляд:
— Вон ты какой, Иван Ильич! Скажу без кривды: твое мудрствование, будь оно при других изложено, могло бы кончиться весьма печально. Таких вольнодумцев раньше живыми на кострах сжигали, а теперь в Сибирь на каторгу гонят. Понял? Ты бога не разумом постигай, а верой. Есть ли бог, нет ли его; творил ли он землю и все на ней сущее или не творил, а ты верь! И чем крепче вера, тем меньше будут думки грызть. Давай-ка, Иван Ильич, покончим сей опасный разговор! Мне домой время...
Поднявшись, дьякон положил на стол золотой пятирублевик и пришлепнул его ладонищец:
— Другому мастеру и гроша бы не поверил, а тебе, бессребренник, вперед отдаю!.. На мои суровые слова не гневайся: я, как ты ведаешь, сам состою на службе да еще немалую семью кормлю. Чтобы жить — надо служить! Понял?..
Проводив дьякона, отец вернулся в избу и сел к столу. Обхватил руками голову и закачался. Я испугался.
— Тять, у тебя зубы болят?
Он простонал:
— Ду-ша бо-лит!..
— Душа? Разве душа хворает?
— Душа сильнее зубов болит! Ты слыхал, о чем я дьякона-то спрашивал? Не ответил он мне! Я его насквозь вижу: боится правду сказать, боится семью без хлеба оставить. Да-а-а, кому служишь — тому и пятки лижешь. Недаром говорится, что у святых отцов не найти концов!
Я спросил:
_ — Тять, а дьякон кому пятки лижет?
— Все они, сынок, пятки лижут! Все! Дьячок — дья-•ну и попу; дьякон — попу; поп с дьяконом и дьяч-•м — благочинному; благочинный с попами, дьяконами дьячками — архиерею...
В моем воображении сразу же возникла смешная .ртина: поп, благочинный, дьякон и дьячок сидят на >ленях и лижут голую ногу волосатого архиерея...
Но вот откуда-то вернулась мать, и я похвалился:
— У нас сам дьякон был!
Мать нахмурилась:
— Чего он? Уж не водки ли клянчил?
Отец отозвался:
— Трезвый... Новую кадушку заказал и вот золотой ятирублевик вперед отдал.
— Пятирублевик? Ты что это дьякона так ободрал?
— Да я больше двух целковых с него бы и не взял, но дьякон насильно мне пятишницу навязал! Надеется на меня — хорошую кадку желает...
Мать головой покачала:
— Пьяница, а понимает, какие у тебя руки-то!.. Ну ладно, давайте обедать...
• • •
ПООБЕДАВ И ПРИБРАВ ПОСУДУ, МАТЬ ВДРУГ ОПУСТИЛАСЬ ПЕРЕД ОТЦОМ НА КОЛЕНИ: — Иванушка, нет у меня ни батюшки, ни матушки, и только ты глава и хо вяин. Пожалей бабу глупую — отпусти в Саровский монастырь на богомолье? Отец растерялся: — Да ты, мать, что? У меня сейчас столько работы, а ты... Нашла бы другое время или совсем не ходила! Мать продолжала стоять на коленях: — Смилуйся, отпусти грешную душу на покаяние! Когда сыночек Костя умер, я богу обет дала: схожу, 3 М. Суетное 05 мол, по святым местам, мощам угодников божиих помо4 люсь вместо Костиньки другого младенца попрошу.. Отец окончательно смутился, покраснел, вспотел: * — Наговорила семь плетух, а слушает один петух!.. И уже озабоченно спросил: — Неужто одна пойдешь? Мать поднялась, стряхнула с колен пыль: — Многие бабы из села идут... Быстро собрала суму, распрощалась и ушла. Вечером отец спохватился, засуетился: — Кадушку-то дьякону надо делать, а клепка? Которая у нас в сенцах лежит — та не годится: за пять золотых рублей надо и кадушку золотую... Придется в Ско-пино ехать. Один мужик обещал мне хорошую клепку продать... Пойдем, сынок, к дедушке Михайле Тиман-кову: он тебя на одну-то ночь приголубит!.. Деда Михайлу мы застали за работой: вил лапотные веревки, которые у нас в селе называли оборами. Дед приветливо улыбнулся и заворковал: — Проходите, соседушки, вперед, в красный угол садитесь, а я сию минуточку дело кончу... Отец ответил: — Рад бы посидеть, но в Скопино собрался, а Мишку оставить не с кем. Сухоньким кулачком дед подоил скудную бороденку и взглянул на меня: — Разве с Натальей тебя положить? Не боишься с девками спать? Я самолюбиво отозвался: — Чай, не маленький! Тетка Наталья хорошая, и я с ней пересплю. Дед рассмеялся: — Ишь, какой ты! Эй, Наталья, ты дома? Здоровенная, румянолицая, белокурая девка Наталья вышла из-за тесовой перегородки: — Чего надо? — Пусть Мишка с тобой нынче ночует, а то Иван Ильич уезжает... Наталья взяла меня за руку: — Ладно, со мной так со мной... Пойдем в чулан! Мы вышли в сени, и я шепотом спросил: — У вас домовой не плачется? Ночью тебя не душит? Наш домовой мамку шекотал и задавлял! — Нет, меня никто не трогает... — А ты ведьм и колдунов боишься? — Я сильная — не боюсь! — А лешего? А Кикимору и Шишигу? А Буки боишься? Наталья рассмеялась: — Ты столько наговорил, что я забыла, про какого нечистика и речь ведется. Нет, Мишка, я никого не боюсь! Мы вошли в чулан, и Наталья ощупью нашла постель: — Ложись к стене, а то разоспишься и скатишься! Я один раз падала. Снилось, будто лечу, лечу и руками, как крыльями, размахиваю... Летела, летела, да вместо высоты поднебесной, носом в пол ткнулась! Я улегся. Наталья примостилась рядом. Я спросил: — Тетка Наталья, а ты будешь жениться? Она почему-то вздрогнула: — Жениться? Женятся парни, а девки выходят замуж... Я доверительно сообщил: — У меня тоже будет своя жена! Наталья рассмеялась: — У тебя? Же-на? Смех показался мне неуместным, и я сурово отрезал: — Ага! На царевне-королевне лягушке женюсь. Наталья облокотилась о подушку: — Господи, да ты, Мишка, не то дурачок, не то чудачок? Человек не может с лягушкой жить! Вот ты так ляжешь, а лягушку куда положишь? На подушку, что ли? Будет возле твоего уха прыгать? Холодная, мокрая, скользкая... Ф-ф-у-у! Я тоже на подушку облокотился: — Она лягушка неправдашняя, а царева дочь, только заколдованная. Как я ей скажу, что взамуж беру, так она расколдуется и будет девкой, и мы пойдем в церкву под венец... Если кто раньше моего лягушку расколдует, тогда уж... У меня даже горло перехватило: — ...тогда уж я какую-нибудь нашинскую девку в бабы возьму! Наталья всхрапывала от смеха: — Ой, не могу! Ты, Мишка, будешь зятем царя-короля? Прынцем? Я перед тобой на коленки встану и скажу: «Ваше высокое высочество, дайте мне хорошенького женишка!» А ты нос вверх и слугам прикажешь: «Эту девку-дуру из села Тольского Майдана выпорите кнутом и прогоните домой. Пусть знает, как с прынцем разговоры разговаривать!» Насмеявшись вдоволь, Наталья вдруг грустно проговорила: — Женишься — жену не обижай! Она в чужую семью пришла, и все для нее чужие. И ты чужой, хоть и муж венчаный. Жену не бей: она не скотина, а разнесчастный человек! Когда в девках ходит, родители только и думают, как бы ее с рук спихнуть... От этото девка и бросается замуж за первого попавшегося, а он или полудурок или озорник. Куда бабе деваться? Так и мучается до гробовой доски! Я слушал и не понимал Наталью, но в ее словах угадывал какую-то скрытую горечь и потому посоветовал: — А ты за первого попадящегося взамуж не ходи! Она сухо молвила: — Давай-ка спать! Завтра воскресенье: мы с тобой в церковь пойдем. И утихла. Спала ли Наталья или только притворялась спящей, не знаю, но дышала неровно, будто беззвучно плакала. Мне стало ее жаль, и я заплакал. Наталья приподнялась: — Ты что? Боишься? — Тебя жал-ко-о! Муж будет бить... Тятька хотел мамку кулаком... Наталья положила свою сильную руку на мое плечо: — Меня муж не ударит — сдачи получит. Спи, все будет хорошо! Так в слезах я и уснул. Утром Наталья еле меня разбудила: — Вставай, вставай, квартирант! Дедушка Михайла с бабушкой Ульяной и теткой Авдотьей еще затемно в церковь ушли: утреннюю службу отстоят и останутся обедню слушать. Я поднялся, умылся, в лапти обулся и был готовым! Наталья же наряжалась долго и старательно: надела три сарафана, кофту, вплела в косы алые ленты и перед зеркалом закружилась: — Мишка, глянь, толстая я или нет? Я обошел кругом. Наталья была вся широкой! Широкое лицо, грудь, и весь стан был сильным, словно кованым, и косы цвета спелой ржи, спускавшиеся ниже пояса, тоже были толстыми. Осмотрев Наталью, я сказал: — Ты как дьячкова бочка! Наталья закатилась довольным смехом: — Неужто похожа на бочку? — Ага... Зачем ты много сарафанов надела? На улице зябко? — Чтобы меня скорее замуж взяли... — А почему скорее возьмут? — Потому, что мужу нужна жена здоровая, работящая, а тонкой да хилой девке нечего и в бабы лезть: на первом году замужества станет чахнуть. Такой девке лучше уходить в монастырь. Я бы на твоем месте, Мишка, за царевной-королевной не гналась: она ни на работу, ни на что другое не годится — пропадешь и наплачешься с такой! Возразить было трудно, и я промолчал. Открыв большой, словно телега, сундук, Наталья достала из него нарядную бумажку. От бумажки так хорошо пахло земляникой, что я не выдержал и спросил: — Тетка Наталья, это что? — Бумага... — А зачем? — Она из-под лицевого мыла. Я ее у попова дома подняла. Может, сама попадья этим мылом умывается. Потерев бумагой лицо и волосы, Наталья сунула ее за пазуху. Это меня еще больше удивило: — А туда зачем кладешь? — Чтобы от меня в церкви тоже пахло! И заторопилась: — Пойдем, пойдем, а то опоздаем! И вот мы идем: Наталья — босиком, полусапожки — в руке. И многие майданцы шли так: топали босыми ногами по пыльной дороге, а кожаную обувь несли в руках... Наталья держала голову гордо, шагала споро, и я, чтобы не отстать, вприпрыжку держал с ней равнение. Когда мы подошли к паперти церкви, я спросил: — Тетка Наталья, а у тебя за плечами ангел-хранитель и дьявол сидят? Она ответила: — Как у всех, так и у меня... Я похвалился: — Нет, не как у всех! На мне только ангел сидит, а дьявола я задушил. На левый бок лег и дьявола придавил. Он плакал, пищал, царапался, а я все душил и душил и задушил!.. Наталья улыбнулась: — У кого ты врать учился? — Ни у кого! Я сам такой... А твой дьявол в церковь пойдет? Наталья повела левым плечом, будто стряхивала с себя тяжелый и надоедливый груз: — Нет! — А что он тут будет делать? — С другими дьяволами в чехарду играть и с моста в речку Москалейку прыгать... На ступенях храма Наталья приостановилась и на босые ноги надела полусапожки: — Теперь молиться пойдем! Ты встанешь с мужиками, а я с бабами... Когда меня в церковь водила мать, то я всегда стоял с ней, а сейчас меня ставили с мужиками! Я хотел воспротивиться, но Наталья смотрела строго, и я только успел спросить: — Почему бабы не с мужиками? — Вот привязался! Потому, что бабы дешевле мужиков и грешнее их... Я хотел еще спросить, почему бабы дешевле и грешнее, но Наталья втащила меня в церковь, поставила рядом с дедом Михайлой и отошла на левую сторону. В церкви был тяжелый воздух: пахло жженым ладаном, горелым воском, потом и дегтем. Дед Михайла нагнулся: — Не морщись! Сейчас певчие запоют. Слушай их! Хорошо поют, ах, хорошо! Певчих я уже слышал не раз: пели они протяжно, уныло и никак не могли сравниться с поющим хороводом. Мой отец презрительно называл певчих «божьими дудками». Я хотел об этом сказать деду, но тут на клиросе запели, загремели густые мужские голоса. К ним присоединились тонкие, звонкие женские и детские. Что они пели, я так и не разобрал, а дед Михайла умилялся: — Ишь, как гоже! За сердце хватает... Мне надоело слушать пение, и я глянул на Наталью. Она смотрела куда-то поверх голов. Три старухи и еще толстая баба с широкой скулой и горбатым носом крестились часто, бросали взгляды на Наталью и шептались: — Из нее баба выйдет дюжая... — Гордячка: морду-то вверх дерет! — Гордость —не хворость! Нет, что ни говорите, а девка хороша: широка, кругла, бела, как мытая репа...
 Дед больно надавил пальцем на мое плечо:
— Ты гляди вперед, а не по сторонам! Это храм божий, и в нем надо стоять со смирением...
Я глянул на деда, чтобы видеть, какой он смирный, но заметил другое: дед держал голову набок и слушал не певчих и не попа, а шепчущихся баб и старух!
А потом я разглядывал святых, и они мне не понравились: были какими-то веселыми, бесшабашными и во всем уступали нашему сердитому домашнему богу. Тут я вспомнил, что есть еще бог на потолке и на него взглянул. В треугольнике виден был один глаз, но такой строгий и гневный! Глаз смотрел на меня, и я испугался: «Надо стоять смирно, а то бог отнимет руки или ноги!»
Но вот обедня кончилась, народ зашумел и двинулся к выходу. Тут ко мне подошла Наталья и взяла за руку:
— Пойдем и мы!
Чинно выйдя из храма, она сняла полусапожки и осталась голоногой. Мимо нас прошлепали босыми же ногами старухи и широкоскулая баба. Они еще раз, точно барышники на базаре, осмотрели Наталью, переглянулись и удалились. Я посмотрел им вслед:
— Тетка Наталья, они будут тебя взамуж сватать!
Она смутилась:
Мелешь бог знает чего!
— Нет, не мелю, а старухи тебя хвалили: ты круглая и как репа мытая!
Наталья потрепала меня за вихор:
— Хитрый мужичок!.. Пойдем к нам обедать, а то у вас и мышам-то погрызть нечего!
Дед больно надавил пальцем на мое плечо:
— Ты гляди вперед, а не по сторонам! Это храм божий, и в нем надо стоять со смирением...
Я глянул на деда, чтобы видеть, какой он смирный, но заметил другое: дед держал голову набок и слушал не певчих и не попа, а шепчущихся баб и старух!
А потом я разглядывал святых, и они мне не понравились: были какими-то веселыми, бесшабашными и во всем уступали нашему сердитому домашнему богу. Тут я вспомнил, что есть еще бог на потолке и на него взглянул. В треугольнике виден был один глаз, но такой строгий и гневный! Глаз смотрел на меня, и я испугался: «Надо стоять смирно, а то бог отнимет руки или ноги!»
Но вот обедня кончилась, народ зашумел и двинулся к выходу. Тут ко мне подошла Наталья и взяла за руку:
— Пойдем и мы!
Чинно выйдя из храма, она сняла полусапожки и осталась голоногой. Мимо нас прошлепали босыми же ногами старухи и широкоскулая баба. Они еще раз, точно барышники на базаре, осмотрели Наталью, переглянулись и удалились. Я посмотрел им вслед:
— Тетка Наталья, они будут тебя взамуж сватать!
Она смутилась:
Мелешь бог знает чего!
— Нет, не мелю, а старухи тебя хвалили: ты круглая и как репа мытая!
Наталья потрепала меня за вихор:
— Хитрый мужичок!.. Пойдем к нам обедать, а то у вас и мышам-то погрызть нечего!
• • •
ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ ИЗ СКОПИНА ПОСЛЕ ОБЕДА, ПРИВЕЗ ДУБОВОЙ КЛЕПКИ И СЛОЖИЛ ЕЕ В СЕНИ. Разделся, подтянул на впалом животе пояс, взял бондарный топор, тряхнул волосами и начал обтесывать клепины. Такую работу отец называл по-житейскому: «клепины болванить»... Удары топора были точными, ровными, и щепки не разлетались, а грудкой ложились возле чурбака. Отец тесал и, шумно придыхая, говорил: — Мать тебя никакому ремеслу не научит! Ее дело пустое: бога славить, чертей проклинать, сказки сказывать, а ведь это и дурак умеет... Приглядывайся ко мне и учись. Стать мастеровым нелегко, но хорошо! Мастеровой — первый человек на свете: он всем нужен... Вот, к примеру, я: мужик-лапотник, а кто ко мне идет? Дьякон! Скоро и поп прибежит, потому без мастера они никуда!.. Если у тебя, Мишка, будут руки мастерового, то тогда черт — не брат, министр — не сват и волостной старшина не зарычит!.. Хорошо было смотреть на отца! Постоянная печа-линка в его черных глазах таяла: они светились будто у счастливого цыгана. На лбу, на носу появлялись серебряные капельки пота... Возле чурбана накопились щепки, и отец кивнул мне: — Знай свое дело! Я быстро убрал щепу к печи. Вечером клепины были готовы, но отец не мог минуты посидеть. Установив верстачок, он стал стругать клепины. Это длилось долго, и я уснул. Утром поднялся, глянул, а доски-то выструганы! Значит, отец работал до поздней ночи, а то и до раннего утра... Не замечая меня, отец тихонько мурлыкал: Нагаечка, нагаечка, Нагаечка моя: Вспомни, нагаечка, Девято января! Я спросил: — Тять, а нагаечке чего вспомнить? Он вздрогнул и скосил на меня настороженные глаза: — Не у меня надо спрашивать, а у жандармов, полицейских и казаков! Они с нагайками носятся. Они, мерзавцы, девятого января голодных мастеровых и их жен нагайками пороли! — Голодных пороли? Где? — В Питере, где дядя Андрей Столбов живет. Голодные есть просили, а царь Николай Лександрыч Второй велел солдатам, жандармам и полицейским в голодных стрелять! Я не поверил: — А ты видел, как стреляли? — Дядя Андрей Столбов видел. Больше тыщи убито и тысяч пять ранено. Всю площадь и улицы кровью залили! Взяв доску, отец стал ее осматривать: — Ты о нашем разговоре молчи! Нагайкой будут пороть — молчи! Я тебе потому сказал, что ты мужик, а матери тоже не говори: у нее язык бабий, длинный, проболтается и... Работая не разгибая спины, отец к вечеру очень устал. Он опускал руки, расслаблял их и жаловался: — Отваливаются... Будто не мои... Я посоветовал: — А ты ляг и усни! Спи, я посижу, разбужу! Он покорно лег и сразу уснул. Я зажег лампу и притулился возле отца. Было тихо, но я тишины-то и боялся! Мне казалось, что в подполье и на чердаке ходят дьяволы. Я долго не будил отца, но все-таки не стерпел и окликнул: — Тять, ты хотел спать немного!.. Он вскочил, потянулся, позевнул: — Вот и отдохйул! Тут же стал собирать кадушку. Работал допоздна, и мне спать не велел, а когда кадушка оказалась собранной, сказал: — Ну-ка, влей в нее ведро воды! Я налил в кадушку воды, и отец стал смотреть. Он крутил кадушку так и этак, но вода держалась. Радостно улыбнувшись и облегченно вздохнув, отец проговорил: — Ух, удалась! Клепка первого сорта. Такую барин англичанам продает. Я удивился: — У англичан лесу нету? — Лес есть, да лучше русского дуба ни у кого нет! Он корнями железо сосет, потому и крепок, а у англичан и земля-то, сказывают, черт-те на чего похожа: камни, песок и разная чепуха... Утром к нам пришли соседи. Стали вокруг кадушки ходить, будто хоровод водить, и языками прицокивать: — Це-це-це!.. Талан у тебя, Иван Ильич! — Золотые руки... Отец перебил: — Талан без старанья и страданья — ерунда! И показал ладони: — Вот он, талан-то! Мозоли по воробьиному яйцу... В дверь с большим шумом влез дьякон, и в избе сразу стало тесно. Он молился и смотрел на кадушку: — И-их, господи, вот так кадушка! Дед Михайла Тиманков отозвался: — Мы об этом и толкуем. Будто целой выросла, а не из клепин сложена... Дьякон подошел, нагнулся, опустил бороду в кадушку: — Чудо какое-то! В кадушке колоколом прозвенело. Дьякон отшатнулся: — Эх, в храме бы так гудело! И еще раз опустив бороду в кадушку, проревел:
 — Господи, тебе воз-звах!
Изба содрогнулась. Дьякон выпрямился:
— Ну, Иван Ильич, ты творец крепости и красоты необыкновенной! Храмы бы тебе украшать...
Мужики помогли дьякону вынести из избы кадушку, и он уехал. Я спросил отца:
— А зачем богу воз свах? яг- Что? Ка-ких свах?
Отец сперва засмеялся тихонько, переливисто, как колокольчик; потом громко, еще громче и дТал повизгивать:
— Ох, батюшки! Ой, умру! Мишка, ты у меня скоморох... Никаких свах дьякон богу не сулил, а пропел: «Господи, тебе воззвах!» Понимаешь? Возопил, закричал, стал просить бога... Понял? А впрочем, все это ерунда: вопи, кричи, моли — толк будет одинаковый!
— Господи, тебе воз-звах!
Изба содрогнулась. Дьякон выпрямился:
— Ну, Иван Ильич, ты творец крепости и красоты необыкновенной! Храмы бы тебе украшать...
Мужики помогли дьякону вынести из избы кадушку, и он уехал. Я спросил отца:
— А зачем богу воз свах? яг- Что? Ка-ких свах?
Отец сперва засмеялся тихонько, переливисто, как колокольчик; потом громко, еще громче и дТал повизгивать:
— Ох, батюшки! Ой, умру! Мишка, ты у меня скоморох... Никаких свах дьякон богу не сулил, а пропел: «Господи, тебе воззвах!» Понимаешь? Возопил, закричал, стал просить бога... Понял? А впрочем, все это ерунда: вопи, кричи, моли — толк будет одинаковый!
• • •
 МАТЬ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ МОНАСТЫРЯ ТОЛЬКО НА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ. Еле через порог шагнула. Неторопливо, торжественно перекрестилась и смиренно проговорила:
— Мир вам!
Отец иронически отозвался:
— Если не шутишь, поди к нам!
Мать села на лавку, вытянула ноги и тяжело вздох
нула:
— Какие шутки! Ноги отбила. Подошвы горят. Две пары лаптей вдребезги расколотила.
Отец мельком глянул на размахрившиеся лапти:
— Охота пуще неволи!.. И много вас, таких молельщиц, в монастырь ходило?
— В нашей артели с полсотни было...
Отец продолжал почему-то ершиться:
— Монахи, поди, толстые?
— Всяких много, а больше грузных...
— Мужики — пашут, а монахи — рукавами машут! ■
Эти слова не понравились матери и она осердилась:
— Тебе дать волю, так всех монахов бы с земли, сжил!
— Зачем сживать? Пахать бы заставил. Мосты строить. Лес рубить. Дел много!
Развязывая суму, мать даже вскрикнула:
— Монахи не меньше твоего работают! Нашего брата в монастырь тыщи приходят: всех надо накормить, напоить, постоянно в церкви служить...
Отец хмыкнул:
— Хм! От такой работы ни у кого спина не ломается!..
Мать вынула из сумы большого леща:
— Вот вам, мужики, монастырский гостинец!
Я взял рыбину и еле на руках удержал:
— Ух, пуд!
Мать засмеялась:
— Глупенький, разве бы я из такой-то дали пуд донесла?
Отец зачем-то понюхал рыбину:
— И много за такую отвалила?
— Два оглядка! Арзамасский купец на богомолье приезжал. Рыбу с возов разбрасывал и кричал: «Православные, берите! Жертвую вам во спасение души. Молитесь за меня господу!» Мы за рыбой и кинулись: друг-дружку топтали, толкали, лещей из рук рвали... У одной богомолки беремя лещей вырвали. Вот и мне два достались!
— А где же другой? •— спросил я.
— Ночью — это уж мы домой шли — у меня какая-> бесстыжая нашлась, украла!
Отец головой покачал:
— Ну и «богомолки»!..
Наглядевшись на леща, я поинтересовался:
— Мам, ты в монастыре вощи глядела?
— Ка-ки-е «вощи»?
— Сама говорила: «Пойду в монастырь святые вощи погляжу и им помолюсь»!
Мать разгневалась:
— Надо ушами, а не ртом слушать! Я сказала «мощи», а не вощи!..
И тут же сменила гнев на добрую улыбку:
— Перед святыми мощами угодника божия Серафи-а я молилась! В гробу-то он лежит словно только-толь-> умер. В лапоточках... Вот бы, сынок, и тебе на свято-• глянуть! Когда-нибудь я тебя в монастырь свожу!
Отец прикрикнул:
— Я те свожу! Ты сына с ума сводишь... Дай волю, так еще монахом сделаешь!
Мать тоже закричала:
— А монахи не люди, что ли? Будет Мишка монахом — будет досыта хлеб есть, да не мякинный и не ле-бедовый, а чистый — ржаной!
— По-твоему, монахи—люди, а по-моемуу^не люди!..
Мать еще раз заглянула в суму и достал^ маленькую
иконку:
— Вот молитесь, не ленитесь! УгодИик божий Серафим... /
На иконе был нарисован древний старец. Кругом вековые сосны, а он сидит на пне и сухариками кормит медведя. Я поставил иконку на божницу и полюбовался: Серафим против нашего бога казался мелковатым и убогим...
Отец вздохнул:
— Серафим-то он, может, и Серафим, да кто видел его нетленным? Мне очевидцы-богомольцы сказывали: кроме лица и лаптей в гробнице ничего не видно. Лапти можно и на поленья обуть, а лицо-то, слышь, вроде воскового...
Мать растерянно пролепетала:
— На восковое похоже... Только ведь мощи-то открывать сам царь приезжал! Уж его-то никто бы обманывать не посмел...
— «Сам царь...» В том то и дело, что сам, а не мы с тобой!..
Разрубив леща, мать одну часть сварила в похлебке, и мы сели ужинать. Лещ и суп припахивали дегтем, но я давно не ел горячего, и суп мне понравился очень!..
После ужина мать достала из кармана бумагу:
— На-ка, отец, почитай вслух! Велели в трех бумагах переписать и другим православным раздать...
Отец неохотно принял бумагу и стал читать вслух:* «К вам, православные, обращаюсь я, отрекшийся от земных радостей и наслаждений, отрешившийся от богатст-ва, славы и прочей мишуры!
Ныне я живу отшельником — слушайте меня!
Жизнь на земле — мгновение, а жизнь после смер* ти — вечность. Так зачем же здесь, в земной жизни, создавать себе богатство? Не все ли равно, как прожить одно мгновение?
Кто хочет жить в раю и радоваться, тот пусть сейчас Скорбит и печалится.
Кто хочет стать богатым на том свете, тот пусть не гнушается нищетой на грешной земле.
Кто завидует богатым и стремится отнять их богатство, тот пусть не рассчитывает на небесное богатство господь не допустит!
Кто хотет быть на том свете сильным, пусть умерщвляет плоть бюю на земле.
Кто хочет том свете иметь вкусные яства, пусть в этой жизни довольствуется сухарем и водою.
Кто хочет на том свете веселиться, тот пусть сейчас печалится и изнуряет тело трудом, постами и молитвами.
Кто на этом свете вЬзвышен и заражен гордынею, тот на том свете будет унижен.
Кто ропщет на власть земную, тот идет против господа, который сказал: «Несть власти, аще не от бога!»
Православный, помни слова апостолов: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для господа: царю ли как верховной власти, правителям ли от него, посылаемым для наказания преступников».
Брат во Христе! Прочти сие письмо, перепиши на трех бумагах и передай их твоим ближним. Если по своей лености письма не перепишешь и о нем умолчишь, то пусть проказа поразит твое тело и всю твою семью. Отшельник Лаврентий».
Дочитав письмо, отец пятерней порылся в затылке:
— Святой, а лается, как цыганин!
Я испугался угроз отшельника и заныл:
— Тять, перепиши! Тять, ты умеешь писать...
Мать тоже стала упрашивать:
— Не для меня, не ради тебя, а ради сына перепиши! Боится же он кары господней!
Отец отмахнулся:
— «Ка-ры», кар-кар-кар! Раскаркалась, ворона! Лад-о, перепишу!
У нас на божнице хранились евангелие, бумага и карандаш. Отец взял лист бумаги, разорвал его на три курочка и сел писать. Мы с матерью благоговейно стали смотреть, как отец пишет.
Исписав три бумажки, отец сунул их в карман:
— Пойду к Ганьке Егранову на вечерки и там мужикам раздам...
Тут я вспомнил: мать обещала просить у Саровского угодника Серафима ребенка... Конечно же я не смолчал.
Мать покраснела и опустила глаза. Отец проворчал:
— Чего вы еще?..
Я отозвался: — Про робенка. Вместо Кости...
И снова отец — на этот раз уже резко — сказал:
— Не надо об этом говорить. Стыдно!
Мать не то возразила, не то отозвалась отцу:
— Сам царь Николай Лександрыч с царицей в монастыре бывали. Монахи вслух не говорят, потихоньку толкуют: царица-то одних девок до этогр приносила, а царю хотелось наследника. Когда цар^/с царицей в монастырь приехали, то царица в сароцеком святом источнике купалась... Выкупалась она в 1903 году, а в четвертом наследника Лексея родила! На один годок старше нашего Мишки...
— Мам, а ты тоже купалась? — заинтересовался я.
— Купалась, только уж больно вода-то холодная!
— Эх, — обрадовался я, — и у нас робенок будет! Мы его Костей назовем...
Отец махнул рукой и торопливо вышел. Мать тихонько спросила меня:
— Чего тут отец-то поделывал? Меня бранил?
— Кадушку дьякону сделал. Все ее хвалили. А тебя тятька не вспоминал! У него душа болела: его грызла думка... Тятька дьякона спрашивал, как душу лечить, но тот сам не знает! Тятька-то спросил: кто видел, когда бог землю и всю скотину с людьми творил? Никто не видел. Может, мол, про бога-то попы наврали?..
— Видишь, сынок, до чего отец дошел? Про меня забыл, а вот дьявольские мысли из башки не выкинул! Ты ни единому слову отца не верь, а то еретиком сделаешься. Тайно от отца богу молись. Тайные молитвы до бога скорее доходят!
Тут я вообразил, как молитвы идут к богу... Вроде писем. Ветер их подхватывает и несет, и несет на небо, но тайные молитвы-письма обгоняют обычные...
МАТЬ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ МОНАСТЫРЯ ТОЛЬКО НА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ. Еле через порог шагнула. Неторопливо, торжественно перекрестилась и смиренно проговорила:
— Мир вам!
Отец иронически отозвался:
— Если не шутишь, поди к нам!
Мать села на лавку, вытянула ноги и тяжело вздох
нула:
— Какие шутки! Ноги отбила. Подошвы горят. Две пары лаптей вдребезги расколотила.
Отец мельком глянул на размахрившиеся лапти:
— Охота пуще неволи!.. И много вас, таких молельщиц, в монастырь ходило?
— В нашей артели с полсотни было...
Отец продолжал почему-то ершиться:
— Монахи, поди, толстые?
— Всяких много, а больше грузных...
— Мужики — пашут, а монахи — рукавами машут! ■
Эти слова не понравились матери и она осердилась:
— Тебе дать волю, так всех монахов бы с земли, сжил!
— Зачем сживать? Пахать бы заставил. Мосты строить. Лес рубить. Дел много!
Развязывая суму, мать даже вскрикнула:
— Монахи не меньше твоего работают! Нашего брата в монастырь тыщи приходят: всех надо накормить, напоить, постоянно в церкви служить...
Отец хмыкнул:
— Хм! От такой работы ни у кого спина не ломается!..
Мать вынула из сумы большого леща:
— Вот вам, мужики, монастырский гостинец!
Я взял рыбину и еле на руках удержал:
— Ух, пуд!
Мать засмеялась:
— Глупенький, разве бы я из такой-то дали пуд донесла?
Отец зачем-то понюхал рыбину:
— И много за такую отвалила?
— Два оглядка! Арзамасский купец на богомолье приезжал. Рыбу с возов разбрасывал и кричал: «Православные, берите! Жертвую вам во спасение души. Молитесь за меня господу!» Мы за рыбой и кинулись: друг-дружку топтали, толкали, лещей из рук рвали... У одной богомолки беремя лещей вырвали. Вот и мне два достались!
— А где же другой? •— спросил я.
— Ночью — это уж мы домой шли — у меня какая-> бесстыжая нашлась, украла!
Отец головой покачал:
— Ну и «богомолки»!..
Наглядевшись на леща, я поинтересовался:
— Мам, ты в монастыре вощи глядела?
— Ка-ки-е «вощи»?
— Сама говорила: «Пойду в монастырь святые вощи погляжу и им помолюсь»!
Мать разгневалась:
— Надо ушами, а не ртом слушать! Я сказала «мощи», а не вощи!..
И тут же сменила гнев на добрую улыбку:
— Перед святыми мощами угодника божия Серафи-а я молилась! В гробу-то он лежит словно только-толь-> умер. В лапоточках... Вот бы, сынок, и тебе на свято-• глянуть! Когда-нибудь я тебя в монастырь свожу!
Отец прикрикнул:
— Я те свожу! Ты сына с ума сводишь... Дай волю, так еще монахом сделаешь!
Мать тоже закричала:
— А монахи не люди, что ли? Будет Мишка монахом — будет досыта хлеб есть, да не мякинный и не ле-бедовый, а чистый — ржаной!
— По-твоему, монахи—люди, а по-моемуу^не люди!..
Мать еще раз заглянула в суму и достал^ маленькую
иконку:
— Вот молитесь, не ленитесь! УгодИик божий Серафим... /
На иконе был нарисован древний старец. Кругом вековые сосны, а он сидит на пне и сухариками кормит медведя. Я поставил иконку на божницу и полюбовался: Серафим против нашего бога казался мелковатым и убогим...
Отец вздохнул:
— Серафим-то он, может, и Серафим, да кто видел его нетленным? Мне очевидцы-богомольцы сказывали: кроме лица и лаптей в гробнице ничего не видно. Лапти можно и на поленья обуть, а лицо-то, слышь, вроде воскового...
Мать растерянно пролепетала:
— На восковое похоже... Только ведь мощи-то открывать сам царь приезжал! Уж его-то никто бы обманывать не посмел...
— «Сам царь...» В том то и дело, что сам, а не мы с тобой!..
Разрубив леща, мать одну часть сварила в похлебке, и мы сели ужинать. Лещ и суп припахивали дегтем, но я давно не ел горячего, и суп мне понравился очень!..
После ужина мать достала из кармана бумагу:
— На-ка, отец, почитай вслух! Велели в трех бумагах переписать и другим православным раздать...
Отец неохотно принял бумагу и стал читать вслух:* «К вам, православные, обращаюсь я, отрекшийся от земных радостей и наслаждений, отрешившийся от богатст-ва, славы и прочей мишуры!
Ныне я живу отшельником — слушайте меня!
Жизнь на земле — мгновение, а жизнь после смер* ти — вечность. Так зачем же здесь, в земной жизни, создавать себе богатство? Не все ли равно, как прожить одно мгновение?
Кто хочет жить в раю и радоваться, тот пусть сейчас Скорбит и печалится.
Кто хочет стать богатым на том свете, тот пусть не гнушается нищетой на грешной земле.
Кто завидует богатым и стремится отнять их богатство, тот пусть не рассчитывает на небесное богатство господь не допустит!
Кто хотет быть на том свете сильным, пусть умерщвляет плоть бюю на земле.
Кто хочет том свете иметь вкусные яства, пусть в этой жизни довольствуется сухарем и водою.
Кто хочет на том свете веселиться, тот пусть сейчас печалится и изнуряет тело трудом, постами и молитвами.
Кто на этом свете вЬзвышен и заражен гордынею, тот на том свете будет унижен.
Кто ропщет на власть земную, тот идет против господа, который сказал: «Несть власти, аще не от бога!»
Православный, помни слова апостолов: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для господа: царю ли как верховной власти, правителям ли от него, посылаемым для наказания преступников».
Брат во Христе! Прочти сие письмо, перепиши на трех бумагах и передай их твоим ближним. Если по своей лености письма не перепишешь и о нем умолчишь, то пусть проказа поразит твое тело и всю твою семью. Отшельник Лаврентий».
Дочитав письмо, отец пятерней порылся в затылке:
— Святой, а лается, как цыганин!
Я испугался угроз отшельника и заныл:
— Тять, перепиши! Тять, ты умеешь писать...
Мать тоже стала упрашивать:
— Не для меня, не ради тебя, а ради сына перепиши! Боится же он кары господней!
Отец отмахнулся:
— «Ка-ры», кар-кар-кар! Раскаркалась, ворона! Лад-о, перепишу!
У нас на божнице хранились евангелие, бумага и карандаш. Отец взял лист бумаги, разорвал его на три курочка и сел писать. Мы с матерью благоговейно стали смотреть, как отец пишет.
Исписав три бумажки, отец сунул их в карман:
— Пойду к Ганьке Егранову на вечерки и там мужикам раздам...
Тут я вспомнил: мать обещала просить у Саровского угодника Серафима ребенка... Конечно же я не смолчал.
Мать покраснела и опустила глаза. Отец проворчал:
— Чего вы еще?..
Я отозвался: — Про робенка. Вместо Кости...
И снова отец — на этот раз уже резко — сказал:
— Не надо об этом говорить. Стыдно!
Мать не то возразила, не то отозвалась отцу:
— Сам царь Николай Лександрыч с царицей в монастыре бывали. Монахи вслух не говорят, потихоньку толкуют: царица-то одних девок до этогр приносила, а царю хотелось наследника. Когда цар^/с царицей в монастырь приехали, то царица в сароцеком святом источнике купалась... Выкупалась она в 1903 году, а в четвертом наследника Лексея родила! На один годок старше нашего Мишки...
— Мам, а ты тоже купалась? — заинтересовался я.
— Купалась, только уж больно вода-то холодная!
— Эх, — обрадовался я, — и у нас робенок будет! Мы его Костей назовем...
Отец махнул рукой и торопливо вышел. Мать тихонько спросила меня:
— Чего тут отец-то поделывал? Меня бранил?
— Кадушку дьякону сделал. Все ее хвалили. А тебя тятька не вспоминал! У него душа болела: его грызла думка... Тятька дьякона спрашивал, как душу лечить, но тот сам не знает! Тятька-то спросил: кто видел, когда бог землю и всю скотину с людьми творил? Никто не видел. Может, мол, про бога-то попы наврали?..
— Видишь, сынок, до чего отец дошел? Про меня забыл, а вот дьявольские мысли из башки не выкинул! Ты ни единому слову отца не верь, а то еретиком сделаешься. Тайно от отца богу молись. Тайные молитвы до бога скорее доходят!
Тут я вообразил, как молитвы идут к богу... Вроде писем. Ветер их подхватывает и несет, и несет на небо, но тайные молитвы-письма обгоняют обычные...
• • •
 УТРОМ Я ПРОСНУЛСЯ ПОЗДНО. ОТЦА ДОМА НЕ БЫЛО. МАТЬ ЖЕ ЛАТАЛА БЕЛЬЕ. Вдруг она резко откачнулась в сторону и спряталась за простенком: — У-ряд-ни-ик!
Я посмотрел в окно: на дороге стоял разряженный, как петух, урядник. Мать рванула меня за рукав:
— Не показывайся!
— А что?
__ Как что? Урядник для мужика страшнее бога и дьявола! Бога молитвой умолишь, от дьявола крестом отделаешься, а от этого казенного пугала ни крестом, ни пестом!
Урядник повернулся к нашим окнам, и мать торопливо закрестилась:
— Господи, пронеси мимо! Богородица, заступись за нас!
Мне было непонятно, почему мать боится урядника? Мы не убивали, не поджигали... Я спросил об этом мать. Она ответила:
— Мы не воровали, да отец купил у скопинца клепку, а кто знает, где тот ее взял: может сам наколол, а может с барского складу увез? Если урядник на клепку глянет, да за барскую признает, то отцу тюрьма!..
На пороге своей избы показался мой двоюродный дядюшка Митрофан Филиппович: кряжистый, присадистый, звероватого вида рыжий мужик. Он поздоровался с урядником, о чем-то с ним переговорил, заискивающе улыбаясь, ипошел в дом. Урядник тоже ушел. Мать проворчала:
— Черт к черту льнет...
Я знал, что родители жили с дядей недружно, прохладно, но старались не браниться, и теперь мне было непонятно, почему мать так нелестно отозвалась о дяде?..
А в сумерки урядник пришел к Митрофану в избу. Мать насторожилась:
— Ох, не за добром ходит!
Наши соседи тоже урядника заметили, встревожились и крадучись пришли к нам. Говорили полушепотом:
— Урядник след почуял!
— Кого-нибудь из нас хочет поймать: ведь лыки-то на лапти из барского леса таскаем!
— Недаром барский лесник нынче по селу метался...
Наша и дядина избы стояли впритык, и потому когда
Митрофан Филиппович или его шумная супруга Аксинья бранились, то у нас кое-что можно было расслышать и понять. Вот и сейчас мужики припали ушами к стене.
Я тоже стал слушать.
Урядник спросил:
— Твой брат Иван ворует?
— Брат-то он мой, да ум у него свой! Мы друг к другу не ходим... Как и все, ворует, наверно, лыки в барском лесу!
— Не лыки, а из барского леса клепку увез!
Тут вступилась в разговор Аксинья, рез#6, громко выкрикнула:
— Из какой же клепки такую кадушку дьякону сделал? Из краденой!
Урядник топнул ногой и звякнул шпорой:
— Вся ваша улица воровская! Помещик Сокол-Чер-ииловский жалуется: лес от майданских мужиков и баб стонет. На прошлой неделе старый дуб срезали и увезли. Барин его очень любил и берег. В каждом письме управляющему наказывал беречь...
Дядя Митрофан перебил:
— Да где же такой дорогой дуб рос?
— На опушке леса у реки Вярзинки... Если завтра в город не уеду, то с обыском пойду! Тебя, Митрофан Филиппыч, в понятые возьму...
А ранним утром к нам пришел урядник и трое мужи-ков-понятых. Четвертым был Митрофан Филиппыч. Мужики в избе все перерыли, в подполье лазали, потом во дворе вилами навоз подымали, но ничего на находили.
Мать испуганно крестилась, а отец спросил урядника, спокойно, вежливо:
— Чего ищете?
— Твою совесть, хозяин!
Отец дерзко отрезал:
— Моя совесть в навозе не валяется!..
Митрофан Филиппыч полез на чердак конюшни, кур
спугнул и в соломе порылся:
— Тут ни клепки, ни лыка — одни бумаги!..
Урядник не взял, а схватил бумаги:
— Ну-ка, погляжу!
Отец опустил голову и покосился на мать. Урядник развернул бумаги: — Т-а-к, «Переходное письмо отшельника Лаврентия»... Еще одна бумага: «Как рассукин сын камаринский мужик»... И третья: «Из-под вязу, вязу, вязу»...
Просмотрев бумаги, урядник подал их отцу:
— Что же ты святую бумагу вместе с песнями держишь?
Отец промолчал.
Мать толкнула меня локтем в бок:
— Слышь, отец-то нас обманул! Письмо отшельника он никому не отдавал...
Понятые обшарили погреб, гумно и ни единого обрезка лыка, ни единой клепины не нашли. Урядник подошел к стогу разворошенной соломы.
Дядя Митрофан коромыслом изогнулся:
— Моя. Прошлогодняя солома. Скотине во дворе подстилаю. Навозец коплю. У кого на поле навоз — у того и хлебец родится!
Урядник только промычал и пошел на гумно дедушки Михайлы Тиманкова...
Вечером же мать задумчиво говорила:
— И как это урядник клепку не нашел? Видно, бог ему глаза в сторону отвел?
Отец просто взъярился:
— Будет тебе, Анна, пустословить-то! Я знал, что урядник не будет у Митрофана обыск делать и клепку и лыки в его стог соломы сунул. Угадай, чего я в нем видел? Кряж! Дуб-то барский Митрофан срезал и в стоге соломы спрятал... Ты о другом думай: как Митрофан и Аксинья о клепке узнали? Ведь я ее на закрытой телеге привез и сразу в сени перенес. Дивно, ей-ей, дивно! Словно Митрофан сквозь стены видел...
Мать робко проговорила:
— Уж не оборотень ли твой братец-то? В таракана или мышь оборотился и...
Отец топнул ножищей:
— Мол-чать! Ни о чем сурьезном с тобой поговорить нельзя...
В этот раз я был на стороне матери: «Может, и вправду дядя в таракана обращается? Может, он и сейчас у нас в избе и тятьку с мамкой слушает?..»
И вот с этого дня я стал к черным тараканам приглядываться. Они возле печной трубы собирались и друг на друга шумели. Один таракан держался от стада на отшибе и так сердито усами шевелил, что я сразу ехо за дядю Митрофана почел. Таракан почувствовал за собой слежку и хотел убежать, но я его схватил и посадил в спичечный коробок:
— Вот, дядя Митрофан, ты мне и попался! Подслушиваешь и уряднику ябедничаешь? С дьяволом подружился и оборотнем стал?
Таракан шумел, скреб ногами по стенкам коробка, но я пригрозил:
— Сейчас, сейчас будешь плакать!
Я подумал: «Пущу таракана в прогад между избами.
/
Дядя — мужик большой, широкий, а ущелье узкое... Станет дядя в человека превращаться и наружу не вылезет: в прогале застрянет, и тогда придется тетке Аксинье свою избу ломать!»
Как я задумал, так и сделал: втолкнул таракана меж изб, и он сразу забрался на стену дядиной избы и побежал, но сорвался и упал. Я затаил дыхание: вот-вот таракан начнет в человека превращаться, но почему-то не превращался и даже совсем исчез!
Я смотрел в прогал меж избами, когда меня кто-то за плечо тронул:
— Ты что тут со спичками сидишь? Слышишь?
Я повернулся к говорящему и увидел... дядю — Митрофана Филиппыча! От изумления не спросил, а выдохнул:
— Ты уж в человека обратился? А как же отсюда вылез?
Дядя отступил:
— Что? Что ты мелешь? Отдай спички, а то пожар сделаешь!
Я подал пустой коробок:
— На, в нем нет спичек! Ты в коробке сидел, да я тебя выпустил!
УТРОМ Я ПРОСНУЛСЯ ПОЗДНО. ОТЦА ДОМА НЕ БЫЛО. МАТЬ ЖЕ ЛАТАЛА БЕЛЬЕ. Вдруг она резко откачнулась в сторону и спряталась за простенком: — У-ряд-ни-ик!
Я посмотрел в окно: на дороге стоял разряженный, как петух, урядник. Мать рванула меня за рукав:
— Не показывайся!
— А что?
__ Как что? Урядник для мужика страшнее бога и дьявола! Бога молитвой умолишь, от дьявола крестом отделаешься, а от этого казенного пугала ни крестом, ни пестом!
Урядник повернулся к нашим окнам, и мать торопливо закрестилась:
— Господи, пронеси мимо! Богородица, заступись за нас!
Мне было непонятно, почему мать боится урядника? Мы не убивали, не поджигали... Я спросил об этом мать. Она ответила:
— Мы не воровали, да отец купил у скопинца клепку, а кто знает, где тот ее взял: может сам наколол, а может с барского складу увез? Если урядник на клепку глянет, да за барскую признает, то отцу тюрьма!..
На пороге своей избы показался мой двоюродный дядюшка Митрофан Филиппович: кряжистый, присадистый, звероватого вида рыжий мужик. Он поздоровался с урядником, о чем-то с ним переговорил, заискивающе улыбаясь, ипошел в дом. Урядник тоже ушел. Мать проворчала:
— Черт к черту льнет...
Я знал, что родители жили с дядей недружно, прохладно, но старались не браниться, и теперь мне было непонятно, почему мать так нелестно отозвалась о дяде?..
А в сумерки урядник пришел к Митрофану в избу. Мать насторожилась:
— Ох, не за добром ходит!
Наши соседи тоже урядника заметили, встревожились и крадучись пришли к нам. Говорили полушепотом:
— Урядник след почуял!
— Кого-нибудь из нас хочет поймать: ведь лыки-то на лапти из барского леса таскаем!
— Недаром барский лесник нынче по селу метался...
Наша и дядина избы стояли впритык, и потому когда
Митрофан Филиппович или его шумная супруга Аксинья бранились, то у нас кое-что можно было расслышать и понять. Вот и сейчас мужики припали ушами к стене.
Я тоже стал слушать.
Урядник спросил:
— Твой брат Иван ворует?
— Брат-то он мой, да ум у него свой! Мы друг к другу не ходим... Как и все, ворует, наверно, лыки в барском лесу!
— Не лыки, а из барского леса клепку увез!
Тут вступилась в разговор Аксинья, рез#6, громко выкрикнула:
— Из какой же клепки такую кадушку дьякону сделал? Из краденой!
Урядник топнул ногой и звякнул шпорой:
— Вся ваша улица воровская! Помещик Сокол-Чер-ииловский жалуется: лес от майданских мужиков и баб стонет. На прошлой неделе старый дуб срезали и увезли. Барин его очень любил и берег. В каждом письме управляющему наказывал беречь...
Дядя Митрофан перебил:
— Да где же такой дорогой дуб рос?
— На опушке леса у реки Вярзинки... Если завтра в город не уеду, то с обыском пойду! Тебя, Митрофан Филиппыч, в понятые возьму...
А ранним утром к нам пришел урядник и трое мужи-ков-понятых. Четвертым был Митрофан Филиппыч. Мужики в избе все перерыли, в подполье лазали, потом во дворе вилами навоз подымали, но ничего на находили.
Мать испуганно крестилась, а отец спросил урядника, спокойно, вежливо:
— Чего ищете?
— Твою совесть, хозяин!
Отец дерзко отрезал:
— Моя совесть в навозе не валяется!..
Митрофан Филиппыч полез на чердак конюшни, кур
спугнул и в соломе порылся:
— Тут ни клепки, ни лыка — одни бумаги!..
Урядник не взял, а схватил бумаги:
— Ну-ка, погляжу!
Отец опустил голову и покосился на мать. Урядник развернул бумаги: — Т-а-к, «Переходное письмо отшельника Лаврентия»... Еще одна бумага: «Как рассукин сын камаринский мужик»... И третья: «Из-под вязу, вязу, вязу»...
Просмотрев бумаги, урядник подал их отцу:
— Что же ты святую бумагу вместе с песнями держишь?
Отец промолчал.
Мать толкнула меня локтем в бок:
— Слышь, отец-то нас обманул! Письмо отшельника он никому не отдавал...
Понятые обшарили погреб, гумно и ни единого обрезка лыка, ни единой клепины не нашли. Урядник подошел к стогу разворошенной соломы.
Дядя Митрофан коромыслом изогнулся:
— Моя. Прошлогодняя солома. Скотине во дворе подстилаю. Навозец коплю. У кого на поле навоз — у того и хлебец родится!
Урядник только промычал и пошел на гумно дедушки Михайлы Тиманкова...
Вечером же мать задумчиво говорила:
— И как это урядник клепку не нашел? Видно, бог ему глаза в сторону отвел?
Отец просто взъярился:
— Будет тебе, Анна, пустословить-то! Я знал, что урядник не будет у Митрофана обыск делать и клепку и лыки в его стог соломы сунул. Угадай, чего я в нем видел? Кряж! Дуб-то барский Митрофан срезал и в стоге соломы спрятал... Ты о другом думай: как Митрофан и Аксинья о клепке узнали? Ведь я ее на закрытой телеге привез и сразу в сени перенес. Дивно, ей-ей, дивно! Словно Митрофан сквозь стены видел...
Мать робко проговорила:
— Уж не оборотень ли твой братец-то? В таракана или мышь оборотился и...
Отец топнул ножищей:
— Мол-чать! Ни о чем сурьезном с тобой поговорить нельзя...
В этот раз я был на стороне матери: «Может, и вправду дядя в таракана обращается? Может, он и сейчас у нас в избе и тятьку с мамкой слушает?..»
И вот с этого дня я стал к черным тараканам приглядываться. Они возле печной трубы собирались и друг на друга шумели. Один таракан держался от стада на отшибе и так сердито усами шевелил, что я сразу ехо за дядю Митрофана почел. Таракан почувствовал за собой слежку и хотел убежать, но я его схватил и посадил в спичечный коробок:
— Вот, дядя Митрофан, ты мне и попался! Подслушиваешь и уряднику ябедничаешь? С дьяволом подружился и оборотнем стал?
Таракан шумел, скреб ногами по стенкам коробка, но я пригрозил:
— Сейчас, сейчас будешь плакать!
Я подумал: «Пущу таракана в прогад между избами.
/
Дядя — мужик большой, широкий, а ущелье узкое... Станет дядя в человека превращаться и наружу не вылезет: в прогале застрянет, и тогда придется тетке Аксинье свою избу ломать!»
Как я задумал, так и сделал: втолкнул таракана меж изб, и он сразу забрался на стену дядиной избы и побежал, но сорвался и упал. Я затаил дыхание: вот-вот таракан начнет в человека превращаться, но почему-то не превращался и даже совсем исчез!
Я смотрел в прогал меж избами, когда меня кто-то за плечо тронул:
— Ты что тут со спичками сидишь? Слышишь?
Я повернулся к говорящему и увидел... дядю — Митрофана Филиппыча! От изумления не спросил, а выдохнул:
— Ты уж в человека обратился? А как же отсюда вылез?
Дядя отступил:
— Что? Что ты мелешь? Отдай спички, а то пожар сделаешь!
Я подал пустой коробок:
— На, в нем нет спичек! Ты в коробке сидел, да я тебя выпустил!
• • •
Я ПОБРЕЛ ДОМОЙ СОВСЕМ РАСТЕРЯННЫЙ: «КАК ЖЕ МОГ ДЯДЯ НЕЗАМЕТНО В ЧЕЛОВЕКА ПРЕВРАТИТЬСЯ? КАК> ОН МОГ ИЗ ПРОГАЛА ВЫ ЛЕЗТЬ?» И вот когда я шел, задумавшись, меня окликнула Наталья: — Мишка, поди сюда! Она стояла у угла своей избы и будто от кого-то пряталась. Я подбежал. Наталья наклонилась и шепнула: — Мишенька, меня за твоего родственника — за Бо-риску Макарычева сватают! Я вспомнил скуластую бабу и спросил: — А которые бабы тебя в церкви хвалили, не сватали? Наталья вздохнула: — Сватали, да батюшка с ними ценой не сошелся. Видно, уж судьба моя к Бориске в жены идти! Мне показалось, что Наталье не хочется замуж за Бориску, и я спросил: — Тебе за него взамуж неохота? От прямого ответа Наталья уклонилась: — Боюсь от родимого батюшки и родимой матушки в чужие люди идти... Я решительно сказал: —. Не ходи взамуж! Мы с тобой будем. Она вытерла слезу: — И рада бы не выходить, но батюшка с матушкой старые: умрут — кто меня будет кормить? Я взял Наталью за руку: — Не плачь, я стану кормить! Она покачала головой: — Нет, Мишка, не прокормишь! Я тебе чужая... — Ты будешь не чужая, а родная! — Жену за свою почтешь, а не меня... Момент был критическим — решалась судьба человека, и я торжественно поклялся: — Если женюсь, то пусть меня Илья пророк молнией расщепает! Мы с тобой будем жить: я — без бабы, а ты — без мужика... Наталья покачала головой: — Так-то оно так, но как же царевна-то лягушка? Неужто ее, страдалицу, на вечные времена бедствовать оставишь? Я горестно вздохнул: — Мне тебя жальче — ты и красивая и хорошая, а лягушку пусть уж другой расколдует и взамуж возьмет! Наш разговор прервал дед Михайла. Он вышел на крылечко и заворковал: — Наталья, иди в избу! Слава богу, я тебя просватал и теперь стану пропивать. Не вздыхай глубоко — не отдаю далеко: хоть за курицу, да на ближнюю улицу, хоть за воронку, но на родную сторонку, хоть за подожок, да на свой бережок. Пойдем, пойдем, а то сваты ждут! Я опрометью бросился домой. На душе было тоскливо: хоть волком вой, хоть коровой реви! Такую красивую и близкую мне Наталью за Бориску выдают... В избу я вбежал сломя голову и не сказал, а закричал: — Дедушка Михайла звал тетку Наталью домой: продал ее и сейчас сел пропивать! Я ждал: мои родители возмутятся, но они обрадовались: — Слава богу, Наталья нашла своего суженого-ряже-ного, и Бориска будет с хорошей бабой! — Погуляем... — Что молодым подарить? Овцу — жалко... Лучше денег дадим! Родители толковали о свадьбе, о подарках, и ни слова о Наталье! Я лег в постель, но все думал и думал, как бы помешать свадьбе? Перво-наперво я стал бога просить: «Господи, не вели дедушке Михайле отдавать тетку Наталью за Бориску! Не вели! Господи, я не хочу, чтобы Бориска взял тетку Наталью! Что же, господи, молчишь? Наталью продали, а ты...» Так я с молитвой и слезами и уснул. Утром проснулся и услышал голос деда Михайлы: — Выручай, Иван Ильич! Брагу надо варить, а посуды нет. На свадьбе без браги, как на поминках без киселя. Сделай бочку! Отец отозвался: — Ладно, сделаю: ведь мы теперь не только соседи, но и родные... Мать спросила: — Наталья от Бориски не отнекивалась? Тут я открыл глаза и посмотрел на деда. Он ладонью бородку ласкал: — Эх, Анна Лександровна! Сколько кобыленке не прыгать — хомута не миновать, а он хоть мочальный, хоть кожаный, но все равно хомут... Сперва-то Наталья плакала, да ведь кто из девок не плачет? О-бы-ча-й! Девичьи слезы — что утренняя роса... Я со злостью подумал: «Врешь! Тетка Наталья не по обычаю плачет». Мать полюбопытствовала: — Много ли с жениха кладки взяли? — Шубу, поддевку, зипун, шаль, валенки, чесанки с калошами, полусапожки и прошлогоднюю телку... Отец головой покачал: — Много же с Бориски содрали! Дед руками развел: — Так ведь это не мне, а Бориске же с Натальей! Заметив меня, дед улыбнулся; — Проснулся, скворчик? Ты что нынче хохлишься? Иль нездоровится? Я зло выкрикнул: — Хохлится наседка!.. Зачем тетку Наталью продал? Она не кобыла... За этот грех тебя Илья пророк громом расщепает! Мать ногами затопала: — Ах, негодник долгоязыкий! Ишь до чего тебя отец распустил... Я выскочил из избы. Мне хотелось убежать далекодалеко, а лучше всего в лес и там стать грозным разбойником: прийти в село ночью и увести с собой Наталью... Но в лес я не побежал: вдруг да заблужусь и на лешего или на Кикимору нарвусь? И тогда я решил сделаться колдуном! Я знал, что только дьявол научит колдовству, и побежал в сенницу. Встал лицом в темный угол и, дрожа от страха, начал вызывать дьявола: — Дьявол, подь сюда! Сделай меня колдуном. Дай мне скорее силу колдуна! Дьявол не появился и не отозвался. Подождав немного, я еще раз попросил: — Дядя дьявол, ты что же молчишь? Сделай меня колдуном, а я тебе заплачу: душу отдам! Дьявол не появился и не отозвался. С досады и горя я плюнул в угол: — Вот тебе, морда поганая! Тьфу, тьфу, тьфу! Только выбежал из сенницы, появилась Наталья. Мне было тяжело на нее смотреть, и я отвернулся. Наталья подошла, заглянула в глаза: — Сердишься? За что? — Не на тебя, а на дедушку Михайлу! Он, бессовестный, тебя продал! И тут я с мольбой взглянул в большие умные глаза Натальи: — Христа ради, не выходи за Бориску! Глаза Натальи затуманились: — Я бы, Мишенька, не вышла, да ведь не хочется весь век одной, как былинке в поле на ветру качаться! — Зачем одной? Давай вместе в лес убежим и станем разбойниками! Мы в село придем и дедушку Михайлу напугаем, и он Бориску прогонит... Наталья улыбнулась: — И рада бы в разбойники, но атаманы баб не берут! Нет, мне уж одна дорога — от печи до порога... Я посоветовал! — Мужиком оденься! Дедушкины портки и рубаху тоже... — А косы? Они у меня ниже пояса. Куда мне косы деть? Я беспомощно развел руками: — Да, косы... Косы не спрячешь. Если бы стать колдуном, я бы дедушке Михайле и Бориске... Я бы им! Наталья кивнула: — Колдуном хорошо бы... Я выдал тайну: — Тетка Наталья, я в сенницу ходил, дьявола просил, чтобы он меня колдуном сделал... Звал, звал, а дьявол не пришел и промолчал. Я ему и душу хотел отдать! Наталья обняла меня и поцеловала:
 — Мишенька, голубчик, не надо из-за меня душу губить! Моя судьба к Бориске в жены идти.
Пришлось согласиться:
— Ладно! Только ты Бориске не улыбайся и не смейся.
Опустив глаза, Наталья кивнула:
— Ладно... Пойдем-ка в нашу сенницу: там у нас гора
яблок!
Как ни был я расстроен, а перед яблочной горой не устоял, последовал за Натальей. Она отперла замок сен-ничной двери, отворила ее, и нас одели густые яблочные запахи. Яблоки лежали на полках, в плетухах, корзинах, на соломе и просто на земле...
Наталья села на большой деревянный ларь:
— Бери, Мишка, яблоки, садись со мной рядом и ешь на здоровье!
Я выбрал самое большое яблоко и начал грызть. Наталья задумчиво проговорила:
— Я тебе про вечную любовь расскажу. Про настоящую...
— Ага, расскажи, я послушаю!
— Мишенька, голубчик, не надо из-за меня душу губить! Моя судьба к Бориске в жены идти.
Пришлось согласиться:
— Ладно! Только ты Бориске не улыбайся и не смейся.
Опустив глаза, Наталья кивнула:
— Ладно... Пойдем-ка в нашу сенницу: там у нас гора
яблок!
Как ни был я расстроен, а перед яблочной горой не устоял, последовал за Натальей. Она отперла замок сен-ничной двери, отворила ее, и нас одели густые яблочные запахи. Яблоки лежали на полках, в плетухах, корзинах, на соломе и просто на земле...
Наталья села на большой деревянный ларь:
— Бери, Мишка, яблоки, садись со мной рядом и ешь на здоровье!
Я выбрал самое большое яблоко и начал грызть. Наталья задумчиво проговорила:
— Я тебе про вечную любовь расскажу. Про настоящую...
— Ага, расскажи, я послушаю!
• • •
НАТАЛЬЯ, СЛОВНО МОЯ МАТЬ, ВСЕМ СТАНОМ ЗАКАЧАЛАСЬ И РАСПЕВОМ ЗАГОВОРИЛА: — Быль это или сказка, не знаю. Прадеды и деды ее сказывали, а они тоже от своих отцов, дедов и прадедов слыхали. Так складывалась сказка-быль. Она будто веревочка вилась и до нас с тобой дотянулась! Давным-давно, а когда, никто не помнит, жил в нашем селе парень Егран, по прозвищу Левша. На левую руку он был таким сильным, что коня на землю клал, быка на колени ставил, а уж на кулачный бой никто с Еграном выйти не осмеливался! И жила-была в нашем же селе девушка Варвара. Чернобровая, черноокая, белолицая да румяная — красавица писаная. Егран Левша и Варвара слюбились и хотели свадьбу играть, но не все так делается, как задумывается. В село прискакал царский гонец и стал кричать народу: «Бе-да-а! Злой враг на русскую землю напал. Мужики и парни, в поход собирайтесь!» Егран Левша упрашивал гонца: «Дай два дня сроку — свадьбу сыграю!» Гонец заупрямился: «Нет, не могу царскую волю нарушить». Так Егран с Варварой и не успели обвенчаться. Стал Левша с ней прощаться и сказал: «Железо ржавеет, медь зеленеет, серебро чернеет, а золото вечно светится. Настоящая любовь, как золото. Если у тебя любовь вечная, то жди меня, а если нет, выбирай себе другого жениха!» Проговорил так и ушел. Пролетел год, и русская рать вернулась с победой. Егран же домой не пришел. Варвара стала о Левше воинов выспрашивать, и вот что ей они поведали: «На широком поле — на степном просторе, где только седой ковыль-трава под ветром качается, сошлись и встали друг против друга наша рать и рать ханская. На середину' вышел вражина богатырь и начал над русским# полками насмехаться: «Видимо, нет у вас богатыря, что(5|ы со мной силами померяться?» V:| Наша рать молчала: ждала, когда вражина|выхваста-ется и на языке мозоль набьет... Щ Немного погодя вперед вышел Егран Левйга и так ответил ханскому богатырю: «Что ты зря языком по зубам колотишь? Вот я вышел с тобой силами померяться!» Ханский богатырь первым наскочил и так Еграна ударил, что тот зашатался, но устоял. Размахнулся Егран, крякнул, да как супротивника в переносицу хрястнул! Повалился вражина богатырь, и дух из него вон! Хан разгневался и послал против Еграна еще одного богатыря, но Левша и его на землю бросил! Тут-то и столкнулись, схлестнулись наша рать с ханской, и такая лютая сечь была, что пыль затмила солнце и по земле реки крови потекли. Лихо, зло билась наша рать, а Егран Левша впереди всех. Вражья рать стала пятиться, отступать, но Левша распалился и гнал и гнал вражин все дальше и дальше в степь! Г нал и не заметил, как ханские конники сзади тучей налетели: аркан на шею набросили и с гиком и свистом Еграна с собой увели... Вот что воины Варваре рассказали. Собралась Варвара в путь-дороженьку, взяла на плечо суму, а в руку падог и пошла к царю московскому милости просить — из позорного плена Еграна выкупить. Царь не пожелал мужицкую дочь видеть и через слугу ей передал, что-де у царей не в обычае мужиков из плена выкупать! Опечалил царский ответ Варвару. Отец с матерью утешали ее в горе — не утешили. Родители Еграна утешали — не утешили. Подруги утешали — только сильнее распечаловали! Долго Варвара плакала да причитала: «Где ты, мой любимый друг Егранушка? Быть бы мне ласточкой быстрокрылой, полетела бы я по белу свету, нашла бы тебя живым или мертвым. Если мертвым — похоронила бы по обычаю, а живым нашла — из плена бы выручила!» Плакала так Варвара да причитала, а ласточка-касаточка на окно и села: «Не тоскуй, не убивайся, девушка! Жив твой Егран, да вырваться из вражьих рук не может, а если хочешь стать ласточкой поднебесной и к жениху лететь, то лети!» Варвара удивилась и обрадовалась: «Я буду ласточкой!» И только так молвила, сразу стала маленькой-ма-ленькой и вместо рук увидела у себя крылья. Выпорхнула из окна на улицу, сделала над родительским домом прощальный круг, цвиркнула и улетела. Долго ли ласточка по свету летала да жениха искала, об этом старики не говорят, но город ханский нашла. И высокую башню, в которой русский богатырь томился, отыскала. А в ту башню Левшу посадили по велению хана. Он долго русского богатыря уговаривал: «Переходи ко мне на службу! Я тебя награжу дорогими одеждами, осыплю золотом да каменьями драгоценными, женю на своей младшей дочери и дам за ней в приданое табуны коней, коров и овец». Егран же ответил хану: «Мы, русские люди, врагам не продаемся: совесть и честь храним. А невеста у меня есть, и твоя дочь, хан, мне не нужна!» Хан разгневался и велел посадить русского богатыря в башню. Вот в той башне, на поднебесной высоте, и увидела ласточка Егранушку. Он печально смотрел сквозь железную решетку. Ласточка подлетела и защебетала: цвирк! цвирк! цвирк! Она и гнездо стала у окна вить и лепить. Неделю его строила, а Егран радовался: «Теперь я не только облака буду видеть, но и веселую ласточку!» Но Еграна удиьило: ласточка лепила гнездо одна и одна же в нем ночевала. И еще больше удивился Егран, когда ласточка стала носить ему пряди кудели и конского волоса. Подлетит к окну, по сторонам посмотрит и кинет узнику ношу. От скуки, тоски и печали стал Егран из той кудели и волоса веревку вить. Много дней вил и вышла она длиною от окна до самой земли! Пока Егран веревку вил — все о чудесной ласточке думал, и однажды ему пришла мысль: «Уж не Варваруш-ка ли ласточкой оборотилась?» Подумал так и спросил ее: «Ласточка, касаточка моя, уж не Варварушка ли ты?» Ласточка отозвалась: — цвирк! цвирк! цвирк! Егран уверился, что ласточка — его верная подруга Варвара. Можно бы из башни бежать, но сил осталось мало: железную решетку не сумеет одолеть! Сказал об этом ласточке: «Спасибо тебе, Варварушка, за верную любовь, но твои хлопоты напрасны: заморили меня тюремщики — не осилю я теперь железную решетку из окна выломать!» Ласточка улетела. Вернулась только к вечеру и принесла руно гороха. И опять целыми днями трудилась: горох Еграну носила. Сколько времени она Еграна кормила, старики тоже не знают, но только сил он набрался и однажды сказал: «Варварушка, этой ночью я убегу! Утром ищи меня в степи». Наступила ночь, и ханские стражи уснули. Им нечего было сухотиться о своей службе: из высокой башни еще никто никогда живым не выходил — выносили только мертвыми! Стал Егран оконную решетку выламывать. Раз рванул — решетка не пошелохнулась. Второй раз рванул — едва пошатнулась. Третий раз рванул — решетка подалась. Четвертый раз рванул — решетка вылетела! Егран привязал один конец веревки к двери, а второй опустил из окна к земле. Схватился за веревку и стал по ней спускаться. Невдалеке залаяла собака, и ей другие отозвались. На кого они лаяли? А может, внизу, у стен-то, ханская стража ходит? Спустился на землю Егран и прислушался: ни шороха, ни шепота, и псы умолкли. Ползком выбрался из города и в степи на ханские табуны набрел. Поймал коня и на нем по степи поскакал! До самого утра беглец ехал. Сильно конь устал, и Игран остановился — дал коню передохнуть, потом снова поехал. Ехал, а ласточка над ним кружила и все щебетала... Ханская же стража утром спохватилась — русского богатыря в башне нет! Донесли об этом хану. Тот разъярился и велел за беглецом снарядить погоню из лучших наездников. Самых быстроногих коней оседлали они и в степь помчались. Летели птицами — только ковыль-трава под конскими копытами пригибалась, и перед закатом солнца стали Егранушку настигать. Куда было ему деться? Степь гладкая — все как на ладони видно! Егран сильнее погнал коня, подъехал к огромному озеру, но и здесь негде было ему укрыться... Отпустил Егран коня, кинул в озеро шапку, сломал длинную камышину, взял конец ее в рот и в озеро лег. Лежал и через камышину дышал... Наездники к озеру подскакали, увидели на воде шапку и рассмеялись: «Русский богатырь — глупый богатырь, через это озеро поплыл и утонул. Во всем ханстве нет пловца-молодца, который бы великое озеро одолел!» Тут один из наездников забахвалился: «Жаль, что русский богатырь утонул! Был бы он живым, я бы ему в самое сердце стрелу послал!» Сказал так, достал из колчана стрелу, наложил на лук, натянул тетиву и в пролетавшую ласточку выстрелил. Дзинькнула тетива, свистнула, запела стрела и вонзилась ласточке в левое крыло. Ласточка в озеро упала, но не утонула: стрела плыла и на себе ласточку держала! Наездники похвалили лучника за верный глаз и меткую руку и поскакали в свой город. Егран долго лежал на дне озера и наконец решил: ханские наездники, наверно, далеко ускакали, но куда? Осторожно голову из воды поднял, осмотрелся: далеко-далеко по степи наездники мелькали. Вышел Егран на берег, глянул в вечернее небо, ласточки там не увидел. Кинул взгляд на озеро — по воде стрела плыла, а на ней ласточка лежала. Егран бросился в озеро, подплыл к ласточке, взял ее, вынул из крыла стрелу: «Будешь живой, Варварушка! До нашей свадьбы крылышко заживет». Ласточка у Еграна на ладони лежала, еле голову держала и совсем тихо цвиркнула: цвирк!.. Шел-брел Егран в родные края и раненую ласточку на ладони нес, а в холодные дни и ночи у сердца согревал. Сколько Егран до нашего села добирался, об этом старики не сказывают, но домой вместе с Варварой вернулся. Хотя они и были молодыми, но с горя и страданий так поседели, что родные их еле узнали. А у Варвары левая рука высохла — будто плеть висела... Егран с Варварой свадьбу сыграли и так потом долго и дружно жили, так друг дружку любили, что всем бы того пожелать! Вот, Мишка, и вся сказка-быль про вечную любовь. Хочешь — верь, не хочешь — не верь: какую я слыхала — такую и тебе рассказываю... Наталья умолкла, а я так заслушался и задумался, что и о надкушенном яблоке забыл! Наконец я очнулся, и Наталья поднялась: — Ну, Мишенька, мы с тобой посидели, покалякали, как меду напились, и пора по домам, а то нас с тобой искать станут! Я подал Наталье руку: — Прощай! Если за Бориску раздумаешь, то я буду кормить! Наталья улыбнулась: — И в кого ты, Мишка, родился? Жалливый... За другого человека готов душу отдать! — Как в кого? В тятьку с мамкой. Они меня не в капусте нашли, а сами выродили! — Ну дай тебе бог хорошую жену и с ней вечную любовь и согласие!
• • •
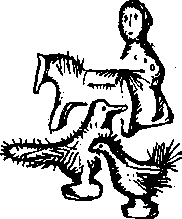 ОДНАЖДЫ УТРОМ РОДИТЕЛИ СТАЛИ СОБИРАТЬСЯ НА НАТАЛЬИНУ И БОРИСКИНУ СВАДЬБУ. Мать припрятала в подполье самовар, чугуны, одежду, посуду, а потом осмотрелась и сказала:
— Остаются иконы... Если и их спрятать? Да неужто у воров на святые иконы руки подымутся? Ладно, пусть остаются!
И, заторопившись, сказала мне:
— Нынче тебя с собой не возьмем: народу уйма и могут задавить!.. Завтра гулянье у дедушки Михайлы, гостей придет поменьше и тогда... Только куда же тебя сейчас деть?
И окликнула отца:
— Иван, сведи Мишку к Фадичкиным: пусть с ихней плоймой побудет!
ОДНАЖДЫ УТРОМ РОДИТЕЛИ СТАЛИ СОБИРАТЬСЯ НА НАТАЛЬИНУ И БОРИСКИНУ СВАДЬБУ. Мать припрятала в подполье самовар, чугуны, одежду, посуду, а потом осмотрелась и сказала:
— Остаются иконы... Если и их спрятать? Да неужто у воров на святые иконы руки подымутся? Ладно, пусть остаются!
И, заторопившись, сказала мне:
— Нынче тебя с собой не возьмем: народу уйма и могут задавить!.. Завтра гулянье у дедушки Михайлы, гостей придет поменьше и тогда... Только куда же тебя сейчас деть?
И окликнула отца:
— Иван, сведи Мишку к Фадичкиным: пусть с ихней плоймой побудет!
 Отец взял меня за руку, и мы вышли из избы. На улице толпился народ. Девки и бабы заглядывали в окна избы деда Михайлы и шептались.
— Тять, девки с бабами что тут?
— Наталью глядят. Ее к венцу собирают...
Поставив меня на завалинку, отец сказал:
— Гляди на Наталью: последний раз ее девкой видишь — нынче она обабится!
Я прильнул к окну. В избе тоже было много баб, девок, старух. Они, будто мухи, вокруг Натальи вились и о чем-то жужжали, а она стояла бледная, словно не живая, но, заметив меня, улыбнулась. Я помахал ей рукой, и мы с отцом пошли к Фадичкиным.
У Максима Фадичкина была, собственно, не изба, а избенка: ветхая, кривобокая, с двумя маленькими оконцами и, чтобы не продувал ветер, вымазанная глиной. Когда мы подходили к избенке, то увидели ее хозяина — Максима Андреевича: задрав голову, он смотрел в небо. Я тоже голову задрал. С печальными криками улетали от нас в теплые страны стаи птиц. Отец тихо проговорил:
— Максим Андреич, мы с бабой на свадьбу уходим, а мальчишку оставить не с кем. Пусть бы с твоими молодцами поиграл?
Не отрывая взгляда от птиц, Максим отозвался:
— Пусть! Беги, парень, в избу: там Ефимка с Банчей балаганом тешатся!
Я влетел в избу и растерялся: на подоконниках и на лавках сидели птицы! Много птиц! Они были сплетены из ржаной соломки и раскрашены под голубей, воробьев, галок... От одной стены к другой тянулась толстая нить, и по ней полз рыжий таракан!
Подобравшись поближе, я стал смотреть, как таракан переступал ножками и вот-вот мог упасть! Но не падал, а чем ближе к стене, тем шел быстрее и смелее. Наконец он добежал до стены, и Ефимка с Банчей захлопали в ладоши:
— Мо-ло-дец!
— Хороший балаганщик!
Ефимка посадил таракана в ящик стола и запер2
— Сиди, рыжий!
Заметив на моем лице недоумение, Ефимка поворошил разлохмаченные волосы и смущенно улыбнулся:
— Я этого таракашка из села Скопина принес...
— Из Скопина? А ваши тараканы по нитке не умеют ходить?
— У нас тараканы не живут!
Банча добавил:
— Жрать нечего — подыхают!
Я спросил:
— Кто вам птичек дал?
Ефимка гордо отозвался:
— Сами сделали!
Он вытащил из-под лавки лукошко и стал из него вынимать и на подоконники и на лавки ставить игрушки-самоделки: зайцев, лис, медведей, собак, царей, попов, мужиков...
Ванча принес из сеней ведерко глины:
— Гляди, Мишка, как я мышку сделаю!
И на моих глазах из кусочка сырой глины родилась остроносая, ушастая, хвостатая мышь. Тут я вспомнил рассказ матери, как дьявол слепил первого человека из глины и земли. Вспомнил и на себя подосадовал: «Что же я не спросил: кто птиц и зверей лепил? Бог или дьявол?»
Только я так подумал, а Ефимка как крикнет:
— Эх, растяпы мы! Надо в церкву бежать: поглядеть, как Бориску с Натальей будут венчать...
Он, а за ним и Ванча собрались, и мне пришлось одеваться.
То скороходью, то трусцой мы добрались до церкви. Там было столько народу, что, казалось, и руки не просунуть, но Ефимка, словно смазанный жиром, уж проскользнул в толпу и нас за собой тянул. Скоро мы очутились возле аналоя — такой высокой тумбочки и тут натолкнулись на мою мать. Она схватила меня за воротник и сердито спросила:
— Ты зачем здесь?
— Я не сам, а Ефимка с Ванчей притащили...
— Тогда стой смирно!
Священник отец Николай Модератов нахмурил толстые брови и сурово спросил Бориску:
— Согласен ли ты, раб божий Борис, взять себе в жены рабу божию Наталью?
Бориска торопливо, точно кто у него невесту перехватывает, ответил:
— Согласен...
Священник и Наталью спросил:
— Раба божия Наталья, согласна ли ты взять себе в мужья раба божьего Бориса?
Мне показалось, что в церкви все стихло. Так, наверно, и было: парни с девками ждали слова Натальи! Я чуть было не крикнул: «Да откажись ты от него! Откажись, мы будем с тобой жить!» Но я не осмелился крикнуть и чуть не заплакал, когда Наталья еле выдавила:
— Согласна...
Тут в церкви запели, загудели, а чего пели и почему
97
4 М. Суетной
шумели, и я не понял. Пели «Исайя, ликуй...» Кто такой был Исайя, и зачем ему надо ликовать? Пусть бы Бо-риска ликовал: он Наталью в жены забирал!
Я так над всем этим задумался, что и не заметил, как окончилось венчание и очнулся только тогда, когда Ефимка дернул меня за рукав:
— Побежим домой!
Остаток дня Ефимка с Банчей учили меня лепить игрушки. Я делал плохо, неумело, но ребята подбадривали:
— Получается!..
Когда стало смеркаться, Ефимка спросил:
— Мишка, ты есть хочешь?
О еде я забыл, а как только о ней заговорили, так почувствовал жестокий голод и сознался:
— Хочу...
Банча похвалился:
— У нас пареная свекла: язык проглотишь!
Ефимка принес нам по одной свеклине:
— Ужинайте, но хлеба нет и не просите!
Свекла была кроваво-красной и сладкой, будто медовой. Я спросил:
— А мы перед ужином почему не молились?
Ефимка усмехнулся:
— Кабы хлеб ели, а то свеклу!
И тут я вспомнил: у меня же в кармане горбушка хлеба! Мать положила...
Я вынул горбушку и положил на стол:
— Вот, ешьте!
Ефимка с Банчей словно зачарованные смотрели на хлеб, но в один голос отказались от него:
— Ешь сам, мы по горло сыты!
Я клялся и божился, что тоже сыт, и предложил разделить горбушку на троих. Банча сдался:
— Ефимка, режь!
Тот прищурил глаз, прицелился и ножом расхватил горбушку на три равных кусочка.
Хотя мы и изрядно были голодны, ели неторопливо, степенно. Хлеб был так вкусен, что окажись в это время на столе целый каравай, мы бы и от него крошек не оставили!
Поужинав и утерев рукавом рот, я хотел было поблагодарить бога, но на божнице вместо иконы стояла пустая рамка. Банча улыбнулся:
/
— Икона упала и раскололась...
Ефимка снял с божницы рамку и две дощечки. На каждой из них виднелось по глазу и по половине носа, губ и бороды. Ефимка вставил дощечки в рамку: бог на иконе получился кривоносым и кривогубым, но все равно это был бог, и я смиренно проговорил:
— Благодарю тебя, господи, за то, что насытил нас хлебом насущным!
Ефимка с Банчей фыркнули:
— Ты, Мишка, как дьячок: не дать ли тебе за молитву пятачок?
— Чем он нас насытил?
— А вы разве не сыты?
Ребята смутились:
— Нет, сыты, но...
— Бог на вас осердится и молнией в щепкй расщепает!
Вошел Максим:
— Холодновато стало!.. Вы, ребята, чего-нибудь ели?
Ванча и Ефимка в один голос ответили:
— Ели, ели! И тебе свеклину оставили...
Максим подошел к шестку, достал из чугунка свеклину, повернулся к нам спиной и начал есть. Ел и говорил:
— Птицы улетают... Я тридцать три стаи насчитал. Больше гуси и утки летят. Грачи позднее тронутся...
Я внимательно наблюдал за Максимом и заметил: ни до еды, ни после он даже лба не перекрестил, и я подумал: «Такой же ветродуй, как и мой тятька!»
Ребята принесли из сеней соломы, положили ее на пол, устроили постель и, не помолившись и даже не перекрестившись, легли:
— Мишка, лезь сюда!
Я молча лег между братьев, и Ефимка зашептал:
— У нас всегда весело! Только тятька нынче что-то затуманился, а в другие дни он с нами играет. Он и мамка нас никогда не бьют. А тебя бьют?
— Бьют...
Ефимка хотел еще что-то сказать, но в дверь сильно постучали. Максим отозвался:
— Слышу! Это ты, Иван Ильич?
— Я за сыном...
Одевшись, я выскочил из избушки. Отец покачивался и никак не мог взять меня за руку. Я спросил:
— Тетка Наталья плакала?
Ответила мать:
— Это о чем же ей плакать-то? Она девичьи слезы перед венцом выплакала, а бабьего горя еще не хлебы-вала!..
Отец взял меня за руку, и мы вышли из избы. На улице толпился народ. Девки и бабы заглядывали в окна избы деда Михайлы и шептались.
— Тять, девки с бабами что тут?
— Наталью глядят. Ее к венцу собирают...
Поставив меня на завалинку, отец сказал:
— Гляди на Наталью: последний раз ее девкой видишь — нынче она обабится!
Я прильнул к окну. В избе тоже было много баб, девок, старух. Они, будто мухи, вокруг Натальи вились и о чем-то жужжали, а она стояла бледная, словно не живая, но, заметив меня, улыбнулась. Я помахал ей рукой, и мы с отцом пошли к Фадичкиным.
У Максима Фадичкина была, собственно, не изба, а избенка: ветхая, кривобокая, с двумя маленькими оконцами и, чтобы не продувал ветер, вымазанная глиной. Когда мы подходили к избенке, то увидели ее хозяина — Максима Андреевича: задрав голову, он смотрел в небо. Я тоже голову задрал. С печальными криками улетали от нас в теплые страны стаи птиц. Отец тихо проговорил:
— Максим Андреич, мы с бабой на свадьбу уходим, а мальчишку оставить не с кем. Пусть бы с твоими молодцами поиграл?
Не отрывая взгляда от птиц, Максим отозвался:
— Пусть! Беги, парень, в избу: там Ефимка с Банчей балаганом тешатся!
Я влетел в избу и растерялся: на подоконниках и на лавках сидели птицы! Много птиц! Они были сплетены из ржаной соломки и раскрашены под голубей, воробьев, галок... От одной стены к другой тянулась толстая нить, и по ней полз рыжий таракан!
Подобравшись поближе, я стал смотреть, как таракан переступал ножками и вот-вот мог упасть! Но не падал, а чем ближе к стене, тем шел быстрее и смелее. Наконец он добежал до стены, и Ефимка с Банчей захлопали в ладоши:
— Мо-ло-дец!
— Хороший балаганщик!
Ефимка посадил таракана в ящик стола и запер2
— Сиди, рыжий!
Заметив на моем лице недоумение, Ефимка поворошил разлохмаченные волосы и смущенно улыбнулся:
— Я этого таракашка из села Скопина принес...
— Из Скопина? А ваши тараканы по нитке не умеют ходить?
— У нас тараканы не живут!
Банча добавил:
— Жрать нечего — подыхают!
Я спросил:
— Кто вам птичек дал?
Ефимка гордо отозвался:
— Сами сделали!
Он вытащил из-под лавки лукошко и стал из него вынимать и на подоконники и на лавки ставить игрушки-самоделки: зайцев, лис, медведей, собак, царей, попов, мужиков...
Ванча принес из сеней ведерко глины:
— Гляди, Мишка, как я мышку сделаю!
И на моих глазах из кусочка сырой глины родилась остроносая, ушастая, хвостатая мышь. Тут я вспомнил рассказ матери, как дьявол слепил первого человека из глины и земли. Вспомнил и на себя подосадовал: «Что же я не спросил: кто птиц и зверей лепил? Бог или дьявол?»
Только я так подумал, а Ефимка как крикнет:
— Эх, растяпы мы! Надо в церкву бежать: поглядеть, как Бориску с Натальей будут венчать...
Он, а за ним и Ванча собрались, и мне пришлось одеваться.
То скороходью, то трусцой мы добрались до церкви. Там было столько народу, что, казалось, и руки не просунуть, но Ефимка, словно смазанный жиром, уж проскользнул в толпу и нас за собой тянул. Скоро мы очутились возле аналоя — такой высокой тумбочки и тут натолкнулись на мою мать. Она схватила меня за воротник и сердито спросила:
— Ты зачем здесь?
— Я не сам, а Ефимка с Ванчей притащили...
— Тогда стой смирно!
Священник отец Николай Модератов нахмурил толстые брови и сурово спросил Бориску:
— Согласен ли ты, раб божий Борис, взять себе в жены рабу божию Наталью?
Бориска торопливо, точно кто у него невесту перехватывает, ответил:
— Согласен...
Священник и Наталью спросил:
— Раба божия Наталья, согласна ли ты взять себе в мужья раба божьего Бориса?
Мне показалось, что в церкви все стихло. Так, наверно, и было: парни с девками ждали слова Натальи! Я чуть было не крикнул: «Да откажись ты от него! Откажись, мы будем с тобой жить!» Но я не осмелился крикнуть и чуть не заплакал, когда Наталья еле выдавила:
— Согласна...
Тут в церкви запели, загудели, а чего пели и почему
97
4 М. Суетной
шумели, и я не понял. Пели «Исайя, ликуй...» Кто такой был Исайя, и зачем ему надо ликовать? Пусть бы Бо-риска ликовал: он Наталью в жены забирал!
Я так над всем этим задумался, что и не заметил, как окончилось венчание и очнулся только тогда, когда Ефимка дернул меня за рукав:
— Побежим домой!
Остаток дня Ефимка с Банчей учили меня лепить игрушки. Я делал плохо, неумело, но ребята подбадривали:
— Получается!..
Когда стало смеркаться, Ефимка спросил:
— Мишка, ты есть хочешь?
О еде я забыл, а как только о ней заговорили, так почувствовал жестокий голод и сознался:
— Хочу...
Банча похвалился:
— У нас пареная свекла: язык проглотишь!
Ефимка принес нам по одной свеклине:
— Ужинайте, но хлеба нет и не просите!
Свекла была кроваво-красной и сладкой, будто медовой. Я спросил:
— А мы перед ужином почему не молились?
Ефимка усмехнулся:
— Кабы хлеб ели, а то свеклу!
И тут я вспомнил: у меня же в кармане горбушка хлеба! Мать положила...
Я вынул горбушку и положил на стол:
— Вот, ешьте!
Ефимка с Банчей словно зачарованные смотрели на хлеб, но в один голос отказались от него:
— Ешь сам, мы по горло сыты!
Я клялся и божился, что тоже сыт, и предложил разделить горбушку на троих. Банча сдался:
— Ефимка, режь!
Тот прищурил глаз, прицелился и ножом расхватил горбушку на три равных кусочка.
Хотя мы и изрядно были голодны, ели неторопливо, степенно. Хлеб был так вкусен, что окажись в это время на столе целый каравай, мы бы и от него крошек не оставили!
Поужинав и утерев рукавом рот, я хотел было поблагодарить бога, но на божнице вместо иконы стояла пустая рамка. Банча улыбнулся:
/
— Икона упала и раскололась...
Ефимка снял с божницы рамку и две дощечки. На каждой из них виднелось по глазу и по половине носа, губ и бороды. Ефимка вставил дощечки в рамку: бог на иконе получился кривоносым и кривогубым, но все равно это был бог, и я смиренно проговорил:
— Благодарю тебя, господи, за то, что насытил нас хлебом насущным!
Ефимка с Банчей фыркнули:
— Ты, Мишка, как дьячок: не дать ли тебе за молитву пятачок?
— Чем он нас насытил?
— А вы разве не сыты?
Ребята смутились:
— Нет, сыты, но...
— Бог на вас осердится и молнией в щепкй расщепает!
Вошел Максим:
— Холодновато стало!.. Вы, ребята, чего-нибудь ели?
Ванча и Ефимка в один голос ответили:
— Ели, ели! И тебе свеклину оставили...
Максим подошел к шестку, достал из чугунка свеклину, повернулся к нам спиной и начал есть. Ел и говорил:
— Птицы улетают... Я тридцать три стаи насчитал. Больше гуси и утки летят. Грачи позднее тронутся...
Я внимательно наблюдал за Максимом и заметил: ни до еды, ни после он даже лба не перекрестил, и я подумал: «Такой же ветродуй, как и мой тятька!»
Ребята принесли из сеней соломы, положили ее на пол, устроили постель и, не помолившись и даже не перекрестившись, легли:
— Мишка, лезь сюда!
Я молча лег между братьев, и Ефимка зашептал:
— У нас всегда весело! Только тятька нынче что-то затуманился, а в другие дни он с нами играет. Он и мамка нас никогда не бьют. А тебя бьют?
— Бьют...
Ефимка хотел еще что-то сказать, но в дверь сильно постучали. Максим отозвался:
— Слышу! Это ты, Иван Ильич?
— Я за сыном...
Одевшись, я выскочил из избушки. Отец покачивался и никак не мог взять меня за руку. Я спросил:
— Тетка Наталья плакала?
Ответила мать:
— Это о чем же ей плакать-то? Она девичьи слезы перед венцом выплакала, а бабьего горя еще не хлебы-вала!..
• • •
 РОДИТЕЛИ МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛИ. На следующий день, как только у деда Михайлы бабы отстряпались, так мы собрались и стали наряжаться кто во что хотел. Отец где-то раздобыл солдатскую одежду и нарядился урядником. Прицепил деревянную саблю и заткнул за пояс деревянный револьвер. Авдотья нарядилась сельским старостой и навесила себе посконную бородищу. Еще несколько баб и мужиков нарядились, и только моя мать отказалась:
— Какая есть — такой и пойду! Ни бога, ни людей не обману...
Дед Михайла ничего на это не сказал, а только поморщился и спросил:
— Где же сыщик? Без него не ищут...
Мне тоже хотелось нарядиться, и я робко попросил:
— Дедушка, я буду сыщиком?
— Валяй, Мишка!
Отец сажей нарисовал мне большие усы, но я просил рисовать и бороду.
Мать сердито отрезала:
— Хватит тебе и усов! Они мужику в честь, а борода и у дьявола есть...
Дед еще раз оглядел нас и прослезился:
— Люди добрые, идите к вору Бориске, найдите у него мою Натальюшку и сюда приведите! И Бориску приведите: я сам ему наказание придумаю.
По щекам и носу деда струились слезы. Я рассердился:
— Что ты плачешь? Как поп Семен: рубли в карты проиграл и стал грошиками-копеечками собирать. Сам тетку Наталью продал, а теперь плачешь!
юо
О попе Семене, конечно, не я придумал: так говаривал отец, а я эти слова вспомнил и сказал. Все засмеялись :
— Вот, дед, как тебя сыщик-то подколол!
Дед шумно вздохнул:
РОДИТЕЛИ МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛИ. На следующий день, как только у деда Михайлы бабы отстряпались, так мы собрались и стали наряжаться кто во что хотел. Отец где-то раздобыл солдатскую одежду и нарядился урядником. Прицепил деревянную саблю и заткнул за пояс деревянный револьвер. Авдотья нарядилась сельским старостой и навесила себе посконную бородищу. Еще несколько баб и мужиков нарядились, и только моя мать отказалась:
— Какая есть — такой и пойду! Ни бога, ни людей не обману...
Дед Михайла ничего на это не сказал, а только поморщился и спросил:
— Где же сыщик? Без него не ищут...
Мне тоже хотелось нарядиться, и я робко попросил:
— Дедушка, я буду сыщиком?
— Валяй, Мишка!
Отец сажей нарисовал мне большие усы, но я просил рисовать и бороду.
Мать сердито отрезала:
— Хватит тебе и усов! Они мужику в честь, а борода и у дьявола есть...
Дед еще раз оглядел нас и прослезился:
— Люди добрые, идите к вору Бориске, найдите у него мою Натальюшку и сюда приведите! И Бориску приведите: я сам ему наказание придумаю.
По щекам и носу деда струились слезы. Я рассердился:
— Что ты плачешь? Как поп Семен: рубли в карты проиграл и стал грошиками-копеечками собирать. Сам тетку Наталью продал, а теперь плачешь!
юо
О попе Семене, конечно, не я придумал: так говаривал отец, а я эти слова вспомнил и сказал. Все засмеялись :
— Вот, дед, как тебя сыщик-то подколол!
Дед шумно вздохнул:
 — Устами младенцев глаголет истина... Ладно, я виноват, но только Наталью приведите, и я ее из дому больше не выпущу!
Пришлось обещать:
— При-ве-дем!
Мать щипнула меня за руку:
— Ты вперед взрослых с разговорами не суйся и языку воли не давай! Мал еще...
И вот наша команда двинулась на соседнюю улицу. Впереди — урядник, за ним — староста, сыщик и понятые. Шествие замыкал гармонист. Он старательно тер-1 зал гармонику, а староста Авдотья пела и приплясывала. Ух и тяжела она была! Так ногами била, что земля гудела:
Попляшу я, попляшу —
Попляшу да топну:
Неужели подо мной Перерубы лопнут?
Потом все запели «Коробочку» и с ней шли до следующей улицы.
Борискин дом стоял у моста через речку Москалей-ка. Я в этом доме бывал много раз и потому сразу его узнал. Мечтал с ходу в дом ворваться, но на крыльце появился дед Сергей — отец Бориски. Разведя руки, дед задержал нас:
— Что за люди?
Урядник рявкнул:
— Прочь с дороги, с обыском иду!
Дед испугался:
— С обыском? Я отродясь чужой соломины не брал... И чего же и кого же ты, господин урядник, ищешь?
Тот ехидно отозвался:
— Глядите, добрые люди, на этого старого притворщика! У деда Михайлы Тиманкова девку для сына Бориса украл и теперь делает вид, что, мол, я — не я и лошадь не моя и я не извозчик! А ну-ка, посторонись, а то...
И отец, как всамделишный урядник, покрутил кулаком перед носом деда. Тот залебезил:
— Нет у меня в доме чужого человека — все свои: мною рожденные или в церкви венчанные и богом на веки-вечные соединенные! Можешь, урядник, пойти к попу и в церковной книге поглядеть...
Подняв ведро с водкой, дед Сергей улыбнулся:
— Выпейте, господин урядник! И вы, господа понятые, и староста тоже! Тебе, урядник, первую чарку...
Я дернул отца за рукав:
— Не пей, дедушка Сергей тебя обдуряет!
Отец головой мотнул:
— Господин староста, и вы, понятые, мы водку пить не станем, а начнем обыск!..
Все с этим согласились, вошли в избу и стали Наталью искать. Обшарили углы, чулан, подполье и напрасно! Дед Сергей с Бориской стояли в сторонке и ухмылялись, а урядник недоумевал:
— Либо ты, хозяин, колдун и наши глаза в сторону от Натальи отводишь, либо ее у соседей или под мостом на Москалейке спрятал...
И скомандовал:
— Сыщик, на тебя вся надежда! Ищи!
Я еще раз слазил в подполье, заглянул на печь, на полати, но Натальи не было! Встал среди избы, озираюсь и замечаю: висящий в углу тулуп почему-то чуть-чуть шевельнулся. Из-под тулупа показался носок женского полусапожка. Я нагнулся и попытался полусапо-жок приподнять, но он даже не сдвинулся с места! Просунул руку под тулуп, а там чья-то нога! Стал ее щекотать, и из-под тулупа с визгом выскочила Наталья:
— Мишенька, это ты? Спасибо за выручку, а то бы я тут пропала!
Урядник рявкнул:
— Вот, хозяин, мы и вывели тебя на чистую воду! Что же, в клоповник посадить или помиловать? Ладно, арестую Бориску и к деду Михайле отведу, а ты будешь свидетелем!
Вся компания с шумом села за столы:
— Теперь, хозяин, давай взятку, а то засудим!
Напировавшись да набражничавшись, команда поднялась, и тут я отнял у отца револьвер:
— Арестанта надо караулить, а ты уж качаешься!..
Староста Авдотья вывела всех на улицу: впереди
поставила Бориса с Натальей, за ними — меня, потом дедушку Сергея с супругой, и мы повели арестованного к деду Михайле. Я держал револьвер наготове и покрикивал:
— Иди, иди, арестант, а то как стрельну!
Он достал из кармана горсть карамелек и протянул мне:
— Господин сыщик, прими!
Я даже ногой притопнул:
— Сам ешь! Вот отведу тебя в тюрьму, и там будешь конфетками вошей кормить!
Бориска головой покачал:
— Вот это верный служака!
Наталья же исходила смехом:
— Так его, Мишка, так! Ишь, удумал с Нового порядка на Большую улицу девок уводить!
ЮЗ
— Устами младенцев глаголет истина... Ладно, я виноват, но только Наталью приведите, и я ее из дому больше не выпущу!
Пришлось обещать:
— При-ве-дем!
Мать щипнула меня за руку:
— Ты вперед взрослых с разговорами не суйся и языку воли не давай! Мал еще...
И вот наша команда двинулась на соседнюю улицу. Впереди — урядник, за ним — староста, сыщик и понятые. Шествие замыкал гармонист. Он старательно тер-1 зал гармонику, а староста Авдотья пела и приплясывала. Ух и тяжела она была! Так ногами била, что земля гудела:
Попляшу я, попляшу —
Попляшу да топну:
Неужели подо мной Перерубы лопнут?
Потом все запели «Коробочку» и с ней шли до следующей улицы.
Борискин дом стоял у моста через речку Москалей-ка. Я в этом доме бывал много раз и потому сразу его узнал. Мечтал с ходу в дом ворваться, но на крыльце появился дед Сергей — отец Бориски. Разведя руки, дед задержал нас:
— Что за люди?
Урядник рявкнул:
— Прочь с дороги, с обыском иду!
Дед испугался:
— С обыском? Я отродясь чужой соломины не брал... И чего же и кого же ты, господин урядник, ищешь?
Тот ехидно отозвался:
— Глядите, добрые люди, на этого старого притворщика! У деда Михайлы Тиманкова девку для сына Бориса украл и теперь делает вид, что, мол, я — не я и лошадь не моя и я не извозчик! А ну-ка, посторонись, а то...
И отец, как всамделишный урядник, покрутил кулаком перед носом деда. Тот залебезил:
— Нет у меня в доме чужого человека — все свои: мною рожденные или в церкви венчанные и богом на веки-вечные соединенные! Можешь, урядник, пойти к попу и в церковной книге поглядеть...
Подняв ведро с водкой, дед Сергей улыбнулся:
— Выпейте, господин урядник! И вы, господа понятые, и староста тоже! Тебе, урядник, первую чарку...
Я дернул отца за рукав:
— Не пей, дедушка Сергей тебя обдуряет!
Отец головой мотнул:
— Господин староста, и вы, понятые, мы водку пить не станем, а начнем обыск!..
Все с этим согласились, вошли в избу и стали Наталью искать. Обшарили углы, чулан, подполье и напрасно! Дед Сергей с Бориской стояли в сторонке и ухмылялись, а урядник недоумевал:
— Либо ты, хозяин, колдун и наши глаза в сторону от Натальи отводишь, либо ее у соседей или под мостом на Москалейке спрятал...
И скомандовал:
— Сыщик, на тебя вся надежда! Ищи!
Я еще раз слазил в подполье, заглянул на печь, на полати, но Натальи не было! Встал среди избы, озираюсь и замечаю: висящий в углу тулуп почему-то чуть-чуть шевельнулся. Из-под тулупа показался носок женского полусапожка. Я нагнулся и попытался полусапо-жок приподнять, но он даже не сдвинулся с места! Просунул руку под тулуп, а там чья-то нога! Стал ее щекотать, и из-под тулупа с визгом выскочила Наталья:
— Мишенька, это ты? Спасибо за выручку, а то бы я тут пропала!
Урядник рявкнул:
— Вот, хозяин, мы и вывели тебя на чистую воду! Что же, в клоповник посадить или помиловать? Ладно, арестую Бориску и к деду Михайле отведу, а ты будешь свидетелем!
Вся компания с шумом села за столы:
— Теперь, хозяин, давай взятку, а то засудим!
Напировавшись да набражничавшись, команда поднялась, и тут я отнял у отца револьвер:
— Арестанта надо караулить, а ты уж качаешься!..
Староста Авдотья вывела всех на улицу: впереди
поставила Бориса с Натальей, за ними — меня, потом дедушку Сергея с супругой, и мы повели арестованного к деду Михайле. Я держал револьвер наготове и покрикивал:
— Иди, иди, арестант, а то как стрельну!
Он достал из кармана горсть карамелек и протянул мне:
— Господин сыщик, прими!
Я даже ногой притопнул:
— Сам ешь! Вот отведу тебя в тюрьму, и там будешь конфетками вошей кормить!
Бориска головой покачал:
— Вот это верный служака!
Наталья же исходила смехом:
— Так его, Мишка, так! Ишь, удумал с Нового порядка на Большую улицу девок уводить!
ЮЗ
• • •
 СВАДЕБНЫЕ ГУЛЯНЬЯ ЗА-КОНЧИЛИСЬ, И ТУТ, КАК НАРОЧНО, СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА СКЛИКАЛ МУЖИКОВ НА МИРСКУЮ СХОДКУ. Мы с Лаврушкой тоже на площадь прибежали и забрались на церковную ограду и первыми увидели, как из сельской управы вышли волостной старшина, староста, урядник и писарь. Лаврушка крикнул:
— Дядиньки, староста с урядником идут!
Многие мужики посрывали с голов шапки и почтительно замерли. Староста прошел в круг, на все четыре стороны поясно поклонился и начал речь:
— Мужики! Я собрал вас покалякать о наших нуждах и заботах. За селом — по большой дороге на город Лукоянов — есть казенный земский мост. Он так хил, что от лаптя дрожит, а ежели лошадь копытом ступает, то мост будто в лихоманке трясется. Каждый из нас по тому мосту на базар ездит и всегда молитвы творит, чтобы живым остаться и лошадь не загубить. Верно я сказал?
Мужики откликнулись:
— Верно!..
— Верно-то верно, но почему же уездная земская управа новый мост не строит? Ждет, когда он провалится?
— Деньги с нас дерут, а моста нет...
Староста дождался тишины и продолжал:
— Я об этом мосте с господином волостным старшиной много раз толковал, но мой глас остался вопиющим в пустыне!
Сходка загалдела:
— У уездного земства рыло в пуху!
— Во-ру-ют!
Урядник словно сыч головой вертел, но высмотреть крикуна не мог — орали все: бедные и богатые, старые и помоложе...
Староста оказался между двух огней: опасался против мужиков идти и страшился волостного старшину и земство упрекать. Потому-то и схитрил;
— Рядом со мной стоит господин волостной старшина. Я его покорнейше прошу растолковать мужикам, что да почему и как?
Старшина был высоким, худым, седым и очень долгоногим. Подергав реденькую бороденку и по-журав-линому переступив с ноги на ногу, он вкрадчиво заговорил:
— Эх, мужики-хозяева! Вы тут шумите, галдите, земство упрекаете, а ведь оно о всем уезде печется — дел пропасть... Да и с мостом вашим не так все просто: на него денег нет! А если их нет, то какой же мост на уме? Мне вот что велено вам сказать: внесите за год вперед земские сборы и будет вам новый мост! Вы земство выручите, а оно — вас...
Мой отец крикнул:
— Мы земство выручим, а оно нас, серых мужиков, выучит!
И сходка бурей заревела:
— Об-ман!
— Дураков ищите!
— Не же-ла-ем!
Старшина, видимо, был опытный и к таким крикам привычный: терпеливо ждал тишины, но сходка бушевала и бушевала, а потом вдруг засмеялась! Легкий смех перешел в громкий хохот. Старшина изумленно озирался по сторонам, урядник тоже, а староста с писарем надвинули шапки на самые глаза и рты варежками закрыли...
Я сперва подумал, что мужики смеются над старшиной, но в нем ничего смешного не находил и спросил Лаврушку:
— Они что?
Лаврушка схватился за живот:
— Ха-ха-ха! У дяди Максима Фадичкина па-лец!..
Я посмотрел на Максима. Он стоял рядом с отцом и не улыбался. Четыре пальца правой руки засунуты за кушак, а пятый, большой, торчал словно кочедык и пошевеливался. Палец и палец, но только я на него глянул, так сразу со смеху покатился:
— Па-лец!..
У нас часто поговаривали, что, мол, Максим может мертвого рассмешить, но как он это делал — я не знал: оказалось — одним пальцем!
Так вот, сходка будто с ума сошла, и старшина растерялся, а растерявшись, стал науськивать на мужиков урядника. Тот и без этого зачинщика искал, но найти не мог: хохотали все!
Наконец урядник почему-то накинулся на моего отца:
— Что ржешь? Что? «И-го-го-го!» В клоповник захотел?
Отец был до болезненности самолюбивым и такого оскорбления не смолчал:
СВАДЕБНЫЕ ГУЛЯНЬЯ ЗА-КОНЧИЛИСЬ, И ТУТ, КАК НАРОЧНО, СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА СКЛИКАЛ МУЖИКОВ НА МИРСКУЮ СХОДКУ. Мы с Лаврушкой тоже на площадь прибежали и забрались на церковную ограду и первыми увидели, как из сельской управы вышли волостной старшина, староста, урядник и писарь. Лаврушка крикнул:
— Дядиньки, староста с урядником идут!
Многие мужики посрывали с голов шапки и почтительно замерли. Староста прошел в круг, на все четыре стороны поясно поклонился и начал речь:
— Мужики! Я собрал вас покалякать о наших нуждах и заботах. За селом — по большой дороге на город Лукоянов — есть казенный земский мост. Он так хил, что от лаптя дрожит, а ежели лошадь копытом ступает, то мост будто в лихоманке трясется. Каждый из нас по тому мосту на базар ездит и всегда молитвы творит, чтобы живым остаться и лошадь не загубить. Верно я сказал?
Мужики откликнулись:
— Верно!..
— Верно-то верно, но почему же уездная земская управа новый мост не строит? Ждет, когда он провалится?
— Деньги с нас дерут, а моста нет...
Староста дождался тишины и продолжал:
— Я об этом мосте с господином волостным старшиной много раз толковал, но мой глас остался вопиющим в пустыне!
Сходка загалдела:
— У уездного земства рыло в пуху!
— Во-ру-ют!
Урядник словно сыч головой вертел, но высмотреть крикуна не мог — орали все: бедные и богатые, старые и помоложе...
Староста оказался между двух огней: опасался против мужиков идти и страшился волостного старшину и земство упрекать. Потому-то и схитрил;
— Рядом со мной стоит господин волостной старшина. Я его покорнейше прошу растолковать мужикам, что да почему и как?
Старшина был высоким, худым, седым и очень долгоногим. Подергав реденькую бороденку и по-журав-линому переступив с ноги на ногу, он вкрадчиво заговорил:
— Эх, мужики-хозяева! Вы тут шумите, галдите, земство упрекаете, а ведь оно о всем уезде печется — дел пропасть... Да и с мостом вашим не так все просто: на него денег нет! А если их нет, то какой же мост на уме? Мне вот что велено вам сказать: внесите за год вперед земские сборы и будет вам новый мост! Вы земство выручите, а оно — вас...
Мой отец крикнул:
— Мы земство выручим, а оно нас, серых мужиков, выучит!
И сходка бурей заревела:
— Об-ман!
— Дураков ищите!
— Не же-ла-ем!
Старшина, видимо, был опытный и к таким крикам привычный: терпеливо ждал тишины, но сходка бушевала и бушевала, а потом вдруг засмеялась! Легкий смех перешел в громкий хохот. Старшина изумленно озирался по сторонам, урядник тоже, а староста с писарем надвинули шапки на самые глаза и рты варежками закрыли...
Я сперва подумал, что мужики смеются над старшиной, но в нем ничего смешного не находил и спросил Лаврушку:
— Они что?
Лаврушка схватился за живот:
— Ха-ха-ха! У дяди Максима Фадичкина па-лец!..
Я посмотрел на Максима. Он стоял рядом с отцом и не улыбался. Четыре пальца правой руки засунуты за кушак, а пятый, большой, торчал словно кочедык и пошевеливался. Палец и палец, но только я на него глянул, так сразу со смеху покатился:
— Па-лец!..
У нас часто поговаривали, что, мол, Максим может мертвого рассмешить, но как он это делал — я не знал: оказалось — одним пальцем!
Так вот, сходка будто с ума сошла, и старшина растерялся, а растерявшись, стал науськивать на мужиков урядника. Тот и без этого зачинщика искал, но найти не мог: хохотали все!
Наконец урядник почему-то накинулся на моего отца:
— Что ржешь? Что? «И-го-го-го!» В клоповник захотел?
Отец был до болезненности самолюбивым и такого оскорбления не смолчал:
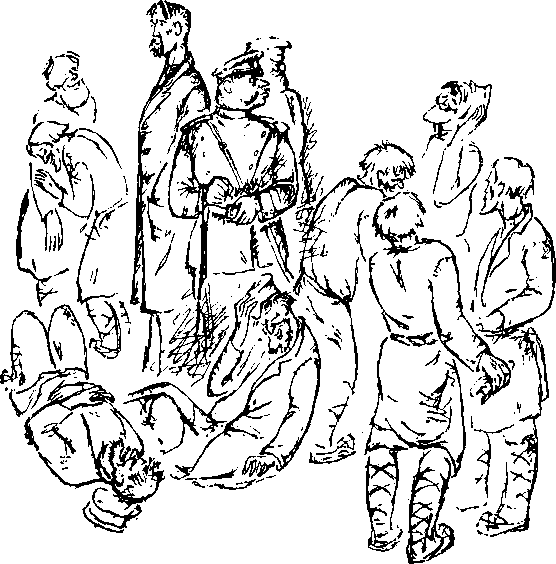 — А ты, урядник, мной хоть пол мой, но мочалкой не обзывай!
От такой непочтительности урядник даже взвизгнул: —j Я тебе покажу «мочалку»! Марш в клоповник! В другое время кто-нибудь выдал бы Максима, а сейчас мужики продолжали хохотать: одни схватились за животы, корчились; другие — словно пьяные, держались друг за дружку, чтобы не упасть; третьи — иссме-явшись до изнеможения, бессильно опустились на землю и только выли:
— О-о-о-о-о-о-о!..
Мы с Лаврушкой спрыгнули с ограды и пошли за моим отцом. Урядник тащил его за рукав и ругал. Отец упирался и хрипел:
— Не пой-ду-у! Не своебышничай, а то царю пожалуюсь! Караул закричу!
Тут и я не сдержался и закричал во весь голос:
— Отпусти тятьку! Ка-ра-у-ул, урядник тятьку уводит!
Урядник ткнул отца кулаком в подбородок, да так, что зубы щелкнули:
— Марш домой! Не вздумай народ мутить, а то я тебя в Сибирь упеку!
Отец круто повернулся и пошел было к площади, но там были только старшина, староста и писарь — мужики разбежались. Отец опустил голову и зашагал к дому.
Максим Фадичкин стоял у угла своей избенки. Мы с Лаврушкой ожидали неприятного разговора, но вместо этого отец подошел и сказал:
— Спасибо, Максим Андреич, за выручку! За палец твой спасибо! Платили бы мы земским жуликам, а теперь они к нам не сунутся: казенный мост сами станут строить...
— Так-то оно так, но ты, Иван Ильич, один за мир пострадал!
Отец отмахнулся:
— Кому-нибудь надо и за правду страдать...
Сказав так, он направился в сторону лавочки Василия Трусова.
Я окликнул:
— Тять, ты куда?
Отец оглянулся:
— Чего-нибудь в лавочке куплю...
Я помчался домой и обо всем рассказал матери. Она заохала, закрестилась:
— Ах, господи! Кого мимо, а нашего отца всегда в рыло...
— Тятька уряднику грозил: «Царю пожалуюсь!»
— Нашел кому жаловаться! Царь-то из-за своего плетня все равно ничего не увидит и не услышит... А ты, Мишка, почему с отцом в лавочку не пошел? Ведь он сейчас с кем-нибудь схлестнется, водки напьется и спьяну-то к уряднику пойдет!
Торопливо одевшись, мать взяла меня за руку:
— Пойдем отца искать! Меня не послушается, так тебя постыдится и домой придет...
Мыпоспешили в лавочку. Лавочник оказался за прилавком. Мать робко спросила:
— Василий Иванович, мой мужик к тебе не заходил?
— Нет...
— Урядник его облаял и прибил. Другие мужики и не такое стерпят, а мой-то уж больно обидчивый да ершистый!
Лавочник шумно вздохнул:
— Значит, щука на ерша наскочила? Время-то больно жесткое: надо бы Ивану меньше ерепениться!
Мы с матерью вернулись домой ни с чем.
Ночью она почти не спала, несколько раз принималась молиться.
Мы ждали отца еще день и еще ночь и все напрасно.
Мать водила меня по родным и у них искала сочувствия:
— Иван пропал и весь капитал с ним! Двенадцать Рублев... Либо мужика ограбили и убили, либо сам в какой-нибудь омут кинулся!
Не все родственники нам сочувствовали. Сводный брат отца, тоже Иван, по прозвищу Лапша, встретил нас насмешкой:
— Или дурная скотина со двора убежала и пропала?
— Иван пропал...
Лапша головой покрутил:
— Ой, сколько же в Ваньке навозу-то! Подумать только: на урядника обиделся! Да урядник-то для кого старается? Святое дело делает: царю-багюшке служит...
Каждое слово Лапша сопровождал ударом падога в половицу: будто старался свои слова нам в головы вколотить:
— Урядник у нас смиренный, а то бы нагайкой, нагайкой, нагайкой!
Мать вздохнула:
— Не больно смирный: Ивана кулаком в рыло...
— В рыло? Мало, мало!..
Дед Герасим Кладов, лысоголовый, светлобородый, жирнощекий старик, елейно говорил:
— Твой Ванька в отца пошел и еще в деда. У тех разбойная кровь в жилах бунтовала, и у этого кипит. Огонь! Порох!.. Надо жить, как царь и бог велят: тише воды, ниже травы... Тихого мужика не токмо урядник — собака не облает. Эх, мне бы Ванькин талан и золотые руки! Я большой капитал бы сколотил...
Дед неожиданно прервал словолейство, схватил меня за подбородок и глубоко заглянул в глаза:
— Растешь? Отец-то у тебя гордыня!
Мне было обидно за отца, и я зло выкрикнул:
— А у тебя голова пестом!
Мать шлепнула меня по затылку:
— Ты что мелешь?
— А он зачем тятьку ругает?
Дед сделал вид, что не обиделся, ладонью по лысине провел:
— С моей головой жить способнее: дождичек посыплется — водичка с лысины на все стороны скатится. Ты, Мишка, с отца пример не бери... На-ка я тебе гостинчика дам!
И принес мне кусок конопляного жмыха:
— Ешь! Когда он горячий, из-под пресса, то объедение... Теперь-то, конечно, я жмыхом корову кормлю... Ты, Мишка, приходи ко мне на маслобойку, будешь лошадей по кругу гонять и горячий жмых есть!
Я был голоден и жевал сухой жмых с удовольствием. Ел и на божницу поглядывал. Там, на одной иконе, уряженной бумажными цветами, бог был такой же лысый, как и дед Герасим. Я осмелел и спросил:
— А почему у вас бог без волос? Наш с волосами!
Мать щипнула меня:
— Молчи! Ну что ты какой совкий?
Дед прикрикнул на мать:
— Чего ты на него шипишь? Дите хочет знать, и ему надо раскумекать. Бог-отец потому и лыс, что старый... Вот я старый и тоже лысый!
Я еще спросил:
— Ты, дедушка Герасим, скоро умрешь?
Он вздрогнул, посерел, нижняя губа отвисла:
— Ум-ру? Все умирают, и я когда-нибудь..*
Сравнив лысину деда и бога-отца, я сказал:
— Бог старее тебя и скорее умрет!
Дед вспыхнул:
— Вольница языкатая! Бог никогда не умрет, на то
он и бог, а не твой отец или не я!.. А ты, Анна, сына-то больше наставляй, не то в ересь впадет!
Я дерзко заметил:
— Раз бог никогда не умрет, так чего же он лысеет!
Мать схватила меня за воротник и буквально вытряхнула из дедушкиного дома:
— У-у, ветродуйское племя! Лезешь везде с язы-ком-то!..
От деда Герасима мы шли к сводной сестре отца — тетке Фешке Жильцовой, и я вспомнил о родительской Крови:
— Мам, почему у тятьки кровь разбойная?
— Что ты нынче выдумываешь?
— Не я, а дедушка Гераська сказал...
Мать отмахнулась:
— Да ведь он сам разбойник!
— Настоящий?
— А то какой же еще! Разбойник и все!
Я обрадовался: ни у кого из мальчишек нет в родне разбойников, а у меня есть!..
Мать продолжала:
— Твоя.бабушка говаривала, что половина наших майданских мужиков под рукой атамана Емельки Пугачева разбойничала. Емельку-то царица Катерина поймала и в Москве казнила: сперва руки отрубила, а потом — ноги и в последнюю очередь — голову. Тогда же наших мужиков-разбойников под конвоем в село пригнали и тут щипцами ноздри вырвали!..
Тетка Фешка нашу беду приняла близко к сердцу: обошла улицы и у многих спрашивала, не видели ли Ивана? Никто отца после сходки не видел.
Дед Михайла Тиманков, Бориска, дедушка Алексей Миклашин и Ганька Егранов ходили на пруды, в них отца искали, но безуспешно.
На четвертый день отец тоже не появился и мы пошли к уряднику.
Урядничиха нас в дом не пустила:
— Нашлепаете лаптищами-то! Сидите на крыльце и ждите...
И мы сидели долго-долго! Наконец урядник вышел: лицо красное, жаркое. Не взглянув на мать, спросил:
— Чего тебе надо?
Мать бухнулась на колени и меня за собой потянула:
но
— Мужик пропал! Как ты его на сходке острамил и по рылу кулаком стукнул, так с того часу домой глаз не кажет. Сделай милость, поищи!
Урядник посвистел, ногой поплясал:
— Если не умер, то найдется!..
Когда мы вернулись домой, то застали в избе полный разгром — будто Мамай побывал... Самовар, чашки, ложки, стаканы — все порублено, поколото, разбито, растоптано. Мать во весь голос завопила:
— Ка-ра-у-ул! Ка-ра-у-ул! Кто это сделал? Не отец ли?
На крик прибежали соседи и, как глянули на разбитую посуду, так и ахнули:
— Господи, что это такое?
— Ах ты, батюшки! Неужто кто вам мстит?
— Может быть, Иван Ильич с горя...
Дед Алексей Миклашин сбегал за урядником. Тот пришел быстро, посмотрел, какую-то бумагу написал и ушел.
Соседи посочувствовали, повздыхали и разошлись. Мать стала убирать битую посуду, но тут под окнами крикнули:
— Эй, хозяйка, принимай мужа!
Мать словно бумага побелела, ноги подкосились и упала! Я тоже завопил:
— Тятька! Тя-тень-ка!
Дверь открылась настежь, и в избу влез дьякон: он нес на руках отца:
— Не шумите, Иван Ильич жив и здоров! Я в Мам-леево ездил и там пропащего нашел: под забором лежал...
Мать поняла, что отец жив, и кинулась выворачивать его карманы:
— Все, что ли, денежки-то прокутил или с рублевку осталось?
Карманы оказались пустыми, и мать завыла:
— Под ко-рень ра-зо-ри-ил! Под корень...
Когда же отец немного очухался, мать спросила:
— При тебе были деньги... Хоть бы с рублевку оставил!
Отец вынул из-за пазухи деньги и отдал матери:
— Не ной, все целы! Эх, Анна, я словно шустрый воробей в клетке бьюсь, перья с меня летят, а на волю не вырвусь! И ты в этой клетке сидишь, да ее не видишь... Пусть мы бедные, незаметные, но ведь люди же! Люди, Анна, и ни библия, ни евангелие не велят урядникам бить мужиков, а нас словно собак лупят!
Мать обняла отца:
— Иванушка, я давно тебе толкую: смирись перед волей божией! Покорись! Кому что на роду написано испытать, то и будет... Без тебя какой-то разбойник нашу избу опустошил: всю посуду перебил и растоптал! Кто? Не твой ли братец Митрошка? А может, Аксинья? И с этим мирись: без воли божьей Митрошка или Аксинья не стали бы посуду крушить!
По щекам отца медленно поползли две крупные слезины:
— Всю жизнь по чужой воле живу: по божьей, по царской, по барской, поповской, урядниковской, Старостиной... Когда же я буду по своей-то воле жить? Эх, вырваться бы из этой клетки... Все брошу, в город уйду!
Мать не повысила голоса, а возразила тихо, смиренно:
— В городе не лучше! Вон Андрей Столбов сказывал, как люди без работы маются и голодают... В селе-то картошка своя, лебеда, грибы, а в городе хоть шаром цокати — укусить нечего: зубы на полку клади — все равно им без дела лежать!
— А ты, урядник, мной хоть пол мой, но мочалкой не обзывай!
От такой непочтительности урядник даже взвизгнул: —j Я тебе покажу «мочалку»! Марш в клоповник! В другое время кто-нибудь выдал бы Максима, а сейчас мужики продолжали хохотать: одни схватились за животы, корчились; другие — словно пьяные, держались друг за дружку, чтобы не упасть; третьи — иссме-явшись до изнеможения, бессильно опустились на землю и только выли:
— О-о-о-о-о-о-о!..
Мы с Лаврушкой спрыгнули с ограды и пошли за моим отцом. Урядник тащил его за рукав и ругал. Отец упирался и хрипел:
— Не пой-ду-у! Не своебышничай, а то царю пожалуюсь! Караул закричу!
Тут и я не сдержался и закричал во весь голос:
— Отпусти тятьку! Ка-ра-у-ул, урядник тятьку уводит!
Урядник ткнул отца кулаком в подбородок, да так, что зубы щелкнули:
— Марш домой! Не вздумай народ мутить, а то я тебя в Сибирь упеку!
Отец круто повернулся и пошел было к площади, но там были только старшина, староста и писарь — мужики разбежались. Отец опустил голову и зашагал к дому.
Максим Фадичкин стоял у угла своей избенки. Мы с Лаврушкой ожидали неприятного разговора, но вместо этого отец подошел и сказал:
— Спасибо, Максим Андреич, за выручку! За палец твой спасибо! Платили бы мы земским жуликам, а теперь они к нам не сунутся: казенный мост сами станут строить...
— Так-то оно так, но ты, Иван Ильич, один за мир пострадал!
Отец отмахнулся:
— Кому-нибудь надо и за правду страдать...
Сказав так, он направился в сторону лавочки Василия Трусова.
Я окликнул:
— Тять, ты куда?
Отец оглянулся:
— Чего-нибудь в лавочке куплю...
Я помчался домой и обо всем рассказал матери. Она заохала, закрестилась:
— Ах, господи! Кого мимо, а нашего отца всегда в рыло...
— Тятька уряднику грозил: «Царю пожалуюсь!»
— Нашел кому жаловаться! Царь-то из-за своего плетня все равно ничего не увидит и не услышит... А ты, Мишка, почему с отцом в лавочку не пошел? Ведь он сейчас с кем-нибудь схлестнется, водки напьется и спьяну-то к уряднику пойдет!
Торопливо одевшись, мать взяла меня за руку:
— Пойдем отца искать! Меня не послушается, так тебя постыдится и домой придет...
Мыпоспешили в лавочку. Лавочник оказался за прилавком. Мать робко спросила:
— Василий Иванович, мой мужик к тебе не заходил?
— Нет...
— Урядник его облаял и прибил. Другие мужики и не такое стерпят, а мой-то уж больно обидчивый да ершистый!
Лавочник шумно вздохнул:
— Значит, щука на ерша наскочила? Время-то больно жесткое: надо бы Ивану меньше ерепениться!
Мы с матерью вернулись домой ни с чем.
Ночью она почти не спала, несколько раз принималась молиться.
Мы ждали отца еще день и еще ночь и все напрасно.
Мать водила меня по родным и у них искала сочувствия:
— Иван пропал и весь капитал с ним! Двенадцать Рублев... Либо мужика ограбили и убили, либо сам в какой-нибудь омут кинулся!
Не все родственники нам сочувствовали. Сводный брат отца, тоже Иван, по прозвищу Лапша, встретил нас насмешкой:
— Или дурная скотина со двора убежала и пропала?
— Иван пропал...
Лапша головой покрутил:
— Ой, сколько же в Ваньке навозу-то! Подумать только: на урядника обиделся! Да урядник-то для кого старается? Святое дело делает: царю-багюшке служит...
Каждое слово Лапша сопровождал ударом падога в половицу: будто старался свои слова нам в головы вколотить:
— Урядник у нас смиренный, а то бы нагайкой, нагайкой, нагайкой!
Мать вздохнула:
— Не больно смирный: Ивана кулаком в рыло...
— В рыло? Мало, мало!..
Дед Герасим Кладов, лысоголовый, светлобородый, жирнощекий старик, елейно говорил:
— Твой Ванька в отца пошел и еще в деда. У тех разбойная кровь в жилах бунтовала, и у этого кипит. Огонь! Порох!.. Надо жить, как царь и бог велят: тише воды, ниже травы... Тихого мужика не токмо урядник — собака не облает. Эх, мне бы Ванькин талан и золотые руки! Я большой капитал бы сколотил...
Дед неожиданно прервал словолейство, схватил меня за подбородок и глубоко заглянул в глаза:
— Растешь? Отец-то у тебя гордыня!
Мне было обидно за отца, и я зло выкрикнул:
— А у тебя голова пестом!
Мать шлепнула меня по затылку:
— Ты что мелешь?
— А он зачем тятьку ругает?
Дед сделал вид, что не обиделся, ладонью по лысине провел:
— С моей головой жить способнее: дождичек посыплется — водичка с лысины на все стороны скатится. Ты, Мишка, с отца пример не бери... На-ка я тебе гостинчика дам!
И принес мне кусок конопляного жмыха:
— Ешь! Когда он горячий, из-под пресса, то объедение... Теперь-то, конечно, я жмыхом корову кормлю... Ты, Мишка, приходи ко мне на маслобойку, будешь лошадей по кругу гонять и горячий жмых есть!
Я был голоден и жевал сухой жмых с удовольствием. Ел и на божницу поглядывал. Там, на одной иконе, уряженной бумажными цветами, бог был такой же лысый, как и дед Герасим. Я осмелел и спросил:
— А почему у вас бог без волос? Наш с волосами!
Мать щипнула меня:
— Молчи! Ну что ты какой совкий?
Дед прикрикнул на мать:
— Чего ты на него шипишь? Дите хочет знать, и ему надо раскумекать. Бог-отец потому и лыс, что старый... Вот я старый и тоже лысый!
Я еще спросил:
— Ты, дедушка Герасим, скоро умрешь?
Он вздрогнул, посерел, нижняя губа отвисла:
— Ум-ру? Все умирают, и я когда-нибудь..*
Сравнив лысину деда и бога-отца, я сказал:
— Бог старее тебя и скорее умрет!
Дед вспыхнул:
— Вольница языкатая! Бог никогда не умрет, на то
он и бог, а не твой отец или не я!.. А ты, Анна, сына-то больше наставляй, не то в ересь впадет!
Я дерзко заметил:
— Раз бог никогда не умрет, так чего же он лысеет!
Мать схватила меня за воротник и буквально вытряхнула из дедушкиного дома:
— У-у, ветродуйское племя! Лезешь везде с язы-ком-то!..
От деда Герасима мы шли к сводной сестре отца — тетке Фешке Жильцовой, и я вспомнил о родительской Крови:
— Мам, почему у тятьки кровь разбойная?
— Что ты нынче выдумываешь?
— Не я, а дедушка Гераська сказал...
Мать отмахнулась:
— Да ведь он сам разбойник!
— Настоящий?
— А то какой же еще! Разбойник и все!
Я обрадовался: ни у кого из мальчишек нет в родне разбойников, а у меня есть!..
Мать продолжала:
— Твоя.бабушка говаривала, что половина наших майданских мужиков под рукой атамана Емельки Пугачева разбойничала. Емельку-то царица Катерина поймала и в Москве казнила: сперва руки отрубила, а потом — ноги и в последнюю очередь — голову. Тогда же наших мужиков-разбойников под конвоем в село пригнали и тут щипцами ноздри вырвали!..
Тетка Фешка нашу беду приняла близко к сердцу: обошла улицы и у многих спрашивала, не видели ли Ивана? Никто отца после сходки не видел.
Дед Михайла Тиманков, Бориска, дедушка Алексей Миклашин и Ганька Егранов ходили на пруды, в них отца искали, но безуспешно.
На четвертый день отец тоже не появился и мы пошли к уряднику.
Урядничиха нас в дом не пустила:
— Нашлепаете лаптищами-то! Сидите на крыльце и ждите...
И мы сидели долго-долго! Наконец урядник вышел: лицо красное, жаркое. Не взглянув на мать, спросил:
— Чего тебе надо?
Мать бухнулась на колени и меня за собой потянула:
но
— Мужик пропал! Как ты его на сходке острамил и по рылу кулаком стукнул, так с того часу домой глаз не кажет. Сделай милость, поищи!
Урядник посвистел, ногой поплясал:
— Если не умер, то найдется!..
Когда мы вернулись домой, то застали в избе полный разгром — будто Мамай побывал... Самовар, чашки, ложки, стаканы — все порублено, поколото, разбито, растоптано. Мать во весь голос завопила:
— Ка-ра-у-ул! Ка-ра-у-ул! Кто это сделал? Не отец ли?
На крик прибежали соседи и, как глянули на разбитую посуду, так и ахнули:
— Господи, что это такое?
— Ах ты, батюшки! Неужто кто вам мстит?
— Может быть, Иван Ильич с горя...
Дед Алексей Миклашин сбегал за урядником. Тот пришел быстро, посмотрел, какую-то бумагу написал и ушел.
Соседи посочувствовали, повздыхали и разошлись. Мать стала убирать битую посуду, но тут под окнами крикнули:
— Эй, хозяйка, принимай мужа!
Мать словно бумага побелела, ноги подкосились и упала! Я тоже завопил:
— Тятька! Тя-тень-ка!
Дверь открылась настежь, и в избу влез дьякон: он нес на руках отца:
— Не шумите, Иван Ильич жив и здоров! Я в Мам-леево ездил и там пропащего нашел: под забором лежал...
Мать поняла, что отец жив, и кинулась выворачивать его карманы:
— Все, что ли, денежки-то прокутил или с рублевку осталось?
Карманы оказались пустыми, и мать завыла:
— Под ко-рень ра-зо-ри-ил! Под корень...
Когда же отец немного очухался, мать спросила:
— При тебе были деньги... Хоть бы с рублевку оставил!
Отец вынул из-за пазухи деньги и отдал матери:
— Не ной, все целы! Эх, Анна, я словно шустрый воробей в клетке бьюсь, перья с меня летят, а на волю не вырвусь! И ты в этой клетке сидишь, да ее не видишь... Пусть мы бедные, незаметные, но ведь люди же! Люди, Анна, и ни библия, ни евангелие не велят урядникам бить мужиков, а нас словно собак лупят!
Мать обняла отца:
— Иванушка, я давно тебе толкую: смирись перед волей божией! Покорись! Кому что на роду написано испытать, то и будет... Без тебя какой-то разбойник нашу избу опустошил: всю посуду перебил и растоптал! Кто? Не твой ли братец Митрошка? А может, Аксинья? И с этим мирись: без воли божьей Митрошка или Аксинья не стали бы посуду крушить!
По щекам отца медленно поползли две крупные слезины:
— Всю жизнь по чужой воле живу: по божьей, по царской, по барской, поповской, урядниковской, Старостиной... Когда же я буду по своей-то воле жить? Эх, вырваться бы из этой клетки... Все брошу, в город уйду!
Мать не повысила голоса, а возразила тихо, смиренно:
— В городе не лучше! Вон Андрей Столбов сказывал, как люди без работы маются и голодают... В селе-то картошка своя, лебеда, грибы, а в городе хоть шаром цокати — укусить нечего: зубы на полку клади — все равно им без дела лежать!
• • •
 В ЭТУ НОЧЬ Я СПАЛ ХОРОШО, А УТРОМ ПРОСНУЛСЯ И ИСПУГАЛСЯ: МАТЬ СТОЯЛА У ПОРОГА С СУМОЙ НА ПЛЕЧАХ!
— Мам, ты не милостынки идешь собирать?
— Нет, сынок, до этого еще не дожили!
Отец озабоченно проговорил:
— В два конца — двадцать четыре версты! Туда-то еще так-сяк, а уж оттуда с ношей ухайдакаешься. Поедем на лошади?
Мать отмахнулась:
— Из-за этого-то пустяка Гнедка гнать и мучить? Я вон в какую даль — в монастырь пешей ходила, а тут рядом... Куплю чугуны, чашки, ложки...
У меня отлегло от сердца: оказывается, мать шла не милостыню собирать, а в город Лукоянов посуду покупать...
После ухода матери отец спустил с чердака железную печку:
— Зима с самого первого дня начинает злиться — будем печку топить!
Я вспомнил слова дедушки Герасима Кладова и спросил:
— Тять, у тебя кровь разбойничья?
— Кто тебе такое смолол? — изумился отец.
— Дедушка Гараська Кладов...
— Да почему же он так говорил?
— Не знаю. Он про кровь сказал, а мамка мне говорила, что наши мужики были в шайке Емельки Пугачева. За что им царица носы щипцами изломала. И твой дедушка в разбойниках был, и ему Катерина ноздри вырвала!
Отец невесело улыбнулся:
— Вон о чем разговор-то гйел! Был ли мой прадедушка у Пугачева — не знаю, а если и был, то в этом ничего плохого! Пугачев не разбойник...
Теперь мой черед пришел удивляться:
— Как не разбойник?
Отец долго молчал, только бровями шевелил и наконец ответил:
— Пугачев Емельян Иванович был мужицким царем. Помещиков вешал, чиновников. Попов тоже... Вот и думай, кем он был!..
Больше отец ни словечка не сказал и молчал, и молчал. Мне стало скучно, и я оделся и побежал к Фадич-киным.
Дома оказался только Максим. Он разбирал на столе куски хлеба и раскладывал их в разные решета. Я спросил:
— Это милостынки?
Максим слегка смутился:
—* Угу!.. Ты к Ефимке с Ванчей? Ищи в поле ветра! Они с матерью в село Чиргуши ушли. Как говорится: «Наши воробушки — на чужой сторонушке, но селам
ИЗ
летают — себе корм добывают». На-ка вот сухарик погрызи: такого ты еще, наверное, не едывал — чистый ситный!
Сухарь и вправду был вкусным и хрустел точно сахар.
Я несмело молвил:
— Мне тоже хочется милостыню собирать, но тятька не пустит!
Максим усмехнулся:
— «Собирать...» Об этом лучше не думать! Милостыню выпрашивать — нужно большое терпенье, а ваша порода гордая...
Я перебил:
— У нас разбойничья кровь. И еще кровь мужицкого царя Емельяна Ивановича Пугачева: он помещиков и попов вешал!
Испуганно озираясь, Максим прошептал:
— Ты, Мишка, если хочешь жить, никому о Пугачеве так не говори! Знаешь, а молчи, не то урядник схватит, в уездную тюрьму запрячет и там клещами язык вырвут! Понял?
Хотя я ничегошеньки не понял, но вспомнил, как бог у людей языки отнимает, и подумал: «Он, наверно, клещами-щипцами их рвет?»
А Максим, будто бы и не было разговора о Пугачеве, сказал:
— Я тоже иногда хожу милостыню собирать. Под окно подойду и жалобно тяну: «Подайте несчастному человеку милостынку Христа ради!» Хозяин дома из окна выглянет, бородой тряхнет и тявкнет: «Бог подаст!» Меня зло разбирает — готов хозяину-скупердяю в бороду плюнуть, но не шумлю, не хмурюсь, а низко кланяюсь и смиренно отвечаю: «Спаси тебя господь, хозяин!» Почему я так говорю? Если хозяин в этот раз не подал, то в другой раз может подать...
Дожевав сухарь, я побрел домой. Из трубы нашей избы валил дым. Значит, отец топил железную печку. Но почему дым желтый?
Прежде чем войти в избу, я прильнул глазом к окну: отец стоял на коленях и бондарным топором, точно секирой, рубил книгу и обрубки бросал в печку. Я присмотрелся: на книге блестел золотой крест... Меня.объял ужас: за такой проступок бог может в мелкие щепки разнести!
Чтобы спасти отца от верной гибели, я кинулся в избу и с порога крикнул:
— Тятька, лезь в подполье, там бог не найдет и Илья пророк не увидит!
Бросив в огонь остатки евангелия, отец сел на лавку и закурил.
Молчал долго, а потом тихо сказал:
— Если ты, сынок, кому-нибудь о сожженном евангелии скажешь, то больше меня не увидишь!
— Ты опять в Мамлеево убежишь?
— Не убегу, а меня, как зверя, на цепи в Сибирь поведут, будут голодом морить, работой томить, бить, и я издохну...
Это было, пожалуй, страшнее, чем молния, и я побожился:
— Пусть мой язык отсохнет, если кому скажу!
Отец поморщился:
— Я тебе и так верю: ты мой сын, моя кровь.
Я вспомнил разговор с Максимом и спросил:
— Если Пугачева называть нашим царем, то урядник может клещами язык вырвать?
— Если не урядник, так кто-то другой, а заставит замолчать!..
Больше отец ни единым словечком не обмолвился и до возвращения матери молча курил. Я тоже ничего не говорил. Он — не знаю почему, а я все удивлялся: «Почему бог тятьку не наказал? Почему не было ни молнии, ни грома?..»
Мать вернулась в сумерки, усталая, озябшая, и отец скорехонько ее раздел, разул и на печь отправил:
— Грейся, а потом будем ужинать!
От такого внимания мать расцвела, и я радовался: хорошо, когда отец с матерью в дружбе!
Развязав материну суму, отец стал из нее вынимать покупки: два чугунка, деревянную чашку, ложки, чайные чашки, каравай белого хлеба и селедину... Потом отец вынул еще три пачки махорки и расплылся в улыбке:
— Ну, мать, уважила ты меня! За это низко кланяюсь...
Мать пуще засияла:
—• Сынок, в кармане и тебе гостинец есть!
Я достал из кармана пряничного коня. Вот это был гостинец!
— Растешь. Пожалуй, пришло время тебе за дело браться!
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ОТЕЦ ЧТО-ТО ДОЛГО КО МНЕ ПРИСМАТРИВАЛСЯ, БУДТО ВИДЕЛ ПЕРВЫЙ РАЗ, И НАКОНЕЦ СКАЗАЛ:
Я тоже смерил себя взглядом и, чтобы казаться еще выше, приподнялся на носки:
— Ага, расту! Большой...
— Вырасти-то вырос, да пока большого ума не вынес!
Если так, то лучше сейчас же сделаться меньше, и
я опустился с носков на полную ступню. Отец же продолжал:
— Дело не в высоте, а в уме! Велика Федора, но дура, а мал золотник, но дорог... Тебе, Мишка, время учиться. В школу надо, а то останешься столбом с глазами. Но в школу пойдешь осенью, а пока сам стану тебя учить. Только надо азбуку купить: без нее ни читать, ни писать — она самая главная книга!
После этого разговора я побежал к Ваньке Дыдыкал-ке и похвалился:
— Меня тятька будет учить читать и писать, а осенью я в школу пойду! Только у нас нет пока главной книги — азбуки: без нее не научиться!
Ванька был болезненным заикой и поморщился:
— А у н-нас н-никто н-не у-умеет н-ни ч-читать, н-ни п-писать, и м-меня у-учить н-нек-кому!
Пришлось друга утешить:
— Ты не горюй! Вот я выучусь и тебя буду учить..,
Ванька повеселел и подсказал мне:
— Г-главную к-книгу к-купи у д-дяди к-кошатника!
Это была дельная подсказка!
Филипп-кошатник был самый уважаемый мальчишками человек. Он скупал тряпки, кости, рога, копыта, кошачьи, собачьи и заячьи шкурки, металлический лом...
Мальчишки старались как можно больше добыть этого «товара». Летом было хорошо — выручало скотское кладбище. Могилы на нем отрывались не глубокие: мужик кое-как зарывал павшую скотину, а остальное довершали звери. Они разрывали могилу, и тогда волки, собаки, птицы, дожди и ветры брали свое... Кости становились будто отшлифованными, промытыми, очищенными, и мальчишки набивали ими мешки.
Как и во всей тогдашней жизни, на кладбище разыгрывались конкурентные страсти. Из-за костей мальчишки часто дрались. Более сильные отнимали добычу у слабых, и эти плакали и жаловались взрослым. Взрослые затевали скандалы и даже, я хорошо помню, на глазах мальчишек устроили поножовщину!
Сельский староста запрещал нам ходить на кладбище, но запрет постоянно нарушался: добытчики рогового, костяного, копытного товара совершали набеги на запретную зону, набивали костями мешки, прятали их в соломе и в ямах до наступавшей субботы.
Этот день был радостным: Филиип-кошатник появлялся на нашей улице. Высокая, нескладная, мосластая, понурая лошадь, медленно передвигая ноги, тащила телегу. Лошадь была старой и ко всему равнодушной. Она шагала с опущенной головой, полузакрытыми глазами и отвисшей нижней губой. И сам Филипп тоже был человеком флегматичным, костлявым, медлительным. Передвигая ноги, он сонливо тянул:
— Кости, рога, копыта, тряпки, железки, кошачьи, собачьи шкурки примаю!
Заждавшиеся мальчишки горохом выкатывались и высыпали на улицу. Лошадь останавливалась и сразу засыпала: губа отвисала еще ниже и обнажались розоватые десны и крупные желтые зубы...
Филипп внимательно разглядывал предлагавшийся мальчишками товар. Оценив, к примеру, на глазок дохлую кошку, он бросал ее в телегу, доставал из рогожного куля мятые, слипшиеся карамельки, сушеные груши, глиняные дудочки и ими расплачивался. Предлагал и картинки великомучеников, пророков, отшельников и прочих угодников божиих. Показывал копеечной цены книжечки, но мальчишки от всего отказывались:
— Мы читать не умеем...
— Давай конфеток!
Филипп качал головой:
— Эх, темень-темнота!
Потом издавал глухой утробный звук «у-у-у-у», и лошадь трогалась. Расплачиваясь на ходу, Филипп кричал:
— Эй, дитята-ребята, едет повозка богата! Эй, кости, копыта, рога, кожи, железки примаю!
и?
Зимами костяной, роговой и копытный товары достать было труднее, и мальчишки подолгу накапливали тряпье, льняные и посконные очесы, железный лом...
Мне повезло! Я сложил в мешок осколки разбитых чугунов и худой самовар. Зарыл мешок в солому и стал ждать заветного дня.
В субботу я топтался возле избы — боялся прозевать кошатника. Он появился в полдень. На заснеженной улице показалась заиндевевшая лошадь и послышался простуженный голос:
— А вот рога, копыта, кости, тряпки, железки, собачьи и кошачьи шкурки примаю!
Я кинулся к стожку соломы, разрыл его, вытащил мешок и удивился: он оказался набитым под завязку! Я бы так и не узнал, почему мешок потолстел, но появился отец и сказал:
— Не зевай! Филипп может и уехать.
— Чтой-то мешок потолстел!
— Да я в него дедушкин мундир положил...
— Какой мундир?
— Солдатский. Дедушка давно умер, я мундир берег, но он истлел... Дед был храбрым: он болгар-братушек от турок освобождал! Дедом гордись: у него медаль была за бои на Шипке...
— А где эта Шипка?
— В Болгарии... Иди, иди, а то опоздаешь!
Мешок был очень тяжелым: он мотал меня из стороны в сторону, и я еле-еле дотянул его до подводы, и, задыхаясь, проговорил:
— Вот, дядя Филипп, возьми! Дай мне азбуку и конфет...
Кошатник высыпал мой товар себе под ноги, посмотрел его и довольно улыбнулся:
— Ого! За такой товар не жалко и уплатить! Вот все бы такое приносили.
Запустив руку в плетеный короб, Кошатник достал книжечку в нарядной обложке:
— Бери азбуку! Буки аз — счастье для нас... А может, святую картинку возьмешь? Есть «Сергий Радонежский чудотворец», «Усекновение главы Иоанна Предтечи», «Варвара Великомученица», «Кающаяся блудница»...
От картинок я отказался, но Филипп был навязчив:
— Возьми книжку: «Как львица воспитала царского сына»! Почитаешь — наплачешься...
Такую книжку я бы взял, но боялся, что Филипп не даст конфет. Поэтому-то я от книжек отказался:
— И царского сына не надо — карамельки лучше!
Зацепив из куля большую горсть конфет, Филипп
высыпал их в мой карман:
— Вот, брат, сколько я тебе отвалил!.. Ты чей будешь? Отца-то как зовут?
— Иваном Ильичом...
Филипп так и засиял:
— Вон что! Ну, брат, из уважения к твоему родителю — очень он справедливый мужик — дам тебе вот какую штуку...
И вынул из короба еще книжечку:
— Это «Конек-Горбунок»! Золотых денег стоит. В Питере и Москве барские дети читают и не нахвалятся, потому книжка умственность имеет!
Сказав так, Филипп побросал мой товар в сани, издал утробный клич и зашагал дальше:
— Эй, копыта, рога, кости...
Домой я бежал сломя голову, чуть через порог не упал и торжественно положил на стол две книжечки:
— Вот, азбука и про горбатого жеребенка!
Отец посмотрел книжки и сказал:
— Тебе, Мишка, грамота с полукона достанется: А, Б, В, Г, Д, Е... А вот когда я учился, так они были длинными: Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро... Ну ладно, я думал и придумал, как тебе азбуку в голову вдолбить! Давай-ка, брат, мы все буквы по-своему назовем, по-му-жицкому: А — амбар, Б — баран, В — вилы, Г — грабли, Д — дверь, Е ~ ель, Ж — жук...
Все эти предметы и строения я хорошо знал и потому за неделю буквы выучил, и отец стал со мной в азбуку играть:
— Ну-ка сложим слово «урядник»! Гляди: У — ухват, Р — рука, Я — ярмо, Д — дверь, Н — ножик, И — икона, К — козел... Вот и вышел у-р-я-д-н-и-к! Понял, сынок, в чем тут загвоздка-то? Теперь ты сложи слово «старшина»!
Эти слова-буквы я сам складывал: С*—, свинья,
Т — топор, А — амбар, Р — рука, Ш — шуба...
Отец радовался:
— Верно! Старшина и есть свинья! Только и делает, что по мужицким амбарам шастает, за рукава бабьи шубы тащит, за недоимку их продает.,»
В азбуку мы играли часто, и я как-то незаметно для себя научился читать. Однажды мать сказала:
— Уж хватило бы про лису с виноградом твердить! Почитал бы мне евангелие!
Отец спокойно ответил:
— Мишка учится читать по-русски, а евангелие написано по-церковному!..
Вспомнив о сожженном евангелии, я не на шутку испугался: вдруг мать вздумает на святую книгу взглянуть? Так оно и получилось. Мать протирала стекла на иконах и спохватилась:
— Эй, грамотники, а куда вы евангелие дели?
Я задрожал от страха, отец же ответил:
— Страннику отдал... Тот меня Христом-богом просил: дай, мол, евангелие — в народ веру господню нести! Я отдал: все равно оно у нас без дела лежало...
Хотя меня никто не спрашивал, но я в разговор ввязался:
— Странник на дедушку Михаилу Тиманкова похож: бородка сивенькая, жиденькая и нос тонкий, жесткий, словно деревянный...
Мать рассмеялась:
— Ты нос трогал, что ли?.. Эх, ветродуи! Странники всякие бывают: иной последнее с себя пропивает, и, может, тот странник наше евангелие шинкарке за шкалик отдал?
В ЭТУ НОЧЬ Я СПАЛ ХОРОШО, А УТРОМ ПРОСНУЛСЯ И ИСПУГАЛСЯ: МАТЬ СТОЯЛА У ПОРОГА С СУМОЙ НА ПЛЕЧАХ!
— Мам, ты не милостынки идешь собирать?
— Нет, сынок, до этого еще не дожили!
Отец озабоченно проговорил:
— В два конца — двадцать четыре версты! Туда-то еще так-сяк, а уж оттуда с ношей ухайдакаешься. Поедем на лошади?
Мать отмахнулась:
— Из-за этого-то пустяка Гнедка гнать и мучить? Я вон в какую даль — в монастырь пешей ходила, а тут рядом... Куплю чугуны, чашки, ложки...
У меня отлегло от сердца: оказывается, мать шла не милостыню собирать, а в город Лукоянов посуду покупать...
После ухода матери отец спустил с чердака железную печку:
— Зима с самого первого дня начинает злиться — будем печку топить!
Я вспомнил слова дедушки Герасима Кладова и спросил:
— Тять, у тебя кровь разбойничья?
— Кто тебе такое смолол? — изумился отец.
— Дедушка Гараська Кладов...
— Да почему же он так говорил?
— Не знаю. Он про кровь сказал, а мамка мне говорила, что наши мужики были в шайке Емельки Пугачева. За что им царица носы щипцами изломала. И твой дедушка в разбойниках был, и ему Катерина ноздри вырвала!
Отец невесело улыбнулся:
— Вон о чем разговор-то гйел! Был ли мой прадедушка у Пугачева — не знаю, а если и был, то в этом ничего плохого! Пугачев не разбойник...
Теперь мой черед пришел удивляться:
— Как не разбойник?
Отец долго молчал, только бровями шевелил и наконец ответил:
— Пугачев Емельян Иванович был мужицким царем. Помещиков вешал, чиновников. Попов тоже... Вот и думай, кем он был!..
Больше отец ни словечка не сказал и молчал, и молчал. Мне стало скучно, и я оделся и побежал к Фадич-киным.
Дома оказался только Максим. Он разбирал на столе куски хлеба и раскладывал их в разные решета. Я спросил:
— Это милостынки?
Максим слегка смутился:
—* Угу!.. Ты к Ефимке с Ванчей? Ищи в поле ветра! Они с матерью в село Чиргуши ушли. Как говорится: «Наши воробушки — на чужой сторонушке, но селам
ИЗ
летают — себе корм добывают». На-ка вот сухарик погрызи: такого ты еще, наверное, не едывал — чистый ситный!
Сухарь и вправду был вкусным и хрустел точно сахар.
Я несмело молвил:
— Мне тоже хочется милостыню собирать, но тятька не пустит!
Максим усмехнулся:
— «Собирать...» Об этом лучше не думать! Милостыню выпрашивать — нужно большое терпенье, а ваша порода гордая...
Я перебил:
— У нас разбойничья кровь. И еще кровь мужицкого царя Емельяна Ивановича Пугачева: он помещиков и попов вешал!
Испуганно озираясь, Максим прошептал:
— Ты, Мишка, если хочешь жить, никому о Пугачеве так не говори! Знаешь, а молчи, не то урядник схватит, в уездную тюрьму запрячет и там клещами язык вырвут! Понял?
Хотя я ничегошеньки не понял, но вспомнил, как бог у людей языки отнимает, и подумал: «Он, наверно, клещами-щипцами их рвет?»
А Максим, будто бы и не было разговора о Пугачеве, сказал:
— Я тоже иногда хожу милостыню собирать. Под окно подойду и жалобно тяну: «Подайте несчастному человеку милостынку Христа ради!» Хозяин дома из окна выглянет, бородой тряхнет и тявкнет: «Бог подаст!» Меня зло разбирает — готов хозяину-скупердяю в бороду плюнуть, но не шумлю, не хмурюсь, а низко кланяюсь и смиренно отвечаю: «Спаси тебя господь, хозяин!» Почему я так говорю? Если хозяин в этот раз не подал, то в другой раз может подать...
Дожевав сухарь, я побрел домой. Из трубы нашей избы валил дым. Значит, отец топил железную печку. Но почему дым желтый?
Прежде чем войти в избу, я прильнул глазом к окну: отец стоял на коленях и бондарным топором, точно секирой, рубил книгу и обрубки бросал в печку. Я присмотрелся: на книге блестел золотой крест... Меня.объял ужас: за такой проступок бог может в мелкие щепки разнести!
Чтобы спасти отца от верной гибели, я кинулся в избу и с порога крикнул:
— Тятька, лезь в подполье, там бог не найдет и Илья пророк не увидит!
Бросив в огонь остатки евангелия, отец сел на лавку и закурил.
Молчал долго, а потом тихо сказал:
— Если ты, сынок, кому-нибудь о сожженном евангелии скажешь, то больше меня не увидишь!
— Ты опять в Мамлеево убежишь?
— Не убегу, а меня, как зверя, на цепи в Сибирь поведут, будут голодом морить, работой томить, бить, и я издохну...
Это было, пожалуй, страшнее, чем молния, и я побожился:
— Пусть мой язык отсохнет, если кому скажу!
Отец поморщился:
— Я тебе и так верю: ты мой сын, моя кровь.
Я вспомнил разговор с Максимом и спросил:
— Если Пугачева называть нашим царем, то урядник может клещами язык вырвать?
— Если не урядник, так кто-то другой, а заставит замолчать!..
Больше отец ни единым словечком не обмолвился и до возвращения матери молча курил. Я тоже ничего не говорил. Он — не знаю почему, а я все удивлялся: «Почему бог тятьку не наказал? Почему не было ни молнии, ни грома?..»
Мать вернулась в сумерки, усталая, озябшая, и отец скорехонько ее раздел, разул и на печь отправил:
— Грейся, а потом будем ужинать!
От такого внимания мать расцвела, и я радовался: хорошо, когда отец с матерью в дружбе!
Развязав материну суму, отец стал из нее вынимать покупки: два чугунка, деревянную чашку, ложки, чайные чашки, каравай белого хлеба и селедину... Потом отец вынул еще три пачки махорки и расплылся в улыбке:
— Ну, мать, уважила ты меня! За это низко кланяюсь...
Мать пуще засияла:
—• Сынок, в кармане и тебе гостинец есть!
Я достал из кармана пряничного коня. Вот это был гостинец!
— Растешь. Пожалуй, пришло время тебе за дело браться!
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ОТЕЦ ЧТО-ТО ДОЛГО КО МНЕ ПРИСМАТРИВАЛСЯ, БУДТО ВИДЕЛ ПЕРВЫЙ РАЗ, И НАКОНЕЦ СКАЗАЛ:
Я тоже смерил себя взглядом и, чтобы казаться еще выше, приподнялся на носки:
— Ага, расту! Большой...
— Вырасти-то вырос, да пока большого ума не вынес!
Если так, то лучше сейчас же сделаться меньше, и
я опустился с носков на полную ступню. Отец же продолжал:
— Дело не в высоте, а в уме! Велика Федора, но дура, а мал золотник, но дорог... Тебе, Мишка, время учиться. В школу надо, а то останешься столбом с глазами. Но в школу пойдешь осенью, а пока сам стану тебя учить. Только надо азбуку купить: без нее ни читать, ни писать — она самая главная книга!
После этого разговора я побежал к Ваньке Дыдыкал-ке и похвалился:
— Меня тятька будет учить читать и писать, а осенью я в школу пойду! Только у нас нет пока главной книги — азбуки: без нее не научиться!
Ванька был болезненным заикой и поморщился:
— А у н-нас н-никто н-не у-умеет н-ни ч-читать, н-ни п-писать, и м-меня у-учить н-нек-кому!
Пришлось друга утешить:
— Ты не горюй! Вот я выучусь и тебя буду учить..,
Ванька повеселел и подсказал мне:
— Г-главную к-книгу к-купи у д-дяди к-кошатника!
Это была дельная подсказка!
Филипп-кошатник был самый уважаемый мальчишками человек. Он скупал тряпки, кости, рога, копыта, кошачьи, собачьи и заячьи шкурки, металлический лом...
Мальчишки старались как можно больше добыть этого «товара». Летом было хорошо — выручало скотское кладбище. Могилы на нем отрывались не глубокие: мужик кое-как зарывал павшую скотину, а остальное довершали звери. Они разрывали могилу, и тогда волки, собаки, птицы, дожди и ветры брали свое... Кости становились будто отшлифованными, промытыми, очищенными, и мальчишки набивали ими мешки.
Как и во всей тогдашней жизни, на кладбище разыгрывались конкурентные страсти. Из-за костей мальчишки часто дрались. Более сильные отнимали добычу у слабых, и эти плакали и жаловались взрослым. Взрослые затевали скандалы и даже, я хорошо помню, на глазах мальчишек устроили поножовщину!
Сельский староста запрещал нам ходить на кладбище, но запрет постоянно нарушался: добытчики рогового, костяного, копытного товара совершали набеги на запретную зону, набивали костями мешки, прятали их в соломе и в ямах до наступавшей субботы.
Этот день был радостным: Филиип-кошатник появлялся на нашей улице. Высокая, нескладная, мосластая, понурая лошадь, медленно передвигая ноги, тащила телегу. Лошадь была старой и ко всему равнодушной. Она шагала с опущенной головой, полузакрытыми глазами и отвисшей нижней губой. И сам Филипп тоже был человеком флегматичным, костлявым, медлительным. Передвигая ноги, он сонливо тянул:
— Кости, рога, копыта, тряпки, железки, кошачьи, собачьи шкурки примаю!
Заждавшиеся мальчишки горохом выкатывались и высыпали на улицу. Лошадь останавливалась и сразу засыпала: губа отвисала еще ниже и обнажались розоватые десны и крупные желтые зубы...
Филипп внимательно разглядывал предлагавшийся мальчишками товар. Оценив, к примеру, на глазок дохлую кошку, он бросал ее в телегу, доставал из рогожного куля мятые, слипшиеся карамельки, сушеные груши, глиняные дудочки и ими расплачивался. Предлагал и картинки великомучеников, пророков, отшельников и прочих угодников божиих. Показывал копеечной цены книжечки, но мальчишки от всего отказывались:
— Мы читать не умеем...
— Давай конфеток!
Филипп качал головой:
— Эх, темень-темнота!
Потом издавал глухой утробный звук «у-у-у-у», и лошадь трогалась. Расплачиваясь на ходу, Филипп кричал:
— Эй, дитята-ребята, едет повозка богата! Эй, кости, копыта, рога, кожи, железки примаю!
и?
Зимами костяной, роговой и копытный товары достать было труднее, и мальчишки подолгу накапливали тряпье, льняные и посконные очесы, железный лом...
Мне повезло! Я сложил в мешок осколки разбитых чугунов и худой самовар. Зарыл мешок в солому и стал ждать заветного дня.
В субботу я топтался возле избы — боялся прозевать кошатника. Он появился в полдень. На заснеженной улице показалась заиндевевшая лошадь и послышался простуженный голос:
— А вот рога, копыта, кости, тряпки, железки, собачьи и кошачьи шкурки примаю!
Я кинулся к стожку соломы, разрыл его, вытащил мешок и удивился: он оказался набитым под завязку! Я бы так и не узнал, почему мешок потолстел, но появился отец и сказал:
— Не зевай! Филипп может и уехать.
— Чтой-то мешок потолстел!
— Да я в него дедушкин мундир положил...
— Какой мундир?
— Солдатский. Дедушка давно умер, я мундир берег, но он истлел... Дед был храбрым: он болгар-братушек от турок освобождал! Дедом гордись: у него медаль была за бои на Шипке...
— А где эта Шипка?
— В Болгарии... Иди, иди, а то опоздаешь!
Мешок был очень тяжелым: он мотал меня из стороны в сторону, и я еле-еле дотянул его до подводы, и, задыхаясь, проговорил:
— Вот, дядя Филипп, возьми! Дай мне азбуку и конфет...
Кошатник высыпал мой товар себе под ноги, посмотрел его и довольно улыбнулся:
— Ого! За такой товар не жалко и уплатить! Вот все бы такое приносили.
Запустив руку в плетеный короб, Кошатник достал книжечку в нарядной обложке:
— Бери азбуку! Буки аз — счастье для нас... А может, святую картинку возьмешь? Есть «Сергий Радонежский чудотворец», «Усекновение главы Иоанна Предтечи», «Варвара Великомученица», «Кающаяся блудница»...
От картинок я отказался, но Филипп был навязчив:
— Возьми книжку: «Как львица воспитала царского сына»! Почитаешь — наплачешься...
Такую книжку я бы взял, но боялся, что Филипп не даст конфет. Поэтому-то я от книжек отказался:
— И царского сына не надо — карамельки лучше!
Зацепив из куля большую горсть конфет, Филипп
высыпал их в мой карман:
— Вот, брат, сколько я тебе отвалил!.. Ты чей будешь? Отца-то как зовут?
— Иваном Ильичом...
Филипп так и засиял:
— Вон что! Ну, брат, из уважения к твоему родителю — очень он справедливый мужик — дам тебе вот какую штуку...
И вынул из короба еще книжечку:
— Это «Конек-Горбунок»! Золотых денег стоит. В Питере и Москве барские дети читают и не нахвалятся, потому книжка умственность имеет!
Сказав так, Филипп побросал мой товар в сани, издал утробный клич и зашагал дальше:
— Эй, копыта, рога, кости...
Домой я бежал сломя голову, чуть через порог не упал и торжественно положил на стол две книжечки:
— Вот, азбука и про горбатого жеребенка!
Отец посмотрел книжки и сказал:
— Тебе, Мишка, грамота с полукона достанется: А, Б, В, Г, Д, Е... А вот когда я учился, так они были длинными: Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро... Ну ладно, я думал и придумал, как тебе азбуку в голову вдолбить! Давай-ка, брат, мы все буквы по-своему назовем, по-му-жицкому: А — амбар, Б — баран, В — вилы, Г — грабли, Д — дверь, Е ~ ель, Ж — жук...
Все эти предметы и строения я хорошо знал и потому за неделю буквы выучил, и отец стал со мной в азбуку играть:
— Ну-ка сложим слово «урядник»! Гляди: У — ухват, Р — рука, Я — ярмо, Д — дверь, Н — ножик, И — икона, К — козел... Вот и вышел у-р-я-д-н-и-к! Понял, сынок, в чем тут загвоздка-то? Теперь ты сложи слово «старшина»!
Эти слова-буквы я сам складывал: С*—, свинья,
Т — топор, А — амбар, Р — рука, Ш — шуба...
Отец радовался:
— Верно! Старшина и есть свинья! Только и делает, что по мужицким амбарам шастает, за рукава бабьи шубы тащит, за недоимку их продает.,»
В азбуку мы играли часто, и я как-то незаметно для себя научился читать. Однажды мать сказала:
— Уж хватило бы про лису с виноградом твердить! Почитал бы мне евангелие!
Отец спокойно ответил:
— Мишка учится читать по-русски, а евангелие написано по-церковному!..
Вспомнив о сожженном евангелии, я не на шутку испугался: вдруг мать вздумает на святую книгу взглянуть? Так оно и получилось. Мать протирала стекла на иконах и спохватилась:
— Эй, грамотники, а куда вы евангелие дели?
Я задрожал от страха, отец же ответил:
— Страннику отдал... Тот меня Христом-богом просил: дай, мол, евангелие — в народ веру господню нести! Я отдал: все равно оно у нас без дела лежало...
Хотя меня никто не спрашивал, но я в разговор ввязался:
— Странник на дедушку Михаилу Тиманкова похож: бородка сивенькая, жиденькая и нос тонкий, жесткий, словно деревянный...
Мать рассмеялась:
— Ты нос трогал, что ли?.. Эх, ветродуи! Странники всякие бывают: иной последнее с себя пропивает, и, может, тот странник наше евангелие шинкарке за шкалик отдал?
• • •
ВОЗВРАТИВШИСЬ ИЗ МОНАСТЫРЯ, МАТЬ БУДТО ПЕРЕМЕНИЛАСЬ: СТАЛА ПОЧЕМУ-ТО БЛАГОВОЛИТЬ К НИЩИМ, ПРОХОЖИМ И СТРАННИКАМ. Она зазывала их на ночевку, и отец помню, ворчал: — Самим жрать нечего, а ты гала-хов привечаешь! Мать отмахивалась: — Полно бога гневить! «Галахи...» И ты не волост ной старшина и не писарь, а такой же галах! Отец явно преувеличивал: ночевалыцики ели свой хлеб и только просили чаю. Но я тоже не понимал, зачем мать льнет к нищим, и спросил ее как-то об этом. Она ответила: — Так ведь они самые обиженные и униженные люди! Они обиженные, и мы тоже. Уразумел? Я ничего не уразумел, но сделал вид, что все понял. А нищих и странников в ту зиму у нас перебывало множество! Однажды в сумерки пришла старуха с младенцем. Назвалась Марфой из города Арзамаса. Я подумал, что она монашенка: в черной шали, черной поддевке, и младенец был завернут в черное одеяльце... Марфа разделась и оказалась в черном же сарафане. Это придавало ей какую-то строгость и особенную серьезность. Потому мы все к ней отнеслись особенно уважительно! Она распеленала младенца — здоровенького, белокурого мальчонку, чем-то напоминавшего маленького Христа. Мальчонка смотрел на нас доверчиво и лепетал: — Тяю! Тяю!.. Мать не поняла: — Чего ему? Марфа смущенно улыбнулась: — Нижегородский водохлеб чаю просит... Мать подогрела самовар и поставила его на стол: — Вот тебе, паренек, и чай! Марфа кивнула: — Благодарим! Сам царь к самовару почтение имеет. Перед императорским величеством все шапки снимают, а самовар, как загулявший мастер, шумит, свистит, поет и перед царем конфорку не снимает! Эти слова понравились отцу: — А ведь правда! Всякие там князья, графы перед царем готовы на одной ноге скакать, а самовар только попыхивает и почихивает... Мать смотрела, смотрела на младенца и спросила: — Как же ты, тетка Марфа, с таким дитем на мороз глядя ходишь? Ночевальщица ответила спокойно: — Эх, Аннушка, птицы небесные совсем крова не имеют, но ведь зимуют! И ветры буйные, и бураны злые, и морозы трескучие переносят, а живут и теплых дней ждут. И потому живут, что есть на что надеяться: без надежды и жизни бы не было!.. Вот и мы с Петенькой зимагорим: нынче у вас горяченького чайку попьем, завтРа — У других, а там и весны дождемся, и тогда нас каждый кустик ночевать пустит! Любопытная мать не выдержала: — Будто годами-то ты старая, а робенка носишь... Или бог наказал и на старости младенцем наградил?, Марфа неторопливо налила чай в блюдечко: — Мною не ношено, не рожено — ни отца, ни матери этого дитя не ведаю. На входных ступенях храма арзамасского Петеньку нашла. Лежал он запеленатый и плакал горько, истошно. Я пожалела — на руки взяла, и так мне стало хорошо, будто младенец-то мой! Прижала его к сердцу и думаю: «Не понесу в монастырский приют — возьму себе!» Так Петенька у меня и остался. Мать гневно проговорила: — Находятся же подлянки детей бросать! Таких матерей надо живыми в огне палить! Марфа ответила не сразу, подумала: — А я, Аннушка, не берусь судить! Возьми, к примеру, моего Петеньку: кто его мать? Наверно девица соблазненная, обманутая... Как же ей, бедной, с пригу-лышем жить? Заплюют, засмеют, затопчут, грязью забросают... Люди-то больно злы! И чего бы злиться? Родила и родила... Человека родила, и всем бы надобно радоваться, а не злобствовать. Мать-родительницу почитать, помогать ей, коли так уж случилось, человека растить!.. Петенькину мамку тоже бы затоптали, а теперь она, бог даст, замуж выйдет, и ее сыночек у меня вырастет! Вот так, Аннушка, я думаю: не судьей мне быть, а Петеньке мать заменить... Мать даже слезу пустила: — Тебе, тетка Марфа, за этого сироту бог грехи простит. Не каждая из нас, баб, чужого робенка приютила бы! Марфа отозвалась: — Где горе, там и радость живет! Вот вырастет мой Петенька, возмужает, станет мастеровым, и мне великую радость принесет... Мать от умиления роняла слезы: — Нет, тетка Марфа, что ни толкуй, а ты праведная! — Полно, Аннушка, пустословить-то! «Праведная...» Старуха я простая: по миру хожу — слушаю, гляжу и жизни радуюсь, хотя она и тяжелая, но все-таки жизнь! Она дороже всего... Мертвецу какие уж радости? Ему дай заработанный покой, а живому ох много всего надо! Отец весь ве^ер слушал и курйл: видимо, Марфа сильно его разволновала... Утром мать сварила Петеньке молочную кашицу. Это уж было щедростью. Отец просиял: — Ешь, парень, расти да будь таким же умным, как бабушка! И на мастерового учись: руками мастеровых мир держится... Марфа накормила найденыша и стала собираться: — По селам и деревням побродили, хлебом запаслись, а теперь пойдем в Арзамас. На родную-то сторонушку тянет и воронушку! Мать наказывала: — Очутишься в наших краях — в любое время заходи: тут тебе будет дом, тут и отдых! Проводив ночевальщицу за ворота, отец вернулся в избу и проговорил: — Экие умные бабы на свете есть! Каждое слово — рубль... Мать промолчала. ...Если Марфа была очень умной, то нищий Карпуш-ка оказался глуповатым. Он был посмешищем майдан-цев В отличие от других нищих, Карпушка сумы не носил, а подаяния распихивал по многочисленным карманам. Они были у него на груди, на боках, на подоле зипуна: красненькие, черненькие, зелененькие, желтенькие... К кому бы Карпушка ни заходил, первым долгом спра шивал: — Не у вас мой мешочек? Потехи ради хозяева вносили ворох мешков: — Гляди! Коль свой найдешь — забирай! Внимательно пересмотрев мешки, Карпушка вздыхал: — Нет, мой беленький, и в нем рупь лежит! Мать пригласила на ночевку и Карпушку. И кучу мешков принесла: — Выбирай, который на тебя глянет, тот и бери! Карпушка отпихнул ногой мешки: — Мой маленький, беленький... — Где же ты его потерял? — Я не терял! У меня его украли... И стал рассказывать, но сбивчиво и путано. Эту печальную историю я понял так. Родители послали Карпушку с односельчанами-богомольцами в Саровский монастырь и наказали: «Иди, помолись о даровании тебе ума-разума! Возьми вот этот мешочек: в нем каравай хлеба и рубль. Хлеб с луком и солью ешь, а на рубль купи свечей и перед мощами угодника божия Серафима поставь...» Карпушка благополучно добрался до монастыря и там, в огромной толпе богомольцев, потерял из виду односельчан. Тут к нему и пристал какой-то бродяга: «Ты пришел святым мощам поклониться?» Доверчивый Карпушка кивнул: «Ага! Мамка с тятькой велели у бога ума просить...» Мужик похлопал Карпушку по плечу: «Держись за меня — и бог даст ума! Видишь, куда богомольцы-то спешат? Иди и ты! Там найдешь монаха: он скажет, когда можно святым мощам поклониться и где земляков отыскать...» Карпушка видел, как в полуотворенные двери сновали туда и обратно богомольцы: мужчины — в одну дверь, а женщины — в другую. Спросил проходимца: «А там что?» — «Там монах богомольцев принимает и благословляет. Оставь тут мешочек и иди к монаху!» Карпушка положил мешочек на лужайку и устремился вслед за мужчинами-богомольцами в приоткрытую дверь, но вместо приемной очутился в монастырском нужнике. Почувствовав неладное, Карпушка кинулся обратно, но ни проходимца, ни белого мешочка уже не было... Забоявшись родительского гнева, Карпушка домой не вернулся и начал искать свой мешочек по селам и деревням Нижегородской и Пензенской губерний. Потому и нищенской сумы не заводил: «Зачем она? Я свой мешочек найду!» За ужином мать спросила: — Карпушка, а что если я тебе сошью маленький беленький мешочек? Пойдешь домой? Мать, поди, все слезы по тебе выплакала! Подумав, Карпушка согласился: — Ладно, давай мешочек! А рупь? Мамка за него голиком выпорет! — Скажи, что на рубль купил свечей и к мощам поставил.., Я не стерпел и укорил мать: — Зачем ты научаешь его обманывать? Грешно! Мать смутилась: — Грешно!.. И рукой махнула: — Бог простит! Мой обман всем на пользу... Вечером же мать сшила белый холщевый мешочек, и утром Карпушка ушел. Больше он в нашем селе не появлялся... А один раз у нас ночевала хромоногая, еще совсем молодая нищенка Анфисьюшка. У нее было обезображенное, все в шрамах лицо. Мать, конечно, не преминула обо всем расспросить-разузнать: — Отроду такая страшная, или беда случилась? Нищенка покраснела и от этого стала еще безобразнее: — Нет, тетенька, я раньше была хорошей, а замуж вышла и... Первое-то время мы с мужем ладно жили, а потом — беда! Чем-то я свекрови не угодила, и она меня возненавидела: "начала сыну нашептывать — жена, мол, у тебя ведьма! Муж спросил меня: правда ли? Я икону целовала, в Саровский монастырь ходила — к мощам угодника божия прикладывалась... Разве ведьма такое могла делать? Мужу не надо было наговоры матери слушать, а он уши распустил и... На пасху пьяным напился, стал озоровать и меня бить. Уж ладно бы кулаком — к этому бабы привыкшие, — а то повалил на пол да пинками в живот! Табуреткой правую ногу перебил и все кричал: «Сознавайся, что ты ведьма!» А тут свекровь — тоже пьяная — ко мне с иконой подступила: «Целуй богородицу!» Я икону целую, а свекровь то ли нарочно, то ли спьяна упала и иконой-то меня по лицу! Стекло разбилось, и вот щеки, губы — словно ножами изрезало... Год я прохворала. У родимого батюшки лежала. Когда поднялась, то стала учиться ходить... Работницы из меня не вышло. У отца семья большая — только хлеба .припасай, а уж я-то, конечно, ломоть отрезанный, и кормить меня некому... Правда, муж, видимо, одумался, хотел было меня к себе взять, но глянул, какова я, и отказался: на что ему такая жена? Отказаться — отказался, а совесть-то грызла, как-то напился пьяным да в своей избе и повесился! Так я теперь и хожу, Христовым именем кормлюсь, и нету у меня ни крова, ни пристанища, ни затулья, ни притулья... Мать вздыхала, тихонько плакала, а после ужина спросила: — У дохтора была ли? Нищенка горько улыбнулась: — Полно, тетка, разве я дохторам нужна? Чай не! барыня! ] Мать села прясть. Я видел, чувствовал, что ей хочетЛ ся сказать этой несчастной уродице что-то доброе, ласко-! вое. Так оно и вышло: положив на прядильное донце веретено, мать полураспевом заговорила: — Ты, бабонька, послушай-ка меня: может и пригодится! Моя бабушка сказывала, будто жила в селе Шу-тилове девка Катеринка. Сперва-то она барских гусей пасла и ее никто не замечал — маляткой была! Потом стала взрослым помогать в поле работать, но и тут ее не замечали: мало ли девчонок в поле работает! Подросла Катеринка, и ее как-то сразу все увидели: уж такой-то она красавицей оказалась! Высокой, стройной, как сосеночка, что в большом бору к небу тянется. Волосы у Катеринки темные, в две тяжелых косы уложены. Черные брови стрелками разлетелись. А глаза... Э, да что там о глазах говорить: таких в нашей округе еще никто не видывал — карие, жгучие, и как глянет — будто солнечными искрами брызнет. Лицо у Катеринки белое, а щеки — румяной зорькой разливались! А какой у Катеринки был голос! Соловей в роще запоет — за сердце берет, а Катеринка пела — сердце и разум в полон брала. В хороводе никто так не танцевал, как она. Видела ли ты, Анфисьюшка, как осенью лист с высокого клена падает? Кружится, кружится, к солнышку то одной, то другой стороной повернется, золотыми уголками блеснет и опять вверх поплывет — не хочет на землю опускаться. Вот и Катеринка так: в танце закружится, на парня глянет и будто солнечным лучом осветит. Девушкой не только люди любовались, но и светлый месяц и яркие звездочки с вечера до утра на красавицу заглядывались... О красоте Катеринки дозналась помещица и пожелала своими глазами мужицкую дочь увидеть. Прислала за Катеринкой холопа: барыня, мол, велит придти! Дело подневольное, и Катеринке пришлось на зов барыни бежать... Прибежала, а помещица как на нее глянула, так будто в лихоманке, затряслась! Катеринка испугалась: «Матушка-барыня, что с тобой?» Помещица за голову схватилась: «Меня хворь мучает...» Катеринка у порога стояла, а барыня на нее во все глаза глядела. Вот бары-ня-то и говорит: «Слыхала я, что ты умеешь красиво вышивать? Сейчас мне свое мастерство покажешь!» Слуга принес холст, нитки, иглу, и Катеринка на пороге села вышивать. Иглой по холсту прошлась — голубое небо обозначилось. Еще раз прошлась — луг зазеленел, а на нем ромашки, васильки, колокольчики... Помещица на Катеринку нагляделась и змеей подколодной затаилась. Хотя Катеринка и была подневольной, а так, с бухты-барахты, тоже и помещица ничего не могла сделать: шутиловские мужики к тому времени стали злыми, чуть что — и бунтовать! Долго помещица думала и придумала, змея ядовитая! Пошли девушки в лес по землянику. Меж деревьев и кустов разбрелись и стали ягоду собирать. Ходили-ходили и набрали полные кузовки земляники и стали домой собираться. Огляделись и удивились: Катеринки-то нет с ними. Стали ее звать: аукали, кричали, но подружка не отозвалась. Два дня всем селом Катеринку в лесу искали и нашли в трущобе, в глубоком овраге. Нет, Катеринка не заблудилась! Собирала она землянику и не слышала и не видела, как помещичьи слуги подкрались. Схватили Катеринку, рот тряпкой заткнули, руки-ноги веревкой связали, а потом в трущобу притащили и ножами искололи и изрезали лицо. Помещица своего добилась! Катеринка очнулась от ласковых рук матери и заплакала. Отец утешал, подруги утешали, да разве можно остановить горькие девичьи слезы? Так бы навек и осталась Катеринка уродицей, да добрый человек помог. Был он пасечником и знал все целебные травы да росы. Вот пасечник-то и сказал Кате-ринке: «Не кручинься, девка, помогу! Пройдут осень с зимой, и ты опять красотой засияешь». И вот прошла осень ненастная да хмурая, прокатилась зима холодная, и наступила весна долгожданная. Заиграло солнышко лучистое, засверкали озера и ручьи серебристые, зазеленела травушка-муравушка, запестрели на лугах цветы. Пришел к Катеринке тот пасечник и сказал: «Делай, как я велю! Тридцать дней ты вставай рано-ранешенько, когда роса на* цветы ложится и солнышко готовится на землю взглянуть. Спеши в луга зеленые, собирай с цветов росу и ею умывай лицо. Ночами же прикладывай к щекам вот эту лесную травку!» Катеринка послушалась пасечника: ночами к щекам прикладывала травку лесную, а утрами вставала до зари, бежала в зеленые луга, собирала с цветов росу и умывала ею лицо. Прошла весна. Отцвели цветы, и Катеринка пуще прежнего красотой засияла. Поклонилась она пасечнику земно и побежала к подругам в хоровод. Мужики, бабы увидели ее, и кто как был, так на том месте от изумления и застыл. Всех девичья красота покорила. А подруги вокруг Катеринки мотыльками запорхали и веселый хоровод повели... Услыхала о таком чуде помещица да сама к девичьему хороводу тайно пробралась, на Катеринку глянула и так со зла зубами скрежетнула, что половина их будто горох изо рта высыпалась. Она, может, и еще бы раз Катеринку изуродовала, да к тому времени мужиков от барской крепости-неволи освободили, и у помещицы стали руки коротки! Вот, Анфисьюшка, что о девушке Катеринке моя бабушка сказывала. Видимо, человеческую-то красоту ничем не убьешь... Мать пристально глянула на нищенку: — И тебе бы такого доброго человека, как тот пасечник, найти! Анфисьюшка задумчиво отозвалась: — Гоже бы, да где его возьмешь? Я понимал, зачем мать говорила неправду. Неправда могла утешить Анфисьюшку... • • • ВОТ ТАК И ПРОШЛА ЭТА ОСОБО ЗАПОМНИВШАЯСЯ МНЕ ЗИМА. Когда же наступила весна, я внезапно заболел. В этом был виновен Митряев Васька — злой задира, забияка, не могущий дня прожить без драки. Так вот, в конце марта я выбежал на улицу. Было гихо, солнечно, тепло. Радуясь весне, в небе с криками кружились стаи галок, отчаянно скандалили воробьи, и куражились вороны. Мне тоже хотелось петь и дурачиться, но я увидел большую группу мальчишек возле дома Митряева Андреяна. Я подбежал к ним и увидел пар-нишку-нищего. Он стоял на коленях, а Васька Митряев нагибал его голову и тыкал лицом в лужу: — Крестись! Умывайся! Крестись в Христову веру! Крестись! Парнишка ладонями закрывал уши и плакал. На мокром, грязном снегу лежала сума и возле нее растоптанные Васькиными сапогами куски хлеба и две вареные картофелины. Я крикнул:
 — Васька, ты за что так нищего-то?
—■ Пусть не дразнится! Я сказал: «Бог подаст!», а этот галах мне показал язык...
Тут я вспомнил, что говорил о себе Максим Фадич-кин: хозяин, мол, нищего к богу посылает... Мне стало жаль нищего мальчишку, и я пригрозил Ваське:
— Тебя за нищего бог покарает!
129
5 М. Суетное
Васька захохотал:
— За кого? За этого мордвиненка? Ха-ха-ха-ха!
И опять он начал тыкать парнишку лицом в воду:
— Крестись, мордвиненок, крестись в православную веру!
Я не сдержался. Размахнулся и хватил Ваську кулаком в лицо. Мучитель брякнулся в воду. Мальчишки зашумели:
— И ты, Васька, крестись!
— Крестись, раб божий!..
Воспользовавшись замешательством, нищий схватил суму и убежал. Можно бы и мне убежать, да не хотелось праздновать труса перед каким-то Васькой. Он поднялся, втянул голову в плечи и сжал кулаки:
— Это ты, голь лохматая, меня ударил? Ты?
— Я!
— Вот тебе защитничек мордвы!
Васька что есть силы ударил меня в ухо. Я не удержался и тоже в лужу полетел. Ледяная вода мгновенно залилась за воротник, за пазуху, в лапти, и будто железом меня сковала. А Васька хотел еще пнуть сапогом, но поскользнулся на раздавленной картофелине и плюхнулся на меня. Хотя и он был мокрым, но не вскочил, а схватил меня за уши и ну бить головой о подтаявший лед:
— Крестись, крестись, крестись! Еще! Еще! Еще!
Я захлебывался и цепенел. Мальчишки пытались стащить с меня Ваську, но он отбивался каблуками и кое-кому расквасил нос. Наконец Ваське, видимо, надоело меня полоскать:
— Моли бога, что я по-настоящему не рассердился, а то бы уши тебе откусил и в воду выплюнул!..
Домой меня привели мальчишки. Я не помню, что они сказали родителям, но мать схватила утиральник и скрутила его в толстый жгут:
— Я тебе, щенок, покажу драку! Под отцовским-то крылом совсем развольничался...
Мальчишки испуганными воробьями вылетели из избы.
Отец встал между мной и матерью:
— Цыц, не бить! Я сказал, чтобы ты сына не касалась и не моги касаться!
Мать пошла на отца:
— Как ты сказал? Сына не касаться? По какому т?
кому праву? И что это еще за «цыц»? Я тебе не собака, чтобы на меня цыцкали! Я Мишку родила, и моя воля, что с ним делать: то ли по плечам колотить, то ли по спине молотить...
Мать толкнула отца в грудь:
— Отойди! Дите учат, пока оно поперек лавки лежит, а когда вдоль растянется, будет поздно учить...
У отца сделались злющими глаза:
— Каждую минуту бога вспоминаешь, а от божьих дел рыло воротишь!
Мать опешила:
— Я ворочу рыло? Говори, говори! Раз уж замахнулся, то бей! Говори!
— И скажу! Мишка за нищего, за мордвиненка, за сиротку заступился, а ты...
Мать взмахнула жгутом:
— Нищий-то был и сплыл, а мы с Андреяном Мит-ряевым рядом живем и ему, как волку, подвываем. Не дери носа, скоро опять к Андреяну побежишь пудик мучки взаймы просить!
Отец отнял у матери утиральник:
— Надоело! Надоело волкам подвывать!.. Лезь, Мишка, на печь!
Я забрался на печь, там согрелся и уснул. Когда же проснулся, то подняться уже не смог: на правый бок будто сто пудов навалилось, рука не поднималась, и такой кашель открылся, что я от него не только взмок, но, наверно, посинел и задыхался!
Теперь мать забеспокоилась:
— Ах, господи, недаром утром наша пестрая курица петухом кричала! Она, холера бы ее взяла, беду накри-кивала... А может, Васькин отец на тебя хворь напустил?
— Разве дядя Андреян колдун — опасливо покосился я на мать.
— Душу дьяволу не продавал, а над нечистой силой власть имеет. Годов пять тому назад он к масленице медовуху готовил, а дьявол через горловину в бочонок и заберись! Начал бражничать, захмелел и ну шуметь... Андреян услышал и скорым крестом горловину-то бочонка осенил. Дьявол туда-сюда и никуда! Стал Андреяна просить: «Выпусти, хозяин, из бочонка, и я тебе полную шапку золота насыплю!»
Другой, может, и соблазнился бы на золото, но Анд-оеян расчетлив и не согласился: «Знаю я вашу повадку!
Пока деньги в шапку сыплете — они золотые, а потоь^ становятся глиняными черепками. Не хочу золота, а бу^ дешь у меня в батраках: в безветренные дни крылья моей;! мельницы вертеть, и еще будешь делать все, что я за-!! хочу!» ;
Пришлось дьяволу на вечную кабалу согласиться и! своей поганой кровью на евангелии расписаться... Вот! он, сынок, Андреян-то какой, а ты на его сына руку поднял!
Я спросил:
— А что же дьявол от Андреяна не убегает? Не стал бы ночами мельничныекрылья вертеть...
— Дьявол-то и хотел бы, да убежать не может: дал Андреяну страшную клятву и подписку — если убежит, то разорвется на мелкие кусочки! Куда полетят крылья, куда — рога, куда — копыта, куда — хвост... Сказывают, что дьявольская клятва самая верная...
Да ты не удивляйся! Не один Андреян Митряев дьявола в батраках держит! У нас, помню, был пастух мирского стада — Степаном звали. Уж не молодой: волосы с проседью и борода с изморозью.... Он, бывало, коров в поле накормит, напоит и грязь с них очистит — все стадо словно мытое ходило. Бабы тогда толковали: коровы, мол, Степана возлюбили за его кроткий характер и, словно дети малые, слушаются! Подумать только, в десяти шагах от посевов ходили, а не трогали... И ведь вот что было дивным-то: пастух на коров не кричал, кнутом не грозил, а только глазами показывал, куда идти...
И вот однажды я шла из леса — по орехи бегала — и сильно притомилась. Сняла с себя мешок-то и на дорожной бровке прилегла. Лежу, коровье стадо вижу и пастуха Степана тоже, но вот чудо-то какое: когда коровы на посев овса двинулись, им навстречу, словно собаки, тринадцать дьяволов запрыгали: бросаются, коров за ноги кусают и хвостами по спинам хлещут...
В тот вечер как раз наша очередь была пастуха кормить. Степан пригнал в село стадо и к нам в избу: «Пришел ужинать!» Я собрала ему поесть, да и говорю: «Дядя Степан, ты не колдун, не волшебник — богу молишься, а как же дьяволами-то распоряжаешься? Я видела: у тебя их тринадцать молодчиков подпасками бегают и коров кусают!»
Степан ничего не сказал, а поужинал, помолился и ушел. Утро наступило, надо коров в стадо гнать, а пастуха нет! Пришлось другого нанимать, но такой заботы о коровах он уже не имел...
Повздыхав, мать руками развела:
— Чем и .как тебя от болести выхаживать, ума не приложу! Если святой водой сбрызнуть и напоить?..
Мать налила в ковш крещенской воды и положила в нее три уголька:
— Во имя отца и сына и святого духа!.. Слышишь, Мишка, как вода-то закипела? Значит Андреянов наговор тебя свалил!.. Давай-ка поворожим, может, и выворожим болесть-то... «Матушка, святая вода, обмываешь ты круты берега, желтые пески, бел горюч камень, тушишь огненный пламень — все гасишь своей быстриной — золотой волной. Обмой-ка ты с младенца Михайлы, все хит-ки и притки, уроки и призоры, скорби, печали и хвори, щипоты и ломоты, злую худобу; понеси-ка, матушка святая вода, своей быстриной — золотой волной эти хвори в чисто поле, в окиян-море, за высокие горы, за топучие грязи, за пески сыпучие, за болота зыбучие, за темный лес, за осиновый тын...»
Мать набрала в рот воды и побрызгала на мое лицо. Потом напоила меня из ковша и встала на колени перед иконами:
— Богородица — владычица небесная, упаси и сохрани сына моего Михайлу! Матерь божия, заступница наша перед господом, помоги больному. Заступница благодатная, отведи от нас беду и слезы. Пречистая приснодева, богоизбранная представительница наша, присноблаженная невеста неневестная, моли сына своего о нас, и обо мне, тяжелой бабе, не забудь! Ты же, матушка, сама такой ходила...
Хотя меня морила дремота и слабость, я в оба уха слушал молитву и, когда мать кончила молиться, спросил:
— Почему богородица неневестная дева? Она, что ли, взамуж не вышла?
— Нет, сынок, она была замужем! За восьмидесятилетним плотником Иосифом. Родила сына и девушкой осталась...
Я много раз слышал бабьи разговоры: в них родивших девок называли «гулящими». Теперь я сказал:
— Богородица была гулящей!
Несмотря на тучность, мать быстро поднялась, в гневе забыла о моей болезни, дернула меня за вихор:
— Ду-рак! Богородица от бога-духа сына принесла!
_ Какого духа?
— Как это какого? Есть бог-отец, есть бог-сын и есть бог-дух...
— Мам, а в отце с сыном нет духа?
— Еще раз дурак! Они живут троицей...
Чтобы не гневить мать, я ее больше ни о чем не расспрашивал, но так тогда и не понял, почему богородицу, родившую не от мужа Иосифа, нельзя назвать гулящей? Не понял я и Троицу: зачем появился бог-дух? Да ведь и отец и сын — духи, а что же бог-то дух? Он еще тоньше, что ли?..
Крещенская вода не помогла, и тогда мать опустила в нее десять веретен и этой «веретенной» водой, или настойкой, меня напоила.
Веретенная вода тоже не помогла!
Мать приволокла на печь оральный хомут Гнедка:
— Ну-ка, Мишка, пролезь через хомут! Мы думаем да гадаем, чем тебя лечить, а может, хомут-то и будет пользительным?
Я было заартачился, но мать настояла:
— Пролезай, пролезай! Если хомут не поможет, то и вреда не сделает.
Хомут тоже исцеления не принес.
И тогда мать спохватилась:
— Ну и память стала дырявой! Совсем забыла: если кто на тебя порчу нашлет, надо походить спиной вперед и все пройдет. Ну-ка, сынок, слезай с печи и походи немножко!
Пришлось спиной вперед ходить, но и такое хождение мне не помогло...
Обескураженная мать загоревала:
— Господи, за что нас караешь? Одного сына ты к себе взял и за другим руки тянешь? Неужто мы больше Андреяна Митряева грешим? Чем же он тебя ублажил? Чем? Вон у него сын-то какой мордастый, словно поросенок закормленный!.. Если тебе, господи, Андреян толстые свечи ставит, так ты разберись: на какие деньги они куплены? Андреян помольщиков обманывает, да еще дьявола в батраках держит, а ты греховоднику потакаешь!..
Отец тоже пал духом:
— Что делать? В больницу бы, да ведь такого хворого разве довезешь? Дорога трясучая, колдобоинная —и у здорового все внутренности отобьет... А если довезу? Доктор положит ли в больницу-то? Скажет, что мест нет, и тогда...
От этих разговоров, охов, вздохов, жалоб на жизнь, я чувствовал себя все хуже и хуже и стал думать, что все равно умру! Хотя я и помнил, что души праведников уносят в рай и там краснобокими яблоками кормят, умирать не хотелось.
Как-то в избе я остался один и прямо на печи стал на колени и начал молиться:
— Господи, я не хочу умирать! Не хочу в рай. И красных яблок не хочу. Ничего мне не надо! Господи, не зови меня к себе! Пожалей тятьку с мамкой: если я умру, то кто будет их кормить? Ты думаешь, что мамка еще кормильца принесет? А если девчонку?.. Господи милостивый, исцели мой бок! Исцели, ты же сильный и все можешь!
И вот когда я молился и в упор, не мигая, смотрел на иконы, мне показалось, что с божницы сошла богородица, но сразу же и вернулась на прежнее место. Серафим Саровский даже не пошевелился, а вот медведь прыгнул с божницы на пол...
Больше я ничего не помню: меня свалило беспамятство.
Когда я очнулся, то боль в боку стала невыносимой, и я закричал:
— Ой, умираю! Ой!
Я с ненавистью стал разглядывать угрюмо-безразличное лицо бога, отвернувшегося к медведю Серафима, и посматривающую на своего толсторукого и толстоногого младенца богородицу. Я не закричал, а зарычал:
— Не хотите исцелять? Не хотите? А я знаю, почему не хотите: вас нету! Вас маляр на досках нарисовал, а так вас нет! Совсем нет. Об этом тятька знает: вас нет!
Вошла мать, не разобрала, в чем дело, и сказала:
— Лежи, сынок, лежи! Отец побежал за фершалом: он через наше село в Лукоянов едет...
И верно, скоро в избу торопливо вошел востроглазый человек и поднялся ко мне на печь:
— Лежишь, драчун? За слабого заступился? Мо-ло-дец!
Мать сердито проговорила:
— Молодец-то он молодец, да против такого молодца нашлась палка в два конца! Связался драться с мельниковым сыном, а мельник-то на человека может любую хворь напустить...
Отец покраснел:
— Полно, мать, свою темень перед ученым человеком показывать!
Фельдшер тоже сказал:
— Все это, хозяюшка, глупости! Не-ве-жест-во!
Приставив к моей груди красивую трубку, он стал
командовать:
— Не дыши! Дыши! Глубже дыши! Вдохни и задержи воздух в легких. Покашляй!
Отец с тревогой ждал слова фельдшера, и тот наконец сказал:
— Воспаление легких у вашего мальчика! В больницу бы надо, да мест нет. Ладно, хозяин, лечи сына по-дедовски: деды наши кое-что знали... Вытопи печь...
Фельдшер ушел. Отец истопил печь, выгреб и вымел из нее угли, золу и под печи застлал соломой. Взял меня на руки и помог лечь на эту солому. В печи было очень жарко, и я боялся заживо изжариться, но отец завалил меня соломой. Я исходил горячим потом, но не обжигался!
Часов у нас не было, и я не знаю, сколько времени пробыл в печи, но вот отец вытащил меня из нее и опустил в кадушку с теплой водой. Отмыл сажу, золу, пот и уложил на печи. Укутал разными одежками и напоил чаем с сушеной малиной. Я сразу уснул и проспал остаток дня и еще всю ночь, а утром проснулся и почувствовал себя бодрым. Мать начала мне внушать:
— Сам человек ничего не придумывает: ему в голову мысль бог посылает! Вот и фершалу бог мысль послал: посоветуй, мол, Мишку в печи попарить... И мне тоже бог мысль послал: ты, мол, крещенской-то воды не жалей — влей ковшичек в кадушку! Бог тебе, Мишка, помог Андреяново напущение снять...
А днем со мной говорил отец:
— Понял, сынок, чем фельдшер-то сильный? На-у-ко-й! Лекарства нет, места в больнице нет, так по-деревенски надумал лечить...
Я отозвался:
— Мне помог фельдшер, а мамка толковала, что бог...
Отец поморщился, будто от зубной боли:
— Опять она со своим богом! Ты, сынок, ее слова мимо ушей пропускай...
Через неделю мне стало много лучше, и я вышел из избы. Увидел отца и окликнул его:
— Тять, я побегу, а ты догоняй!
И изо всех сил пустился к избе дедушки Михайлы. Выставив руки, готовый каждый миг меня подхватить, отец бежал рядом. Я стал уже выдыхаться и чуть было не упал, когда отец поднял меня на руки и, ласково щекоча бородой, понес домой:
— Успеешь, набегаешься!
— Васька, ты за что так нищего-то?
—■ Пусть не дразнится! Я сказал: «Бог подаст!», а этот галах мне показал язык...
Тут я вспомнил, что говорил о себе Максим Фадич-кин: хозяин, мол, нищего к богу посылает... Мне стало жаль нищего мальчишку, и я пригрозил Ваське:
— Тебя за нищего бог покарает!
129
5 М. Суетное
Васька захохотал:
— За кого? За этого мордвиненка? Ха-ха-ха-ха!
И опять он начал тыкать парнишку лицом в воду:
— Крестись, мордвиненок, крестись в православную веру!
Я не сдержался. Размахнулся и хватил Ваську кулаком в лицо. Мучитель брякнулся в воду. Мальчишки зашумели:
— И ты, Васька, крестись!
— Крестись, раб божий!..
Воспользовавшись замешательством, нищий схватил суму и убежал. Можно бы и мне убежать, да не хотелось праздновать труса перед каким-то Васькой. Он поднялся, втянул голову в плечи и сжал кулаки:
— Это ты, голь лохматая, меня ударил? Ты?
— Я!
— Вот тебе защитничек мордвы!
Васька что есть силы ударил меня в ухо. Я не удержался и тоже в лужу полетел. Ледяная вода мгновенно залилась за воротник, за пазуху, в лапти, и будто железом меня сковала. А Васька хотел еще пнуть сапогом, но поскользнулся на раздавленной картофелине и плюхнулся на меня. Хотя и он был мокрым, но не вскочил, а схватил меня за уши и ну бить головой о подтаявший лед:
— Крестись, крестись, крестись! Еще! Еще! Еще!
Я захлебывался и цепенел. Мальчишки пытались стащить с меня Ваську, но он отбивался каблуками и кое-кому расквасил нос. Наконец Ваське, видимо, надоело меня полоскать:
— Моли бога, что я по-настоящему не рассердился, а то бы уши тебе откусил и в воду выплюнул!..
Домой меня привели мальчишки. Я не помню, что они сказали родителям, но мать схватила утиральник и скрутила его в толстый жгут:
— Я тебе, щенок, покажу драку! Под отцовским-то крылом совсем развольничался...
Мальчишки испуганными воробьями вылетели из избы.
Отец встал между мной и матерью:
— Цыц, не бить! Я сказал, чтобы ты сына не касалась и не моги касаться!
Мать пошла на отца:
— Как ты сказал? Сына не касаться? По какому т?
кому праву? И что это еще за «цыц»? Я тебе не собака, чтобы на меня цыцкали! Я Мишку родила, и моя воля, что с ним делать: то ли по плечам колотить, то ли по спине молотить...
Мать толкнула отца в грудь:
— Отойди! Дите учат, пока оно поперек лавки лежит, а когда вдоль растянется, будет поздно учить...
У отца сделались злющими глаза:
— Каждую минуту бога вспоминаешь, а от божьих дел рыло воротишь!
Мать опешила:
— Я ворочу рыло? Говори, говори! Раз уж замахнулся, то бей! Говори!
— И скажу! Мишка за нищего, за мордвиненка, за сиротку заступился, а ты...
Мать взмахнула жгутом:
— Нищий-то был и сплыл, а мы с Андреяном Мит-ряевым рядом живем и ему, как волку, подвываем. Не дери носа, скоро опять к Андреяну побежишь пудик мучки взаймы просить!
Отец отнял у матери утиральник:
— Надоело! Надоело волкам подвывать!.. Лезь, Мишка, на печь!
Я забрался на печь, там согрелся и уснул. Когда же проснулся, то подняться уже не смог: на правый бок будто сто пудов навалилось, рука не поднималась, и такой кашель открылся, что я от него не только взмок, но, наверно, посинел и задыхался!
Теперь мать забеспокоилась:
— Ах, господи, недаром утром наша пестрая курица петухом кричала! Она, холера бы ее взяла, беду накри-кивала... А может, Васькин отец на тебя хворь напустил?
— Разве дядя Андреян колдун — опасливо покосился я на мать.
— Душу дьяволу не продавал, а над нечистой силой власть имеет. Годов пять тому назад он к масленице медовуху готовил, а дьявол через горловину в бочонок и заберись! Начал бражничать, захмелел и ну шуметь... Андреян услышал и скорым крестом горловину-то бочонка осенил. Дьявол туда-сюда и никуда! Стал Андреяна просить: «Выпусти, хозяин, из бочонка, и я тебе полную шапку золота насыплю!»
Другой, может, и соблазнился бы на золото, но Анд-оеян расчетлив и не согласился: «Знаю я вашу повадку!
Пока деньги в шапку сыплете — они золотые, а потоь^ становятся глиняными черепками. Не хочу золота, а бу^ дешь у меня в батраках: в безветренные дни крылья моей;! мельницы вертеть, и еще будешь делать все, что я за-!! хочу!» ;
Пришлось дьяволу на вечную кабалу согласиться и! своей поганой кровью на евангелии расписаться... Вот! он, сынок, Андреян-то какой, а ты на его сына руку поднял!
Я спросил:
— А что же дьявол от Андреяна не убегает? Не стал бы ночами мельничныекрылья вертеть...
— Дьявол-то и хотел бы, да убежать не может: дал Андреяну страшную клятву и подписку — если убежит, то разорвется на мелкие кусочки! Куда полетят крылья, куда — рога, куда — копыта, куда — хвост... Сказывают, что дьявольская клятва самая верная...
Да ты не удивляйся! Не один Андреян Митряев дьявола в батраках держит! У нас, помню, был пастух мирского стада — Степаном звали. Уж не молодой: волосы с проседью и борода с изморозью.... Он, бывало, коров в поле накормит, напоит и грязь с них очистит — все стадо словно мытое ходило. Бабы тогда толковали: коровы, мол, Степана возлюбили за его кроткий характер и, словно дети малые, слушаются! Подумать только, в десяти шагах от посевов ходили, а не трогали... И ведь вот что было дивным-то: пастух на коров не кричал, кнутом не грозил, а только глазами показывал, куда идти...
И вот однажды я шла из леса — по орехи бегала — и сильно притомилась. Сняла с себя мешок-то и на дорожной бровке прилегла. Лежу, коровье стадо вижу и пастуха Степана тоже, но вот чудо-то какое: когда коровы на посев овса двинулись, им навстречу, словно собаки, тринадцать дьяволов запрыгали: бросаются, коров за ноги кусают и хвостами по спинам хлещут...
В тот вечер как раз наша очередь была пастуха кормить. Степан пригнал в село стадо и к нам в избу: «Пришел ужинать!» Я собрала ему поесть, да и говорю: «Дядя Степан, ты не колдун, не волшебник — богу молишься, а как же дьяволами-то распоряжаешься? Я видела: у тебя их тринадцать молодчиков подпасками бегают и коров кусают!»
Степан ничего не сказал, а поужинал, помолился и ушел. Утро наступило, надо коров в стадо гнать, а пастуха нет! Пришлось другого нанимать, но такой заботы о коровах он уже не имел...
Повздыхав, мать руками развела:
— Чем и .как тебя от болести выхаживать, ума не приложу! Если святой водой сбрызнуть и напоить?..
Мать налила в ковш крещенской воды и положила в нее три уголька:
— Во имя отца и сына и святого духа!.. Слышишь, Мишка, как вода-то закипела? Значит Андреянов наговор тебя свалил!.. Давай-ка поворожим, может, и выворожим болесть-то... «Матушка, святая вода, обмываешь ты круты берега, желтые пески, бел горюч камень, тушишь огненный пламень — все гасишь своей быстриной — золотой волной. Обмой-ка ты с младенца Михайлы, все хит-ки и притки, уроки и призоры, скорби, печали и хвори, щипоты и ломоты, злую худобу; понеси-ка, матушка святая вода, своей быстриной — золотой волной эти хвори в чисто поле, в окиян-море, за высокие горы, за топучие грязи, за пески сыпучие, за болота зыбучие, за темный лес, за осиновый тын...»
Мать набрала в рот воды и побрызгала на мое лицо. Потом напоила меня из ковша и встала на колени перед иконами:
— Богородица — владычица небесная, упаси и сохрани сына моего Михайлу! Матерь божия, заступница наша перед господом, помоги больному. Заступница благодатная, отведи от нас беду и слезы. Пречистая приснодева, богоизбранная представительница наша, присноблаженная невеста неневестная, моли сына своего о нас, и обо мне, тяжелой бабе, не забудь! Ты же, матушка, сама такой ходила...
Хотя меня морила дремота и слабость, я в оба уха слушал молитву и, когда мать кончила молиться, спросил:
— Почему богородица неневестная дева? Она, что ли, взамуж не вышла?
— Нет, сынок, она была замужем! За восьмидесятилетним плотником Иосифом. Родила сына и девушкой осталась...
Я много раз слышал бабьи разговоры: в них родивших девок называли «гулящими». Теперь я сказал:
— Богородица была гулящей!
Несмотря на тучность, мать быстро поднялась, в гневе забыла о моей болезни, дернула меня за вихор:
— Ду-рак! Богородица от бога-духа сына принесла!
_ Какого духа?
— Как это какого? Есть бог-отец, есть бог-сын и есть бог-дух...
— Мам, а в отце с сыном нет духа?
— Еще раз дурак! Они живут троицей...
Чтобы не гневить мать, я ее больше ни о чем не расспрашивал, но так тогда и не понял, почему богородицу, родившую не от мужа Иосифа, нельзя назвать гулящей? Не понял я и Троицу: зачем появился бог-дух? Да ведь и отец и сын — духи, а что же бог-то дух? Он еще тоньше, что ли?..
Крещенская вода не помогла, и тогда мать опустила в нее десять веретен и этой «веретенной» водой, или настойкой, меня напоила.
Веретенная вода тоже не помогла!
Мать приволокла на печь оральный хомут Гнедка:
— Ну-ка, Мишка, пролезь через хомут! Мы думаем да гадаем, чем тебя лечить, а может, хомут-то и будет пользительным?
Я было заартачился, но мать настояла:
— Пролезай, пролезай! Если хомут не поможет, то и вреда не сделает.
Хомут тоже исцеления не принес.
И тогда мать спохватилась:
— Ну и память стала дырявой! Совсем забыла: если кто на тебя порчу нашлет, надо походить спиной вперед и все пройдет. Ну-ка, сынок, слезай с печи и походи немножко!
Пришлось спиной вперед ходить, но и такое хождение мне не помогло...
Обескураженная мать загоревала:
— Господи, за что нас караешь? Одного сына ты к себе взял и за другим руки тянешь? Неужто мы больше Андреяна Митряева грешим? Чем же он тебя ублажил? Чем? Вон у него сын-то какой мордастый, словно поросенок закормленный!.. Если тебе, господи, Андреян толстые свечи ставит, так ты разберись: на какие деньги они куплены? Андреян помольщиков обманывает, да еще дьявола в батраках держит, а ты греховоднику потакаешь!..
Отец тоже пал духом:
— Что делать? В больницу бы, да ведь такого хворого разве довезешь? Дорога трясучая, колдобоинная —и у здорового все внутренности отобьет... А если довезу? Доктор положит ли в больницу-то? Скажет, что мест нет, и тогда...
От этих разговоров, охов, вздохов, жалоб на жизнь, я чувствовал себя все хуже и хуже и стал думать, что все равно умру! Хотя я и помнил, что души праведников уносят в рай и там краснобокими яблоками кормят, умирать не хотелось.
Как-то в избе я остался один и прямо на печи стал на колени и начал молиться:
— Господи, я не хочу умирать! Не хочу в рай. И красных яблок не хочу. Ничего мне не надо! Господи, не зови меня к себе! Пожалей тятьку с мамкой: если я умру, то кто будет их кормить? Ты думаешь, что мамка еще кормильца принесет? А если девчонку?.. Господи милостивый, исцели мой бок! Исцели, ты же сильный и все можешь!
И вот когда я молился и в упор, не мигая, смотрел на иконы, мне показалось, что с божницы сошла богородица, но сразу же и вернулась на прежнее место. Серафим Саровский даже не пошевелился, а вот медведь прыгнул с божницы на пол...
Больше я ничего не помню: меня свалило беспамятство.
Когда я очнулся, то боль в боку стала невыносимой, и я закричал:
— Ой, умираю! Ой!
Я с ненавистью стал разглядывать угрюмо-безразличное лицо бога, отвернувшегося к медведю Серафима, и посматривающую на своего толсторукого и толстоногого младенца богородицу. Я не закричал, а зарычал:
— Не хотите исцелять? Не хотите? А я знаю, почему не хотите: вас нету! Вас маляр на досках нарисовал, а так вас нет! Совсем нет. Об этом тятька знает: вас нет!
Вошла мать, не разобрала, в чем дело, и сказала:
— Лежи, сынок, лежи! Отец побежал за фершалом: он через наше село в Лукоянов едет...
И верно, скоро в избу торопливо вошел востроглазый человек и поднялся ко мне на печь:
— Лежишь, драчун? За слабого заступился? Мо-ло-дец!
Мать сердито проговорила:
— Молодец-то он молодец, да против такого молодца нашлась палка в два конца! Связался драться с мельниковым сыном, а мельник-то на человека может любую хворь напустить...
Отец покраснел:
— Полно, мать, свою темень перед ученым человеком показывать!
Фельдшер тоже сказал:
— Все это, хозяюшка, глупости! Не-ве-жест-во!
Приставив к моей груди красивую трубку, он стал
командовать:
— Не дыши! Дыши! Глубже дыши! Вдохни и задержи воздух в легких. Покашляй!
Отец с тревогой ждал слова фельдшера, и тот наконец сказал:
— Воспаление легких у вашего мальчика! В больницу бы надо, да мест нет. Ладно, хозяин, лечи сына по-дедовски: деды наши кое-что знали... Вытопи печь...
Фельдшер ушел. Отец истопил печь, выгреб и вымел из нее угли, золу и под печи застлал соломой. Взял меня на руки и помог лечь на эту солому. В печи было очень жарко, и я боялся заживо изжариться, но отец завалил меня соломой. Я исходил горячим потом, но не обжигался!
Часов у нас не было, и я не знаю, сколько времени пробыл в печи, но вот отец вытащил меня из нее и опустил в кадушку с теплой водой. Отмыл сажу, золу, пот и уложил на печи. Укутал разными одежками и напоил чаем с сушеной малиной. Я сразу уснул и проспал остаток дня и еще всю ночь, а утром проснулся и почувствовал себя бодрым. Мать начала мне внушать:
— Сам человек ничего не придумывает: ему в голову мысль бог посылает! Вот и фершалу бог мысль послал: посоветуй, мол, Мишку в печи попарить... И мне тоже бог мысль послал: ты, мол, крещенской-то воды не жалей — влей ковшичек в кадушку! Бог тебе, Мишка, помог Андреяново напущение снять...
А днем со мной говорил отец:
— Понял, сынок, чем фельдшер-то сильный? На-у-ко-й! Лекарства нет, места в больнице нет, так по-деревенски надумал лечить...
Я отозвался:
— Мне помог фельдшер, а мамка толковала, что бог...
Отец поморщился, будто от зубной боли:
— Опять она со своим богом! Ты, сынок, ее слова мимо ушей пропускай...
Через неделю мне стало много лучше, и я вышел из избы. Увидел отца и окликнул его:
— Тять, я побегу, а ты догоняй!
И изо всех сил пустился к избе дедушки Михайлы. Выставив руки, готовый каждый миг меня подхватить, отец бежал рядом. Я стал уже выдыхаться и чуть было не упал, когда отец поднял меня на руки и, ласково щекоча бородой, понес домой:
— Успеешь, набегаешься!
• • •
СКОРО Я СОВСЕМ НА НОГИ ВСТАЛ... А погода установилась жаркая, земля хорошо прогрелась, и пришла пора сажать овощи. Об этом я не сам догадался, а мать подсказала: она прямо-таки заохалась, завздыхалась: — Ох, тяжелой я стала, а работы, работы!.. Глазами-то все бы сделала, да не смогу... Отец предложил: — Давай сестру Фешку позовем или соседку Авдотью: они живо всю огородину посеют! Мать руками замахала: — Нет, нет и нет! Хотя Фешка с Авдотьей и свои люди, но все равно не то будет старанье... Овощ ласку любит! Возьми, к примеру, огурцы: ежели их без ласки посадить — дупластыми или горькими уродятся. А капуста? Попробуй рассадину не обласкай, не ободри — и вместо тугого кочана, вырастет растрепа: листьев — пропасть, но все они, как несогласные сыновья у плохого отца, друг от дружки отвернутся... Нет, мы уж как-нибудь сами огородину высадим: я покажу, а Мишка посадит! Отец, видимо, не хотел спорить и на своем не настаивал. Он насыпал в огороде грядки и сказал: — Теперь сажайте и сейте!.. И вот, помню, мать держится среди огорода широкой поставушкой и рукой показывает мне, где и что сажать и как сажать: — А ты, сынок, старайся семена-то не кое-как в землю бросить, а ровненько, не меньше вершка друг от друга клади. Свекла любит простор: он ей и для листьев нужен и для туловища... Я кладу шероховатые семечки свеклы в землю, а мать шепчет: Вырасти, господи, свеклу по ребячьей голове! Румяной, как Фекла в феврале; Сладкой, как сахар-рафинад, Чтобы радовались стар и млад!.. После свеклы я посеял морковь, редьку, брюкву, репу. Мать моей работой оставалась довольной — хвалила: — У тебя рука мужчинская и девичья: ловкая и ласковая... Ты все делаешь не хуже меня! Не знаю, так ли это было на самом деле или мать меня только подбадривала? Потом мы сажали капусту. Осторожненько, нежно я выбирал из рассадника слабые росточки и сажал на грядку. Мать шептала: — Не будь долгонога — будь коротконога; не будь голенаста — будь пузаста; не будь пустая — будь тугая; не будь красна — будь вкусна; не будь старше — будь младше... Когда мы капусту посадили, мать огорченно вздохнула: — Все гоже, да вот я в лохмотья не одевалась! — Зачем в лохмотья? — Как зачем? Чтобы листьев было больше... Потом наступило время сажать огурцы, и тут-то мне пришлось потруднее! На широкой гряде, укрытой слоем перегноя, я руками сделал сорок лунок, похожих на большие чаши. Землю в лунках перетер в ладонях, как мать учила: земля должна быть мягкой, рыхлой, чтобы огуречное семечко ложилось в добрую постель, чтобы у него скорее пророс корешок... Когда лунки были готовы, мать подпоясала себя тремя поясами и мне пару дала: — Подпояшься! — Зачем? У меня есть пояс... — Подпоясывайся! У огурцов будет больше плетней. Много плетней — много и огурцов... Чтобы не спорить, я подпоясался и стал семечки в лунки класть и землей засыпать. Мать полузакрыла глаза и заговорила: — Святой и присноблаженный Фалалей, труд Ми-хайлы пожалей: вырасти огурцы, да хорошие на взгляд и добрые на скус! Не рябые, не кривые, не дуплястые, не бледные, не желтые, а чистые, ровные и зеленые. Батюшка Фалалей, в добрый час огурцы дождичком полей! Помоги им подняться, завязаться, но не давай расти пустоцвету, а пусть все плети будут в завязах-повязях, в зародышах, в огурцах, как поле в овцах... Пусть положенным в лунки семечкам будет тепло да сыро — скорее к солнышку потянутся; пусть морозы-огуречники не тронут цвета и завязей... А во время ужина отец сказал: — Ну, работничек мой добрый, завтра с тобой поедем гречиху сеять! Отозвалась мать: — Надо, надо! Вот гоже бы в один день с дедом Гришачком выехать. У всех гречка убогая, а у Гришачка по пояс вышины, и зерна, как рябина, кустами висят. Нет, что ни говори, а Гришачок, наверно, с святой Федосьей круговой порукой связан! Отец досадливо поморщился: — Полно выдумывать-то! Причина не в святой Федосье, а в благовремении. Гришачок сеет гречиху ни рано, ни поздно: земля ни пересохшая, ни холодная. Он землю знает и, как живую, чует! Мать не согласилась: — Может и чует и знает, но только ты от святой Федосьи не отмахивайся! Каждой траве, каждому растению святой помогает. Огурцы, к примеру, святой Фалалей растит, репу — Никита, овес — Наталья, свеклу — Фекла, капусту — святая Арина... Отец насмешливо прервал: — Пошла, поехала! Скоро всем святым должности дашь. Мать с сожалением глянула на отца: — Просмеешься — зубы поредеют!.. Над всем и везде бог святых поставил: над лошадьми — Флора и Лавра, над коровами — Власия и Мамонтия, над овцами — Анастасия, над свиньями — Василия, над курами — Терентия, над пчелами — Зосиму... И тут мать зашептала заговорщически: — Я от баб краем уха слыхала: Гришачок-то лет тридцать назад икону святой Федосьи... бил! — Что ты мелешь? Гришачок и... икону бил? — Бил! Он не икону, а святую Федосью хлестал! На первых-то порах святая Федосья ему не помогала, и он осердился: снял икону и ну ее кнутом пороть: «Ты гляди, если гречиху не будешь родить, то...» Отец головой покачал: — Ну и выдумщица!.. Я с Гришачка всю неделю глаз не спускаю: хитрит мужик! Каждый вечер соху с бороной на телегу кладет — будто завтра в поле собирается. Глядя на Гришачка, и другие мужики с вечера готовятся, да ранним утром и выедут в поле. Они сеют, а Гришачок из дома бороды не показывает. Нынче же ни сохи, ни бороны на телегу не положил: так и знай, утром в поле выедет!.. Но утром мы в поле не выехали и вот почему. Проснулся я, а в избе ни матери, ни отца! Где они? Побежал в огород и там Наталью увидел. Она спросила: — Ты что нынче какой встревоженный? — Тятьку с мамкой ищу... Наталья приложила палец к губам: — Мать — в бане, а отец—в предбаннике... Ты, Мишка, к ним не ходи: не гоже... Я не стал слушать Наталью и кинулся в предбанник. Отец сидел на скамейке и курил: — Ты, сынок, иди погуляй... Нынче в поле не поедем... — А почему? — Мать хворает... Я повернулся идти домой, но тут дверь из бани приоткрылась и выглянула старуха: — Поздравляю, Иван Ильич! Анна тебе дочь принесла. Отец вскочил: — Благодарствую! Взял меня за руку и потащил домой: — Пошли, пошли! Мы теперь лишние... Ну, как ты сестренку назовешь? — Я не поп! Какое поп найдет имя... — Что нам с тобой поп? Нет, давай сами придумаем! Тут я вспомнил Наталью и сказал отцу: — Будем звать Натальей! — Натальей? Хорошее имя! Наталья, Натальюшка, Наташенька, Наташка и просто-=■ Ташка... Ташка-пташка! . Мать с сестренкой перешли из бани в избу только через неделю. Мать была больна и сразу же слегла в постель. Охая, вспомнила о гречихе: — Отец, что же ты гречиху-то не сеешь? — Рад бы, да когда? Ведь ты больна — не уедешь, не бросишь! — Надо сеять, а то опоздаешь! — У меня давно все готово: запрягу Гнедка и... — Поезжай, а Мишка со мной останется! Отец быстро собрался и уехал в поле. Весь день я от матери и от сестренки не отходил: пить подавал, зыбку качал, сухие пеленки для Наташки
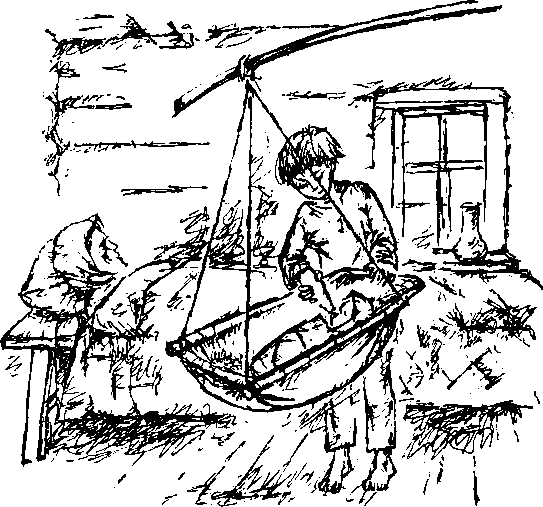 приносил и мокрые полоскал и сушил... Наташка спала, но все равно дел оказалась уйма: надо и морковь со свеклой, и капусту с огурцами, и репу с редькой да брюквой поливать! Спасибо Наталье: она мне из колодца воду приносила, и я ковшиком огородину поливал.
Когда мы полили все грядки, я тихонько спросил:
— Тетка Наталья, а ты не плачешь? Бориска тебя не бьет?
— Нет, Мишенька, он ласковый, уважительный!
И заглянула мне в глаза:
— Это ты сестренку Натальей назвал?
— Я. Чтобы как тебя звать...
— Значит, ты меня любишь?
Наталья оглянулась по сторонам и торопливо поцеловала меня:
— Вечно буду помнить тебя, Мишенька! Ты у меня единственный добрый друг...
Вечером отец приехал с поля и, не распрягая Гнедка, бросился в избу:
— Ну, мать, как ты тут? Как Наташка?
— А что Наташка? Спит! Вот Мишке, бедному, достается: он нынче больше любого взрослого делает и не жалуется.
— Мишка у нас молодец: он будет хорошим мужиком!.. Да, мать, а Гришачок-то сеял только ныне...
— Как так? Да ведь он, слышь, каждый день в поле ездил?
— Ездил для обману. Нынче же сеял!..
Мать с неделю не поднималась. Отец уезжал в поле или уходил по каким-то делам, и все домашние заботы висели на моих плечах. Но однажды мать поднялась:
— Понежилась, побарствовала, время за дело браться!
Я видел, что она еще очень слаба, и сказал:
— Уж лежала бы! Без тебя все сделаю!
Мать благодарно улыбнулась:
— Нет, сынок, встану! Если нам, бабам, на все хворости оглядываться, да от всех немощей стонать, то ни детей растить, ни хозяйство вести...
приносил и мокрые полоскал и сушил... Наташка спала, но все равно дел оказалась уйма: надо и морковь со свеклой, и капусту с огурцами, и репу с редькой да брюквой поливать! Спасибо Наталье: она мне из колодца воду приносила, и я ковшиком огородину поливал.
Когда мы полили все грядки, я тихонько спросил:
— Тетка Наталья, а ты не плачешь? Бориска тебя не бьет?
— Нет, Мишенька, он ласковый, уважительный!
И заглянула мне в глаза:
— Это ты сестренку Натальей назвал?
— Я. Чтобы как тебя звать...
— Значит, ты меня любишь?
Наталья оглянулась по сторонам и торопливо поцеловала меня:
— Вечно буду помнить тебя, Мишенька! Ты у меня единственный добрый друг...
Вечером отец приехал с поля и, не распрягая Гнедка, бросился в избу:
— Ну, мать, как ты тут? Как Наташка?
— А что Наташка? Спит! Вот Мишке, бедному, достается: он нынче больше любого взрослого делает и не жалуется.
— Мишка у нас молодец: он будет хорошим мужиком!.. Да, мать, а Гришачок-то сеял только ныне...
— Как так? Да ведь он, слышь, каждый день в поле ездил?
— Ездил для обману. Нынче же сеял!..
Мать с неделю не поднималась. Отец уезжал в поле или уходил по каким-то делам, и все домашние заботы висели на моих плечах. Но однажды мать поднялась:
— Понежилась, побарствовала, время за дело браться!
Я видел, что она еще очень слаба, и сказал:
— Уж лежала бы! Без тебя все сделаю!
Мать благодарно улыбнулась:
— Нет, сынок, встану! Если нам, бабам, на все хворости оглядываться, да от всех немощей стонать, то ни детей растить, ни хозяйство вести...
• • •
БЕЗДЕЛОВАЛ Я, ОДНАКО, НЕДОЛГО: ОТЕЦ НЕ ЗАБЫЛ, ЧТО ВЗЯЛ МЕНЯ ПОД СВОЕ КРЫЛО. Вечером же сказал: — Мать поднялась, и теперь, Мишка, мы с тобой в ночное поедем. В твои годы я уж с лошадью в лугах ночевал! Тебе тоже время привыкать...
В ночное мне давно хотелось, но ехать с отцом на одной лошади я стеснялся: — Тять, негоже вдвоем на одном Гнедке ехать! Меня мальчишки будут дразнить... — Ты сядешь на Гнедка, а я на Миклашина Карька. Дед Лексей что-то занедужил... Мы выехали из дома в сумерки. В переулке нас догнал Ганька Егранов: — Иван Ильич, куда поедем? На Вярзинку — далеко, а в Сергиеву вершинку — корм плохой... Отец ответил: — Поедем на Шум... Ехать к оврагу, который назывался Шумом, было недалеко. Через овраг был перекинут мост, а под ним сильно шумела вода. Отец мне сказал: — И воды-то паре добрых лошадей напиться, а шуму на все поле. Это потому что вода падает с высокого обрыва... Выпустив лошадей на луг, мы раскинули на траве чапаны и легли. Ганька и отец молчали, покуривали, а я на небо засмотрелся. Это только говорят, что звездами любуются, а по-моему смотреть в звездное небо — страху набираться! Сперва-то звезды кажутся совсем близ-ко — рукой подать, а как вглядишься, так оторопь берет: страшная даль и страшная высота, и ты словно какая-нибудь маленькая блоха... нет не блоха, а пылиночка беспомощная! Проснулся я от обвального грохота. Открыл глаза и тут же зажмурился: ветвистая молния рассекла небо на десятки кусков... Отец с Ганькой стояли рядом, нерешительно переговаривались: — Если домой уехать? — Не успеем: дождь в пути захватит! — А может он стороной нас обойдет! Тут ударил такой страшный гром, что лошади испуганно заржали и кинулись бежать. — Ловить надо: убегут и на волчью стаю нарвутся! — крикнул отец. Пригнувшись, под секущим дождем кинулся за лошадьми. Ганька тоже... Оставшись один, я закрыл глаза, но над головой так зашумело, будто небо обвалилось, и хлынул крупный проливной дождь. Я завернулся в чапан, но дождь пробивал насквозь. Зазмеи-лись шипучие, пенистые ручейки. Я поспешил перейти с луга на пашню и сделал это вовремя: с восточной стороны послышался непонятный рев. Казалось, что это надвигаются сотни рассерженных быков. Однако так ревели не быки, а вода. Она шла отвесной стеной, сметая все на своем пути. Бросив чапан, я кинулся бежать. Водяная стена навалилась на мост, сняла его и с грохотом опрокинула в овраг! Я закричал дико, по-звериному, но тут же при свете молнии увидел отца и Ганьку. Они вели лошадей и громко звали меня. Я бросился к ним, отец стиснул меня, похлопал по плечу: — Счастливый! Слышь! Всю весну дождя не было, а как ты в ночное приехал, так и дождь... Теперь и озимые хлеба и яровые в рост пойдут. Домой мы возвращались солнечным утром, все было веселым, праздничным, чистым, умытым — заискрилось яркими красками. И село казалось праздничным. И люди, ходившие возле изб, были веселыми... После завтрака мать подсела ко мне, сказала, ласково погладив мою голову: — Ты в поле страху натерпелся, а я тут... — Грома боялась? — И грома, и молнии, а больше всего града. У вас там града не было, а у нас по куриному яйцу сыпался. Я сразу подумала: «Это Дарья-ведьма град на сады наслала!» Подумала я так и скорее за помело: открыла окошко, высунула помело, и, что ты скажешь, град сразу перестал!.. Может быть мать так и делала — наверно, помело из окна казала, но теперь я уже в ее россказни не верил. Но ни единым словом ей не возразил — не хотел еще слабую мать расстраивать... Вечером же мы с отцом опять уехали в ночное, но уже на Вярзинку. Остановились неподалеку от железной дороги. Но-чевальщиков съехалось, как на ярмарку: старики, мужики, парни, мальчишки и даже три бабы. Лошадей собралось — табун! Мальчишки жгли костер. С шумом, с криком, свистом тащили они из ближнего леса сучья, поленья, гнилые пни и бросали в огонь. Искры огромными огненными пучками взвивались в темное небо и гасли где-то в вышине. Мы, мальчишки, как комары, жались к костру, а взрослые сидели поодаль, сверкали огоньками цигарок и трубок. Заговорил отец: . — Время-то, братцы, какое хорошее! Дождь пролился и не только с травы пыль смыл, но и души наши обласкал — урожай будет! Эй, Яшка, ты здесь? Запевай, а мы подтянем! Высоченный парень Яшка поднялся, откашлялся. Мужики торопливо докуривали цигарки. Ребятишки притихли — приготовились слушать. Но петь не пришлось: в ближнем лесу натруженно загудел паровоз, а через минуту-две поезд медленно выполз на опушку. Мужики зашумели: — Подожди, Яшка, малость, вот поезд пройдет и тогда уж!.. Поезд сверкнул огненными глазами и стал взбираться на подъем, но тут же заскрежетал колесами и с грохотом полетел под откос. Послышался рев телят и визг поросят. Мужики вскочили: — Скотину везли! — Крушение поезда... — Бежим, братцы, туда? — Мужики, лучше нам отсюда уехать, а то как бы за крушение поезда не потянули! Без вины будешь виноватым...— рассудительно заметил отец. Но мужики один за другим убежали к месту крушения. Отец поколебался и тоже побежал. Даже бабы, дремавшие под бугорком, и те побежали! Примерно через полчаса мужики стали возвращаться: кто вел на кушаке теленка, кто нес завернутого в зипун поросенка... Стон, рев и визг взбудоражили лошадей... Добытчики с трудом ловили их и торопливо покидали ночное... Наконец появились и отец с Еграновым Ганькой. Они несли большие мешки. Я спросил: — Это у вас что? Отец, отвернувшись, смущенно ответил: — Сахарный песок... Ганька, поедем домой, а то боязно!.. Мы изловили лошадей, положили мешки на их спины и поехали. Добравшись до гумен, отец с Ганькой спрятали в соломе мешки. Доночевывать мы уехали в Кот-ловань. Я ждал, что мать будет бранить и совестить отца, но вместо этого она довольно улыбнулась и сама пошла на гумно: — Надо получше мешок-то припрятать! — Мам, а бог на тебя не огневается? В «Книгу жи^ вота» не запишет? Мать отмахнулась: — За сахарный-то песок? Я купецких замков не ломала, бедного человека не обижала, а если у богатого на десять рублей взяла, так ведь бог-то понимает, что к чему! Он, сердешный, тоже на богатых глядит и казнится... Я своими ушами в монастыре слыхала проповедь: легче, мол, верблюду сквозь игольное ушко пролезть, чем богатому в рай сесть! Бог видел, как отец с Ганькой сахар брали и радовался: «Так богачей и надо щипать! Спускайте с них жир-то!..» После обеда я выбежал из избы: хотел Лаврушку Егранова повидать, — но только сделал несколько шагов, как заметил урядника. Он шел с тремя мужиками-поня-тыми. Поманил меня к себе пальцем и, когда я подошел, спросил: — Мальчик, у кого из твоих соседей или, может, у вас во дворе теленок или поросенок прибавился? Я сразу понял, чего хочет урядник — он ищет растащенное добро... И ответил: — У нас — нет, у дяди Митрофана — нет, у деда Ми-хайлы — нет, у деда Алексея — нет, а вот есть ли у Буровых и Зякиных — не знаю! — А ты чей? — Суетнов... — А-а-а-а!.. Переглянувшись с понятыми, урядник сказал: — Не спрашивай старого — спрашивай малого: он все знает и честно скажет... На-ка, мальчик, конфетку! Это тебе за честность. Бери, не бойся! Я таких конфет еще не видывал: она была завернута в серебряную бумагу... Мать меня окликнула: — Мишка, домой иди! Только я открыл дверь, как отец озабоченно спросил: — Чего это у тебя казенное пугало выпытывало? Пересказав разговор с урядником, я показал отцу конфетку: — Вот!.. За честность дал... Отец кивнул: — Ты и сказал честно!.. А конфетка шоколадная. Такие только богачи едят... Скоро на улице показались понятые: они гнали трех телят, а сзади шли еще мужики и в мешках тащили визжащих поросят. Это урядник возвращал купцам имущество... Сахар почему-то не искали и о нем мужиков не спрашивали. Это отца радовало и удивляло, но на следующий день от радости ничего не осталось. Ганька Егранов дорвался до дарового сахара и так его наелся, что животом захворал. Ганьку корчило и рвало — он посинел и кричал будто зарезанный. К счастью, в избу зашел сельский староста: хотел с Ганьки недоимку взять, но, увидев его в таком печальном состоянии, подумал, что это холера, и тут же послал писаря за фельдшером: — Гони в Васильев Майдан и умоли, упроси Петра Архипыча приехать! Скажи, что в селе холера... Тьфу, дьявольщина! Ни единого года без хворей не живем: то скарлатина, то глотошная, то холера проклятая, то инфлюэнца... Фельдшер пуще старосты встревожился, прискакал в наше село и сразу же побежал в избу к Ганьке Егра-нову: — А ну, хозяин, сказывай, как у тебя хворь началась? С чего? Может пища испорченная или вода грязноватая? Руки перед едой не мыл? Ганька схватился за живот: — Не пища, а сахарный песок! С кровью из меня идет... И съел-то малость, всего полторы горсти! Насыпав в бумажный кулек сахарного песка, фельдшер поскакал в уезную больницу: — Пусть там проверят. Вернувшись под утро, фельдшер опять стал Ганьку выспрашивать: — Где и у кого ты такой сахарный песок купил? — На базаре... — Не лги, Гаврила! Это не сахарный песок, а химические удобрения для посевов. Помещик Сокол-Черни-ловский удобрения из Англии выписал, да во время крушения поезда мешки из вагона вывалились... Хорошо, что ты только полторы горсти «сахару» съел, а если бы побольше... Гроб тогда нужен был бы! Уличенный в краже Ганька взмолился: — Петр Архипыч, овцу тебе отдам, только уряднику не доноси!
• • •
 А ПОТОМ НАСТУПИЛ СЕНОКОС!
ЕГО ЖДАЛИ, КАК СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА.
К нему готовились задолго: покупали косы, запасались смолянками и брусками, мастерили более удобные окосья... Бабы шили мужьям и сыновьям белые рубахи, да и себя с дочерьми не обижали: доставали из сундуков новые, похожие на цветастое луговое разнотравье сарафаны и кофты.
И вот наконец пришел долгожданный день сенокоса! Мы с отцом надели белые холщовые рубахи, синие портки в полоску, обули красные лапти с хорошо отбеленными портянками и вышли из избы.
Мать проводила нас до крыльца и огорченно проговорила:
— Добрые-то люди сперва богу помолились, у него благословенья попросили, а вы, ветродуи, вскочили и, не перекрестя лбов, в луга!..
Отец взял косу, закинул ее за плечо:
— Я за день-то намолюсь-накланяюсь, и бока затрещат...
Мать уже завистливо сказала:
— Хоть бы часик в лугах побыть: на травушку-муравушку глянуть!
Отец положил на плечо матери ладонь:
— Ничего, мать, потерпи! Натащка подрастет, и тогда наглядишься.
На улице к нам присоединились дед Михайла, Бо-риска и Наталья. Поздоровались. Наталья оглядела меня и озорно пропела:
Мне портки в полоску сшили —. Ой, гожи, гожи, гожи!
Ко мне девушки пристали:
— Нам порточки покажи!
И расхохоталась на всю улицу: звонко, словно беззаботная девчонка. Бориска тоже рассмеялся, а дед Михайла улыбнулся и сказал отцу:
— Живут дружно, вот и поют весело!
У избенки Фадичкина Максима собрались все наши десятинники и еще многие мужики из других десятин. Вскинув на плечи косы, двинулись к пойме речки Ежати. Я еще на ней не бывал, но уже слышал, как мужики насмешливо говаривали: «На дне Ежати можно лежати, а захочешь испити — надо к полевому колодцу идтити!»
Вода в речке была только по снеготалу и в ливневые дожди, а в остальное время года воробей мог ее перескочить и ног не замочить...
Так вот, на пойму речки Ежати шло множество му-жиков-косарей. По тому, как они спешили, высоко неся горящие, искрящиеся на солнце косы, можно было подумать, что движется какое-то воинство...
Наконец мы добрались до поймы и до своего десятинного лугового участка. На нем пестрело такое разнотравье, что у меня в глазах зарябило! Удивительно пьянящими были и цветочные запахи: от них кружилась голова...
Дед Михайла окинул участок радостным взглядом и молвил:
— Луг будем делить по закону: на каждую мужицкую душу по две сажени, а на баб и девок ни вершка... Метнем жребий: он и слеп, но все равно укажет, кому и где траву косить!
Сняв выгоревший до бела картуз, дед опустил в него жребии — коротенькие палочки с зарубками:
— По обычаю, соседушки: мой жребий — с одной зарубкой, твой, Иван Ильич, с двумя, у Митрофана Фи-липпыча — с тремя, у Лексея — с четырьмя...
Десятинники прервали:
— Знаем!
— Помним...
Дед поманил меня пальцем:
— Иди-ка сюда, да тащи из картуза жребий! Ну-ка!
Я сунул в картуз дрожащую от нетерпения руку и
вытащил жребий с двумя зарубками. Десятинники ахнули:
— Ах ты, какой на руку-то удачливый!
Дед Михайла глазами показал на участок:
— Митрофан Филиппыч, отмерь Ивану Ильичу пай в четыре сажени!
Когда жеребьевка кончилась, дед Михайла взглянул на небо, веревочкой подвязал длинные волосы и мелко перекрестил костлявую грудь:
— Однако, десятиннички, начнем, благословясь, косить, пока роса с травы не сошла!
Вслед за дедом и мужики перекрестились: кто старательно, кто размашисто, а кто кое-как, как моя мать говаривала, кукишем. Только мой отец отвернулся — будто косу к окосью прилаживал. Потом и отец снял картуз и развязал пояс.
— Я буду траву подваливать, а ты, сынок, ее умненько, ровненько растрясай! К земле не притаптывай и не приминай, этого трава не любит — плохо сохнет. Надо, чтобы солнышко каждую травиночку насквозь видело и подсушивало!
Сказав так, отец взмахнул косой; она сверкнула и пропела: ж-ж-и-и-и! А потом пошла и пошла и пошла: ж-ж-и-к! ж-ж-и-к! ж-и-к!.. Срезанная трава ложилась ровно, и на ней лучились капли еще не обсохшей утренней росы...
Вся пойма Ежати, вплоть до чуть видневшегося вдали соседнего села Ладыгина, белела мужицкими рубахами и вспыхивала и блистала безгромными серебряными молниями кос...
Я раскладывал скошенную траву ровно, но подошла Наталья и посоветовала:
— А ты, Мишка, траву клочьями не оставляй — они будут долго сохнуть! Каждый клок вот так раструшивай!.. Вот так! Видишь? Пусть травинки — будто пушинки, на отаву сохнуть ложатся...
В траве попадались кисточки красной земляники и не очень яркой, мало заметной дикой клубники. Кто не бывал в лугах, тот не знает ни запаха, ни вкуса этой дивной ягоды.
Землянику и клубнику я честно делил на две части: половину себе в рот, а другую часть клал в картуз — хотелось и отца с матерью ягодами покормить!..
К полудню этот участок луга был скошен. Косцы собрались передохнуть, и тут кто-то удивленно проговорил:
— Иван Ильич, да ты не косишь, а траву с земли сбриваешь! Коса, что ли, у тебя особая?
Наталья подошла к отцу:
— Дядя Иван, покажи, как ты косишь?
Дед Михайла сердито проговорил:
— Чего ты, баба, не в свои дела нос суешь? Вдовам да солдаткам это еще знать пользительно, а тебе зачем?
Бориска покраснел и тоже недовольно процедил:
— Наталья, отойди!
Она дерзко глянула на мужа и отрезала:
— Хочу знать, и все тут!
Отец взял косу:
— Хочешь знать? Гляди: у меня секретов нету!
Взмахнул косой и так снял траву, будто бритвой
сбрил:
— Видела, чем я беру? Не силой, а ловкостью! Нажимаю на пятку косы, и она сама режет...
Наталья подняла косу, приладилась и тоже взмахнула. Потом еще и еще...
Мужики вскочили, глянули на Натальину работу и молча сели.
Дед Михайла счастливо заулыбался:
— Не хуже Ивана Ильича!..
Наталья положила косу:
— Если тебя, Борис, возьмут на войну — обо мне не сухотись: я траву выкошу!
И тут все мужики рты пооткрывали:
— Э-т-т-о, конечно...
— Уменье и бабе не мешает!
Больше всех за Наталью радовался я: здорово она мужикам носы утерла! Так и надо бабам с мужиками-зазнайками разговаривать, и тогда не посмеют они своих жен в церкви ставить на левую сторону и называть «коз-лицами»!..
Передохнув, десятинники перешли на другой участок луга, провели жеребьевку и расположились на отдых: ели, дремали.
Мой отец поел земляники с клубникой и вернул мне картуз:
, — Остальное матери понесешь! Ей ягоды нужны: в них сила земли и сила солнца...
Сказав так,, отец лег на спину, закрыл глаза.
Я поднялся, посмотрел на пойму: теперь спали все. Вдруг кто-то взял меня за плечо, и я оглянулся: это была Наталья.
— Пойдем к колодцу: хочу холодной-холодной воды!
Я не знал, где тут колодец, но Наталья привела
меня к нему. Я взглянул и разочарованно протянул:
— Э-э-э-э! Бо-ло-то-о!
И верно: из большой болотной лужи, затянутой ряской, был еле виден низенький сруб колодца. В болотце
Плавали лягушки и бегали беспокойные водомерки. Наталья с досадой проговорила:
— А какой колодец-то был! Вода, как воздух... Сельский староста виноват: с нас деньги собирает, а колодцы не чистит.
Наталья обошла вокруг болотца и вдруг расплылась в улыбке:
— Мишка, счастливой руке удача! Гляди, в болоте железная лопата.
Я быстро разулся, слазил в болотце, достал старую лопату.
Наталья подоткнула подол сарафана за пояс:
— Сейчас болотную воду вон туда спустим!..
Сильнущими руками Наталья глубоко вонзала лопату
в черную, словно дегтярную, грязь и отбрасывала ее в сторону.
Скоро по канаве забурлил, заторопился мутно-грязный поток...
Наталья промерила лопатой глубину колодца и начала из него вычерпывать грязь...
Не знаю, сколько времени прошло, но вдруг на дне словно кто-то всхлипнул, потом сердито заворчал... Хотя я и перестал верить в дьяволов, но теперь отскочил в сторону: вдруг в колодце водяной возится и сердится... Наталья нагнулась и еще раз с силой ударила лопатой, и тут как будто пробка из большой бутылки выскочила! В широкое лицо Натальи хлестнул водяной фонтан. Он три раза стрельнул вверх и пропал...
Наталья весело проговорила:
— Прорвало! Водяная жила из-под земли наружу прорвалась...
Колодец быстро наполнился «жильной водой», и она полилась через стенки сруба.
Наталья радовалась:
— Это гоже! Грязная вода уйдет...
Прошло еще немного времени, и вода в колодце посветлела. Стало видно «водяную жилу»: с большой силой она вырывалась из земли, кидала белый песок и мелкие камешки...
Тут я заметил, что наши десятинники проснулись: кто курил, кто потягивался, и все смотрели в нашу сторону. Я сказал об этом Наталье. Она умылась, поправила сарафан, набрала из колодца бутылку воды, и мы пошли к десятинникам.
Дед Михайла принял бутылку, отпил из нее и крякнул:
— Ай, батюшки, какая зуболомная! Будто ледяшки глотал... Спасибо добрым людям, не дают водяной жиле заглохнуть...
Мы с Натальей переглянулись, но промолчали.
Когда тронулись на другой луговой участок, я сказал отцу:
— Тять, а колодец-то тетка Наталья чистила! Канаву вырыла, грязную воду спустила и в колодце водяную жилу нашла...
Отец кивнул:
— Я видел, как вы старались. Эх, Мишка, Наталья такая баба, что Бориска за ней будет жить припеваючи! А сила? Да она таких, как Бориска, троих в беремя возьмет и за тридевять земель унесет!..
Лугов у нас было мало, и мы к сумеркам косьбу трав закончили. Шли домой усталые — еле ноги волочили.
Мать собрала ужинать, но я за столом уснул и ложку на пол уронил.
Утром мать еле меня добудилась:
— Сынок, проснись, пойдешь с отцом в луга сено сушить! Завтра надо его привезти, а то дни ненадежные стоят: сейчас солнышко жарит, а через час дождик брызнет... Про это время добрые люди говорят: «У бога дождя много, но он к сенокосу бережет!» Эх, Наташка-то мала, а то бы и я с вами на сенокос пошла! Нынче все село там будет: только вот такие, как я, да старухи останутся домовничать...
Народу на пойме в этот день было еще больше, чем накануне. Она расцвела яркими красками платков, чепцов, кофт и сарафанов.
Я смотрел и не мог насмотреться на красоту работавших людей.
Подошел отец:
— Никак людьми любуешься?
— Ага...
— Да, сынок, люди у нас красивые. Очень! Когда пашут, косят, жнут, молотят, лес рубят, то ей-ей глаз не оторвешь... Только бедность, серость, да лохмотья нас безобразят, а если бы чуточку одежда была получше, господам бы с нами не сравниться!.. Ну ладно, когда-нибудь и на нашей улице будет праздник...
А ПОТОМ НАСТУПИЛ СЕНОКОС!
ЕГО ЖДАЛИ, КАК СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА.
К нему готовились задолго: покупали косы, запасались смолянками и брусками, мастерили более удобные окосья... Бабы шили мужьям и сыновьям белые рубахи, да и себя с дочерьми не обижали: доставали из сундуков новые, похожие на цветастое луговое разнотравье сарафаны и кофты.
И вот наконец пришел долгожданный день сенокоса! Мы с отцом надели белые холщовые рубахи, синие портки в полоску, обули красные лапти с хорошо отбеленными портянками и вышли из избы.
Мать проводила нас до крыльца и огорченно проговорила:
— Добрые-то люди сперва богу помолились, у него благословенья попросили, а вы, ветродуи, вскочили и, не перекрестя лбов, в луга!..
Отец взял косу, закинул ее за плечо:
— Я за день-то намолюсь-накланяюсь, и бока затрещат...
Мать уже завистливо сказала:
— Хоть бы часик в лугах побыть: на травушку-муравушку глянуть!
Отец положил на плечо матери ладонь:
— Ничего, мать, потерпи! Натащка подрастет, и тогда наглядишься.
На улице к нам присоединились дед Михайла, Бо-риска и Наталья. Поздоровались. Наталья оглядела меня и озорно пропела:
Мне портки в полоску сшили —. Ой, гожи, гожи, гожи!
Ко мне девушки пристали:
— Нам порточки покажи!
И расхохоталась на всю улицу: звонко, словно беззаботная девчонка. Бориска тоже рассмеялся, а дед Михайла улыбнулся и сказал отцу:
— Живут дружно, вот и поют весело!
У избенки Фадичкина Максима собрались все наши десятинники и еще многие мужики из других десятин. Вскинув на плечи косы, двинулись к пойме речки Ежати. Я еще на ней не бывал, но уже слышал, как мужики насмешливо говаривали: «На дне Ежати можно лежати, а захочешь испити — надо к полевому колодцу идтити!»
Вода в речке была только по снеготалу и в ливневые дожди, а в остальное время года воробей мог ее перескочить и ног не замочить...
Так вот, на пойму речки Ежати шло множество му-жиков-косарей. По тому, как они спешили, высоко неся горящие, искрящиеся на солнце косы, можно было подумать, что движется какое-то воинство...
Наконец мы добрались до поймы и до своего десятинного лугового участка. На нем пестрело такое разнотравье, что у меня в глазах зарябило! Удивительно пьянящими были и цветочные запахи: от них кружилась голова...
Дед Михайла окинул участок радостным взглядом и молвил:
— Луг будем делить по закону: на каждую мужицкую душу по две сажени, а на баб и девок ни вершка... Метнем жребий: он и слеп, но все равно укажет, кому и где траву косить!
Сняв выгоревший до бела картуз, дед опустил в него жребии — коротенькие палочки с зарубками:
— По обычаю, соседушки: мой жребий — с одной зарубкой, твой, Иван Ильич, с двумя, у Митрофана Фи-липпыча — с тремя, у Лексея — с четырьмя...
Десятинники прервали:
— Знаем!
— Помним...
Дед поманил меня пальцем:
— Иди-ка сюда, да тащи из картуза жребий! Ну-ка!
Я сунул в картуз дрожащую от нетерпения руку и
вытащил жребий с двумя зарубками. Десятинники ахнули:
— Ах ты, какой на руку-то удачливый!
Дед Михайла глазами показал на участок:
— Митрофан Филиппыч, отмерь Ивану Ильичу пай в четыре сажени!
Когда жеребьевка кончилась, дед Михайла взглянул на небо, веревочкой подвязал длинные волосы и мелко перекрестил костлявую грудь:
— Однако, десятиннички, начнем, благословясь, косить, пока роса с травы не сошла!
Вслед за дедом и мужики перекрестились: кто старательно, кто размашисто, а кто кое-как, как моя мать говаривала, кукишем. Только мой отец отвернулся — будто косу к окосью прилаживал. Потом и отец снял картуз и развязал пояс.
— Я буду траву подваливать, а ты, сынок, ее умненько, ровненько растрясай! К земле не притаптывай и не приминай, этого трава не любит — плохо сохнет. Надо, чтобы солнышко каждую травиночку насквозь видело и подсушивало!
Сказав так, отец взмахнул косой; она сверкнула и пропела: ж-ж-и-и-и! А потом пошла и пошла и пошла: ж-ж-и-к! ж-ж-и-к! ж-и-к!.. Срезанная трава ложилась ровно, и на ней лучились капли еще не обсохшей утренней росы...
Вся пойма Ежати, вплоть до чуть видневшегося вдали соседнего села Ладыгина, белела мужицкими рубахами и вспыхивала и блистала безгромными серебряными молниями кос...
Я раскладывал скошенную траву ровно, но подошла Наталья и посоветовала:
— А ты, Мишка, траву клочьями не оставляй — они будут долго сохнуть! Каждый клок вот так раструшивай!.. Вот так! Видишь? Пусть травинки — будто пушинки, на отаву сохнуть ложатся...
В траве попадались кисточки красной земляники и не очень яркой, мало заметной дикой клубники. Кто не бывал в лугах, тот не знает ни запаха, ни вкуса этой дивной ягоды.
Землянику и клубнику я честно делил на две части: половину себе в рот, а другую часть клал в картуз — хотелось и отца с матерью ягодами покормить!..
К полудню этот участок луга был скошен. Косцы собрались передохнуть, и тут кто-то удивленно проговорил:
— Иван Ильич, да ты не косишь, а траву с земли сбриваешь! Коса, что ли, у тебя особая?
Наталья подошла к отцу:
— Дядя Иван, покажи, как ты косишь?
Дед Михайла сердито проговорил:
— Чего ты, баба, не в свои дела нос суешь? Вдовам да солдаткам это еще знать пользительно, а тебе зачем?
Бориска покраснел и тоже недовольно процедил:
— Наталья, отойди!
Она дерзко глянула на мужа и отрезала:
— Хочу знать, и все тут!
Отец взял косу:
— Хочешь знать? Гляди: у меня секретов нету!
Взмахнул косой и так снял траву, будто бритвой
сбрил:
— Видела, чем я беру? Не силой, а ловкостью! Нажимаю на пятку косы, и она сама режет...
Наталья подняла косу, приладилась и тоже взмахнула. Потом еще и еще...
Мужики вскочили, глянули на Натальину работу и молча сели.
Дед Михайла счастливо заулыбался:
— Не хуже Ивана Ильича!..
Наталья положила косу:
— Если тебя, Борис, возьмут на войну — обо мне не сухотись: я траву выкошу!
И тут все мужики рты пооткрывали:
— Э-т-т-о, конечно...
— Уменье и бабе не мешает!
Больше всех за Наталью радовался я: здорово она мужикам носы утерла! Так и надо бабам с мужиками-зазнайками разговаривать, и тогда не посмеют они своих жен в церкви ставить на левую сторону и называть «коз-лицами»!..
Передохнув, десятинники перешли на другой участок луга, провели жеребьевку и расположились на отдых: ели, дремали.
Мой отец поел земляники с клубникой и вернул мне картуз:
, — Остальное матери понесешь! Ей ягоды нужны: в них сила земли и сила солнца...
Сказав так,, отец лег на спину, закрыл глаза.
Я поднялся, посмотрел на пойму: теперь спали все. Вдруг кто-то взял меня за плечо, и я оглянулся: это была Наталья.
— Пойдем к колодцу: хочу холодной-холодной воды!
Я не знал, где тут колодец, но Наталья привела
меня к нему. Я взглянул и разочарованно протянул:
— Э-э-э-э! Бо-ло-то-о!
И верно: из большой болотной лужи, затянутой ряской, был еле виден низенький сруб колодца. В болотце
Плавали лягушки и бегали беспокойные водомерки. Наталья с досадой проговорила:
— А какой колодец-то был! Вода, как воздух... Сельский староста виноват: с нас деньги собирает, а колодцы не чистит.
Наталья обошла вокруг болотца и вдруг расплылась в улыбке:
— Мишка, счастливой руке удача! Гляди, в болоте железная лопата.
Я быстро разулся, слазил в болотце, достал старую лопату.
Наталья подоткнула подол сарафана за пояс:
— Сейчас болотную воду вон туда спустим!..
Сильнущими руками Наталья глубоко вонзала лопату
в черную, словно дегтярную, грязь и отбрасывала ее в сторону.
Скоро по канаве забурлил, заторопился мутно-грязный поток...
Наталья промерила лопатой глубину колодца и начала из него вычерпывать грязь...
Не знаю, сколько времени прошло, но вдруг на дне словно кто-то всхлипнул, потом сердито заворчал... Хотя я и перестал верить в дьяволов, но теперь отскочил в сторону: вдруг в колодце водяной возится и сердится... Наталья нагнулась и еще раз с силой ударила лопатой, и тут как будто пробка из большой бутылки выскочила! В широкое лицо Натальи хлестнул водяной фонтан. Он три раза стрельнул вверх и пропал...
Наталья весело проговорила:
— Прорвало! Водяная жила из-под земли наружу прорвалась...
Колодец быстро наполнился «жильной водой», и она полилась через стенки сруба.
Наталья радовалась:
— Это гоже! Грязная вода уйдет...
Прошло еще немного времени, и вода в колодце посветлела. Стало видно «водяную жилу»: с большой силой она вырывалась из земли, кидала белый песок и мелкие камешки...
Тут я заметил, что наши десятинники проснулись: кто курил, кто потягивался, и все смотрели в нашу сторону. Я сказал об этом Наталье. Она умылась, поправила сарафан, набрала из колодца бутылку воды, и мы пошли к десятинникам.
Дед Михайла принял бутылку, отпил из нее и крякнул:
— Ай, батюшки, какая зуболомная! Будто ледяшки глотал... Спасибо добрым людям, не дают водяной жиле заглохнуть...
Мы с Натальей переглянулись, но промолчали.
Когда тронулись на другой луговой участок, я сказал отцу:
— Тять, а колодец-то тетка Наталья чистила! Канаву вырыла, грязную воду спустила и в колодце водяную жилу нашла...
Отец кивнул:
— Я видел, как вы старались. Эх, Мишка, Наталья такая баба, что Бориска за ней будет жить припеваючи! А сила? Да она таких, как Бориска, троих в беремя возьмет и за тридевять земель унесет!..
Лугов у нас было мало, и мы к сумеркам косьбу трав закончили. Шли домой усталые — еле ноги волочили.
Мать собрала ужинать, но я за столом уснул и ложку на пол уронил.
Утром мать еле меня добудилась:
— Сынок, проснись, пойдешь с отцом в луга сено сушить! Завтра надо его привезти, а то дни ненадежные стоят: сейчас солнышко жарит, а через час дождик брызнет... Про это время добрые люди говорят: «У бога дождя много, но он к сенокосу бережет!» Эх, Наташка-то мала, а то бы и я с вами на сенокос пошла! Нынче все село там будет: только вот такие, как я, да старухи останутся домовничать...
Народу на пойме в этот день было еще больше, чем накануне. Она расцвела яркими красками платков, чепцов, кофт и сарафанов.
Я смотрел и не мог насмотреться на красоту работавших людей.
Подошел отец:
— Никак людьми любуешься?
— Ага...
— Да, сынок, люди у нас красивые. Очень! Когда пашут, косят, жнут, молотят, лес рубят, то ей-ей глаз не оторвешь... Только бедность, серость, да лохмотья нас безобразят, а если бы чуточку одежда была получше, господам бы с нами не сравниться!.. Ну ладно, когда-нибудь и на нашей улице будет праздник...
• • •
ЛЕТНИЕ ДНИ ЛЕТЕЛИ СТРЕМИТЕЛЬНО, НАСТУПАЛА ПОРА ЖАТВЫ ХЛЕБОВ. Погода установилась жаркая, знойная. В полдень на горизонте можно было видеть трепещущее, словно прозрачная завеса, марево. Рожь спела не по дням, а по часам: солома и зерно становились похожими на ярый воск. И вот, будто сговорившись, все село однажды выехало на жатву! Отец нервничал: — Ты, Анна, не просись: не возьму я тебя в поле! Мы уж с Мишкой: где серпом, где косой... Мать и слушать не хотела: — Другие бабы тоже с грудными детьми — и поедут жать, а я дома лежать? Не уговаривай — поеду! И мы поехали всей семьей. Жать, оказалось, нам придется там, где мы и сено убирали! На пойме отец отпряг Гнедка и пустил гулять на отаву — подраставшую после сенокоса травку. Потом отец взял на плечо три серпа и зашагал к нашей полосе ржи. Мать спешила за отцом несла Наташку. Я тащил узел пеленок... Насколько хватало взгляда, далеко-далеко тянулись плесы золотистой ржи. Воздух сладковато попахивал свежим зерном, спорыньей, донником и козлецом. Когда мы пришли на свою полосу, мать уложила Наташку, взяла серп и, словно воин перед боем, поцеловала это оружие: — Святая Прасковея Пятница, помоги рабе божией Анне и рабам твоим Ивану с Михайлой жать рожь без скорбей и печалей, без хворей и немощей. Будь нам заступницей от колдунов и колдуний, от ведьм и ведунов, от еретиков и еретиц, от огненных птиц, от баб глазастых и языкастых, от всяких бед, напастей, от бурь и ненастья... Дай нам силу на серп, на цеп, на все жнитво и обмолот! Мать и меня заставила молиться: — Ты помни, что делать-то собирашься! Хлеб насущный с поля убирать! Хлеб! За него надо бога благодарить и родному отцу-батюшке в ножки низко кланяться... И она опустилась перед отцом на колени и лбом приложилась к его лаптям: — Спасибо, кормилец наш, за твой труд-заботушку, за пот и потерянную силушку! Отец сильно смутился, покраснел и с досадой проговорил: — Да ты что, мать? На глазах людей-то меня не конфузь! Скажут, что у мужа прощенья просила... Мать поднялась: — Пусть думают и говорят, что хотят! За хлеб не грех в ножки поклониться... Мишка, кланяйся отцу в ноги! Я тоже поклонился. Отец тряхнул головой и промолчал: может быть потому слова не молвил, что сыновний почет был по душе? Взяв серп, я с большой охотой принялся хватать стебли ржи и подрезать их: ж-ж-и-к! ж-ж-и-к!.. Все шло хорошо и споро: я быстро нажал сноп, мать его связала и похвалила меня: — Руки у тебя будут золотыми! И вдруг я перекосил серп и до кости расхватил безымянный палец левой руки. На срезанную солому пролилась кровь. Мать оторвала от пеленки лоскут: , — Давай сюда палец — перевяжу! Я словно щенок слизнул с пальца кровь и подставил его для перевязки. Отец шумно вздохнул: — Вот вам и Прасковья Пятница! «Помогла...» Теперь ты, Мишка, не жнец! Иди к Гнедку: не давай ему в рожь заходить, а то зерна нахватается, раздуется, и тогда мы нищие!.. Ладно, не хмурься: до твоей свадьбы палец заживет! Мне было стыдно и обидно: вот так «помог» отцу с матерью!.. Понуря голову, я побрел на пойму. На ней паслось множество лошадей... До полдня еще Гнедко терпел и только от комарья отфыркивался, а в полдень появились тучи оводов, и все лошади на пойме будто ума лишились: стали безумно бегать, ногами бить... Я еле Гнедка поймал и повел к колодцу. Только не к тому, который Наталья чистила, а к другому, с часовенкой. Колодец был под невысоким бережком и считался очень древним. Старики сказывали, что его отрыли еще мордвины-язычники. Здесь, на теперешней пойме, в давние времена шумели непроходимые леса. У глухого колодца мордвины совершали моленья богу Чам-Пасу. Но вот нагрянули русские и на месте крохотной деревеньки Ермезенки основали большое село Тольский Майдан* Православный поп насильно окрестил мордву, их языче-j ское капище разорил и велел у колодца поставить чан совню. ! Русские сжигали леса и на пепелищах-золищах сеяли рожь, овес, просо. Колодец оказался в открытом поле, но вода не высыхала... Так вот, привел я Гнедка к колодцу и стал поить: — Пей, вода сладкая! И Гнедко пил с большой жадностью, а напившись, немного стал спокойнее и начал щипать траву. Меня потянуло заглянуть в часовенку, и япереступил ее порог. Было темно, но все-таки я разглядел врытый в землю толстый деревянный крест и на нем... живого антела. Он вертел головой, щелкал и смотрел на меня с большим неудовольствием. Я уже говорил, что перестал верить в бога и дьяволов, но теперь, своими глазами увидев ангела, сразу вспомнил бога, святых, пророков и раскаялся: «Господи, я в тебя не верил, а ты есть! Владычица небесная, моли бога за меня!» Забыв о Гнедке, я помчался к родителям. Отец первым меня заметил и встревоженно окликнул: — Что там? Не Гнедко ли обожрался? Я подбежал и выпалил... — В часовне живой ангел... Сидит на кресте. Крылья вот так и головой вертит... — А что, Иван, может и вправду ангел божий без грешному дитю явился? Уж не войну ли господь посылает? ^ Отец иронически усмехнулся: — «Безгрешному»... Сейчас пойду за холодной водой и на ангела гляну! Мать с завистью посмотрела на нас. Ей тоже хотелось ангела увидеть, но отойти от Наташки было нельзя, да и отец во время работы становился строгим и даже суровым... Мы шли к колодцу, и я взахлеб рассказывал: — Тять, ангел, наверно, с неба прилетел: устал и в часовне на кресте отдыхает. И проголодался тоже: хлеба нет, так семечки грызет! Отец хмыкнул: — Хм! «Ангел»... Ангелы бесплотные. — Нет, тять, этот плотный: сквозь него ничего не видно! Мы подошли к колодцу. Я ждал, что отец сразу же пойдет в часовенку, но он зачерпнул ведро воды и долго пил и крякал: — Хо-ро-ша-а! Солнце печет, а вода леденистая... Мне не терпелось, и я напомнил отцу: — Загляни в часовенку-то! Отец вылил остатки воды на Гнедка, ладонью вытер бороду, шагнул через порог часовни, глянул и рассмеялся: — Ха-ха-ха! Вот так ангел! Я опешил: — Он что? — Ничего! Это не ангел... —* А кто же? — Сова. Сидит, башкой крутит, на себе блох ищет и так клювом щелкает, что пух летит! Я был обескуражен и еле слышно вымолвил: — Сова тут зачем? — Как зачем? Она днем видит плохо и по темным местам прячется. Вечер придет, сова на добычу вылетит — будет мышей ловить... Она, я тебе скажу, наша мужицкая помощница! Набрав ведро воды, отец зашагал к полосе. Я смотрел вслед, и мне было стыдно даже отцовской спины... Домой мы возвращались в сумерки, и мать сильно тужила: — Пустят шабры наших овец или не догадаются? Забегут они ку^а-йибудь, и злой человек зарежет... Отец торопил Гнедка: — Но, скорее, скорее, а то и дома-то у нас дела! Въехали в село, и тут отец остановил лошадь: — Т-п-р-у-у! На крыльце школы учительница сидит, Елизавета Лександровна. Пойду спрошу: примут Мишку в школу или нет? Мать заворчала: — Нашел время спрашивать! Надо скорее ехать, а то овцы пропадут! Отец не ответил на ворчание матери и направился к крыльцу школы. Не доходя метров пять, снял картуз, поясно учительнице поклонился и стал что-то говорить. Учительница ответила. Отец попятился и, не надевая — Сказала, чтобы осенью тебя, Мишка, присылать в школу: если места будут, то примут... Тронув Гнедка, отец плюнул: — Тьфу! «Если будут места...» А если не будут? Столбом с глазами оставаться? Мать отозвалась: — Полно убиваться-то! Мужики над тобой станут смеяться... Больше половины села и буковки не видели, да столбами не остались: детей растят, семьи кормят... Отец даже застонал: — У-у-у-у!.. «Кормят...» Кошки и свиньи тоже кормят, но ведь мы люди! Я сказал, что буду сам Мишку учить, и буду!
 ЕСЛИ ВЫДАВАЛСЯ СВОБОДНЫЙ ЧАС, ОТЕЦ БРАЛ АЗБУКУ И ГОВОРИЛ:
— Давай, сынок, на спор, кто вот эту страницу быстрее пробежит?
Во мне вспыхивало мальчишеское самолюбие, и я горячился:
— Давай!
И мы читали. Сперва отец, а за ним и я. Мать слушала и улыбалась:
— Ты, Мишка, бойчее отца читаешь!
И тут же вздыхала:
— А я ни единой буковки не знаю!
— Хочешь я тебя научу?
Мать даже отступила:
— Нет, нет! Все ваши буквицы написаны дьявольскими знаками!
Отец спросил с издевкой:
— Значит, и библия и псалтырь написаны дьявольскими знаками?
Мать отвернулась и не ответила. Отец мне подмигнул: вот, мол, как я мать уколол — ответить не может, баба она и есть баба...
т£очитай немн^ж^сс^^^отом писать станешь!
Мою сказку о яблоньке мать слушала очень внимательно, а когда я смолк, сказала:
— Это про дедушку Лексея Миклашина написано! Он развел сад семечками. Ты, Мишка, к деду приласкайся: он многому научит — с парнишечьих годов все в саду да в саду. Никто к другим деревам яблоню не прививает, а дед привил! К осине... Яблоки горькие, свиньи их не едят, но дед яблоню бережет: вот, мол, осина и то с яблоней роднится!
Я промолчал: сказку от дедушки Алексея слышал и матери за книжную историю выдал...
На другой день мать опять усадила меня за книжку:
, тт^‘чи V I сказал:
зывал? Читай книжку!
Книжки были прочитаны й „
мне не хотелось, но мать настаи?стнои! Я ОТ1*а молила-
- Читай, а я буду слушать!еУжт0 мне от своих-то
как ты читал! и Упрашивать? Надо
Я раскрыл книжку.
— Все началось с маленького ябл5хе Разные слова
Кто-то его уронил возле изгороди и втогк (
Зернышко пролежало в земле осень, проспалопл°хие* весной очнулось: «Ах, как темно!» пи“
Зернышко пустило остренький корешок, уперлось им в землю и погнало стебелек вверх, к дневному свету: «Скорее бы на солнышко взглянуть!»
Нелегко было стебельку пробиваться к солнышку, но он оказался упрямым: тянулся, тянулся и однажды раздвинул мешавшие комочки земли, выглянул на свет и радостно крикнул: «Здравствуй, красное солнышко!»
Солнышко улыбнулось: «Здравствуй, яблонька!»
Стебелек развернул под солнцем два маленьких зеленых листочка: «Ах, как хорошо!»
Вдруг кто-то сердито проговорил: «Не радуйся! Я злой Репейник и не хочу, чтобы рядом со мной росла яблоня. Своими листьями-лопухами закрою от тебя солнышко, и ты погибнешь!»
Яблонька робко спросила: «За что же ты, злой Репейник, так сердишься? Тебе, мне и всем света хватит!»
Злой Репейник захохотал: «Ха-ха-ха! Вот, глупая, не понимает, что на моей земле растет! Хорошо же, ты поймешь это и заплачешь».
Сказав так, злой Репейник стал торопливо растить листья-лопухи. И сам тянулся все выше и выше, а лопу-
картуза, вернулся к телеге. Лицо было мрачным, обижен
ным:
— Сказала, чтобы осенью тебя, Мишка, присылать в школу: если места будут, то примут...
Тронув Гнедка, отец плюнул:
— Тьфу! «Если будут места...» А если не будут? Столбом с глазами оставаться?
Мать отозвалась:
— Полно убиваться-то! Мужики над тобой станут смеяться... Больше половины села и буковки не видели, да столбами не остались: детей растят, семьи кормят...
Отец даже застонал:
— У-у-у-у!.. «Кормят...» Кошки и свиньи тоже ко^о мят, но ведь мы люди! Я cin;A:^ буду сядовек: «Ты учить, и буду!
хейник из земли и выкинул за *а виду, и человек ее заметил: «Да
, ло говорить по-человечески и только 5 ^ами.
?ринес воды и полил яблоньку: «Расти, ма-^орееивыше!»
того часу яблонька стала расти быстрее...
А следующим летом к яблоньке пришли два человека. Один из них сказал: «Это яблоня дикая, но мы сделаем ее хорошей, настоящей!»
Человек срезал со старой яблони кусочек кожицы с глазком и листочком, сделал надрез в кожице молодой яблоньки и вставил в него глазок. Затем забинтовал рану и сказал: «Будем ждать весны!»
Пришла весна, человек снял с яблоньки повязку, посмотрел и довольно проговорил: «Глазок прирос-привил-ся!» Потом срезал вершину деревца: «Теперь расти большой яблоней!»
Яблоньке было очень больно, и она не знала, как ей расти, если нет вершинки? Но все-таки она стала расти: погнала свои соки к прижившемуся глазку, и он выпустил один листочек, потом — другой, и пошла в рост веточка, да так быстро, что к осени поднялась до пояса человека!
Через три года яблонька стала большой яблоней, и на ней выросли крупные яблоки.
Человек радовался. Молодая яблонька тоже радовалась...
Мою сказку о яблоньке мать слушала очень внимательно, а когда я смолк, сказала:
— Это про дедушку Лексея Миклашина написано! Он развел сад семечками. Ты, Мишка, к деду приласкайся: он многому научит — с парнишечьих годов все в саду да в саду. Никто к другим деревам яблоню не прививает, а дед привил! К осине... Яблоки горькие, свиньи их не едят, но дед яблоню бережет: вот, мол, осина и то с яблоней роднится!
Я промолчал: сказку от дедушки Алексея слышал и матери за книжную историю выдал...
На другой день мать опять усадила меня за книжку:
— Почитай немножко, а потом писать станешь!
Мне не хотелось читать, и я сказал:
— Буду писать...
— Писать? Пиши письмо крестной! Я отца молила, просила, а он и усом не ведет. Неужто мне от своих-то грамотников в чужие люди бежать и упрашивать? Надо мной смеяться станут.
Письмо писать — не просто в тетрадке разные слова да буквы выводить, и я стал отказываться:
— Мам, я письма не напишу: у меня буквы плохие!
— Какие такие плохие? С отцом в перегонышки пишете, а письмо крестной написать и буквы стали плохими! Не противься! Пиши! Не вводи меня во грех...
И уже просительно, заглядывая в глаза, сказала:
— Напиши, а я тебе за труды два печеных яйца дам!
Пришлось взять бумагу и карандаш:
— Сказывай, чего писать-то!
Покачивая ногой зыбку, мать полузапела:
— Любезная Анисьюшка! Во первых строках моего письма кланяюсь от небесной зари до сырой земли и желаю доброго здоровьица. Хвори и болезни, чирьи и нарывы, золотухи и почесухи, лихоманки и желтухи, ознобы, ломоты и дурной глаз — все мимо вас! И дай бог вам светлых дней, спокойных ночей, меньше убытков — больше прибытков, и пусть вас с супругом Андреем божья мать боронит...
Мать диктовала — будто тихую песню напевала. Я слушал, пытался записывать, но не успевал и положил карандаш:
— За тобой, мам, тятька не успеет, а не только я! Лучше я сперва твои слова запомню, а потом напишу... И еще: негоже божью мать страмить!
У матери глаза округлились:
— Я страмлю? Да ты что? Да о чем толкуешь-то?
— Ты сказала, что божья мать боронит...
Мать поднялась медленно, грозно:
— Как ты посмел богородицу на одну доску с боро* ной ставить? Я не погляжу, что под отцовским крыло^ скрываешься, а выпорю, как кошку!
Я понимал, что теперь мать меня и пальцем не тронет, и потому разговаривал смело: j
— Не я, а ты богородицу на одну доску с бороной! ставишь! Надо написать хранит, а не боронит...
Мать отступила:
— Ладно, пусть будет по-твоему, но только пиши!
Я записал, и мать стала еще наговаривать:
— Живем мы скудно, а семья прибавилась: я родила доченьку Натальюшку... Поп, сердешный, брюхом расхворался. В больнице его разрезали и выкинули двенадцать фунтов сала и больше картошку с свининой есть не велели... К Лисину Федору лез вор, но дочь Ольга (это у них младшенькая!) вора напугала и сама чуть со страху не умерла. Прибежала домой и понесла-поехала: «Черный, серый, белоногий через забор полез — убился: не знай волк, не знай собака, а в лаптях!» Так Федор-то и не допытался у Ольги, какой же из себя был вор?.. Тарас с Тарасихой недавно, слышь, скончались, но правда это или нет, не ручаюсь! Вот если умерли, то дадут ногам отдых: ведь всю Россею пешими исходили!.. А еще сообчаю горькую новость: наша корова околела от сапу и после себя телочки-наследницы не оставила. Теперь у нас молока нет. Мы с Иваном стерпим, а вот Мишка-то... Да и Натальюшка скоро будет просить есть! Нащет коровы на вашу помочь не надеемся: сами худо живете.
Только я писать закончил, мать сразу же положила на стол два яйца:
— Это тебе за великие труды!
Меня распирало великодушие, и я предложил:
— Одно яйцо, мамка, возьми себе! Тебе надо: ты нездоровая!
Она покачала головой:
— Нет и нет! Чай, я не писарь и не маленькая. Ешь сам!
Я настаивал и почти насильно положил яйцо в карман матери. Она поклонилась:
— Спасибо, кормилец, и дай тебе господь большого ума и здоровья!
Тут в окно робко постучали и послышался женский голос:
— Подайте милостынку, Христа ради!
Приоткрыв окно, мать подала яйцо:
— Молись, матушка, за здравие раба божия Ми-хайлы!
Я растерялся:
— Что же ты, мамка, сама-то не съела?
— Нищенка съест — будет две пользы: сама голод приглушит и за тебя перед богом попросит...
Я посмотрел на оставшееся яйцо и что-то расхотел есть. Выбежал на улицу и увидел старика-нищего:
— Дедушка, прими яичко!
Нищий отступил:
— Нет, нет, нет! Не приму. Яичко — еда хворых, младенцев и господ, а я старик-нищий: кусок хлеба, ковш воды и сыт...
Из-за угла вывернулся Лаврушка Егранов;
— Твою милостынку нищий не взял?
— Нет...
— Давай мне!
Выхватив у меня из руки яйцо, Лаврушка мгновенно спустил скорлупу и запихал его в рот:
— И почему ты не любишь яйца? Я бы их десятками ел!
Мне было жаль яйца, и я с досадой проговорил:
— Ешь, а бога не благодаришь!
Лаврушка усмехнулся:
— Ну и чудак! Яйцо снесла курица, а не бог...
ЕСЛИ ВЫДАВАЛСЯ СВОБОДНЫЙ ЧАС, ОТЕЦ БРАЛ АЗБУКУ И ГОВОРИЛ:
— Давай, сынок, на спор, кто вот эту страницу быстрее пробежит?
Во мне вспыхивало мальчишеское самолюбие, и я горячился:
— Давай!
И мы читали. Сперва отец, а за ним и я. Мать слушала и улыбалась:
— Ты, Мишка, бойчее отца читаешь!
И тут же вздыхала:
— А я ни единой буковки не знаю!
— Хочешь я тебя научу?
Мать даже отступила:
— Нет, нет! Все ваши буквицы написаны дьявольскими знаками!
Отец спросил с издевкой:
— Значит, и библия и псалтырь написаны дьявольскими знаками?
Мать отвернулась и не ответила. Отец мне подмигнул: вот, мол, как я мать уколол — ответить не может, баба она и есть баба...
т£очитай немн^ж^сс^^^отом писать станешь!
Мою сказку о яблоньке мать слушала очень внимательно, а когда я смолк, сказала:
— Это про дедушку Лексея Миклашина написано! Он развел сад семечками. Ты, Мишка, к деду приласкайся: он многому научит — с парнишечьих годов все в саду да в саду. Никто к другим деревам яблоню не прививает, а дед привил! К осине... Яблоки горькие, свиньи их не едят, но дед яблоню бережет: вот, мол, осина и то с яблоней роднится!
Я промолчал: сказку от дедушки Алексея слышал и матери за книжную историю выдал...
На другой день мать опять усадила меня за книжку:
, тт^‘чи V I сказал:
зывал? Читай книжку!
Книжки были прочитаны й „
мне не хотелось, но мать настаи?стнои! Я ОТ1*а молила-
- Читай, а я буду слушать!еУжт0 мне от своих-то
как ты читал! и Упрашивать? Надо
Я раскрыл книжку.
— Все началось с маленького ябл5хе Разные слова
Кто-то его уронил возле изгороди и втогк (
Зернышко пролежало в земле осень, проспалопл°хие* весной очнулось: «Ах, как темно!» пи“
Зернышко пустило остренький корешок, уперлось им в землю и погнало стебелек вверх, к дневному свету: «Скорее бы на солнышко взглянуть!»
Нелегко было стебельку пробиваться к солнышку, но он оказался упрямым: тянулся, тянулся и однажды раздвинул мешавшие комочки земли, выглянул на свет и радостно крикнул: «Здравствуй, красное солнышко!»
Солнышко улыбнулось: «Здравствуй, яблонька!»
Стебелек развернул под солнцем два маленьких зеленых листочка: «Ах, как хорошо!»
Вдруг кто-то сердито проговорил: «Не радуйся! Я злой Репейник и не хочу, чтобы рядом со мной росла яблоня. Своими листьями-лопухами закрою от тебя солнышко, и ты погибнешь!»
Яблонька робко спросила: «За что же ты, злой Репейник, так сердишься? Тебе, мне и всем света хватит!»
Злой Репейник захохотал: «Ха-ха-ха! Вот, глупая, не понимает, что на моей земле растет! Хорошо же, ты поймешь это и заплачешь».
Сказав так, злой Репейник стал торопливо растить листья-лопухи. И сам тянулся все выше и выше, а лопу-
картуза, вернулся к телеге. Лицо было мрачным, обижен
ным:
— Сказала, чтобы осенью тебя, Мишка, присылать в школу: если места будут, то примут...
Тронув Гнедка, отец плюнул:
— Тьфу! «Если будут места...» А если не будут? Столбом с глазами оставаться?
Мать отозвалась:
— Полно убиваться-то! Мужики над тобой станут смеяться... Больше половины села и буковки не видели, да столбами не остались: детей растят, семьи кормят...
Отец даже застонал:
— У-у-у-у!.. «Кормят...» Кошки и свиньи тоже ко^о мят, но ведь мы люди! Я cin;A:^ буду сядовек: «Ты учить, и буду!
хейник из земли и выкинул за *а виду, и человек ее заметил: «Да
, ло говорить по-человечески и только 5 ^ами.
?ринес воды и полил яблоньку: «Расти, ма-^орееивыше!»
того часу яблонька стала расти быстрее...
А следующим летом к яблоньке пришли два человека. Один из них сказал: «Это яблоня дикая, но мы сделаем ее хорошей, настоящей!»
Человек срезал со старой яблони кусочек кожицы с глазком и листочком, сделал надрез в кожице молодой яблоньки и вставил в него глазок. Затем забинтовал рану и сказал: «Будем ждать весны!»
Пришла весна, человек снял с яблоньки повязку, посмотрел и довольно проговорил: «Глазок прирос-привил-ся!» Потом срезал вершину деревца: «Теперь расти большой яблоней!»
Яблоньке было очень больно, и она не знала, как ей расти, если нет вершинки? Но все-таки она стала расти: погнала свои соки к прижившемуся глазку, и он выпустил один листочек, потом — другой, и пошла в рост веточка, да так быстро, что к осени поднялась до пояса человека!
Через три года яблонька стала большой яблоней, и на ней выросли крупные яблоки.
Человек радовался. Молодая яблонька тоже радовалась...
Мою сказку о яблоньке мать слушала очень внимательно, а когда я смолк, сказала:
— Это про дедушку Лексея Миклашина написано! Он развел сад семечками. Ты, Мишка, к деду приласкайся: он многому научит — с парнишечьих годов все в саду да в саду. Никто к другим деревам яблоню не прививает, а дед привил! К осине... Яблоки горькие, свиньи их не едят, но дед яблоню бережет: вот, мол, осина и то с яблоней роднится!
Я промолчал: сказку от дедушки Алексея слышал и матери за книжную историю выдал...
На другой день мать опять усадила меня за книжку:
— Почитай немножко, а потом писать станешь!
Мне не хотелось читать, и я сказал:
— Буду писать...
— Писать? Пиши письмо крестной! Я отца молила, просила, а он и усом не ведет. Неужто мне от своих-то грамотников в чужие люди бежать и упрашивать? Надо мной смеяться станут.
Письмо писать — не просто в тетрадке разные слова да буквы выводить, и я стал отказываться:
— Мам, я письма не напишу: у меня буквы плохие!
— Какие такие плохие? С отцом в перегонышки пишете, а письмо крестной написать и буквы стали плохими! Не противься! Пиши! Не вводи меня во грех...
И уже просительно, заглядывая в глаза, сказала:
— Напиши, а я тебе за труды два печеных яйца дам!
Пришлось взять бумагу и карандаш:
— Сказывай, чего писать-то!
Покачивая ногой зыбку, мать полузапела:
— Любезная Анисьюшка! Во первых строках моего письма кланяюсь от небесной зари до сырой земли и желаю доброго здоровьица. Хвори и болезни, чирьи и нарывы, золотухи и почесухи, лихоманки и желтухи, ознобы, ломоты и дурной глаз — все мимо вас! И дай бог вам светлых дней, спокойных ночей, меньше убытков — больше прибытков, и пусть вас с супругом Андреем божья мать боронит...
Мать диктовала — будто тихую песню напевала. Я слушал, пытался записывать, но не успевал и положил карандаш:
— За тобой, мам, тятька не успеет, а не только я! Лучше я сперва твои слова запомню, а потом напишу... И еще: негоже божью мать страмить!
У матери глаза округлились:
— Я страмлю? Да ты что? Да о чем толкуешь-то?
— Ты сказала, что божья мать боронит...
Мать поднялась медленно, грозно:
— Как ты посмел богородицу на одну доску с боро* ной ставить? Я не погляжу, что под отцовским крыло^ скрываешься, а выпорю, как кошку!
Я понимал, что теперь мать меня и пальцем не тронет, и потому разговаривал смело: j
— Не я, а ты богородицу на одну доску с бороной! ставишь! Надо написать хранит, а не боронит...
Мать отступила:
— Ладно, пусть будет по-твоему, но только пиши!
Я записал, и мать стала еще наговаривать:
— Живем мы скудно, а семья прибавилась: я родила доченьку Натальюшку... Поп, сердешный, брюхом расхворался. В больнице его разрезали и выкинули двенадцать фунтов сала и больше картошку с свининой есть не велели... К Лисину Федору лез вор, но дочь Ольга (это у них младшенькая!) вора напугала и сама чуть со страху не умерла. Прибежала домой и понесла-поехала: «Черный, серый, белоногий через забор полез — убился: не знай волк, не знай собака, а в лаптях!» Так Федор-то и не допытался у Ольги, какой же из себя был вор?.. Тарас с Тарасихой недавно, слышь, скончались, но правда это или нет, не ручаюсь! Вот если умерли, то дадут ногам отдых: ведь всю Россею пешими исходили!.. А еще сообчаю горькую новость: наша корова околела от сапу и после себя телочки-наследницы не оставила. Теперь у нас молока нет. Мы с Иваном стерпим, а вот Мишка-то... Да и Натальюшка скоро будет просить есть! Нащет коровы на вашу помочь не надеемся: сами худо живете.
Только я писать закончил, мать сразу же положила на стол два яйца:
— Это тебе за великие труды!
Меня распирало великодушие, и я предложил:
— Одно яйцо, мамка, возьми себе! Тебе надо: ты нездоровая!
Она покачала головой:
— Нет и нет! Чай, я не писарь и не маленькая. Ешь сам!
Я настаивал и почти насильно положил яйцо в карман матери. Она поклонилась:
— Спасибо, кормилец, и дай тебе господь большого ума и здоровья!
Тут в окно робко постучали и послышался женский голос:
— Подайте милостынку, Христа ради!
Приоткрыв окно, мать подала яйцо:
— Молись, матушка, за здравие раба божия Ми-хайлы!
Я растерялся:
— Что же ты, мамка, сама-то не съела?
— Нищенка съест — будет две пользы: сама голод приглушит и за тебя перед богом попросит...
Я посмотрел на оставшееся яйцо и что-то расхотел есть. Выбежал на улицу и увидел старика-нищего:
— Дедушка, прими яичко!
Нищий отступил:
— Нет, нет, нет! Не приму. Яичко — еда хворых, младенцев и господ, а я старик-нищий: кусок хлеба, ковш воды и сыт...
Из-за угла вывернулся Лаврушка Егранов;
— Твою милостынку нищий не взял?
— Нет...
— Давай мне!
Выхватив у меня из руки яйцо, Лаврушка мгновенно спустил скорлупу и запихал его в рот:
— И почему ты не любишь яйца? Я бы их десятками ел!
Мне было жаль яйца, и я с досадой проговорил:
— Ешь, а бога не благодаришь!
Лаврушка усмехнулся:
— Ну и чудак! Яйцо снесла курица, а не бог...
• • •
 ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ И ПРИНЕС... СТОПКУ КНИГ! Мать от удивления даже онемела и смотрела на книги как на ядовитую змею!..
Вынув из кармана три серебряных рубля, отец подал их матери:
— На-ка на расходишко! Заработал-то я пятерку, да поистратился: у никулинского поповича книжки купил. Он против воли отца на агронома учился и теперь в Самарскую губернию едет. Отец денег на дорогу не дает: не хотел, мол, стать священником и живи как знаешь! Попович все распродает — на дорогу деньги сколачивает. Пристал ко мне: купи да купи книжки! А они добрые, умственные... Мишка пойдет учиться — ему пригодятся... Не стерпело мое сердце, и я купил! Ты, мать, сердишься, а погляди, что за книжки! «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Робинзон Крузо», «Занимательная физика», «Анекдоты о шуте Балакиреве», учебник международного языка эсперанто...
Отец любовно и неторопливо раскладывал на столе книжки, а я с жадностью их разглядывал. Вот заросший волосами, еле прикрытый овчиной Робинзон Крузо... А это костлявый Дон Кихот: он на тощем коне бросается с копьем на ветряную мельницу...
Мать наконец пришла в себя и ледяным голосом спросила:
— И зачем нам твои книжки?
Отец вскинул брови:
— Как так зачем? Я же сказал: сам почитаю, Мишке пригодятся — ведь скоро в школу пойдет!
Мать поднялась:
— Э-э-х, ветродуй, ветродуй! Твои книжки нас не ^ накормят и не оденут. Если о себе не думаешь, о сыне
с дочерью вспомнил бы! У Мишки ни одной праздничной рубахи: в чем пойдет исповедоваться и причащаться? Собираешься в школу сына посылать, а в чем? Наташке надо одеяльце шить... В твои книжки, что ли, будем ее завертывать?
И неожиданно для нас мать решительно сгребла книжки в подол:
— В печку их! В огонь! Пусть наши кровные денежки дымом улетят!
Отец потемнел, и глаза сверкнули:
— Пока ты не битая, положи книжки на стол! Поняла? Я терплю, терплю, да и...
— Ма-монь-ка, положи! Христа ради положи! — захныкал я.
Она смяла, скомкала книжки, швырнула их на пол!
— Нате!
И заплакала, запричитала:
— Наташенька, доченька моя ненаглядная, лучше бы я ко господу отошла, чем с этим фармазоном муки мученические терпеть! Владыка царь небесный, возьми меня к себе! И еще сына Михаилу и дочь Наталью...
Я уже почувствовал вкус к жизни и закричал:
— Не пойду я никуда! Не пойду к богу и Наташку не отдам!
Отец ехидно проговорил:
— Бог только и ждет свою рабу Анну, а то ему без нее скучно! Вчера с неба звал: «Куда пропал темный дуб Анна?»
— Я дуб? — разгневалась мать.— А ты дурак непови-тый! Еретик! Фармазон и ветродуй! Подумал бы, чего сыну в наследство готовишь? Книжки?
И, оборвав крик, уже тихо спросила:
— Обедать будешь или своими книжками сыт?
Привыкший к частым перебранкам отец как ни в чем
не бывало кивнул:
— Собирай, будем обедать!
Следующим утром мать за завтраком сказала:
— Дьякон задурил: неделю пьет, пьет и куралесит...
Отец озадаченно посмотрел на мать:
— С чего это он так? Раньше день-два пил, хмелел, но уж неделю!..
— Попа нет! Его в больнице разрезали и двенадцать фунтов сала из брюха выкинули... Дьякон-то без старшего и развольничался. Сказывают, что отец-то Николай велел дьякону церкву чинить, а этот...
— А дьяконица что же? Она баба суровая: могла бы супруга приструнить!
— Могла бы, да уехала! У родичей гостит, а ее Иван Лександрыч, как ухарь-купец удалой молодец, по селу ходит... Гармонь бы в руки и вместо «Тебе господи!», заиграл бы «Тру-ля-ля»...
Отец стал одеваться:
— Пойдем, Мишка, кое-где двор подлатаем, а то скоро зима!
Вышли мы во двор, и отец приставил лестницу к сараю:
— Ну-ка, сынок, лезь и глянь вон там: не провалится зимой?
Я забрался на крышу сарая. Отсюда был виден весь наш порядок; по улице медленно шел и покачивался дьякон. Я окликнул отца:
— Тять, дьякон пьяный!..
Отец отчаянно замахал рукой:
— Слезь на землю, а то дьякон заметит и к нам припрется! Он теперь хуже чумного: кого видит, к тому и идет...
Только я на землю спустился, как ворота открылись и во двор влез дьякон: ряса нараспашку, шапка набекрень и борода такая, будто ее семеро чертей ворошили! Уставившись на отца, дьякон пробасил:
— Бог на помощь, мастер!
Отец сквозь зубы процедил:
— Милости прошу, отец дьякон, в избу!
Дьякон, будто большая ворона, замахал крыльями-рукавами:
— В избу не надо! Уф, дышать тяжело! Упился я...
— С какой же горести, Иван Лександрыч, налился? Может, отцу Николаю худо или что в семье не ладно? А может, с великой радости?
— Им всем хорошо, а вот мне что-то тошновато! Как бездомный пес по селу шляюсь, пью и не падаю. Нет душевного спокойствия!.. Вот ты, Иван Ильич, простачком-мужичком прикидываешься, а скажи честно, почему все дворяне в города убежали?
— В городах веселее...У нас тут что за жизнь? Собаки гавкают, кочеты кричат, лягушки квакают, вороны каркают... А в городах тиатры, гулянья и свет электрический!
Дьякон слушал и головой покачивал:
— Лет пять назад все дворяне в поместьях сидели,— председатель кабинета министров Российской империи господин Столыпин одобрял,— а как его Багров убил, так помещики в города побежали. Кто их туда погнал? Страх. Ужас. Почуяли, что мужики могут горла перерезать и...
Отец усмехнулся:
— Полноте, Иван Лександрыч! Мы не такие живо-резы...
Дьякон погрозил пальцем:
— Не хитри! Я тебя насквозь вижу. Не хуже меня знаешь, сколько в уезде помещиков. Чуть больше двух десятков. А сколько мужицких хозяйств? Пятьдесят три тыщи! Помещики сидят на земле, а мужики? Один лапоть поставит, а другой на весу держит — ступить некуда... Скоро будем в IV Государственную думу депутатов
выбирать, а деревня в нее не верит и за топоры хватается!
— Не ставь меня, Иван Лександрыч, на одну доску с собой! Ты — ученый, а я до всего своим мужицким умишком дохожу и вот что скажу: ни меня, ни тебя в Думу не выберут. Есть звери покрупнее и поклыкастее нас — они и будут за мужиков и за мастеровых «думать», но от тех дум нам станет еще холоднее!
Дьякон ткнул отца пальцем в грудь:
ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ И ПРИНЕС... СТОПКУ КНИГ! Мать от удивления даже онемела и смотрела на книги как на ядовитую змею!..
Вынув из кармана три серебряных рубля, отец подал их матери:
— На-ка на расходишко! Заработал-то я пятерку, да поистратился: у никулинского поповича книжки купил. Он против воли отца на агронома учился и теперь в Самарскую губернию едет. Отец денег на дорогу не дает: не хотел, мол, стать священником и живи как знаешь! Попович все распродает — на дорогу деньги сколачивает. Пристал ко мне: купи да купи книжки! А они добрые, умственные... Мишка пойдет учиться — ему пригодятся... Не стерпело мое сердце, и я купил! Ты, мать, сердишься, а погляди, что за книжки! «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Робинзон Крузо», «Занимательная физика», «Анекдоты о шуте Балакиреве», учебник международного языка эсперанто...
Отец любовно и неторопливо раскладывал на столе книжки, а я с жадностью их разглядывал. Вот заросший волосами, еле прикрытый овчиной Робинзон Крузо... А это костлявый Дон Кихот: он на тощем коне бросается с копьем на ветряную мельницу...
Мать наконец пришла в себя и ледяным голосом спросила:
— И зачем нам твои книжки?
Отец вскинул брови:
— Как так зачем? Я же сказал: сам почитаю, Мишке пригодятся — ведь скоро в школу пойдет!
Мать поднялась:
— Э-э-х, ветродуй, ветродуй! Твои книжки нас не ^ накормят и не оденут. Если о себе не думаешь, о сыне
с дочерью вспомнил бы! У Мишки ни одной праздничной рубахи: в чем пойдет исповедоваться и причащаться? Собираешься в школу сына посылать, а в чем? Наташке надо одеяльце шить... В твои книжки, что ли, будем ее завертывать?
И неожиданно для нас мать решительно сгребла книжки в подол:
— В печку их! В огонь! Пусть наши кровные денежки дымом улетят!
Отец потемнел, и глаза сверкнули:
— Пока ты не битая, положи книжки на стол! Поняла? Я терплю, терплю, да и...
— Ма-монь-ка, положи! Христа ради положи! — захныкал я.
Она смяла, скомкала книжки, швырнула их на пол!
— Нате!
И заплакала, запричитала:
— Наташенька, доченька моя ненаглядная, лучше бы я ко господу отошла, чем с этим фармазоном муки мученические терпеть! Владыка царь небесный, возьми меня к себе! И еще сына Михаилу и дочь Наталью...
Я уже почувствовал вкус к жизни и закричал:
— Не пойду я никуда! Не пойду к богу и Наташку не отдам!
Отец ехидно проговорил:
— Бог только и ждет свою рабу Анну, а то ему без нее скучно! Вчера с неба звал: «Куда пропал темный дуб Анна?»
— Я дуб? — разгневалась мать.— А ты дурак непови-тый! Еретик! Фармазон и ветродуй! Подумал бы, чего сыну в наследство готовишь? Книжки?
И, оборвав крик, уже тихо спросила:
— Обедать будешь или своими книжками сыт?
Привыкший к частым перебранкам отец как ни в чем
не бывало кивнул:
— Собирай, будем обедать!
Следующим утром мать за завтраком сказала:
— Дьякон задурил: неделю пьет, пьет и куралесит...
Отец озадаченно посмотрел на мать:
— С чего это он так? Раньше день-два пил, хмелел, но уж неделю!..
— Попа нет! Его в больнице разрезали и двенадцать фунтов сала из брюха выкинули... Дьякон-то без старшего и развольничался. Сказывают, что отец-то Николай велел дьякону церкву чинить, а этот...
— А дьяконица что же? Она баба суровая: могла бы супруга приструнить!
— Могла бы, да уехала! У родичей гостит, а ее Иван Лександрыч, как ухарь-купец удалой молодец, по селу ходит... Гармонь бы в руки и вместо «Тебе господи!», заиграл бы «Тру-ля-ля»...
Отец стал одеваться:
— Пойдем, Мишка, кое-где двор подлатаем, а то скоро зима!
Вышли мы во двор, и отец приставил лестницу к сараю:
— Ну-ка, сынок, лезь и глянь вон там: не провалится зимой?
Я забрался на крышу сарая. Отсюда был виден весь наш порядок; по улице медленно шел и покачивался дьякон. Я окликнул отца:
— Тять, дьякон пьяный!..
Отец отчаянно замахал рукой:
— Слезь на землю, а то дьякон заметит и к нам припрется! Он теперь хуже чумного: кого видит, к тому и идет...
Только я на землю спустился, как ворота открылись и во двор влез дьякон: ряса нараспашку, шапка набекрень и борода такая, будто ее семеро чертей ворошили! Уставившись на отца, дьякон пробасил:
— Бог на помощь, мастер!
Отец сквозь зубы процедил:
— Милости прошу, отец дьякон, в избу!
Дьякон, будто большая ворона, замахал крыльями-рукавами:
— В избу не надо! Уф, дышать тяжело! Упился я...
— С какой же горести, Иван Лександрыч, налился? Может, отцу Николаю худо или что в семье не ладно? А может, с великой радости?
— Им всем хорошо, а вот мне что-то тошновато! Как бездомный пес по селу шляюсь, пью и не падаю. Нет душевного спокойствия!.. Вот ты, Иван Ильич, простачком-мужичком прикидываешься, а скажи честно, почему все дворяне в города убежали?
— В городах веселее...У нас тут что за жизнь? Собаки гавкают, кочеты кричат, лягушки квакают, вороны каркают... А в городах тиатры, гулянья и свет электрический!
Дьякон слушал и головой покачивал:
— Лет пять назад все дворяне в поместьях сидели,— председатель кабинета министров Российской империи господин Столыпин одобрял,— а как его Багров убил, так помещики в города побежали. Кто их туда погнал? Страх. Ужас. Почуяли, что мужики могут горла перерезать и...
Отец усмехнулся:
— Полноте, Иван Лександрыч! Мы не такие живо-резы...
Дьякон погрозил пальцем:
— Не хитри! Я тебя насквозь вижу. Не хуже меня знаешь, сколько в уезде помещиков. Чуть больше двух десятков. А сколько мужицких хозяйств? Пятьдесят три тыщи! Помещики сидят на земле, а мужики? Один лапоть поставит, а другой на весу держит — ступить некуда... Скоро будем в IV Государственную думу депутатов
выбирать, а деревня в нее не верит и за топоры хватается!
— Не ставь меня, Иван Лександрыч, на одну доску с собой! Ты — ученый, а я до всего своим мужицким умишком дохожу и вот что скажу: ни меня, ни тебя в Думу не выберут. Есть звери покрупнее и поклыкастее нас — они и будут за мужиков и за мастеровых «думать», но от тех дум нам станет еще холоднее!
Дьякон ткнул отца пальцем в грудь:
 — Ангел божий с волосатой рожей! Крикни — схватишь топор и начнешь барское, царское и, пожалуй, церковное крушить... Да и звать тебя не надо: сам как Стенька Разин или Емелька Пугачев голос подашь. Не отмахивайся: я вас, мужиков, а особенно тебя, мастер, знаю! Всю жизнь на дыбы поднимаете, и от этого мне стано-
вится весело и грустно. Ночами мужик с топором снит-ся, а я кричу: «Иди барина руби!»
Помолчав, дьякон уже совсем тихо проговорил:
— Ты, Иван Ильич, к земле прижмись, онемей, ока* меней, а то над тобой беда вьется — урядник следит^
Отец посерел: '
— Чем я уряднику мешаю? Молчу, будто рыба...
— Опять хитришь? В IV Государственную думу выборы, а такие, как ты, мешают. И не только мешают — сами норовят в Думу попасть! Вот тебя вместо Думы-то и посадят в уездную тюрьму. Понял?
Дьякон шагнул к воротам, немного приоткрыл их и попятился:
— Иван Ильич, да за тобой Змей Горыныч приехал!
Взглянув на улицу, отец отшатнулся:
— На коне... Неужто за мной?
Дьякон не успел ответить: на дороге показалась артель мужиков. Они шли понуро, лица в крови, руки за спинами связаны. По обочинам дороги ехали конные жандармы. К ним присоединился и Змей Горыныч, наш урядник.
Отец тихо спросил дьякона:
— За что мужиков-то схватили?
— Помещичий урожай разделили... Ты, Иван Ильич, держи ушки на макушке, а чтобы тебе от Змея Горыны-ча уберечься, приходи завтра церковь чинить. Урядник дознается и губы прикусит: чинить храмы берут только богомольных мастеров. Бо-го-моль-ных! А богомольный против царя не пойдет...
Когда дьякон ушел, я опять полез на крышу сарая и оттуда увидел, как отец метнулся к конюшне, сунул чего-то в дупло бревна и заложил навозом. Вернувшись к лестнице, окликнул меня:
— Много соломы-то надо?
— Нет, навильника хватит: тут в крыше небольшая дырочка...
— А будет ли в ней солома-то держаться?
Давай, тять, хворостины две сюда положим, а уж на них —> солому?
Отец просиял:
— У меня сердце радуется — хватким мужиком становишься! Без сметки да хватки нельзя играть даже в прятки, а хозяйство вести — не рукавами трясти: тут, брат, надо шибко мозгами ворочать.,.
т
— Ангел божий с волосатой рожей! Крикни — схватишь топор и начнешь барское, царское и, пожалуй, церковное крушить... Да и звать тебя не надо: сам как Стенька Разин или Емелька Пугачев голос подашь. Не отмахивайся: я вас, мужиков, а особенно тебя, мастер, знаю! Всю жизнь на дыбы поднимаете, и от этого мне стано-
вится весело и грустно. Ночами мужик с топором снит-ся, а я кричу: «Иди барина руби!»
Помолчав, дьякон уже совсем тихо проговорил:
— Ты, Иван Ильич, к земле прижмись, онемей, ока* меней, а то над тобой беда вьется — урядник следит^
Отец посерел: '
— Чем я уряднику мешаю? Молчу, будто рыба...
— Опять хитришь? В IV Государственную думу выборы, а такие, как ты, мешают. И не только мешают — сами норовят в Думу попасть! Вот тебя вместо Думы-то и посадят в уездную тюрьму. Понял?
Дьякон шагнул к воротам, немного приоткрыл их и попятился:
— Иван Ильич, да за тобой Змей Горыныч приехал!
Взглянув на улицу, отец отшатнулся:
— На коне... Неужто за мной?
Дьякон не успел ответить: на дороге показалась артель мужиков. Они шли понуро, лица в крови, руки за спинами связаны. По обочинам дороги ехали конные жандармы. К ним присоединился и Змей Горыныч, наш урядник.
Отец тихо спросил дьякона:
— За что мужиков-то схватили?
— Помещичий урожай разделили... Ты, Иван Ильич, держи ушки на макушке, а чтобы тебе от Змея Горыны-ча уберечься, приходи завтра церковь чинить. Урядник дознается и губы прикусит: чинить храмы берут только богомольных мастеров. Бо-го-моль-ных! А богомольный против царя не пойдет...
Когда дьякон ушел, я опять полез на крышу сарая и оттуда увидел, как отец метнулся к конюшне, сунул чего-то в дупло бревна и заложил навозом. Вернувшись к лестнице, окликнул меня:
— Много соломы-то надо?
— Нет, навильника хватит: тут в крыше небольшая дырочка...
— А будет ли в ней солома-то держаться?
Давай, тять, хворостины две сюда положим, а уж на них —> солому?
Отец просиял:
— У меня сердце радуется — хватким мужиком становишься! Без сметки да хватки нельзя играть даже в прятки, а хозяйство вести — не рукавами трясти: тут, брат, надо шибко мозгами ворочать.,.
т
• • •
ОСТАТОК ДНЯ, НОЧЬ и УТРО Я БЫЛ САМ НЕ СВОЙ: МНЕ НЕ ТЕРПЕЛОСЬ УЗНАТЬ, ЧЕГО ОТЕЦ В ДУПЛО СПРЯТАЛ? Наконец я дождался, когда он ушел в церковь и кинулся к конюшне. Дупло было закрыто гнилушками, и никто бы не подумал, что под ними что-то спрятано! Я вынул гнилушки, навоз и увидел маленькую книжечку. Вытащил ее и оторопел: на обложке рукой отца было написано «ПОМИНАНЬЕ». Я знал, что такое поминанье: в него записывали покойных родичей и в церкви подавали дьячку, чтобы поп с дьяконом отслужили панихиду... Все-таки я ушел с поминаньем в сенницу, сел и стал читать: «Село Тольский Майдан большое: версты три в длину и полторы или две в ширину. В нем живут только русские и все православного вероисповедания. Крестьяне у помещиков в крепости не были, а числились казенными. Как село зародилось и росло, в сельской управе не знают, но старики сказывают, что раньше тут была маленькая деревенька Ермезенки и ее населяли мордвины-язычники. Куда они потом ушли или с русскими породнились и смешались, никто не говорит. От мордвы осталось, кажется, название нашей речки — Вярзинки... О селе же старики толкуют: крестьяне, мол, тут с бору да с сосенки, со всех краев Российской империи. Будто сюда царица Екатерина Вторая выселила бунтовщиков из войска Пугачева и еще обыкновенных разбойников... Сказывают также, что возле села раньше были огромные леса и по улицам частенько бегали лоси, захаживали медведи, заскакивали зайцы, не говоря уже о волках — эти постоянно по дворам промышляли! В селе есть храм архангела Михаила. Храмовой праздник справляется осенью. Празднует все село от мала до велика, и такие бывают гульбища, что многих в драках калечат и даже убивают. Церковный причт состоит из трех лиц: священника — отца Николая Модератова, дьякона — Бланкова Ивана Александровича и дьячка — Соловьева Алексея. Есть в селе земская школа-трехлетка, а при ней три учителя: Васильев Коронат Александрович, его супруга Мария Владимировна и сестра Васильева — Елизавета Александровна. За крестьянами дни и ночи наблюдает урядник Биба-нин. Происходит из мордвинов и, чтобы его власти уважали, с крестьянами держит себя жестоко. Сельская управа состоит из трех человек: старосты, писаря и сборщика податей... Крестьяне живут по-разному, а больше всего бедно, скудно, трудно. Если бы можно было взглянуть на село сверху, то мы бы увидели жмущиеся друг к дружке, похожие на стога гнилой соломы избы. Только кое-где настоящие строения, но это поповский, дьяконовский дома и дома лавочников Трусова и Паньшина... Помещичье имение от села верстах в трех. Его владелец Сокол-Черниловский наезжает в именье редко, и землями и лесами распоряжается управляющий. Мужики постоянно с ним ссорятся: из-за выпасов скота, из-за дров, лык, грибов, орехов, травы, из-за потрав... Кроме семи ветряных мельниц, в селе никакой промышленности нет. Правда, есть еще две маслобойки, но их и за промышленность-то считать грешно: лошадиной силой двигаются... Верхнюю и нижнюю одежду и обувь крестьяне делают сами и редко-редко покупают ситец, сатин или кожаные сапоги. Не потому, что не хотят городского носить, а нет денег — доходы мужиков малые! А доходы малые потому, что крестьяне малоземельные. Из-за этого многие парни уезжают в города, но и там дела не находят и возвращаются в семьи отцов и прозябают в страшной нужде, нищенстве, неграмотности и пьянстве! Не только село Тольский Майдан, но и весь уезд живет скудно, и нищие постоянно бродят под окнами и просят милостыню ради Христа. Недавно я у писаря взял книжку: «Уездный статистический сборник» и вот что в нем вычитал. В 1890 году двенадцать крестьян из каждой сотни хозяйств совсем не имели земли. Пятнадцать хозяйств из ста не имели скота и тридцать шесть хозяйств из каждой сотни не имели лошадей... Половина крестьян лукояновского уезда была нищими! Так было двадцать лет назад, а сейчас лучше или нет? Крестьянских хозяйств в уезде стало 52 839, а дворян на пальцах переберешь: несколько больше двух де по сятков! Эти два десятка владеют 38 321 десятиной земли. Каждая помещичья семья имеет 2000 десятин, а сколько же имеет мужик? С голоду подохнешь, вот сколько!..» Больше в «Поминаньи» ничего не было записано. Я вернулся во двор и положил книжку на место. Тут как раз появился отец: — Ну, завтра иду церковь чинить! Тебя с собой возьму: мастерству учиться время.
• • •
НАКОНЕЦ-ТО НАСТУПИЛО УТРО, КОГДА МЕНЯ СТАЛИ СОБИРАТЬ В ШКОЛУ. Отец напутствовал: — Будь бойчее и летучее! В школу первым врывайся. Учительнице Елизавете Лександровне скажи: умею, мол, читать и немного писать... Мать тоже наставляла: — Раз уж идешь, то ушей не вешай! Вислоухим никогда счастья-удачи не бывает. В драки не ввязывайся: худогрудый ты, силенок мало—заколотят, заклюют. Бойся Васьки Митряева! Помни, что я тебе о его отце сказывала... Ты бы, Иван, свел Мишку в школу, учительнице бы покланялся, а то... Отец отмахнулся: — Детей в школу водят только баре да чиновники, а я поведу — засмеют, дразнить станут и Мишке прохода не дадут. Мальчишки сами в школу бегают и наш добежит. Иди, сынок, учись: нынче без грамоты никуда — жизнь-то дыбом становится! Мать всплакнула надо мной и благословила: — Не надо бы тебя в школу, да раз отец вздумал, ему хоть кол на башке теши — на своем поставит... Святой пророк Наум, наставь младенца Михайлу на ум! С этими напутствиями я и пошел в школу. А день выдался теплый, безветренный, ласковый, благодатный осенний день! На сердце у меня было светло и празднично: оно ликовало, и я смотрел и не мог насмотреться на сумку, висевшую на плече. Она была новой, белой, холщовой — только из-под материной иглы. Прав- да, сумка смахивала на суму нищего, но что за беда] В моей сумке лежали ручка, карандаш, тетради, азбуку и все книжки, которые я нашел дома и выпросил у шаб-ренки Натальи: «Жития святого и преподобного чудотворца Сергия Радонежского», «Конек-Горбунок», «Богатырь Еруслан Лазаревич», «Любовный письмовник»... И еще в сумке был ломоть хлеба и морковка. Я шел, и многие мужики и бабы останавливались, смотрели вслед, и это мне льстило. Повстречался и дядя Митрофан: — Куда, племяш? Уж не милостынки ли собирать? Я гордо ответил: — В школу иду! — В школу? Ишь, чего брательник удумал! Не живется, как добрые-то люди живут, и сходите с ума... Не возразить было трудно, и я возразил: — Нет, мы с ума не сошли, а только нынче жисть дыбом встала и без грамоты никуда! Кто не читает, тот столб с глазами... К школе я пришел первым, но она оказалась закрытой. Я сел на лужайку и начал грызть морковку. Тут подошла школьная уборщица и проворчала: — Эк те ни свет, ни заря шишиги пригнали! Учителя-то еще спят. Я мирно отозвался: — Ничего, подожду! Я, тетенька, в первый класс пришел. Вот у меня какая сумка-то! Уборщица и взглядом не удостоила мою новую сумку и прошла в школу. Такое равнодушие меня обидело. — А еще в школе служишь!.. Но вот стали робко подходить первоклассники: обутые и босые, но все с сумками, и только Устя — лавоч-никова дочка — несла кожаный ранец. Мальчишки показывали друг другу свои сумки, хвалились ими, но я был убежден, что лучше моей сумки все-таки не было! На крыльце появился заведующий школой Васильев Коронат Александрович, высокий, худой, с большим кадыком и бледными губами. Он окинул нас хмурим взглядом и поднял руку: — Эй, заходите, но не толкайтесь! Мальчишки кинулись на крыльцо, сгрудились у двери, и мы с Устей оказались самыми последними. Заведующий считал вбегавших по головам: — Пара, две, три, четыре,., Насчитав двадцать две пары, он пропустил еще Устю, а мне загородил вход: — Ты лишний. Иди домой и отцу скажи: мест нет! Эти жестокие слова поразили меня пуще грома. Я заплакал. Слезы, крупные, частые, горькие, окропили белую сумку. Коронат Александрович захлопнул дверь. Я остался один, обиженный и обманутый в своих мечтах. Возвращаться домой было стыдно: ведь даже дядя Митрофан и тот стал бы надо мной смеяться, а мальчишки бы задразнили! Надо было из села бежать, но куда? Ходить по Руси, как ходили Тарас с Тарасихой? Нет, мне не хотелось быть бродягой, и потому я решил идти в Питер: «Найду там избу дяди Андрея Столбова и скажу: „Хочу в городе жить, учиться и на фабрике работать!”» Эта спасительная мысль меня ободрила. Но пока я раздумывал, что же мне теперь делать, послышался звон колокольчика: окончился урок. Куда мне деться? Метнулся в палисадник и залез в собачью будку. Мальчишки и девчонки выбежали на лужайку, и я видел, как они аппетитно, точно голодные зайцы, грызли яблоки, репу и морковку. Мне стало завидно: вынул из кармана кусок брюквины и тоже стал грызть... Переменка кончилась, мальчишки и девчонки убежали в класс, и опять стало тихо. Я решил: «Просижу в будке до вечера, а тогда уж в Питер побегу!» Разглядывая свое временное убежище, я заметил, что половицы в нем гнилые. Тут же их выломал и выкинул. На месте пола была земля. Я уперся в нее ногой и сдвинул будку с места. Это мне понравилось, и я отодвигал собачье жилище все дальше и дальше от стен школы... Это непонятное движение, очевидно, заметил Коронат Александрович и вышел в палисадник: — Эй, кто там озорует? Я замер и не отозвался. — Кто в будке? Она не черепаха, чтобы двигаться! И тут же в лаз будки просунулась собачья морда и зарычала и загавкал на меня: р-р-р-р-р! гав-гав-гав! Я чувствовал себя в безопасности и ответил лаем: — Гав! гав! гав! Р-р-р-р-р! Заведующий спросил собаку: — Ну, Ральф, выяснил свои отношения с непрошеным квартирантом? Собака прорычала. Вдруг вместо собачьей морды в лазе появилось лицо заведующего школой, от неожиданности я зарычал и загавкал и на него: — Р-р-р-р-р! Гав! гав! гав! Лицо отпрянуло: — Ух, какой злой! То ли дурак, то ли озорник? Я отозвался: — Нет, я не дурак и не озорник: это я так! — Раз не дурак, то вылезай! — А тебе жалко, что ли, собачьей избушки? Я в ней только до вечера поживу. — Почему же надо до вечера в будке сидеть? Тут я заколебался: сказать или не говорить о том, что убегаю в Питер? — Ты меня в школу не впустил, и я в Питер убегу. Там живет муж крестной —■ дядя Андрей Столбов: он на фабрике делает макароны, и я их буду делать, и еще в школу пойду. В Питере меня примут: я читать умею, писать... Хочешь, я тебе книжку почитаю? Не всю, а немножко? Заведующий помедлил и ответил: — Почитай!.. Я торопливо достал из сумки «Любовный письмовник» и начал читать: «Дорогая, любимая, бесценная, ясноокая, луноподобная и самая нежная моя Катенька! В Нижний Новгород я приехал благополучно и здесь торгую мехами. Но что мне золото, серебро и драгоценные камни, когда сердце тоскует, рвется к тебе, моя милая, бесценная, несравненная и сладкая Катерина? Через неделю-две, бог даст, я распродам товар и к тебе, родненькая, приеду. А пока прощай, моя желанная, несравненная, услада души моей и сердца. ЕФИМ СЕВАСТЬЯНОВИЧ ЧЕРНОГУЗОВ - купец из Тобольска» Заведующий слушал очень внимательно. А я, кончив читать, с торжеством взглянул на учителя. Он спросил: — Все? Я захлопнул книжку: — Нет, не все! Тут барышня кавалеру пишет: у нее будет наследник, а кавалер на барышню из обоих ноздрей чихается. Только я это письмо читать не стану, а то ты заплачешься! Заведующий покачал головой: — Д-д-а, оказывается, ты человек уже просвещенный! Кто же тебя так бойко читать научил, и где такую жалостливую книжку взял? — Тятька научил. Иван Ильич Суетнов. Может, знаешь его? Он кадушки делает, и его урядник по морде бил... А книжку я взял у тетки Натальи: она за Бориску взамуж вышла и теперь про любовь не читает! Заведующий решительно сказал: — Пойдем-ка, просвещенный мальчик, в школу! Попрошу Елизавету Александровну посадить тебя в первый класс! У меня от радости сердце захолонуло, но я все-таки не очень заведующему поверил и потребовал: — Побожись, что посадишь! — Честное слово посажу. Тебе нужно учиться. Ты не такой дурак, каким мне с первого взгляда показался! Я выглянул из будки: — Нынче все честное слово дают и обманывают. Нет, побожись вот как: «Пусть меня (это не меня, а тебя!) гром в щепки расщепает!..» — Ну хорошо: пусть гром расщепает... — В щепки... — В щепки, в лучинки, в стружку... Вылезай и пойдем! Я вылез и побрел за Коронатом Александровичем. Шел и боялся: вдруг он обманет? Поэтому у самой двери остановил его: — Постой-ка! — Что еще? — Вперед пойду, а то опять перед носом дверь захлопнешь!


Последние комментарии
8 часов 7 минут назад
12 часов 27 минут назад
14 часов 13 минут назад
15 часов 27 минут назад
16 часов 33 минут назад
17 часов 42 минут назад