Анатолий Белов ЧЕРЕЗ КОСТРЫ И ПЫТКИ
Памяти моего отца, ветерана партии Белова Василия Яковлевича посвящаю.Автор


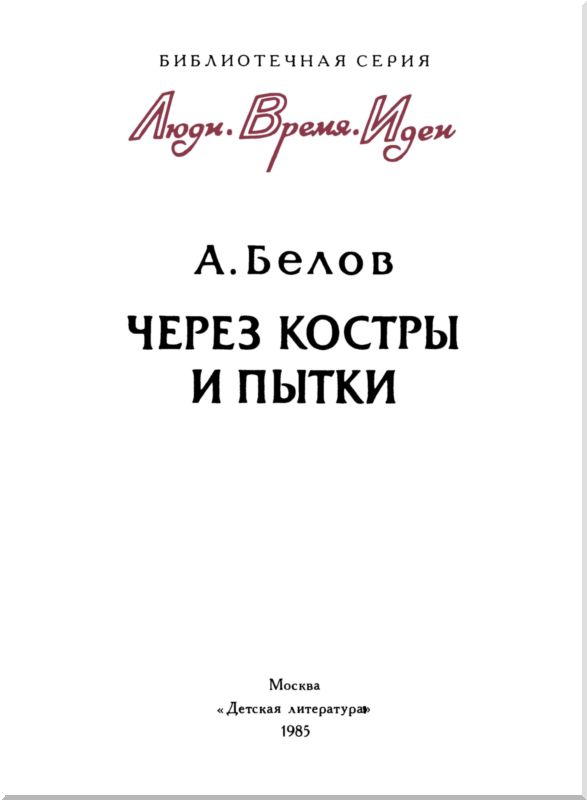
А все-таки она вертится! (Вместо предисловия)


 Виновен ли Галилей?
Не правда ли, странно звучит этот вопрос на исходе XX столетия? Ведь «дело Галилея» относится к давно минувшим временам. И тем не менее великий мыслитель неожиданно оказался в центре событий, разыгравшихся под сводами собора святого Петра, резиденции первоиерарха католической церкви папы римского.
Именно нынешний папа Иоанн Павел II, выступая на заседании Ватиканской академии наук, заявил, что пришло время разобраться в «деле Галилея», выяснить был ли он действительно виновен или стал жертвой судебной ошибки. Слова папы подхватили богословы, церковные иерархи, проповедники. Имя Галилея замелькало на страницах католической прессы. Через три с половиной столетия церковь возвратилась к одной из самых драматических страниц своей истории…
22 июня 1633 года трибунал священной инквизиции вынес приговор Галилео Галилею. Стоя перед судьями, ученый зачитывал слова отречения от своих «заблуждений»: «Я, Галилео Галилей, сын покойного Винченцо Галилея из Флоренции, преклонив колена перед вашими высокопреосвященствами и генеральными инквизиторами, имея перед глазами святое евангелие, которого касаюсь собственными руками, клянусь, что всегда верил и буду верить во все, что считает истинным, проповедует и чему учит святая католическая церковь…»
А после в церкви Санта Мария Сопра Минерва он на коленях совершал публичное покаяние в грехах.
Мыслитель, представший перед судом инквизиции, был поставлен перед выбором: или отречение от своего учения, или тюремные казематы, жестокие пытки, казнь. Церковь не прощала прегрешений перед нею. А он был грешен. Грешен в том, что поддержал учение другого великого ученого — Николая Коперника, доказывавшего, что Земля вращается вокруг Солнца. Церковь же испокон веков внушала, что Земля неподвижна, является центром мироздания. Так гласила священная книга христиан Библия, богодухновенная, содержащая в себе истины божьи. Любое выступление против них объявлялось ересью. И Галилей был вынужден отречься от «заблуждений», чтобы сохранить себе жизнь. Согласно преданию, выйдя из зала судилища, мыслитель произнес ставшие знаменитыми слова: «А все-таки она вертится!»
Он был прав, Галилео Галилей. Но понадобились многие десятилетия для того, чтобы его правоту признал мир, и многие столетия для того, чтобы церковь поставила вопрос: «Виновен ли Галилей?» Ведь вынесенный ему приговор и поныне остается в силе. Почему же только сейчас церковь обратилась к давно сданному в архив «делу Галилея»?
Выступая на заседании папской Академии наук, Иоанн Павел II заявил, что «многое из того, что происходило в прошлом, бросает тень на взаимоотношения религии и науки». Да, были в истории досадные недоразумения, были судебные ошибки, неправильные действия отдельных церковных иерархов. Но они якобы вовсе не говорят о конфликте между наукой и религией, о котором пишут атеисты. И «дело Галилея» всего лишь печальная ошибка, не дающая оснований для каких-то выводов.
Ошибка? Но ведь вся история науки — непрерывная цепь непримиримых ее конфликтов с защитниками религии, отстаивавшими вечные и неизменные «истины веры». Так было еще в дохристианские времена. Так было и тогда, когда на арену истории вышли мировые религии — христианство, ислам, буддизм.
Видный советский ученый, академик А. П. Александров писал: «С незапамятных времен среди людей боролись и борются правда и ложь: просвещение, стремящееся осветить людям светом знания и понимания окружающий мир, их собственное место в мире и их самих, и обскурантизм, или, говоря по-русски, затемнительство, мракобесие, старающееся затуманить сознание людей, затемнить правду, закрыть людям понимание мира и их собственного бытия. На первой стороне всегда была наука. На второй — борьба против науки, слепая вера, фанатизм. Сокрытие и извращение правды всегда служило средством угнетения».
Величественный пантеон мучеников науки хранит множество имен пытливых искателей истины, которые смело и настойчиво шли по пути познания через дебри заблуждений, невзирая на препятствия на этом пути.
Одним из таких препятствий была религия, провозгласившая непогрешимыми свои представления. Каждого, кто осмеливался подвергнуть их сомнению, ожидали обвинения в богохульстве, ереси, жестокая расправа за отступление от «истин веры».
И наверное, до сих пор человечество находилось бы во власти наивных представлений об окружающем мире, рожденных в сознании наших далеких предков, не будь мужественных людей, которые в борьбе с догматизмом и косностью прокладывали дорогу к вершинам знания. Они избирали свой путь, зная о том, что их ждут неравные схватки с защитниками религиозной картины мира, гонения, тюремные застенки, пытки.
Истоки этого трудного пути уходят в седую старину…
Древняя Греция. Афины. Город живет событием, которому суждено стать историческим. Предстоит суд над самим Сократом. Подсудимый — седовласый старец, имя которого известно во всех уголках Греции. Его остроумные изречения передаются из уст в уста. Его независимые суждения приводят в восторг молодежь. Его умозаключения поражают самых видных мыслителей того времени. Говорят, сама Пифия, жрица-прорицательница при храме Аполлона в Дельфах, изрекла: «Сократ превыше всех своей мудростью». Недаром за честь почитают называться его учениками Платон, Антисфен, Аристотель и другие ученые мужи Греции.
А для жрецов и судей он — смутьян, развращающий умы молодежи. Он подрывает веру в богов, в могущественных небожителей, которым надлежит поклоняться простым смертным.
Нет, он не был безбожником, хотя и оказался обвиненным в безбожии. Он лишь призывал ничего не принимать на веру, отыскивая истинное знание о мире в спорах, в постижении сути вещей и событий, в независимых суждениях. Но это уже преступление с точки зрения защитников «вечных истин». Если не будет религии, не будет и того порядка на земле, который освящен именами богов.
И вот наконец наступает время суда, который Сократ назовет неправедным.
«Клянусь Зевсом, — провозглашает обвинитель, — он учил своих собеседников презирать установленные законы. Он виновен в том, что не признает богов, признаваемых государством… Он развращает молодежь…»
От него требуют, чтобы он отказался от своих убеждений, иначе его ожидает смертная казнь. Но мудрый старец заявляет в зале суда: «Поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умереть десять раз».
Он остался спокоен даже тогда, когда ему был вынесен смертный приговор. На слова жены: «Ты умираешь безвинно» — он с иронией философа заметил: «А ты бы хотела, чтобы заслуженно?»
Сократ верил в свою правоту. Он верил в силу человеческого разума, в силу познания. И был непреклонен в своих убеждениях. «Поистине, легче говорить, как Аристотель, и жить, как Цезарь, чем говорить и жить, как Сократ», — справедливо писал много лет спустя французский философ Мишель Монтень.
Когда друзья и ученики Сократа подготовили ему побег из тюрьмы, он отказался бежать. Он хотел доказать свое превосходство перед теми, кто осудил его. Он спокойно выпил бокал с ядом — настоем цикуты и ушел из жизни, не склонив головы.
Афинянам не понадобились столетия, чтобы признать Сократа невиновным. Через несколько лет они воздвигли бронзовую статую мудреца, изгнали из города тех, кто затеял позорное судилище…
В истории древнего мира были и другие мыслители, которые не желали принимать на веру существовавшие представления о мироздании, стремились к познанию природы. Они подвергались преследованиям, гонениям, их обвиняли в безбожии, в вольнодумстве.
Одной из жертв стал знаменитый философ Анаксагор. Вопреки утверждениям жрецов о том, что Солнце — это бог Гелиос, ежедневно пересекающий небосвод на золотой колеснице, он заявлял, что не верит подобным выдумкам. Солнце — не что иное, как сгусток огня, оторвавшегося от Земли силой вращения.
Анаксагор нарушил принятое в Афинах постановление, которое требовало привлекать к суду людей, «неверующих в богов и распространяющих учения о небесных явлениях». Его не предали суду. Его, старого и больного, просто изгнали из города. Но прошло время, и на его могиле высекли надпись:
Виновен ли Галилей?
Не правда ли, странно звучит этот вопрос на исходе XX столетия? Ведь «дело Галилея» относится к давно минувшим временам. И тем не менее великий мыслитель неожиданно оказался в центре событий, разыгравшихся под сводами собора святого Петра, резиденции первоиерарха католической церкви папы римского.
Именно нынешний папа Иоанн Павел II, выступая на заседании Ватиканской академии наук, заявил, что пришло время разобраться в «деле Галилея», выяснить был ли он действительно виновен или стал жертвой судебной ошибки. Слова папы подхватили богословы, церковные иерархи, проповедники. Имя Галилея замелькало на страницах католической прессы. Через три с половиной столетия церковь возвратилась к одной из самых драматических страниц своей истории…
22 июня 1633 года трибунал священной инквизиции вынес приговор Галилео Галилею. Стоя перед судьями, ученый зачитывал слова отречения от своих «заблуждений»: «Я, Галилео Галилей, сын покойного Винченцо Галилея из Флоренции, преклонив колена перед вашими высокопреосвященствами и генеральными инквизиторами, имея перед глазами святое евангелие, которого касаюсь собственными руками, клянусь, что всегда верил и буду верить во все, что считает истинным, проповедует и чему учит святая католическая церковь…»
А после в церкви Санта Мария Сопра Минерва он на коленях совершал публичное покаяние в грехах.
Мыслитель, представший перед судом инквизиции, был поставлен перед выбором: или отречение от своего учения, или тюремные казематы, жестокие пытки, казнь. Церковь не прощала прегрешений перед нею. А он был грешен. Грешен в том, что поддержал учение другого великого ученого — Николая Коперника, доказывавшего, что Земля вращается вокруг Солнца. Церковь же испокон веков внушала, что Земля неподвижна, является центром мироздания. Так гласила священная книга христиан Библия, богодухновенная, содержащая в себе истины божьи. Любое выступление против них объявлялось ересью. И Галилей был вынужден отречься от «заблуждений», чтобы сохранить себе жизнь. Согласно преданию, выйдя из зала судилища, мыслитель произнес ставшие знаменитыми слова: «А все-таки она вертится!»
Он был прав, Галилео Галилей. Но понадобились многие десятилетия для того, чтобы его правоту признал мир, и многие столетия для того, чтобы церковь поставила вопрос: «Виновен ли Галилей?» Ведь вынесенный ему приговор и поныне остается в силе. Почему же только сейчас церковь обратилась к давно сданному в архив «делу Галилея»?
Выступая на заседании папской Академии наук, Иоанн Павел II заявил, что «многое из того, что происходило в прошлом, бросает тень на взаимоотношения религии и науки». Да, были в истории досадные недоразумения, были судебные ошибки, неправильные действия отдельных церковных иерархов. Но они якобы вовсе не говорят о конфликте между наукой и религией, о котором пишут атеисты. И «дело Галилея» всего лишь печальная ошибка, не дающая оснований для каких-то выводов.
Ошибка? Но ведь вся история науки — непрерывная цепь непримиримых ее конфликтов с защитниками религии, отстаивавшими вечные и неизменные «истины веры». Так было еще в дохристианские времена. Так было и тогда, когда на арену истории вышли мировые религии — христианство, ислам, буддизм.
Видный советский ученый, академик А. П. Александров писал: «С незапамятных времен среди людей боролись и борются правда и ложь: просвещение, стремящееся осветить людям светом знания и понимания окружающий мир, их собственное место в мире и их самих, и обскурантизм, или, говоря по-русски, затемнительство, мракобесие, старающееся затуманить сознание людей, затемнить правду, закрыть людям понимание мира и их собственного бытия. На первой стороне всегда была наука. На второй — борьба против науки, слепая вера, фанатизм. Сокрытие и извращение правды всегда служило средством угнетения».
Величественный пантеон мучеников науки хранит множество имен пытливых искателей истины, которые смело и настойчиво шли по пути познания через дебри заблуждений, невзирая на препятствия на этом пути.
Одним из таких препятствий была религия, провозгласившая непогрешимыми свои представления. Каждого, кто осмеливался подвергнуть их сомнению, ожидали обвинения в богохульстве, ереси, жестокая расправа за отступление от «истин веры».
И наверное, до сих пор человечество находилось бы во власти наивных представлений об окружающем мире, рожденных в сознании наших далеких предков, не будь мужественных людей, которые в борьбе с догматизмом и косностью прокладывали дорогу к вершинам знания. Они избирали свой путь, зная о том, что их ждут неравные схватки с защитниками религиозной картины мира, гонения, тюремные застенки, пытки.
Истоки этого трудного пути уходят в седую старину…
Древняя Греция. Афины. Город живет событием, которому суждено стать историческим. Предстоит суд над самим Сократом. Подсудимый — седовласый старец, имя которого известно во всех уголках Греции. Его остроумные изречения передаются из уст в уста. Его независимые суждения приводят в восторг молодежь. Его умозаключения поражают самых видных мыслителей того времени. Говорят, сама Пифия, жрица-прорицательница при храме Аполлона в Дельфах, изрекла: «Сократ превыше всех своей мудростью». Недаром за честь почитают называться его учениками Платон, Антисфен, Аристотель и другие ученые мужи Греции.
А для жрецов и судей он — смутьян, развращающий умы молодежи. Он подрывает веру в богов, в могущественных небожителей, которым надлежит поклоняться простым смертным.
Нет, он не был безбожником, хотя и оказался обвиненным в безбожии. Он лишь призывал ничего не принимать на веру, отыскивая истинное знание о мире в спорах, в постижении сути вещей и событий, в независимых суждениях. Но это уже преступление с точки зрения защитников «вечных истин». Если не будет религии, не будет и того порядка на земле, который освящен именами богов.
И вот наконец наступает время суда, который Сократ назовет неправедным.
«Клянусь Зевсом, — провозглашает обвинитель, — он учил своих собеседников презирать установленные законы. Он виновен в том, что не признает богов, признаваемых государством… Он развращает молодежь…»
От него требуют, чтобы он отказался от своих убеждений, иначе его ожидает смертная казнь. Но мудрый старец заявляет в зале суда: «Поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умереть десять раз».
Он остался спокоен даже тогда, когда ему был вынесен смертный приговор. На слова жены: «Ты умираешь безвинно» — он с иронией философа заметил: «А ты бы хотела, чтобы заслуженно?»
Сократ верил в свою правоту. Он верил в силу человеческого разума, в силу познания. И был непреклонен в своих убеждениях. «Поистине, легче говорить, как Аристотель, и жить, как Цезарь, чем говорить и жить, как Сократ», — справедливо писал много лет спустя французский философ Мишель Монтень.
Когда друзья и ученики Сократа подготовили ему побег из тюрьмы, он отказался бежать. Он хотел доказать свое превосходство перед теми, кто осудил его. Он спокойно выпил бокал с ядом — настоем цикуты и ушел из жизни, не склонив головы.
Афинянам не понадобились столетия, чтобы признать Сократа невиновным. Через несколько лет они воздвигли бронзовую статую мудреца, изгнали из города тех, кто затеял позорное судилище…
В истории древнего мира были и другие мыслители, которые не желали принимать на веру существовавшие представления о мироздании, стремились к познанию природы. Они подвергались преследованиям, гонениям, их обвиняли в безбожии, в вольнодумстве.
Одной из жертв стал знаменитый философ Анаксагор. Вопреки утверждениям жрецов о том, что Солнце — это бог Гелиос, ежедневно пересекающий небосвод на золотой колеснице, он заявлял, что не верит подобным выдумкам. Солнце — не что иное, как сгусток огня, оторвавшегося от Земли силой вращения.
Анаксагор нарушил принятое в Афинах постановление, которое требовало привлекать к суду людей, «неверующих в богов и распространяющих учения о небесных явлениях». Его не предали суду. Его, старого и больного, просто изгнали из города. Но прошло время, и на его могиле высекли надпись:
Тот, кто здесь погребен, перешел пределы познанья —
Истину строя небес ведавший Анаксагор.
Если бы руки имели быки, и львы, и коровы
И могли бы руками писать и дела ими делать —
Лошадь создала б подобное ей, а корова — корове;
Бога идею они б описали и форму слепили
Ровно такую, какую собой они сами являют…
Александрийская трагедия



Время действия — V век. Место действия — Александрия Египетская.
1
В ранний час, когда багряный диск солнца поднялся в туманной дымке над краем моря, молодой римлянин Клавдий Турон сошел с купеческого корабля и ступил на землю Александрии. Впервые за много дней он ощутил под ногами твердую почву и тут же, опустившись на колени и воздев руки к небесам, вознес благодарственную молитву богам, которые помогли ему благополучно добраться до Египта. Не зря перед тем, как решиться на это путешествие, он совершил жертвоприношение в храме Нептуна, не зря, как положено, отпраздновал нептуналии в семнадцатый день от июльских календ. Боги услышали его мольбы. Купец, который оказался на корабле рядом с Клавдием Туроном, настойчиво допытывался о цели его путешествия, но тот отвечал уклончиво. Разве смог бы понять его чернобородый тарентец, не знавший в жизни ничего, кроме погони за презренным металлом? Он счел бы его сумасшедшим, узнав, что единственной целью римлянина было стремление увидеть и услышать Гипатию, слава о которой достигла вечного города. Конечно, это была мальчишеская затея. И Клавдий Турон не раз во время пути клял себя за то, что решился на этот безумный шаг. Когда корабль бросало на волнах, как щепку, а тяжелые удары волн грозили опрокинуть его, юноша, взывая к богине Венилии, усмирительнице морской стихии, с тоской думал о том, что он сам, только сам подверг себя тяжелым испытаниям. Но, слава богам, теперь все было позади. Рабы разгружали трюмы, неся на загорелых плечах тяжелые тюки с товарами, глиняные амфоры с вином и маслом. Купцы покрикивали на них, войдя в обычный деловой ритм постоянных своих дел и забот. Клавдий Турон последний раз бросил взгляд на корабль и направился в город. Он много слышал о нем, основанном еще Александром Македонским, и давно мечтал побывать в Александрии, которую называли жемчужиной Египта. Но манила она не только своей красотой. Александрия была средоточием наук, одним из крупнейших культурных центров античного мира. Подлинным храмом науки был Александрийский Мусейон, который на протяжении пяти с половиной столетий украшали имена самых известных мыслителей тех времен. В его стенах творили Архимед и Евклид, Птолемей и Аристарх Самосский, Эратосфен и Плотин. И хотя он был разрушен во время войны римского императора Аврелиана с узурпатором Фирмом, память о Мусейоне была жива. И ученые Александрии с гордостью называли себя представителями Мусейона. Увы, его давно не существовало. Но была Гипатия, о которой столько рассказывали те, кому доводилось посетить Александрию. Говорили о ее неземной красоте, об удивительном красноречии, о необыкновенном даре убеждать даже самых откровенных скептиков. Людская молва разносила слухи о ее познаниях в астрономии и математике, в философии и логике. Слушая все эти рассказы, Клавдий Турон мечтал о том, чтобы попасть в Александрию, стать учеником Гипатии. Он мог себе это позволить. Сын богатого землевладельца, выросший в роскоши, он, однако, не соблазнился перспективой праздного безделья, в водоворот которого попало немало молодых людей его круга. Он увлекся литературой, философией, риторикой, уводившими его в мир, далекий от земных страстей, которые бушевали в ту пору в умирающей Римской империи. Время было для Рима трудное. Империя распалась на западную и восточную части. На Востоке возникла новая столица Византия, на месте которой впоследствии вырос Константинополь, а Рим хотя и считался столицей Восточной империи, но потерял свое былое значение. Даже императоры предпочитали находиться в Равенне или Медиолане. А Вечный город сохранял лишь свое название. После того как в августе 410 г. полчища вестготов ворвались в Рим, разграбили и опустошили его, признаки запустения отчетливо проявились во всем его облике. Древняя столица величайшей империи казалась осунувшейся и поблекшей, со смиренной покорностью ожидавшей, что принесет ей завтрашний день. По сравнению с Римом Александрия показалась Клавдию Турону оживленным, живущим бурной жизнью городом. Он не чувствовал себя чужим на его улицах, заполненных в утренний час людьми, на шумном базаре, расположенном неподалеку от мола. И что поразило его — первый же прохожий в белой льняной тоге указал ему, как найти дом Гипатии. Более того, он посоветовал отправиться в городской музей, где она должна была читать лекцию. Клавдий Турон благодарно раскланялся со словоохотливым горожанином, здесь же, на базаре, сытно позавтракал, а затем отдал себя в руки искусного брадобрея. Так пролетело время, и юноша попал к музею как раз тогда, когда к нему начали стекаться желающие послушать Гипатию. Он прошел в зал и, заняв место поближе к кафедре, стал ждать появления женщины, которая до той поры была для него легендой.2
Она была восхитительна! Поистине восхитительна! Клавдий Турон как завороженный слушал Гипатию. В этот день он понял, что не зря людская молва возносила ее мудрость и красоту. Не зря и сам он, начинающий философ, прослышав о необыкновенных достоинствах Гипатии, пустился в тяжелый путь от Рима до Александрии. Увидев и услышав ее, он понял, что, если бы ему снова предложили проделать тот же многострадальный путь, чтобы лицезреть Гипатию, он, не раздумывая, согласился бы. Нет, людская молва не могла передать и сотой доли тех достоинств, которыми обладала эта женщина. Она была удивительно красива, стройна, грациозна. Стоя на кафедре в строгом темном платье, она напоминала легкую птицу, парившую над землей. Ее слегка вскинутая вверх голова с гладко зачесанными волосами, казалось, была высечена из белого мрамора искусным резцом ваятеля. Большие глаза под черными дугами бровей излучали какой-то необычайно теплый свет, способный согреть даже скованные ледяным равнодушием сердца. Она говорила вдохновенно, темпераментно, поражая слушателей обширными познаниями. Она свободно рассуждала о философии, на память цитируя Платона и Аристотеля, Плотина и Ямвлиха, которого считала своим учителем, легко оперировала математическими формулами, когда было нужно, прибегала к помощи астрономии. Свои мысли она облекала в железные доспехи классической логики, и оттого речь ее звучала так убедительно. Клавдий Турон слышал, как его убеленный сединой сосед восторженно прошептал: — Да, она сама мудрость! В зале музея, где выступала Гипатия, собралось много людей. Некоторым не хватило места, и они стояли в дверях, толпились на лестнице. Среди слушателей были такие, которые, подобно Клавдию Турону, приехали из дальних мест, привлеченные молвой о мудрейшей из мудрейших, о прекраснейшей из прекраснейших женщин. Когда лекция кончилась и Гипатия, окруженная учениками, мягко ступая, сошла с кафедры, накинула на плечи свой черный плащ философа и направилась к выходу, Клавдий Турон пробился к ней и, остановив ее жестом, учтиво поклонился: — Спасибо тебе, мудрая Гипатия, за слово, дарованное людям, за то, что помогаешь познать истину. Внимательно посмотрев на юношу, она спросила: — Кто ты и откуда приехал в наш город? — Я приехал из Рима, — произнес Клавдий, — чтобы лицезреть тебя, послушать тебя и почерпнуть у тебя мудрости. Она еле заметно улыбнулась: — Мудрости учиться надлежит у мудрейших, а я лишь передаю то, чему учили они. Но всякое стремление к познанию истины похвально. Что ж, приходи в мой дом. Мы собираемся после заката. Она скрылась в дверях, а Клавдий Турон продолжал стоять, глядя ей вслед, восторженный и радостный, ибо удостоился чести попасть в число ближайших учеников несравненной Гипатии.3
Молодой римлянин стал частым гостем в ее доме. Когда над морем опускалось солнце и над землей сгущались сумерки, в дом Гипатии сходились ее ученики. Она читала им лекции по философии, вела беседы об учении величайших мыслителей. Особенно высоко она ценила великого Платона. Этот крупнейший философ-идеалист античной эпохи учил, что мир, в котором мы живем, есть только отражение иного, вечного мира идей, а над ними властвует самая великая идея — мировая душа. Учение Платона было близко и понятно Гипатии. Она, как и другие ее современники, которых называли неоплатониками, усвоила основные принципы этого учения и пыталась развить его дальше. В ту пору Римская империя переживала самые тяжелые свои годы, клонилась к упадку. Еще недавно великую и могучую державу раздирали противоречия. На глазах рушилось казавшееся вечным могущество Рима. На смену всесильным языческим богам пришел новый, христианский бог, который обрел многие тысячи приверженцев. И не случайно у тех, кто задумывался над сущностью мира, возникали мысли о том, что мир этот преходящ, относителен, не вечен. Так что же, нет ничего вечного? Нет, люди не могли примириться с этой мыслью. И они возродили к жизни учение Платона о мировой душе, которая якобы порождает наш временный, бренный, преходящий мир. Клавдий Турон слушал Гипатию и верил ей. Она так убедительно говорила, так логично обосновывала свои взгляды и умело парировала доводы тех, кто не соглашался с ней, что, казалось, могла убедить самого упорствующего из своих оппонентов. — Все временно в этом мире, — повторила она и, подойдя к окну, сделала легкий жест в ту сторону, где громоздились развалины Серапиума. — Взгляните в окно, и разум подскажет вам, как временно все вокруг нас. Серапиум… При одном упоминании о нем холодело сердце. Серапиум… храм египетского бога Сераписа, роскошный, величественный, поражавший каждого, кто хоть раз увидел его. Это о нем римский историк Аммиан Марцеллин написал, что после Капитолия, которым увековечивает себя достославный Рим, Вселенная не знает ничего более великолепного. В течение веков Серапиум был гордостью Александрии. Но когда христианство было признано государственной религией Римской империи, его приверженцы начали разрушать древние святыни. Стремясь утвердить свою веру, они пытались уничтожить все, что было связано с дохристианскими, как они называли, языческими верованиями. Их религиозную нетерпимость распаляло то, что массы народа продолжали поклоняться старым богам, делать им жертвоприношения, собираться в своих прежних святилищах. Христиане разбивали статуи богов, поджигали храмы, убивали своих противников. Так они пытались утвердить свою религию. Настал час и Серапиума… После разгрома Александрийского Мусейона работавшие в нем ученые нашли пристанище в храме Сераписа. Сюда перевезли и библиотеку, которая была частично уничтожена, однако в те времена все же продолжала оставаться самой крупной. Но ведь ее огромное собрание составляли языческие книги. В этом христиане тоже видели вызов их религии. Возглавлял христиан в Александрии епископ Феофил, прославившийся особой нетерпимостью ко всем инаковерующим. Он был одержим идеей безжалостно уничтожить все, что связано с язычеством. Выкорчевать, выжечь, не оставив следа, не оставив никакой памяти о ложных верованиях, — таков был, по его мнению, единственный путь в борьбе с языческими культами. И именно христианский епископ стал главным виновником разгрома Серапиума. Разъяренная толпа, подстрекаемая Феофилом, ворвалась в храм. Словно во время военных сражений, были разбиты таранными орудиями ворота. Потерявшие голову фанатики крушили и жгли все, что попадало под руку. Они рвали в клочья бесценные рукописи. Их пытались образумить ученые, которые стремились остановить безумцев. Но все было тщетно. Один за другим падали сраженные защитники Серапиума, пылали разведенные на его плитах костры, а в них — труды Платона и Аристотеля, Гомера и Софокла, все лучшее, что было создано разумом человека. Ведь они были творениями язычников, которые следовало уничтожить безвозвратно… Клавдий Турон смотрел в окно, туда, куда указывала Гипатия. Он не видел развалин Серапиума, но мысленно представлял их и чувствовал, как каждая мысль Гипатии становится его собственной мыслью. Поразительной силой убеждения обладала эта женщина, унаследовавшая логику умозаключений мудрейших философов Греции и Рима. Впоследствии греческий поэт сложит в ее честь стихи:Когда ты предо мной и слышу речь твою,
Благоговейно взор в обитель чистых звезд
Я возношу — так все в тебе, Гипатия,
Небесно — и дела, и красота речей,
И чистый, как звезда, науки мудрый свет…
4
Епископ Кирилл был в дурном расположении духа. Только что, проезжая по улицам Александрии, он обратил внимание на толпу у здания городского музея и понял, что это Гипатия читает свою лекцию. Ее выступления всегда собирали много народу. Он ничего не сказал, но густые брови сошлись на переносице. Епископ решил про себя, что надо наконец перейти к решительным мерам. Уже четыре столетия существовало христианство. Прошло время, когда последователей этой религии власти Римской империи преследовали, жестоко карали, ибо опасались, что чернь, среди которой возникла вера в Христа, посягнет на их устои. Но нет, скоро они убедились, что христианство не угрожает власть имущим. И император Константин разрешил свободное исповедание христианской веры. Более того, объявил ее государственной религией, поставив на службу империи. Казалось, христианство прочно укрепилось. Но это только казалось. Перед христианской церковью, стремившейся распространить свое влияние, встала задача одолеть языческие культы, которые не желали уходить с исторической арены. Люди продолжали молиться старым богам, принося жертвы в храмах Юпитера и Юноны, поклоняясь богине мудрости Минерве, прося покровительства у владыки морских стихий Посейдона. Епископ Кирилл вот уже четвертый год возглавлял епископат в Александрии, сменив своего дядю Феофила. Он видел, с каким рвением вел его предшественник борьбу с иноверцами, стараясь добиться безраздельного господства христиан. Жестокий, коварный, не гнушавшийся никакими средствами для достижения своих целей, Феофил натравливал христиан на язычников, провоцировал столкновения различных группировок в христианстве, подстрекал своих приверженцев к расправам над теми, кто не принял учения Христа. Он был убежден, что для утверждения христианства надо уничтожить все языческие святыни, и обращался с прошениями к императору позволить сровнять их с землей. Не будет храмов — почитатели старых богов вынуждены будут обратиться к Христу. Именно по наущению Феофила христианские фанатики разгромили Серапиум. Кирилл унаследовал не только идеи своего дяди, но и те методы, которые тот применял. Он поклялся умиравшему Феофилу, что продолжит его дело. В борьбе за епископский престол он применил силу, принудив своего противника архиепископа Тимофея отказаться от притязаний на духовную власть в Александрии. Кирилл сколотил вооруженные отряды из бедняков, готовых на все за те подачки, которыми он их одаривал. Расправляясь со своими противниками, он накапливал награбленные у них богатства. Объявив иудеев злейшими врагами христианской веры, он устроил жестокое побоище, добившись изгнания почитателей бога Яхве из Александрии. Разумеется, все имущество изгнанников попало в его руки. Дело дошло до того, что возмущенный префект города Орест написал жалобу на самоуправство епископа. Святая наивность! Что стоила его жалоба, если Кирилл направил в Константинополь богатые подарки тем, в чьи руки она попала. А для того чтобы префект наконец-то понял, что ему не следует ссориться с епископом, Кирилл натравил на него монахов, напавших на колесницу, в которой ехал Орест. Лишь чудом тому удалось спастись. Да, на стороне Кирилла была сила. Но как ни пытался он вытравить из сознания масс языческую веру, она продолжала существовать. И это распаляло властолюбивого епископа. Потому-то и вывела его из равновесия толпа у здания музея, где выступала Гипатия. Он почувствовал свое бессилие перед популярностью этой женщины. Он было пытался найти с ней общий язык. Пытался вести с ней душеспасительные беседы, стараясь убедить в истинности христианской религии и в ложности всех других. Тщетно! Кирилл вспомнил, что еще епископ Феофил говорил ему о том, что было бы неплохо обратить Гипатию в христианство. Ее авторитет, популярность, ораторский дар можно было бы использовать для распространения веры христовой. Феофилу это не удалось. Не удалось и Кириллу. Занимаясь науками, Гипатия старалась держаться подальше от политических конфликтов, от междоусобных распрей. Она понимала, что только сдержанность и невозмутимость могут быть для нее защитой в смутные эти времена. Она продолжала читать лекции, заниматься математическими вычислениями, наблюдениями звездного неба, демонстративно не обращая внимания на все то, что происходило вокруг. Это отрешение от мирской суеты было чисто внешним. Гипатия глубоко переживала, когда слышала о бесчинствах «святого воинства» епископа Кирилла. Она не могла забыть разгрома Серапиума, не могла смириться с тем, как невежественные фанатики жгли костры, бросая в них ценнейшие книги величайших мыслителей древности. Но она знала и то, что за ее спиной плетутся интриги и достаточно было дать малейший повод, чтобы Кирилл воспользовался им для расправы над нею. Она была удивительно мудра и прозорлива. Епископ Кирилл все чаще повторял ее имя. Имя язычницы, смущающей умы и не желающей покориться его воле. Что проку в ее учености, если она не сообразуется с христианскими идеями. Нет, не такая ученость нужна христианству. Гипатию следовало приструнить. Надо было, чтобы все видели, что никакой авторитет не может устоять перед авторитетом христианской веры, никакая мудрость не может соперничать с мудростью Христа. Но как это сделать? Кирилла бесило то, что он вынужден был при встречах с Гипатией улыбаться ей, проявлять учтивость и вежливость. Он понимал, что откровенная недоброжелательность могла обернуться против него самого. При всем своем желании он не мог вступить с ней в открытую борьбу. Ему доносили, что в своих лекциях Гипатия очень тонко и умно опровергала высказанные им в проповедях суждения о Платоне. Она не упоминала Кирилла, но нетрудно было догадаться, что речь идет о нем. Он был не только проповедником, но и богословом, выдвигал свои доводы против Платона, которые и становились объектом строго логичных умозаключений Гипатии. Он молча выслушивал доносы, думая про себя, что придет час рассчитаться с нею за все. Кирилл верил в свою миссию довести до конца борьбу с язычниками в Александрии, увидеть торжество христианства. Он дал слово Феофилу, когда тот лежал на смертном одре, и готов был сделать все, чтобы сдержать его. Он медленно ходил по мраморному полу из угла в угол, обдумывая решение. Он всегда обдумывал все тщательно, чтобы не сделать неверного шага. Наконец остановился, размашисто перекрестился и прошептал: «Прости меня, господи, все во славу твою». Потом кликнул слугу… Когда в покои епископа ввели чтеца Петра, он осмотрел его с головы до пят, словно впервые увидел. Кирилл кривил душой перед самим собой. Он давно знал этого монаха, который прислуживал еще Феофилу. Когда Кирилл задумал расправиться с префектом, то поручил это именно Петру, отправив его к монахам, жившим в скитах, расположенных в Нитрийских горах близ Александрии. И Петр привел их в город, дав сигнал к нападению на колесницу Ореста. Петр принимал участие в расправе над иудеями, в разгроме христианских сект по приказу епископа александрийского. Кирилл медлил, разглядывая чтеца. Блуждающие глаза фанатика, низкий, изборожденный морщинами лоб, сильные жилистые руки и преданный, как у собаки, взгляд — весь внешний вид его убеждал в том, что этот не задумается над высокими материями, когда речь зайдет о выполнении христианского долга. В конце концов, для него, как для каждого христианина, главное — заслужить спасение в царстве христовом. А это епископ мог обещать со спокойной совестью. Кирилл отвел глаза в сторону, словно ни к кому не обращаясь, начал говорить о том, что жаждет умиротворения среди горожан, что нескончаемые распри отвлекают от служения господу. Но что поделаешь, если есть люди, которые смущают умы, ненавидят христиан, мешая всеобщему примирению. Он, Кирилл, давно протягивает руку префекту, желая вместе с ним установить мир в Александрии. У него только одно требование: чтобы никто не препятствовал христианам исповедовать свою веру, ведь его обязанность — заботиться о своих чадах, которые вручили ему епископский жезл, доверив свои судьбы. Но язычники препятствуют этому, пытаются настроить против него префекта. И главная среди них — Гипатия… Он говорил долго, вышагивая по мраморным плитам, лишь краем глаза поглядывая на Петра. Потом неожиданно остановился подле него, просверлив глазами: — Готов ли ты выполнить свой христианский долг во имя величия церкви Иисуса, во имя погибели проклятых язычников, врагов христовых? — Готов, — отозвался Петр. — Готов ли ты именем господа поклясться, что сохранишь тайну во веки веков до судного дня, когда воздастся тебе по заслугам? — Готов. — Тогда слушай, ибо святая церковь вверяет в руки твои богоугодное дело…5
Волны набегали на берег, бились о скалы и, бессильные сокрушить каменную твердыню, откатывались назад. Теплые брызги обдавали лицо Гипатии. Она не уклонялась от них, а, напротив, тянулась к ласковому дыханию моря. Гипатия любила уходить в рассветные часы к морю, оставаться одна и предаваться размышлениям, слушая шум прибоя. Вечерами, когда мгла опускалась на землю, Гипатия поднималась на плоскую крышу своего дома и наблюдала за звездами, стараясь постичь тайны их движения на небосводе. И до рассвета оставалась наедине со своими мыслями. О чем думала эта удивительная женщина? Может быть, о стремительном беге жизни, о том, что человеку слишком мало отпущено природой, чтобы он мог до конца раскрыть себя? Ей было уже сорок пять. Большая часть жизни осталась позади. А ведь она еще постигла так мало. Гипатия не тратила бездумно время, всегда ценила его. Пожалуй, не было в жизни ее и часа, о котором она могла бы сожалеть, что прожит он зря. Гипатия родилась в ученой семье. Ее отец Теон был видным математиком и астрономом, он трудился в стенах Александрийского Мусейона. От отца она унаследовала пытливый ум, жажду познания и глубокий интерес ко всему, с чем приходилось сталкиваться в жизни. Гипатия с юных лет пристрастилась к чтению, проявила интерес к математике, прежде всего к геометрии. Она поражала окружающих своими познаниями, самостоятельными суждениями, к которым прислушивались даже маститые ученые, приезжавшие в Александрию из разных стран. И неудивительно, что молва о необычайных познаниях дочери Теона, о ее незаурядных способностях разнеслась во все концы империи. Так родилась слава о прекраснейшей и достойнейшей Гипатии. У нее появились ученики. Она начала читать лекции, привлекавшие множество слушателей. И те, кто приходил послушать ее, не разочаровывались. Молва о талантливой женщине ничуть не преувеличивала ее достоинств, как это обычно случалось. Казалось, нет такой области познания, в которой бы она не преуспела. Гипатия увлеченно занималась философией, скрупулезно штудируя сочинения Платона и других мыслителей его школы. Она комментировала трактаты своего соотечественника Диофанта, прославленного математика из Александрийского Мусейона, труд другого известного математика Аполлона Пергского «Конические сечения». Ее интересовали механика, навигация и другие науки. Гипатии приписываются изобретение ареометра — прибора для определения плотности жидкости, идея создания астролябии, с помощью которой можно было определить положение корабля в открытом море. Она превосходно знала древнюю литературу, повторяя во время лекций наизусть гекзаметры Гомера, поэтические творения Сапфо и Анакреонта, драматические диалоги Эсхила и Софокла, мудрые притчи Эзопа. Познания Гипатии были так обширны, ее научный авторитет так высок, что вполне естественным было решение городских властей просить ее возглавить кафедру философии в Александрии. По общему признанию, она являлась самой достойной из достойных. Не сразу магистрат решился на такой шаг. Никогда еще женщина не возглавляла кафедру. Но Гипатия действительно превзошла всех философов, и не было никого, кто мог бы соперничать с ней. Она приняла предложение. Нет, она не растрачивала свое время, дарованные ей способности. Она жила наукой. И может быть, за эту цельность люди одаривали ее глубоким уважением и любовью. Конечно, не все. Были и завистники. Были и такие, которые ненавидели ее, хотя и не высказывали открыто своей неприязни. Она знала их. Вот, например, епископ Кирилл, всегда учтивый с нею, но разве трудно заметить в его глазах зловещие огоньки? Кирилл не мог простить ей то, что она отказалась принять христианство. Но разве можно принять сердцем идеи, которые не приемлет разум? Пойти на сделку с совестью, признать веру, которую считаешь ложной? Этого она не могла. Гипатия видела, как христианство, набирая силу, претендует на то, чтобы безраздельно господствовать над умами людей. Церковь, пользовавшаяся покровительством светских властей, следила за тем, чтобы научный поиск не противоречил христианским догмам. Епископы могли потребовать отречения от взглядов, которые, по их мнению, не совпадали с «истинами христовыми». Как же могла Гипатия принять эту веру, стремившуюся наложить оковы на разум? В ее сознании были живы картины разгрома Серапиума, когда толпа фанатиков безжалостно крушила искуснейшие творения человеческих рук, сжигала на кострах редчайшие книги, лишая жизни тех, кто пытался воспрепятствовать этой дикой оргии. Она знала, что возглавлял толпу фанатиков епископ Феофил. Гипатия знала, что, отказываясь принять христианство, она навлекает на себя множество бед. Ее пока терпели, ибо слишком велики были ее популярность в народе и научный авторитет. Но при первой же возможности Кирилл выместит на ней свою злобу. Она старалась оставаться спокойной, когда неизвестные люди ночью разбивали астрономические приборы на крыше ее дома, пытались поджечь ее библиотеку. Она знала, кто стоит за этими гнусными выпадами. Ей говорили, что по городу распространяются слухи, будто она мешает примирению префекта с епископом Кириллом. Она не обращала на это внимания. От всех дрязг, сплетен, мелких уколов Гипатия старалась забыться в научных занятиях. А уколы становились все более частыми. Епископ Кирилл был не из тех людей, которые отступаются от своих замыслов. И хотя он всегда оставался в тени, было ясно, что все это дело егорук. Не раз, проходя в последнее время по улицам Александрии, Гипатия слышала сзади зловещий шепот: «Чернокнижница!» Не готовит ли ей Кирилл участь несчастных, подвергшихся нападению невежественных фанатиков только за то, что они верили в языческих богов? Волны набегали на берег, разбиваясь с шумом о скалы. Сидя на камне, Гипатия думала о том, что в суете мирских страстей люди забывают о вечном. Люди приходят и уходят, остается то, что им удалось познать, открыть, передать потомкам, остается стремление к постижению истины. А все остальное разлетается, как пыль, не оставляя ни следа, ни памяти о себе. И, зная это, может ли она поступиться вечным даже под страхом смерти? Может ли она изменить своим убеждениям? Ей не страшны никакие угрозы. Никто не заставит ее поступать против совести.6
Клавдий Турон вел спор о вере. Спор горячий и страстный. До той поры ему никогда не доводилось вести таких споров, когда оказываются бессильными аргументы, когда умолкает логика и место логичных доводов занимают тупое упорство, нежелание здраво взглянуть на вещи. Но разве до логики, разве до здравого смысла, если разговор идет о вере? В Александрии такие споры были обычным делом. Они начинались там, где собирались приверженцы разных вер, и тогда разгорались словесные баталии, которые могли длиться часами. Приверженцы иудейского бога Яхве, отчаянно жестикулируя, доказывали истинность своего бога. Язычники, воздевая руки к небу, призывали небеса в свидетели правоты своей веры, а христиане клялись именем Христа, что только их религия, выжившая несмотря на жестокие преследования, единственно истинная. Особенно жаркие страсти разыгрались в пустынях, где жили монахи, расставшиеся с «миром» ради спасения души в обещанном христианскими проповедниками загробном царстве христовом. Им, монахам, пренебрегшим соблазнами жизни земной, церковь в первую очередь обещала ключи от райского блаженства. И за эти посулы люди отказывались от дома, от семьи, от друзей, от всех жизненных радостей ради грядущего счастья на небесах. Клавдий Турон вел спор с двумя монахами. Были они оба уже немолоды, грязные и оборванные, подчеркивая тем самым пренебрежение к телу своему и одеждам. Взывая к голосу рассудка, он доказывал, что вся христианская догматика так зыбка, что не способна выдержать столкновения с мало-мальски убедительными доводами разума. Монахи твердили свое, то и дело осеняя себя крестным знамением. Он опять взывал к голосу разума. — Но почему же тогда мудрейшие из мудрых не знали и не знают вашего Христа? — выдвинул он еще один аргумент. — Почему Гипатия, ученость которой известна всем, слава о которой дошла до самого Рима, не приняла вашей веры? Или вы, темные, оказались мудрее ее? — Чернокнижница! — выкрикнул один из монахов. — Дьявол, дьявол сидит в ней! Дьявол-искуситель! Она погибнет сегодня, дочь сатаны! Да свершится справедливый суд христовый руками верных его чад. Клавдий Турон не сразу понял смысл слов монаха, а когда они дошли до его сознания, почувствовал, как у него похолодело сердце. Гипатии угрожает опасность. Эти безумцы способны на все. Скорее туда, к ней, предупредить, спасти… Он метался по городу, разыскивая Гипатию, и не мог найти ее. Дома ее не было с утра. В музее она не появлялась. Он бросился в магистрат. Префект Орест, почтительно относившийся к Гипатии, развел руками: он не видел ее уже несколько дней и очень сожалеет, ибо каждая встреча с достойнейшей и мудрейшей из всех женщин обогащает душу и разум его. Клавдий Турон нервно тер лоб: где она может быть? И вдруг его осенило. Ну конечно же, как он не сообразил раньше! После полудня она нередко проводила время в библиотеке. Подбегая к украшенному колоннадой белому зданию, он понял, что опоздал. На мраморных ступенях бесновалась толпа. Он пытался пробиться ближе и не мог. Толпа заполнила узкий проулок, который вел к библиотеке, стонала, вопила, выла. А в центре ее он увидел черный плащ Гипатии. Несколько грязных оборванцев волочили ее по земле, а она, бессильная вырваться из цепких рук, сомкнув губы и прикрыв глаза, была, как всегда, спокойна, только мертвенная бледность легла на ее лицо. — Дьяволица! Дочь сатаны! Чернокнижница! — слышалось в толпе. Клавдий Турон заметил чернобородого предводителя толпы в рубище. Он что-то кричал, указывая на другой конец улицы, и толпа хлынула за ним, увлекая за собой Гипатию. Клавдий Турон рванулся за ней, но чья-то властная рука остановила его. Как в тумане, он увидел перед собой незнакомого человека в белой тоге. — Одумайся, безумец. Ей уже не помочь, а себя погубишь. Они опьянели в предвкушении кровавой пищи. И тогда гордый римлянин Клавдий Турон, который никогда не знал слез, заплакал. Он закрыл лицо руками и зарыдал, не в силах сдержать себя. Толпа уже исчезла из виду. Ослепленная религиозным фанатизмом, она покатилась, сокрушая все на своем пути, к храму Кесарион, волоча за собой ту, которую намечено было принести в жертву всеблагому христианскому богу. Там, на ступенях Кесариона, фанатики, с налитыми кровью глазами, выламывали ей руки, осыпали ее тело тяжелыми ударами. Разъяренные мракобесы сорвали с женщины одежду, сдирали кожу устричными раковинами… Рядом высилось мраморное изваяние Христа, на котором были высечены слова: «Я всегда один и тот же — и ныне, и присно, и во веки веков». Сын божий, кроткий и любвеобильный, мудрый и справедливый, равнодушно взирал, как уже бездыханное тело женщины обезумевшие убийцы жгли на костре…7
— Боже, не оставь заботой своей душу несчастной жертвы… Епископ Кирилл молился за несчастную жертву. Все видели, как искренне он переживал гибель Гипатии. И кому в голову могло прийти, что это по его наущению нитрийские монахи разносили по городу слухи, будто в Гипатию вселился дьявол, будто она ведьма и использует злые чары свои против христиан. Кто мог подумать, что предводитель толпы, чтец Петр, звавший к расправе над колдуньей и чернокнижницей, как-то связан с епископом александрийским. Церковь осталась в стороне от кровавого преступления, чистой и незапятнанной. Остался в стороне и епископ Кирилл. Более того, он был впоследствии причислен церковью к лику святых. Церковные авторы, составляя житие «выдающегося борца за православие и великого учителя церкви», создали образ доброго и незлобивого иерарха, который «мягко и осторожно подходил к тем, кто по своей простоте и неведению впадал в ложное мудрствование». Он-де вынужден был вести борьбу с еретиками и иудеями, которые убивали христиан. Сердобольный защитник несчастных и обиженных, он являл собою пример образцового христианского пастыря. В дореволюционных изданиях жития Кирилла Александрийского упоминается и о Гипатии, которая, оказывается, отличалась «христианской мудростью» и особенной любовью к Христу. Это будто бы и послужило причиной зверской расправы над нею, которую учинили «ненавидевшие мир мятежники». Что за «мятежники», это так и осталось неразгаданным. Так церковные сочинители переписали историю, с легкостью расправившись с историческими фактами. Церковь попыталась превратить Гипатию в святую великомученицу. Правда, ей было дано другое имя: к лику святых оказалась причисленной неведомая никому Екатерина Александрийская. Но в основу жития великомученицы легла реальная биография Гипатии. В житии повествуется о том, что в IV веке в Александрии жила мудрейшая из женщин Екатерина, занимавшаяся философией, математикой, астрономией. Она была красива и добродетельна и всю мудрость мира нашла в христианской вере. Император Максимиан, прибывший на языческое празднество в Александрию, пытался переубедить ее. Он созвал 50 ученейших мужей империи, но та «взяла верх над мудрецами, так что они сами уверовали в Христа». Она не отказалась от христианства под угрозой колесования и приняла мученическую смерть, оставшись верной христианской религии. Церковные сочинители вынуждены были лишь сместить время. Святая великомученица Екатерина, как повествуют церковные авторы, жила якобы на столетие ранее Гипатии. Ведь стать великомученицей она могла лишь тогда, когда христианство еще не было объявлено государственной религией. После же того, как она стала государственной, гонения на христиан прекратились. Но не мифическую Екатерину Александрийскую, а Гипатию хранит в своей памяти история. Образ мудрой и добродетельной женщины неизменно привлекал к себе внимание писателей и поэтов. К нему обращались Вольтер и Леконт де Лилль. Гипатии посвятил роман английский писатель Чарлз Кингсли. Трагедия, разыгравшаяся более полутора тысяч лет назад в Александрии Египетской, — одно из черных деяний христианской церкви в начале ее пути. А имя Гипатии — одно из первых в длинном списке мучеников науки, который лежит на совести христианства.Узник монастырской тюрьмы



Время действия — XIII век. Место действия — Англия.
1
Над Европой стояла ночь. Ночь средневековья. Мрачнейший период в человеческой истории, о котором итальянец Бартоли образно писал: «Как будто разум окутался саваном, чтобы сойти в могилу, где он оставался много веков. Свет мысли погас». Христианство, некогда преследовавшееся римскими властями, став при императоре Константине государственной религией империи, набирало силу. Оно распространилось вначале в Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, потом в других странах. Крушение империи не поколебало устоев религии, к тому времени властвовавшей над умами множества людей. На долгие годы в Европе утвердилось господство христианства во всех областях духовной жизни. Под контроль церкви попала наука, ставшая служанкой богословия. Философию заменила схоластика, которая занималась доказательством, обоснованием, утверждением «истин» христианской религии. В крупнейших университетах Европы ученые мужи, облаченные в мантии, вели нелепые споры о том, чем питаются ангелы и сколько чертей может поместиться на ногтях у человека. Церковь зорко следила за тем, чтобы никто не помышлял отступить от религиозных догматов, стремилась к тому, чтобы христианские представления вошли в плоть и кровь каждого человека. И горе было тому, кто осмеливался думать по-иному. Французский писатель Анатоль Франс справедливо замечал, что в те мрачные годы «счастливому единодушию паствы несомненно способствовало также обыкновение… немедленно сжигать каждого инакомыслящего». И все же свет мысли до конца не погас. Даже в этот период он пробивался в непроглядной ночи: ничто не могло остановить естественного стремления человека к познанию мира. В обстановке разгула религиозной нетерпимости находились смельчаки, бросавшие вызов застою и косности, стремившиеся разорвать цепи, в которые церковь пыталась заковать свободную мысль. Среди них был францисканский монах Роджер Бэкон…2
Слухи о таинственной башне ползли самые разные. Говорили всякое. Одни, оглядываясь по сторонам, нашептывали, будто в этой самой башне монах-чернокнижник по ночам занимается колдовством, вызывает дьявола и ведет с ним беседы. Не зря же в башенном окошке до утра не гаснет свет. Другие передавали, тоже шепотом, что дело тут не в колдовстве. Монах по ночам варит в своих ретортах золото, но, конечно же, с помощью сатаны. А кое-кто высказывал мысль, что золото тут ни при чем, что в монастырской башне он приготовляет колдовское зелье, чтобы потом спаивать доверчивых людей. Слухи ползли по Оксфорду, передавались из уст в уста, и суеверные жители города стали с опаской поглядывать на францисканский монастырь, а башню обходить стороной, чтобы не навлечь на себя беды. То было время расцвета невежества и суеверий, которые насаждались церковью. Вера в дьявола и в колдовство, нечистую силу и злых духов прочно укоренилась в сознании людей, стала неотъемлемой частью жизни. Слухи о таинственной башне дошли до генерала ордена францисканцев Бонавентуры. Генерал повелел вызвать к нему монаха, возмутившего спокойствие горожан. Он знал этого монаха, которого именовали братом Роджером. Знал давно, с той самой поры, когда этот самый монах испросил разрешения отправиться в Парижский университет, чтобы слушать лекции известных богословов. Брат Роджер имел недурную репутацию. Он отличался незаурядными способностями, усердно занимался богословием, ни в чем предосудительном до той поры замечен не был. Его считали знатоком церковного вероучения и богословских писаний. И когда встал вопрос о его поездке в Париж, начальство не возражало. В те годы Парижский университет был самым знаменитым из всех университетов Европы. Сюда съезжались известные богословы, чтобы высказать друг другу свои мысли, провести диспут. Здесь читали лекции самые именитые теологи, и поэтому в Париж устремлялись многие тысячи слушателей, чтобы увидеть и послушать ученых мужей. Просьба брата Роджера не удивила генерала ордена, предшественника Бонавентуры. Что ж, если любознательный монах желает пополнить знания, познакомиться с виднейшими христианскими богословами, подобное стремление следует поощрять. Церкви, и францисканскому ордену в частности, нужны люди, досконально знающие христианское вероучение, умеющие вступить в ученый диспут, отстоять свою веру от нападок разного рода толкователей священного писания, впадающих в ересь. А такое случалось. Не часто, но случалось. Находились люди, которые были заражены еретическим учением арабского философа Аверроэса, доказывавшего вечность и несотворимость материи и отрицавшего бессмертие души. Поразительно, что взгляды Аверроэса, исповедовавшего мусульманскую веру, разделяли и некоторые христиане. Церковь должна была принять решительные меры, чтобы пресечь распространение еретических суждений. В начале XIII столетия церковный суд в Париже предал сожжению десять священнослужителей, разделявших крамольное учение Аверроэса. Это, казалось, должно было устрашить еретиков. Но к сожалению, они не перевелись, и церковникам приходилось быть все время начеку, чтобы не допустить дальнейшего распространения ереси. Да, церкви нужны были люди, умеющие отстоять христианские догматы. Потому руководители ордена и благословили брата Роджера на поездку в Париж. Но едва монах, высказав слова благодарности, покинул покои генерала, тот отдал распоряжение зорко следить за братом Роджером и доносить о его поведении. С этой минуты монах оказался под неусыпным оком шпионов, следивших за каждым его шагом. Вскоре генерал ордена стал получать сведения о поведении брата Роджера. Ему сообщали, что по прибытии в Париж он с головой окунулся в университетскую жизнь: не пропускал ни одной лекции, посещал богословские диспуты, все свободное время проводил в библиотеке, где штудировал труды древних философов и современных теологов. В общем, он проявлял рвение в учебе, что вызвало похвалу тех, кто возлагал на него надежды. Однако доносили генералу ордена и иное, что заставило его насторожиться. Брат Роджер порой начинал вести такие речи, которые можно было услышать лишь из уст самых дерзких еретиков и вольнодумцев. Диспуты богословов он не раз называл словоблудием. Речи духовных отцов, заявлял он, не стоят и жалкого гроша, ибо в них есть лишь словесная шелуха и нет никакой сердцевины. За такие речи дерзкого монаха можно было бы и призвать к ответу. Но генерал ордена не стал прибегать к крайним мерам. Брат Роджер ему положительно нравился: он умен, образован, усерден, любознателен. Таких немного было среди монастырской братии. Что же касается его вольных взглядов, то они с годами выветрятся — в этом генерал был уверен. Если же нет, то к крайним мерам можно прибегнуть всегда… Все же, когда брат Роджер вернулся из Парижа, генерал ордена сделал ему внушение, что членам францисканского братства не пристало выступать с речами, которые могут смутить умы людей. Это брату Роджеру следует запомнить на всю жизнь, если он не желает, чтобы к нему были применены крайние меры. А что это такое, он должен знать. В Париже он видел, как возводили на костры еретиков, посмевших усомниться в истинности учения святой церкви. Генерал ордена говорил, а монах, стоявший перед ним, молчал, опустив голову. Генерал в упор смотрел на него. — Ты понял, сын мой? Ты все понял? — настойчиво говорил генерал ордена. — А теперь ступай и свято выполняй свою миссию служения господу. И вот опять брат Роджер. Он не внял предупреждениям. Теперь его имя связано с монастырской башней, о которой ходят самые невероятные слухи. И снова брат Роджер стоит перед генералом ордена. Теперь это место занимает Бонавентура, молодой, но уже широко известный в католическом мире богослов, ведущий, как говорят, аскетический образ жизни, ревностно служащий господу. Он требователен к себе и другим, и тон генерала далеко не снисходительный. В его покоях шли совсем иные разговоры, чем те, которые доводилось вести Бэкону с предшественником Бонавентуры. Брат Роджер пытался оправдываться, говорил, что в башне не занимался ничем предосудительным. Он проводил физические опыты, занимался алхимией. Но разве это богопротивное дело? Бонавентура словно не слышал доводов монаха. Физические опыты? А к чему они члену братства? Алхимия? Разве помогает она прославлять величие божие? Он сам учился в Парижском университете, а затем был в нем профессором богословия. Едва ли кто-либо в ту пору мог сравниться с ним в знании христианской догматики. Генерал был совсем не похож на тех руководящих лиц в францисканском братстве, которые считали невежество чуть ли не главной добродетелью. Он скептически относился к схоластическим спорам философов, отнюдь не осуждал стремления к познанию. Однако считал своим долгом предостеречь своих собратьев от заблуждений. Познание не нуждается в опыте, ибо знание достигается без помощи чувств, а лишь через мистическое созерцание, через слияние с божеством. Ведь только в боге заключена высшая истина. Брат Роджер, не понимая этого, стоит на опасном пути. Так можно впасть в ересь. И Бонавентура знает, как предостеречь его. Он уже принял решение.3
Летом 1257 года Роджера Бэкона отправляют в Париж с запрещением читать, писать, проводить опыты. Он должен одуматься. На это ему дается время. Много времени. Целых десять лет… О жизни монаха, брата Роджера, известного под именем Роджера Бэкона, мы знаем очень немного. О нем дошли скупые сведения, по которым можно лишь весьма схематично составить его биографию. Известно, что родился он около 1214 года в Англии. В молодости вступил в члены монашеского ордена францисканцев, названного по имени его основателя Франциска Ассизского. Франциск выступил с проповедью, в которой осудил стремление христиан к обогащению, призвал к отказу от всякого имущества, видя в этом путь к возрождению идеалов раннего христианства, давно забытых католической церковью. Это был своеобразный протест против богатства и роскоши папской иерархии, против тех мирских соблазнов, которые давно занимали главное место у служителей божьих. «Апостол нищеты», как называли Франциска, стал бродить по дорогам Италии, проповедуя свои идеи. У него появились ученики и последователи. Их число росло. Подобно Франциску, они раздавали свое имущество, одевались в рубище, беря на себя обет добровольной нищеты. Нетрудно понять, почему проповедь Франциска получила широкий отклик. Ведь она была прямым укором погрязшему в стяжательстве духовенству, развращенному монашеству, вызывавшим глухой ропот людей труда, на глазах которых они без зазрения совести нарушали христианские заповеди. Но удивительно, что папа римский не объявил Франциска еретиком, не осудил его приверженцев. Более того, он признал первую общину францисканцев, утвердил ее устав, поняв, что может использовать ее для распространения христианских идей. Так было положено начало монашескому ордену, который стал одним из оплотов католической церкви. Иллюзиям, посеянным учением Франциска Ассизского, быстро пришел конец. После его смерти его последователи предали забвению проповеди «апостола нищеты». Орден быстро богател, монахи вели привольную жизнь в монастырях. И хотя орден продолжал именоваться нищенствующим, ни о какой нищете его членов и речи быть не могло. Вступив в братство францисканцев, Роджер Бэкон быстро обратил на себя внимание недюжинными способностями, упорством в учении. Он изучил творения «отцов церкви», сочинения древних философов, знал работы естествоиспытателей. Он овладел несколькими европейскими языками, а кроме того, арабским, древнегреческим, латинским, что позволяло ему читать в подлинниках труды мыслителей прошлого. В ордене оценили стремление молодого монаха к познанию. Одного только не учли его наставники: что брата Роджера меньше всего интересовали схоластические словопрения дипломированных богословов. Его влекло к себе познание природы. Он скептически слушал выспренние речи схоластов, утверждавших, что наука и философия призваны способствовать защите религиозного вероучения: в противном случае они не имеют права на существование. Нет, заявлял он, ложное мудрствование, «наука слов» никому не нужны. Если руководствоваться в жизни только раз и навсегда принятыми положениями, будь это даже религиозные догматы, то надо смириться с тем, что человеку не дано познать окружающий мир. Но что проку в схоластических словоблудиях? Что они дают людям? Ровным счетом ничего. Подлинная наука должна служить практике. Она принесет пользу только тогда, когда окажет помощь мореплавателям, земледельцам, ремесленникам. Для этого она должна развиваться. Не топтаться на месте, а именно развиваться, проникать все глубже в тайники природы, искать факты, изучать их и делать на их основе выводы, ценные для людей. Роджер Бэкон выступил против слепого следования авторитетам. В своих бесконечных спорах схоласты ссылались на высказывания «отцов церкви», воспринимая их как абсолютно непогрешимые. В полемике они не знали иных доводов, чем изречения Августина Блаженного или Григория Великого, святого Иеронима или Амвросия. А разве эти видные богословы не могли ошибаться? Даже мудрейшие из мудрейших не могут избежать ошибочных суждений, ибо они простые смертные. Так можно ли считать абсолютной истиной любое высказывание авторитета? Вера, слепая вера в авторитеты, заявлял Роджер Бэкон, должна быть отвергнута. Это вовсе не означало, что он не признавал авторитетов. Напротив, он с почтением относился к крупнейшим мыслителям прошлого, однако требовал, чтобы их выводы и утверждения не принимались безоговорочно, а проверялись, истинны они или ложны. Но ведь в таком случае проверке подлежали и «вечные истины» христианства, и творения «отцов церкви», и утверждения других церковных авторитетов! А это уже была откровенная ересь. Да, идеи Роджера Бэкона были еретическими с точки зрения церкви. И не удивительно, что после смерти Бэкона его сочинения, по велению генерала ордена францисканцев, были прикованы цепями в монастырской библиотеке в Оксфорде. Эти сочинения были признаны опасными для верующих, ибо они расходились с официальной доктриной католической церкви, «смущали умы». Свое главное сочинение — «Большой труд» Роджер Бэкон написал в заточении. В нем он возвеличил науку, которая призвана служить людям, восстал против невежества, мешающего научному познанию мира. Рабскому преклонению перед авторитетами, будь то известнейшие богословы или крупнейшие ученые, он противопоставил опытное знание. Опыт, по его словам, — это основа основ познания мира. «Выше всех умозрительных знаний и искусств стоит умение производить опыты, — писал Роджер Бэкон. — И эта наука есть царица наук». Однако его понимание опыта было непоследовательным. В ту пору, когда в сознании людей сливалось воедино фантастическое и реальное, когда над умами господствовала мистика, нелегко было освободиться от наслоений эпохи, выработать подлинно научное понятие опыта. Но уже тот факт, что он выдвигает опыт как основу познания действительности, свидетельствует о попытке вырваться из тисков схоластического мышления, найти пути к естественнонаучному постижению природы. Роджер Бэкон не только призывал к опытному исследованию природы, не только ратовал за то, чтобы наука служила практике, но и сам подавал пример практической деятельности. В той самой монастырской башне, которая породила столько сплетен и кривотолков, он проводил физические опыты, послужившие основой для интереснейших выводов. В своих сочинениях он высказал мысль о возможности создания таких оптических приборов, с помощью которых можно будет видеть мельчайшие и самые далекие объекты, «приближать к Земле Луну и Солнце». Тем самым он предвосхитил изобретение микроскопа и телескопа. А можно ли не поражаться удивительному таланту научного предвидения Роджера Бэкона, читая его строки о том, что люди создадут «повозки», которые смогут передвигаться по земле без животных, лодки, которые смогут плыть по морям без гребца, летательные аппараты? И все это было высказано более 700 лет назад! Широта познаний Роджера Бэкона была для того времени огромна. В его «Большом труде» есть главы, в которых высказываются суждения о математике и грамматике, о гидрографии и географии. С географической частью этого сочинения впоследствии познакомился Колумб. Мысли Бэкона, как утверждают некоторые исследователи, оказали на него немалое влияние. Любопытны суждения Роджера Бэкона о климате Земли, о медицине, о музыке. Не случайно «Большой труд» называют энциклопедией того времени. С увлечением он занимался алхимией. Сама по себе алхимия, возникшая в годы средневековья, была лженаукой. Алхимики пытались найти способ превращения простых металлов в драгоценные — в золото и серебро с помощью фантастического «философского камня». Кроме того, они верили, что с помощью алхимии можно открыть «жизненный эликсир», который якобы даст людям вечную молодость. И они искали, производили химические опыты, надеясь на осуществление своих далеких от реальности мечтаний. Хотя алхимия и была лженаукой, ибо цели ее были заведомо несбыточными, но она принесла человечеству немалую пользу. Конечно, алхимики не нашли «философского камня», не сумели создать «жизненный эликсир». Однако, проводя свои опыты, они получили множество новых веществ, подчас даже не подозревая о том. Именно алхимики впервые выделили фосфор, мышьяк, висмут. Немецкий алхимик Беттер, не сумев получить искусственным путем золото, случайно открыл способ получения фарфора. Важнейшее открытие сделал алхимик из Болоньи Винченцо Каскариоло. Он обнаружил, что если сульфид бария подержать на солнце, то он затем некоторое время светится в темноте. А ведь это — явление люминесценции, законы которого были впоследствии сформулированы советскими учеными и которое нашло применение в технике наших дней. Английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, живший три с половиной столетия спустя после своего однофамильца Роджера Бэкона, говоря об алхимии, приводил древнюю сказку о старике, который, умирая, сказал сыновьям, будто закопал в своем винограднике золото. В поисках золота сыновья перекопали весь виноградник, но ничего не нашли. Однако труд их не пропал даром. Работа на винограднике принесла обильные плоды, урожай, какого прежде не видывали. И тогда стало понятным завещание старика. Сказка эта поучительна и образно говорит о том, что же дала людям лженаука алхимия. Не случайно впоследствии на почве алхимии родилась химия — наука, без которой немыслима наша жизнь. Роджер Бэкон занимался алхимией увлеченно. В монастырской башне он оборудовал лабораторию и ночи проводил за опытами, среди колб и реторт, в надежде обнаружить «философский камень». Нет ничего удивительного в том, что один из замечательных умов своего времени оказался во власти суеверного представления об этом таинственном «камне». Нет ничего удивительного, что он увлекался астрологией, что он отдавал дань поражающим теперь своей наивностью суевериям. Это печать времени, печать эпохи, в которую он жил и творил. Церковь неистовствовала, стремясь преградить путь научному знанию, ломавшему установившиеся представления, общепринятые в те годы положения. В XII столетии папа римский Александр III запретил духовным лицам заниматься физикой. Сто лет спустя «святой» Доминик, основатель монашеского ордена доминиканцев, запретил членам своего братства изучать естествознание и медицину. Ну а отношение руководителей ордена францисканцев к познанию мира Роджер Бэкон испытал на себе. За свои исследования, свои высказывания в защиту свободного познания мира он поплатился свободой.4
В 1267 году с корабля, прибывшего в Англию, сошел пожилой человек в монашеской одежде. Он добрался до Оксфорда и направился в монастырь, где ему предстояло прожить оставшиеся годы. Он шел по узким улочкам, озираясь по сторонам и радуясь встрече с городом, где провел лучшую часть жизни. Никто не обращал на него внимания — мало ли монахов бродит по Оксфорду! А имя Роджера Бэкона, некогда возмутившего спокойствие горожан, давно стерлось в их памяти. Но через год после того, как Роджер Бэкон возвратился в Оксфорд, генералу ордена францисканцев вновь посыпались доносы на него. Этого монаха ничему не научила жизнь. Возвратившись в Оксфорд, он опять занялся физическими опытами, снова вернулся к алхимии, проводя дни и ночи в монастырской башне. Но это еще не самое страшное. Хуже другое. В своих сочинениях, отстаивая мысль о независимости науки от религии, он подверг критике святую церковь. Бонавентура читал сочинение Роджера Бэкона. Читал внимательно. Он действительно умен, этот монах, и, конечно, прав, обвиняя духовенство и своих собратьев в невежестве. Но они служат господу, прославляя его, заставляя людей безропотно следовать предписаниям святой церкви. А у Бэкона получается, что тем самым они препятствуют развитию знания, которое дает человеку власть над природой, преумножает их силы. Он обвиняет духовенство в том, что оно выступает против прогресса. А ведь духовенство говорит от имени церкви… Генерал ордена еще раз перечитал написанное. Тонкие пальцы нервно теребили янтарные четки. Брат Роджер заявляет, что наука должна стать независимой, освободиться от опеки богословия. Пусть-де богословие существует само по себе, не вмешиваясь в дела науки, которая получит возможность развиваться самостоятельно. Бонавентура покачал головой. Умный и проницательный богослов уловил смысл подобных суждений. Речь тут шла не просто об освобождении науки, а о скептическом отношении к религиозной догматике. Если церковь ставила веру превыше всего, утверждая, что научное познание немыслимо без религии, то Бэкон ратовал за свободное развитие знания. Это была явная крамола. Таких крамольных мыслей у него было немало. Чего стоит, например, его отрицание исключительности христианской религии. Он пишет, что на земле много религий, но нет никаких оснований утверждать, что христианство истинно, а все другие религии ложны. Он даже сравнивал христианство с иудейством… Генерал ордена был тверд и непреклонен в отношении тех, кто отступал от догматов веры, проповедовал еретические взгляды. И хотя он отдавал должное рассудительности брата Роджера, его несомненно гибкому уму, терпеть такие вольности он не мог. Человек, распространяющий взгляды, не совпадающие с теми, которые признавала истинными святая церковь, должен был понести наказание. Исключений тут быть не может. Суждения брата Роджера крайне опасны. Нельзя было допустить, чтобы он делился ими со своими ближними. Крамолу надо решительно пресекать, пока она не пустила ростки. Бонавентура вспомнил о тех слухах, которые некогда распространялись в Оксфорде в отношении Бэкона. Темные люди считали, что он способен вызывать дьявола и действовать по его наущению. Что ж, мысли этого монаха и впрямь можно считать дьявольскими. Не кто иной, как он, коварный соблазнитель, способен внушать подобное людям. Пусть попробует брат Роджер отвергнуть обвинение в том, что он стал жертвой дьявольского наваждения. Руководство ордена францисканцев готовилось к расправе. За Бэконом был установлен строгий надзор. По его пятам, словно тени, двигались шпионы в монашеских рясах: они докладывали генералу ордена о каждом шаге еретика, о его разговорах, обо всем, что с ним связано. Каждое слово, невзначай брошенное Бэконом, тотчас становилось достоянием генерала ордена. Теперь уже сама монастырская братия с чьей-то легкой руки разносила слухи о том, что брат Роджер вступил в связь с дьяволом, что он занимается колдовством, что он чернокнижник. Слухи эти разносились с быстротой ветра. Бэкон чувствовал, как вокруг него образуется пустота, как люди, прежде поддерживавшие с ним добрые отношения, стараются избегать его. И вот пришел день, когда церковь предъявила Роджеру Бэкону обвинение в ереси. Он отверг его. Духовные отцы считают мои произведения делом дьявола, потому что они недоступны их уму, заявил он. Подобная дерзость лишь усугубила его вину. Он пытался защищаться, приводил убедительные доводы, стремясь доказать свою невиновность. Его не слушали. Приговор ему уже был вынесен заранее. В 1278 году Роджер Бэкон был брошен в монастырскую тюрьму.5
Четырнадцать лет. Сто шестьдесят восемь месяцев. Пять тысяч сто двенадцать дней. Все это время он провел в одиночной камере со строжайшим запретом писать и читать. Но он ухитрялся писать тайком, урывками, прислушиваясь к шагам тюремщика, чтобы успеть спрятать листки бумаги. Среди сочинений Роджера Бэкона есть одно, которое называется «Свободу философии». Оно написано в тюрьме в период его многолетнего заключения. В нем Бэкон со всей страстью нападает на католическую церковь, на духовенство, которое «предано суете, роскоши, обжорству». Он никогда не был безбожником. До конца дней своих он оставался в плену религии и даже не помышлял о том, чтобы подорвать у людей религиозную веру. Но, расчищая дорогу знанию, утверждая необходимость свободного развития науки, Бэкон тем самым подрывал устои религии, которая претендовала на безраздельное господство над умами людей. Обличая духовенство, он опять-таки наносил удар по религии. Ведь служители церкви объявили себя посредниками между богом и людьми, а он во всеуслышание называл их невеждами, тупицами, препятствовавшими прогрессу, насаждавшими в массах самые нелепые суеверия. Бэкон жил в эпоху, когда, по словам Энгельса, «чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде». Но и через религиозные одежды можно было узреть, что взгляды Бэкона были слишком далеки от официальной доктрины церкви. Четырнадцать лет в тюремной камере. Срок вполне достаточный, чтобы сломить волю человека. Но Роджер Бэкон не отказался от своих взглядов, а, напротив, еще сильнее утвердился в них. Только в 1292 году перед Роджером Бэконом отворились тюремные двери. Глубоким стариком он вышел на свободу. За его плечами лежали восемь десятилетий жизни, из них, в общей сложности, двадцать четыре проведенных в неволе. Ушли из жизни многие из тех, кто выносил ему обвинение, по чьему повелению он был брошен в монастырскую тюрьму. Давно сошел в могилу генерал ордена Бонавентура, за год до своей кончины возведенный папой в сан кардинала. На смену ушедшим пришли другие, которые лишь понаслышке знали, что в тюремном каземате томится монах, некогда осужденный за сношения с дьяволом. Но он уже был стар, немощен и вряд ли представлял какую-либо опасность. Он недолго прожил после освобождения из темницы. А когда умер, церковь наложила запрет не только на его сочинения, но даже на его имя, постаравшись предать его забвению. В монастырских стенах его можно было повторять только шепотом, с оглядкой, опасаясь, чтобы никто не услышал. Однако церковь оказалась бессильной предать забвению мысли Роджера Бэкона о свободном развитии науки, о практическом значении познавательной деятельности, о роли опыта в научных исследованиях. Их подхватили передовые философы и естествоиспытатели во многих странах Европы. Они служили людям в борьбе против косности и невежества, открывая путь к постижению вековых загадок природы, которые суждено было разгадать человеческому разуму.Вечный скиталец



Время действия — XVI век. Место действия — Европа.
1
Человек устало брел по дороге. Видно было, что он проделал немалый путь. На землю уже наползали сумерки, а до Кольмара было еще добрых два часа пути. Надо было торопиться, но сил уже не было. Порой по дороге, громыхая, проносились кареты, обдавали путника пылью и исчезали так же быстро, как и появлялись. И никому в голову не приходило подвезти человека в сторону Кольмара. Ну кто остановит карету, завидев пропыленного с ног до головы странника в больших дорожных сапогах и с холщовым мешком за плечами? Мало ли бродяг шатается по дорогам! Вот снова послышался стук копыт. Человек сошел на обочину, чтобы пропустить карету. И вдруг — о чудо! — карета остановилась. Приоткрылась дверца, и, прежде чем путник смог что-либо понять, он очутился на жестком сидении напротив благообразного господина. Путник приложил руку к груди и почтительно склонил голову: — Благодарю тебя, добрый доктор. Сегодня ты показал свое умение исцелять людей не только от недугов, но и от неверия в человеческое милосердие. Признаюсь, за многие дни долгого своего пути я заразился этим неверием. Но ты исцелил меня. Незнакомец, которого назвали доктором, улыбнулся и спросил: — Какие пути ведут тебя в Кольмар, странник, пожелавший остаться неизвестным? — Людей всегда ведут дороги, которые, как им кажется, в конце концов приводят к счастью. Вот и я направляюсь в Кольмар в поисках счастья. А имя мое вряд ли что-нибудь скажет тебе, ибо я, к сожалению, не Гиппократ, не Гален, а всего лишь Теофраст Парацельс, как и ты, доктор медицины. Благообразный господин снял шляпу: — Рад приветствовать тебя, Парацельс. Я слышал твое имя. Слава опередила тебя по дороге в Кольмар. Я Лоренц Фрис, местный врач, и буду счастлив видеть тебя гостем в своем доме… Пока карета доктора Фриса катит по дороге в Кольмар, пока коллеги, которых свел случай, ведут между собой разговор, оставим их и совершим мысленное путешествие в те времена, в которые довелось жить Парацельсу, чтобы понять, в каких условиях складывались его взгляды, какие трудности стояли на его пути…2
«Именем Гиппократа…» — эти слова очень часто произносились медиками в те времена, когда Теофраст Парацельс после публичного диспута в Феррарском университете был удостоен звания доктора медицины и ему была вручена широкополая докторская шляпа. «Именем Гиппократа…» В ту пору в медицинских корпорациях слова эти были святыми. Ведь вся медицинская наука XV–XVI веков основывалась на незыблемых канонах великого Гиппократа, не менее знаменитого корифея античной медицины Клавдия Галена, арабских мыслителей. среди которых первым был Абу Али Ибн Сина, автор пережившего века «Канона врачебной науки». Действительно, Гиппократ был велик. Еще в IV веке до нашей эры он пытался решить выдающуюся для своего времени задачу: собрать воедино, обобщить все, что накопило человечество в области распознавания и лечения болезней, применения различных лекарственных средств, отбросить то, что не подтверждается опытом, и оставить людям своеобразный свод врачебных правил. Когда жил Гиппократ, человеческие знания были еще очень скудны. Люди знали очень мало, их наивные представления переплетались с верой в могущественных богов, которые будто бы влияют на жизнь и судьбы простых смертных. Гиппократ в какой-то мере преодолел господствовавшие в ту пору наивные представления, первым дал систематизированное обобщение всего достигнутого медициной, разработал методы исследования больных, установления диагноза, выработал правила поведения и питания при различных заболеваниях, описал порядок проведения многих хирургических операций. Дело Гиппократа продолжил римский врач Клавдий Гален, живший во II веке нашей эры и написавший около 80 трудов по медицине. Его заслугой было то, что он дополнил учение Гиппократа данными, добытыми медиками за пять столетий, прошедших со времени великого грека. За это время появилось немало анатомических и физиологических сведений. Сам Гален не ограничивался чисто умозрительными рассуждениями, изучал строение организма на трупах животных, а изредка, когда удавалось, на трупах казненных преступников, погибших на поле брани воинов. Клавдий Гален писал: «Кто хочет созерцать создание природы, не должен доверять сочинениям по анатомии, но должен полагаться на свои глаза». Однако и у Галена было немало заблуждений. Он, например, делал выводы о строении и функциях человеческого организма, вскрывая трупы животных, и даже не задумывался над тем, что многие органы человека значительно отличаются от внутренних органов животных. Он подчас слишком доверчиво принимал идеи Гиппократа, не составляя себе труда осмыслить их критически. Учение Галена о строении человека было признано церковью в годы ее безраздельного господства законченным, единственно верным и непогрешимым. Это объяснялось прежде всего тем, что оно, как казалось церковникам, не противоречило ни одному слову священного писания — Библии, не противоречило самому духу христианства. Это было для церкви главное, и она объявила авторитет Галена непререкаемым. Ну а если Гален ошибся? Все равно надлежало следовать его учению. Ну а если врач нашел иной способ лечения больного, чем тот, который предлагал Гален? Все равно надлежало придерживаться учения Галена. «На протяжении более тысячи лет после появления трудов Галена христианская церковь гасила всякие попытки дальнейших научных исследований и исканий, — писал советский историк медицины В. Терновский. — При помощи костров и пытокцерковь стремилась добиться того, чтобы наука беспрекословно следовала авторитетам, канонизированным церковью. В связи с этим естествознание и медицина стали руководствоваться не наблюдением над природой, не опытом в разнообразном и широком смысле этого слова, а изучением не подлежащих критике текстов Гиппократа и Галена». В сложное время довелось жить Теофрасту Парацельсу. Но это было время, когда все чаще и чаще раздавались смелые голоса, требовавшие покончить с безраздельным господством христианской религии над умами людей, высвободить знание из-под ее влияния. Были мыслители, которые осмеливались даже подвергать сомнению догматы христианства. Они не страшились угроз, хотя и знали, чем могут кончиться для них выступления против христианской религии. Еще в 1232 году папа Григорий IX учредил трибунал святой инквизиции для борьбы с ересями и еретиками. Ему было дано право выносить приговор и наказывать всякого, кто будет высказывать сомнение в истинности христианского вероучения. Еретиков бросали в тюремные застенки, их подвергали жесточайшим пыткам, сжигали на кострах. Дым новых костров повис над Европой. Он стелился над Францией, Италией, Испанией, Германией. А список жертв инквизиции рос буквально не по дням, а по часам, выражаясь цифрами со многими нулями. Придет время, историки постараются хотя бы примерно подсчитать число жертв католической инквизиции и содрогнутся сами, назвав 5 миллионов человек. Но остановить распространение вольнодумства католическая церковь не смогла даже таким путем. Крайние меры, которые принимало папство против еретических с его точки зрения выступлений, лишь усиливали ненависть масс к церкви, недовольство перерастало в возмущение. И когда чаша народного терпения перелилась через край, массы поднялись на борьбу против католической церкви. Охватившее в XVI столетии Европу мощное антифеодальное движение — реформация — было направлено и против «главного» феодального сословия — католического духовенства. Реформация началась в Германии, затем перекинулась в Швейцарию, Англию, Шотландию, Данию, Голландию, другие европейские страны. Ее идеологи обвиняли католическое духовенство в стяжательстве, корыстолюбии, распутстве, во множестве других грехов. Особенно резкие нападки вызвала введенная церковью продажа грамот об отпущении грехов — индульгенций. Духовенство, проповедовавшее безгрешную жизнь как высшую добродетель, со спокойной совестью торговало этими грамотами, прощая за деньги любые прегрешения. Вожди реформации выступили под лозунгом восстановления «истинного христианства», якобы искаженного католицизмом. Они ратовали за обновление церкви, которая не должна претендовать на безраздельное господство над духовной жизнью людей. Она должна покончить с религиозной нетерпимостью, оставить претензии на роль посредницы между богом и людьми. Вечное спасение на небесах, провозглашали они, достигается не с помощью церкви, а только верой, непреклонной верой в бога. Реформация породила много надежд у людей, связывавших с возникновением новых, протестантских церквей раскрепощение разума, духовную свободу. Но большинство из этих надежд оказались тщетными. Религиозная вера и называется верой потому, что требует беспрекословного следования догматам религии. Любые попытки разумного их осмысления решительно пресекаются. Немудрено, что и протестантские церкви, осудившие стремление католицизма к господству над разумом, тем не менее попытались поставить заслон на пути к вольнодумству, в котором видели угрозу христианской вере. Вновь, как и прежде, должна была приниматься людьми освященная христианством картина мира, основанная на Библии. Вновь, как и прежде, подвергались осуждению выступления мыслителей, расходившиеся с религиозными представлениями. А каждое новое слово в науке воспринималось как попытка посягнуть на сложившиеся устои жизни, нарушавшая раз и навсегда заведенный порядок. Со всем этим и пришлось столкнуться Парацельсу.3
— Так что же тебя заставило искать счастье именно в Кольмаре? Парацельс и Лоренц Фрис сидели в гостиной дома доктора и потягивали густое эльзасское вино. После нелегкого и долгого пути приятно было, откинувшись на спинку кресла, вытянуть натруженные ноги и вести неторопливую беседу. — Искать счастье, — ответил Парацельс, — я начал тогда, когда мне удалось вылечить неизлечимого больного. Ужасное невезение. Он рассмеялся собственной шутке. — Да, да, иногда это можно называть невезением. Я исцелил больного от тяжелого недуга и сразу же у меня появились десятки завистников. Я стал для них презренным негодяем, только и думавшим о том, как их унизить. Черная зависть, дорогой Фрис, это самая вредная вещь на свете из всех, которые придумал создатель. Люди могут простить все, но никогда не простят того, что кто-то оказался умнее их. А среди нашего брата лекарей особенно. А начиналось все совсем иначе и, как казалось мне, вполне удачно… Парацельс поднял тяжелую кружку с вином и отхлебнул глоток. — Да, дорогой Фрис, начиналось все это иначе. Молодой доктор медицины Теофраст Парацельс однажды задумался: неужели за столетия, прошедшие со времени Гиппократа и Галена, ничего не изменилось? Неужели и десять веков спустя мы будем лечить по их канонам? Ведь и Гиппократ и Гален не были богами, почему же простые смертные должны считаться непогрешимыми? Я мог бы занять солидную кафедру, спокойное место лекаря, устроить тихий семейный очаг, подобный тому, в котором я пользуюсь твоим гостеприимством, но сердце мое подтачивал червь любопытства и беспокойства. Я хотел увидеть сам, своими глазами, как лечат людей в разных странах, узнать о новых методах лечения, которые рождаются врачебной практикой, независимо от указаний властителей и церковных иерархов. Накинул плащ, прихватил дорожный мешок, взял свои инструменты и отправился в далекий и долгий путь. Фрис слушал не перебивая, а Парацельс, увлекшись, продолжал: — Я исходил много дорог. Слушал лекции медицинских светил в крупнейших университетах, в медицинских школах Парижа и Монпелье, побывал в Италии и Испании. Был в Лиссабоне, потом отправился в Англию, переменил курс на Литву, забрел в Польшу, Венгрию, Валахию, Хорватию. И повсюду прилежно и старательно выспрашивал и запоминал секреты искусства врачевания. Не только у докторов, нет, но и у цирюльников, банщиков, знахарок. Я пытался узнать, как они ухаживают за больными, какие применяют средства. О, народная мудрость бывает порой сильнее, чем благородная ученость. А искусство врачевания слагается по крупицам из всего того, что накопили разные народы за сотни лет практики. Я и практиковал, Фрис, опробуя все то, что узнал во время своих поисков. Служил некоторое время лекарем в армии датского короля Христиана, участвовал в его походах, работал фельдшером в нидерландском войске. Армейская практика дает богатейший материал. Парацельс прищурил глаза и посмотрел в упор на Фриса. — Ну а теперь спроси меня, Фрис, не жалею ли я об этих годах, не зря ли я растратил их на скитания? Нет, не зря, добрый Лоренц, не зря. Я научился искусству врачевания, которым не владеет никто. Я готов доказать на деле, что в моих словах нет ни доли лжи. Я узнал секреты приготовления напитков для лечения ран, чего не знают ученнейшие лекари Парижа и Лондона. Я видел одного валаха, который давал выпить не более одного глотка напитка и излечивал любую рану. Я видел в Кроатии цыгана, который давал больным пить сок удивительной травы и поднимал их на ноги. В моем вещевом мешке лежат записи, которые хранят многие сотни рецептов, лекарств, неведомых самым именитым фармацевтам. Возбужденный, он поднялся с кресла, оперся рукой о тяжелый дубовый стол и продолжал: — Я видел все: грязь и невежество, человеческие страдания и нищету. Я скитался как бродяга, проводя ночи на постоялых дворах, в крестьянских домах, а то и просто на сырой земле, подложив мешок под голову и укрывшись плащом. Но разве не стоили все мои скитания того, чтобы овладеть искусством врачевания! — Стоили, видит бог, стоили, — ответил Фрис, — но не каждому даны такие упорство и целеустремленность. Мне не даны. Он вздохнул и продолжал: — Я завидую тебе, Теофраст Парацельс. Завидую, потому что не могу быть таким, как ты. Парацельс устало опустился в кресло. — Не завидуй, ибо то, что я познал, не принесло мне ничего, кроме неприятностей. И свидетельство тому наша встреча здесь, в Кольмаре. Фрис хотел что-то сказать, но Парацельс, словно опасаясь, что не сможет высказать все тревожившее его душу, торопливо заговорил: — Когда мне исполнилось тридцать два года, я понял, что пришло время осесть на одном месте и начать расплачиваться с людьми за добытые у них знания. Я возвратился в Германию, решил обосноваться в Страсбурге, купил себе право гражданства и записался в цех. И хотя я сразу же заимел множество недоброжелателей среди коллег — они очень не любят соперников, — дела мои складывались весьма удачно. Отбоя от пациентов не было, мои недруги бесновались, но больные шли все-таки не к ним, а ко мне. Потому что я познал то, чего не ведают другие. Он говорил быстро, будто заученную речь, не раз произносившуюся им. Фрис не перебивал. — Только ты не думай, Фрис, что я гнался за деньгами. Совсем нет. Для меня самым главным было убедить тупоумных коллег, у которых в голове нет ничего, кроме вызубренных канонов Галена, что врачебное искусство нельзя втиснуть в тесные переплеты ученых книг, что врач должен быть мыслителем, а не рабом чужих мыслей. Я дал им главный бой у постели издателя Иоганна Фробена из Базеля. Они долго лечили ему больную ногу, но, ничего не добившись, решили, что спасти Фробена может только ампутация. Меня вызвали очень поздно, болезнь была запущена, но я вспомнил, как действовал в подобных случаях старый цыган из Гренады, приготовил снадобье по его рецепту и в две недели поднял больного на ноги. Парацельс оживился, сопровождая рассказ свой выразительными жестами, голос звучал все громче: — Ах, как они были жалки, ты даже представить не можешь, как они были жалки, эти галеновские доктора. Они не могли говорить, а только мычали при встрече со мной, а на улице, завидев меня, старались улизнуть в какой-нибудь проулок. Ну а мне излечение Фробена принесло, кроме прочего, приятную неожиданность. Базельский магистрат предложил место городского врача и… Он многозначительно поднял палец вверх. — …и профессорскую кафедру в университете. Да, кафедру, о которой я давно мечтал. Ведь я получал возможность передать свои знания молодым, учить их не слепо заучивать галеновские формулы, а творить и искать. Предложение магистрата я принял без раздумий. Он снова поднялся с кресла, сделал несколько шагов и остановился, прислонившись спиной к камину. — Я хорошо помню тот осенний день в ноябре 1526 года, когда прибыл в Базель. Это был счастливый день. Базель — одна из лучших страниц моей жизни. Я отлично знал, что встречу там мало друзей и много врагов, знал, что будут завистники, злые нашептывания, сплетни и клевета, — мне не привыкать к этому. И все-таки Базель — моя счастливая пора. Правда, далеко не всем надеждам удалось там сбыться, но я не считаю потерянными эти годы. Парацельс умолк, словно обдумывая что-то, а потом продолжал: — Не буду скрывать, что привлекла меня в Базель и другая надежда — вырваться из-под гнета святейшей римско-католической церкви. Я всегда считал себя католиком, но сколько же, господи, мне приходилось сталкиваться с церковью, когда я скитался по разным странам! О, я видел костры, на которых сжигали колдунов и колдуний, разных еретиков. И не раз, приготовляя свои снадобья для больных, терзался мыслью: а не донесет ли кто-нибудь господам инквизиторам, что я связан с дьяволом и занимаюсь колдовством? Такие слушки ходили, я убежден, не без помощи уважаемых коллег, которые рады были бы увидеть меня в ошейнике или на дыбе, а еще лучше на костре. Мне приходилось поторапливаться с отъездом, когда я узнавал, что святые отцы начинают проявлять к моей персоне повышенное внимание. Я вижу, Фрис, ты что-то стал ерзать на месте. Вот-вот, ты лишь подтверждаешь правоту моих слов. Фрису не очень хотелось слушать подобные речи. Он был верным католиком. Кроме того, он хорошо знал, что если кто-нибудь случайно подслушает и донесет о том, какие разговоры ведутся в его доме, то наверняка не поздоровится тому, кто говорит, и тому, кто слушает. — Так что же было в Базеле? — спросил он, стараясь перевести разговор в другое русло. — Когда меня пригласили в Базель, — ответил Парацельс, — я знал, что святая церковь не имела там уже прежней силы. Магистрат предоставил свободу протестантам. И мне казалось, что сторонники новой веры будут более терпимы, не придавая значения глупым слухам и не менее глупым доносам. Во всяком случае, не нужно будет опасаться суда инквизиции и просто будет легче дышать. Но, увы, это оказалось не так. Он вновь умолк, сел в кресло и задумался. Молчал и Фрис, ожидая, когда Парацельс продолжит. Но тот не торопился, будто забыв, что так и не закончил рассказывать о своем пребывании в Базеле. — Так что же стряслось с тобой в Базеле? — снова спросил Фрис. Парацельс картинно пожал плечами: — То же, что и в других городах… начались сплетни… Каких только сплетен не разносили злые языки. Говорили, что я не признаю никаких авторитетов, поношу самого Галена. Боже мой, да разве я не признаю его величия? Он был велик для своего времени, но разве должно познание остановиться на Галене? Полезли по городу и другие сплетни, будто Парацельс занимается черной магией, колдовством, употребляет в практике лекарства, которые являются ядовитыми. И все оттого, что кто-то прослышал о моих алхимических опытах. Одетые в докторские мантии тупицы, которые только и знают что повторять изречения Галена и Гиппократа, разве они могли понять, что я ищу «философский камень» не для того, чтобы добывать золото, а для того, чтобы излечивать болезни! Если «философский камень» может воздействовать на низкие металлы, почему он не может воздействовать на организм человека? Что ты ответишь на это, Фрис? Тот промолчал. Парацельс увлекся, глаза его разгорелись. Он продолжал: — Гален лечил растительными соками. Он ничего не знал о металлах, камнях, о химии. Он ничего не знал о сере, ртути и соли, а из них образуется каждое тело. И секреты моих рецептов заключены в том, что я знаю секрет образования тел. Нет, не для забавы. Фрис, я занимался алхимией и никогда не беседовал с дьяволом. Чтобы лечить людей, надо искать, искать беспрестанно, делать опыты… Неожиданно Парацельс остановился. Потом сказал: — Все это долгий разговор, и убеждать тебя в своей правоте не хочу. Одним словом, были сплетни всякие. Но я привык к ним. А со своими собратьями по цеху не очень церемонился. Я простой человек и всегда говорю то, что думаю. Я им сказал, что они — тупицы. Да, да, так и сказал. Они сначала онемели от неожиданности, потому что им никто этого не говорил, а потом стали плеваться и осыпать меня бранью. Он повеселел. Воспоминания о столкновении с базельскими врачевателями явно доставляли ему удовольствие. — Тупицы, невежды, ничего не понимающие в лечении болезней. А вот берутся с умным видом целителей лечить. И, отправляя на тот свет больного, со значением повторяют одни и те же слова: «На все господня воля». — Ты прав, Парацельс, — перебил Фрис, — тысячу раз прав. То же самое я могу сказать и о наших врачах. Но бороться с невежеством бесполезно. — Нет и нет! — Парацельс повысил голос. — Если смириться с невежеством, значит, дать ему жить, существовать, процветать на века. Нельзя быть мягкотелым, когда имеешь дело с невеждами. С ними надо быть злым и жестоким. Боже мой, как их трясло в лихорадке, когда я пришел к ним не в докторской мантии с золотой цепью, а в пунцовом кафтане, в пунцовых штанах, в красных чулках и красной шляпе. Я знаю, как с ними поступать. Они дрожали от гнева, не в силах вымолвить ни слова. Я показал им, что глубоко презираю их. Фрис покачал головой. А его собеседник с горячностью продолжал: — Конечно, они сделали все, чтобы не допустить меня к преподаванию в университете, требовали изгнать меня из Базеля. Они нашли поддержку у духовных лиц и монахов, которые, тыча в меня пальцами, твердили, что я колдун и посланец дьявола. Я не отступил и не пошел на примирение. Понял, что всегда надо проявлять твердость. И знаешь, я победил. Меня допустили на кафедру, и я начал читать лекции в университете. Парацельс потер рукой гладко выбритый подбородок. Он с удовольствием вспоминал о том, как впервые вошел в переполненную аудиторию знаменитого университета. — Этого не забыть, Фрис. Я начал говорить не по-латыни, как принято, а по-немецки, чтобы было понятно всем. И я сказал все, что я думаю о своих невежественных коллегах. Я заявил, что ни докторская мантия, ни знание наизусть Гиппократа, Галена, Авиценны не делают еще врачом. Врач должен знать болезни, знать, чем они вызываются, и уметь найти целительные средства. Чтобы подлить масла в огонь, я сказал, что сжег сочинения Галена и Авиценны, потому что не вижу в них никакого проку. Что тут было! Они бесновались. А я спросил, пробовали ли они лечить магнитом? Что они могли на это ответить? Я сказал, что они знают о магните то, что знает каждый мужик: он притягивает железо, и все. А я открыл, что магнит обладает и другой скрытой силой — может исцелять от недугов. Что они могли на это возразить? — Один против всех, — тихо, как бы про себя, сказал Фрис. Но Парацельс услышал и подхватил: — Вот именно — один против всех. И все они не могли справиться со мной. Я им насолил, крепко насолил. А они были так жалки… Зато студенты были со мной. Им надоели школярские знания, прописные истины. Я водил будущих лекарей к постели больных и там устраивал занятия. Они постигали великую науку исцеления не в аудиториях, а оставаясь наедине с недугом. Тут хочешь не хочешь надо давать волю мозгам, припарками из изречений Галена не поможешь. Мои недруги бесились еще больше. Они прибегли к нечестному приему — что еще больше можно было от них ожидать! В воскресное утро на дверях городского собора вывесили пасквиль против меня. Очень злой пасквиль. Горожане, направлявшиеся на воскресную службу в церковь, останавливались и громко читали его. Недруги глумились над наукой, а меня просто именовали ослом, лжецом и дураком. Я привык ко всему этому и ничуть не разволновался. Я натянул на себя пунцовый костюм и пошел прогуляться по городу, чтобы раздразнить ослепленных яростью быков. Это быки приходят в неистовство, видя красное. Так и они. Парацельс усмехнулся. — Они бы ничего не смогли сделать со мной, если бы не случай. А случилось непоправимое: внезапно умер издатель Фробен. Тот самый, которого я когда-то вылечил. Он в благодарность печатал тексты моих лекций. Мгновенный удар — и все кончилось. Враги мои ухватились за это, чтобы свести счеты. Они распространили слухи, будто я уморил его своими лекарствами. Начался шум, расследование. Я сразу понял, что хорошего ждать мне не приходится. На меня могут возвести какие угодно обвинения, но как тут можно доказать, что ты не виновен? Бессмысленно. Парацельс поднял глаза на Фриса. — Вот, друг мой, и вся история, которая закончилась тем, что бывший профессор Базельского университета оказался на дороге в Кольмар, где добрый человек остановил карету и сделал меня своим гостем. Теперь, после того что я тебе рассказал, ты волен попросить меня из своего дома. Парацельс — опасная фигура, с ним не стоит связываться, ибо от знакомства с ним добра не будет. Поверь мне, я-то это знаю лучше, чем кто-либо. Фрис подошел к нему, положил руку на плечо и сказал: — Я счастлив, Теофраст Парацельс, что узнал тебя. Мой дом будет всегда твоим домом, и, если я чем-нибудь могу быть тебе полезен, рассчитывай на меня как на брата и друга.4
Человек устало брел по дороге. Видно было, что он проделал немалый путь. А до Ганса, маленького швейцарского городка в горах Аппенцелля, надо было еще идти и идти. Здесь, на горных дорогах, было пустынно. За день не попалось ни одной крестьянской телеги. Человек вспомнил, как однажды он вот так же брел по дороге, усталый и измученный, и вдруг появился нежданно-негаданно словно с небес свалившийся благодетель Лоренц Фрис, милейший Фрис. Это было четыре года назад. — Вот так-то, доктор Парацельс, — сказал вслух путник и глубоко вздохнул. Доктор? Он просто бродяга, бездомный, отвергнутый всеми, живущий на жалкие подаяния. Для него нигде нет больше места, и он вынужден скитаться в горных районах Аппенцелля, переходя из деревушки в деревушку, изредка врачуя крестьян. Тогда, четыре года назад, найдя приют в доме доктора Фриса, он решил бросить кочевую жизнь, остаться навсегда в Кольмаре, заняться врачебной практикой. Но задержался там всего на полгода. Парацельс не мог смириться с невежеством, шарлатанством лиц, облаченных в докторские мантии. Он и в Кольмаре остался верен себе. В Кольмаре о Парацельсе заговорили как об искуснейшем враче. Ему удавалось поднимать на ноги больных, которых другие врачи считали безнадежными. Популярность его росла. Однако его независимое поведение, резкие суждения о собратьях по цеху, отказ от слепого преклонения перед авторитетами пришлись по нраву далеко не всем. К тому же Парацельс занимался алхимией, усердно изучал труды восточных магов и мистиков. Человек увлекающийся, пытливый, он проявлял интерес ко всему, где, как ему казалось, можно открыть что-то новое. Он заблуждался, нередко попадал в плен суеверных представлений, терпел неудачи, но продолжал поиски. Все это и в Кольмаре дало пищу для домыслов о том, что Парацельс вступил в сношения с самим дьяволом. Положение усугублялось тем, что в Кольмаре продолжали сохранять свои позиции католики. Они ревностно следили за тем, чтобы никто не осмеливался выступать с суждениями, шедшими вразрез с установившимися представлениями. Только каноны, освященные католической церковью, признавались действительными, любая попытка подвергнуть их пересмотру объявлялась кощунственной. Парацельсу каждую минуту могли предъявить обвинение в ереси и учинить над ним расправу. Волей-неволей пришлось распроститься с Фрисом, добрым доктором, разделявшим его взгляды. Из Кольмара путь скитальца лежал в Эслинген, а потом Парацельс перебрался в Нюренберг, где надеялся издать свои сочинения. К тому времени он написал немало. Записывал свои наблюдения, делал выводы, высказывал собственные суждения. Он был необычайно работоспособен. Сохранились свидетельства о том, что Парацельс порой проводил за письменным столом по нескольку дней кряду, почти без сна. В Нюренберг он прибыл не с пустыми руками. В его дорожном багаже лежало несколько сот страниц сочинений. Вначале ему улыбнулось счастье. Одну за другой ему удалось издать четыре книги. Но затем неожиданно последовало решение городского магистрата о запрещении дальнейшего печатания его произведений. Причиной тому было требование профессоров и докторов медицинского факультета Лейпцигского университета, возмутившихся сочинениями Парацельса. Они отвергли новшества Парацельса. И тогда в отчаянии он бросил все и покинул Нюренберг. У него не осталось сил для борьбы, для того, чтобы сокрушить каменную стену косности и невежества. Он устал бороться и отправился в горы, подальше от больших городов, подальше от грязных сплетен, злобных нашептываний и клеветы. Здесь, в горных деревушках, он находил удовлетворение в том, что мог хотя бы говорить то, что думает, не опасаясь доносов и преследований. Парацельс мог откровенно высказывать свои взгляды, в беседах с крестьянами утверждать, что «католическая церковь грабит народ, используя его даяния на роскошь и пышность, а бедные не получают тех даяний, которыми церковь должна была бы их поить и кормить». Он осуждал и протестантские церкви, которые, выступив против католицизма, не пошли дальше громогласных деклараций о христианском братстве и равенстве. Протестанты не сделали ничего для облегчения жизни простых людей. Изменились лишь формы духовного закрепощения масс, так и оставшихся в плену духовного рабства: на смену рабству по набожности пришло рабство по убеждению… Парацельс отвлекся от своих мыслей. Прямо перед ним, в каких-нибудь пятистах шагах, неожиданно показались черепичные крыши Ганса. Он спустился по узкой тропинке и сразу же оказался на центральной улице городка. Без труда нашел постоялый двор и забарабанил кулаком в ворота. Прошло минут пять, пока в крохотное окошко выглянула голова хозяина, молча оглядевшего путника. Путник был без коня, а это уже говорило о том, что он беден. Был он в повидавшем виды дорожном костюме, в сапогах со шпорами, с мечом, подвешенным к поясу, и мешком за плечами. Хозяин отворил дверцу в воротах и пропустил пришельца, кивнув головой на лестницу, ведущую к другой двери. Парацельс поднялся по лестнице, толкнул дверь и очутился в жарко натопленной комнате. В ней было немного людей, всего человек десять. Все уставились на вновь прибывшего постояльца. Тот прошел за длинный, протянувшийся почти через всю комнату стол, сбросил с плеч мешок и, отстегнув меч, тяжело опустился на скамью. Только сейчас он почувствовал, как устал. Он закрыл глаза, не обращая внимания на шум, на пьяный спор, разгоревшийся в углу комнаты, на причитания какой-то женщины, оплакивавшей недавно умершего сына. Никто более не обращал внимания и на него. Он на какое-то время забылся, отключившись от всего, что его окружало. Парацельс открыл глаза, когда в комнату уже вошли вечерние сумерки. Слуга зажигал свечи, потом начал застилать стол грубыми, как парусина, скатертями, раскладывать деревянные тарелки и деревянные ложки. Наступило время ужина. Короткий отдых снял усталость. Парацельс вновь почувствовал себя сильным, готовым хоть сейчас пуститься в дальнейший путь. Он с аппетитом опустошил тарелку похлебки, с удовольствием выпил стакан кислого вина. Мрачные мысли рассеялись. Нет, жизнь не так безрадостна, как кажется, когда ты устал, когда последние силы оставляют тебя. Он вытащил из мешка длинные полосы бумаги, попросил слугу принести перо и чернила. Парацельс писал, быстро испещряя неровными строчками лист бумаги. Он работал над новым сочинением «Большая хирургия», которое, надеялся, все-таки когда-нибудь увидит свет.5
Несколько эпизодов из жизни Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, именовавшегося Парацельсом. Но в этих эпизодах, как в фокусе, вся его жизнь, жизнь вечного скитальца и изгнанника. Таким он остался до конца своих дней, ибо так и не нашлось ему места в мире несправедливом и несовершенном, против которого он восставал всем своим существом. Недолго он пробыл в Аппенцелле, еще меньше — в Инсбруке. Он направился в этот город, надеясь заняться наконец постоянной врачебной практикой, по которой изрядно истосковался. Но бургомистр не поверил, что появившийся в Инсбруке человек в оборванном платье и с грубыми, как у простого мужика, руками — врач. Он велел самозванцу покинуть город. Парацельса не раз изгоняли бургомистры. К этому ему было не привыкать. Но, оказавшись на сей раз за городскими воротами, он задумался: куда теперь? Решение пришло, когда он случайно узнал, что в Штерцинге эпидемия чумы. Он врач, и его место было там. Чума… Это слово в те времена произносилось с ужасом. Страшная болезнь налетала внезапно, распространяясь с огромной скоростью и унося в могилу сотни тысяч, миллионы человеческих жизней. Ее называли «черной смертью». Она действительно сеяла смерть повсюду, где появлялась. Только в XV столетии в Европе эпидемия чумы принесла гибель 25 миллионам человек, то есть почти четвертой части всего тогдашнего европейского населения. От чумы бежали, и даже сам Гален, заслышав в свое время об эпидемии чумы в Риме, поспешно покинул вечный город, сложив оружие перед страшной болезнью. Он признал свое бессилие, ибо ничем не мог помочь несчастным, ставшим ее жертвами. Чума… Немецкий историк так описывал эпидемию этой болезни в средневековье: «Забравшись в грязный, тесный средневековый город, „черная смерть“ уже не уходила оттуда, не уничтоживши почти все население. Чума так и косила народ, потому что ее поддерживали все условия тогдашней жизни: душные дома, грязные улицы, колдуны и калеки, грязная одежда, недостаточный уход за телом, всевозможные нечистоплотные привычки… Чумные эпидемии уносили людей миллионами; сплошь и рядом в одну эпидемию вымирала треть, половина, даже две трети населения той или иной области. Население темных, душных городов прямо-таки выдавалось этому ужасному врагу со связанными руками и ногами. На перекрестках улиц горели огромные костры: этим думали очистить воздух. Улицы пустели, и когда на них встречались два человека, то каждый прикрывал лицо платком и с отвращением дул перед собой, чтобы не заразиться дыханием встречного. На всех дверях были намалеваны красные кресты с надписью: „Смилуйся над нами, господи!“ В воздухе беспрерывно стоял колокольный звон по покойникам, и голоса отпевающих попов мрачно звучали в пустых церквах. Из домов неслись стоны умирающих и горестные крики их близких. По улицам тарахтели телеги, нагруженные трупами. Время от времени они останавливались, и возница оглашал улицу дребезжащим звоном колокольчика и криком: „Выносите своих покойников!“… Продолжительные, повторяющиеся страдания от чумы делали людей бесчувственными…». Да, Гален бежал из Рима во время чумы, а Парацельс направлялся туда, где свирепствовала чума. О Галене вспоминал Парацельс, направляясь в Штерцинг. Что могут противопоставить этой болезни врачи, не знающие ничего, кроме авторитета Галена, который сам спасовал перед чумой? А он, Парацельс, может. Он испробует свои секретные лекарства, а если они не помогут, будет искать новые, чтобы одолеть эту неодолимую пока болезнь. Парацельс, обходя дома больных, приготовляя свои снадобья, настойчиво пытался понять, в чем причины этого страшного заболевания, как можно предотвратить эпидемии, какими средствами следует лечить больных. Он постоянно рисковал жизнью. Проще простого в ту пору было заразиться чумой и пополнить ряды обреченных на смерть. Но это не останавливало его. В поединке с болезнью он входил в азарт игрока, которому надо во что бы то ни стало выиграть партию. Опасность только подогревала его азарт. Но когда эпидемия кончилась, Парацельс оказался не нужен и в Штерцинге. Он вынужден был покинуть город и вновь бродить по дорогам, ища пристанища. Быть может, в каком-нибудь из городов власти все-таки удостоят его вниманием, ведь имя его было широко известно в Европе. Увы, не только имя, но и скандальные истории, которые были с ним связаны. А городские власти больше всего боялись каких бы то ни было скандалов, которые могли нарушить покой и устоявшийся образ жизни горожан. Там же, где власти были, в общем-то, не против пригласить Парацельса, решительно восставало католическое духовенство. Церковь следила за каждым его шагом, за его суждениями, слишком смелыми и категоричными, не согласующимися с тем, чему учили духовные пастыри. И уж лучше пусть он будет где-нибудь подальше, чтобы не оказывать пагубного влияния на умы прихожан. Да и протестанты считали его нежелательным лицом. И вдруг Парацельсу неожиданно улыбнулось счастье, которое так редко улыбалось ему на протяжении жизни. В Ульме, а затем в Аугсбурге напечатали его труд «Большая хирургия». Книга заставила просвещенные круги заговорить о нем как о выдающемся медике. Одно дело — передаваемые из уст в уста рассказы о его искусных методах лечения, а другое — печатный труд, вызывающий невольное уважение к автору. Тут все налицо. Тут не скажешь, что свои снадобья он готовит под покровом ночи, встречаясь с дьяволом. Парацельса принимают в лучших домах, к нему обращаются знатные вельможи. Он лечит маршала Богемии Иоганна фон Лейпника. В Вене его удостаивает вниманием король Фердинанд. Он получает самые лестные предложения. И среди них приглашение архиепископа Эрнеста поселиться в Зальцбурге, где высокий церковный иерарх обещает ему свое покровительство. Это не только лестно, но для него означает, что он может работать, не опасаясь козней духовенства. Покровительство епископа — надежная защита. И Парацельс выбирает Зальцбург. Наконец-то у него свой дом. Свой кабинет, в котором он может сколько угодно просиживать за столом, записывая свои идеи, от которых теснится голова. Он убежден, что выработанные им приемы лечения некоторых заболеваний, впервые введенные в лечебную практику лекарства, методика хирургических операций, которую он разработал, окажут немалую помощь медикам. Он дает описание изобретенных им лекарств, таких, как препараты ртути, серы, железа, утверждает, что такое ядовитое вещество, как мышьяк, оказывается целительным в малых дозах. Парацельс предлагает лечить больных с помощью минеральных ванн. Он убежден, что в будущем во всей полноте раскроются лечебные свойства магнита. «Если бы вместо того, чтобы похваляться, доктора взяли в руки магнит, они сделали бы больше, чем всей своей ученой болтовней», — пишет он. Он высказывает немало интересных догадок, которые медицина сможет оценить только со временем. Одна из них — лечение гипнозом. Он наблюдал в одном из картезианских монастырей, как монахи отвлекают внимание больных различными блестящими предметами, погружая своих пациентов в полусонное состояние и убеждая их в том, что после этого они почувствуют облегчение. У него не хватает времени все осмыслить, да и знаний в ту пору было еще недостаточно для того, чтобы проникнуть в глубь процессов, которые станут доступными для ученых несколько столетий спустя. Но Парацельс проявляет удивительную наблюдательность, смело отходит от установившихся представлений, если они приходят в противоречие с практической деятельностью. Он — враг всяких канонов. Он — искатель. В маленьком домике на окраине Зальцбурга Парацельс оборудовал лабораторию, где мог спокойно заниматься алхимическими опытами. Он следует своему принципу: «То, что природа оставила несовершенным, должно быть усовершенствовано алхимией, будь то металлы, минералы или что-нибудь еще другое». С точки зрения церкви, подобные заявления — уже крамола. Бог создал мир совершенным, на то он и божественное творение. Но за плечами у Парацельса — могущественный покровитель, и это оберегает его от нападок. Впрочем, от недругов и завистников уберечь его никто не мог. И не следует думать о том, что в Зальцбурге он чувствовал себя спокойно и безмятежно. Вокруг него плелись интриги. Местные врачи чувствовали себя ущемленными тем, что оказались на втором плане. Парацельс не очень считался с ними, публично их высмеивал, называя в глаза неучами. Врагов и здесь у него было предостаточно. Но они не могли, как прежде, изгнать его из города, открыто расправиться с ним. У них был единственный путь… В 1541 году Парацельс скончался. До сих пор причина его смерти не известна. По одним сведениям, его столкнули с кручи, по другим — он был выброшен из окна слугами одного из врачей. Известно лишь то, что он погиб насильственной смертью. Это был единственный путь избавиться от него у тех, кто ненавидел его. Как коротка жизнь! Всего 48 лет было отпущено ему судьбой. Он сделал много, но мог бы сделать гораздо больше, если бы не гонения, не скитания, на которые обрекли его те, кто панически боялся нового, судорожно цепляясь за вековые взгляды и представления, — враги знания, поиска истины.6
На могиле Парацельса в Зальцбурге поставили большой камень. Резчик высек на нем надпись: «Здесь погребен Филипп-Теофраст, превосходный доктор медицины, который тяжелые раны, проказу, подагру, водянку и другие неизлечимые болезни тела идеальным искусством излечивал и завещал свое имущество разделить и пожертвовать беднякам. В 1541 году на 24 день сентября сменил он жизнь на смерть». Наконец-то недруги Парацельса могли вздохнуть спокойно. Смутьян, который не давал им покоя, ушел навсегда. Вздох облегчения вырвался и из груди церковных иерархов. Парацельс для них всегда был опасным человеком. Уже одно то, что он не признавал никаких авторитетов, служило почвой для самых вольных суждений, которые далеко не всегда соответствовали интересам церкви. Когда архиепископ Эрнест, пфальцграф Рейнский и герцог Баварии, узнал о смерти Парацельса, он дал указание похоронить его с почетом. Имя его могло очень пригодиться церкви. Не нужно было слыть провидцем, чтобы понять, каким выдающимся ученым был Теофраст Парацельс. И конечно, имя его — это хорошо понимал архиепископ — не исчезнет вместе с ним. Ведь остались книги Парацельса, громкая слава его, хотя и пришедшая слишком поздно. А раз так, то надо было позаботиться о том, чтобы не отдать это имя вольнодумцам и свободомыслящим, которые могли использовать его в своих нападках на христианство, на святую церковь. Но расчет церковников не оправдался. Несмотря на все усилия, им не удалось посмертно сделать Парацельса примерным христианином. Даже сочиненные легенды о Парацельсе как ревностном религиозном фанатике не дали церкви желаемого. Вымыслы эти так и остались вымыслами, а правда была сказана всей жизнью ученого, его трудами. Парацельс был искателем. Он был мечтателем и необузданным фантазером. Он отдавал дань и мистике, и суеверным представлениям, высказывал наивные суждения, которые сегодня могут вызвать лишь улыбку. Человек, рассуждавший о первооснове всего материального мира, мог с такой же серьезностью рассуждать о гномах и сильфидах — сказочных духовных существах древнегерманской и кельтской мифологии, с горячностью убеждать своих собеседников, что он не раз встречался с ними, поддерживал добрые отношения, а в одну из сильфид был даже как-то влюблен… Раздумывая о новых способах лечения болезней, он мог неожиданно искать их в… свете звезд, ибо был убежден, что небесные тела оказывают влияние на человека. Путь Парацельса к познанию пролегал через поразительные фантасмагории, созданные его неуемным воображением. Необузданный темперамент искателя не знал границ. Но не будем забывать, в какое время он жил. В те времена смешивались воедино знание и незнание, опыт и мистика, разум и интуиция. Крупицы знания добывались в потоке заблуждений, которые не могли миновать и Парацельса. Он был сыном своей эпохи, породившей определенный тип мышления. Но в отличие от своих современников он смог взглянуть в будущее, высказать интереснейшие догадки, почувствовать то, что не было дано почувствовать другим. Время отсеяло мистические домыслы и суеверные представления, сохранив все ценное, что Парацельс передал своим потомкам. Он был одним из первооткрывателей в науке, одним из тех, которые, по словам А. И. Герцена, «не были в полном согласии ни с собой, ни с окружающими», которые были беспокойны, потому что окружающий их порядок становился пошлым и нелепым, а внутренний «был потрясен». Таким людям, писал Герцен, «не дается великий талант жить счастливо и спокойно: жить в среде прямо противоположной их убеждениям». Не был дан этот талант и Парацельсу. Он спорил, доказывал, восставал, вел борьбу с невежеством, прямо, без обиняков, говорил то, что думал, наживая недругов, которые начинали вести с ним нечестную борьбу, прибегая к клевете, инсинуациям, интригам. В нем видела своего врага церковь, ибо он никогда не мирился с ролью раба божьего, беспрекословного исполнителя ее наставлений и предписаний. Он дорогой ценой платил за все это. Ему приходилось беспрестанно скитаться, нигде не находя понимания, нигде не находя пристанища. Но он остался верен себе, своим идеям, жизненной цели, которую сам для себя выбрал. Говорят, его девизом были слова: «Не будь другим, если можешь быть самим собой». Он остался в истории самим собой — Парацельсом. А это дано далеко не каждому.Небесные врата Улугбека



Время действия — XV век. Место действия — Самарканд.
1
— Скорее! Скорее! Взмыленный конь, словно поняв хозяина, понес еще быстрее. Попадавшиеся на пути люди поспешно теснились к обочине, почтительно склоняясь перед бешено несущимися всадниками. Они знали: правитель Мавераннахра направляется к холму Кухак, где проводит ночи в возведенной по его приказу обсерватории. Вольно же сильным мира сего тешить себя разными причудами! Улугбек торопился добраться до места, пока не сгустилась над землей ночная мгла. Он терпеть не мог передвигаться в темноте, думая лишь о том, как бы не сбиться с пути. И когда у заветного холма он осадил коня и спрыгнул на землю, то удовлетворенно распрямил плечи и вытер ладонью со лба выступивший пот. Стало уже привычным, что Улугбек каждый вечер в сопровождении верного Али-Кушчи отправлялся в обсерваторию. Ее возвели по его приказанию близ Самарканда на холме Кухак. Его дед, великий Тимур, возводил дворцы и мечети, а внук нашел себе развлечение в том, чтобы ночами разглядывать звезды. Его тянула в обсерваторию какая-то неведомая сила. Он чувствовал ни с чем не сравнимое наслаждение, когда оставался наедине с таинственным и непостижимым миром звезд. Ему даже казалось странным, что он прожил большую часть жизни, не ведая этого наслаждения. Улугбека считали баловнем судьбы. После смерти Тимура, создавшего поистине необозримую империю, он стал наместником Самарканда, который его дед сделал столицей своей империи. И не только Самарканда — властителем земель на правом берегу Амударьи, огромной области Мавераннахра. Он был богат, жил в роскошном дворце Кок-сарае. Любое его желание тотчас же выполняли услужливые царедворцы. А в юности таких желаний было множество. Он любил охоту, любил мчаться на быстроногом коне по широким просторам, упиваясь собственной ловкостью и силой. Он любил пиршества в загородных садах, когда можно расслабиться, наслаждаясь чарующей музыкой и грациозностью танцовщиц. На то и молодость, чтобы предаваться веселью. Но когда наступало отрезвление после буйных пирушек, Улугбека одолевали нелегкие заботы. Неспокойным был мир, в котором ему довелось жить. Жестокие распри между потомками Тимура не утихали ни на день. Отец шел на сына, брат на брата. Плелась цепьинтриг в борьбе за право властвовать, повелевать. И Улугбеку не раз приходилось бросать воинственный клич, призывая своих нукеров в военный поход. Были у него победы, были поражения, когда приходилось под покровом ночи мчаться на быстроногом коне, спасаясь от смерти. Он воевал с двоюродным братом Ахмедом, не желавшим подчиниться его власти, воевал с монголами, с кочевыми узбекскими племенами. А между походами он был вынужден вести войну со своими собственными подданными, сеявшими смуту в его владениях. Особенно досаждали ему наставники веры — шейхи и сейиды, лицемерные защитники шариата, которые, без устали повторяя имя пророка Мухаммеда, зорко следили за тем, чтобы никто не преступал священных законов ислама, а на деле преследовали свои корыстные интересы. Они и к Улугбеку относились неприязненно лишь потому, что он не очень-то считался с их мнением, не призывал их к себе, не обращался к ним за советами. Именно с их легкой руки расползались слухи о том, что Улугбек нарушает правила шариата, не проявляет рвения в исповедании ислама, грешит против аллаха. Большего обвинения для мусульманина и быть не могло. На этом и строился расчет тех, кто пытался возбудить в народе неприязнь к правителю. Улугбек вначале не очень обращал внимание на сплетни и кривотолки вокруг его имени, на прямые выпады против него религиозных фанатиков, выступавших в качестве наставников веры. В конце концов, у него была власть, и ее не могли поколебать черные наветы его врагов. Но пришло время, когда тяжелая усталость от злобных нашептываний и неприкрытой ненависти легла на его плечи. И может быть, тогда впервые он задумался о бренности окружающего его мира, о бесплодной суетности быстро летящих дней, мимолетных радостей и наслаждений, которые в действительности не имеют никакой ценности. Может быть, и понял он тогда, что непреходяще лишь человеческое познание, которому нет конца. Улугбек увлекся астрологией, которая в ту пору была в большом почете. При дворах правителей держали звездочетов, предсказывавших грядущее по положению небесных светил. Составляя таблицы движения планет, они сопоставляли их с событиями, происходящими на земле, могли всегда дать ответ на вопрос, благоприятно или неблагоприятно расположение светил в данный момент. И к ним прислушивались сильные мира сего. К астрологам обращались воинственные властители, прежде чем выступить войной против своих соседей. В зависимости от их слова принимали важнейшие решения могущественные повелители. Улугбек вдумчиво овладевал непростым искусством астрологии. Он внимательно расспрашивал придворных звездочетов, слушал их объяснения, а затем сам, напрягая зрение, вглядывался в звездное небо, стараясь определить, что же сулят ему мерцающие вдали светила. Он, конечно, верил в судьбу, но не в меньшей степени верил и в силу человеческого духа. Разве аллах для того создал человека, чтобы он был безвольным орудием слепых сил природы? Он помнил своего деда, сильного, смелого, решительного, создателя огромной империи. Еще мальчишкой он ходил с ним в завоевательные походы. Да и родился он в походе. Разве только по воле судеб одерживал Тимур свои победы? Разве не силой воли, природным талантом управлять людьми, полководческим даром прославил он свое имя? Улугбек помнил, как Тимур, прежде чем выступить в поход, созывал астрологов. Но всегда гневался, если их предсказания противоречили его замыслам. Его гнев обрушивался на звездочетов, и тем приходилось гадать, уцелеет ли их голова на плечах после приступа ярости, напавшего на властелина мира. Вот и старались наиболее мудрые делать такие предсказания, чтобы угодить своему господину. Улугбек верил в судьбу. Однако к астрологии быстро охладел. Когда он всматривался в усыпанное звездами ночное небо, то начинал думать о том, как велик и непостижим мир, который окружает человека. Что в этом мире человек с его скоротечной жизнью? Чего стоят его дела, которым он суетно предается, когда каждая минута приближает его к концу? Так что же, все, что оставляет после себя человек, покрывается пылью забвения? Но тогда зачем жить? Ислам учит, что человек должен стремиться к райскому блаженству на небесах. Значит, только загробная жизнь имеет реальную ценность. А земная? Подобные мысли все чаще одолевали Улугбека. И чем больше он думал, тем сильнее утверждался в мысли, что человек должен и в жизни земной совершить нечто такое, что он мог бы оставить после себя потомкам. Но что? Его дед создал великую империю, однако после его смерти она начала трещать по швам. Военные победы? Они тоже преходящи. Время подтачивает и камни, из которых сооружаются великолепные дворцы и мавзолеи. Жизнь убеждала, что вечно лишь одно — человеческое познание. Улугбек повелел возвести в Бухаре новое медресе — высшее духовное учебное заведение. И когда его высокая арка поднялась над городом, он приказал высечь над входом надпись: «Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки». Муллы перешептывались между собой. Обычно над входом полагалось помещать изречение из священной книги Корана. Улугбек нарушил обычай. Да и разве стремление к знанию — главная обязанность правоверных? Им надлежит прежде всего прославлять аллаха. А уж насчет мусульманок тут и говорить не приходится, аллах предопределил женщине подчиненное положение перед мужчиной. Она должна быть женой, матерью. Какое уж там стремление к познанию! Духовенство всегда стремилось, чтобы исламская вера играла главенствующую роль в жизни каждого человека, будь то последний нищий или могущественный правитель. А Улугбек, соблюдая исламские обычаи, всем своим поведением подчеркивал, что для него земные интересы куда выше, чем небесные, и что он единственный властелин, который вовсе не обязан считаться с мнением служителей аллаха. Муллы попытались было выступить со своими притязаниями, прямо потребовать от Улугбека, чтобы он не принимал решений без их совета. Но тот разъярился, заявив, что ни с кем власть делить не будет. В гневе он напоминал своего деда, который, не раздумывая, приказывал рубить головы всем, невзирая на звания и чины. И муллы притихли, не желая навлекать на себя неприятности. Надолго ли? Конечно же, ненадолго. Они опасаются открыто осуждать повелителя, но он-то знает, что, встречаясь в мечетях, они, озираясь, мысленно осыпают его бранью, призывают гнев аллаха на его голову. Они возомнили о себе, будто и впрямь ниспосланы всевышним для того, чтобы быть хранителями веры и нравственности, установленных самим господом. А на деле они подданные земных властителей. И забывать об этом не должны. В конце концов, разве не волею аллаха он, Улугбек, возведен на царский престол? Жадные, корыстолюбивые муллы хотят одного: чтобы он, властвуя, прислушивался к ним, считался с их мнением. Но должен ли правитель слушать своих подданных, если их мнение расходится с его собственным? Они стремятся к тому, чтобы диктовать ему свою волю. Однако этого не будет никогда. Пусть плетут они свои интриги: пока он правит, им не удастся навязать ему свои взгляды, он будет единолично нести тяжкое бремя правителя. Улугбек поднялся по винтовой лестнице на площадку для наблюдений, расположенную под крышей обсерватории. Поднял голову: на черном небосводе мерцали далекие звезды. Глядя на них, он забыл обо всем на свете. Он остался наедине с вечностью…2
Улугбек оставил после себя яркий след — «Звездную книгу», сложившуюся в результате длительных наблюдений и поражающих своей точностью расчетов. Держа в руках тростниковое перо, он писал ее, уединившись, заглядывая в заметки, сделанные во время ночных бдений на площадке обсерватории. В своей книге Улугбек обращался ко многим не решенным в те времена вопросам. Он составил таблицы для определения расстояния между различными светилами, для вычисления широты и долготы разных пунктов, для определения наклонения эклиптики — видимого пути годового движения Солнца. Он попытался дать объяснение движению планет и, наконец, создал своеобразный атлас звездного неба, которое он наблюдал, атлас, включающий тысячу восемнадцать звезд! Нетрудно представить себе, какой огромный труд потребовался для этого, если иметь в виду, что в век Улугбека не было не только телескопов, но и простейших зрительных труб. Приходилось до боли в глазах, запрокинув голову, смотреть на звездное небо, стараясь запомнить расположение звезд, чтобы его можно было воссоздать в своих записях. Приборы, которыми пользовались астрономы, были, конечно же, примитивны, хотя Улугбеку удалось соорудить в обсерватории самые лучшие для своего времени. Ну а кроме того, была принята геоцентрическая система мира, созданная греком Клавдием Птолемеем. Согласно этой системе, Земля являлась неподвижным центром мироздания, а вокруг нее двигались Солнце и другие планеты Солнечной системы. Утвердившееся на многие столетия ложное представление порождало ошибочные взгляды и суждения, ставило в тупик астрономов при попытках дать объяснение различным явлениям на небосклоне. И лишь столетия спустя, после того, как другой великий астроном — Николай Коперник создал гелиоцентрическую систему, поместив в центр галактики Солнце, стало возможным объяснить процессы и явления, казавшиеся неразрешимой загадкой. Но и в свое время Улугбек сумел высказать немало интереснейших предположений, постоянно ища ключ к решению проблем, перед которыми оказывались бессильными астрономы. Во вступлении к книге он сравнил известные ему календари, которыми пользовались для летосчисления в разных странах. В Европе в те времена утвердился юлианский календарь, а в мусульманских странах были свои календари, отмерявшие время не по Солнцу, а по Луне, их месяцы были не солнечные, а лунные. Исходя в первую очередь из практических потребностей людей, Улугбек составил специальные таблицы, с помощью которых можно было без особого труда переводить даты одного летосчисления в другое. В его «Звездной книге» можно было прочитать и о том, как определять расстояния между светилами. Это кажется поистине невероятным. Тогда, когда не было даже простейших астрономических приборов, Улугбек со своими приближенными умел определять угловые расстояния между небесными телами! Современные ученые, познакомившись с астрономическим трудом Улугбека, были поражены той точностью расчетов, которые производились в созданной им обсерватории. Мусульмане верят, что праведникам аллах дает возможность после смерти войти в небесные врата, где их ждет райское блаженство. Улугбек сам открыл для себя врата познания неба, предвосхитив последующие достижения астрономии, намного опередив свой век. «Религии рассеиваются, как туман. Царства разрушаются. Но труды ученых остаются на вечные времена…» Эти слова Улугбека как нельзя лучше характеризуют его отношение к ценности научного познания. Понятно, что служители ислама восприняли их как величайшее кощунство. Будь на месте Улугбека не царственный правитель, ему пришлось бы дорого поплатиться за них. Подумать только, писания ученых он поставил выше божественного откровения! Более того, заявил об этом открыто, не таясь! И это правитель, возведенный на трон милостью Аллаха! И вновь перешептывались между собой муллы, осуждая Улугбека. И вновь они плели вокруг него сеть мелких интриг, стараясь при каждом удобном случае упрекнуть его в том, что он подает дурной пример окружающим, пренебрежительно относясь к религии аллаха. Нет, Улугбек не выступал против религии. У него даже в мыслях не было подвергнуть сомнению ее «истины». Он был сыном своего века, воспитанным в духе мусульманских традиций и следовавшим им всю свою жизнь. Более того, он опирался на ислам, будучи политическим деятелем, феодальным правителем. Иначе и быть не могло. Ислам, как и другие религии, именем аллаха освящал светскую власть. Он учил покорности, смирению, повиновению земным повелителям. Улугбек не мог не понимать, что религия — опора царского трона. Она помогает держать народ в повиновении. Но он пресекал попытки ее служителей подняться выше его самого, диктовать ему свою волю. Он верил в свое назначение, в то, что по воле аллаха призван властвовать над людьми, и старался внушить это муллам. Улугбек сумел подняться выше повседневных забот феодального правителя, отделить истинные ценности жизни от временных, преходящих, проявить мудрость ученого, которую духовенство восприняло как «гордыню». Муллы стремились к тому, чтобы простые смертные, даже правители, жили по их законам. Это приводило к постоянным конфликтам между светскими властителями и духовенством и в прежние времена. Тимур не останавливался перед расправой над теми духовными лицами, которые пытались стать вровень с ним. Без тени сомнения он рубил им головы, не чувствуя своей вины перед аллахом. Он считал, что по воле аллаха возведен на трон и вправе наказывать тех, кто не желает с этим считаться. Тверд был и его внук, не раз напоминавший муллам, что он облечен властью по воле аллаха и не собирается ни с кем делить эту власть. Однако конфликт между ним и духовенством был куда глубже, чем это могло показаться с первого взгляда. Служители аллаха выступали не только против правителя Улугбека, но прежде всего против мыслителя Улугбека, противопоставившего знание религии. Он даже осмелился заявить, что труды ученых имеют большую ценность, чем религии, которые уподобил туману. Он предпочитал проводить дни и ночи в обсерватории, проявляя в своих занятиях наукой большее рвение, чем в исполнении предписаний ислама. Именно в этом следует искать основную причину враждебного отношения мусульманского духовенства к Улугбеку. Он старался не обращать на это внимания. Он чувствовал свое превосходство перед духовенством и зачастую не считал нужным снисходить до мелких и пустопорожних словопрений. Улугбек ценил время, отданное им познанию мира, и не желал растрачивать его впустую. Он поставил перед собой великую цель и весь отдавался ей. Одна за другой ложились в стопу страницы его «Звездной книги», которой суждено было пережить столетия, а имя Улугбека поставить в один ряд с именами самых знаменитых ученых средневековья.3
О, если бы не эти вечные войны, в которых приходилось участвовать повелителю Самарканда Улугбеку. Они отнимали время и силы, мешали заниматься астрономией, которая безудержно влекла его, притягивая словно магнит. Было время, когда он считал, что слава добывается в военных победах. Перед его глазами стоял образ деда, которому он хотел следовать и подражать. Но со временем Улугбек понял, что все эти победы ровным счетом ничего не стоят. Однако он был правителем и волей-неволей должен был садиться в седло, чтобы отражать нападения врагов, зарившихся на его престол, помогать сыновьям в междоусобной борьбе, которая разгорелась после смерти его отца, Шахруха. Трудна доля отца, когда сыновья хотят властвовать и не могут прийти к согласию между собой. Поможешь одному — жестокую обиду затаит другой, проявишь внимание к младшему — не простит старший. Вот так и приходилось жить Улугбеку в постоянных раздумьях о том, как установить мир, прекратить распри, приводившие к кровопролитиям. Приходилось скакать во главе войска в Герат, чтобы подавить вспыхнувший там мятеж, а затем возвращаться в Самарканд, чтобы расправиться с налетевшими на него кочевыми племенами. Тяжелым ударом была для него весть, что против него выступил собственный сын, которому он пришел на помощь во время смуты в Герате. Вот она, сыновняя благодарность. Кто бы мог подумать, что Абдал-Аятиф поднимет руку на отца. Усталый от всего Улугбек вынужден был принять бой с войском, возглавляемым его сыном, и потерпел поражение. С верными нукерами он должен был спасаться, надеясь укрыться за стенами Самарканда. Но весть о победе Абдал-Аятифа опередила его, и ворота столицы оказались закрытыми для того, кого еще вчера почтительно называли повелителем. Холод, дождь, пронизывающий до костей ветер, от которого не спасает даже теплый халат. Холодные струи стекают с чалмы на лоб Улугбека. Он пытается согреться у костра, разожженного в степи, и не может. Дорого ему обошлось то, что он вел себя независимо, не желая считаться с советами духовных лиц, слепо следовать предписаниям шариата. Духовенство настроило против него придворных, которые при первом удобном случае изменили ему. Имамы отомстили ему. Но странное дело, Улугбека как будто не очень трогала потеря власти. В былые времена он проявил бы недюжинную энергию, чтобы собрать войско, наказать изменников, но сейчас он казался отрешенным от всего, покорно принимая удары судьбы. Не он первый, не он последний. Власть — это та сила, которая поднимает сына на отца, брата на брата. В те времена такие междоусобицы были обычным явлением. Конечно, щемит сердце боль оттого, что родной сын, в жилах которого течет его кровь, стал изменником. Но если это судьба, то следует с ней смириться. И Улугбек решает вернуться в Самарканд, отдавшись на волю мятежного сына. Абдал-Лятиф купался в величии власти. Наконец свершилась его мечта: он правитель, самостоятельный правитель. Он может приказывать, и его повеления будут безропотно исполняться подчиненными. Он может прощать, может казнить. Кто станет ему перечить? Он, казалось бы, учтиво обошелся с отцом. Тот был в его власти, и не было нужды учинять расправу над ним. Напротив, он играл перед Улугбеком роль справедливого правителя. Он предоставил отцу выбор: тот может жить где захочет, у него не будет нужды ни в чем. Но Улугбек, почтительно склонив голову, попросил разрешить ему отправиться в паломничество в Мекку — священный город мусульман. Пришла пора ему, правоверному, замаливать грехи перед аллахом. Более он ничего для себя не просил. Только это. Просил Улугбек за других. За тех, кто верой и правдой служил ему долгие годы. Новый правитель обещал даровать им прощение. Без колебаний Улугбек подписал свое отречение в пользу сына, мирзы Абдал-Лятифа. Когда Улугбек покинул покои нового правителя, тот распорядился созвать священный Совет. Муллы, собравшиеся в дворцовой мечети, почтительно приветствовали Абдал-Лятифа. Они были явно довольны тем, что состоялась смена власти. Надеялись, что новый правитель будет по-иному относиться к служителям аллаха, прислушиваться к их слову. Пожалуй, не было ни одного муллы, который бы не таил зла на Улугбека. Ведь он совершенно не считался с ними. И все одобрили решение мирзы Улугбека передать власть сыну, а самому совершить хадж в Мекку. Совет рекомендовал Улугбеку отправиться в путь одному, дабы иметь возможность сосредоточенно думать о милостивом Аллахе, повторять по дороге священные суры Корана. И даже день отъезда был определен муллами. Об этом возвещали в мечетях муллы, вознося хвалу мудрому и справедливому правителю Абдал-Лятифу. Никто не знал другого, что в то самое время, когда правоверные прославляли нового правителя, его доброту и сыновнюю почтительность к поверженному повелителю Мавераннахра, он с глазу на глаз вел в своих покоях разговор с чернобородым человеком по имени Аббас. Абдал-Лятиф отыскал его, сына некогда казненного Улугбеком главаря заговорщиков из рода юулдузов, напомнил о законе шариата, требующем отмщения за убитого родственника, и благословил его на расправу с Улугбеком. Он боялся отца, боялся, что тот попытается отнять у него власть, которую наконец-то добыл Абдал-Лятиф. Он вложил саблю в руки убийцы. Этого не знал никто из верующих мусульман, кроме имамов. За ними было последнее слово. И они сказали его, вынеся Улугбеку свой приговор.4
Улугбек покинул Самарканд под вечер, когда первые звезды едва начали проглядываться в потемневшем небе. Он ехал на черном коне в сопровождении нескольких глухонемых слуг и задумчиво смотрел вдаль. Отъехав немного от городских ворот, он оглянулся, бросил взгляд на город, в котором прошла его жизнь, словно прощаясь с ним, и натянул поводья. Днем он успел побывать в обсерватории, обнять верного Али-Кушчи, поручив ему любой ценой сберечь драгоценную книгу, над которой трудился долгие годы. Тот сумел сохранить рукопись, тайком выбраться из Самарканда, добраться до Константинополя, где завершил работу над таблицами и напечатал их. Труд Улугбека увидел свет, стал служить людям. Но все это будет позднее. А пока Улугбек держит путь в Мекку, чтобы замолить грехи, как и положено правоверному мусульманину. Он не торопится, хотя вечерняя мгла стремительно обволакивает землю. Может быть, чуяло недоброе его сердце? Единственный из его спутников, который мог говорить и слышать, Хаджи Мухаммед-Хосрау, тоже отправившийся в паломничество в Мекку, пытался завести с ним разговор, но Улугбек отмалчивался, не расположенный к беседам. Час-другой пути… Неожиданно во тьме проступают силуэты каких-то строений. Здесь можно сделать остановку, заночевать, дать отдых лошадям, чтобы с восходом солнца отправиться дальше. И вот уже какие-то люди с фонарями помогают слезть с лошади, приглашают в дом. Гость именитый, видно сразу, и ему оказывают знаки внимания. Улугбек направляется к дому, но в это время совсем близко раздается топот копыт. Он остановился, настороженно оглянулся. Несколько всадников спешились, бросив коней на попечение одного, чей темный силуэт обозначился в нескольких десятках шагов в слабом свете застывшего в небе полумесяца. Они шли к Улугбеку. А он стоял и ждал их, словно бы все понимал и знал заранее. Они подошли совсем близко. В отблеске фонарей, раскачивающихся в руках встретивших Улугбека людей, он увидел лицо предводителя и узнал его. Это был Аббас. И ему, умудренному жизненным опытом, сразу стало ясно, что выбор тех, кто хотел свести с ним счеты, остановился на человеке, отца которого он повелел предать казни за его злодеяния. Ну конечно, вспомнилась та сура Корана, в которой говорилось о мести за убитых родственников. А ведь самому Аббасу он даровал жизнь, пожалел молодость. Мог ли он знать, что именно от руки Аббаса ему доведется принять смерть? Они налетели на него, смяли, связали, куда-то потащили. Аббас оттолкнул своих спутников. Он хотел сам расправиться с Улугбеком. Он имел на это особое право — право мести. Он вытащил из ножен кривую саблю, помахал ею в воздухе. Он куражился перед своей жертвой. Что мог сделать Улугбек со связанными руками! Всю свою силу вложил Аббас в удар, оборвавший жизнь мирзы Улугбека… Пройдет время, совсем немного, менее года, и Абдал-Лятиф, сын Улугбека и его убийца, погибнет от меткой стрелы, выпущенной одним из нукеров его отца, отомстившего за смерть своего господина. Предание гласит, что чья-то стрела сразила и того, кто, выполняя волю отцеубийцы, лишил жизни Улугбека, — Аббаса из рода юулдузов. А великий поэт Востока Алишер Навои напишет следующие строки: «Султан Улугбек, потомок хана Тимура, был царем, подобного которому мир еще не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времен будут списывать законы и правила с его законов». Навои не был пророком. Но он был поэтом и мудрецом, хорошо понимавшим, в чем истинное величие человека. В том, что тот оставляет потомкам, грядущим поколениям. Ценность наследия Улугбека не измерить золотом и драгоценностями. Оно принадлежит вечности, как и его имя. Не правителя Мавераннахра, а великого астронома и мыслителя.Последний путь Мигеля Сервета



Время действия — XVI век. Место действия — Женева (Швейцария).
1
Всю ночь, не переставая, лил дождь. Над Женевой плыли черные тучи, и казалось, не будет им конца. Но когда наступило утро, небо очистилось от туч, над городом поднялось солнце, и косые его лучи осветили вытянувшиеся вверх здания соборов, мощенные булыжником улицы, ворвались в окна домов, пробуждая людей от сна. В это раннее октябрьское утро 1553 года на улицах Женевы, ведущих от городской тюрьмы к холму Шампель, лобному месту, где казнили государственных преступников, начали собираться горожане. Стоя на тротуарах, они обсуждали предстоящее событие: сожжение еретика, посмевшего посягнуть на святое учение. Накануне вечером кальвинистские пасторы обходили дома, призывая христиан присутствовать при казни богоотступника. Таково было желание самого Кальвина. Все должны были видеть, какая кара падет на голову каждого, кто посягнет на святыни христианства. И женевцы, не смевшие ослушаться Кальвина, заполняли улицы в ожидании предстоящего зрелища. Ждать пришлось долго. Только около полудня отворились массивные ворота тюрьмы и в окружении алебардщиков вышел изможденный, закованный в цепи человек в изодранной рубахе. Он с трудом поднял руку, прикрывая ладонью глаза, много дней не видевшие дневного света, жадно вдохнул воздух и покачнулся, опьяненный его свежестью. Алебардщики подтолкнули его, и он с трудом сделал первый шаг. Свинцовая тяжесть сковала измученное пытками тело. Он стиснул зубы, медленно ступая по мостовой. Никто не должен был видеть, как ему тяжело. Он не склонил головы, когда тюремщики терзали его, требуя раскаяния в грехах, он не склонит ее и в смертный час. Шаг… Еще шаг… Еще… Последний путь… Там, впереди, за холмом Шампель, вырисовывалась голубая полоска Женевского озера, поднимались покрытые снегом вершины Альп. Он видит их в последний раз. Осужденный медленно шел, чувствуя на себе взгляды сотен людей. Взгляды злобные и сочувствующие, гневные и сердобольные. А сзади раздавался громкий шепот сопровождавшего его пастора Фареля: «Одумайся… отрекись… покайся». В ответ он отрицательно качает головой. Спекшиеся от жажды губы произносят еле слышно одно только слово: «Нет!» Шаг… Еще шаг… Еще… Он старается отогнать от себя мысли о казни. В последний час надо думать о жизни, а не о смерти. В воспаленном мозгу за считанные минуты проносится вся его жизнь — бурная, беспокойная, которой суждено окончиться здесь, на холме Шампель…2
Тудель. Маленький город в Наварре, на севере Испании. Год 1511-й. В церковном храме совершается таинство крещения. Благообразный священник держит в руках розовое тельце младенца, произнося по-латыни заученную фразу церковного благословения. Местный нотариус Сервет, ревностный католик, счастлив. Он так хотел сына, возносил молитвы богу, и тот услышал его. Теперь его сын вступает в лоно христианской церкви, и хотя он еще не понимает этого и, подобно другим детям, пронзительно кричит, когда священник окропляет его водой, отец убежден, что теперь его сыну предстоит счастливая жизнь, ибо он вступает под покровительство господа бога… Стремительно бегут годы. И вот уже постаревший на пятнадцать лет нотариус Сервет поучает стоящего перед ним сына: — Я хочу, чтобы мой сын пошел по стопам предков, по стопам своего отца. Я хочу, чтобы ты стал знаменитым законником… Год 1528-й. Тулуза. Франция. Черноволосый юноша, в жилах которого течет испанская кровь, выполняя волю отца, постигает в Тулузском университете юридические науки. Он пытлив, старателен, упорен. Именитые профессора обращают внимание на его усердие, прочат ему успех на поприще юриспруденции, и никому из них не приходит в голову, что этот путь совершенно не влечет его. Он, примерный сын, лишь выполняет волю отца. А интересы его находились далеко за пределами скучной, сухой дисциплины, выхолощенной университетскими профессорами. Европа в те годы переживала бурное время. Изнывавший под властью феодалов народ поднялся на борьбу против угнетателей. Вместе с феодализмом пошатнулось могущество римской церкви, которая защищала устои феодального строя. Выступая против засилья католической церкви, против злоупотреблений ее служителей, их ненасытной жажды обогащения, люди не отказывались от религии, от веры в бога. Они не могли представить себе жизнь без веры и требовали создания новой церкви. Они обращались к первым векам христианства, когда еще не были возведены роскошные храмы, не было разжиревших служителей культа, сделавших религию средством личного обогащения, когда не было папы римского, провозглашенного наместником Христа на земле, а все верующие были равны перед богом. Правда, и католическая церковь проповедовала равенство всех людей перед богом. Но в жизни все оказывалось по-иному. В мире были богатые и бедные, утопавшие в роскоши феодалы и гнувшие на них спину крестьяне. Какое уж тут равенство?! Восстановление принципов раннего христианства, которое якобы на деле провозгласило равенство людей, стало религиозной программой протестантизма. Удивительно ли, что в те годы, когда развернулась во всю ширь реформация, когда достигла высшей точки борьба между протестантами и католиками, умы молодежи, как никогда, волновали религиозные вопросы? Они дискутировались в университетских стенах, вызывали страстные споры после занятий. Не миновали они и пылкого испанца Мигеля Сервета. Кто же прав в спорах католиков и протестантов? Справедливо ли нападают на католическую церковь те, кто критикуют ее за отступление от истинного христианства? Для того чтобы разобраться в этом, Сервет обращается к книгам, изучает историю христианства, историю римской церкви, читает священное писание — Библию. Ведь в спорах, которые вели между собой католики и протестанты, и те и другие ссылались прежде всего на Библию, в их представлении богодухновенную книгу, то есть продиктованную самим господом богом. Когда протестанты обвинили католиков в отступлении от первоначального христианства, они отыскивали в Библии строчки, которые будто бы свидетельствовали о забвении римской церковью основных христианских принципов. Выступая против протестантов, католические богословы тоже ссылались на священное писание и находили в нем тексты, которые оправдывали католицизм. Секрет был весьма прост. Библия писалась многими авторами на протяжении многих лет. В ней нашли отражение разные периоды истории человеческого общества. И естественно, в ней можно было найти обоснование самым различным взглядам и действиям. Но для Мигеля Сервета в ту пору священное писание было богодухновенным, неземным. Ему и в голову не могло прийти, что Библия — творение человеческое, а не божественное, что она может содержать в себе противоречивые суждения по одним и тем же вопросам. Об этом и мысли не было. Перед Серветом стоял один вопрос: кто прав? Правы католические теологи, защищавшие учение и деяния римской церкви, или протестанты, развенчивавшие католиков? Тщательно изучая Библию, он пришел к совершенно неожиданному для себя открытию. Чем больше он вчитывался в тексты священного писания, тем отчетливее видел, что все, чему он верил раньше, улетучивается как дым. Он боялся признаться себе в том, что теряет веру в богодухновенность Библии, в незыблемость ее догматов. Это страшило его. Ведь таяла вера в те святыни, которые внушались ему буквально с колыбели. Нет, не может быть, чтобы священная книга содержала столько противоречий. Но если она — плод человеческого творчества, то почему ее следует воспринимать как непогрешимую в каждой строке, каждом слове? Разве людям не свойственно ошибаться? Сомнения одолевали юношу, терзали его сердце. Что делать? Как поступить? Ведь он верный католик, обязанный быть твердым в своей вере. Умолчать о своих сомнениях? Пойти против своей совести? Нет, этого он сделать не мог. Он всей душой был на стороне протестантов, выступивших против католической церкви, на стороне Мартина Лютера, Цвингли и других церковных реформаторов. Он был на их стороне, но быть с ними не мог, потому что видел, что и они заблуждаются. Сервет решил публично высказать все, что думал, честно, правдиво и откровенно.3
…Он чувствует, как алебардщик подталкивает его в спину: «Шевелись быстрей!» Как они торопятся совершить казнь, чтобы заставить его замолчать навеки. Но разве можно уничтожить идеи, которые уже обрели свою, независимую жизнь? Всплывает в памяти год 1531-й. Германия. Сюда он приехал, покинув стены Тулузского университета, так и не выполнив воли отца. Здесь он закончил и опубликовал свой первый научный трактат — «Об ошибках учения о троице». Сервет и не предполагал, какой переполох он вызовет среди служителей церкви. Богословы с ужасом брали его в руки. Подумать только, автор книги, дерзкий юнец, замахнулся на святая святых христианской религии — догмат о святой троице! А Сервет высказал в своем трактате то, что думал. Да, догмат о троице предстал в его сочинении наивным и бессмысленным. Но ведь он таков в действительности. Что может быть нелепей, чем учение, будто единый бог существует в трех лицах: бога-отца, бога-сына и бога— духа святого! Бог один, утверждают христианские проповедники, но в то же время он троичен. Иными словами, по христианской арифметике единица равна трем. Что и говорить, логика поразительная. Недаром же один из виднейших раннехристианских богословов Тертуллиан произнес знаменитую фразу: «Верую, потому что абсурдно». А догмат о троице абсурден для каждого здравомыслящего человека. Пусть проповедники твердят о том, что это божественная истина, недоступная человеческому пониманию. Они привыкли к тому, что все, что они говорят, должно приниматься на веру. Но разум не может мириться с абсурдом. Он дан человеку для того, чтобы тот действовал в соответствии со здравым смыслом. Однако при всем своем желании человек не в состоянии признать состоятельным учение о троице. Догмат о святой троице стал предметом исследования Мигеля Сервета, который показал, что здравый смысл не может мириться с верой в троичность бога, что эта вера ни на чем не основана и должна быть отвергнута как нелепица, которую не могут принять разумные люди. Трактат Сервета возмутил и католиков и протестантов. Ведь он задел их веру. Догмат о троице богословы объявили краеугольным в христианской религии. И вот находится человек, который объявляет его несостоятельным. Это ли не ересь, которую надо уничтожить на корню? Нечестивца, поднявшего голос против самих основ христианства, требовали подвергнуть самому суровому наказанию. Дерзкому богохульнику угрожали расправой. Его книга была предана сожжению, а сам Сервет вынужден был тайно покинуть Германию. Преодолевая опасности, рискуя быть схваченным, он пробирался на запад. Он понимал, что попасть в цепкие руки церковников для него было равносильно смерти. В их глазах он был еретиком, посягнувшим на христианскую веру. А как расправлялась церковь с еретиками, ему было хорошо известно. Потому и принимал он все меры предосторожности, чтобы незамеченным поскорее убраться восвояси. И только когда пересек границу Франции, он смог спокойно оглянуться назад. Все опасности были позади, а впереди новая, не изведанная еще жизнь в новой стране.4
Дерзкий богохульник Мигель Сервет, еще совсем недавно возмущавший спокойствие христианских богословов в Германии, внезапно исчез, заставив своих недругов ломать голову, строить различные предположения относительно его дальнейшей судьбы. А в то же самое время в парижском колледже Кальви появился молодой человек, который сразу же обратил на себя внимание неиссякаемой тягой к знаниям и удивительной работоспособностью. Не остались незамеченными его пытливость, стремление познать все, с чем ему приходилось сталкиваться в жизни. Звали молодого человека Михаил Вилланов, и никто не мог себе представить, что совсем недавно его называли иным именем, которое вызывало содрогание у служителей церкви, что перу этого скромного и старательного слушателя колледжа принадлежит крамольная книга, брошенная на костер ревностными защитниками христианства. Сервет переменил имя, но не изменил своим убеждениям. Правда, он не решался заявлять о них публично. Его интересы сосредоточились на постижении естественных наук, математики, медицины. Он не пропускал ни одной лекции именитых профессоров, жадно читал всю попадавшуюся ему научную литературу, изучал труды древних мыслителей и современных естествоиспытателей. Участвуя в университетских диспутах, он заставил говорить о себе как о серьезном и оригинальном ученом, обладавшем обширными знаниями в самых различных областях науки… Над Парижем опускался вечер. Умолкал шум в университетских аудиториях. Закрывались двери библиотек. В эти вечерние часы поражавший всех блестящими знаниями, эрудицией, острым умом Михаил Вилланов отправлялся пешком через весь город на далекую парижскую окраину. Здесь, в нетопленной мансарде, часто полуголодный, при тусклом свете свечи он продолжал работать до глубокой ночи. Нужда давила Сервета, не давала возможности свободно вздохнуть. Он не мог покупать нужные книги, должен был ютиться в тесной каморке. Не имея сколько-нибудь сносных условий для научной деятельности, он решил найти работу, которая обеспечила бы ему возможность существовать и заниматься тем делом, которое его влекло. Работа нашлась в Лионе. Михаил Вилланов, он же Мигель Сервет, был принят корректором в типографию. Он сумел и из новой профессии извлечь то, что помогало ему пополнить свои знания. В типографии издавалось много самых различных научных трактатов, и Сервету приходилось читать корректуры этих изданий. Таким образом он знакомился с научной литературой древних и современных авторов. Бывало и так, что ему поручали составлять примечания или делать комментарии к научным изданиям. И тогда он получал возможность блеснуть познаниями, высказать свои мысли. Однажды Сервету поручили издание сочинения крупнейшего географа древности Птолемея. Работая над корректурой этого труда, Сервет увлекся географией. Он перечитал массу книг, познакомился с работами современных географов и составил примечания, которые поражали читателей своей глубиной, последовательностью, научным анализом. В эти же годы он увлекся медициной. Случилось так, что Сервету довелось держать корректуру сочинения лионского врача Симфориона Шампье о лекарствах. Он познакомился с Шампье, стал бывать у него, вести с ним долгие беседы о науке и самостоятельно изучать медицину. Шампье пришлось по душе это увлечение молодого человека, и он охотно помогал ему постигать тайны врачебного искусства. Интерес Сервета к медицине зашел так далеко, что некоторое время спустя он решил покинуть Лион и перебраться в Париж, чтобы продолжить образование на этом поприще. Теперь он мог решиться на такой шаг. За время работы в типографии он скопил немного денег, их было достаточно для того, чтобы некоторое время заниматься тем, чем он желал, не думая каждый день о куске хлеба. В 1537 году он вновь появился в Париже, большом шумном Париже, в котором нашел приют в трудные для себя дни жизни. Когда дорожный экипаж миновал границу города и покатил по его улицам, закутанный в плащ лионский корректор Михаил Вилланов прильнул к окошку возка. Он смотрел на Париж и, словно увидев его впервые, восторгался красотой города. За те годы, которые он провел здесь, у него не было времени как следует познакомиться с Парижем. Работа в библиотеках, посещение лекций, а затем до глубокой ночи занятия в своей мансарде отнимали у него все свободное время. И только сейчас, возвращаясь в Париж, он смог разглядеть этот город. Вот башня Иоанна Бесстрашного, вот церковь Сен-Жермен-де-Пре, отель де Санс, о котором он столько слышал, но видел впервые. Экипаж въехал на мост, под которым спокойно несла свои воды Сена. А вот и университетский центр, раскинувшийся на левом берегу. Здесь ему предстояло жить и пополнять свои знания. Через несколько дней начались занятия в ломбардской коллегии университета, где новый слушатель с рвением взялся за изучение медицины. За короткое время он достиг таких успехов, что знаменитый профессор Винтер, читавший лекции в коллегии, предложил ему стать своим ассистентом. Другим ассистентом Винтера был молодой итальянец Андрей Везалий. Когда их познакомили, они по обычаю кивнули друг другу и разошлись по своим местам, приготовившись слушать лекцию профессора. Кто мог предполагать тогда, что на долю ассистентов маститого профессора выпадет схожая судьба: им придется перенести гонения, преследования; одного трудный путь приведет на костер «женевского папы» Жана Кальвина, а другой окончит жизнь всеми забытым и покинутым на далеком острове Занте в Ионическом море. Что это — ирония судьбы, связавшей в начале пути двух людей, которые внесут свою лепту в познание мира и вступят в жестокий конфликт с церковью? Сама жизнь создает такие удивительные ситуации, перед которыми останавливается в безмолвии даже самая неуемная фантазия литераторов. Они с жаром отдавались учебе, и старый Винтер, имя которого с почтением называли во всех университетах Европы, не мог нарадоваться на своих учеников. Когда Винтер выпустил один из своих трудов по анатомии, он счел долгом упомянуть в предисловии, что ему «деятельно помогали в подготовке этого труда» Андрей Везалий, юноша, «чрезвычайно успевающий в анатомии», и Михаил Вилланов, «муж весьма отличный во всех родах литературы и замечательный знаток учения Галена». Через несколько лет в Парижском университете состоялась церемония присуждения Михаилу Вилланову сразу двух ученых степеней — магистра искусств и доктора медицины. Старейшие профессора поздравляли своего нового коллегу, не скупясь на лестные слова о его научных заслугах. А он думал лишь о том, что наконец обретет независимость, к которой стремился все эти годы, получит возможность заниматься тем, к чему лежит душа. Ему наконец не придется заботиться о заработке, не надо будет выполнять работу, которая дает деньги, но не греет сердца. Он сможет читать лекции, заниматься исследованиями, писать и писать. Ах, какое это счастье — обрести наконец независимость! Однако перспективы, которые рисовал в памятный для себя день Мигель Сервет, оказались далеко не такими радужными. После того как он стал магистром и доктором, ему предоставили возможность читать в университете лекции по географии, математике и астрономии. Но стоило ему отойти от установившихся традиций, попытаться изложить свои представления по тому или иному вопросу, как это вызвалорезкое недовольство университетского начальства. Ему предложили оставить подобные вольности. Он должен излагать официальное учение, одобренное церковью, а не высказывать свои собственные идеи, которые никого не интересуют. Университетская кафедра существует не для того, чтобы каждый позволял себе говорить то, что взбредет ему в голову. Сервет распалился. Какие вольности он позволил себе? Он лишь высказал сомнения в некоторых положениях, которые преподносились с университетской кафедры. Наука — это не слепое заучивание и повторение готовых истин. Она требует логического анализа тех положений, которые надлежит излагать. И каждому должно быть предоставлено право высказать свои мысли и свои взгляды. Если все начнут бездумно твердить одно и то же, то проку в этом немного. Надо мыслить и мысли свои делать достоянием других. Истина рождается в спорах. Если он не прав, то готов выслушать возражения, поспорить, отстаивая свои взгляды. Однако с ним никто не спорил, никто не попытался опровергнуть его суждения, а просто предложили излагать одобренное церковью учение. Но разве человек не имеет права на свое собственное суждение? От магистра и доктора Михаила Вилланова ждали смирения, а он не смирился, напротив, выпустил острый и язвительный памфлет, в котором обрушился на невежд в науке, назвал невежественных врачей «заразой мира». И тогда разыгрался скандал. Те самые невежественные врачи оскорбились и потребовали уничтожить памфлет. Дело дошло до парижского парламента, который вступился за оскорбленных и потребовал изъять памфлет Михаила Вилланова, а от самого автора памфлета — публично принести извинения за свое дерзкое сочинение. Он не стал просить извинения. И тогда ему предложили подать в отставку и покинуть Парижский университет. Так и пришел конец радужным мечтам и надеждам. Он, Сервет, не пошел на компромисс со своими убеждениями, а предпочел остаться самим собой даже такой дорогой ценой, как потеря места в университете. Ему было очень нелегко принять это решение. Но он принял его, потому что поступиться своими взглядами не мог. Вначале Сервет обосновался в небольшом городе Шарлье, неподалеку от Лиона, а вскоре перебрался во Вьенн, где ему была предоставлена частная практика. В этом городе Сервет провел двенадцать лет. Это были годы ежедневной практической работы: прием больных, срочные выезды по вызову, консилиумы у знатных горожан отнимали почти все время. И все же Сервет занимался не только практикой. Когда уходил день и над городом опускалась ночь, он запирался в своем кабинете, склонялся над письменным столом и писал. Часто за этим столом он встречал рассвет, не заметив, как пролетело время. Он писал книгу, в которую вложил все свои познания, весь свой опыт, весь свой талант. Ей было отдано 10 лет работы. В этой книге он высказал свои суждения, показав, что христианское учение, которое проповедуется в церкви, соткано из противоречий, что христианские мифы наивны, а догматы нелепы. Что же касается споров католиков и протестантов о вере, то они беспочвенны, ибо протестанты столь же заблуждаются, сколь и католики. Если уж говорить о чистоте религии, то надо вести речь о такой религии, которая бы не совершала насилий над разумом, не сковывала бы творческие силы людей, давала бы право ученым свободно исследовать природу. Сервет был наивен, веря в то, что может существовать религия, не совершающая насилия над разумом. Он не мог вырваться за пределы религиозного миропонимания, хотя объективно высказывал мысли, которые в той или иной степени расшатывали традиционные устои христианства. В своей книге Сервет выступил и с естественнонаучными суждениями. Немало места он уделил, в частности, медицине. И здесь он предстал как ученый, предвосхитивший научное открытие, которое было сделано впоследствии английским врачом Харви Уильямом Гарвеем. 75 лет спустя Гарвей изложит свое учение о кровообращении, как и Сервет, подвергнется ожесточенным нападкам церкви. Но впервые идею о наличии в организме малого, легочного круга кровообращения высказал Сервет. Современники не оценили это важное открытие. Только много лет спустя его назвали первооткрывателем. В 1553 году книга Мигеля Сервета «Восстановление христианства» увидела свет. Он держал в руках новенький, еще пахнувший типографской краской экземпляр и устало улыбался. Никто не знал, сколького труда ему стоила эта книга. Он понимал, что она не принесет ему ни денег, ни почестей, вызовет нападки теологов. Но не написать ее он не мог. Ну а если предстоял бой, он был готов к нему.5
Женевский реформатор Жан Кальвин был вне себя от гнева. Обычно он редко проявлял свои чувства. Сухой, педантичный, всегда с суровым выражением лица, он, казалось, был отрешен от земных дел, постоянно думая о делах небесных. Но на сей раз он не мог сдержать себя. — Гнусный еретик, — прошептал он. Но этот порыв так же быстро погас, как и вспыхнул. На лицо Кальвина вновь легла ледяная маска, потухли огоньки, загоревшиеся в зрачках глаз. Когда предстоит принимать решение, нельзя давать волю чувствам. Кальвин бросил взгляд на письменный стол, где лежала книга «Восстановление христианства», и отошел к окну. Заложив руки за спину, он задумчиво глядел вдаль, где серебрились под солнцем снежные купола Альп. Он прочитал книгу, которую ему доставили из Вьенна. Это-то и вызвало его гнев. На титульном листе книги, где обычно стоит фамилия автора, были начертаны три буквы М. S. V. Кальвин знал, что они означают: Михаил Сервет Вилланов. Он был знаком с ним. Кальвин и Сервет не однажды встречались, вели споры о вере, переписывались. Несколько лет назад Сервет даже прислал Кальвину извлечение из этой книги, над которой он завершал работу. Уже тогда Кальвину стало ясно, что Мигель Сервет опасный еретик, но теперь, когда он прочитал книгу, возмущению его не было предела. Этот «восстановитель христианства» опять обратился к церковным догматам, прежде всего к догмату о святой троице, и посмел высказать дерзновенные мысли о нем. Он высказал сомнение в учении церкви о том, что христианские догматы внушены самим господом, отрицал право церкви говорить от имени бога. Он обрушился не только на католиков, но и на протестантов, подвергнув критике учение Лютера, Кальвина и других протестантских богословов, обвинил их в том, что они так и не смогли довести дело восстановления истинного христианства до конца. Кальвин вздохнул. Многие не понимали его, не понимали, как ему трудно, сколько сил он отдал для того, чтобы реформировать церковь, дать людям истинную веру, которую завещал им Христос и которую извратили католики. Всю жизнь свою он посвятил этой цели, работая не покладая рук, почти без сна, без отдыха. Адским трудом ему, сыну бедного ремесленника, удалось выбиться в люди, стать главой новой церкви, которой, как он верил, принадлежит будущее. Он знал, что его считали черствым, жестоким человеком, но он не мог быть иным, когда речь шла о реформе церкви во имя восстановления истинного христианства. Его сердце принадлежало богу, а не людям. Когда речь шла о вере, Кальвин не знал компромиссов. Он выступил против католической церкви, обвинив ее в извращении принципов христианства, в стремлении к обогащению, в отступлении от заветов Христа. Решительно отвергая католицизм, он объявил, что все земное должно отступить там, где речь заходит о божественном. Бог, учил Кальвин, заранее предопределил участь всех людей. Одним после смерти предопределил райское блаженство, а другим — место в аду, где грешников ожидают страшные мучения. И это божественное предначертание людям изменить не дано. Католики же учили иному. Они говорили, что если человек горячо верит в бога, выполняет предписания церкви и материально ее поддерживает, он может рассчитывать на то, что после смерти попадет в рай, а не в ад. Получалось, что загробное счастье люди получают с помощью церкви. «Нет, не церковь, а бог дарует людям спасение», — провозгласил Кальвин. Человек — раб божий и таковым останется всегда. Его жизнь, судьба в руках господа. Правда, люди могут и при жизни определить, какую участь уготовил им господь. Если дела их идут успешно, если они богаты, удачливы, значит, они могут предполагать, что удостоились внимания господа. Если же человек не может выкарабкаться из бедности, терпит в жизни неудачи, то, видимо, ему суждена худшая участь. Кальвин создал свою церковь, совсем непохожую на католическую. Прежде всего он заявил, что его церковь — это церковь без духовенства. Служители католической церкви объявили себя посредниками между богом и людьми. А Кальвин учил, что для обращения к богу не нужны никакие посредники. Порядок же в церкви должны поддерживать ее служители, избранные из среды верующих. В кальвинистской церкви была установлена строжайшая дисциплина. В одном из своих сочинений Кальвин писал: «Если ни одно общество, даже сама семья, не может существовать без дисциплины, тем менее может обойтись без нее церковь, которой приличествует самый строгий порядок. Если учение составляет душу церкви, то дисциплина должна считаться тем нервом, посредством которого соединены отдельные члены тела. Кто желает отменить церковную дисциплину, тот разрушает церковь». Кальвин был тверд в своих убеждениях. Обнародовав свои мысли, он знал, что подвергнется преследованиям инквизиции, которая вела охоту за всеми, кто выступал против римской церкви. Ему пришлось долго скитаться, чтобы ускользнуть от охотившихся за ним шпионов инквизиции. Он менял города и страны, из Италии переезжал во Францию, из Франции в Германию. А между тем его учение получало все большую известность среди протестантов, выступавших против засилья католической церкви. И неожиданно, когда пути скитания привели Кальвина в Женеву, женевские протестанты предложили ему возглавить реформационное движение в этом швейцарском городе. Кальвин согласился. В те годы Женева была одним из самых богатых и роскошных городов Европы. Она лежала на перекрещении торговых путей Германии, Франции и Италии, и это ее местоположение привело к бурному росту города, который к началу XVI столетия превратился в крупный торговый и культурный европейский центр. Жизнь в Женеве била ключом, но только до той поры, пока в городе не появился Жан Кальвин. Он словно набросил плащ на солнечный диск, светивший над Женевой. Казалось, город окутал мрак. Строжайшие порядки, введенные Кальвином, коснулись всех жителей города. Требование думать прежде всего о небесном, а затем о земном парализовало жизнь еще недавно веселой Женевы. «Истинный христианин должен вести строгую жизнь», — объявил Кальвин. Он запретил все увеселения, которые могли отвлечь людей от дум о божественном. «Истинный христианин должен получать удовольствие не в земных делах, а в общении с богом», — заявил он и призвал верующих вести аскетический образ жизни. Были запрещены ярмарки, всякого рода зрелища, в том числе театр, игры, гулянья. Даже улыбка на лице человека считалась недостойной истинного христианина, которому не подобало увлекаться мирскими делами, а следовало думать о вечности. Человек, улыбнувшийся на улице, рисковал быть строго наказанным. За всеми горожанами была установлена слежка. Кальвинистские пасторы могли зайти в любой дом; они следили за поведением каждого человека. Нарушение церковных предписаний строго каралось. Кальвин был непреклонен и жесток. Как-то соглядатаи увидели человека, игравшего в карты, тут же последовало наказание: нарушителя городских законов поставили к позорному столбу, и он целый день под палящим солнцем стоял на центральной площади в назидание тем, кто думал нарушить установленные порядки. Во время одной свадебной церемонии они обратили внимание на то, что невеста была одета в слишком яркое платье. Свадьба окончилась плачевно. Невеста и портниха, сшившая это платье, были брошены на несколько дней в тюрьму, о чем было громогласно оповещено население Женевы. Порядки Кальвина вызвали ропот среди женевцев, и спустя два года после его восхождения на женевский престол он был изгнан из города. Однако начавшиеся распри, борьба за господство в церкви, брожение среди верующих вынудили «отцов» города вновь обратиться к реформатору с просьбой вернуться в Женеву. 13 сентября 1341 года, два года спустя после своего изгнания, он возвратился в город. «Я отдал в жертву богу свое сердце, и я возвращаюсь», — торжественно провозгласил он. И снова мрак деспотизма и тирании окутал Женеву. Кальвин не отказался от тех порядков, которые считал необходимым условием для того, чтобы церковь была сильна и могущественна. Напротив, эти порядки стали еще строже. Каждый шаг жителей города тщательно контролировался церковью. Каждый преступник наказывался. Особенно суровому наказанию подвергались еретики, позволившие себе не согласиться с учением Кальвина. Для них были уготованы костры на холме Шампель. Только за четыре года, с 1542 по 1546, женевцы были свидетелями пятидесяти восьми казней. Таков был Кальвин, человек, фанатически веривший в свое призвание восстановить христианство в его первоначальном виде, создать новую, истинно христианскую церковь, в лоне которой праведники могут рассчитывать на спасение. К Кальвину и попал труд Сервета. Более того, его автор сам прислал свое сочинение «женевскому папе». Кальвин был возмущен и в одном из своих писем писал, что если Сервет когда-либо попадет в Женеву, то живым из нее не выберется. Такой ереси терпеть нельзя. Но еще больше возмутило Кальвина, что Сервет не обратил ровно никакого внимания на его оценку этого писания. Он выпустил новый тираж книги и направил еще несколько экземпляров в Женеву. Кальвин был вне себя от гнева. Всего одна ночь понадобилась женевскому реформатору, чтобы прочитать книгу, всего несколько минут, чтобы прийти в ярость. …Он все стоял у окна, обдумывая, какое принять решение. Сервет со всей страстностью обрушивается на католическую церковь. Это на руку протестантам. Но тот же Сервет подвергает нападкам и протестантские церкви, и самого Кальвина, да еще высказывает сомнение в богодухновенности христианских догматов. Нет, за всякую ересь нужно нести наказание. Решение было принято. А Кальвин не менял своих решений.6
Французская инквизиция вела розыск автора книги «Восстановление христианства». Кто он, скрывшийся под тремя буквами М. S. V.? Церковные власти дали распоряжение найти его во что бы то ни стало. Его следовало наказать в назидание другим. Никому не дозволено критиковать церковные догматы, нападать на церковь, обвиняя ее чуть ли не в том, что она исказила учение Христа. И неожиданно — удача. Архиепископ лионский, кардинал Турнон, получил от жителя Женевы купца Вильгельма Три донос, пересланный в Лион на имя некоего Арнейса. В доносе говорилось, что автор крамольной книги «Восстановление христианства» — испанец Мигель Сервет, пребывающий во Вьенне, что книга напечатана в типографии Вьенна наборщиком Балтазаром Арнолле. Турнон, прочитав донос, улыбнулся. Для него не составляло труда узнать в полученном письме руку Жана Кальвина. Его стиль был хорошо знаком кардиналу, который считал Кальвина своим злейшим врагом. Но и Кальвин не мог сдержаться, прочитав эту возмутительную книгу. Он нашел способ, как оповестить католические власти о том, кто ее автор. Кардинал вызвал к себе генерального инквизитора Франции Ори и показал ему письмо: — Полюбуйтесь, один еретик обвиняет другого. — Всякая ересь заслуживает наказания, — коротко ответил инквизитор. В тот же день был отдан приказ об аресте Мигеля Сервета, проживающего под именем Михаила Вилланова и занимающегося врачебной практикой во Вьенне… Когда к нему в дом вошли люди в черном и объявили приказ об аресте, он не удивился. Он знал, что инквизиция рано или поздно установит, кто написал крамольную книгу, подписавшись тремя буквами М. S. V. И вот за ним пришли. Что ж, начинался бой, к которому он готовился. Его бросили в местную тюрьму. Одиночная камера — четыре стены и маленькое окошко под потолком, куда почти невозможно дотянуться, — стала на сей раз обителью Мигеля Сервета. Допросы утром, допросы вечером, обвинения в ереси, которые сулят одно наказание — сожжение на костре. Он защищается, пытается доказывать свою правоту, логически обосновывает свои взгляды, но инквизиторы менее всего склонны выслушивать его доводы. Для них он еретик. А это означает, что он должен быть осужден на казнь. Однако неожиданно они получают страшный удар. Из тюрьмы приходит известие, что находившийся под следствием Мигель Сервет, он же Михаил Вилланов, бежал. Как это случилось? Кто ему помог? На эти вопросы уже никогда и никто не сумеет ответить. Но как бы то ни было, железные засовы тюрьмы оказались весьма ненадежными. Обвиненный в ереси сумел перехитрить бдительных стражей. Шпионы инквизиции были вне себя. Они произвели тщательные розыски бежавшего во Вьенне, в Лионе, сообщили его приметы в Париж, в другие города Франции, но все было тщетно. Отчаявшиеся преследователи все же решили устроить судилище. 17 июня 1553 года во Вьенне состоялся суд над опасным еретиком. И хотя скамья, где должен был находиться подсудимый, пустовала, приговор был вынесен. Суд постановил предать Михаила Вилланова, выступившего против христианского учения, проповедовавшего еретические суждения, сожжению живьем на медленном огне, чтобы тело его обратилось в пепел. На сожжение были осуждены и его книги. В бессильной злобе они жгли на костре, разложенном на одной из площадей Вьенны, куклу, которая заменяла сбежавшего «преступника», швыряли в огонь его книги… А Сервет скрывался у друзей. Теперь, когда был вынесен приговор, его положение стало отчаянным. В любой католической стране его ждала казнь, объявленная в приговоре вьеннского суда. Казалось, не было на земле места, где бы он мог чувствовать себя в безопасности. Но и оставаться во Вьенне было нельзя. Католические шпионы продолжали рыскать по городу, разыскивая «преступника», бежавшего из тюрьмы. Он не мог появиться на улице, ибо сразу был бы схвачен и предан казни. Куда бежать? Где искать спасения? Он решил не испытывать судьбу. В конце концов, он сумел высказать свои мысли и суждения. Он был удовлетворен. А дальше он не станет искушать судьбу. Он поселится в Неаполе, который в ту пору входил в состав Королевства обеих Сицилий, займется медицинской практикой, будет врачевать людей, облегчать их страдания во время болезней. Он искусный врач и, конечно, найдет себе применение. Хватит схваток с инквизиторами, которые стоят столько сил. Он наконец сможет обрести покой. С большими предосторожностями он покидает Францию. По пути в Неаполь он оказывается в Женеве. И тут, как ему кажется, он уже может чувствовать себя спокойно. Ведь Женева была протестантским городом. Там не было инквизиции. Ну а Кальвин… Если они и разошлись во взглядах, не пойдет же Кальвин по стопам инквизиторов, тем более что в своих речах осудил инквизицию. Сервет не знал, что Кальвин принимал участие в составлении доноса архиепископу лионскому, что он считал Сервета опаснейшим преступником, который заслуживает самого сурового наказания за нападки на «истины» христианства. В августе Сервет прибыл в Женеву и остановился в гостинице «Розы» под чужим именем. Но кто-то, видевший его много лет назад в Париже, опознал Сервета. Кальвину тотчас доложили, что Мигель Сервет в Женеве. Тот немедленно отдал приказ об его аресте. 13 августа 1333 года Сервет был арестован в гостинице «Розы». Женевская тюрьма мало отличалась от той, в которой он находился, ожидая приговора суда во Вьенне. Те же четыре стены, то же маленькое окошко под потолком и неусыпный надзор тюремщика в узкий глазок обитой железной двери. И сразу же начались допросы. Сервету было предъявлено обвинение в том, что он пытался подорвать устои христианской религии, открыто проповедовал еретические взгляды, богохульствовал. Однако он отвергал все эти обвинения. Он выступал не против христианского учения, а за восстановление этого учения, освобождение его от извращений, которые внесли в него люди, мало думавшие о загробном воздаянии, но слишком заботившиеся о земном благополучии. Он выступал не против церкви вообще, а против той церкви, которая душила свободную мысль, всякое стремление к познанию истины, если эта истина расходилась с установленными церковниками догматами. Да, он считает, что научное знание должно развиваться свободно, что религия не вправе препятствовать его развитию. Только тогда знание сможет приносить людям пользу, а ведь для этого оно и существует. Разве все это ересь? Судьи оказались в затруднительном положении. Подсудимый уверенно отвергал их обвинения, а они ничего не могли возразить перед железной логикой его аргументов. И тогда на заседание совета, судившего Сервета, явился сам Кальвин. Он взял на себя роль главного обвинителя. Он жаждал этого. Он даже отказал архиепископу вьеннскому, обратившемуся с просьбой выдать Сервета, потому что хотел сам предъявить ему обвинения, доказать, что тот впал в ересь, и показать жителям Женевы, какая участь ожидает отступников от христианской веры. Правда, и Кальвину не удалось логически разбить доводы Сервета. Тогда он сделал другой ход, заявив, что проповедуемые обвиняемым идеи подрывают устои государства, могут вызвать серьезные последствия политического характера. Это был верный ход. И хотя Сервет продолжал защищаться против обвинений в ереси, политическое обвинение опровергнуть было не так-то легко. Шли дни, недели, месяцы. Изо дня в день продолжалось это судилище. Многие судьи колебались, не решаясь вынести смертный приговор Сервету, не желая брать на себя ответственность за его судьбу. Но Кальвин был непреклонен. Проповедуя христианский принцип всепрощения, он сам никогда не прощал врагов. А Сервет был его врагом. Кальвин не знал сострадания к тем, кто выступал против него. В таких случаях он забывал о христианском милосердии. Он оставил без ответа обращение к нему Сервета с просьбой создать хоть мало-мальски сносные условия в грязной темнице, где тот находится уже столько времени, хоть послать ему белье, ибо его собственное истлело от сырости. Сердце Кальвина оказалось бесчувственным к мольбам женевского узника. К врагам христианства не может быть снисхождения. Наступил октябрь, а суд еще тянулся. Кальвин начал беспокоиться, упрекая некоторых членов суда в том, что они слишком мягки по отношению к опасному преступнику, который пытался нанести удар церкви и государству. И Кальвину удалось навязать суду свою волю. Он организовал нажим на кантоны, которые высказались за осуждение Сервета. Расчет был на то, чтобы суд не мог устоять перед давлением извне. Кальвин знал, что в конце концов суд решит так, как желает он, понимал, что суд выполнит его волю. В одном из своих писем, накануне вынесения приговора, он писал: «Еще не решено, какова будет судьба этой личности, однако я предполагаю, что Совет произнесет его осуждение завтра, а послезавтра его поведут на казнь». Все произошло так, как «предполагал» Кальвин. На следующий день суд вынес постановление об осуждении Мигеля Сервета на сожжение. И тут Кальвин решил проявить «милосердие». Он выступил против столь жестокого приговора, настаивая на том, чтобы преступника казнили, отрубив ему голову. Но судьи оказались немилосердными…7
Последний путь Мигеля Сервета подошел к концу. Вот и Шампель. У подножия холма бурлила людская толпа, ожидавшая зрелища. На почетных местах восседали члены суда. Кальвина среди них не было, он отказался присутствовать при совершении казни, сославшись на нездоровье. Осужденный увидел сложенные для костра поленья, палача, державшего в руках соломенный венок, пропитанный серой. Он поднял голову, и солнце ослепило глаза. Последний раз он видел это солнце, которое так мало довелось ему видеть в жизни. Верный сподвижник Кальвина Гильон Фарель, которому была отведена роль духовника Сервета, вновь обратился к осужденному, уговаривая его отречься от ереси. Но тот молчал. Фарель не мог скрыть своего недовольства этим непонятным упорством. Он, подавший свой голос за казнь еретика, только прошептал: «Суд господень будет страшнее». Но Сервет продолжал молчать. Палач привязал его к позорному столбу и бросил к ногам книгу «Восстановление христианства». Сервет стоял у позорного столба гордый и непреклонный. Спокойствие и презрение к врагам выражало лицо осужденного даже тогда, когда палач швырнул горящий факел к его ногам и языки пламени взметнулись вверх. Сырые поленья разгорались плохо. Они тлели, заволакивая несчастного дымом. Легенда гласит, что какая-то женщина не выдержала страшного зрелища и подбросила в костер сухого хвороста. Это случилось 27 октября 1553 года.Великий паломник



Время действия — XVI век. Место действия — Италия.
1
Якоб Сильвий был доволен своим новым учеником. А уж он-то, старый профессор, умудренный жизненным опытом, умел разбираться в людях. Звали ученика Андрей Везалий. Сильвий знал, что он вырос в семье потомственных медиков, что врачами были его дед и прадед, а отец служил аптекарем при дворе императора Карла V. Но дело даже не в том, что юноша унаследовал профессию своих предков. Он сразу же обратил внимание профессора своей пытливостью, любознательностью, стремлением глубоко постигнуть науку, которой он решил посвятить жизнь. Якоб Сильвий ценил эти качества в людях. Ему самому довелось прожить нелегкую жизнь, и только благодаря настойчивости в достижении цели он сумел стать доктором медицины, получить университетскую кафедру. Это случилось, когда Сильвию было уже 53 года. Он действительно не ошибся в своем ученике, предсказывая ему большое будущее. Одного только не мог он предвидеть: что юноша, к которому он проявил благосклонное внимание, станет впоследствии злейшим его врагом, что слава его затмит славу Сильвия, что имя Везалия останется жить в веках как имя величайшего ученого, основателя новой анатомии, а имя Якоба Сильвия будет вспоминаться лишь тогда, когда потомки станут воскрешать страницы жизни Везалия, и только среди имен его недругов, запятнавших себя подлостью и предательством, среди лиц, сыгравших роковую роль в судьбе ученого. Но все это будет позднее, а в 1533 году, когда Андрей Везалий впервые появился на медицинском факультете Парижского университета, Сильвий не мог нарадоваться на своего ученика. Ему нравилась пытливость юноши, который одолевал его вопросами, нравилась самостоятельность в суждениях и выводах. Немного настораживало то, что Везалий без должного почтения относился к великим авторитетам, таким, например, как прославленный Гален, которого буквально боготворил Сильвий. Читая Галена, юноша стремился сам, на практике, проверить его выводы, словно не доверяя этому признанному авторитету. Но Сильвий не выражал особой тревоги по этому поводу. Кому из молодых не казалось, что они явились в мир, чтобы ниспровергнуть все авторитеты! Профессор не учел, что именно любознательность приведет его ученика к выводам о заблуждениях Галена, к пересмотру галеновских положений о строении человеческого организма. Когда Сильвий читал студентам свои лекции, препараторы вскрывали трупы собак и демонстрировали различные органы, о которых рассказывал именитый профессор. Делали они это неумело, зачастую повреждая органы, уродуя их. В результате студенты получали искаженное представление о многих внутренних органах. А Везалий сам взялся за вскрытие трупов животных, отобрав нож у препараторов. Профессор явно недоволен. Студенты встречают насмешкой поступок своего однокашника, ибо вскрытие трупов — обязанность цирюльников, унизительная для будущего доктора медицины. Так повелось издавна, и ни к чему нарушать вековые традиции. Однако Везалия это не смущает. Он старается не замечать недовольства Сильвия. Ведь он вскрывает трупы, чтобы более глубоко познать внутреннее строение организма. Некоторое время спустя он напишет в предисловии к своему трактату: «Мои занятия никогда бы не привели к успеху, если бы во время своей медицинской работы в Париже я не приложил к этому делу собственных рук, а удовлетворился бы поверхностным наблюдением мимоходом показанных некоторыми цирюльниками мне и моим сотоварищам нескольких внутренностей на одном-двух публичных вскрытиях». То, что Везалий берет у служителей нож, чтобы самому провести секцию, — это еще полбеды, хотя проведение секции будущими докторами и противоречит установленным правилам. Гораздо хуже другое. Везалий задает на лекциях вопросы, которые свидетельствуют о его сомнениях в правоте учения Галена. Гален — непререкаемый авторитет, его учение следует принимать без всяких оговорок, а Везалий доверяет больше своим глазам, чем трудам Галена. Чего, например, стоит его вопрос о слепой кишке, которую Гален считал самостоятельным органом, напоминающим большой мешок и служащим как бы вторым желудком. «Но ведь мы ясно видим, что это не так», — заявляет Везалий, держа в руках отсеченную слепую кишку. Сильвий опять недовольно морщится. Самоуверенный молодой человек набрался наглости подвергать сомнению самого Галена! — Вы что же, не верите Галену? — спрашивает он студента. — Я верю своим глазам, господин профессор. Думаю, и вы верите им. — Гм… Так какой же вывод вы хотите сделать? — Вывода пока нет, господин профессор, есть факт. Как к нему относиться? — Как относиться? — переспрашивает Сильвий. — Относиться спокойно. Не можете же вы утверждать, что великий Гален ошибался. Нет, он не мог ошибаться. Ну а то, что демонстрируете вы, есть аномалия, отклонение от нормы. Клавдий Гален описал нам двуногого человека. Но если вы встретите одноногого, что же, тоже будете утверждать, что Гален ошибался? Взрыв хохота встречает слова профессора. Сильвий доволен. Но Везалий невозмутим. Его мало трогает смех студенческой братии. Обидно лишь то, что уважаемый профессор не понимает его и сводит к шутке вопрос, который имеет принципиальное значение. Ведь он же видит, что это никакое не отклонение от нормы. Профессор просто верен тем канонам преподавания, которые утвердились в университетах и колледжах. И он, даже видя белое, все равно будет твердить, что это черное, если так повелось в учебной практике исстари. Эта безраздельная власть авторитетов мешает людям мыслить. Ведь всякое отступление от сказанного признанным авторитетом рассматривается как кощунство. Однако тот же Гален не господь бог. Он человек и может ошибаться, заблуждаться. Должен же кто-то сказать об этом во всеуслышание! Да, Гален ошибался, и ошибался не раз. Везалий может доказать это фактами. Гален и не мог не ошибаться. Ведь он большей частью ограничивался тем, что вскрывал трупы животных. Вполне понятно, что, давая описание внутреннего строения человека на основании своих наблюдений над животными, он не мог избежать ошибок. Но как убедить своих коллег, весь ученый мир, что Гален вовсе не такой непогрешимый авторитет, каким его представляли? Во времена Везалия взгляды Галена считались абсолютно непогрешимыми, его учение было возведено в ранг канона. Это учение разделяла церковь. И конечно, церковь не позволит, чтобы кто-то подверг сомнению «вечные истины», провозглашенные Галеном. Да не только критика Галена была чревата серьезными последствиями. Даже анатомирование трупов, которым занимался молодой Везалий, могло обернуться против него. А без этого — Везалий был в том убежден — вообще немыслима медицина, ибо анатомия — основа медицины. Не зная внутреннего строения организма человека, невозможно выработать методы борьбы с болезнями. А это первая и главная задача медицины. Для того чтобы иметь возможность заниматься анатомированием, он использовал любую возможность. Если заводились в кармане деньги, он договаривался с кладбищенским сторожем, и тогда в его руки попадал труп, годный для вскрытия. Если же денег не было, он, прячась от сторожа, вскрывал могилу сам, без его ведома. Что делать, приходилось рисковать! Три года провел Везалий в университете, а потом обстоятельства сложились так, что он должен был покинуть Париж и отправиться в Лувен, где был тоже достаточно известный университет. — Ну что же, Везалий, — сказал ему на прощание Якоб Сильвий. — Вы сделали немалые успехи и, если будете благоразумны, думаю, добьетесь многого на медицинском поприще. Я повторяю — благоразумны, ибо, прибавив это качество к своим достоинствам, вы много бы выиграли. Если же вы пренебрежете им, я лично не поручусь за ваше будущее. А некоторое время спустя Якоб Сильвий получил известие о том, что его ученик Везалий попал в неприятную историю и вынужден был оставить Лувен. Он снял с виселицы труп казненного преступника и произвел вскрытие. Лувенское духовенство потребовало строжайшего наказания за такое кощунство. А вступать в конфликт с церковью значило заведомо проиграть. Церковь же намеревалась всерьез заняться «делом» Везалия. Раздавались голоса, требовавшие предать суду того, кто посмел производить какие-то опыты над человеческим телом. Как-никак тело являлось вместилищем человеческой души. И даже после того, как она покинула его, никому не было дано права резать тело. Вначале Везалий пробовал что-то объяснять, доказывать, но затем понял, что споры тут бесполезны, и счел за благо покинуть Лувен. Получив эту весть, Якоб Сильвий покачал головой и вздохнул: — Я говорил ему, надо быть благоразумным. Он не внял моим советам. И, немного помолчав, добавил: — Ему будет очень трудно в жизни. Очень трудно.2
Лувен остался позади: городская стена, над которой возвышались остроконечные башенки с флюгерами, уходила все дальше и дальше, пока не растаяла в туманной дымке. Пылилась дорога. Впереди был долгий путь. В Италию. В Падую. Везалий не сразу принял решение, долго думал о том, какой город избрать, куда направиться, для того чтобы иметь возможность продолжать работу. Голова его была полна замыслов, руки жаждали работы. Он перебирал возможные варианты и в конце концов принял решение ехать в Падую, откуда несколько лет назад получил официальное приглашение. В этом итальянском городе был достаточно известный университет, преподавать в котором было лестно для любого ученого. На медицинском факультете было немало молодых преподавателей, а молодежь, как думал Везалий, скорее поймет его, чем старики, которые уже не могут вырваться из-под власти галеновского авторитета. Поначалу все складывалось для него благоприятно. В Падуанском университете его хорошо встретили, предложили подготовиться к сдаче экзаменов на получение ученой степени. Да и вообще здесь дышалось легче, чем в Париже и Лувене. Ведь Италия во времена Везалия была той страной, на земле которой начала свою жизнь новая эпоха — эпоха Возрождения, или Ренессанса, пришедшая на смену средневековью. Она была, по словам Энгельса, родиной «жизнерадостного свободомыслия нового времени». Само понятие «возрождение» говорит о стремлении возродить то, что, казалось, навсегда ушло из жизни. Новая эпоха вступила в историю под флагом возрождения античной культуры, светлой, жизнерадостной, утверждавшей разум и красоту человека. Она противопоставлялась средневековому застою, жизни, насильственно втиснутой в прокрустово ложе церковных догм, обычаев и ритуалов. И не случайно, замечает советский ученый А. Лосев, «ни одна эпоха в истории европейской культуры не была наполнена таким огромным количеством антицерковных сочинений и отдельных высказываний». Феодальное общество разлагалось, на смену ему шло общество буржуазное с его деловым практицизмом, который ломал сковывавшие его рамки воздвигнутых христианской церковью условностей. Церковь вынуждена была в какой-то мере сдать былые позиции, отказаться от безраздельного господства над духовной жизнью людей, смириться с властными требованиями времени. Но она продолжала оставаться влиятельной силой. Она не изменила своего отношения к науке. Прежними остались ее представления, незыблемыми «священные догматы». Продолжала существовать инквизиция, продолжали в поте лица трудиться тюремщики и палачи, выполняя постановления церковных судов, сурово осуждавших вольнодумцев и свободомыслящих. И все же дух новой эпохи сказался на той обстановке, которая сложилась в итальянских университетах, в том числе и в Падуанском, где обосновался Везалий. И это поднимало настроение, вселяло надежды. Вскоре Везалий был допущен к экзамену на получение ученой степени и блестяще выдержал его. Он стал доктором медицины, что открывало для него новые возможности и перспективы. В качестве профессора медицинского факультета он начал читать лекции студентам. Тщательно готовился к ним, читал вдохновенно, и они всегда привлекали много слушателей. Они были интересны тем, что не повторяли избитых истин, а излагали результаты тех исследований, которыми занимался Везалий. А он, изучая внутреннее строение человеческого организма, все больше укреплялся в мысли, что в учении Галена немало весьма значительных ошибок, которых просто не замечали те, кто находился под влиянием галеновского авторитета. А может быть, и не желали их замечать. Ведь каждое новое слово в науке дается с боем. Надо доказывать, отстаивать свою точку зрения, вступая в конфликт с теми, кому гораздо спокойнее находиться во власти установившихся представлений, идти по проторенному пути, чем искать новый, неизведанный. Гален был великим врачом своего времени. Но время не стоит на месте. С той поры, когда он жил, человеческое познание ушло вперед. И познание человеческого организма тоже. Целый ряд положений, соответствовавших уровню знаний его эпохи, нуждалось в уточнении, пересмотре. Это естественный процесс, который понятен каждому. И лишь крайние консерваторы и ретрограды не желают того понимать. Им спокойнее и удобнее отстаивать старое, преграждая путь новому. Такие же позиции занимала и церковь. Она боялась нового потому, что оно требовало пересмотра и церковных взглядов на те или иные вопросы. А богословие всегда претендовало на истинность своих представлений. Богословы боялись, что все изменения, которые они внесут в эти представления, поколеблют авторитет религиозного вероучения, авторитет церкви. Потому и стояли они на защите традиционных взглядов даже тогда, когда была очевидна их несостоятельность. Везалий знал, как дорого обходится любая ошибка в медицине. Значит, надо исправить эти ошибки, дать правильное описание человеческого организма, ибо без этого медицина будет топтаться на месте, не сможет развиваться. Конечно, потребуется много усилий и труда, борьба с застоем, косностью, со слепым преклонением перед авторитетами. Но без этого медицина не сможет развиваться. Начались годы напряженной работы над многотомным сочинением о внутреннем строении человеческого организма. Его невозможно было создать за письменным столом. Опровергнуть Галена можно было только с помощью фактов. А их давал лишь опыт. Поэтому каждое положение требовало многократной проверки, каждой фразе в трактате Везалия предшествовали многочисленные исследования. Невозможно подсчитать, сколько часов провел он у секционного стола. Каждый орган изучался тщательно, скрупулезно. Везалий делал зарисовки, которые наглядно подтверждали его правоту. А потом началось сравнение с тем описанием различных органов тела, которые оставил Гален. Четыре долгих года работал он над своим трудом. В 1543 году семитомный труд «О строении человеческого тела» вышел в свет в Базеле в издательстве Опорина.3
— Безумец! Безумец! Профессор Якоб Сильвий нервно ходил по кабинету, не находя себе места. Он был вне себя от гнева. — Безумец, — повторял он. — Он поднял руку на самого Галена, на великого Галена. Он захотел затоптать в грязь самое святое. Ну нет, так это ему не пройдет. В кабинете никого не было, и Сильвий мог дать волю своим чувствам. Консерватор и рутинер, Якоб Сильвий не мог простить подобной дерзости своему ученику. Для профессора Гален был иконой, на которую следовало молиться. Книгу, в которой подвергались пересмотру некоторые положения галеновского учения о строении организма, Сильвий воспринял как выпад против него самого. — Ничего, ничего, — вслух говорил Сильвий. — Я отвечу ему. Я покажу, чего стоят его открытия, покажу всем, чтобы мир увидел, что Везалий — песчинка жалкая по сравнению с Галеном, титаном мысли, учение которого будет жить вечно. Это были не пустые угрозы. Сильвий поклялся, что уничтожит своего бывшего ученика. И он начал действовать. Вскоре появился написанный Сильвием памфлет, в котором опровергались доводы, выдвинутые Везалием, содержались призывы к самому строгому наказанию того, кто неуважительно отнесся к великому Галену, посмел усомниться в правоте его учения. Памфлет назывался «Опровержения клевет некоего безумца на анатомию Гиппократа и Галена, составленные Якобом в Париже». Сильвий выступил против своего ученика. Памфлет был острым, написанным в раздражительном тоне. Но при всем своем желании его автор не мог опровергнуть ни одного положения, выдвинутого Везалием. Да он и не стремился к этому. Ему было важно показать, что дерзкий выскочка покусился на авторитет того, перед которым почтительно преклоняли голову самые именитые медики многих поколений. Сильвий осыпал бранью бывшего своего ученика, возомнившего себя достойным спорить с самим Галеном. Везалий предвидел, как обернутся события после опубликования его трактата «О строении человеческого тела». Еще раньше он писал: «…мой труд подвергнется нападкам со стороны тех, кто не брался за анатомию столь ревностно, как это имело место в итальянских школах, и кто теперь уже в преклонном возрасте изнывает от зависти к правильным разоблачениям юноши». Памфлет Сильвия вызвал подлинную бурю. Полный злобных выпадов и клеветы, он был бездоказателен, но гневен и оскорбителен. Потоки ругани полились на голову Везалия, на тех молодых ученых, которые не желали мириться с застоем в науке. Сильвий требовал расправы над ними. Он переступил через барьер научной полемики, заняв позиции сродникатолическим инквизиторам. Он не погнушался тем, чтобы обратиться к самому императору с требованием примерно наказать Везалия. «Я умоляю Цезарское Величество, — писал профессор Якоб Сильвий, — чтобы он жестоко побил и вообще обуздал это чудовище невежества, неблагодарности, наглости, пагубнейший образец нечестия, рожденное и воспитанное в его доме, как это чудовище того заслуживает, чтобы своим чумным дыханием оно не отравляло Европу…». Ослепленный злобой Сильвий отступал от принятого в науке стиля письма, сбиваясь на стиль заурядного доносчика. Он желал погубить Везалия и добивался своего. Сильвий все предусмотрел. Он знал, что учение Галена канонизировано в науке, что его имя пользуется беспрекословным авторитетом повсюду и, конечно, ученый мир выступит в его защиту против нападок Везалия. Большинство именитых медиков действительно стали на сторону Сильвия. Они присоединились к его требованию обуздать и наказать Везалия, посмевшего подвергнуть критике великого Галена. Такова была сила признанных авторитетов, таковы были устои общественной жизни того времени, когда всякое новшество вызывало настороженность, всякое смелое выступление, выходившее за рамки установленных канонов, расценивалось как вольнодумство. Это были плоды многовековой идеологической монополии церкви, насаждавшей косность и рутину. Немудрено, что трудом Везалия заинтересовалась и католическая церковь. Ведь, внося поправки в учение Галена, он вольно или невольно задевал и церковное учение, а это уже была ересь. Церковь, например, основываясь на библейском мифе о сотворении богом первых людей, учила, что господь, создав первого мужчину Адама из праха земного, затем усыпил его, вынул ребро, из которого сотворил праматерь человечества — Еву. Значит, у мужчин должно быть на одно ребро меньше, чем у женщин. Так требовала элементарная логика, если доверять библейскому сказанию. И в это верили, слепо верили люди. Никто даже не думал проверить, так это или нет. Церковное учение принималось на веру. А Везалий проверил. Он вскрыл десятки трупов, тщательно изучил скелет человека и пришел к убеждению, что мнение, будто у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин, совершенно неверно. Но такое убеждение затрагивало церковное вероучение. Церковь же с подобным не мирилась. Не посчитался Везалий и с другим утверждением церковников. В его времена сохранялась вера в то, что в скелете человека есть косточка, которая не горит в огне, неуничтожима. В ней-то якобы и заложена таинственная сила, с помощью которой человек воскреснет в день страшного суда, чтобы предстать перед господом богом. И хотя косточку эту никто не видел, ее описывали в научных трудах, в ее существовании не сомневались. Везалий же, описавший строение человеческого тела, прямо заявил, что, исследуя скелет человека, он не обнаружил таинственной косточки. Если богословам угодно настаивать на ее существовании, это их дело. Он не богослов, а анатом и, как анатом, заявляет, что как ни старался отыскать заветную кость, сделать этого не смог. Подобное утверждение тоже было еретическим с точки зрения церкви. И тут Везалий задевал христианские представления, которые церковники настойчиво внушали верующим. Везалий отдавал себе отчет, к каким последствиям могут привести его выступления против Галена. Он понимал, что выступает против сложившегося мнения, задевает интересы церкви. А как поступают с такими дерзкими одиночками, он хорошо знал. Еще до Везалия попробовал было обнаружить ошибки в учении Галена профессор Болонского университета Яков Берентарио. Кончилось для него это печально. Его отстранили от преподавания, публично осудили, а затем изгнали из города. Он остался без работы, потеряв возможность заниматься медициной. Везалий знал, что и с ним могут поступить точно так же. А может быть, и хуже, если в дело вмешается инквизиция. Публикуя свой труд, он отдавал себе отчет в том, какие последствия для него это может иметь. И все же он напечатал его. Научная истина была для него дороже личного благополучия. Везалий продолжал преподавать в Падуанском университете, но с каждым днем атмосфера вокруг него накалялась все больше. Профессора, еще недавно с почтением относившиеся к своему молодому коллеге, теперь пренебрегали им, порой не отвечали даже на его поклон. Поредели ряды слушателей на его лекциях: большинство студентов благоразумно перешли к другим профессорам. Вчерашние друзья старались избегать его. То там, то тут слышал он слова осуждения и самые нелепые вымыслы, связанные со своим именем. По городу ходили анонимки, направленные против Везалия. Везалий не сдавался, пытался бороться, отстаивая свои идеи. Но бороться в одиночку очень трудно. Трудно, когда против тебя восстают буквально все. Одни по убеждению, другие — из трусости. Ведь, по словам Сильвия, профессор Андрей Везалий — опаснейший человек и для государства и для церкви. А государство и церковь решительно расправлялись с людьми, которые представляли для них опасность. Общение с такими людьми могло навлечь всякие напасти. Лучше уж было держаться в стороне. Он пытался бороться, но с каждым днем убеждался в тщетности этих попыток. Он не мог вести нечестную борьбу, а его противники отказывались от иных методов. Они делали все возможное, чтобы жизнь Везалия стала невыносимой, чтобы он понял это и сдался. Положение усугублялось тем, что делом Везалия всерьез занялась церковь. Первоначально духовенство просто подключилось к общему хору противников знаменитого анатома, приняв участие в его травле. Теперь же дело начало принимать иной оборот. Если церковь поставит вопрос о Везалии на официальную почву и предъявит ему свои обвинения, ему несдобровать. А до него доходили сведения о том, что церковные иерархи всерьез занялись его сочинением. Это был тревожный симптом. К нему требовалось отнестись со всей серьезностью. Надо было как можно быстрее принимать решение. Время торопило.4
Знакомясь с жизнеописаниями многих мыслителей прошлого, мы часто встречаемся с одинаковыми жизненными ситуациями: бегство из города, поиски пристанища, странствия по дорогам Европы. Почти у всех передовых мыслителей, которым довелось жить и творить в прошлые эпохи, схожая судьба. Они вступали в борьбу с церковью, которая беспощадно расправлялась со своими противниками, и вынуждены были скрываться от преследований, проводить жизнь в скитаниях, чтобы избежать расправы. Наступил черед и Везалия. Он видел: надеяться больше не на что, знал, что в атмосфере осуждения, травли, злобной клеветы над ним в любую минуту могут учинить расправу. Ему было горько расставаться с Падуей, с университетом, прерывать свою работу, исследования. Но иного выхода он не видел. Как раз в это время он получил приглашение испанского императора Карла V занять место придворного лекаря. Двор императора находился в то время в Брюсселе. Карлу служил еще отец Везалия, и молодой профессор принял предложение императора. Конечно, в Брюсселе у него не будет кафедры, он не сможет заниматься со студентами. Но зато императорский двор послужит для него надежным укрытием от преследований церкви. К тому же у него будет возможность заниматься анатомией, этому никто мешать не будет. Таким образом, место придворного лекаря, хотя оно было и не по душе Везалию, имело свои преимущества. И все-таки трудно было найти более неподходящую должность для Везалия. Он был ученым, исследователем. Теперь же ему надо было усваивать весьма далекие от науки принципы: уметь угождать своим знатным пациентам, улавливать их мысли, участвовать во всех придворных церемониях. Придворный лекарь должен был не только лечить. Он должен был потакать капризам влиятельных особ, быть в курсе дворцовых интриг и сплетен. Здесь приобретало цену не столько врачебное искусство, сколько искусство вписаться в разнаряженную толпу титулованных бездельников, ведущих светский образ жизни. Это было мучительно, но что поделаешь, надо было приспосабливаться. Для Везалия было пыткой надевать придворный мундир, принимать участие в раутах, бывать на предусмотренных этикетом пышных императорских приемах, соблюдать установленные обычаи двора. Его угнетала вся эта обстановка. Везалий со щемящим сердцем вспоминал о благодатном времени, проведенном в Падуанском университете. Сколько он сумел сделать в Падуе! Вернется ли когда-нибудь то счастливое время? Эта мысль ни на день не покидала его в период пребывания при дворе испанского императора. Однако и в этих условиях он не прекращал той работы, которой посвятил жизнь. Все свободное время Везалий отдавал трактату «О строении человеческого тела». Вносил поправки, дополнения, уточнял то, что казалось ему не совсем убедительным. Используя любую возможность, он занимался анатомированием. Но мысль, что он оторван от научных центров, что исследовательская деятельность стала для него побочным делом, угнетала Везалия. Он мечтал вновь вернуться на научную кафедру. Но реально Везалий даже помышлять не мог о том, чтобы оставить Брюссель и перебраться в иное место, где смог бы заняться работой по душе. Стоило ему оставить императорский двор, как инквизиция вновь проявила бы к нему интерес. Вот почему в самые тоскливые минуты жизни Везалий убеждал себя в том, что надо примириться с обстоятельствами. Ему удалось вторым изданием выпустить в свет свой трактат «О строении человеческого тела». Это было лишь короткое счастливое мгновение за все эти годы, а потом все пошло по-прежнему. Потянулись длинной чередой один за другим однообразные дни. Но вот пришел конец пребыванию Везалия при императорском дворе. Его покровитель Карл V отрекся от престола, удалился в монастырь и вскоре умер. На престол вступил Филипп II, злобный садист, ненавидевший весь мир, желчный, злой человек. Он не любил Везалия и открыто высказал ему свою неприязнь. Этим поспешили воспользоваться многочисленные завистники и недруги придворного лекаря. А их было немало. Расположение Карла к Везалию вызывало к нему неприязнь у многих придворных. Были и лекари, которые стремились занять место Везалия. Они не остановились перед сплетнями и грязными доносами, пытаясь очернить его в глазах Филиппа II. Отношение нового императора к Везалию ухудшилось еще более. От Филиппа можно было ожидать всего, и никто не удивился бы, если бы он решил выдать своего придворного врача в руки инквизиции. Везалий чувствовал, что ему надо как можно быстрее уехать из Брюсселя. Он сделал попытку вырваться из-под власти нового императора, обратился с просьбой отпустить его в Италию. Но своенравный Филипп категорически воспротивился этому. Лакей может покинуть своего хозяина лишь тогда, когда тот сам решит изгнать его. Что ж, и тут приходилось смириться. Ведь он был подневольным императора. Нестерпимая тоска терзала его сердце. Теперь он не мог и думать об исследовательской работе. При Филиппе суровые запреты церкви анатомировать трупы вновь коснулись Везалия. Ему, было предписано заниматься только своими непосредственными обязанностями. Монарху нужен был лекарь, а не ученый, которого интересовало строение организма. Пусть этим занимаются в университетах. А лекарю надлежит исцелять придворных особ. За это ему платят жалованье. Обстановка для Везалия была тяжелой. Он чувствовал, что недоброжелатели следят за ним, чтобы при первой возможности сообщить императору о нарушении его запретов. Везалий с горечью писал об этом времени: «Я не мог прикоснуться рукой даже к сухому черепу, и тем менее я имел возможности производить вскрытия». Однако как ни старался Везалий не давать повода церковникам для каких бы то ни было обвинений, это оказалось не в его силах. Церковь давно искала предлог для того, чтобы свести с ним счеты. У инквизиторов была хорошая память, они не забыли прошлого. Но если при Карле V церковники не решались начать преследование Везалия, то при Филиппе почувствовали, что долгожданный момент наступил. На Везалия вновь полились потоки клеветы. В довершение всего ему было предъявлено ложное обвинение в том, что он анатомировал живого человека. Везалий пытался доказать свою невиновность, но все было тщетно. Он должен был повиноваться. Приговор церкви был категоричен: придворный медик Андрей Везалий должен был во искупление грехов отправиться на поклонение в «святые места» ко гробу господню… В конце концов, все могло кончиться хуже, успокаивали его друзья. Для инквизиции этот приговор был достаточно мягким. Другим естествоиспытателям пришлось расплачиваться куда более дорогой ценой. Что поделаешь, надо смириться и совершить паломничество в Иерусалим, как предписано церковью. Ранним утром на купеческом корабле, отплывавшем из Венеции, Андрей Везалий отправился в путь…5
В один из октябрьских дней 1564 года на острове Занте, омываемом водами Ионического моря, в маленьком домике, окруженном зарослями маквиса, умирал великий человек. Современники именовали его «несравненным», «гением природы», «славой врачебного искусства». Поэты посвящали ему свои стихи. Его имя называли в ряду величайших ученых мира. А он умирал вдалеке от родной земли, от семьи, одинокий и затравленный, словно преследуемый по пятам зверь. Так трагически закончил жизнь замечательный ученый Андрей Везалий. О последнем периоде его жизни имеются слишком скудные сведения. По одним из них, которые представляются наиболее достоверными, он, возвращаясь из Иерусалима, тяжело заболел, высадился на острове Занте, где и умер в одиночестве. По другим — корабль, на котором он плыл, потерпел кораблекрушение и был выброшен на остров Занте, где и скончался «великий паломник». Везалий разделил участь многих передовых ученых, которым церковь не простила выступлений против ее канонов. Прошли годы. Заросла травой могила ученого. Дожди смыли надпись на могильной плите. Но сохранились слова поэта, посвятившего их Везалию:Этот Везалия прах и народами чтимые кости,
Остров, в какой бы дали ты не скрываешь в себе,
Путник, шаги задержи и о делах позабудь,
Помни, что гений природы здесь пред тобою…
Погибший в борьбе



Время действия — XVI век. Место действия — Франция.
1
В Париже свирепствовала чума. Она косила людей без разбору, проникая не только в лачуги бедняков, но и в дворцы вельмож. Она не в первый раз поражала город, и люди знали, какой дорогой ценой приходится им расплачиваться во время эпидемий «черной смерти». По опустевшим улицам громыхали колесами телеги с накрытыми рогожей телами ее жертв, которым, казалось, не будет конца. На перекрестках жгли костры. Дым висел над Парижем, окутывая дома, как во время пожарищ. На дверях многих зданий были намалеваны кресты. Только всемогущий и милосердный бог мог помочь избавить город от этой страшной напасти. Над городом плыл колокольный звон. В набитых до отказа храмах служили молебны. Пастыри обращались к господу с мольбами сменить гнев на милость, а к прихожанам — с укором в том, что это за их прегрешения всевышний наслал суровое испытание на своих чад. Те, у кого была возможность, спасались бегством. Куда-нибудь, только подальше от этого ада, от смерти, витавшей над каждым, кто оставался в городе. Все пути вели из Парижа. И ни один из них — в Париж. В эти драматические дни 1545 года полной неожиданностью для окружающих было появление в столице Франции Петра Рамуса[1]. Он покинул город в самом начале эпидемии, отправившись в родную Пикардию, где жили его мать, его дядя, которому он был стольким обязан. И вдруг, прервав свое сельское уединение, вернулся в осажденный чумой Париж. Тому была своя причина, сыгравшая немалую роль в дальнейшей его судьбе. Рамус получил послание из Парижа с предложением преподавать в Коллеж де Прель. Ему, осужденному королевским указом, обвиненному в безбожии, отстраненному от чтения лекций в университете, неожиданно представилась возможность вновь подняться на кафедру, заняться делом, которому он посвятил жизнь. Разве мог он упустить такой случай? И он устремляется в Париж, пренебрегая опасностью для жизни, ибо все равно без любимого дела жизни для него нет. Наверное, немногим был понятен его поступок, но Рамуса это мало интересовало. Он привык равнодушно относиться к людской молве, не обращать внимания на то, что говорят о нем за его спиной. У него была жизненная цель, к которой он шел прямо, не сворачивая с избранного пути. Его встретил Николя Лессаж, возглавлявший коллеж, произнес несколько торжественных фраз, расточая похвалы Рамусу, потом сам отвел его в помещение, где тому предстояло жить, и оставил одного. Рамус сел в кресло перед столом, с наслаждением расслабился: путь в Париж был долгим и изнурительным. Но, утомленный физически, Рамус чувствовал необычайный подъем духа после тех дней отчаяния, которые ему довелось пережить. Его обвинили в том, что он сеет смуту в умах молодежи, учит непочтительному отношению к признанным авторитетам, и даже — подумать только — в безбожии. Недруги ученого смогли ввести в заблуждение самого короля, и Франциск подписал приговор, который практически лишал Рамуса возможности продолжать научную деятельность и преподавать. В приговоре, в частности, говорилось о двух его последних книгах: «Мы приговариваем, осуждаем, запрещаем две вышесказанные книги, запрещаем всем издателям и всем книгопродавцам нашего королевства, всех его земель и сеньорий, и всем нашим подданным, кем бы они ни были, где бы они ни находились, издавать, публиковать, продавать, давать на прочтение в нашем королевстве и во всех землях и сеньориях сии книги. А также, чтобы упомянутый Рамус не смел ни читать, не давал бы списывать, ни печатать, ни распространять эти книги, а также, чтобы он не осмеливался нигде преподавать ни философию, ни диалектику, а также, чтобы нигде и никогда не дерзал злокозненно хулить ни Аристотеля, ни всех иных древних авторов, ни нашу любимую дочь — университет». Это была чудовищная несправедливость, результат происков его недругов. Рамус никогда не хулил Аристотеля и иных древних мыслителей, к которым относился с почтительностью и уважением. Он выступал против той схоластической науки, которая ничего не желала знать, кроме авторитета Аристотеля и других мыслителей античного мира. Она начиналась и заканчивалась их изречениями, которые рассматривались в качестве вечных истин. Более того, высказывания античных авторитетов подвергались искажениям, весьма вольной интерпретации, подгонялись под те схоластические схемы, которые создавались в стенах университетов и коллежей. Да сам Аристотель, будь он жив, возмутился бы против такого использования его научного наследия. И Рамус честно и открыто заявил о том, что истинная наука не должна опираться на незыблемые авторитеты. Она должна развиваться, искать, открывать. Лекции Рамуса, его публичные выступления вызывали огромный интерес. Молодежь до отказа заполняла аудитории, где он выступал, встречала его рукоплесканиями. Но большинство ученых мужей, насупив брови, воспринимали его смелые заявления как выпады против своих собратьев, как попытки унизить и принизить их. Еще больше распаляло их то, что Рамус неизменно одерживал победы в диспутах. Его логика, остроумие, блестящий ораторский дар обеспечивали ему неоспоримое преимущество во время дискуссий с противниками. На Рамуса сыпались доносы. И пожалуй, самым серьезным обвинением из всех, которые ему предъявлялись, было обвинение в безбожии. Это было время, когда во Франции, как и в других странах, росло влияние протестантизма — религиозного течения, выступившего против господствовавшей в Западной Европе католической церкви во главе с папой римским, объявившим себя наместником Христа на земле. Притязания католицизма на безраздельную духовную власть над людьми, лицемерие, алчность, корыстолюбие служителей церкви вызывали оппозицию к церкви во всех слоях общества. С того октябрьского дня 1517 года, когда августинский монах Мартин Лютер вывесил на дверях Замковой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, направленные против католицизма, началось широкое протестантское движение не только в Германии, но и в других странах, где доселе непререкаемым был авторитет папской власти. Идеи протестантизма проникли и во Францию. Число их приверженцев, которых здесь именовали гугенотами, росло изо дня в день. Но католическая церковь не собиралась без борьбы сдавать свои позиции. Там, где она только могла, она преследовала протестантов. Они объявлялись еретиками, посягнувшими на священные устои истинной веры. Инквизиция расправлялась с ними, стремясь устрашить людей, подавить антикатолические настроения. Обвинения в безбожии могли привести обвиняемого на скамью подсудимых. А представший перед судом инквизиции мог считать себя заранее осужденным. Судьи в сутанах крайне редко выносили оправдательные приговоры. Обвинение Рамуса в безбожии могло для него кончиться трагически. Но он не сдавался. Он боролся. Боролся не ради личных выгод, а ради блага науки, которой он посвятил всю свою жизнь. Потому и был Рамус так несказанно обрадован возможностью вновь заняться преподаванием в Коллеже де Прель. Потому и пренебрег опасностями, поспешив в Париж во время эпидемии чумы. Коллеж был не очень именит. Основанный еще в 1314 году королевским секретарем Раулем де Прелем, он находился в середине XVI столетия в упадке. Лессаж был глубоким стариком, не имевшим сил для того, чтобы поддерживать в нем порядок. Но и уходить на покой он не хотел. Он предложил Рамусу взять дело в свои руки, с тем чтобы самому числиться главой заведения. Рамус, не раздумывая, согласился. Он истратил все свои сбережения на то, чтобы перестроить здание коллежа, отдал все силы для того, чтобы перестроить процесс преподавания в нем. А блистательные лекции Рамуса сразу же привлекли внимание молодежи, сделав Коллеж де Прель одним из самых популярных учебных заведений Парижа. И конечно, сразу же полетели новые доносы. Рамусу пришлось тратить время и силы на то, чтобы оправдываться, отвергая те обвинения, которые ему предъявлялись. Ему запретили читать лекции по философии? Он не нарушил запрета. Он преподавал риторику. Ему запретили издавать свои сочинения? Он не издал ни одного. А что касается тех реформ в преподавании, которые он ввел в коллеже, то о них в королевском приговоре не было ни слова. И разве можно считать крамолой то, что с помощью этих реформ Рамус стремился заставить своих учеников самостоятельно мыслить и рассуждать, а не заучивать готовые формулы, не воспринимать без раздумий чужие мысли? Но доносы продолжали идти. Рамуса обвиняли в том, что он «портит молодежь», прививая ей «дерзость, эгоизм, алчность, бесчестье и предательство». Рамусу приходилось писать объяснения, оправдываться. Впрочем, нет, он не оправдывался. Он обвинял своих недругов в косности. Ведь они чинили козни не только ему, они ставили преграды на пути развития знания. Они были врагами знания, противниками развития науки. Рамусу было трудно, но он не опускал руки. Жизнь закалила его. Закалила бедность, в которой прошли его детские годы. В ту пору, когда его коллеги кичились знатностью происхождения, он с гордостью говорил, что он крестьянский сын, упорным трудом выбившийся в люди. Рамус не кривил душой. Он еще в раннем детстве проявил редкое упорство. Подумать только, в восьмилетием возрасте он отправился пешком в Париж, без гроша в кармане, мечтая лишь об одном — учиться. Он осуществил мечту, когда ему исполнилось двенадцать лет. Не по летам самостоятельный, он поступил в услужение к богатому военному. Зато он сам зарабатывал на жизнь, а это давало ему возможность учиться в коллеже. Он недосыпал, занимаясь ночью или на рассвете до боли в глазах. Слишком дорогой ценой доставались ему знания, к которым он стремился. Он мог бы сказать про себя, что прошел все: огонь, воду и медные трубы. И когда на него ополчились те, кто увидел в его реформах угрозу сложившейся системе преподавания, устоям схоластического мышления, он принял вызов. Им удалось однажды одолеть его. Но предстояли новые схватки, трудная и упорная борьба.2
В длительной борьбе победы сменяются поражениями, а на смену неудачам приходят удачи. Настало время и Петра Рамуса. Он связывал благоприятный для него поворот событий с восшествием на французский престол короля Генриха II. Новый монарх отменил прежнее постановление, запрещавшее Рамусу преподавать философию и издавать книги. Более того, он направил ученому личное письмо, в котором сообщал, что ему присваивается звание «королевского лектора» и предоставляется кафедра в одном из виднейших учебных заведений, в Коллеж де Франс. Конечно, королю и в голову бы не пришло заниматься делом Рамуса. Просто приближенные к нему покровители ученого убедили его в том, что Рамус оказался невинной жертвой интриг и король может сделать жест, который принесет ему славу «покровителя науки». Как бы там ни было, Рамус одержал победу над своими противниками, которые должны были затаиться, до поры до времени оставив его в покое. А он, воспользовавшись предоставленными ему правами, отдавал всю свою энергию, читая лекции теперь в двух коллежах, ратуя за перестройку учебного процесса, которую считал делом своей жизни. Аудитории на его лекциях всегда были заполнены до отказа. Его принимали восторженно. Вопреки сложившемуся обычаю, он не читал ту книгу, содержание которой излагал, а говорил свободно, не обращаясь к заранее написанному тексту. Он остроумно отвечал на доводы своих противников. Противники Рамуса притаились, но порой делали свои вылазки, словно пытаясь напомнить о том, что они только ждут времени вновь начать борьбу против дерзкого вольнодумца. Однажды, когда Рамус был приглашен читать курс в Коллеж Камбре, они предприняли попытку сорвать первую лекцию. Им удалось уговорить часть школяров встретить лектора свистом и гиканьем. Такая неожиданная встреча не выбила Рамуса из колеи. Он не смутился, а как ни в чем не бывало начал говорить, не обращая внимания на тех, кто стремился ему помешать. Он говорил так увлеченно, весь уйдя в предмет излагаемой науки, что сумел заинтересовать своих слушателей. Аудитория притихла. А последние слова, произнесенные Рамусом с кафедры, утонули в рукоплесканиях. Неудача распалила противников Рамуса. В парламент посылались новые доносы со старыми обвинениями. Против Рамуса были направлены книги, памфлеты, в которых ученого поносили за то, что он будто бы сеет неверие в умах молодежи. Их авторов бесило то, что Рамус словно не реагировал на все эти выпады, оставался спокойным и невозмутимым. А еще больше — та слава, которая распространилась далеко за пределами Франции о мыслителе, выступавшем против закостенелой схоластики, за свободное развитие науки. Поводом для новой травли ученого дало его заявление о переходе в протестантскую веру. Случилось это в 1561 году. Можно предполагать, что в значительной мере принятое им решение порвать с католицизмом было вызвано тем, что именно католическая церковь цепко защищала незыблемость всего того, что было ею освящено раз и навсегда. Она стремилась сохранить средневековые порядки, видя в любом новшестве угрозу своему авторитету. Она превратила науку в служанку богословия. А тут наука вдруг начинала претендовать на самостоятельную роль. Конечно, допустить этого церковь не могла. В одной из своих работ Рамус выступил за просвещение народа. Наука, считал он, не должна быть достоянием богатых и знатных. Она должна быть доступна всем, в том числе и беднякам. Что касается средств на обучение, то их вполне могли бы предоставить монастыри, представители духовенства. Можно себе представить, как отнеслись служители католической церкви и монашество к этой идее. Ярые противники просвещения масс, они, естественно, восприняли ее как покушение на свои богатства. Понимал ли Рамус все это? Видимо, понимал. Во всяком случае, его переход в протестантизм был прямым вызовом католицизму. Кроме неприятностей, этот шаг ничего ему не сулил. Во Франции к тому времени было уже немало приверженцев протестантизма. Но они постоянно подвергались нападкам со стороны католиков. Не раз гугеноты становились жертвами религиозной нетерпимости, не раз платили жизнью за отступничество от католической веры. В 1562 году парижский губернатор издает приказ всем протестантам покинуть город. Тем, кто ослушается, он угрожает физической расправой. Рамус хорошо знал, что это не пустая угроза. Дважды на него организовывается покушение. Только чудом ему удается избежать гибели. Верные друзья убеждают его, что надо бежать. Под покровом ночи, переодетый в костюм мастерового, он пробирается тайком по запутанным парижским улицам, прижимаясь к стенам домов, когда по булыжным мостовым гулко топают кованые сапоги солдат. Благополучно миновав городские ворота, он затем, обходя стороной дороги, бредет как бездомный бродяга по лесам и полям, ища пристанища, где он бы мог не опасаться быть схваченным и растерзанным. Он находит пристанище у одного из своих друзей в глухой деревушке. В холодные вечера у жарко пылающего очага, помешивая угли, он не перестает думать о том, что же сталось с его учениками там, в Париже, в городе, где разыгрались жесточайшие религиозные распри. Но ни на минуту ему не приходит мысль о том, что он совершил ошибку, порвав с католицизмом. Напротив, война, объявленная католиками протестантам, убеждала его в правильности принятого решения. Наконец в марте 1563 года в Амбуазе католики и протестанты приходят к мирному соглашению, которое, казалось, кладет конец преследованиям гугенотов. И Рамус спешит в Париж, полный надежд и планов. И вновь он выступает против схоластики в науке, подвергает критике Аристотеля, авторитетом которого прикрывалось ученое невежество. Требование Рамуса — изучать и исследовать, а не воспринимать бездумно мнения самых крупных авторитетов. Он заявлял, что никогда не пользовался для подтверждения своих мнений ссылками на священное писание, на Моисея или Христа, а опирался на философские аргументы. Он готов принять любые аргументы своих противников, спорить с ними, но только не ссылками на авторитетные имена. Эти ссылки не могут быть доводами в научных спорах. Круг интересов Рамуса огромен. Он занимается философией и логикой, риторикой и грамматикой, геометрией и арифметикой. Он проявляет интерес к астрономии, увлекается оптикой. А наряду с этим выступает с проектом реформы образования. Слава Рамуса достигает крупнейших университетов Европы. Его приглашают в Германию и Швейцарию. Его старается заполучить к себе Болонский университет. А во Франции он продолжает оставаться объектом злобных нападок. Нападки его противников действительно злобны. В появляющихся то и дело пасквилях речь идет даже о крестьянском происхождении ученого и его внешности. И все те же обвинения в безбожии, в ереси, в отступлении от католической веры. А дальше — еще больше. Его противники подсылают к Рамусу наемного убийцу. Однако тому пришлось убедиться, что ученый обладает недюжинной физической силой. Он сумел обезоружить его и вышвырнуть из дома. Для молодых людей, которых подговорили напасть на коллеж, где преподавал Рамус, хватило слов. Тот, кому они угрожали расправой, вышел к ним сам и настолько убедительно объяснил им, что их сделали исполнителями недоброй воли, участниками нечистой игры, что они удалились восвояси. И так всю жизнь. В схватках с противниками, в борьбе с клеветниками и пасквилянтами, в постоянном ожидании самых неожиданных ходов со стороны тех, кто пытался заглушить его голос в защиту научного познания природы. Между тем мир, заключенный между католиками и протестантами в Амбуазе, оказался непрочным. Вновь вспыхнули религиозные распри, вылившиеся в гражданскую войну. И Рамусу опять приходится бежать из Парижа. Когда он, шесть месяцев спустя, в марте 1568 года возвратился в столицу, он нашел Коллеж де Прель разоренным. Фактически была уничтожена библиотека, книги растащили, безвозвратно погибли многие рукописи ученого. На развалинах того, во что было вложено столько сил, Рамус принимает решение уехать из Франции. Он получает разрешение на поездку за границу и в жаркий июльский день покидает Париж.3
Он не ожидал такой теплой встречи и был растроган до слез тем, что его приняли в Страсбурге как крупнейшего ученого, которого здесь хорошо знали и почитали. И профессора и студенты стремились высказать ему свое уважение. В его честь был дан торжественный ужин, на котором он услышал немало лестных для себя слов. Рамус с интересом знакомился с городом, о котором был столько наслышан. Восхищался архитектурой городского собора и церквей Сен-Тома и Сен-Пьер-Ле-Вье, осматривал дом, в котором жил отец книгопечатания Гутенберг. Он вел беседы со своими коллегами из университета. Но стоило ему намекнуть о том, что он был бы не прочь остаться преподавать в Страсбурге, как он сразу же почувствовал холодок отчуждения. Да, его нападки на Аристотеля, слишком смелые суждения о состоянии современных наук были явно не по душе и здесь. Он был «возмутителем спокойствия», и это было основной причиной нежелания университетского начальства видеть его в числе преподавателей. Рамус все понял и не стал задерживаться в Страсбурге. Его путь лежал в Базель, потом был Франкфурт-на-Майне, Гейдельберг. Были встречи с учеными, единомышленниками и теми, кто вел с ним полемику. Его восторженно приветствовали студенты, ему оказывали знаки внимания профессора. Однако, когда речь заходила о возможности преподавать в университетах, он получал вежливый отказ. Никто не желал иметь дело с этим беспокойным человеком, которому явно не по душе размеренная жизнь. Даже в центре кальвинизма Женеве Рамус, принявший учение Кальвина, натолкнулся на нежелание предоставить ему возможность преподавать. Его с подчеркнутой почтительностью принимали, рассыпали комплименты, именуя его «реформатором науки». Но его женевские коллеги продолжали быть приверженцами устоявшихся традиций. Они приветствовали Рамуса, а в то же время не мыслили себе, как можно отказаться от авторитета Аристотеля, чье учение сам Жан Кальвин провозгласил основой философского образования. Ученый прочитал в Женеве несколько лекций, а затем, ранее намеченного срока, решил покинуть Швейцарию. Он все хорошо понял, и прежде всего то, что и в этой стране, в которой ученым мужам удалось освободиться от опеки католической церкви, на пути развития научного знания стоит немало препятствий. Не случайно именно в Женеве, где господствовали протестанты, был сожжен на костре Мигель Сервет. Протестантизм отнюдь не открыл простора для научного творчества, как это казалось прежде Рамусу. Глубоко разочарованный, он покидал Швейцарию. Молча смотрел в маленькое оконце кареты на проплывавшие мимо ухоженные деревушки, маленькие городки с огромными готическими храмами, украшенными стрельчатыми арками и многочисленными фиалами. А мысли его были уже в Париже, куда влекла его судьба. Что делать, если в протестантской стране для него не нашлось места, где он мог бы спокойно заниматься наукой. Видимо, дело не только в вере, если он оказался чужим в среде своих единоверцев. Дело в ином: в том, что для него неприемлемы схоластика и догматизм, бездушное преклонение перед авторитетами. А такие позиции встречают в штыки не только католики, но и протестанты. Как, впрочем, и приверженцы других религиозных направлений. Они пытаются затормозить движение человеческой мысли, заставить ее пребывать в полусне. Но жизнь не стоит на месте, она развивается, и мышление людей должно поспевать за нею, а не пребывать в мире раз и навсегда установленных формул и правил. «Господи, да разве я не ценю Аристотеля, не считаю его великим мыслителем? — в который раз повторял про себя Рамус. — Но я ценю живого Аристотеля, а не того, которого создали схоласты. Да будь сейчас жив Аристотель, разве он бы не восстал против тех, кто провозгласил все изреченное им много столетий назад вечными и непогрешимыми истинами? Разве Аристотель сам не пытался познавать мир, а не повторять, как догмы, мысли господствовавших в его эпоху авторитетов?» Рамус поймал себя на том, что разговаривает сам с собой. Он улыбнулся, покачал головой. С кем еще мог он говорить на эти темы? Он был одинок. Несколько его верных учеников и последователей были преданны его идеям, его реформам, но хватит ли у них сил отстаивать их до конца, не боясь вступить в конфликт с общепризнанным мнением? Ведь такие конфликты могли окончиться весьма печально для них. Рамус не удивлялся, когда некоторые из его почитателей вдруг оказывались в стане противников. Они поступались убеждениями, предпочитая спокойную жизнь борьбе. Кто знает, выдержат ли другие? И не обернется ли против него самого прежняя его откровенность? Лучше уж поверять самому себе сокровенные мысли… Путь до Парижа в те времена был долгим и утомительным. Усталый и измученный, Рамус наконец добрался до знакомого дома, в котором располагался Коллеж де Прель. Здесь он жил и испытал ни с чем не сравнимое наслаждение, вновь переступив порог своего жилища. Однако радость возвращения быстро улетучилась. Вести, услышанные им, были отнюдь не радостны. Примирение католиков и протестантов оказалось очень кратковременным. Религиозная нетерпимость взяла верх. Король издал указ, согласно которому лица, не принадлежащие к римско-католической церкви, изгонялись из парижского университета. Им запрещалось читать лекции, «как закрытые, так и публичные». Среди тех, кто остался без места, был и Рамус. Опять надо было бороться, отстаивать свои права. Бороться за то, чтобы ему разрешили заниматься наукой, которой он посвятил жизнь. Рамус пишет письмо влиятельным сановникам, церковным иерархам, стремясь восстановить справедливость. Он пытается с помощью логических доводов убедить их, что не является «отступником», как это пытались представить его противники. Он верный христианин, даже в мыслях не помышлявший о том, чтобы выступать против христианской религии. Увы, на свои письма и прошения он получает отказ. Ему запрещено преподавать в университете, запрещено заниматься преподавательской деятельностью. Он был обречен на молчание. И хотя король сохранил за ним звание королевского лектора, хотя он продолжал числиться главой коллежа, за что ему регулярно выплачивалось жалованье, он был отстранен отдел. Впрочем, даже королю оказалось не под силу отстранить Рамуса от науки. В сложнейшее для себя время ученый не прекращает работать, он занимается переводами научных трудов, пытается систематизировать науки. Как обычно, в пять часов утра он занимает место за письменным столом. После пяти часов работы — короткий перерыв, небольшая прогулка, завтрак, а затем снова за книги. Рамус не сдавался под ударами судьбы.4
Осень 1572 года была последней в жизни Пьера де ла Раме, известного под именем Рамуса. Он словно предчувствовал это, торопясь закончить начатые труды. Почти все свое время он проводил за рабочим столом, стараясь не показываться на людях. До него доходили слухи о том, что католическая лига вновь поднимает голову, все резче выступая против протестантов. И хотя до открытых столкновений дело не доходило, было ясно, что в ближайшее время религиозные распри вспыхнут с новой силой. У Рамуса была возможность уехать из Парижа. Ему предложили место в посольстве, отправлявшемся в Польшу. Но он отклонил это предложение. Он не желал прерывать свою научную работу. Это решение было для него роковым. В ночь на 24 августа в Париже началась массовая резня гугенотов. Ее организаторы во главе с королевой-матерью Екатериной Медичи и вождями католиков Гизами — могущественным аристократическим родом не случайно выбрали ночь под праздник святого Варфоломея. В Париж съехались гугеноты со всей Франции, чтобы принять участие в свадьбе Генриха Наваррского с сестрой короля Маргаритой. Удачнее ничего и придумать было нельзя, чтобы нанести непоправимый удар по протестантам. Екатерина Медичи убедила короля в том, что гугеноты замышляют против него заговор, и он дал согласие на расправу. Рамус слышал топот кованых сапог, доносившийся с улицы, слышал истошные крики жертв неистовствовавших убийц, уничтожавших таких же, как и они, христиан с именем бога на устах. Они не вспоминали библейскую заповедь «не убей», распаленные жаждой мести. Рамус понимал, что пришел и его час. Ночь прошла без сна. Наутро, спустившись вниз с пятого этажа, он узнал от привратника о кровавой резне, которую пережил Париж. Он вновь поднялся к себе и весь день не покидал жилища, продолжая работать, будто все происходившее в городе его не касалось. Чем он мог помочь несчастным жертвам? Удивляло лишь одно: что расправа миновала его самого. Следующая ночь была такой же тревожной. Католики не могли успокоиться, пока не были уничтожены все известные им отступники от «истинной веры». Со шпагами наголо, с кинжалами в руках рыскали по домам группы людей. Они шарили по подвалам, выволакивая оттуда перепуганных насмерть людей, которые рассчитывали спрятаться от убийц. Под ликующие вопли опьяненных кровью фанатиков совершалась жестокая расправа. Рамус вновь не сомкнул глаз, и только тогда, когда наступило утро, он прилег отдохнуть. Неужели и на этот раз судьба хранила его? Сквозь дремоту он услышал тяжелые удары в деревянную дверь и понял: они пришли за ним. Он спокойно встал на колени и начал молиться. Скрипела под тяжестью людей деревянная лестница. Летели на пол какие-то тяжелые предметы, раздавался скрежет железа. Толпа, ворвавшаяся в дом, крушила все на своем пути. Наконец, сорвав дверь с петель, убийцы ворвались в кабинет. Рамус встал, распрямил спину, в упор глядел на тех, кто принес ему смерть. Он поднял руку, сказав: «Господи, смилуйся надо мной и этиминесчастными, которые не ведают, что творят». И тут же раздались выстрелы. Две пули почти одновременно прострелили ему голову, а острие шпаги вонзилось в грудь. Рамус покачнулся и медленно сполз на пол. А беснующаяся толпа подхватила его тело и вышвырнула в окно. Однако и этого было мало. По свидетельству очевидцев, тело Рамуса потащили за веревку на набережную Сены. Потом от него отделили голову, а тело бросили в реку. Христианин Петр Рамус погиб от руки христиан… Прошло время, и люди воздали должное мыслителю, которого А. И. Герцен назвал «погибшим в борьбе». Он действительно провел жизнь в борьбе против догматизма и косности, стараясь открыть путь к познанию природы, к постижению сокровенных тайн мироздания. Во дворе Коллежа де Франс, выходящего на парижскую улицу Сент-Жак, среди скульптурных портретов самых именитых ученых, преподававших в этом учебном заведении, стоит и бюст Петра Рамуса. Этот скромный памятник — дань уважения человеку, который честно и прямо шел к цели, ибо верил в правоту своего дела.Костер на площади Сален



Время действия — XVII век. Место действия — Англия, Италия, Франция.
1
Итак, все позади, все тревоги и опасения последних дней. А их было немало, малейшая оплошность могла оказаться роковой. Но теперь все позади. Корабль уходит в море. Ванини со своим верным другом Джиноккио стоит на палубе парусника, глядя, как исчезают в рассветном тумане очертания Венеции. — Прощай, Италия! Прощай, родная земля! Он жадно вдыхает свежий морской воздух, подставляет лицо порыву ветра и шепчет: — Свобода! В ответ он слышит шепот Джиноккио: — Свобода! Ветер раздувает паруса. Корабль рассекает волны. И вот уже вокруг только море, сливающееся у горизонта с ослепительно голубым небом.2
Не думал Джулио Ванини, что ему придется вот так расставаться с Италией, с землей, на которой он родился и вырос. Еще подростком в родной деревушке Тавризано он любил уходить в горы, откуда можно окинуть взглядом земные просторы и ощутить величие мира, окружавшего человека. Он любил темными южными ночами лежать на траве, заложив руки за голову, и смотреть на звезды. Сколько вопросов таит в себе этот удивительный мир! На них еще надлежит ответить людям. И кто знает, не ему ли, черноглазому мальчишке из Тавризано, суждено ответить на них? Любознательность Джулио рано обратила на себя внимание, и отец решил отправить его учиться в город. Это был Рим, где Джулио предстояло «постигать науки». Вечный город стал «первым университетом» Ванини. Юноша с жадностью изучал астрономию, анатомию, юриспруденцию, математику, теологию, старался не пропустить ни одной лекции, жадно впитывал в себя знания. «Я никогда не отказывался от любого случая, — писал он впоследствии, — обучаться чему-нибудь… уверенный, что мы знаем гораздо меньше по сравнению с тем, чего мы не знаем!» XVI столетие в Европе было бурным. Складывались новые, капиталистические отношения, идущие на смену феодальным. Многое из того, что недавно считалось незыблемым, вдруг стало шатким. Рушились, казалось бы, непоколебимые истины, зрели новые идеи, вызванные изменениями в жизни государства и народов. Церковь уже не могла сдержать «брожения умов». Ее беспредельная власть над духовным миром людей кончилась навсегда. Правда, духовенство не отказалось от своих методов борьбы со свободомыслием. Оно предавало анафеме тех, кто выступал против вековых установлений церкви. Как и прежде, подвергались преследованиям передовые мыслители. Как и прежде, свирепствовала инквизиция, беспощадно расправляясь с каждым, на кого падало подозрение в ереси. Однако процесс раскрепощения мысли остановить уже было нельзя. В этот период широкую популярность, особенно среди молодежи, приобрели философские учения, которые долгие годы находились под запретом, были объявлены католическими церковниками еретическими. Несколько столетий запретным было учение арабского мыслителя Ибн Рошда, или Аверроэса, жившего еще в XII столетии. Ратуя за независимость научного познания от религии, он провозгласил, что истины науки существуют самостоятельно, следовательно, наука должна идти своим путем, а не быть служанкой богословия. Однако этого было достаточно, чтобы папа Лев X публично проклял Ибн Рошда и его последователей. Но идеи мыслителя продолжали жить среди тех, кто требовал высвободить науку из-под власти религии. В Риме Ванини встретил людей, разделяющих учение Ибн Рошда, и восторженно принял его. Это сыграло немалую роль в формировании мировоззрения юноши. Он смолоду усвоил, что к изучению природы нельзя подходить предвзято, нужно иметь свой взгляд на вещи, доверять в первую очередь опыту и собственным убеждениям. Окончив «римские университеты», Джулио перебрался в Неаполь. Здесь он продолжил свое образование в монастыре святой Терезы, принадлежавшем католическому ордену кармелитов. С особым усердием он изучал языки: латынь, древнегреческий, древнееврейский. В это же время Джулио начал выступать с публичными проповедями, которые, по словам его современников, производили большое впечатление на слушателей. Проповедник покорял их богатой эрудицией, остроумием и незаурядным ораторским мастерством. В июне 1606 года Джулио Ванини торжественно облачили в докторскую мантию. Джулио Чезаре Ванини из маленькой деревушки Тавризано стал доктором юриспруденции. Ему исполнился в то время 21 год. Перед молодым ученым открылись широкие пути в науке. Но доктор юриспруденции снова сел на студенческую скамью, чтобы учиться. Он считал, что еще слишком мало знает и должен продолжать свое образование. Он отправляется в Падую и Венецию, слушает там лекции крупнейших ученых своего времени. Он изучает труды Пьетро Помпонацци, отвергнувшего один из основных христианских догматов — догмат о бессмертии души; зачитывается сочинениями Джероламо Кардано, высказавшего ряд смелых материалистических идей; увлекается учением натурфилософа Бернардино Телезио, стоявшего на позициях материализма, подвергавшего критике христианскую религию. А потом Ванини покидает Италию. Он едет за границу, чтобы посетить крупнейшие университетские центры в Германии, Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Франции. Его суждения подчас приводят в смятение оппонентов. Уж очень они смелы и категоричны. Даже те философы, которые имеют положение в обществе, продолжают соблюдать осторожность, высказывая свои мысли. Они прибегают к иносказаниям, к эзопову языку, умело маскируют суждения, которые не согласуются с теми, что проповедует церковь. Осторожность прежде всего: нельзя давать повод своим противникам для такого истолкования высказываемых взглядов, которое может быть признано духовенством еретическим. За это можно поплатиться. Пора доносов не прошла. А встреча с инквизиторами не сулит ничего хорошего. Но этот молодой итальянец не соблюдает никакой осторожности. Свои смелые суждения он даже не пытается маскировать, выступая порой как откровенный безбожник. На это мог решиться не каждый. Однако не всегда все оканчивалось благополучно. В Женеве, а затем в Лионе такая смелость едва не стоила ему жизни. Ревнители христианской веры чуть было не прибегли к «аргументам», почерпнутым из арсенала святейшей инквизиции. В результате он должен был бежать из Лиона, чтобы не стать жертвой религиозных фанатиков. Джулио не знал тогда, что ему не раз еще придется быть беглецом и изгнанником. Он не унывал, ибо был молод и жизнь казалась ему прекрасной. Он посмеивался над теми, кто цеплялся за обветшалые представления. Несчастные люди, они привыкли смотреть назад, а не вперед. Что касается его самого, он никогда не будет, словно попугай, повторять заученные истины, принадлежащие «авторитетам». Он будет отстаивать свои взгляды, свои убеждения. Знакомство с работами виднейших мыслителей прошлого привело Джулио к глубоким раздумьям о церковном вероучении. Так ли устроен мир, как объясняют богословы? Действительно ли он всецело подчинен воле творца и управителя Вселенной или развивается по своим собственным законам? Божественной волей довольно легко объяснить непонятные явления и загадки, которыми полна природа. Если что-то непонятно, проще всего сказать, что это, дескать, от бога. Но что дает такое объяснение ученому? Ведь непонятное так и остается непонятным. Постепенно Ванини пришел к выводу, что религиозное вероучение полно противоречий. Вместо того чтобы искать пути к их разрешению, богословие сознательно уводит людей на путь заблуждений, заставляя полагаться лишь на авторитет священного писания и «отцов церкви». Однако разум не может принимать религиозное учение на веру. Он никогда не смирится с бездоказательностью. Чтобы теологические концепции могли быть приняты за истину, они должны иметь достаточно убедительное обоснование. Но ведь в таком случае теряло всякий смысл требование церкви принимать религиозные «истины» на веру. Что будет, если каждый верующий станет искать разумное обоснование догматам религии! Так можно зайти слишком далеко, и все здание веры рухнет. Понимал ли это молодой итальянец? Конечно, понимал. Не мог не понимать. Однако он исходил из того, что все в мире должно быть познано с помощью разума, все должно быть логически обосновано. В том числе и «истины» религии, которые проповедовала церковь. С такими взглядами в 1611 году двадцатишестилетний Джулио Ванини после нескольких лет странствий возвращался на родину.3
И снова солнце Италии. Яркое, ослепительное, без которого так трудно прожить итальянцу. И снова голубое безоблачное небо над головой. Небо Италии. Ванини приехал в Венецию. Он любил этот город, очаровывавший каждого, кто попадал сюда. Он мог без конца восторгаться неповторимой архитектурой венецианских дворцов с ажурными галереями, многочисленных церквей, инкрустированных цветным мрамором, множеством разнообразных мостов, перекинутых через одетые в камень каналы. Его восхищал и Дворец дожей, и величественный собор Сан-Марко, и библиотека Сан-Марко, в которой он проводил долгие часы за старинными фолиантами. И конечно, можно было бесконечно слушать песни гондольеров, песни родной Италии. Но не только это привело его в Венецию на сей раз. Венеция занимала независимое от папской власти положение, а это было особенно важно для ученого, который расходился во взглядах с католической теологией. Ванини надеялся, что здесь он будет чувствовать себя свободнее, чем где-либо. Еще совсем недавно он с юношеским пылом открыто провозглашал свои убеждения, подвергал критике христианство, а заодно и римскую курию, проповедовавшую догматы этой религии. Несколько столкновений с католиками убедили его, что нужно быть осторожнее. Доброжелатели напоминали ему о жестоких расправах церковников с вольнодумцами, посоветовав не выступать открыто против церкви. Ванини внял этим советам. Но может быть, в Венеции он все-таки сможет действовать свободно? Увы, он вскоре убедился, что и в Венеции нельзя говорить что думаешь. Уже после первых его публичных выступлений, в которых он решительно отверг христианское учение о божественном творении мира, заявив, что природа развивается по естественным законам, его предупредили, что с подобными идеями выступать далеко не безопасно. Вначале он не особенно обратил внимание на эти предупреждения и продолжал открыто проповедовать свои богохульные взгляды. Его предупредили вновь. Друзья сообщили, что ему следует опасаться кармелитов, членов католического ордена, в котором он состоял несколько лет назад. Ванини получил несколько угрожающих писем. Они не были подписаны. Но не так-то трудно было догадаться, кому они принадлежат. Не стесняясь в выражениях, авторы писем осыпали Ванини бранью, сулили ему самые страшные божьи кары, а заодно и кары земные, которых, быть может, следовало опасаться в первую очередь. Ванини знал, что эти угрозы не беспочвенны, что его противники не остановятся перед тем, чтобы осуществить их. Дальнейшее пребывание в Венеции становилось невозможным. Выход был один — бежать. Бежать? Но куда? Где можно найти место, в котором не витала бы тень инквизиторов? Друзья подсказали ему, и он после недолгих раздумий, ибо времени на них не было, принял решение. Его путь лежал к туманным берегам Британии. Он избрал Англию, потому что, по слухам, господствовавшая там англиканская церковь терпимо относилась к тем мыслителям, которые вступили в конфликт с католицизмом. Ведь само англиканство было порождением реформации. Как бы то ни было, выбор был сделан. Отъезд готовился со всеми предосторожностями. О нем никто не должен был знать. Обстановка вокруг Ванини к тому времени оказалась такой напряженной, что он не мог поручиться за то, что ему удастся беспрепятственно выбраться из Венеции. Надо было обмануть тех, кто предвкушал расправу над ним. Надо было вырваться из-под надзора шпионов, следивших за каждым шагом Ванини. К счастью, это удалось. И вот Ванини и его верный друг Джиноккио вступили на борт английского корабля. Пока корабль не отчалил, они не были уверены, что сумели перехитрить тех, кто вел охоту за Джулио. И только когда загремела якорная цепь, ветер надул паруса и корабль вышел в море, они смогли вздохнуть спокойно.4
Лондон встретил их вначале радушно. В том не было ничего удивительного. Страна, в которой господствовала англиканская церковь, высвободившаяся из-под влияния папства, считала своим долгом проявить внимание к беглецам из католической Италии. Видимо, сыграло свою роль и то, что Джулио, отплывая к берегам Альбиона, заручился рекомендательным письмом посла Англии в Венецианской республике, который тоже считал своим долгом помочь ученому, преследуемому католиками. Англиканство — одно из трех основных направлений в протестантизме — в отличие от лютеранства и кальвинизма не столь решительно отвергло вероучение и обрядность католицизма. Правда, англиканская церковь вышла из подчинения папе римскому, признав главой церкви короля Британии, но она немало сохранила и от католицизма. Все это не мешало, однако, англиканскому духовенству резко выступать против католической церкви, всячески подчеркивать свою самостоятельность. Ванини и его друг Джиноккио сразу почувствовали это. Сам архиепископ кентерберийский удостоил вниманием Джулио Ванини и даже предложил поселиться у себя, а другой архиепископ — Йоркский — принял под свое покровительство Джиноккио. Видные сановники англиканской церкви недвусмысленно намекнули Ванини и его другу, что им следовало бы официально порвать с католицизмом и приобщиться к англиканской вере. Ванини и Джиноккио не надо было уговаривать. Они публично заявили о том, что без сожаления отказываются от своей принадлежности к католической церкви. Для этого был устроен торжественный церемониал при большом стечении народа. Англиканское духовенство не скрывало удовлетворения. Отречение двух итальянцев от католической веры и вступление их в лоно англиканской церкви — это ли не торжество англиканства! Да если к тому же их проповеднический талант и авторитет можно будет использовать в интересах англиканской церкви, — все это, бесспорно, немалый успех духовенства! Однако взаимное разочарование пришло довольно быстро. Молодые итальянцы оказались совсем не такими, какими их желало бы видеть духовенство. Церковники ждали от них антикатолической проповеди, восхваления англиканства, а они стали выступать с крамольными речами, в которых подвергались критике святые устои христианства. Это никак не входило в расчеты служителей церкви. Они отнюдь не желали потворствовать свободомыслию, нападкам на христианскую веру. О том было прямо заявлено итальянцам, нашедшим приют на английской земле. Архиепископ кентерберийский попытался воздействовать на Ванини, но тот не внял благоразумным советам. Он продолжал публично выражать сомнение в истинности христианских догматов, в частности догмата о бессмертии души. Он отрицал возможность чудес, пытаясь дать им разумное обоснование. Он заявлял, будто мир не может быть сотворен из ничего. Но ведь в таком случае отрицалась сама идея божественного творения. Это нельзя было воспринять иначе как богохульство. И церковь потребовала прекратить подобные речи. Однако остановить Ванини было нельзя. Он не обращал внимания ни на советы, ни на предупреждения. И тогда англиканские церковники решили добиться своего иным путем: молодым беглецам было отказано в материальной помощи. Церковники ждали, что они быстро смогут сломить непокорных. Но ждать им пришлось долго. Ванини и Джиноккио не являлись с повинной головой. Они бедствовали, но смиряться не желали. Лишения не могли заставить их изменить своим убеждениям. У церкви оставалось в запасе еще одно верное средство, которое должно было подействовать безотказно. В ход пошли угрозы. Итальянцев предупредили, что, если они не прекратят богохульства, они будут призваны к ответу. Перед Ванини и Джиноккио открылась невеселая перспектива — оказаться узниками англиканской церкви. Немало дней они провели под угрозой быть схваченными и брошенными в тюремные казематы. Еще совсем недавно им устраивали торжественную встречу, к ним обращались с лестными словами высшие духовные иерархи. Еще недавно они жили в мире прекрасных надежд на будущее, но эти надежды оказались иллюзией. Теперь Ванини и Джиноккио могли воочию убедиться, что в разных церквах духовенство лишь меняет одежды, но не меняет своего отношения к свободомыслию. Круг замкнулся. В Италии Ванини и Джиноккио поджидали папские инквизиторы. Щупальца инквизиции протянулись по всей Европе и могли схватить еретиков в любой стране, в которой сохраняла влияние католическая церковь. Здесь же, в Британии, они находились под неусыпным вниманием англиканских церковников. В январский день люди в темных плащах схватили Джулио Ванини. В закрытой карете его провезли по улицам Лондона. Он услышал, как лязгнули массивные запоры, заскрипели ворота, и понял: это Тауэр, мрачная крепость, где содержались государственные преступники. С этой минуты становился государственным преступником и он.5
49 дней могут показаться вечностью, если не видеть света, если томиться в каменной одиночке, если изо дня в день идут допросы, задаются одни и те же вопросы, если видишь одни и те же ледяные лица ведущих следствие людей, которым суждено или помиловать тебя, или передать в руки палача. И каждый допрос начинается словами: «Именем короля…» Ванини ничего не отрицал. Смешно было отрицать то, что знали десятки людей. Ведь свои мысли он не скрывал, свои взгляды открыто высказывал в лекциях и проповедях. Он был убежден в своей правоте. На допросах держался смело и независимо. Тревожили Джулио мысли о Джиноккио. Он знал, что его друг тоже заключен в Тауэр, но за все это время ни разу не видел его. Держится ли он? Не сломила ли тюрьма его воли? Ванини опасался, что Джиноккио не выдержит угроз. А они были постоянно в ходу у тюремщиков. Сам он не боялся их. А вот Джиноккио… Устоит ли он перед страхом смерти? Не проявит ли слабости? Но вот наступил конец допросам. В низком сводчатом зале вновь звучат слова: «Именем короля…» А вслед за ними короткое слово «смерть». Англиканская церковь приговорила вольнодумцев Ванини и Джиноккио, поднявших голос против основ христианской религии, к смертной казни… Слишком долгой была ночь после вынесения приговора. Ванини лежал с открытыми глазами. В темноте грезилось итальянское небо и море. Ему казалось, что он слышит шум прибоя, ощущает на лице соленые брызги от волн, разбивающихся о прибрежные камни Неужели он больше никогда не ступит на родную землю, не увидит моря? Неужели никогда не увидит итальянского солнца? Почему так коротка жизнь? Почему судьба отнимает ее тогда, когда он чувствует в себе силы еще так много сделать? Почему он должен расставаться с жизнью, только вступив в нее? Разве он совершил какое-нибудь преступление? Ведь единственной его виной было желание мыслить свободно, а не так, как того требовали другие. Неужели за это надо лишать жизни? О, если бы свершилось чудо и перед ним раскрылись ворота Тауэра, если бы он смог опять оказаться на свободе, тогда… Нет, и тогда он не стал бы жить по-другому. Он отстаивал бы право человека свободно думать, свободно говорить, изучать мир, искать истину. Настоящий мыслитель, настоящий ученый не может пренебречь истиной, даже если цена истины — жизнь! Свобода в ту ночь была для Ванини недосягаемой мечтой. Он не верил в чудеса. Но случилось так, что чудо произошло. Друзьям Ванини удалось с помощью влиятельных лиц добиться отмены смертного приговора. Это было нелегко. Но, видимо, и англиканской церкви не очень хотелось брать на себя такой грех, как казнь вольнодумцев. Потому ее иерархи и согласились отменить приговор. Но только при одном условии: итальянцы обязаны тотчас же по выходе из тюрьмы убраться из страны Альбиона куда угодно, но только подальше. Ворота Тауэра распахнулись перед Ванини и Джиноккио. Однако отсюда был лишь один путь: в порт, откуда отправлялся корабль, идущий в континентальную Европу. Ванини и Джиноккио, беглецы из Италии, должны были незамедлительно покинуть Англию.6
Роберто Убальдини, папский посол во Франции, прочитал депешу, полученную на его имя, и облегченно вздохнул. Откровенно говоря, он не был уверен, что получит положительный ответ. Когда он направлял главе инквизиции письмо, в котором сообщал, что бывшие члены ордена кармелитов Ванини и Джиноккио просят дать им возможность исповедоваться для прощения всех их грехов и оправдать их, то полагал, что благословенный отец вспомнит еретические проповеди Ванини и не простит ему прегрешения перед святой церковью. Но ответ от главы инквизиции пришел совсем иной. Для католиков было более важным публичное отречение заблудших сынов от англиканства, возвращение в лоно римской церкви. Этот спектакль мог оказать нужное влияние на умы людей, когда шла отчаянная борьба между католицизмом и протестантизмом. Ванини и Джиноккио были отведены в нем главные роли. Посол был удовлетворен тем, что с его замыслом согласились. Есть еще умные люди в лоне церкви, которые понимают, что расправа над еретиками далеко не единственное средство для искоренения вольнодумства. Можно запугать толпу, но авторитет церкви этим не поднимешь. А вот публичное покаяние отступников от веры куда более впечатлительное действо. Они сами признают свои заблуждения, и это всегда производит впечатление. Он, Роберто Убальдини, продемонстрирует перед святой церковью действенность таких спектаклей. Папский посол начал готовиться к процедуре публичного покаяния блудных сынов. Ванини было все равно: покаяние так покаяние. Он уже познал и католическую и протестантскую церкви. В конце концов, какая разница, в лоне какой из них пребывать. Вырваться же из-под власти церкви, открыто заявить о своем неверии в бога было невозможно. А раз так, он готов был принять покаяние, подвергнуться унижению, лишь бы получить возможность работать, писать, заниматься наукой. 26 июня 1614 года состоялась унизительная процедура покаяния молодых итальянцев, совершивших «тягчайшее преступление», но раскаявшихся и вернувшихся в лоно матери-церкви. А еще через несколько дней Ванини расстался с Джиноккио, уезжавшим в Италию. Он остался один. Ванини с головой окунулся в работу. Он начал писать давно задуманную книгу, в которой хотел изложить свои взгляды на мир. Джулио Ванини уже не был пылким юношей, готовым в любую минуту вступить в открытую полемику с философами и богословами, проповедовавшими чуждые ему взгляды. Ему исполнилось 30 лет. Он прошел серьезную жизненную школу, хорошо уяснив себе, что молодой задор и неконтролируемый разумом темперамент могут сослужить плохую службу. Он испытал это на себе, пережив мучительные часы в Тауэре после того, как выслушал смертный приговор. Нет, Ванини ни на шаг не отступил от своих убеждений. Но в книге он облек свои мысли в такую форму, которая позволяла ему надеяться, что инквизиторы просто не смогут понять их еретического смысла. В 1613 году в книжных лавках Лиона появилась книга Ванини «Амфитеатр вечного провидения, божественно-магического, христианско-физического, астролого-католического. Против древних философов, атеистов, эпикурейцев, перипатетиков и стоиков». Могло показаться невероятным, что Ванини ополчился на атеизм и атеистов. Но стоило начать читать книгу, как все становилось ясным. Проницательный читатель не мог не увидеть, что в действительности автор на стороне тех, кто выступает против религии, против веры в бога. Он возносит хвалу богу, но читателю становится ясна вся несостоятельность веры в бога. Он обрушивается на безбожников, приводя их доказательства в обоснование еретических взглядов, а по сути дела предоставляет трибуну тем, сочинения которых были решительно отвергнуты католической церковью. Он приводит аргументы богословов, выступавших против вольнодумцев, но аргументы эти столь жалки, что читателю становится понятной вся тщетность богословских суждений, с помощью которых церковь пытается защитить религию от нападок безбожников. Впоследствии автор вышедшей в начале XVIII века книги по истории религии и атеизма Лакроз писал: «Главные доказательства существования бога, приводимые Ванини в сочинении „Амфитеатр провидения“, сплошь софизмы, над которыми он сам потешался. С другой стороны, обычные доказательства в этой книге излагаются неправильно, и он свои силы кладет на то, чтобы сломить их тяжестью приводимых им возражений… Он с видимым удовольствием изображает повсеместный рост атеизма, делает вид, что борется с ним, а на самом деле таким путем знакомит с ним читателей». Нет, Ванини не изменил себе. Вынужденный совершить публичное покаяние, он в действительности не отказался от своих взглядов на религию, при помощи которой сильные мира сего держат невежественный народ в рабстве. Только жизненные испытания научили его осторожности. Он облек свои мысли в такую форму, которая ввела в заблуждение защитников религии. Ванини удалось достигнуть цели. Вначале церковники не только не увидели в книге никакой крамолы, но, напротив, отметили, что этот труд, весьма полезный для защиты и обоснования официальных христианских взглядов, «содержит весьма сильные и глубокие доказательства, согласные с учениями наиболее видных теологов». Ванини торжествовал. Его хитрость удалась. Ему удалось провести верных стражей церковного вероучения. Однако некоторое время спустя духовенство поняло свою ошибку. Правда, было уже поздно: книгу распродали. Церковники были вне себя от гнева, что их так легко провели. Они потребовали расправы над дерзким безбожником, сумевшим перехитрить бдительных католических цензоров. И опять Джулио Ванини вынужден был бежать, бежать из Лиона. Но куда бежать? Опасность подстерегала его везде. Он пытался скрыться в Италии, но пребывание на итальянской земле оказывается еще более опасным, чем во Франции. Известие о приезде еретика Ванини опередило его. И здесь церковники требуют наказать богохульника. Требуют, чтобы он был предан суду инквизиции. Ванини вынужден распрощаться с Италией. Он находит убежище в монастыре Гюйенна на юго-западе Франции. Может быть, здесь, вдали от больших городов, в захолустной тиши, он сможет переждать бурю, которую вызвал своей книгой? Может быть, сюда не доберутся инквизиторы? Опасность ходит за ним по пятам. В любую минуту его могут схватить, бросить в тюремную камеру, подвергнуть пыткам. Но и в эту трудную пору он не отступил от своих убеждений, подтвердив это в своем новом труде, над которым работал в тесной монастырской келье. В нем Ванини показал, что христианство держится на вымыслах, главным из которых является миф о бессмертии души. Ванини пытается представить природу такой, какая она есть, заявляя, что она не нуждается ни в каких иных объяснениях, кроме естественных. Те объяснения, которые не подтверждаются жизнью, должны быть отвергнуты, даже если они принадлежат самым высоким авторитетам. И незачем цепляться за традиционные догмы, любой ценой отстаивая их, лучше честно признать, что они не выдержали испытания временем, проверки жизнью. Именно в этом и были основные расхождения между Джулио Ванини и богословами, преследовавшими его за свободомыслие. Теологи утверждали, что раз и навсегда установленные христианские догматы вечны и неизменны, что, если даже они приходят в противоречие с опытом и здравым смыслом, надо пренебречь опытным знанием и разумом, продолжая непоколебимо придерживаться христианской догматики. Тех же, кто не желал признавать «вечных истин» религии, следовало жестоко наказывать, чтобы другим неповадно было поднимать руку на христианские святыни. Ванини не желал повторять заученные формулы, которые предлагала верующим церковь. Он хотел сам разобраться в том, насколько христианские представления о мире, обществе, человеке соответствуют действительности. А такая самостоятельность строго-настрого запрещалась церковью. Люди должны были верить богословам и проповедникам, верить беспрекословно. Обнаружив противоречия и непоследовательность в христианских представлениях о мироздании, Ванини высказал свои суждения об устройстве мира, в которых содержались материалистические выводы, прямо противоречащие христианским «истинам». Он признавал вечность материи, приходя к отрицанию религиозных взглядов о божественном сотворении мира, утверждал, что столько же вечен процесс развития. Отвергая христианский миф о божественной душе, якобы существующей независимо от тела и обладающей бессмертием, он, по сути дела, отрицал веру в загробную жизнь, которая держится на признании бессмертия души. Вместе с тем он выступал против утверждений о божественном происхождении религии. По мнению Ванини, религия возникает на определенном этапе человеческой истории, выполняя вполне определенную функцию: помогает правителям держать народ в повиновении. Религия — обман, который земные властители используют в своих целях. В своих сочинениях Джулио Ванини отверг веру в чудеса, без которой немыслима никакая религия. Такие чудеса, как воскрешение из мертвых, совершенно непостижимые исцеления неизлечимых больных, разного рода «чудесные» явления природы — все это сказки, «достойные осмеяния, изобретаемые и рассказываемые правителями с целью держать в страхе невежественную толпу». И наконец, он выступает против главной идеи любой религии — идеи бога. То, что говорят о боге теологи, — вздор. На вопрос, что такое бог, он иронически отвечает: «Если бы я это знал, я сам был бы богом, так как никто не знает бога и не знает, что такое бог…». Богословы создали образ бога таким, что он не может вызвать симпатии людей. Ведь если все, что происходит на свете, приписывать всемогуществу божьему, то, значит, надо приписать ему ответственность за страдания и несчастья людей, за все зло, которое существует на земле, все бедствия, болезни, мучения простых смертных. Но в таком случае бог вовсе не милосерден, не любвеобилен, совсем не таков, каким его представляют церковники. В своих диалогах «О чудесных тайнах природы, царицы и богини смертных», написанных во время пребывания в монастыре Гюйенна, Ванини замечал: «Из текста Библии вытекает, что сила дьявола выше силы бога. Действительно, против воли бога Адам и Ева впали в грех и породили человеческий род. Когда же сын божий пришел в мир, чтобы помочь этому горю, дьявол возбудил души и сына божия осудили. Христос утверждал, что это было время дьявола и власть тьмы, и он кончил бесславной смертью. Можно сказать также, исходя из Библии, что воля дьявола более действенна, чем воля бога. Бог хочет, чтобы все были спасены, однако мало кто спасается. Дьявол хочет, чтобы все люди были осуждены, и они почти все бывают осуждены». В противовес церковному учению, принижавшему человека, рассматривавшему его как игрушку в руках всевышнего, как слабое, беспомощное существо, Джулио Ванини восхищался человеком, высоко оценивая его возможности как властелина природы. «Я не побоялся бы поместить человека выше небес», — восклицал он. Ванини не был последователен до конца в своих суждениях, впрочем, как и все его современники, отстаивавшие материалистические представления и отвергавшие религиозные взгляды на мир. В те времена не было еще выработано цельного научно-материалистического мировоззрения, во взглядах на развитие общества господствовала идеалистическая точка зрения. На мировоззрении Ванини лежал груз средневековой идеологии, что наложило отпечаток на его учение. Но Ванини был атеистом, и именно это сделало его жизнь невыносимой в условиях засилья церкви, непримиримой борьбы церковников со всякими проявлениями вольнодумства и свободомыслия. Как бы ни было Ванини трудно, он оставался верен себе. Он знал, что истина на его стороне. «Твое имя вечно, и этим ты компенсируешь всю тяжесть твоих трудов, — писал он. — Что может быть более желательным, чем то, что имя мое останется на земле после меня».7
Не стоит большого труда, чтобы расправиться с вольнодумцем, проповедующим вредные мысли. Гораздо труднее уничтожить его идеи, которые распространяются все шире и шире, заражают других, находят отклик в умах мыслящих людей. По приговору католического суда сочинения Джулио Ванини «Амфитеатр» и «Диалоги» подлежали сожжению. В приговоре говорилось, что они сеют «опасный и отвратительный атеизм», а потому должны быть уничтожены раз и навсегда. Книги пылали на костре, и было ясно, что вот-вот церковь возьмется за их автора. Ванини, предчувствуя, что расправа может наступить в любой момент, продолжал работать настойчиво, напряженно, торопясь окончить то, что им было задумано. Спасаясь от преследований, Ванини покидает стены монастыря Гюйенна и отправляется в Париж. Он видит, что круг сжимается, преследователи идут по его пятам, и старается, насколько это возможно, сбить их со следа. Это не так просто. Инквизиция имеет опытных ищеек, поднаторевших в ловле еретиков. До него доходят слухи, что инквизиция готовит над ним судебный процесс. Тогда он снова бежит. Ему кажется, что вся жизнь его состоит из бегства от преследователей в сутанах, от церковников, подвергающих его травле. Никогда не имел он возможности спокойно работать, думать, писать. Враги ни на день не оставляли его, не давали ему передышки. Ночь. Человек, лицо которого скрыто под капюшоном, озираясь по сторонам, быстро пересекает узкую улочку, бесшумно проскальзывает в калитку сада. Еще три десятка шагов — и он оказывается на другой улице, где, скрытый от глаз толстыми стволами каштанов, его поджидает дорожный экипаж. Двое провожающих быстро обнимают человека, шепотом напутствуют: — Счастливый путь, Джулио! — Спасибо, друзья. — Береги себя, Джулио. Добрые и верные друзья. Что бы он делал без них! В самые сложные периоды жизни они, подвергаясь опасности, помогали ему. Вот и сейчас они сделали все, чтобы он мог незаметно покинуть Париж, улизнуть от ищеек. Экипаж следует по погруженным во тьму парижским улицам и вскоре оказывается за пределами города. Погони нет. Кажется, побег удался. На этот раз Ванини выбрал Тулузу. Чтобы сбить со следа своих преследователей, он решил поселиться в городе под чужим именем. Так в 1617 году появился в городе новый житель Помпео Училио. Может быть, иному человеку и удалось бы прожить, не привлекая к себе внимания посторонних, но только не Ванини. Его трезвый ум, остроумие, красноречие не остались незамеченными. Прослышавший о его незаурядных способностях первый президент тулузского парламента Лемазюрье пригласил его в качестве воспитателя к своим детям. Помпео согласился. Надо было зарабатывать на жизнь, а предложение Лемазюрье было довольно выгодным. Оказавшись в доме президента, Помпео Училио попытался заставить себя держать язык за зубами. При случае он старался подчеркнуть, что является убежденным сторонником католического учения, а любые попытки втянуть его в полемические разговоры решительно отвергал. Казалось, он наконец понял, что надо быть более осмотрительным, более осторожным, чтобы не навлекать на себя беду. Вокруг много добровольных доносчиков, и каждое даже вскользь брошенное неосторожное слово сразу же может быть достоянием инквизиторов. А стоит только им раскрыть, кто скрывается под именем Помпео Училио, как участь Ванини была бы решена. Он знал, что его ищут, и пытался ничем не выдать себя. Но так продолжалось недолго. Вскоре вокруг Училио образовался кружок молодежи. И вот тут-то, оказавшись в роли учителя, он не мог сдержать себя, стал излагать свои взгляды на мир, на общество, на религию. Кто знал, что среди молодежи его кружка окажется предатель и доносчик, подосланный инквизицией? Он сумел войти в доверие к своему учителю, а тот был с ним более откровенен, чем с другими. Ванини высказывал свои мысли, изложенные в «Амфитеатре» и «Диалогах» и осужденные богословами как богохульные и еретические. Франкони — так звали этого ученика — слово в слово записал слова учителя и затем послал донос на него, обвиняя в кощунственной клевете на христианское вероучение и католическую церковь. Поздней осенью 1618 года двое людей остановили Ванини на улице Жипонье. — Помпео Училио, именем короля вы арестованы. Они прекрасно знали, с кем имеют дело. Ведь охота за ним велась несколько лет. На этот раз инквизиция позаботилась о том, чтобы ничто не могло помешать расправе над злейшим врагом католической церкви. Он предстал перед судом по обвинениям, которые ему предъявил парламент Тулузы. Тулузские судьи сделали вид, будто не знают, что Помпео Училио и Джулио Ванини — одно и то же лицо. Они судили Помпео Училио. В конце концов, в их руках было достаточно улик, чтобы вынести обвинительный приговор. Ванини защищался стойко. Он отвергал все обвинения тулузского парламента. Как ни пытались судьи привести достаточно веские доказательства безбожия Ванини, им это не удалось. Ведь все свои выступления он облекал в такую форму, что казалось, он самый преданный приверженец христианского вероучения. Католические церковники, внимательно следившие за ходом следствия, видели, как умело разрушает Ванини предъявленные ему обвинения, какими беспомощными выглядят его судьи. Святая церковь проявляла недовольство. Неужели тулузские судьи бессильны доказать виновность отъявленного еретика? Да, они были бессильны и, несмотря на это, «без дальнейшего расследования» вынесли приговор. Тщетно было взывать к справедливости. Для тех, кого обвиняли в покушении на христианскую веру, ее не существовало. Не существовало и справедливого суда. В этом собственноручно расписались судьи, вынесшие свой приговор. Февральским днем 1619 года в тулузском парламенте этот приговор был зачитан: «9 февраля 1619 года Великая палата вместе с Палатой по уголовным делам, в присутствии первого председателя суда Лемазюрье и других, по заявлению генерального прокурора короля произвела судебное следствие над Помпео Училио, неаполитанцем по национальности, заключенным в городскую тюрьму. Великая палата заслушала обвинения, выдвинутые против него, свидетельские показания, очные ставки, сведения и доносы о рассмотренных и установленных фактах, речь и заключение генерального прокурора короля против указанного Училио. Было решено, что процесс находится в таком состоянии, когда может быть принято окончательное постановление без дальнейшего расследования истинности указанного процесса. Установив это, суд объявляет, что указанный Училио обвинен и признан виновным в атеизме, кощунстве, нечестии и других преступлениях, рассмотренных на этом судебном процессе. В наказание и в качестве возмездия за эти преступления суд приговорил и приговаривает указанного Училио к передаче в руки палача уголовного правосудия. Палач должен будет протащить его в одной рубахе на циновочной подстилке, с рогаткой на шее и доской на плечах, на которой должны быть написаны следующие слова: „Атеист и богохульник“. Палач должен доставить его к главным вратам городского собора Сант Этьен и там поставить на колени, босым, с обнаженной головой. В руках он должен держать зажженную восковую свечу и должен будет умолять о прощении бога, короля и суд. Затем палач отведет его на площадь Сален, привяжет к воздвигнутому там столбу, вырвет язык и задушит его. После этого его тело будет сожжено на приготовленном для этого костре и пепел развеян по ветру».8
Они торопились. Торопились покончить с этим делом. Утром был вынесен приговор, а в полдень на площади Сален стал собираться народ. Когда преступник в сопровождении стражников ступил на площадь Сален, зазвонили колокола тулузских соборов. Ванини поднял голову и улыбнулся. Стоявшему рядом стражнику он сказал: «Пойдем, пойдем весело умирать, как подобает философу». Он был удивительно спокоен. Еще выслушивая приговор, он не проявил ни малейшего волнения, бросив своим судьям, что не отступится от своих идей, за которые готов умереть. Спокойствие не оставило его и на площади, где должна была состояться казнь. Одному из сопровождавших монахов, который обратился к нему со словами утешения, он сказал: «Христос потел от страха в последние минуты, я же умираю неустрашимым». Монах отшатнулся, испуганно осенив себя крестным знамением. Ванини подвели к позорному столбу. Католический священник поднес к его губам крест: «Проси прощения у всевышнего». Но Ванини отвернулся, громко произнеся: «Нет ни бога, ни дьявола, так как, если бы был бог, я попросил бы его поразить молнией парламент, как совершенно несправедливый и неправедный; если бы был дьявол, я попросил бы его также, чтобы он поглотил этот парламент, отправив его в подземное царство; но так как нет ни одного, ни другого, я ничего этого не делаю». Даже в те самые минуты, когда Ванини предстояло расстаться с жизнью, он продолжал упорствовать. Это привело в неистовство его неправедных судей. Кончать, скорее кончать с этим еретиком! Пусть кипит он в горящей смоле в аду, а здесь, на земле, сгорит в пламени костра. Президент парламента подалзнак. Палач приступил к своим обязанностям. Он вырвал у еретика язык, чтобы тот более никогда не произносил крамольных речей. Словно забыв о приговоре суда, где говорилось, что преступник должен быть умерщвлен, а затем сожжен, палач поднес факел к сложенным поленьям. Костер вспыхнул, языки пламени поглотили гордую фигуру мученика науки, так и не склонившего головы перед своими судьями. «Он умер с таким твердым убеждением, спокойствием и твердой волей, как никакой другой человек, которого когда-либо видели», — писала одна из французских газет того времени. Ему было тридцать три года…Гражданин Города Солнца



Время действия — XVII век. Место действия — Италия.
1
В 1623 году во Франкфурте-на-Майне впервые вышла в свет книга «Город Солнца», которой суждено было прославить в веках ее автора, итальянского мыслителя, одного из провозвестников коммунистического общества. Это была книга о прекрасном государстве будущего, в котором исчезнут бесправие и нищета, социальная несправедливость, эксплуатация человека человеком, утвердятся свобода, равенство и счастье людей. Рожденную в мечтах страну мыслитель назвал Городом Солнца. Он звал в нее людей, звал встретить их восход Солнца, которое должно светить всем на нашей планете. В то самое время, когда с печатного станка в маленькой типографии во Франкфурте сходили оттиски книжных страниц, автор «Города Солнца» томился в мрачной камере тюрьмы Кастель Нуово, куда почти не проникал дневной свет. И мало кто из первых читателей книги знал, что писал он ее на тюремном топчане, таясь от надзирателей, которые то и дело заглядывали в камеру в узкий глазок на двери. Писал, с трудом водя пером по бумаге, истерзанный пытками, больной и изломанный, испытывая нестерпимую боль от каждого движения. Мало кто знал, скольких трудов стоило переправить рукопись за стены Кастель Нуово. На тонкой веревочке опускал он за решетчатое окно отдельные листки, где их принимала жившая на территории тюрьмы францисканская монахиня Дианора, ставшая верным другом узника. Затем страницы рукописи попадали в руки людей, которые собирали листок за листком, помогая рождению книги. Книга рождалась в муках, книга удивительно оптимистическая и мужественная, согревавшая сердца, вселявшая в людей надежды на лучшее будущее. Ее автор сумел заглянуть на столетия вперед, увидеть то, что не могли видеть его современники, подарить человечеству прекрасную мечту о Городе Солнца. Многие столетия люди мечтали о том времени, когда человечество будет избавлено от войн, нищеты, лишений, когда не будет богатых и бедных, не будет господ и рабов, всем на земле станет светить одно солнце. Каждый из этих мечтателей, обличавших несправедливый социальный строй, при котором им довелось жить, по-своему представлял общество будущего. В 1535 году удар топора на эшафоте подле лондонского Тауэра оборвал жизнь английского мечтателя Томаса Мора. В своем произведении «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове „Утопия“» он поведал читателям о путешествии в удивительную страну, где все люди равны, где царит справедливость, где нет частной собственности, а господствует труд свободных людей, труд, создающий все богатства, все материальные ценности, которые принадлежат народу. Томас Мор и другие мечтатели, которых называют утопистами — по имени фантастического острова Утопия, — выступали не только против существующего социального строя, но и против религиозного учения, освящавшего этот строй. Потому-то церковники преследовали утопистов, видели в них ниспровергателей общественного порядка и религиозных установлений. Утописты были мечтателями. Их фантазия создавала картины будущего общества, справедливого общественного устройства, но они не видели путей к достижению своей мечты. Они не знали законов развития общества, а без этого было невозможно научно обосновать путь человечества к социальной справедливости. Пройдет еще немало времени, пока в середине XIX столетия не родится великая наука, открывшая людям путь к самому справедливому обществу, о котором грезили лучшие умы человечества. Но именно утописты уложили первые камни в фундамент научного коммунизма, созданного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. То, что они сделали, подвергнув уничтожающей критике основанный на неравенстве социальный строй, вселив в сердца людей надежды на лучшее будущее, было подвигом. И потому имена великих утопистов Томаса Мора, Анри Сен-Симона, Шарля Фурье, Роберта Оуэна навечно вписаны в историю борьбы за прекрасное будущее человечества. А вместе с ними в историю вписано имя итальянского мыслителя Томмазо Кампанеллы, одного из провозвестников справедливого общественного строя на земле, автора бессмертного «Города Солнца».2
Почти половина жизни в тюремном каземате. Жестокие пытки, опостылевшие допросы, голод, холод, лишения. Так сложилась судьба Кампанеллы, судьба необычайно драматическая, необыкновенно тяжелая. В двадцать три года — первый арест, первая встреча с инквизицией. Его схватили на улице Неаполя. Стражник апостолического нунция положил ему руку на плечо. Этот жест не надо было растолковывать. Он повиновался и последовал за стражником ко дворцу нунция. Его ввели в камеру в подвальном этаже и защелкнули на щеколду обитую железом дверь. А наверху, в роскошных покоях, нунцию докладывали о Кампанелле. Собственно, о жизни его говорить было почти что нечего, ибо он был слишком молод. Он родился на юге Италии в семье простолюдина — сельского сапожника, проявил способности, и отец, уверовавший в природный талант сына, несмотря на нужду, собрав последние гроши, отправил Томмазо учиться в монастырскую школу. В доминиканском монастыре Никастро он провел несколько лет. Член церковного суда, докладывавший нунцию о Кампанелле, предъявил отзывы, полученные из монастыря о Кампанелле. Отзывы весьма похвальные. Усерден, трудолюбив, ни в чем предосудительном замечен не был. Правда, это только в первые годы. А в последующие, как было известно, он завел сомнительные знакомства с людьми, придерживавшимися весьма вольного образа мыслей, и, конечно, дурное влияние сказалось на его поведении. Вопреки предупреждению монастырского начальства, он самовольно предпринял поездку в Козенц, где жил философ Бернардино Телезио. С Телезио ему встретиться не удалось — тот был тяжело болен, — но после поездки Томмазо заявил, что снимает с себя обет монашества. Приор воспретил ему покидать монастырь, однако Кампанелла не послушался. Покинув стены монастыря, он, по сведениям святейшей инквизиции, опять сошелся с людьми неблагонадежными. В разговорах часто упоминал имя Телезио, называл его своим учителем. Да, того самого Телезио, скончавшегося некоторое время назад, известного вольнодумца, которому пришлось держать ответ перед святой церковью за свои мысли и высказывания. Он, видите ли, считал, что главное для истинной науки не истолкование божественных истин, выраженных в священном писании а опытное познание природы. Ядовитые мысли вольнодумца, без сомнения, отравили сознание Томмазо Кампанеллы. Вот оно, главное доказательство. В руках члена церковного суда небольшая книга. На обложке стоит имя Кампанеллы. Книга называется «Философия, основанная на ощущениях». Она вся, от первой до последней строки, направлена на защиту взглядов Телезио. Книга вредная и еретическая, способная оказать самое отрицательное влияние на умы тех, кто прочитает ее. Нунций протянул руку, взял книгу, перелистал ее. Немного помедлив, произнес: — Всякое вольнодумство, всякую ересь нужно вырывать с корнем… Кампанелла вначале терялся в догадках, что послужило причиной его ареста. Инквизиторы могли предъявить ему самые различные обвинения. Он перебирал в памяти разговоры, которые вел в последнее время. Ведь достаточно было доноса о его рассуждениях, чтобы церковь возбудила против него дело, обвинив в непочтении к ней, к ее служителям. Он был молод и не очень воздержан на язык. Говорил прямо то, что думал. И хотя умудренные житейским опытом люди предупреждали, чтобы он был поосторожнее в своих высказываниях, ибо Неаполь кишел шпионами и доносчиками, он не придавал этому значения. Теперь ему довелось самому убедиться в том, что свободомыслие в Италии карается очень строго. Это подтвердилось на первых же допросах. Сам нунций задавал ему вопросы, внимательно вглядываясь в лицо молодого монаха, стараясь по едва уловимым приметам определить, лжет он или говорит правду. Кампанелла не лгал. По простоте душевной он пытался спорить, оправдывать свои убеждения, доказывать, что они вовсе не являются крамольными. Более того, он хотел убедить в своей правоте членов церковного суда. А те ужасались, до какой степени еретические идеи проникли в сознание подсудимого, который еще совсем недавно был прилежным учеником монастырской школы. Ровно год тянулось заточение Кампанеллы. Ровно год тянулись допросы. Но он оказался твердым в своих убеждениях. Даже обещание свободы за отказ от крамольных взглядов не могло поколебать Кампанеллу. Его счастье, что судьи сочли его упорство просто следствием юношеского неразумения. Но юношеские годы у него давно прошли, и его убеждения были скорее свидетельством ранней зрелости. Однако, как бы там ни было, в нем не увидели опасного вольнодумца. И это спасло его от многолетнего заключения, дало возможность вскоре освободиться из заточения. В августе 1592 года церковный суд объявил неожиданно мягкий приговор. Видимо, помогло заступничество влиятельных друзей. Судьи сделали скидку и на молодость, рассчитывая развеять убеждения Томмазо. Кампанелле предписывалось немедленно покинуть Неаполь, направиться на родину, в монастырь, и исповедовать учение святой церкви и никакое другое. Кампанелла смиренно выслушал приговор. В голове его уже роились мысли о том, как быть дальше. Он не собирался выполнять предписания суда. Даже мысли об этом не было. Ни в какой монастырь он не поедет. Не для этого он ослушался приказа приора и самовольно покинул монастырь, что, помимо прочего, вменялось ему в вину судьями инквизиции. Не собирался он исповедовать учение святой церкви, идущее вразрез с теми взглядами, которые он считал истинными и приемлемыми для себя. Он понимал, что в любом месте Италии ему придется скрываться от шпионов инквизиции. Ведь за невыполнение приговора церковного суда его ждет опять тюрьма и новый, более суровый приговор. Но это не могло остановить Томмазо Кампанеллу. Когда апостолические стражники в первый раз задержали Кампанеллу на улице Неаполя и препроводили в тюрьму, он был молод и доверчив, простодушен и незрел. Прошел всего лишь один год, и Кампанелла стал совсем иным. К нему пришла жизненная зрелость, на достижение которой иные люди тратят десятилетия. Он стал осторожен, когда высказывал свои мысли. Чтобы ускользнуть от всевидящего ока инквизиции, он менял города, переезжая с места на место, нигде долго не задерживался. Только в Падуе он решил остановиться, чтобы заработать немного денег уроками, ибо не имел средств к существованию. И эта задержка оказалась роковой. Его арестовали в доме, где он остановился. Один из его новых знакомых был схвачен инквизицией за то, что читал сатирическое стихотворение, автор которого насмехался над сыном божьим Иисусом Христом. Под пытками он признал, что стихотворение принадлежит перу Кампанеллы. Томмазо Кампанелла — автор крамольных стихов о сыне божьем! Это было очень серьезное обвинение. Если оно будет доказано, Кампанеллу неминуемо ждет казнь. Но он категорически отрицал предъявленное ему обвинение. Тогда инквизиторы прибегли к пыткам, применяя самые изощренные орудия. Однако он по-прежнему отрицал свою вину. Кампанелла понимал, что дело приняло опасный поворот. Инквизиторы без труда вырывали из «свидетелей» нужные им показания. И никакое упорство обвиняемого спасти его не могло. Он знал, что на этот раз его ждет самый суровый приговор. Выход был только один — бежать. Он сумел связаться с друзьями, оставшимися на свободе. Они подготовили побег. Но нелепая случайность спутала все. Уже у ворот тюрьмы, после того как удалось перепилить оконную решетку и спуститься по веревке вниз, на пути оказался солдатский патруль… Кампанелла стал особо опасным преступником и был переведен для дальнейшего следствия в Рим. Четыре года продолжалось заключение Кампанеллы. Четыре года он провел в сыром подземелье, где постелью ему служила охапка соломы, пищей была миска жидкой бурды, которую давали один раз в день. Да еще пытки, страшные, нечеловеческие, способные сломить кого угодно. Кампанелла перенес их, приведя в недоумение даже видавших виды тюремщиков. После таких пыток люди либо признавали любое предъявленное им обвинение, либо умирали. Кампанелла не признал вины и продолжал жить, слабый, больной, измученный. Однажды, когда его вели на очередной допрос, он встретился в тюремном дворе с арестантом, который, как и он, медленно передвигался, закованный в цепи. Это был Джордано Бруно, великий сын Италии, которому предстояло окончить жизнь на костре инквизиции. Они обменялись приветствиями, два мужественных человека, смело отстаивавшие свои убеждения. А потом опять были пытки, в которых изощрялись опытные тюремщики. Инквизиторы, надеявшиеся вырвать таким путем нужные им признания, не могли сломить его. Судьи вынуждены были сами искать выход из положения, чтобы покончить с этим делом. Человек не сознается, вина его не доказана, следовательно, он должен быть оправдан. Но кто тогда оправдает инквизиторов, продержавших невиновного несколько лет в тюремном каземате, подвергнувших его пыткам и истязаниям? Конечно, суд не мог пойти на полное его оправдание. Приговор должен быть вынесен. И его вынесли, но совсем не такой, какого желали преследователи Кампанеллы. В декабре 1596 года суд наконец вынес решение приговорить Кампанеллу к отречению от ереси. Это был самый мягкий из всех возможных приговоров. Правда, Кампанелле пришлось пройти через унизительный обряд покаяния, подписать свое отречение от ереси. Такова была цена освобождения из застенков инквизиции. И вот наконец перед ним раскрылись тюремные двери. Он опять на свободе. Сколько испытаний довелось пройти ему, чтобы обрести ее! Жизнь этого человека была поистине драматической. Ему недолго суждено было наслаждаться свободой. Всего два года. А затем новое заключение, новые лишения, долгие годы, проведенные в темнице. Теперь уже нечего было и рассчитывать на снисхождение, ибо серьезнее обвинения, чем то, которое на этот раз предъявили Кампанелле, придумать было трудно — заговор против властей, государственная измена. Когда Кампанеллу выпустили на свободу после четырехлетнего заключения, согласно предписанию церковных властей, он должен был отправиться в Калабрию. Ему надлежало навсегда отказаться от проповеди богопротивных учений, запрещалось вступать в контакты с лицами, подозреваемыми в вольнодумстве. Церковь должна была следить за его образом жизни, его поведением. Кампанелла выполнил только первую часть предписания. Он отправился в Калабрию, но там быстро сошелся с людьми, которые мечтали об освобождении своей земли от испанского владычества. Вот уже около 100 лет Италия находилась под властью испанского короля. Все беды, несчастья, лишения народные связывались в сознании масс с властью испанских завоевателей. И смелые люди решили бороться за освобождение своей родины. Среди них оказался и Кампанелла, принявший активное участие в заговоре против испанцев. Однако тщательно готовившийся заговор был раскрыт. Нашлись изменники, которые выдали заговорщиков властям. Начались аресты. Кампанелла пытался скрыться. Он прятался в маленьких деревушках, в монастырских кельях, обходя стороной рыскавшие повсюду солдатские патрули. И надо же было случиться, чтобы его последним прибежищем стал дом знакомого его отца. Кто мог знать, что тот выдаст его солдатам! Но случилось именно так. Солдаты схватили Кампанеллу, связали его по рукам и ногам. Его не убили на месте, не предали тотчас же казни, как многих его друзей и единомышленников. Кампанеллу отправили в мрачную тюрьму Кастель Нуово. Знакомый лязг замка. Двери тюремной камеры закрылись за ним на долгие, долгие годы.3
Он снова узник. Его вновь ждут допросы, истязания, пытки. Он все это уже испытал. Но впереди были новые, куда более тяжелые испытания. Немного было на свете людей, которым пришлось провести в тюрьме 29 лет и не потерять мужества, любви к жизни, человеческого достоинства. Более того, именно в заточении, в необычайно трудных условиях он создал свои лучшие произведения, принесшие ему известность, поставившие его в один ряд с крупнейшими мыслителями мира. В ожидании первых допросов Кампанелла в своей одиночной камере писал стихи. Он писал о страданиях народа, стонавшего под игом завоевателей, о нищете и бесправии простых тружеников, испытывавших на себе тяжкий гнет. Он принял участие в заговоре против испанцев потому, что надеялся на установление после свержения испанского владычества республики, с которой связывал надежды на улучшение жизни трудящихся масс. О, если б не предательство! Народ поднялся бы на борьбу. В сражении с тиранами он завоевал бы право на свое счастье. Надо было только пробудить дремлющие в нем силы, раскрыть простым людям глаза на происходившее вокруг. И тогда пали бы все преграды на пути к свободе и счастью простых тружеников. Кампанелла писал:Огромный пестрый зверь — простой народ.
Своих не зная сил, беспрекословно
Знай тянет гири, тащит камни, бревна —
Его же мальчик слабенький ведет.
Один удар — и мальчик упадет,
Но робок зверь, он служит полюбовно, —
А сам как страшен тем, кто суесловно
Его морочит, мысли в нем гнетет!
Как не дивиться! Сам себя он мучит
Войной, тюрьмой за грош себя казнит,
А этот грош король же и получит.
4
У книг, как и у людей, свои судьбы. О судьбе «Города Солнца» можно написать целый роман. И не только об истории ее написания, но и о дальнейшей жизни этой удивительной книги, в которой нашла отражение казавшаяся несбыточной мечта ее автора. Кампанелла был мечтателем, утопистом. Само слово «утопия» по-гречески означает «место, которого нет!» Хотя Города Солнца, как и острова Утопия, в действительности никогда не было, Кампанелла, рисуя картины идеального общественного строя, высказал немало гениальных догадок. Выходец из народа, Кампанелла хорошо знал его нужды, видел царившие в мире несправедливости, бесправие масс. И естественно, у него возникли вопросы: «Почему на земле существует неравенство?»; «Почему одним людям улыбается счастье, они живут в достатке и даже в роскоши, имеют собственные дворцы и обладают правом эксплуатировать, угнетать других?»; «Почему массы простых тружеников обречены на рабское повиновение своим господам, на подневольный труд?» Все эти вопросы впервые поставил не Кампанелла. Передовых мыслителей давно занимали проблемы социального неравенства, и они пытались раскрыть причины неравноправного положения людей в обществе. Кампанелла в своем «Городе Солнца» попытался найти естественные причины несправедливостей, существующих на земле, источник социального неравенства и высказал гениальную догадку, что все зло эксплуататорского строя проистекает из «обладания собственностью». Частная собственность — вот в чем основная причина неравноправного положения людей, богатства на одном полюсе и нищеты на другом. Частная собственность — вот корень всех пороков эксплуататорского общества. Значит, первой и главной задачей масс, которые стремятся к своему освобождению, к своему счастью, является уничтожение частной собственности. В Городе Солнца, который рисовал в своем воображении Томмазо Кампанелла, нет частной собственности. Там все общее. Жители города трудятся все в равной степени. Они знают, что плоды труда принадлежат им самим, а поэтому труд для них не тяжкая обязанность, а радостное и почетное дело. Они даже не представляют себе, как можно жить без труда, ибо трудовое воспитание дается каждому человеку с детских лет. В Городе Солнца большое внимание уделяется развитию наук. Ведь науки указывают людям путь к совершенству, помогают познавать законы природы, подчинять и использовать грозные стихии. Особым почетом пользуются люди, сделавшие научные открытия, полезные обществу изобретения. Их имена заносятся в «Книгу героев». Государство без эксплуататоров, без тунеядцев, живущих за счет чужого труда, — таким представлял себе идеальный государственный строй Кампанелла. Он презирал людей, проводящих жизнь в безделье, и верил, что в будущем общество избавится от тех, кто живет в праздности. В Городе Солнца, о котором он поведал в своей книге, созданы все условия для гармонического развития личности. Каждый человек может выбрать дело по душе, потому и работа ему в радость. Свободное время жители этого города проводят в занятиях наукой, в чтении, беседах, прогулках. Кампанелла отмечал, что образование является «первой основой государственного благосостояния». Значит, государство, которое заботится о своем благосостоянии, берет на себя обязанность образования молодежи, обучения юношей и девушек различным ремеслам согласно наклонностям каждого. В Городе Солнца ни у кого нет личного имущества. Там все общее. У жителей города общие дома, общие предметы домашнего обихода, общественные столовые. Если бы кому-нибудь из горожан и предложили обзавестись собственностью, он наотрез бы отказался. Ведь каждый получает все, что ему нужно, и чувствует себя полноправным хозяином всего, чем владеет государство. Жителей города Кампанелла рисовал здоровыми, сильными, мужественными, красивыми. Это естественно при гармоническом развитии, нормальном труде, нормальных условиях жизни. Солярии, как называл их Кампанелла, любят свою родину. Они истинные патриоты и готовы защищать ее от любого посягательства. Мирные по натуре люди, они свято хранят свои традиции и проходят военную подготовку, чтобы в случае необходимости выступить на защиту государства. Власть в городе принадлежит народу, и каждое решение, которое принимается, широко обсуждается. Причем всем предоставляется возможность высказать свое мнение. Каждое новолуние и полнолуние собирается Высший Совет, которому доверено руководство государством. На Совете жителям города старше 20 лет предлагается высказаться «о том, какие есть в государстве недочеты, какие должностные лица исполняют свои обязанности хорошо, какие — дурно». Если какое-то из должностных лиц плохо несет возложенные на него обязанности, оно немедленно смещается. Рассказывая о Городе Солнца, Кампанелла имел вполне определенную цель: увлечь людей идеей создания государства, свободного от частной собственности, от эксплуатации, от социального неравенства, своей мечтой о том времени, когда на земле восторжествует справедливость и все люди, независимо от их происхождения, будут жить счастливо. К этой жизни и звал он в своем «Городе Солнца», веря, что его книга пробудит сознание многих людей, заставит их поднять голос в защиту идеи создания идеального государства. Вот почему эта светлая, проникнутая любовью к людям книга, написанная в тюремном каземате, пережила столетия. Ее читали, передавали из рук в руки. Она пробуждала добрые чувства, звала на борьбу против тирании, за свободу всего человечества. Ее читали итальянские карбонарии и французские коммунары. Ее читали русские революционеры в годы царского самодержавия. Ее знал и читал Ленин. И когда в первые годы после победы революции в Москве у Кремлевской стены был воздвигнут обелиск в память о самых замечательных борцах за свободу, среди других славных имен на сером граните, по предложению В. И. Ленина, было высечено имя Томмазо Кампанеллы.5
В голубом небе сияет веселое весеннее солнце, согревает землю теплыми и ласковыми лучами. А в тюремной камере всегда полумрак. Только полоска света, проникающая в камеру, напоминает о том, что пришел новый день. Двадцать девять раз приходила и уходила весна, а Кампанелла продолжал томиться в тюрьме. Это было хуже пыток, ибо 29 лет, проведенных в тюрьме, — самая страшная, длительная пытка. Инквизиции не удалось сломить его дух, уничтожить его физически. Он был словно из камня, этот сильный и мужественный человек. Он не только смирился, но, более того, продолжал работать. Любыми правдами и неправдами Кампанелла добывал бумагу и чернила. Урывками, когда в коридоре не было слышно шагов тюремщика, записывал свои мысли и потом находил способ передать написанное на волю друзьям. Инквизиторы сделали все возможное, чтобы заставить Кампанеллу замолчать, к нему приставили самых надежных тюремщиков, устраивали неожиданные обыски в камере, следили за каждым его шагом. Но написанные Кампанеллой трактаты, переписанные в десятках экземпляров, ходили по рукам. Об этом то и дело доносила тайная полиция. И тогда Кампанеллу перевели в еще более мрачную тюрьму, чем Кастель Нуово. Его бросили в подземелье крепости Сант-Эльмо. В сером сыром каземате, куда не проникало ни единого луча света, он наверняка не сможет писать. Отдавая это распоряжение, вице-король процедил сквозь зубы: — Пусть сгниет заживо этот бунтовщик и еретик. Сант-Эльмо будет ему могилой. Нет, надежды вице-короля и католических инквизиторов, просивших его перевести Кампанеллу в крепость Сант-Эльмо, не сбылись. И на этот раз не удалось сломить этого узника. Три года и восемь месяцев спустя власти вынуждены были перевести Кампанеллу снова в тюрьму Кастель Нуово. Кампанелла работал беспрестанно. В тюрьме он написал несколько сочинений, в том числе трактаты «Медицина», «Метафизика», «Диалектика»… Работоспособность его была поразительна. Но не менее поразительным было и то, как этому удивительному человеку удавалось обходить все препоны, которые ставили бдительные тюремщики. Он находил людей, которые подпадали под власть его обаяния, рискуя, приносили в камеру бумагу, передавали на волю его рукописи. Тюремное начальство устанавливало слежку за надзирателями, сменяло их, но ничего не помогало. Кампанелла находил выход в казалось бы безвыходных положениях. Его враги бесновались, скрежетали зубами инквизиторы. Они чувствовали себя беспомощными перед этим узником. А тут еще тайное донесение о том, что Кампанелла отправил письмо Галилею, написал «Четыре статьи о „Рассуждении“ Галилея», в которых поддерживал взгляды ученого, разделявшего мнение Коперника о движении Земли вокруг Солнца, взгляды, противоречащие священному писанию и учению церкви. И инквизиторы вновь спешат к вице-королю, чтобы убедить его в том, что Кампанеллу преждевременно перевели из Сант-Эльмо. Только эта страшная тюрьма может исправить его. Уже сам по себе этот шаг свидетельствует о растерянности церковников, которые никак не могли найти способа обуздать Кампанеллу, заставить его замолчать. В одну из зимних ночей Кампанеллу вывели из камеры, посадили в карету и повезли неведомо куда. По бокам сидели стражники, крепко державшие его за руки. Он пытался узнать, куда его везут, но стражники молчали. Только тогда, когда карета остановилась и он увидел в предрассветных сумерках очертания каменного замка, понял: это Сант-Эльмо. Все повторилось снова. Только надзор стал еще более строгим. С Кампанеллы буквально не спускали глаз, чтобы он не мог написать ни строчки. И все-таки он умудрялся писать. Ему даже удалось через одного из надзирателей установить связь с друзьями, оставшимися на свободе. Письма, полученные от них, поведали ему о событиях последнего времени. Особенно взволновал Кампанеллу судебный процесс над Галилеем. Доколе же будет церковь препятствовать свободному развитию наук? До каких пор тупые, невежественные люди будут пользоваться безнаказанным правом судить о научных исследованиях, об ученых трудах? Достаточно, чтобы им только показалось, что эти взгляды идут вразрез с проповедуемыми церковью «истинами», церковь устами невежд может осудить их, а ученого подвергнуть наказанию. Они осудили Галилея! Нет, Кампанелла не может остаться безучастным. Он должен сказать свое слово, слово в защиту великого мыслителя, его великих идей! Кампанелла прекрасно сознавал, что выступление в защиту идей, осужденных церковью, — это открытый вызов церковникам. Если инквизиторы тратили годы, силясь доказать вину Кампанеллы, то на сей раз им этого не потребуется. В их руках будет документ, который может стать обвинительным заключением. Но ему ли, человеку, пережившему все самое страшное, что только можно пережить, бояться инквизиторов? Чем они могут запугать его? Смертной казнью? Но он не боится смерти. За годы, проведенные в тюрьмах, за многие часы жестоких пыток он не раз смотрел смерти в глаза. Смерть убивает человека физически, но она бессильна уничтожить его мысли. А мысли Кампанеллы в его творениях, в «Городе Солнца», который находится в надежных руках. И Кампанелла пишет «Апологию Галилея»… А несколько лет спустя в тюремную камеру пришла добрая весть. Наконец увидела свет книга Кампанеллы «Город Солнца». Как он ждал этого дня, ждал много лет! Он верил, что своей книгой укажет людям путь к счастью, и потому так стремился, чтобы она увидела свет. Для него, узника Сант-Эльмо, это была самая большая радость. За все годы пребывания в тюрьме он никогда не чувствовал себя таким счастливым. Что бы ни было теперь с ним, какие бы пытки ни придумывали его мучители, им не удастся уничтожить Кампанеллу. — Кампанелла живет. Слышите, он будет жить! — громко сказал он, словно его кто-то мог услышать здесь, в одиночке. И повторил: — Будет жить!6
27 июля 1628 года решением папы римского Урбана VIII бывший монах Томмазо Кампанелла был освобожден из заключения. Решение папы было вызвано разными обстоятельствами. Среди них не последнюю роль сыграло то, что имя Кампанеллы к этому времени стало известно далеко за пределами Италии. Судьба необыкновенного узника, трактаты которого переводились на разные языки и распространялись во многих странах, явно не способствовали популярности католической церкви. В папскую канцелярию приходили петиции с просьбой о помиловании Кампанеллы. Очень влиятельные лица просили за Кампанеллу, понимая, сколь чудовищно содержать в темнице человека, о котором знает вся просвещенная Европа. Было и еще одно обстоятельство. В последние годы Кампанелла рассылал много писем светским и церковным иерархам с просьбой помочь ему освободиться из заключения. К каким только уловкам он не прибегал. Он предлагал свои услуги в философском обосновании религиозных положений, предлагал поставить свое перо на службу церкви. Его талант был к тому времени общепризнанным, и церковь могла бы получить в его лице авторитетного защитника. Но духовные властители хорошо знали Кампанеллу и боялись его. Кто знает, что он может выкинуть. Его убеждения были хорошо известны. Он был врагом христианства, и церковные иерархи не верили в то, что он изменит себе. Тогда Кампанелла сделал иной ход. В своих прошениях об освобождении из заключения он писал, что занятия астрологией научили его по движению небесных светил предсказывать надвигающиеся опасности… Расчет был на то, что занявший папский престол Урбан VIII верил в предсказания астрологов. Кампанелла заявляет, что знает о всех опасностях, которые грозят папе. Более того, он якобы обладает секретом, с помощью которого можно отвести дурное влияние звезд иобеспечить их благоприятное воздействие. Если папа освободит его из заключения, отменит несправедливый приговор, он готов служить ему до конца дней. Суеверный Урбан VIII поверил Кампанелле. Он принял решение освободить его из тюрьмы. Автор «Города Солнца», не видевший дневного света в течение 29 лет, наконец увидел солнце. Казалось бы, человек, прошедший через столько испытаний, должен был навсегда отказаться от участия в политической борьбе и борьбе с римской церковью. Но не таков был Кампанелла. Едва освободившись из тюрьмы, он сразу же установил опасные, как доносили шпионы инквизиции, связи. Когда-то он поплатился за попытку организовать заговор против иноземного владычества, против испанских завоевателей. Но он не отказался от этой мечты. Он хотел видеть Италию свободной. Можно поражаться силе убежденности этого человека в правоте своих идей. Кампанелла считал, что лишь силой оружия можно одолеть иноземцев. Но только в том случае, если восстание охватит не один, а все районы Калабрии. А для этого надо хорошо подготовиться. Кампанелла имел большой жизненный опыт. Он стремился предостеречь заговорщиков от ошибок, которые совершили их предшественники. Он знал, что самая крупная ошибка — поспешность и неверные средства в борьбе против завоевателей. Однако среди молодых людей, жаждавших как можно скорее освободиться от владычества испанцев, были слишком нетерпеливые. Сколько можно заниматься пустыми разговорами? Надо действовать решительно и прежде всего убить вице-короля. Напрасно Кампанелла пытался охладить горячие головы, доказывая, что убийство вице-короля ничего не даст. На смену ему придет другой, а освобождение страны затянется на годы. Кроме того, станет гораздо труднее готовить широкое выступление масс, ибо на террор власти ответят террором. Его не слушали. Кончилось все тем, что покушение сорвалось. Один из заговорщиков выдал всех, и начались аресты. На допросах, среди лиц, участвовавших в подготовке восстания, было названо имя Кампанеллы. И опять, на склоне лет, как и в молодые годы, перед ним открылась мрачная перспектива попасть в руки инквизиции. Друзья приняли все меры к тому, чтобы не допустить этого. Они позаботились о безопасности Кампанеллы. В октябрьскую ночь 1634 года Томмазо Кампанелла тайком покинул Рим и, перебравшись через границу Франции, прибыл в Марсель. Он приехал без денег, без самых необходимых вещей. Но Франция встретила его гостеприимно. О нем здесь знали, его имя среди молодежи было символом мужества, стойкости, непоколебимости в своих убеждениях. Правда, инквизиция и во Франции не выпускала Кампанеллу из-под своего всевидящего ока, но здесь она не обладала уже такой силой, как в Италии. В этой стране он чувствовал себя намного свободнее, чем на родине. Особенно радовало его то, что во Франции, несмотря на запрет инквизиции, печатали его книги. Он с головой окунулся в работу, много писал, вынашивал планы новых сочинений, встречался со своими почитателями и излагал им идеи, которые высказал в «Городе Солнца» и других своих книгах. Казалось, к нему пришла вторая молодость. Однако за спиной было уже семь десятилетий жизни, полной лишений. Он пытался убедить себя в том, что здоров и полон сил, но здоровье было подорвано в казематах Кастель Нуово, в подземелье Сант-Эльмо, в других тюрьмах. А их он насчитал пятьдесят. «…Я родился в нищете… и всегда подвергался преследованиям и клевете… — писал о себе Кампанелла, — и столько раз перебывал в тюрьмах, что не припомню и месяца подлинной свободы, разве что ссылку…». Тяжелая болезнь свалила его в постель. Он слабел с каждым днем, и лучшие парижские врачи расписывались в своем бессилии помочь ему. Он угасал, отчетливо понимая, что приходит конец его многотрудной жизни. Он был спокоен, ибо уходил с сознанием выполненного долга, перед людьми, о счастье которых он думал всегда. Томмазо Кампанелла умер 21 мая 1639 года на рассвете, когда выглянули из-за горизонта первые лучи восходящего солнца. Он умер с горячей верой в то, что солнце будет светить всем людям. Он знал: так и будет. А в типографиях стучали печатные станки. Один за другим ложились в стопу оттиски книг Кампанеллы, книг, которые несли человечеству свет великих надежд.Последнее слово Уриэля Дакосты



Время действия — XVII век. Место действия — Амстердам.
1
Что может быть мучительнее, когда все, казавшееся еще недавно таким ясным, начинает подтачивать червь сомнения? Наступает полный хаос в мыслях, и все вопросы, которые рождаются в голове, остаются без ответа. Откуда начинается сомнение? Почему оно возникает у человека, которому с детских лет внушали христианские истины? Казалось бы, они должны были овладеть всем его существом. Но сомнения пришли, и вера в истинность христианских догм улетучилась как дым, уступив место неверию. Значит, не было веры? Может быть, это происки сатаны, который пытается столкнуть людей с пути истинного? Как бы то ни было, всякое сомнение для верующего человека — грех. И он, Уриэль Дакоста, — грешник. А грешников ждут адские мучения на том свете. Уриэль размышлял. Он часто предавался размышлениям в одиночестве. Уриэль вспоминает, как его еще ребенком отец заставлял заучивать назубок христианский Символ веры, как вечерами строго экзаменовал сына, требуя пересказа библейских сказаний. Сын успешно выдерживал экзамены, и отец был удовлетворен. Бенто Дакоста, португальский дворянин, желал добра сыну и знал, что достичь этого Уриэль сможет только в том случае, если станет верным христианином. Бенто Дакоста на себе испытал, что значит быть иноверцем и даже марраном, евреем, принявшим христианство. Когда в 1580 году испанский король Филипп II захватил Португалию, он начал преследовать всех иноверцев, и в первую очередь евреев, которых считал злейшими врагами христианской веры. На португальской земле открылось широкое поле деятельности для инквизиции. Человека, не исповедовавшего христианство, объявляли еретиком, а это значит его ждали тюремный застенок, пытки и казнь на костре. Спасение было в одном — принять христианскую веру, и Бенто Дакоста, не раздумывая, принял ее. Он стал марраном. И хотя марраны не были полностью уравнены в правах с другими христианами — за ними велась постоянная слежка, — но все-таки они могли жить в стране, где смерть подстерегала каждого иноверца. Бенто Дакоста видел, как окончили жизнь в тюрьмах инквизиции и на кострах многие его друзья, не пожелавшие принять христианство и оставшиеся преданными вере своих отцов — иудаизму. Он понимал, что христианство утвердилось на Пиренейском полуострове не на месяц и не на год. А раз так, то следовало подумать о будущем сына. Он должен стать настоящим христианином, и тогда жизнь его будет легка. Он будет богат, ибо отец сумел накопить немалое состояние. Будет знатен, ибо унаследует дворянский титул. Если к тому же он станет христианином, ему нечего тревожиться за будущее. Так рассуждал Бенто Дакоста, наставляя сына в христианской вере. Бенто Дакоста предусмотрел все. Он определит сына в католический коллеж, где воспитанием подростков занимаются иезуиты. Этот орден, несомненно, имеет большое будущее. Основанный в 1534 году Игнатием Лойолой для борьбы против реформации, для защиты папского престола от еретиков, он быстро набирал силу. Иезуиты без всякой жалости относились к тем, кого считали врагами престола. Недаром же они поклялись «верой и правдой повиноваться святейшему отцу — папе». Недаром провозгласили, что цель оправдывает средства. А это означало, что ради защиты христианской веры они не гнушались никакими средствами. Было и другое обстоятельство, которое сыграло свою роль в решении Бенто Дакосты отдать сына на воспитание иезуитам. Им покровительствовал сам король Филипп. Но если сам король был расположен к иезуитам, то не могло быть ничего лучшего, как сделать сына иезуитом. Бенто Дакоста был предприимчивым человеком. Он все хорошо продумал, чтобы вывести в люди Уриэля, и испытывал радость, что все идет по плану. Когда Уриэлю исполнилось 10 лет и его отправили в католический колледж, он знал христианскую мифологию так, что ему мог позавидовать и взрослый последователь веры христовой. И в колледже он был среди лучших, несмотря на то, что учителя не баловали его: как-никак, он был сыном маррана. Но что поделаешь, если мальчуган был настолько прилежен и старателен, что его приходилось ставить в пример другим? Когда окончился курс обучения в колледже, настойчивый Бенто Дакоста добился определения сына в Коимбрский университет, на богословский факультет. В конце концов, рассуждал Бенто Дакоста, светские науки можно постичь не на университетской скамье. Они даются жизненным опытом. Да и не всегда они нужны. С солидным капиталом, с хорошей головой можно прожить и без светских наук. А вот если тебя кто-нибудь упрекнет, что ты недостаточно верный христианин, то не помогут ни капиталы, ни хорошая голова. И Уриэль семнадцатилетним юношей сел на студенческую скамью факультета канонического права университета в Коимбре… Все, кажется, предусмотрел Бенто Дакоста. Все до мелочей. Одного он не мог предусмотреть: что его сын, приобретая знания, попытается использовать их для того, чтобы логически осмыслить те представления, которые он получил в колледже от своих духовных наставников. Откуда начинается сомнение? Кажется, Уриэль сделал все, чтобы принять сердцем своим христианские догмы. Он никогда не пытался рассуждать, состоятельны они или нет, никогда даже мысли не держал о том, что христианское учение может быть в чем-то ошибочным. Он верил в библейские сказания о том, что мир сотворен богом в шесть дней, верил в рассказ о грехопадении первых людей Адама и Евы, ослушавшихся приказа господа бога и отведавших запретный плод с древа познания добра и зла, за что всевышний проклял весь род человеческий. Он верил в евангельского Иисуса Христа, сына божьего, будто бы посланного господом на землю, чтобы мученической смертью своей искупить грехи людей. Верил в то, что Христос был осужден римским наместником Иудеи Понтием Пилатом на смертную казнь, был распят на кресте, но затем воскрес из мертвых и вознесся на небо, чтобы в день кончины мира вторично явиться людям, свершить страшный суд над живыми и мертвыми и воздать по заслугам праведникам и грешникам: первых определить в рай, а вторых обречь на мучения в аду. Всему этому учили «священные» книги, всему этому учила христианская церковь, и Уриэль даже не мог себе представить, как можно усомниться в этом. Но сомнение пришло. Оно рождалось в сердце Уриэля по мере того, как он все больше углублялся в изучение истории христианства и христианского учения. Столетие спустя французский философ и просветитель Пьер Бейль напишет в своем «Историческом и критическом словаре» об Уриэле Дакосте, что тот «настолько был проникнут верой в бога, что страстно желал исполнить все предписания церкви, дабы избежать вечной смерти, которой он очень боялся. Поэтому он начал тщательно изучать евангелие и другие книги священного писания… Но чем больше он занимался этим, тем большие трудности вставали перед ним». Изучая священные книги, Уриэль обнаружил в них вопиющие противоречия. Бог объявлялся в христианском Символе веры всеблагим, милосердным, справедливым, источником всего доброго, а на страницах Библии он порой представал жестоким, несправедливым и далеко не милосердным. Библия — богодухновенна, то есть продиктована самим господом, учат католические проповедники. Раз так, то каждое ее слово является вечной истиной. Но почему же в ней столько противоречий? Почему в 7-й главе книги Бытие в 4, 11 и 12-м стихах говорится, что всемирный потоп продолжался 40 дней, а в той же главе в 24-м стихе сказано, что он длился 150 дней? Почему в 20-й главе книги Исход провозглашается, что ответственность за грехи отцов несут дети до третьего и четвертого рода, а в книге Иезекииль утверждается, будто за грехи отвечает лишь душа согрешившего, а дети не отвечают за деяния отцов? Сколько таких противоречий в Библии… Не счесть. Есть отчего впасть в отчаяние человеку, решившему принять христианскую веру. И Уриэль действительно впал в отчаяние. «Будучи юношей, — писал он впоследствии, — я очень боялся вечного осуждения и старался точно соблюдать все предписания. Я предавался чтению евангелия и других духовных книг… Но чем более ревностно занимался я ими, тем большие трудности возникали передо мной. Наконец я впал в безысходную путаницу, тревогу и затруднения. Скорбь и печаль изнуряли меня… Но так как трудно было покинуть религию, к которой я привык с колыбели и которая через веру пустила глубокие корни, что родилось во мне сомнение, могут ли рассказы о загробной жизни быть истинными, а вера в них согласоваться с разумом; да, ибо разум твердил и постоянно шептал на ухо совершенно противоположное». Только ли знакомство со «священной» литературой, с догматикой, с историей христианства зародило сомнение в душе молодого Уриэля Дакосты? Нет, конечно нет. Сама жизнь сеяла в душу его эти семена. Чем глубже он ее познавал, тем больше сомнений одолевало его. Как раз в самом начале его занятий в университете страну охватила эпидемия чумы. Он вынужден был возвратиться в отчий дом, в родной город Опорто, который тоже не пощадила «черная смерть». О, какие это были страшные дни, когда смерть косила людей без разбору и люди были бессильны совладать со злой напастью. Глядя в окно, Уриэль видел, как люди в черном увозили на окраину, где полыхали костры, горы трупов, и тяжелые думы одолевали его. Где он, милосердный бог, молчаливо взирающий на человеческие трагедии? Можно ли говорить о милосердии божьем, о всеблагости господа, придумавшего столь жестокие испытания для людей? Да, теперь Уриэль Дакоста может твердо сказать, откуда начались его сомнения. Он проанализировал свой путь к вере, к разочарованиям в вере и, наконец, к неверию в христианские святыни, перед которыми еще недавно благоговел. Разум убил веру. Христианство предстало перед ним заблуждением, и уже никакие сказки о загробных карах не могли запугать его, ибо он знал, что это всего лишь сказки, подобные тем, которые рассказывают детям. Но Уриэль вышел из детского возраста. А вместе с детством навсегда ушли из жизни и эти сказки.2
В 1614 году в синагоге Фленбурга, одного из районов Амстердама, появился новый член иудейской общины. Было ему около тридцати лет. Членам общины стало известно, что совсем недавно прибыл он из Португалии. В первые же дни пребывания в Амстердаме он принял иудаизм и стал полноправным членом общины как правоверный иудей. Что же произошло? Неужели тот самый Уриэль Дакоста, который разочаровался в христианской вере и сумел сбросить с себя путы католицизма, вновь добровольно отдал себя во власть другой, иудейской религии? Да, это был тот самый Уриэль, только не пылкий юноша, слепо принимавший по настоянию отца истины христианской веры, а зрелый, рассудительный человек, ищущий правду, ищущий единственно правую веру среди множества религий, существующих на земле. Поиски истинной веры и привели его в синагогу Бет-Яков в еврейском квартале Амстердама… Когда Уриэль Дакоста окончательно разочаровался в христианской религии, он твердо решил покинуть родные края и принять иудейскую веру. К этому времени умер его отец, который так ничего и не узнал о сомнениях сына, умер, уверенный в том, что сделал доброе дело, приобщив его к христианской религии. В богатом отцовском доме, которым теперь владел Уриэль, все реже стали появляться католические священнослужители и все чаще марраны, по необходимости принявшее христианство, но в душе оставшиеся верными иудейской религий. Они говорили о подвергнутой гонениям вере отцов с благоговением, говорили о тех, кто так и не изменил своим религиозным убеждениям, приняв смерть на кострах инквизиции. «Вера наших отцов — единственно истинная вера, — слышал Уриэль, — Ее хотят выжечь огнем, уничтожить во веки веков. Но придет время, и выдержавший все испытания иудаизм восстанет гордо перед теми, кто хотел предать его забвению». Найдя в себе силы вынести приговор христианству, Уриэль Дакоста стал искать веру истинную. Эти поиски и привели его к иудейской религии. Однако объявить открыто о своем разрыве с христианством, о своем вступлении в лоно иудаизма значило добровольно отдать себя в руки инквизиторов. Тут-то и услышал Уриэль Дакоста о том, что в далекой Голландии существует свобода вероисповедания, что евреи могут там открыто исповедовать свою религию, не боясь притеснений и преследований. И он решил покинуть Португалию и отправиться в Голландию, в город Амстердам. Голландия одной из первых европейских стран вступила на капиталистический путь. Уже в XVII столетии она, по словам Карла Маркса, была «образцовой капиталистической страной». Пришедший на смену феодальному буржуазный строй открыл простор для развития промышленности, торговли. Выход к Северному морю способствовал расширению мореплавания. Голландские каравеллы устремились в неизведанные дали в поисках богатых земель и рынков. Голландский флаг затрепетал на многих далеких материках и островах. Вожди племен и царьки ставили отпечаток большого пальца на грамоты, гласившие о том, что их земли отныне переходят в собственность Соединенных провинций Голландии. Погоня буржуазии за наживой, стремление к увеличению богатств вызывали настоятельные требования совершенствовать орудия производства, создавать высокопроизводительные механизмы, которые бы могли заменить ручной труд, дать больше продукции. Именно поэтому представители нового класса ратовали за развитие наук, покровительствовали ученым и изобретателям, которых стремились поставить себе на службу. И хотя церковь продолжала препятствовать научным поискам, она была вынуждена считаться с требованиями капитала, который превращался во все более внушительную силу. Свободный воздух Голландии привлек много выдающихся ученых разных стран, которые, вырвавшись из затхлой атмосферы господства средневековых представлений, все еще сохранявшихся во многих государствах Европы, устремились в страну, где рассчитывали найти прибежище от преследований церковников. В Голландии работали крупнейший французский мыслитель Ренэ Декарт, английские философы Джон Толанд и Джон Локк. Здесь творили и ученые, рожденные на голландской земле: замечательный математик и оптик Христиан Гюйгенс, изобретатель микроскопа Левенгук, химик ван Гельмонт. В Амстердаме действительно можно было без боязни заявить о своей принадлежности к любой религии. Это, в сущности, никого не интересовало. Жители этой страны были в тот период заняты торговлей, частным предпринимательством. Здесь царил культ накопления, культ наживы. Это было главное. Люди мало думали о высоких материях, их прежде всего влекли чисто земные заботы. Примерно в те самые годы, когда Уриэль Дакоста обосновался в Амстердаме, французский философ Ренэ Декарт, живший здесь же, писал одному из своих друзей: «В этом большом городе я единственный человек, не занимающийся торговлей…». Жизнь страны накладывает отпечаток на каждого ее жителя. И Уриэль Дакоста, никогда не имевший тяги к коммерции, в Амстердаме занялся коммерческими делами. Он участвовал в финансовых сделках, в торговых операциях и довольно преуспел в них. Вскоре его дом стал одним из самых знатных в еврейском квартале города. Он женился, приобрел репутацию добропорядочного семьянина. Он снискал себе уважение соседей как удачливый делец. Это ценилось превыше всего, и с ним почтительно раскланивались самые именитые жители еврейского квартала. Казалось, он имел все, о чем может мечтать человек. Но его опять стали терзать сомнения. Приняв иудаизм, он попытался разобраться в принципах этой веры, что привело его к неожиданным открытиям. Первое открытие, которое поразило его, было то, что укоренившиеся в практике иудейской общины правила и обычаи не соответствовали тому, о чем утверждалось в «священной» книге иудаизма — Торе. Тора, как учили раввины, содержит в себе все заповеди, которые бог дал еврейскому народу через величайшего пророка Моисея. Но обычаи, существовавшие в общинах, основывались на указаниях другой «священной» книги — Талмуда, истолковывающего «Моисеев закон». И вот оказалось, что в Талмуде божественные установления искажаются, подчищаются, подновляются. Это было действительно неожиданностью для него и не поддавалось никакой логике. Как же так? Значит, действуя по букве Талмуда, раввины отступают от законов божьих? Но тогда Талмуд, который раввины объявляют божественной книгой, вовсе не является таковой. Он — творение людей, причем людей, отступивших от божьих установлений. Снова мучительные сомнения, колебания, снова размышления о вере, которые когда-то привели Уриэля Дакосту к разрыву с христианством. Он попробовал очень осторожно поделиться своими мыслями с некоторыми раввинами, с которыми, как полагал, можно выяснить неясные вопросы. Он поставил вопросы в такой форме, что раввины, к которым обратился, внимательно и терпеливо выслушали его, а затем столь же терпеливо постарались внушить ему впредь не стремиться понять то, что непонятно, а верить, как повелевает долг иудея, ибо подобное стремление ни к чему хорошему не приведет. Дакоста должен знать, как любая церковь относится к вольнодумцам. Вольнодумец! Он в ту пору не был им. Он не помышлял о разрыве с иудейской религией. Он просто хотел разобраться, действительно ли в еврейских общинах последовательно соблюдаются законы божьи, или люди нарушают их. Не против своей веры, а, наоборот, за чистоту веры выступал Уриэль Дакоста. Естественно, самое простое было не докапываться до истины, а махнуть на все рукой и беспрекословно выполнять то, что требуют раввины. Но Уриэль Дакоста стремился осмыслить все, с чем ему довелось встречаться в жизни. И он не успокоился до тех пор, пока не высказал своих соображений относительно искажений древних традиций в иудейских общинах Амстердама. Свои мысли он изложил в «Тезисах против традиции», которые отправил в иудейские общины Гамбурга и Венеции. Он слышал, что там раввины просвещенные люди. Пусть же они будут беспристрастными судьями, разберутся в том, прав ли Уриэль Дакоста или не прав. Известия, которые он вскоре получил из Гамбурга и Венеции, повергли его в уныние. «Тезисы» Дакосты были объявлены крайне вредными и преданы анафеме. Может быть, он все-таки ошибается? Надо еще и еще проверить себя. Он вновь садится за богословскую литературу, вновь и вновь штудирует «священные» книги. О, как бы он был счастлив, если бы узнал, что действительно ошибся. Однако этого не произошло. Чем больше углублялся Уриэль Дакоста в самые сокровенные премудрости иудейской религии, тем больше возникало у него сомнений. Он знакомится с учением о бессмертии души, и у него начинает зарождаться сомнение в правильности этого учения. Он ищет оправдание своему сомнению в Библии и находит его. В самом деле, в Библии, оказывается, нигде не говорится о бессмертии души. А между тем и иудеи и христиане считают Библию творением божьим. Но если бог сам не упомянул нигде о бессмертии души, то, значит, это придумали позднейшие толкователи «священной» литературы? Он все отчетливее понимает, что авторство книг, которые почитаются как богодухновенные, на самом деле принадлежит не богу, а людям. Ему и в голову не приходит, что отрицать бессмертие души равносильно тому, что подрубить опору, на которой покоится религия. Нет бессмертия души, значит, нет загробной жизни, загробного воздаяния, нет рая и ада. Но если так, то рушится и религиозное учение о необходимости смирения и терпения в этой жизни ради вечной жизни, божественного воздаяния на том свете. Рушится религиозное учение, и утверждается другое — о том, что человек рожден для счастья на земле, что именно в этом мире он должен добиваться благополучия, бороться за лучшую жизнь, а не уповать на милости с неба. Кто знает, как бы все обернулось, если бы не совершенно неожиданные обстоятельства, не позволившие Дакосте закончить трактат «О смертности души человеческой», в котором он решил строго логично и аргументированно изложить свои взгляды, доказать свою правоту. Однажды тетрадь, в которую он записывал свои мысли, похитили. Кто это сделал, установить не удалось. Но есть предположение, что похитил тетрадь двоюродный брат Уриэля Иоахим, люто ненавидевший Дакосту. Тетрадь Уриэля Дакосты была передана в общину. Можно себе представить, какой ужас охватил раввинов, когда они читали рукопись. Подумать только, добропорядочный член общины вдруг высказывает мысли, которые под стать самому закоренелому еретику! Что тут делать? Только одно: вырвать эту ересь с корнем и как можно быстрее. В мае 1623 года раввины еврейской общины в Амстердаме вызвали автора кощунственного писания на допрос в синагогу Бет-Яков. Ему предъявили тетрадь, которую он считал утерянной, и потребовали объяснений. Ну что ж, если предстояло открыто высказаться обо всех своих сомнениях, он должен был ответить достойно. Да, он, Уриэль Дакоста, отрицает бессмертие души. Душа смертна, как и тело. Учение о бессмертии души не имеет под собой никакой почвы. Если не так, то пусть почтенные мужи, которые в этой самой синагоге проповедуют бессмертие души, опровергнут сие утверждение. Раввины переглядываются между собой, пожимают плечами. Какая дерзость! Он требует, чтобы судьи предъявили какие-то доказательства, будто не он, а они держат перед ним ответ. Бессмертие души — принцип веры отцов, иудейской веры. Дерзкий еретик поднимает руку на этот священный принцип. Уриэль Дакоста держится с достоинством. Да, заявляет он, в той самой тетради, которая лежит на столе почтенных судей, ведущих этот допрос, в тетради, попавшей в их руки, утверждается, что душа смертна. Но там не только утверждения, но и доказательства, логические доказательства. Чтобы доказать иное, надо опровергнуть эти аргументы. Вот один из них: как известно, никто не возвращался из царства мертвых, никто, следовательно, не может с уверенностью сказать, что оно существует. Если душа была бы бессмертной, то неужели господь, как заявил один итальянский мыслитель, не вернул бы одну из них в этот мир, чтобы доказать сомневающимся, как они неправы? Раввины вновь переглядываются. Чем могут ответить они на эти слова, кроме ругани в адрес нечестивца: «Хулитель веры, безбожник, еретик!» Судьи требуют от Уриэля Дакосты, чтобы он отрекся от своих кощунственных суждений, раскаялся. Но Дакоста решительно заявляет, что его утверждения — плод долгих раздумий, результат его мыслительной деятельности. Разве религия иудеев запрещает людям мыслить? Может быть, почтенные судьи укажут, в каком из законов говорится об этом? Требования судей сменяются попытками убедить Дакосту в том, что он поступает опрометчиво, ибо идет на прямой конфликт с общиной. Знает ли Дакоста, что это сулит ему? Это сулит отлучение от синагоги, всеобщее презрение окружающих, одиночество, ибо никто не посмеет общаться с еретиком, отлученным от синагоги. Пусть он подумает, что ждет его впереди, и решит, стоит ли менять свое благополучие и покой на те неприятности, с которыми ему доведется столкнуться. Судьи ждут ответа. Ждут, что он одумается. Он же трезво мыслящий человек и должен все хорошо понимать. Ну, Уриэль Дакоста? Какое решение ты принял? Дакоста непоколебим. Он не может кривить душой, не может изменить убеждениям. Терпение раввинов оказалось исчерпанным, их решение было единодушным: предать дерзкого нечестивца анафеме, отлучить его от церкви. Несколько дней спустя при большом стечении народа в синагоге Бет-Яков был оглашен приговор отступнику и еретику Уриэлю Дакосте. Приговор раввинов заканчивался словами: «…изгнать его как человека, который уже отлучен и проклят законом божьим, чтобы никто с ним не разговаривал, кто бы то ни был, — ни мужчина, ни женщина, ни родственник, ни чужой, никто не выказывал бы ему расположения и не был бы с ним в сношениях под страхом подвергнуться такому же отлучению и быть изгнанным из нашей общины». А его братьям с полным уважением было предписано отделиться от него в течение восьми дней… Стоял май. В садах Амстердама расцветали тюльпаны. Пестрым разноцветьем манили к себе залитые солнцем газоны на набережных каналов. На улицах резвились дети. Все радовались весне. И только у одного из жителей города не было весны. Когда он появлялся на улице в еврейском квартале, люди переходили на другую сторону. Он слышал повсюду зловещий шепот и оскорбления. Подученная старшими детвора собиралась около его дома и хором выкрикивала оскорбительные слова. В его окна летели камни. Мальчишки осыпали его камнями и на улицах. Он был изгнан из общины как преступник. А вся вина его заключалась в том, что он был мыслителем. Уриэль Дакоста разделил судьбу других мыслителей, которые отстаивали право человека на самостоятельное суждение.3
Раввины были уверены, что он придет к ним, покаянно склонив голову. Отступник от веры морально уничтожен и не сможет находиться долго в таком положении. Они постарались сделать все возможное, чтобы он оказался в полной изоляции, чтобы он почувствовал всеобщее осуждение. Оставшись совсем один, он сможет хорошенько подумать над тем, что совершил. Подумать и понять, что у него один-единственный выход — покаяние. Но несмотря на то что Уриэлю Дакосте пришлось пережить тяжелейший период своей жизни, он не впал в отчаяние. Он особенно сильно почувствовал свою правоту, и это придавало ему силы. О жизни Уриэля Дакосты в этот период почти никто ничего определенного не знал. Он жил уединенно. Не только знакомые, но даже родные братья покинули его, следуя приговору раввинов. С ним оставалась только мать, не выполнившая решения общины и отлученная от церкви так же, как и ее сын-еретик. Это был единственный человек, с которым он общался. Материнская любовь оказалась сильнее всех угроз, которые сулил старой женщине раввинат. Ради сына она приняла эту жертву. Что бы там ни было, она останется с ним до конца. Дакоста не сидел сложа руки. То, что произошло, не выбило его из колеи. Он заново написал трактат, похищенный у него. Теперь он назывался по-иному: «Исследование фарисейских традиций в сравнении с писанным законом Уриэля, еврейского юриста, с возражением некому Семуэлю да Сильва, его лживому клеветнику». Доктор Сильва был добропорядочный иудей, которого в синагоге Фленбурга считали мудрейшим. Именно ему первому раввины направили тетрадь с записями Дакосты и первому предоставили слово во время судилища. Тогда, в синагоге Бет-Яков, Уриэль Дакоста вступил с ним в жаркую словесную схватку. Сейчас он решил Продолжить полемику на страницах своего трактата. Дакосте удалось его издать. Это вызвало новый взрыв возмущения у раввинов, расчет которых явно не оправдался. Нечестивец, который, казалось, был морально растоптан ими, и не думал смиряться. Он твердил, что душа смертна, выступая против основ иудейской религии. Да только ли это! В увидевшем свет трактате он проповедовал не менее еретические мысли. Так, например, вопреки церковному учению, Дакоста заявлял, что бог-де, сотворив мир, более не вмешивается в ход его развития. Иными словами, мир развивается без бога, по своим собственным законам. Это были по тем временам очень смелые взгляды. Деистическое учение, согласно которому бог является лишь творцом, но не управителем Вселенной, граничило с безбожием. Не случайно впоследствии Маркс и Энгельс писали, что «деизм — по крайней мере для материалиста — есть не более, как удобный и легкий способ отделаться от религии». Удивительно ли, что трактат Дакосты вызвал негодование раввинов. Такой дерзости еврейская община Амстердама еще не знала. Были, конечно, и ранее вольнодумцы, но никто из них не доходил до того, до чего дошел еретик Уриэль Дакоста. Он должен был понести самое серьезное наказание, если даже отлучение его ничему не научило. И раввины обратились к городским властям Амстердама с просьбой привлечь Дакосту к ответственности за богохульство, а книгу его изъять и уничтожить. Власти решили дело быстро. Они издали постановление о заключении Уриэля Дакосты в городскую тюрьму. Трактат же, возмутивший не только иудейских раввинов, но и христианских властителей Амстердама, был конфискован и уничтожен. Еще один удар судьбы испытал Уриэль Дакоста. Но, вопреки предположениям раввинов, все удары, обрушившиеся на мыслителя, лишь вызывали у него жажду борьбы за истину. А он был уверен в том, что отстаивает истину против заблуждения и лжи. Он не сумел подняться до полного отрицания бога, не смог стать последовательным атеистом, но он наносил удар за ударом по религиозному учению. Прямо и резко он выступил против утверждений теологов, будто Библия богодухновенна. Он заявил, что Библия, которая почитается верующими священной книгой, вовсе не является таковой. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать ее, сопоставить с теми явлениями, которые происходят в природе, и тогда станет ясно, насколько эта «священная» книга противоречит окружающей нас природе. Наивные, примитивные представления об окружающем мире, которыми полна Библия, — убедительнейшее доказательство, что она носит земной, а не божественный характер. Было бы неверно думать, что взгляды Уриэля Дакосты были гласом вопиющего в пустыне, что они находили осуждение у всех, подобно тому как осудили их в еврейских общинах. Немногие близкие друзья мыслителя разделяли его суждения. С опасностью для себя они продолжали встречаться с Дакостой как единомышленники, стремились поддержать и ободрить его. И все же он чувствовал себя одиноким. Ведь по-прежнему никто не решался открыто входить к нему в дом, по-прежнему люди, знавшие его ранее, избегали встречи с ним. Еще острее почувствовал он свое одиночество, когда умерла мать, самый близкий и дорогой человек, остававшийся с сыном в самые тяжелые для него минуты. Это была последняя капля в испитой им до конца чаше страданий. Ушел из жизни человек, который делил с ним все тяготы его существования, чья беспредельная любовь согревала его и поднимала его дух. Он тяжело переживал утрату, чувствовал себя затравленным зверем, у которого есть лишь один выход — охотничья тропа, где его ждет неизбежная гибель. Но ему уже было все равно. Жизнь потеряла для него всякий смысл. Оставалось лишь одно чувство — чувство полного одиночества. Раввины видели, что Дакоста надломлен. Они терпеливо ждали, что жизнь вот-вот до конца сломит непокорного, сломит и заставит его прийти к ним с повинной головой. Их расчет был верен. Он пришел. Раввинат торжествовал. Дакоста сломлен, а это великая победа. И дело не только в самом Дакосте. На примере этого нечестивца все правоверные иудеи должны видеть, к чему приводит стремление постигнуть непостижимое, объять человеческим разумом божественное, то самое божественное, что внушают людям служители божьи. Как же поступить с Дакостой? Великий Совет общины решил, что отступник и еретик, для того чтобы с него было снято отлучение, должен пройти через унизительную процедуру: в молитвенный день явиться в синагогу в траурной одежде, держа в руках свечу из черного воска, и повторить во всеуслышание слова своих судей, обвинявших нечестивца, слова, оскорбительные для человека. Еще раз унизить перед всеми верующими, еще раз растоптать человеческое достоинство мыслителя — вот чего добивались раввины. Но Дакоста, который сам пришел к ним со склоненной головой, отказался от этой процедуры. Он покинул синагогу, заявив, что не может выполнить унизительных требований Великого Совета. И опять начались оскорбления и преследования. Опять летели камни в окна его дома. На улице за его спиной раздавалась брань. Случалось, что прохожие плевали ему в лицо. Его травили повсюду, чтобы он почувствовал, что богохульнику и отступнику от веры не может быть места в этом мире. Одиночество Дакосты усугублялось тем, что он впал в крайнюю бедность. Некогда удачливый коммерсант потерпел поражение и в коммерческих делах. С ним отказывались заключать сделки. Пришел в запустение еще совсем недавно богатый дом Уриэля Дакосты. Может ли быть более немилостивой судьба? За что она была так несправедлива к нему? За ту правду, которую он высказал и которая вызвала к нему ненависть служителей иудаизма? Да есть ли справедливость на земле и есть ли справедливый бог, который создал такой несправедливый мир? Неравная борьба, которую он вел с еврейской общиной, подтачивала его силы. Брали свое годы: всего лишь несколько лет оставалось ему до шестидесятилетия, одолевали болезни. А раввины продолжали передавать ему через своих доверенных людей: покайся в грехах своих, откажись от еретических писаний и суждений. Они видели, как ослабевает его способность к сопротивлению, ждали, что он не выдержит психологического давления. И он вновь пришел в синагогу… Стояла, как и тогда, весна. Так же расцветали в амстердамских садах яркие тюльпаны. Солнце озаряло улицы одетого в серый камень города. Зеленела в его лучах вода в многочисленных каналах, испещривших город. А в синагоге царил полумрак. Здесь при большом стечении верующих совершался тот самый спектакль, которого так давно ждали раввины. Раввин произнес обличительную речь, клеймя позором вероотступника Уриэля Дакосту. А затем… Вот как описывает эту унизительную церемонию сам Уриэль Дакоста: «Я вступил в синагогу, полную мужчин и женщин, собравшихся на зрелище. Когда наступило урочное время, я взошел на деревянный помост, устроенный посреди синагоги для проповеди и других надобностей, и отчетливо прочел составленную ими записку, в которой содержалось признание, будто я достоин тысячекратной смерти за мои проступки… В искупление моих проступков я соглашался подчиниться их распоряжению и исполнить все, что будет мне предложено, с обещанием не впадать вновь в подобные заблуждения и грехи. Прочтя все это, я сошел с помоста. Ко мне подступил всесвятейший председатель и шепнул мне на ухо, чтобы я направился в некий угол синагоги. Я встал в угол, и привратник велел мне обнажиться. Я обнажил тело до пояса, повязал голову платком, разулся и, вытянув руки, обнял ими нечто вроде колонны. Подошел привратник и привязал мои руки к этой колонне веревкой. Затем подошел ко мне кантор и, взяв бич, нанес мне тридцать девять ударов по бокам, — согласно обычаю, ибо закон велит не преступать число сорок, а они, как люди религиозные и соблюдающие закон, остерегаются, как бы не согрешить. Во время бичевания пели псалом. После этого я сел на пол. Ко мне подступил проповедник, или мудрец (о, сколь смехотворны дела человеческие!), и разрешил меня от отлучения. Итак, открывались теперь передо мною врата неба, которые прежде были заперты крепчайшими засовами и не давали мне переступить порог. Затем я оделся, подошел к порогу синагоги и простерся на нем, причем привратник поддерживал мою голову. И вот все выходящие из синагоги стали переступать через меня… Когда все кончилось и никого уже не оставалось, кто был все время около меня, я вернулся домой». То, чего так долго дожидались руководители общины, свершилось. В общине опять царил мир и порядок. Блудный сын вернулся, раскаялся и больше никогда не будет смущать умы прихожан. Долготерпение раввинов было вознаграждено удавшейся на славу церемонией в синагоге. Они испытывали удовлетворение и оттого, что их расчет, как сломить отступника, достиг цели. А в это же самое время Уриэль Дакоста писал свои последние строки, изливая весь гнев наболевшей души на своих преследователей и ненавистников. В полных горечи страстных словах он клеймил «преступнейших из смертных и отцов всяческой лжи» за то, что они стремятся лишить людей возможности разумно рассуждать, за то, что они пытаются погасить свет разума, оставив человечество навечно в царстве невежества и тьмы. Торжествующим победу раввинам он бросал в лицо слова о правоте своего дела, ибо верил в то, что истина не в богословских трактатах, утверждающих божественный характер религии, а, напротив, в критическом анализе религиозных учений, в выявлении земного характера всякой религии. Когда была дописана последняя строчка печальной исповеди Уриэля Дакосты, он ушел из жизни. Ушел потому, что не мог смириться с ложью и ханжеством, с невежеством и мракобесием мира, в котором ему довелось жить. Раввины рано торжествовали. Последнее слово осталось за ним.Отлучение Баруха Спинозы



Время действия — XVII век. Место действия — Амстердам и Гаага.
1
Кажется, это было совсем недавно. Здесь, в Амстердаме, городе каналов и мостов, старых домов с узкими фасадами и, конечно, обилия цветов, неповторимых в своем разнообразии. Спиноза хорошо помнил, как это было, хотя ему тогда не исполнилось еще и девяти лет. Сейчас шестнадцать лет спустя, он настолько ясно и отчетливо увидел перед глазами поразившую его некогда картину, словно она вновь повторилась. В памяти всплыли сгорбленная фигура седовласого человека, закутанного в черный плащ, его усталое лицо с потухшими глазами и беззащитным взглядом. Он шел по улице, защищая голову от камней, которыми осыпали его мальчишки. Шел молча. И только тогда, когда камень со свистом пролетал в опасной близи от него, он оборачивался, бросая укоризненный взгляд на того, кто бросил его, и так же молча продолжал свой путь. Звали человека Уриэль Дакоста. Говорили, что он безбожник, отступник от веры предков, дерзкий еретик и отщепенец, который был осужден еврейской общиной, а потому ему не должно было быть места среди людей. Но почему-то у восьмилетнего Баруха Спинозы он вызывал сочувствие. И тем, как он смотрел на окружающих глазами, полными печали, не прося для себя снисхождения, и тем, как с достоинством сносил оскорбления, не вступая ни с кем в словопрения, не укоряя никого. Откуда было знать ему, Баруху Спинозе, ученику еврейского религиозного училища «Эц-хаим», чтошестнадцать лет спустя, 27 июля 1656 года, в той же синагоге Бет-Яков, в которой раввины предали проклятью Уриэля Дакосту, они предадут анафеме и его. Откуда ему было знать, что в синагоге вновь вспыхнут черные свечи и кантор произнесет слова отлучения: «По произволению ангелов и приговору святых мы отлучаем, изгоняем и предаем осуждению и проклятию Баруха Спинозу… Да будет он проклят и днем и ночью. Да будет проклят, когда ложится и когда встает от сна. Да будет проклят при выходе и при входе! Да не простит ему господь бог, да разразятся его гнев и его мщение над человеком сим и да тяготят над ним все проклятья, написанные в книге законов. Да сотрет господь бог имя его под небом и да предаст его злу, отделив от всех колен израилевых, со всеми небесными проклятиями, написанными в книге законов… Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним ни устно, ни письменно, ни оказывать ему какую-либо услугу, ни проживать с ним под одной кровлей, ни стоять от него ближе чем на четыре локтя, ни читать ничего им составленного или написанного…» Все было так, как и при отлучении Уриэля Дакосты. Кроме одного. В синагоге не было того, кто отлучался от общины. Не было Баруха Спинозы. Он просто не придал значения брошенному ему вызову и не соизволил откликнуться на требование раввинов. Более того, он написал им письмо, в котором выражал благодарность за их решение отлучить его от еврейской общины, ибо, по словам Спинозы, это совпало с его желанием. Такого они не ожидали. В растерянности провели в синагоге процедуру отлучения, но чего она стоила, если человек, преданный анафеме, отсутствовал при публичном осуждении. А Спинозу все это словно не касалось. Он не испытывал, подобно Дакосте, тяжелых переживаний, был весел, как всегда, остроумен и язвителен. Что же касается отлучения, он относился к нему равнодушно: мало ли что взбредет в голову этим раввинам. И это больше всего бесило тех, кто взялся судить его за ересь и богохульство.2
Еще при жизни Спинозу называли гением. Слава о нем перешагнула границы Голландии, где он жил и творил, разнеслась по всей Европе. Один из современников философа писал: «Образованные путешественники специально приезжали в Гаагу, чтобы собственными глазами увидеть Спинозу. Если это кому-либо из них не удавалось, то он считал, что его путешествие не достигло цели». После его смерти знаменитый немецкий философ-материалист Людвиг Фейербах напишет: «Спиноза — единственный из новых философов, положивший первые основы для критики и познания религии и теологии, он — первый, который классическим образом сформулировал мысль, что нельзя рассматривать мир как следствие или дело рук существа личного, действующего согласно своим намерениям и целям… Я с радостью поэтому принес ему дань моего удивления и почитания». Барух Спиноза родился 24 ноября 1632 года в еврейском квартале Амстердама в семье богатого торговца. Из него хотели сделать благочестивого иудея, раввина местной синагоги, но жизнь решила совсем иначе. В училище «Эц-хаим», в котором он провел юные годы, его считали одним из первых учеников. Барух был сообразителен, учился с удовольствием, зачастую предпочитая чтение детским играм со сверстниками. — Быть ему мудрецом, — многозначительно говорили его наставники. Они не ошиблись. Он действительно стал мудрецом, только не таким, каким его желали видеть почтенные наставники, не проповедником и защитником иудейской религии, а ее противником и ниспровергателем. Пытливый ум Баруха Спинозы, стремление познать как можно больше привели его к совершенно неожиданным для учителей религиозной школы выводам. Изучая каноническую иудейскую литературу и пытаясь найти логическое обоснование религиозным догматам и законам, он убеждался, что достичь этого просто невозможно. Религиозные представления, облеченные в форму раз и навсегда установленных истин, не поддавались логическому обоснованию, напротив, они противоречили здравому смыслу и самой элементарной логике. Когда Спиноза обращался к своим наставникам с просьбой объяснить непонятное, они вразумляли его, что человек не должен доискиваться истины там, где он сталкивается с божественным откровением. Божественное не всегда понятно людям. Так и должно быть, ибо то, что свершается по божьей воле, недоступно разуму. Такие ответы обычно удовлетворяли правоверных иудеев, у которых возникали какие-то сомнения. И этого было достаточно, чтобы погасить загоревшуюся искру сомнения. Однако Спинозу они удовлетворить не могли, ибо в сознании его вспыхнула не одна искра, в нем разгорался огонь сомнения. На доводы духовных наставников он выдвигал свои. Иудейские философы, с сочинениями которых знакомился юный Спиноза, вовсе не говорили о том, что человек должен быть глух и слеп, сталкиваясь с проявлениями божественного в жизни. Ведь зачем-то господь дал людям разум, — видимо, для того, чтобы они пользовались им как орудием познания. Какова цена этому разуму, если его употреблять лишь для усвоения вечных догм! А можно ли с помощью разума доказать существование бога? Спинозу увлекает и этот вопрос. И он пытается найти на него ответ. Вопросы, вопросы… Они роятся в голове Спинозы, вызывая самые противоречивые мысли и суждения. Большинство из них остаются без ответа, но человек должен, обязан ответить на них. В этом Спиноза убежден. На свете было много мудрецов, много философов, которые стремились познать непознанное, разъяснить непонятное. Почему же им не удалось это сделать? Да потому, что они витали в области чисто логических рассуждений, не выходя за пределы тех «истин», которые преподносятся в «священных» книгах. Изучая же лишь словесное выражение мыслей о мире, ничего не достигнешь. Надо изучать природу, мир, лежащий вокруг нас, во всем его многообразии. Когда сам Спиноза попробовал обратиться к этому миру, к окружающей природе, сделать ее отправной точкой в своих рассуждениях, то все «вечные» истины, которые с детских лет вдалбливались в головы учеников религиозной школы «Эц-хаим», рассыпались в прах. Он поделился своими мыслями с однокашниками, но мысли эти показались настолько кощунственными, что наиболее рьяные ученики школы тут же донесли о еретических высказываниях Баруха Спинозы. Наставники допрашивали его с подобострастием, стремясь выяснить, насколько глубоко тронула ересь разум их примерного ученика. Рабби Саул Мортейро, который предрекал Баруху великую будущность, только качал головой, не в силах произнести ни слова. Барух, его любимый ученик, говорил такие вещи, которые не осмелился бы произнести в присутствии почтенных наставников самый закоренелый безбожник. На память пришла начавшая забываться история с Уриэлем Дакостой, все неприятности, связанные с его вольнодумными писаниями. Тогда старейшинам еврейской общины пришлось пережить немало неприятных часов. И вот, кажется, история эта вновь повторяется. Рабби Саул Мортейро принялся уговаривать Спинозу, угрожать ему, рисовать страшные картины небесного, а затем и земного суда, но видел, что его уговоры не достигают цели. Тогда он попытался попросту купить Спинозу. Тысячу флоринов ежегодного пенсиона пообещал он отступнику только за то, чтобы тот молчал и не высказывался вслух. Тысяча флоринов — сумма немалая. Он предложил бы и больше, ибо понимал, каких бед наделает открытое выступление Баруха Спинозы против иудейской религии. Хватит и одного Уриэля Дакосты. Его удалось сломить, но нельзя было сомневаться в том, что взгляды Дакосты, конечно же, оказали известное отрицательное воздействие на отдельных членов общины. Были такие, которые сочувствовали ему, хотя и не высказывали этого открыто. Так что уж лучше пожертвовать крупной суммой денег, нежели пережить нечто подобное тому, что пережила община. Но Спиноза даже не пожелал разговаривать о деньгах. Старейшины общины долго совещались, не зная, как поступить со Спинозой. Наконец они решили предать его малому отлучению, на один месяц. Пусть он увидит, что значит быть отлученным, презираемым всеми правоверными иудеями. А за месяц он сможет сопоставить все выгоды, которые будет иметь, оставаясь в лоне религии, и все невзгоды, которые падут на его голову, если он не смирится. Старейшины просчитались. Спиноза вовсе не стал сопоставлять выгоды и невзгоды. Он был слишком далек от такого практического подхода к жизни. Он продолжал заниматься наукой, пополнять свои знания, изучать языки. Он поступил в школу доктора филологии Франциска ван ден Эндеме и прилежно постигал то, что преподавалось в этой школе. Особенно привлекала его философия. Она ставила вопросы, на которые в течение столетий пытались ответить мудрейшие из мудрейших. Что такое наш мир? Как возникла природа? Что лежит в основе окружающего мира — материальное или идеальное? Можно ли познать законы развития природы и общества? Некоторые философы верили, что им удалось создать достаточно стройную систему взглядов на природу и общество. Но другие мыслители, подвергая критическому анализу эти философские системы, обнаруживали в них уязвимые места. И то, что представлялось совсем недавно стройным и совершенным, рушилось. А вопросы, поставленные философией, требовали ответа. Они ждали человека, который бы смог их разрешить, ибо, только ответив на них, можно открыть человечеству путь к безграничному познанию Вселенной, к овладению ее законами. Спиноза настойчиво изучал труды древних и современных философов. Он восторгался жизненным подвигом Джордано Бруно, оставшимся верным своим идеям даже на костре инквизиции. Он сочувствовал Уриэлю Дакосте, не побоявшемуся выступить с учением, в котором отвергал вечные «истины» иудейской религии. Его привлекали мысли Галилея. Но кумиром Баруха Спинозы в те годы был французский философ Ренэ Декарт. Главное, что нашел Спиноза у Декарта, — это стремление объяснить мир не путем умозрительных рассуждений, а с помощью практического освоения природы. Математик, физик, физиолог, Декарт считал, что философия должна быть основана на знании причин происходящих вокруг явлений и иметь применение на практике, помогать человеку осваивать мир. До Декарта философия была чисто умозрительной наукой. Декарт считал, что она должна отказаться от подобного подхода к миру. Философские словопрения его предшественников, поиски объяснений причин тех или иных явлений в мире сверхъестественного — все это было чуждо его практической философии. И хотя Декарт так и не смог подняться до материализма, видя первопричину всего существующего сразу в двух субстанциях — материальной и духовной, то, что он сделал в философии, было огромным шагом вперед. Спиноза преклонялся перед великим французом, но имел свои взгляды на окружающий мир. И он высказал их в «Кратком трактате о боге, человеке и его счастье», в котором впервые попытался собрать воедино свои представления по всем тем вопросам, которые вызывали особый его интерес. Когда трактат Баруха Спинозы попал в руки раввинов, они пришли в полное замешательство. Еще бы, автор трактата отверг все святыни иудаизма: отверг Библию и Талмуд, святое учение отцов. Да разве только это? Он даже представил всевышнего так, что это могло вызвать радость лишь у еретиков. Бог Спинозы перестал быть… богом. Да, именно так. Ведь он заявил, что бог и природа — это одно и то же. У него бог не только творящий, но и сотворенный. Кем? Самим собой? Вне природы у Спинозы бога нет. Вне природы он не может существовать, но тем самым отрицалось самостоятельное, личное существование бога. Это же явная ересь, которая низводит великое духовное начало до уровня материального. Какое кощунство! Спиноза не одумался, как рассчитывали раввины. За то время, которое ему было отпущено для размышлений, он еще более утвердился в мысли о ложности религиозного вероучения, о необходимости дать рациональное объяснение тем явлениям природы, которые объяснялись лишь ссылками на божественную волю. Он стал еще более непримиримым, сам предопределив решение раввината. Теперь раввины совещались недолго. Участь Спинозы была предрешена. Он сам пожелал быть отлученным от церкви. Иного пути к тому, чтобы пресечь ересь, раввинат не видел. Отлучение, и только отлучение. 27 июля 1656 года в синагоге Бет-Яков прозвучали слова анафемы…3
Он был одинок, как некогда Уриэль Дакоста. Отец умер за два года до того дня, когда раввины прокляли Баруха Спинозу. Весьма значительное наследство, оставленное отцом, Спиноза отдал сестрам. К чему ему были капиталы, если он не думал заниматься торговлей и коммерцией! Он был очень непритязателен, вел скромную жизнь, и мирские блага не прельщали его. Ему надо было лишь иметь крышу над головой, место, где бы он мог работать, и пищу для поддержания сил. Потребности довольно умеренные. И он без сожаления расстался с наследством, почувствовав даже некоторое облегчение оттого, что освободился от нелегкой ноши, свалившейся на его плечи. Но надо было жить, а деньги даром не даются. И Спиноза, имя которого навсегда вошло в историю философии, освоил профессию шлифовальщика оптических стекол. Труд шлифовальщика был нелегок, требовал очень тщательной и скрупулезной работы. Приходилось все время глотать стекольную пыль, которая оседала в легких. Но эта профессия давала ему средства для удовлетворения самых необходимых и очень скромных запросов. Запасы его были в самом деле скромны. Простая пища, табак, одежда, которая приличествует шлифовальщику стекол, — вот и все, что требовалось ему. Спиноза мог быть богатым, но отказался от богатства, считая, что излишества лишь развращают людей. Ему приходилось очень много работать: днем у шлифовального станка, обтачивая стекла и глотая стекольную пыль, а ночью над философскими проблемами, так как днем для этого не хватало времени. Но Спиноза не сетовал на судьбу. Он всегда считал, что все великое создается трудом, тяжелым трудом, что в истинной науке нет легких путей, нет легких решений. Однако к этим трудностям прибавились и другие. Совет раввинов не оставил Спинозу в покое. Раввины не могли смириться с тем, что дерзкий отступник с пренебрежением отнесся к отлучению. Они не могли смириться с тем, что он продолжает жить и здравствовать. Ведь так и каждый член общины может прийти к мысли, что отступничество от веры ничем не грозит, кроме публичного отлучения в синагоге. А надо было сделать так, чтобы пример Спинозы служил в назидание другим, чтобы каждый, прежде чем сделать неверный шаг, задумался бы о том, какие неприятности и лишения ожидают его в будущем. Раввинат обратился к городским властям с просьбой обуздать нечестивца. Магистрат, как и следовало ожидать, откликнулся на эту просьбу и предложил Спинозе немедля убраться из Амстердама. Но он и тут не впал в уныние. Изгнание так изгнание. Декарт всю жизнь был изгнанником и окончил свой путь в Швеции. Да только ли Декарт? Скольким мыслителям приходилось выступать в роли изгнанников только потому, что они не шли проторенными путями в науке, а пытались найти новые, неизведанные, найти и открыть их людям. Вынужденный отъезд из Амстердама ничуть не повлиял на заведенный Спинозой распорядок жизни. Он ни на день не прекратил занятий философией, продолжал упорно читать научную литературу, писать, словно бы ничего и не изменилось. Он не предавался переживаниям, он очень ценил время. В изгнании Спиноза пробыл недолго. Несколько месяцев он провел в небольшой деревушке, а затем получил возможность возвратиться в родной город. Но покоя по-прежнему не было. Раввины продолжали травлю философа. Они поклялись довести дело до конца. Им и Спинозе не было места в одном городе. Травля не помогала. Спиноза просто не обращал внимания на нелепые выходки фанатиков, подосланных раввинами. И тогда были применены другие средства. Враги не остановились перед тем, чтобы прибегнуть к помощи наемного убийцы. Однажды ночью на улице его подстерег человек с ножом в руках. Только счастливый случай спас философа от смерти. Раввины вновь обратились за помощью в амстердамский магистрат. И магистрат во второй раз принял решение об изгнании Спинозы из Амстердама. Он переехал в Рейнсбург, захолустный городишко, даже скорее большое селение, тихое и спокойное, — идеальное место для работы. А работа была главным для Спинозы. Потому его и не трогали все ухищрения противников. В Рейнсбурге он пишет «Трактат об усовершенствовании разума», в котором развивает мысли, высказанные ранее. Здесь же он работает над главным трудом своей жизни — «Этикой», которая заняла двенадцать лет напряженного труда. Двенадцать лет. Уже одно это говорит о том, насколько серьезно Спиноза подошел к работе, в которой изложил основные принципы своей философии. Двенадцать лет было посвящено трактату, в котором систематизированы воззрения Спинозы по основным проблемам философского знания. Но еще до «Этики» идеи Спинозы становятся известными во многих странах мира. Самые блестящие умы Европы стремятся совершить паломничество в Нидерланды, чтобы лично познакомиться со знаменитым философом. Его посещает математик и оптик Иоан Гудде, на закате жизни Спинозы к нему приезжает один из знаменитейших философов современности Готфрид Вильгельм Лейбниц, считавший для себя честью лично встретиться с замечательным мыслителем. Спиноза ведет переписку со многими философами своего времени. У всех, кто знакомился со Спинозой, этот необыкновенный человек вызывал чувство восхищения и преклонения. Он был истинным философом, у которого разум всегда возвышался над эмоциями. Он не предавался переживаниям в самые трудные дни своей жизни. У него была цель. У него были идеи, которые надо было реализовать в научных трактатах. Эта редкая целеустремленность мыслителя поражала всех, кому доводилось встречаться с ним. Ученый секретарь лондонского королевского общества, посетивший Спинозу в изгнании, писал о нем восторженные строки: «Живой родник мудрости, он зажигает, возносит, ведет вперед. Доброжелателен, чист душою, скромен, величав, гордый потомок библейских пророков». Фельдмаршал Шарль де Времан, познакомившись со Спинозой, отмечал: «Его ученость, искренность и скромность являются причиной того, что все люди духа… считали себя обязанными бывать у него, чтобы выразить свой восторг и восхищение». Он не искал славы, не стремился к жизненным благам. Когда, позднее, король Франции передаст ему свое желание назначить философу пожизненную пенсию, если тот посвятит ему какой-либо трактат, Спиноза горделиво отклонит это предложение. Он бросит ставшую впоследствии крылатой фразу: «Я посвящаю свои сочинения только истине». И это человек, живший в нужде, для которого королевская пенсия значила бы слишком много. Спиноза отказался от нее, не погрешив против своих принципов. В 1670 году Спиноза перебрался в Гаагу. В этом же году вышло в свет его сочинение, которое вызвало протесты со стороны духовенства всех мастей. Это был «Богословско-политический трактат». Спиноза заранее знал, какое бешенство вызовет он у защитников религии, и предусмотрительно не поставил свое имя на обложке книги. Это было сделано очень мудро, ибо Синод южной Голландии вынес специальное решение об этой книге, «столь дурной и богохульной, какой… свет не видал». Синод требовал изъятия и сожжения «Трактата», розыска автора и предания его суду «без всякого снисхождения». Что же так напугало защитников религии в этой книге? Да то, что книга эта, как писал один из противников Спинозы, «устанавливает нечестивейшее естественное право и, потрясши авторитет священных книг, открывает широко двери безбожию». В «Богословско-политическом трактате» Спиноза пытается с научных позиций дать анализ книг Ветхого завета — одной из частей Библии. Он тщательно исследует Ветхий завет, стремясь установить, когда и при каких обстоятельствах написана та или иная библейская книга, выявляет разночтения и противоречия «священного» писания. И это все для того, чтобы прийти к выводу, что «священное» писание отнюдь не божественное творение. А раз так, то нелепо говорить о том, что все науки, все разумные суждения людей должны быть подчинены библейским догмам. Спиноза прямо заявляет: «Я не могу достаточно надивиться, что разум — величайший дар и божественный свет хотят подчинить мертвым буквам, которые могли быть искажены человеческой недобросовестностью, и что не считается каким-либо преступлением говорить недостойное против ума… и утверждать, что он непорочен, слеп, развращен, но почитается за величайшее преступление думать подобно же о букве и изображении слова божьего». «Мертвыми буквами» именует он тексты священного писания, которые проповедники религии считают богодухновенными истинами. Это же удар по всей религии, по ее догматам, веками объявлявшимися незыблемыми и вечными. Что касается религии, то она, по мнению Спинозы, основана на невежестве. Люди не знают законов развития природы, не могут использовать их в своих интересах, потому и обращаются они к вере в сверхъестественное. И в этом все религии сходны между собой. Нет религий истинных. Они все ложны и служат государственным властям как орудие закабаления и подчинения масс. «…Высшая тайна монархического правления и величайший его интерес заключается в том, чтобы держать людей в обмане, в страхе, которым они должны быть сдерживаемы, прикрывать громким именем религии, дабы люди сражались за свое порабощение как за свое благополучие, и считали не постыдным, но в высшей степени почетным не щадить живота и крови ради тщеславия одного какого-нибудь человека…». Эти строки написаны три столетия назад. Надо было быть мудрецом, чтобы уже тогда вскрыть важнейшую функцию религии в эксплуататорском обществе — защиту интересов власть имущих, показать, что господствующие классы используют ее для того, чтобы держать в подчинении и страхе людей. Спиноза сбросил с религии ореол святости, спустил ее с небес на землю, сделав попытку раскрыть ее социальную роль в жизни общества. Это было для церковников ударом. Да и не только для них. Вся книга вселяла страх в тех, кто считал себя христианином. Некий Вильгельм ван Блейенберг, переписывавшийся со Спинозой, откровенно высказался, что «эта книга полна любопытных, но поистине ужасных открытий, которые могли быть почерпнуты только в аду. Всякий христианин и даже всякий здравомыслящий человек должен ощущать неподдельный ужас при чтении этой книги. Ибо автор ее направляет все усилия к тому, чтобы разрушить христианскую религию и все надежды наши, на ней основанные, взамен чего он вводит атеизм». На свете было много еретиков, заявляли защитники религии, но такого, как автор «Богословско-политического трактата», еще не было. Профессор Музеус из Йены в своем опровержении этого трактата писал: «Диавол совратил великое множество людей, находящихся на службе у него и направляющих все старания к тому, чтобы ниспровергнуть все, что есть в мире святого. Но можно, право сомневаться, чтобы кто-либо между ними работал над разрушением всякого божественного и человеческого права с такой силой, как этот лжеучитель, рожденный на погибель религии и государства». Эти оценки верных христиан, современников Спинозы, свидетельствуют о том, что философ попал в цель. Действительно, трудно вспомнить другое философское произведение до «Богословско-политического трактата», которое с такой силой нанесло бы удар по религии, раскрыв ее назначение. Слыша подобные суждения о своем «Трактате», Спиноза еще раз убеждался, как мудро он поступил, выпустив книгу анонимно. Можно себе представить, в каком бы положении он очутился, если бы религиозным мракобесам стало известно, кто написал «Трактат». А так они могли лишь строить предположения, упоминая имя Спинозы. Но одних предположений было мало для того, чтобы стереть его имя с лица земли. Ну а Спиноза как будто стоял в стороне от всей этой шумихи, лишь прислушиваясь к ней, но не вмешиваясь в полемику, которая шла вокруг его сочинения. Впереди у него было много дел. Он торопился, ибо чувствовал, как подбирается к нему тяжелая болезнь. Часто наступали приступы кашля, которые душили его. Он понимал, что жить осталось недолго, хотя ему не было и сорока лет. И торопился, очень торопился. Он не любил шума, старался держаться в уединении, чтобы иметь возможность спокойно писать. Однако слава о нем непроизвольно опережала это желание. Он получал множество писем от людей, которые хотели услышать мнение Спинозы по тому или иному вопросу, поделиться своими мыслями с великим философом. Эта переписка отнимала много времени. А он дорожил временем. Главным для него сейчас была «Этика», которую он должен завершить. И вот настал день, когда Спиноза, усталый, но безмерно счастливый, спустился со своего мезонина, бережно держа в руках рукопись. Хозяева дома, где он жил, молча смотрели на него. Он положил рукопись на стол и, закурив трубку, опустился в кресло. Было утро. Он работал всю ночь. Но на лице его не было и тени усталости. Он окончил труд, которым жил годы. Это был итог всей его жизни. Он не знал тогда, сколько еще придется выстрадать этой рукописи, прежде чем она увидит свет. Не знал, что его противники сделают все возможное, чтобы воспрепятствовать опубликованию «Этики». Не знал, что ему и его друзьям придется переписывать ее от руки и распространять в списках, ибо ни один издатель не мог набраться смелости издать новое творение великого философа. Не знал он и того, что его «Этика» переживет столетия, будет оценена как одно из самых значительных произведений домарксистской материалистической мысли, войдет в историю мировой философии, принеся вечную славу ее создателю.4
Барух Спиноза умер 21 февраля 1677 года, 44 лет от роду от болезни легких. Его нашли сидящим в кресле, подле которого лежала выпавшая из рук раскрытая книга. В работе он встретил и смертный свой час. А после его смерти началась борьба за великого философа. Борьба долгая, упорная, не прекращающаяся до наших дней. Богословы и духовенство после смерти великого мыслителя вдруг словно забыли о том, с каким негодованием они произносили его имя, требуя расправы. Они забыли о том, как прозвучали в амстердамской синагоге Бет-Яков слова проклятия в адрес Баруха Спинозы, забыли, как злобствовали раввины, призывая господа бога и земных властителей обрушить все кары на философа, выступившего с безбожными сочинениями. Богословы стали говорить о том, что Спиноза всегда оставался глубоко верующим человеком, что восставал он лишь против тех представителей духовенства, которые пытались исказить религиозные принципы, восставал, защищая религию, требуя ее очищения от разного рода извращений. Когда пять десятилетий назад в Гааге, в городе, где прошли последние годы жизни Баруха Спинозы, торжественно отмечалось 300-летие со дня его рождения, с юбилейной трибуны раздавались голоса, будто великий мыслитель был верным апологетом католицизма. А после этого американский философ Г. Вольфсон заявил, что философия Спинозы — это высшая ступень иудаизма. Вот как случается порой в жизни. Мыслителя, обличавшего религию, ни на день не прекращавшего борьбу с ее служителями, мыслителя, которого считали злейшим врагом религиозной веры, богохульником, нечестивцем, отступником от веры, неожиданно посмертно превращают в союзника религии. Подобных случаев история знает немало. Защитники религии не раз прибегали к таким приемам. Если им не удавалось сделать великого мыслителя своим союзником при жизни, они принимали его в лоно церкви после его смерти. Вся жизнь Спинозы, все его творения решительно опровергают попытки буржуазных философов-идеалистов и богословов поставить учение великого мыслителя себе на службу, использовать его авторитет в своих интересах. Те, кто хотел бы видеть Спинозу верным приверженцем религии, ссылаются на то, что во всех его работах присутствует слово «бог». Это действительно так. Но разве достаточно одного слова, чтобы делать подобные выводы? Ведь дело, в конечном счете, не в самом слове, а в том, какой смысл в него вкладывается. А «бог» Спинозы разительно отличается от того бога, которому поклонялись и поклоняются приверженцы различных религий. Бог Спинозы — это природа, это материальный мир, лежащий вокруг нас, который развивается по своим внутренним, присущим ему законам, а не управляется каким-то сверхъестественным существом извне. Иными словами, природа существует сама по себе и не испытывает на себе никакого влияния высших духовных сил. Но разве это не материализм? Разве есть в подобном учении хоть что-то от религии, кроме слова «бог»? Не случайно один из православных богословов, митрополит А. И. Введенский писал: «Если у той сущности, которую Спиноза называет богом, нет ни воли, ни деятельности по целям, то что же это за бог?» Философов, которые отождествляют бога с природой, «растворяют» в природе, называют пантеистами. В прошлом пантеизм использовался некоторыми мыслителями для того, чтобы отказаться от церковного бога, навязываемого им богословами. Эта форма и была избрана Спинозой для критики религиозного мировоззрения с позиций материализма. Не случайно Людвиг Фейербах считал, что для своего времени Спиноза нашел настоящее философское выражение материалистической тенденции нового времени, «он узаконил, он санкционировал эту тенденцию: сам бог — материалист». Материалисты исходят из того, что в основе всего существующего лежит материя. Материальное, а не идеальное является первичным, изначальным, определяющим. Но ведь и у Спинозы первооснова — природа, то есть начало материальное. Так можно ли называть его идеалистом, можно ли отрицать, что его учение материалистично по своему духу, по своему существу? В философии Баруха Спинозы были и непоследовательности. Надо иметь в виду, что уровень знаний в век, когда он творил, был недостаточно высок, а это в известной степени повлияло на то, что философ многого не мог понять, многого не мог предугадать. Оценивая в целом материалистическую философию Баруха Спинозы, следует вспомнить примечательные слова Ф. Энгельса, который писал: «Нужно признать величайшей заслугой тогдашней философии, что… она, начиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами, настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, предоставив детальное оправдание этого естествознанию будущего». И конечно, нельзя забывать о том, что Спиноза был одним из самых страстных, самых непримиримых критиков религии. Он, восславивший величие человека, неограниченные возможности человеческого разума, не мог мириться с мертвящим сердца и ум людей религиозным вероучением, не мог мириться с теми духовными оковами, которые религиозная вера накладывает на человека. Не удивительно, что после смерти философа, когда вышли в свет его посмертные сочинения, включающие в себя «Этику», было принято постановление правительства Голландии и Западной Фрисландии о запрещении творения Спинозы. «Мы обнаружили, — говорилось в этом постановлении, — что указанная книга содержит много нечестивых, кощунственных и безбожных учений, которыми не только простой читатель может быть сведен с истинного пути блаженства, но потрясается учение о воплощении и воскресении Христа и разные другие существенные пункты всеобщей христианской веры; что автор устраняет и с презрением трактует чудеса, посредством которых всемогущему богу угодно свидетельствовать явное могущество и божественную силу для укрепления христианской религии; что он старается внушить читателю, будто истинность божественного откровения должна быть подтверждена самим учением, а не чудесами (которым он дает название невежества и источника глупости), и что веру в чудеса надо отстаивать, если ее нельзя объяснить естественными причинами, ибо он считает, что люди недостаточно проникли в познание природы и только поэтому некоторые происшествия кажутся им чудесами… Мы поэтому в высшей степени негодуем против печатания, распространения и продажи указанной книги и посему постановляем объявить эту книгу нечестивой, безбожной и богохульной, что мы и делаем, и сообразно с этим запретить перепродавать, продавать, печатать и перепечатывать, равно как переводить эту книгу всеми и всяческими средствами в этой стране и отнять у простых граждан повод путем чтения подобных безбожных положений впасть в соблазн и сойти с истинного пути веры…». А потом творения Баруха Спинозы были включены в Индекс запрещенных книг, который вплоть до последнего времени издавался католической церковью. В этот индекс включались сочинения, которые верующим запрещалось читать под страхом сурового наказания. В разные годы Ватикан вносил в него произведения крупнейших вольнодумцев, французских философов-материалистов, утопистов-социалистов, труды основоположников научного коммунизма К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Такая высокая честь была оказана и сочинениям Спинозы. От его сочинений тщательно пытались уберечь верующих иудейские раввины. Они были объявлены богохульными и православной церковью в дореволюционной России. Примечательно, что книги Спинозы горели на кострах, которые разжигали несколько десятилетий назад фашисты, уничтожавшие великие творения духовной культуры человечества. Так боролось мракобесие с учением Спинозы.5
Туристам, которые в наши дни приезжают в Гаагу со всех концов света, непременно показывают памятник Баруха Спинозы. Он возвышается рядом с домом, где философ жил и творил последние годы жизни. Словоохотливый гид не преминет напомнить о том, что Спиноза — великий голландский ученый, прославивший свою страну, за что страна и народ благоговейно чтят его память. И — ни слова о трудной жизни замечательного мыслителя, о годах преследований этого «безбожника» и «вольнодумца», о попытках служителей религии преградить путь его творениям. А если бесхитростный турист вдруг и упомянет об этом, его прервут — дескать, стоит ли ворошить прошлое, давно ставшее достоянием истории. Стоит, ибо именно история напоминает о трудном пути человеческого познания, вынося свой приговор мракобесию.Преступление Жана Мелье



Время действия — XVIII век. Место действия — Франция.
1
Это был скандал. Неслыханный скандал. И надо же было ему случиться именно в реймсской епархии! Кардинал де Майи, архиепископ реймсский, выслушал генерального викария Лебега и откинулся в обтянутом пурпурным атласом кресле. Подперев рукой голову, он уставился в раскрытое окно, за которым шелестели каштаны, и погрузился в раздумье. Кардинал молчал долго. Молчал и Лебег. Он сказал все. Теперь слово было за архиепископом. Но тот медлил. Лебег понимал, что задал ему нелегкую задачу. Не так-то просто было найти решение, которое положило бы конец всяким кривотолкам и предупредило бы возможные непредвиденные последствия, связанные со скандальной историей, случившейся в Этрепиньи. Тут викарий всецело полагался на кардинала. Де Майи был достаточно умен, чтобы понять, какие неприятности может вызвать эта история, если она получит огласку. Недруги и завистники, конечно, не преминут возможностью воспользоваться ею, чтобы свести счеты с архиепископом и с его ближайшим окружением. А козыри они будут иметь такие, что могут заранее торжествовать победу. Теперь только кардинал, человек, умудренный жизненным опытом, поднаторевший в церковных интригах, мог принять правильное решение. Но он продолжал молчать. Даже этот маститый иерарх с подобным случаем сталкивался впервые и пытался представить, какие напасти оно сулит на его голову. Все выходило плохо. Как в шахматной партии, все рассчитанные заранее варианты оказывались непригодными. Да, скандал был неслыханный. Наделал же дел сумасшедший кюре. Он не нашел ничего лучшего, как лишить себя жизни, да еще оставить крамольное сочинение, за которое, не раздумывая, можно направлять на плаху. Лебег немало повидал на своем веку, но его сердце холодело от ужаса, когда он читал сочинение богомерзкого писаки. Сумасшедший кюре не только возвел хулу на святую церковь, но отверг само учение Христа. Однако и этого мало. Он поносил существующие порядки, прямо призывая народ к бунту против земных правителей. И подумать только, что этот человек носил сутану! Нет, не иначе как в него вселился дьявол. Кюре просто потерял рассудок, хотя, как ни пытался викарий, он не мог припомнить какие-либо странности в его поведении. Последний раз кюре из Этрепиньи приезжал в Реймс по делам своего прихода месяца три назад. Он был принят генеральным викарием и произвел весьма благоприятное впечатление. Он был сдержан, нетороплив в суждениях и, как отметил тогда про себя Лебег, совсем не глуп. Положительно ничего странного в его поведении не было. И вдруг этот скандал… Генеральный викарий мог объяснить случившееся только одним — кознями дьявола. …Большие часы в углу кабинета пробили одиннадцать. Их неторопливый бой словно напомнил де Майи о бегущем времени. Он оторвал взгляд от окна, перевел глаза на Лебега и, глядя на него исподлобья, проговорил тихим гортанным голосом: — Жан Мелье, кюре из Этрепиньи, повредился в уме. Он не ведал, что творил в последние дни пребывания в этом грешном мире. Господь вынесет ему свой приговор. А нам надлежит сделать все возможное, чтобы пресечь то зло, которое могут породить самоубийство кюре и его богопротивные сочинения. Лебег подался вперед, показывая, что полон внимания к словам кардинала. А тот продолжал: — Вы должны не медля отправиться в Этрепиньи. Сочинения Мелье уничтожить. Сделать все возможное, чтобы имя его было предано забвению. Этого требуют интересы святой церкви. Кардинал поднялся с кресла, подошел к Лебегу и, не меняя тона, бросил ему последнее, что приберегал к концу разговора: — Надеюсь, вы понимаете, что от исхода вашей миссии зависит и ваша дальнейшая участь? Викарий склонил голову и коротко ответил: — Да, монсеньор.2
На следующий день викарий уже был в Этрепиньи, маленькой деревушке в Шампани, где провел и окончил свою жизнь возмутивший спокойствие кюре. Лебегу не понадобилось много времени, чтобы выполнить поручение архиепископа. Крестьяне в Этрепиньи были напуганы происшедшим, а лучшего союзника, чем страх, в данном случае для викария не могло быть. В доме Мелье Лебег в присутствии члена церковного суда произвел опись имущества. Стоимость его была невелика — всего 140 ливров. Мелье завещал его беднякам, и викарию пришлось позаботиться, чтобы и это желание не было выполнено. Недоставало еще, чтобы в памяти париев богоотступник Мелье сохранился как благодетель, не забывший о них в предсмертный час. Прав был кардинал, когда говорил, что следует принять все меры к тому, чтобы имя сумасшедшего кюре вытравить из сознания крестьян, предать забвению. По закону недвижимое имущество покойного должно было перейти во владение к ближайшим родственникам. Их оказалось двое — сестры кюре, претендовавшие на наследство. Но с ними удалось договориться быстро. Лебег намекнул, что, приняв наследство, они могут навлечь на себя много неприятностей, и заметил, что самым благоразумным был бы отказ от наследства самоубийцы. Намеки были весьма недвусмысленны, и напуганные женщины подписали бумагу, составленную викарием, в которой говорилось, что они отказываются от наследства, оставленного им Жаном Мелье, кюре из Этрепиньи, добровольно лишившим себя жизни. Еще по дороге в Этрепиньи генеральный викарий думал о том, что, пожалуй, следовало бы извлечь из могилы труп кюре, похороненного священниками соседних приходов. Это могло бы произвести устрашающее впечатление на местных жителей. Но потом он передумал. Всего сделанного им было и так вполне достаточно, чтобы имя Мелье было быстро забыто. Самое главное, расчет самоубийцы на то, что после смерти заговорит его сочинение, не оправдался. Тут уж генеральный викарий приложил все усилия. Один экземпляр возмутительного писания, отправленный Мелье на его имя, был уничтожен по указанию архиепископа еще в Реймсе. Другой, доставленный кюре незадолго до кончины вместе с завещательным письмом в судебную регистратуру бальяжа, был тоже изъят Лебегом и сожжен. Глядя на языки пламени, пожирающие густо исписанные страницы предсмертного писания безбожного кюре, генеральный викарий чувствовал, как уходят все тревоги, не дававшие ему покоя последние дни. Проклятый смутьян надеялся посеять брожение в умах, но он не учел, что святая церковь слишком сильна, для того чтобы с нею бороться. С Мелье покончено раз и навсегда, словно он никогда не жил на свете. О происшествии в Этрепиньи, может быть, некоторое время еще посудачат словоохотливые крестьянки из близлежащих деревень, а затем оно забудется, и имя взбунтовавшегося священника канет в вечность. Лебег про себя отдал должное проницательности архиепископа, который продумал все до мелочей. В конце концов, самое важное, чтобы дело Мелье не вышло за пределы епархии. Конечно, какие-то разговоры о нем будут, но это только разговоры. Мало ли люди наговаривают на святую церковь! Разговоры опасности не представляют. Куда опаснее факты. А фактов нет. Они уничтожены, и никакого чрезвычайного происшествия в реймсской епархии не было. На следующий день генеральный викарий покинул Этрепиньи. Дело было сделано. Карета катилась по проселочным дорогам, возвращаясь в Реймс, а сам викарий мирно дремал на мягком сиденье, не замечая тряски. Он улыбался во сне, словно ему привиделось что-то удивительно приятное. После всех треволнений последних дней сон был крепким даже в карете, громыхавшей на ухабах.3
Если бы викарий Лебег знал, как он ошибся! Имя Мелье не кануло в вечность. Кюре сумел перехитрить своих ловких противников. Он предусмотрительно оставил еще один экземпляр своего сочинения, который ускользнул от внимания реймсского духовенства. И этот сохранившийся чудом экземпляр рукописи дал жизнь десяткам и сотням списков, тайно распространявшихся по всей Франции после трагической гибели Жана Мелье. «Завещание» — под таким названием получило известность предсмертное писание священника из Этрепиньи. Под таким названием его тайно переписывали, передавали из рук в руки вольнодумцы. Полиция начала охоту за списками. Каждый попавший в ее руки экземпляр тотчас же уничтожался, а тех, у кого он был обнаружен, ожидала суровая кара. Одно упоминание имени Мелье грозило жестоким наказанием. Но ничего не помогало. «Завещание» продолжало жить, повергая в страх тех, против кого оно было направлено. Да еще какой страх! Ведь в нем подвергались убийственному разоблачению существовавшие социальные порядки, монархический строй, неприглядная роль церкви, несшей верную службу сильным мира сего, помогавшей им держать в кабале простой люд, который гнул спины на своих господ. Мелье обличал религию, пытаясь объяснить ее истинную роль в обществе, обличал духовенство, королей, которые, восседая на троне, не слышали стонов измученного непосильным трудом, нищетой и бесправием народа. Даже великий Вольтер признавался в одном из писем, что он дрожал от ужаса, читая «Завещание» Жана Мелье. Когда в 1762 году, спустя три с лишним десятилетия после трагической смерти Мелье, Вольтер издал извлечение из «Завещания», в небольшой книжице, увидевшей свет, не было и сотой доли того, что с такой откровенностью высказал сельский священник. Все, что заставляло Вольтера «дрожать от ужаса», было выброшено. Но и такой подчищенный и подправленный Мелье был страшен. Не случайно в письме своему другу Вольтер писал, что не хотел бы, чтобы «Завещание» попало в руки молодых людей, «которых оно могло бы совратить с пути истины». В 1772 году извлечение из «Завещания» издал Поль Гольбах. Затем появляются другие издания рафинированного, подчищенного Мелье. В них сохраняется очень немногое от настоящего Мелье. Однако и эти издания подвергаются преследованиям. Светские власти и духовенство все еще не отказываются от мысли предать забвению имя Мелье, заставить священника из Этрепиньи замолчать навеки. В феврале 1775 года выносится приговор парижского парламента о сожжении «Завещания» как произведения вредного, крайне опасного и вольнодумного. Палач в красной маске бросает в костер книги. Они пылают, охваченные огнем. Шесть десятилетий спустя вспыхивает костер во Вьенне. И снова пылают в нем изъятые экземпляры книги, на обложке которой стоит имя Мелье. Но огонь оказывается бессильным. Книга, словно сказочная птица Феникс, возрождается из пепла, вновь тайно передается из рук в руки, зовет к борьбе против мира угнетения. В 1864 году в Голландии впервые выходит в свет полный текст «Завещания». До сих пор, говорилось в предисловии к этому изданию, Мелье знали все, но никто его не читал. Теперь заговорил сам Мелье, и его голос разнесся по всей Европе. Мелье мечтал об этом, когда писал в своем скромном домике в Этрепиньи «Завещание». «Я хотел бы иметь силу, — писал он, — сделать мой голос слышимым от одного края королевства до другого или даже от одного конца земли до другого; я готов кричать изо всех сил: люди, вы — безумцы, с вашей стороны безумие давать себя таким образом обманывать и слепо верить стольким нелепостям! Я разъяснил бы людям, что они находятся в заблуждении и что те, кто ими правит, обманывают и одурманивают их. Я открыл бы им эту тайную систему несправедливости, которая делает их повсюду такими жалкими и несчастными и неизбежно в грядущих веках будет стыдом и позором для наших дней. Я упрекнул бы их в неразумии и безрассудстве, заставляющем их плыть по течению и слепо придавать веру стольким заблуждениям и иллюзиям и столь смешному и грубому шарлатанству. Я их упрекнул бы в том, что они малодушно оставляют так долго тиранов в живых и не стряхнут с себя раз и навсегда ненавистное иго их тиранической власти». Мелье продолжал жить, и честные люди обращались к истории его жизни, чтобы найти те источники, из которых черпал он силы для своего смелого, разящего всякую несправедливость слова. Слова гневного, обличающего, зовущего в будущее.4
«Дорогие друзья, мне нельзя было при жизни открыто высказать то, что я думал о порядке и способе управления людьми, об их религиях и правах, это сопряжено было бы с очень опасными и прискорбными последствиями, поэтому я решил сказать вам это после своей смерти». Священник из Этрепиньи Жан Мелье начал свою последнюю проповедь, в которой он впервые за все годы жизни высказал все, что до той поры хранил в тайниках своей души. А до этого были сотни других проповедей, произнесенных с церковной кафедры. Это были обычные обязанности кюре, которые он как крест нес четыре десятилетия своего служения на церковном поприще. Когда генеральный викарий Лебег доложил архиепископу реймсскому о скандальной истории с кюре из Этрепиньи, кардинал де Майи удивленно переспросил: — Мелье? Но ведь он был примерным служителем божьим. Да, всю жизнь он считался примерным священником. Сам кардинал мог поручиться в его благонадежности. Как же случилось, что этот примерный кюре сделал то, что под стать самым воинствующим бунтовщикам? До наших дней сохранились весьма скудные сведения о Мелье. Они дают возможность сделать вывод, что он и в самом деле всегда считался добропорядочным священником, не подававшим церковному начальству никакого повода для недовольства им. Жан Мелье родился в 1664 году в бедной деревушке Мазерни в Шампани, в семье крестьянина Жерара Мелье, занимавшегося ткачеством. Крестьянская доля нелегка, и Жерар Мелье, хлебнувший ее полной чарой, хотя и жил в последние годы в достатке, мечтал об ином будущем для своего сына. О многом он мечтать не мог: крестьянское происхождение закрывало юноше почти все пути, кроме одного — пути служителя божьего. И на этот путь решил наставить сына Жерар Мелье. Сначала Жан обучался грамоте у сельского кюре, а когда подрос, его отправили учиться в духовную семинарию в Реймсе. Жана не спрашивали, влечет ли его духовное поприще. Не спрашивали, по сердцу ли ему сутана священника, которую предстояло носить всю жизнь. Отец лишь желал сыну, чтобы тот не знал тяжелого подневольного крестьянского труда, бедности и лишений. А Жан не испытывал никакого желания быть священником. Он просто покорился воле родителей, которые лучше его знали и понимали жизнь. В своем «Завещании» он писал: «…я никогда не был столь глуп, чтобы придавать значение таинствам и сумасбродствам религии, и никогда не испытывал влечения участвовать в них или даже говорить о них с почтительностью и одобрением… В молодости меня уговорили принять духовное звание, я пошел на это, чтобы не огорчить своих родителей, которым очень хотелось видеть меня в этом звании как более спокойном, мирном и почетном, чем положение среднего человека из народа. Однако я могу сказать, не кривя душой, что никогда соображения материальной выгоды не внушали мне любви к этой профессии, в которой процветают заблуждения и обман». Годы учебы в семинарии пролетели быстро. И вот уже архиепископ реймсский совершает над ним торжественный обряд посвящения в сан. Теперь он не просто Жан Мелье. Он священник, служитель католической церкви, которая установлена Иисусом Христом для посредничества между богом и людьми. А значит, и ему, как ее служителю, надлежит играть роль посредника между миром земным и небесным. Еще через год двадцатичетырехлетний священник был назначен настоятелем прихода в небольшую деревушку Этрепиньи, неподалеку от Мазерни, где он родился и вырос. Здесь и прошла вся его жизнь. Здесь он начал свое служение, здесь и окончил его сорок лет спустя. Он был примерным служителем церкви. Добросовестно исполнял свои обязанности: читал проповеди, совершал требы, исправно сообщал епархиальному начальству о жизни прихода. С прихожанами у него установились добрые отношения. Они не могли не оценить, что их кюре не имеет страсти к наживе, ведет скромную жизнь и даже подчас совершает требы, не беря за это положенной мзды. Более того, случалось, он помогал беднякам, поддерживая их материально. Подобных кюре еще никогда не было в Этрепиньи. Он был примерным служителем церкви. С церковной кафедры проповедовал христианскую идею терпения и смирения в земной жизни ради достижения царства божьего на небесах, внушал своей пастве, что христиане не должны роптать на жизнь, как бы тяжела она ни была. Чтобы заслужить милость божью, они должны безропотно нести свой крест, как нес его на Голгофу Иисус Христос, искупивший грехи людей. Такие проповеди ему, как священнику, надлежало произносить в храме. Но в повседневной жизни он видел нищету, бесправие простого люда, подневольный труд крестьян, паразитический образ жизни сеньоров. И не раз задумывался, почему он должен внушать евангельские идеи бедноте, без устали работавшей на господ. Почему никто из представителей знати и не думает о несении тяжкого жизненного креста, оставляя эту миссию неимущим? Постепенно у него складывалось убеждение, что религия служит для увековечения существующих порядков, дающих возможность одним людям господствовать над другими, что евангельские идеи служат прикрытием неравенства людей. Само собой разумеется, что об этом он не говорил вслух. Он был служителем святой церкви. Его долг был утешать людей, проповедовать смирение и терпение, напоминая о крестном пути сына божьего Иисуса Христа. И он выполнял свой долг. Не случайно Мелье заслужил при жизни репутацию примерного священника. Только однажды был в его жизни момент, когда он проявил несвойственную его характеру строптивость. Случилось это в 1716 году. Спокойный, всегда уравновешенный, Мелье неожиданно выступил против местного феодала, барона Антуана де Тули, которому в числе других владений принадлежала и деревня Этрепиньи. Барон не церемонился со своими крестьянами, устанавливал какие ему вздумается порядки и круто пресекал недовольство. Кюре молчаливо взирал на деяния барона де Тули. Сельскому священнику положено или поддерживать господина, или молчать. Но пришел момент, когда тихий кюре не выдержал и с церковной кафедры произнес обличительную речь против ненавистного крестьянам барона. Прихожане, собравшиеся в церковь, впервые услышали от своего духовного пастыря подобную проповедь, а он, распалясь, клеймил сеньора как притеснителя бедных, самоуправца, попирающего всякое понятие о долге и чести, да к тому еще и христианскую заповедь о любви к ближнему. Барону доложили об этой проповеди Мелье. Тот был возмущен. Неслыханное дело: сельский кюре посмел публично поносить сеньора! Ну что же, барон де Тули заставит его пожалеть об этом. Он заставит строптивого кюре преклонить голову перед сеньором. Барон потребовал, чтобы священник оказал ему особые почести во время очередного богослужения — пусть все почувствуют его силу, увидят, что кюре смирился перед властью господина. Мелье отверг это требование. Более того, он вновь обрушился на барона де Тули, а заодно и на подобных ему сеньоров, притесняющих крестьян. Барон ответил доносом. Гонец доставил жалобу на кюре в епархиальное управление в Реймсе. Незамедлительно в Этрепиньи была выслана ревизия, она попыталась выискать такие факты, которые бы свидетельствовали о нерадивости местного священника, о его пренебрежении к своим обязанностям. Акт ревизии был отправлен в Реймс, вслед за тем кюре Жан Мелье был вызван к самому архиепископу. В спорах сильного со слабым в обществе, где царит несправедливость, всегда побеждает сильный. В этом Мелье убедился на аудиенции у кардинала де Майи. Он приводил веские доводы, факты, свидетельствующие о самоуправстве барона де Тули и неопровержимо доказывающие вину сеньора. Что может быть убедительнее фактов! У Мелье не оставалось сомнений в том, что он убедил кардинала. Ведь все было столь ясно и очевидно. Но решение кардинала поразило Мелье: кюре из Этрепиньи приговаривался к месячному уединению в стенах духовной семинарии. Несмотря на все доводы священника, кардинал занял сторону барона. Прошел месяц, и Мелье вновь на церковной кафедре. Церковное начальство было вправе ожидать от него, что он публично признает свою неправоту в споре с сеньором. Но вышло все по-иному. Мелье и не думал каяться. Он, правда, вознес молитву за барона де Тули, однако не за доброго сеньора де Тули, а за деспота и притеснителя бедноты, за жадного и корыстолюбивого феодала, который (кюре просил об этом всевышнего), возможно поймет свои заблуждения и изменит свое отношение к крестьянам. Это был, пожалуй, единственный эпизод в жизни Жана Мелье, когда он не оправдал мнения о себе как о примерном служителе церкви. Но строптивость священника быстро забылась, ибо он более не выступал против сеньора, как прежде, проповедовал евангельские идеи, внушал своей пастве, что надо смиренно переносить все жизненные испытания, исполнять волю господ. В ту пору он еще не понимал многого из того, что довелось ему понять позднее. Как истинный христианин, он возносил молитвы богу с просьбой образумить притеснителей бедноты, которые «не ведают, что творят», оказываясь во власти дьявола. Лишь постепенно он прозревал, все больше и больше постигая суть происходящего вокруг. Он сомневался, пытался разобраться в своих сомнениях. И до поры до времени не решался говорить о них вслух. Только после своей трагической гибели он заговорил во весь голос, высказав то, о чем вынужден был молчать всю жизнь.5
«Завещание» не было отчаянным шагом безумца, который под влиянием внезапно нахлынувших на него чувств высказал сокровенное, таившееся в его душе. Таким актом безумия его пытались представить защитники религии. Мелье писал долго, месяцы, а быть может, годы. Когда труд его жизни был закончен, он покончил с собой, уморив себя голодом. Это был финал трагедии Жана Мелье, ставший прологом к его вечной жизни и славе. В своем «Завещании» Жан Мелье обращался к простым людям, убеждал их в необходимости покончить с теми несправедливостями, которые царят в мире, с неравенством людей, с религией, отбросить нелепую и ненужную веру, которая служит правящим классам и ничего не дает народу. Он искренне восклицал, обращаясь к служителям католицизма, к защитникам христианства: «Вы заблуждаетесь не меньше тех, которые глубже всего погрязли в суевериях. Ваша религия не менее призрачна, не менее суеверна, чем все другие; она не менее ложна в своих основаниях, не менее смешна и нелепа в своих догмах и правилах: вы не менее идолопоклонники, чем те, которых вы сами порицаете и осуждаете за идолопоклонство…». Он видел свою цель в том, чтобы помочь людям увидеть реальный мир таким, каков он есть. «Цель моя — по мере сил моих открыть вам глаза, хоть и поздно, на те нелепые заблуждения, среди которых мы все, сколько нас есть, имели несчастье родиться и жить…» С религией у Мелье были особые счеты. Кто-кто, а он, служивший богу всю жизнь, знал ей истинную цену. Потому он с такой уверенностью уже в самом начале «Завещания» доказывал, что все религии являются заблуждениями, иллюзиями, и обманом. «Все религии являются лишь заблуждениями, иллюзиями и обманом»; «Первое доказательство тщетности и ложности религий: они лишь измышления человека»; «Ни одна из существующих в мире религий не является божественным установлением»; «Ни красота, ни порядок, ни совершенство в произведениях природы нисколько не доказывают существования единого бога, якобы создавшего их», — даже эти несколько названий глав свидетельствуют об отношении Мелье к религии. Он сбрасывает с пьедестала не только древних богов, против которых выступало христианство. Для него все боги одинаковы, все они результат заблуждения людей, плод человеческой фантазии. «Знайте, друзья мои, что всякий культ и поклонение богам есть заблуждение, злоупотребление, иллюзии, обман и шарлатанство; что все законы и повеления, издаваемые именем и властью бога и богов, — не что иное, как измышление человека, точно так же, как все великолепные празднества и жертвоприношения и прочие действия культового характера, совершаемые в честь богов. Все это выдумано… хитрыми и тонкими политиками, потом обработано и умножено лжепророками, обманщиками и шарлатанами, затем слепо принято на веру невеждами и, наконец, поддержано и закреплено законами государей и сильных мира сего, которые воспользовались этими выдумками для того, чтобы с их помощью легче держать в узде народ и творить свою волю…» Так же, как и другие веры, ложна и христианская религия. И Мелье опять обосновывает, аргументирует, доказывает. Он утверждает, что священное писание, на которое опирается христианство, ложно, евангелия, повествующие о земной жизни Иисуса Христа, настолько противоречивы, что разоблачают сами себя. Все евангельские чудеса — наивные сказки, рассчитанные на доверчивых, забитых людей, слепо верящих в любые небылицы. Он решительно отвергает один из главных религиозных догматов — догмат о бессмертной душе, на котором основываются почти все религии. Буквально в любой из них проповедуется мысль о том, что человек состоит из смертного тела, телесной оболочки и бессмертной души, которую вдохнул в тело бог. Если к человеку приходит смерть, то умирает лишь его тело, а душа продолжает жить как божественное творение, ее не может коснуться тление времени. И по сей день религиозные люди верят в бессмертие души. И тут нет ничего удивительного. Ведь если отнять у религии, разрушить веру в то, что люди после смерти смогут обрести вечную жизнь, войти в царствие небесное, то что останется от религии? Мелье же замахнулся на этот догмат, попытался разрушить его… Бессмертие души — выдумка и обман, заявлял он. Нет никакой души, существующей независимо от тела. Душа не может быть бессмертной. Отрицая бога, веру в бессмертие души, Жан Мелье высказал свои взгляды на мир, свое миропонимание. Он — материалист. Для него нет сомнений, что объективной реальностью в окружающей нас природе является материя. Она вечна, никем не сотворима, находится в постоянном движении. А раз основа всего — материя, то оказывается совершенно ненужной мысль о боге, творце и управителе мира. Нет, «Завещание» не было следствием вспышки безумия его автора. Все его положения тщательно обоснованы, строго аргументированы. Его взгляды основаны на прочном фундаменте — на материалистическом мировоззрении, которого придерживался Жан Мелье. Именно эта связь его атеизма и материализма свидетельствует о том, как глубоко продумана книга Мелье, которую он отдал на суд истории. Разделавшись в своем труде с религией, Мелье не менее решительно выступил против несправедливых социальных порядков, существовавших на земле, против всевластных правителей, угнетавших народ и использовавших религию для своих целей. «…Еще гораздо больше оснований, — писал он, — мы имеем осуждать, ненавидеть и проклинать, как я это делаю здесь, всех слуг суеверий и беззаконий, господствующих над нами таким тираническим образом, одни над нашей совестью, другие над нашим телом и имуществом… самыми крупными ворами и убийцами из всех существующих в мире». Трудно найти более сильные слова, чтобы заклеймить ненавистных тиранов, феодалов, которые заставляют простых людей работать на них до седьмого пота и, как бесстыдные грабители, присваивают себе плоды чужого труда. Со всей страстью осуждая паразитирующих богатеев, Мелье-мыслитель пытается понять, почему в мире царит несправедливость. Почему существуют богатые и бедные? Почему одни присваивают себе право вершить судьбы всех людей, а другие лишены каких бы то ни было прав, кроме одного: от зари до зари гнуть спину на своих господ? Эти вопросы красной нитью проходят по страницам «Завещания». И Жан Мелье стремится дать на них ответ. Проявив мудрость и проницательность, он во многом превзошел своих современников, сумев увидеть то, чего не увидели они, во многом предвосхитил идеи мыслителей последующих поколений. Религия, писал он, «терпит, одобряет и поощряет ряд зол, противных справедливости, здравому разуму и доброму управлению; мало того, она терпит и поощряет много несправедливых притеснений и даже тиранию королей и сильных мира, к великому ущербу для народных масс, которые несчастны и бедствуют под их жестоким и тяжелым игом и господством». Первое «зло», как считает Мелье, «непропорциональное разделение благ между сословиями». Это очень большое зло. Почему люди уже от рождения получают либо богатство, либо нелегкую участь быть рабом своего господина, жить в нищете, зависеть от произвола сильных? Разве это можно назвать справедливостью? Разве можно считать нормальным, что некоторые получают жизненные блага, не имея на то оснований? Мелье убежден, что все люди равны от природы. Он не раз повторяет эти слова. Это ложь, что якобы неведомой судьбой предназначено одним быть богатыми и всемогущими, а другим — нищими и бесправными. Такая ложь нужна, чтобы оправдать несправедливое устройство жизни на земле. Люди равны от природы. Они в равной степени «имеют право жить и ступать по земле, в равной степени имеют право на свою естественную свободу и свою долю в земных благах, все должны заниматься полезным трудом, чтобы иметь необходимое и полезное для жизни». «…Неравенство глубоко несправедливо, — пишет Мелье, — потому что оно отнюдь не основано на заслугах одних и проступках других; оно ненавистно, потому что, с одной стороны, лишь внушает гордость, высокомерие, честолюбие, тщеславие, заносчивость, а с другой стороны, лишь порождает чувства ненависти, зависти, гнева, жажды мщения, сетования и ропот. Все эти страсти оказываются впоследствии источником и причиной бесчисленных зол и злодеяний, существующих в мире. Да, все люди равны по своей природе. Но они живут в обществе, а так как общество не может сохранять добрый порядок без наличия некоторой зависимости и подчинения, то для блага человеческого общества безусловно необходимо, чтобы была между людьми некоторая зависимость, и это подчинение одних другим должно быть справедливым и соразмерным, то есть оно не должно допускать чрезмерного возвышения одних и чрезмерного принижения других, предоставления слишком многого одним и лишения всего других…». Еще одним злом Мелье считает то, что плодами труда народа пользуется множество людей, которые не создают никаких ценностей, ведут паразитическое существование, не приносят никакой пользы обществу. Они «совершенно не нужны», они «служат только в тягость народу». Мелье сравнивает богатых бездельников с нищими попрошайками. Кто эти бездельники? Это в первую очередь духовенство, служители церкви и монахи. Они не приносят никакой пользы, но имеют загребущие руки и алчные устремления. Мелье имел возможность познакомиться с их жизнью и утверждал все это не с чужих слов. Он был живым свидетелем тому, как существует за счет народа огромная армия рясоносцев. И это в то время, когда монахи дают обет нищенства, а сами не брезгуют ничем, чтобы набить свои карманы за счет «добровольных приношений» верующих. «…Священники или церковники, — читаем мы в „Завещании“, — все эти аббаты и приоры, все эти каноники и капелланы и в особенности все эти благочестивые и смешные маскарады монахов и монахинь, столь разношерстных и многочисленных в римской галликанской церкви, на что они нужны, какую они приносят пользу? Никакой». Помимо духовенства, он причисляет к числу тунеядцев сборщиков податей, откупщиков и им подобных. Все это паразиты, никогда не задумывающиеся над тем, что дать обществу, но всегда помнящие, что взять. Одним из зол Мелье считает присвоение некоторыми людьми «благ и богатства земли» в частную собственность. Мелье-мыслитель сумел увидеть то, что до него видели немногие. Частная собственность — одна из главных причин всех несправедливостей в обществе, язва, поражающая самый здоровый организм. И пока она не будет уничтожена, общество не исцелится от своего тяжелого недуга. Именно частная собственность порождает чувство ненависти и зависти между людьми, «ропот, мятежи, жалобы, смуты и войны, причиняющие бесконечное зло в жизни людей». Частная собственность — причина обманов, мошенничества, хищений, убийств, разбоев и грабежей. «Вы удивляетесь, бедняки, что в нашей жизни так много зла и тягот? — восклицает Мелье. — Это оттого, что вы одни несете всю тяжесть полуденного зноя, как виноградари в евангельской притче; это происходит оттого, что вы и вам подобные несете на своих плечах все бремя государства. Вы отягощены не только всем бременем, возлагаемым на вас вашими королями, государями, которые являются вашими главными тиранами; вы содержите еще вдобавок все дворянство, все духовенство, все монашество, все судебное сословие, всех военных, всех откупщиков, всех чиновников соляной и табачной монополий; одним словом, всех трутней и бездельников на свете. Ибо только плодами ваших тяжких трудов живут все эти люди со своими слугами… Что сталось бы, например, с самыми великими… властителями земли, если бы народ не содержал их?» Частная собственность, как полагал Мелье, является одним из главных источников деления общества на богатых и бедных, а следовательно, всех несправедливостей на земле. Без ее уничтожения невозможно исцелить больное общество. Чтобы исцелить общество от его пороков, чтобы изменить жизнь, установить справедливые отношения между людьми, следует прежде всего уничтожить частную собственность. И здесь Мелье-мыслитель выступает как бунтовщик, революционер. Он требует решительных действий, которые помогут изменить жизнь народных масс. Этого нельзя достигнуть отдельными реформами. Нет и еще раз нет. Этого можно добиться только одним путем — путем борьбы. Жан Мелье, связанный с жизнью народа, знавший его тяготы и нужды не по книгам — ведь он провел среди крестьян шесть с лишним десятилетий — видел выход только в насильственном свержении абсолютистского строя и установлении нового строя, гуманного и справедливого. Как революционная прокламация звучат строки «Завещания», в которых Мелье призывает народ объединиться и подняться на борьбу с угнетателями: «Объединись же, народ, если есть у тебя здравый ум; объединитесь все, если у вас есть мужество освободиться от своих общих страданий. Поощряйте все друг друга к такому благородному, смелому и важному делу! Начните с тайного сообщения друг другу своих мыслей и желаний! Распространяйте повсюду с наивозможной ловкостью писания, вроде, например, этого, которые всем показывают пустоту, заблуждения и суеверия религии и которые всюду вселяют ненависть к тираническому управлению князей и царей! Поддерживайте все друг друга в этом справедливом и необходимом деле, которое касается общего интереса всего народа!» Он хорошо знал, что у каждого честного человека, который прочтет его «Завещание», оно вызовет бурю негодования несправедливостями, которые существуют в этом мире, ненависть к угнетателям. Потому-то Мелье так стремился чтобы его обращение к народу не затерялось, а дошло до тех, кому оно было адресовано. Борьба, только борьба. Беспощадная, бескомпромиссная — это единственный путь трудящихся к своему освобождению. Иного пути нет. Так утверждал священник Мелье, трибун Мелье, революционер Мелье. Он обращался к людям с призывом: «…Отложите прочь все чувства ненависти и личной вражды между собой; обратите всю свою ненависть и все свое негодование против своих общих врагов, против этих надменных знатных родов, которые вас тиранят, которые вас делают такими жалкими и вырывают у вас все лучшие плоды ваших трудов. Объединитесь все в единодушной решимости освободиться от этого ненавистного и омерзительного ига их тиранического господства». Мелье верил, что люди построят новое общество, где не будет частной собственности, не будет богатых и бедных, угнетателей и угнетенных, не будет тунеядцев, живущих за счет чужого труда, не будет религии, стоящей на страже интересов королей и дворянства. В обществе будущего, о котором мечтал Мелье, для религии не останется места. Обращаясь к читателям, которых он звал на борьбу за установление нового общества, Мелье писал: «…да не будет среди нас никакой другой религии, кроме религии мудрости и чистоты нравов; да не будет никакой другой религии, кроме честности и благопристойности; да не будет никакой другой религии, кроме религии сердечной искренности и благородства души; да не будет другой религии, кроме религии решимости окончательно уничтожить тиранов и суеверный культ богов и их идолов; да не будет никакой другой религии, кроме стремления поддерживать повсюду справедливость и нелицеприятие; да не будет никакой другой религии, кроме стремления охранять народную свободу, и, наконец, да не будет никакой другой религии, кроме взаимной любви друг к другу и нерушимого сохранения мира и доброго согласия в нашей среде!» В письме маркизу д’Аржанс де Дирак 2 марта 1763 года Вольтер отмечал, что одно из главных достоинств «Завещания» Мелье — его искренность. Мелье был действительно предельно искренен. Он с искренней симпатией относился к простым труженикам, искренне ненавидел тиранов, искренне желал, чтобы мир был переустроен на справедливых началах. Порой в своих рассуждениях он был наивен, порой попросту заблуждался. Мечтая о будущем «нормальном обществе», он видел прообраз этого общества в деревенской общине, жизнь которой хорошо знал. Он верил в то, что крестьянская масса способна совершить революционный переворот, свергнуть тиранов и построить «нормальное общество», ибо не знал другой силы, которой суждено было сыграть решающую роль в революционном переустройстве мира, — пролетариата. Но ведь в то время, когда жил Мелье, пролетариат еще не созрел, и сельский священник просто не мог еще увидеть в нем силу, способную разрушить мир насилия. Пройдет еще целое столетие, пока пролетариат выйдет на историческую арену и его вожди Маркс и Энгельс заявят о его великой миссии, указав пути к построению подлинно справедливого и гуманного общества. Они откроют законы общественного развития, создадут научный коммунизм — учение, преобразующее мир. Но истоками этого учения по праву можно назвать те идеи, которые высказывали выдающиеся утописты, предшественники научного коммунизма. Среди них был и Жан Мелье, священник из Этрепиньи. Мелье во многом был мечтателем. Но он мечтал о добром и искренне верил, что придет день, когда силы угнетения и тирании рухнут под натиском сил добра…6
Весна в Шампани наступает рано. Ее приносят теплые ветры с Атлантики. Рано зацветают сады и быстро отцветают, усеивая землю белыми лепестками. Покрываются зеленью виноградники на склонах холмов. Весна 1729 года была последней в жизни Жана Мелье. Так решил он сам. Ему было трудно писать. Он чувствовал, что быстро и неотвратимо наступает старость, подтачивая силы. Он терял зрение и очень торопился окончить свою рукопись. В небольшом домике, затерявшемся среди садовых деревьев, до поздней ночи не гасли свечи. Согнувшись над столом, не разгибая спины, по нескольку часов кряду усталый кюре выводил гусиным пером ложившиеся на бумагу строки. А потом, когда были переписаны три экземпляра рукописи, по 336 страниц каждый, он написал письма генеральному викарию в Реймсе, кюре соседних приходов и своим прихожанам. Французский мыслитель Сильвен Марешаль приводит следующие строки письма Мелье к прихожанам: «Я видел и познал ошибки, заблуждения, бредни, безумства и злодеяния людские, я почувствовал к ним ненависть и отвращение. Я не осмелился сказать об этом при жизни, но я скажу об этом, по крайней мере, умирая и после смерти. Пусть знают, что я составляю и пишу настоящий труд, чтоб он мог служить свидетельством истины для всех тех, кто его увидит и прочтет, если им будет угодно». Письма были разосланы в мае. Вокруг своим чередом шла жизнь. Прожигали дни знатные сеньоры, веселились на балах дворяне, день-деньской трудились на полях крестьяне. А старый кюре, сказав последнее слово, умирал в своем доме в маленькой деревушке Этрепиньи. Его смерть оказалась неприметной. В майский день гроб с его телом опустили в могилу. Об этой смерти даже не было сделано записи в приходской книге. Кто-то из прихожан, наверное, помянул кюре в сельском кабачке. Быть может, кто-то поставил свечку за упокой его души по христианской сердобольности. Кюре был добрым человеком, с состраданием относившимся к ближним своим, и хотя он был самоубийцей, но как не помянуть человека, который никому дурного не сделал, честно прожил свою жизнь. А потом в Этрепиньи появился генеральный викарий из Реймса и строго-настрого запретил даже упоминать имя кюре. Никто толком не знал, чем прогневал Мелье епархиальное начальство, да и не пытался узнать. Жители Этрепиньи, задавленные тяжким трудом и нуждой, не проявляли интереса ни к чему, что происходило за порогом их дома. Вскоре в Этрепиньи прибыл новый кюре, жизнь вошла в свою колею и никто уже не вспоминал прежнего священника, могила которого заросла бурьяном. Но сердце Мелье продолжало биться. Оно билось и в смелых речах мыслителей, осуждавших земных правителей, и в выступлениях французских крестьян, поднимавшихся на борьбу против угнетателей, и в страстных призывах вольнодумцев, тайно распространявших свои сочинения, направленные против мира насилия и зла. Мысли Жана Мелье восприняли многие замечательные философы, представители передовой общественной мысли. Вольтер и Гольбах, Нежон и Марешаль в той или иной степени испытали на себе влияние идей Мелье. Многие воинствующие атеисты опирались на «Завещание», выступая против религиозного мировоззрения, разоблачая социальную роль церкви в эксплуататорском обществе, обличая клерикализм в различных его проявлениях. Социально-политические взгляды автора «Завещания» легли в основу острой критики устоев буржуазного строя, которую вели передовые мыслители прошлого. И когда в конце XVIII столетия над Францией впервые зажглась звезда свободы, победила революция, с трибуны Национального конвента прозвучал призыв установить в храме Разума статую Жана Мелье, автора знаменитого «Завещания». Декретом Национального конвента, принятым 27 брюмера, 2-го года республики, было решено установить статую Жана Мелье, «первого священника, который имел мужество отречься от религиозных заблуждений». Революция воздала должное великому сыну Франции. Сердце Мелье продолжало биться…«Жизнь во всех веках грядущих» (Вместо послесловия)



Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих, проникавших в суть вещей И раскрывавших всем души скрижали, Сжигали на кострах и распинали, Как всем известно с самых давних дней.Так писал Иоганн Вольфганг Гете. Писал о временах давно минувших, когда великий конфликт между религией и наукой проявлялся в открытых преследованиях ученых, жестоких пытках, публичных казнях на кострах и плахах. Ныне церковь не очень-то любит вспоминать об этих временах, а ее иерархи произносят выспренние речи, прославляя прогресс науки. Два десятилетия назад собравшийся в Ватикане XXI Вселенский собор католической церкви торжественно провозгласил, что «сегодня со всей ясностью проявилась возможность глубокой связи между наукой и подлинной верой, которые… служат одной цели». Так что же, конфликт между религией и наукой — это уже прошлое? Не торопитесь с ответом на этот вопрос. Давайте обратимся к одному эпизоду, о котором сравнительно недавно поведала мировая пресса. Год 1981-й. Соединенные Штаты Америки. Штат Калифорния. Город Сакраменто. Судебный процесс, который американские газетчики нарекли «обезьяньим». Точно так же, как нашумевший в 1925 году процесс над школьным учителем из города Дейтона Джоном Скоп-сом, который был привлечен к суду за то, что преподавал своим ученикам дарвинизм. На этот раз перед судом предстало все школьное ведомство штата Калифорния. Истец — преуспевающий бизнесмен Келли Сигрейвз потребовал пересмотреть школьные программы, которые якобы подрывают веру в божественное творение, распространяя вредное и ложное учение Чарлза Дарвина. Он подал петицию, подписанную двенадцатью тысячами верующих, поддержавших его требование. Процесс транслировался по телевидению. За ним следили миллионы американцев. И вот наконец судья в черной мантии огласил приговор, вынесенный присяжными заседателями. Келли Сигрейвз мог быть доволен. Судья объявил, что эволюционную теорию Чарлза Дарвина, впервые научно объяснившую происхождение человека, не следует признавать в качестве единственной. Она должна быть приравнена к «другим теориям творения», которым тоже надлежит «уделять внимание в преподавании». Нетрудно понять, что речь шла о «теории», изложенной в Библии, иными словами, о библейском мифе, давно отвергнутом наукой. О мифе, повествующем о шести днях творения, о сотворении богом первых людей Адама и Евы — одним словом, о той картине происхождения человека, которая родилась многие тысячелетия назад и нашла свое место в «священных» книгах христианской религии. Мракобесие могло праздновать победу. Но стоило ли этому удивляться, если в самой развитой капиталистической стране в ряде штатов продолжают существовать законы, вообще запрещающие преподавание дарвинизма в школах? Если в США открыто действуют так называемые фундаменталисты, отстаивающие библейскую версию о шести днях творения, а наряду с ними и лица, которые подвергают сомнению научное представление о шарообразности Земли? Конечно, ушли безвозвратно в прошлое времена, когда защитники религии могли преследовать и расправляться с теми, кто смело и мужественно шел к познанию истины. Прошла пора костров и пыток. Успехи науки стали настолько очевидными, что отвергать их просто невозможно. Да и что может противопоставить церковь открытиям, сделанным в лабораториях химиков и физиков, в ходе космических полетов, в поражающих воображение экспериментах биологов! Человек смог подняться на недосягаемые высоты в небе, опуститься в глубины океана, проникнуть в тайны клетки, победить болезни, которые еще сравнительно недавно уносили многие тысячи человеческих жизней. Он сумел создать новые виды материалов, растений, животных, использовать энергию атома, сконструировать удивительные машины, пришедшие к нам из мира фантастики. Вот и попробуй тут обойтись библейским утверждением: «…все, что делает бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить…». Сама жизнь вынудила защитников религии надеть тогу защитников науки, искать пути к примирению религиозной веры и знания. Но какие бы славословия ни источали уста богословов и церковных проповедников в адрес ученых, как бы ни восхваляли они научный прогресс, религия и наука все равно остаются на противоположных позициях в отношении познания человеком окружающего мира. И невозможно совместить несовместимое, примирить веру и разум, знание и незнание, научные и религиозные взгляды на природу, общество, человека. Недаром же в Библии утверждается: «…Кто умножает познания, умножает скорбь». Нет, и в XX столетии не пришли к примирению религия и наука. Великий конфликт продолжается. Он будет существовать, пока сохраняется религия. И каждое новое научное открытие будет наносить удар по религиозным представлениям об окружающем мире. Мракобесие существовало во все времена. Оно живет и сегодня. Порой затаивается, выжидая удобного часа, чтобы выплеснуться наружу. Порой выступает с открытым забралом. Однако вековой спор между религиозной и научной картиной мира в наши дни решен окончательно и бесповоротно. И тем, кто продолжает находиться во власти религиозных представлений, остается лишь искать оправдание деяниям своих предшественников, стремившихся остановить развитие знания, беспощадно расправлявшихся с пытливыми искателями истины, чьи имена навечно вошли в величественный пантеон борцов за науку. «Религия мешает людям видеть, потому что она под страхом вечных наказаний запрещает им смотреть», — писал два столетия назад французский философ-материалист Дени Дидро. Но люди хотели видеть. Они хотели знать. И религия была не в силах остановить их стремление к постижению природы, к познанию ее законов. Тем более она не в силах это сделать сейчас. Наш век не случайно называют веком научно-технической революции. Наука в XX столетии совершила поистине революционный переворот, сделала открытия, о которых еще сравнительно недавно не могли мечтать даже самые смелые писатели-фантасты. Но путь к высочайшим вершинам знания был трудным и жестоким. И в наши дни, когда религия претендует на то, чтобы служить людям своеобразной «наукой жизни», надо помнить об этом пути. «Смерть в одном столетии дарует жизнь во всех веках грядущих». Эти мудрые слова Джордано Бруно подтверждаются той памятью, которую мы храним о первопроходцах, явивших пример мужества и стойкости, честности и принципиальности. О тех, кого мы называем героями и мучениками науки.
Словарь имен
Антисфен из Афин (435–370 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, ученик Сократа, развивавший его учение. Аристарх Самосский (около 320–250 до н. э.) — древнегреческий астроном, впервые высказавший мысль о несостоятельности господствовавшей геоцентрической системы, согласно которой Земля является центром мироздания, а вокруг нее движутся Солнце и планеты. Он выдвинул гелиоцентрическую систему, заявив, что Земля является одной из планет, вращающихся вокруг Солнца. Идея Аристарха не нашла поддержки и была воскрешена и развита великим польским астрономом Николаем Коперником в XVI столетии. Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, основоположник ряда научных дисциплин, в том числе науки логики, названный К. Марксом «величайшим мыслителем древности». Выдвинул ряд научных положений, намного опередивших свое время. В период средневековья церковники использовали авторитет Аристотеля для утверждения идеалистической философии: они сделали, по словам В. И. Ленина, из его учения «мертвую схоластику», выбросив из него наиболее ценные мысли и идеи. Архимед (около 287–212 до н. э.) — древнегреческий ученый, математик и механик, многие работы которого значительно опередили свое время. Аверроэс (Ибн Рошд Мухаммед) (1126–1198) — арабский мыслитель, живший в Испании. В своем философском учении высказал ряд материалистических идей. Отрицал сотворение мира богом, бессмертие души, отстаивал принцип «двойственности истины», согласно которому научныеидеи не обязательно должны согласовываться с идеями религиозными. Подвергался нападкам богословов и церковников, которые видели в нем злейшего своего врага. Вольтер Аруэ Франсуа Мари (1694–1778) — французский мыслитель, просветитель, поэт. Отвергал официальную религию, выступал против церкви. Был сторонником деизма, учения, исходившего из представления о том, что бог, создав мир, далее не вмешивается в ход мировых событий, не оказывает влияния на судьбы людей. Вместе с тем признавал необходимость религии для простого народа, чтобы с ее помощью держать его в повиновении. Гарвей Уильям (1378–1657) — английский врач, открывший кровообращение. Своим трудом «Анатомические исследования о движении сердца и крови у животных» положил начало научной физиологии. Подвергался нападкам церковников, которые объявили его учение ложным. Гольбах Поль Анри Дитрих (1723–1789) — французский философ-материалист, энциклопедист, один из виднейших атеистов своего времени. Решительно отвергал религиозное вероучение, смело выступал против церкви. Его сочинения были занесены католической церковью в «Индекс запрещенных книг». Евклид (годы рождения и смерти неизвестны) — древнегреческий математик, научная деятельность которого протекала в III веке в Александрии. Ему принадлежит систематическое построение геометрии, получившее название евклидовой геометрии, ряд трактатов по математике, а также по астрономии, оптике и др. Кардано Джероламо (1501–1576) — итальянский ученый, известный своими работами в области медицины, математики и физики. В его философских трудах было немало элементов материализма, хотя он и отдавал в них дань мистике. Марешаль Сильвен (1750–1803) — французский просветитель. Считая религию результатом обмана простых людей власть имущими, показал в своих произведениях противоречивость «священных» книг, нелепость христианских догм. Выдвигал идею создания организации безбожников. Нежон Жак Андре (1738–1810) — французский философ-материалист, ярко раскрывший в своих произведениях несостоятельность религии, подвергший резкой критике католическую церковь. Плотин (205–270 н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, основатель неоплатонизма — мистического учения, в котором получили развитие идеи Платона о мире идей, «мировой душе» и др. Существовали различные школы неоплатонизма — в Александрии, Риме, в Сирии, в Афинах. Помпонацци Пьетро (1462–1524) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения. Критиковал религиозные представления о бессмертии души, о чудесах божьих. Однако считал, что религия — необходимое средство для того, чтобы держать народ «в узде». Птолемей Клавдий (II век) — древнегреческий ученый, астроном, географ. Выдвинул геоцентрическую систему мира, которая господствовала вплоть до появления разработанной Коперником гелиоцентрической системы. В своем сочинении «Руководство по географии» дал свод географических знаний древнего мира. Телезио Бернардино (1558–1588) — итальянский мыслитель, призывавший к опытному изучению природы. Высказал ряд материалистических идей, подвергнув критике средневековую схоластику. Эратосфен Киренский (ок. 276–194 до н. э.) — древнегреческий ученый, занимавшийся математикой, астрономией, филологией и другими науками. В течение ряда лет возглавлял знаменитую Александрийскую библиотеку.Примечания
1
Пьер де ла Раме (1515–1572), известный под именем Петра Рамуса.
 (обратно)
(обратно)
Последние комментарии
1 день 6 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 9 часов назад