Джек Лондон. Собрание сочинений в 14 томах. Том 13


 ДЖЕРРИ — ОСТРОВИТЯНИН
ДЖЕРРИ — ОСТРОВИТЯНИН
Предисловие
Несчастье некоторых беллетристов заключается в том, что средний человек полагает, будто вымысел и ложь — одно и то же. Несколько лет назад я опубликовал «Рассказы Южных морей» [1]. Действие разыгрывалось на Соломоновых островах. Сборник рассказов удостоился похвалы критиков, признавших в нем весьма почтенный плод фантазии. Что же касается реализма, то его, по их мнению, там не оказалось. Конечно, как известно всякому, волосатые каннибалы исчезли с лица земли, а следовательно, не разгуливают нагишом и не отрубают голов друг другу, а иной раз и белому человеку. Ну, так слушайте! Эти строки я пишу в Гонолулу, на Гавайях. Вчера на пляже Вайкики со мной заговорил один незнакомец. Он упомянул о нашем общем друге, капитане Келларе. Когда я на «Миноте» — судне, вербовавшем чернокожих рабочих, — потерпел крушение у Соломоновых островов, спас меня этот самый капитан Келлар, шкипер вербовщика «Евгения». Незнакомец сообщил мне, что чернокожие завладели головой капитана Келлара. Ему это было известно. Он был уполномочен матерью капитана Келлара ликвидировать его имущество. Слушайте дальше! На днях я получил письмо от верховного комиссара британских Соломоновых островов [2] мистера К. М. Вудфорда. Он вернулся на свой пост после длительного отпуска, проведенного им в Англии, где он устраивал сына в Оксфордский университет. Порывшись на полках любой общественной библиотеки, можно извлечь на свет книгу, озаглавленную «Натуралист среди охотников за головами». Мистер К. М. Вудфорд и является этим натуралистом и автором данной книги. Вернемся к письму. Повествуя о своих повседневных заботах, мистер Вудфорд мимоходом упоминает о только что выполненном специальном задании. Выполнение его задержалось из-за его поездки в Англию. То была карательная экспедиция на соседний остров, между прочим, и для поисков голов некоторых наших общих друзей-белых: негоцианта, его жены, детей и клерка. Экспедиция прошла успешно, и м-р Вудфорд заканчивает свое повествование об этом эпизоде такими словами: «Особенно поразило меня отсутствие страдания и ужаса в их лицах, выражавших скорее безмятежное спокойствие». Заметьте — это он пишет о людях своей же расы, о людях, хорошо ему знакомых и частенько обедавших с ним в его собственном доме. Многие друзья, с которыми я сиживал за обедом в те удалые, веселые дни на Соломоновых островах, погибли таким же образом. Бог мой! Я отплыл на кече «Минота», шедшем на Малаиту вербовать рабочих, и взял с собой жену. На двери нашей каюты еще видны были следы топора, свидетельствуя о событии, происшедшем несколько месяцев назад, когда отрубили голову капитану Маккензи, бывшему в то время шкипером «Миноты». Подходя к Ланга-Ланга, мы увидели британский крейсер «Кёмбриен», удалявшийся после обстрела одной из деревень. Не имеет смысла обременять введение к моему рассказу дальнейшими деталями, каковых, утверждаю, я могу привести множество. Надеюсь, мне удалось до известной степени заверить, что приключения собаки — героя моего романа — являются подлинными приключениями в весьма реальном мире каннибалов. Когда я с женой отплыл на «Миноте», мы нашли на борту очаровательного щенка — ирландского терьера, охотника за неграми [3]; то была такая же гладкошерстная собака, как и Джерри, а звали ее Пегги. Хозяином ее был великолепный шкипер «Миноты». Миссис Лондон и я так сильно к ней привязались, что миссис Лондон после крушения «Миноты» сознательно и бесстыдно украла ее у шкипера «Миноты». Признаюсь, что я столь же сознательно и бесстыдно потворствовал преступлению жены. Мы так любили Пегги! Милая, славная собачка, погребенная в море у восточного берега Австралии! Мне остается прибавить, что Пегги, как и Джерри, родилась у лагуны Мериндж на плантации Мериндж, находящейся на острове Изабелла. Этот остров лежит к северу от острова Флориды, где находится правительство и где обитает верховный комиссар мистер К. М. Вудфорд. Я хорошо знал отца и мать Пегги и частенько с любовью следил, как эта верная пара бегала бок о бок вдоль берега. Отца действительно звали Терренс, а мать — Бидди. Джек Лондон Пляж Вайкики. Гонолулу. Оагу Т. X. 5 июня 1915 г.
Глава первая
Пока мистер Хаггин не подхватил его неожиданно под мышку и не спустился на корму поджидавшего вельбота, Джерри и не подозревал, что ему грозит какая-нибудь неприятность. Мистер Хаггин был его любимым хозяином в течение всех шести месяцев жизни Джерри. Джерри не знал мистера Хаггина под именем «хозяин», ибо слову «хозяин» не нашлось места в словаре Джерри, этого гладкошерстного, золотисто-рыжего ирландского терьера. Но в сознании Джерри «мистер Хаггин» значит то же самое, что в наших словарях значит для собаки слово «хозяин». Слова «мистер Хаггин» Джерри слышал постоянно: так называли его хозяина многие — Боб, клерк и Дерби, надсмотрщик на плантации. И редкие посетители, двуногие человеческие существа, вроде тех, кто приехал на «Эренджи», тоже обращались к его хозяину «мистер Хаггин». Но собаки в своем смутном, неясном, возвеличивающем людей сознании возносят своих хозяев и любят их больше, чем те заслуживают. «Хозяин» значит для них то же, что значил «мистер Хаггин» для Джерри. Человек считает себя хозяином своей собаки, но собака считает своего хозяина богом. Однако слова «бог» не было в словаре Джерри, хотя он уже успел приобрести определенный и довольно пространный словарь. «Мистер Хаггин» значило то же, что и «бог». Для Джерри слова «мистер Хаггин» звучали так же, как звучит слово «бог» для людей, ему поклоняющихся. Короче, мистер Хаггин был богом Джерри. Итак, когда мистер Хаггин, или бог, или называйте его, как хотите, пользуясь нашим ограниченным языком, властно и резко поднял Джерри, сунул его под мышку и спустился в вельбот, а черная команда сейчас же склонилась к веслам, Джерри немедленно всем своим существом ощутил, что началась полоса необычайного. Раньше он никогда не бывал на борту «Эренджи», выраставшего перед ним с каждым свистящим ударом весел, на которых сидели чернокожие. Всего час назад Джерри прибежал из дому на берег поглядеть на отплытие «Эренджи». Уже дважды за полгода своей жизни испытывал он это удовольствие. А удовольствие было незаурядное — бегать вверх и вниз по белому берегу из коралла, раздробленного в песок, и под мудрым руководством Бидди и Терренса не только принимать участие в суматохе, царившей на берегу, но и самому подбавлять жару. Здесь происходила охота на негров. Джерри родился, чтобы ненавидеть негров. Еще пискливым щенком он на опыте убедился, что Бидди, его мать, и его отец Терренс ненавидят негров. На негра следовало рычать. На негра, если только он не был домашним слугой, нужно было кидаться, кусать его и рвать всякий раз, когда он появлялся во дворе фактории. Так поступала Бидди. Так поступал Терренс. Этим они служили своему богу — мистеру Хаггину. Негры были низшими двуногими созданиями, которые, как невольники, работали на своих двуногих белых господ, жили в рабочих бараках далеко в стороне и, как существа низшие и ничтожные, не смели приближаться к жилищу своих господ. А охота на негров была отважным предприятием. Об этом Джерри узнал вскоре после того, как научился ползать. Приходилось идти на риск. Пока мистер Хаггин, Дерби или Боб находились поблизости, негры переносили преследования. Но случалось, что белых господ поблизости не было. Тогда правило гласило: «Берегись негров!» На охоту можно было отважиться, только приняв все меры предосторожности. В отсутствие белого господина негры имели привычку не только хмуриться и ворчать, но и нападать на собак, пуская в ход камни и палки. Джерри видел, как обижали его мать; да и его самого, пока он не научился уму-разуму, отколотил однажды в высокой траве негр Годарми, который носил на груди китайскую дверную ручку, висевшую на веревке, свитой из кокосовых волокон. Джерри помнил еще одно приключение в высокой траве, когда он и его брат Майкл сразились с негром Оуми, замечательным тем, что он носил на груди зубчатые колеса от будильника. Майкл получил такой удар по голове, что левое ухо у него навсегда осталось поврежденным; оно высохло, странно скрючилось и стояло твердо, торчком. Мало того. У Джерри были брат Пэтси и сестра Кэтлин; два месяца тому назад они исчезли — перестали существовать. Великий бог мистер Хаггин в ярости метался по плантации. Обыскали заросли кустарника. Высекли с полдюжины негров. Мистеру Хаггину не удалось открыть тайну исчезновения Пэтси и Кэтлин. Но Бидди и Терренс знали. Знали и Майкл и Джерри. Четырехмесячные Пэтси и Кэтлин попали в кухонный котел в бараках, а их нежные щенячьи шкурки были сожжены. Джерри это знал не хуже, чем его отец, мать и брат; все они безошибочно распознали запах горелого мяса, а Терренс, придя в бешенство, даже напал на Могома, слугу, за что получил выговор и тумак от мистера Хаггина, ничего не почуявшего и не понявшего. А мистер Хаггин всегда насаждал дисциплину среди всех существ, обитавших под его крышей. Но на берегу, где столпились со своими сундучками на головах чернокожие, у которых окончился срок службы, готовясь отплыть на «Эренджи», охота на негров не грозила опасностью. Здесь можно было свести старые счеты, другого случая уж не представилось бы, так как чернокожие, отплывавшие на «Эренджи», назад никогда не возвращались. Так, например, в то самое утро Бидди, вспомнив удар, полученный некогда от Леруми, впилась ему зубами в голую икру и сбросила его в воду вместе с сундучком и всем его земным имуществом, а затем радостно скалила зубы, глядя на него, уверенная в защите мистера Хаггина, который, ухмыляясь, взирал на эту картину. Кроме того, на борту «Эренджи» обычно находилась какая-нибудь дикая собака, и Джерри и Майкл могли в полное удовольствие лаять на нее с берега. Однажды Терренс, который был немногим меньше эрдельтерьера и отличался такой же львиной храбростью, — Терренс Великолепный, как называл его Том Хаггин, — поймал дикую собаку, оскорбившую своим присутствием берег, и задал ей чудесную трепку. Джерри, Майкл и в то время еще здравствовавшие Пэтси и Кэтлин со звонким лаем приняли участие в битве. Джерри никогда не мог забыть экстаза, охватившего его, когда пасть его наполнилась волосами, по запаху, несомненно, собачьими. Дикие собаки были собаками — он признавал в них свою породу, — но от его собственного высокого рода они чем-то отличались… Джерри уже не смотрел на приближавшийся «Эренджи». Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, села у самого края песка, опустив передние лапы в воду, и горестно завыла. Джерри знал, что этот вой вызван его участью, и скорбь эта остро, хотя и смутно, терзала его чувствительное, горячее сердце. Он не знал, что предвещает ее вой, и ощущал надвигающуюся на него катастрофу. Он глядел на нее, мохнатую, удрученную горем, и видел, как Терренс заботливо вертится вокруг. Терренс и Майкл тоже были мохнатыми, как Пэтси и Кэтлин, а Джерри являлся единственным гладкошерстным членом семьи. Терренс — хотя об этом знал Том Хаггин, а не Джерри — был любящим и преданным супругом. Джерри с раннего детства помнил, как Терренс имел обыкновение много миль бегать с Бидди вдоль берега или по аллеям, обсаженным кокосовыми пальмами; они бежали бок о бок, у обоих были радостно-смеющиеся морды. Так как Джерри знал только Терренса, Бидди, своих братьев и сестер да немногих забегавших к ним диких собак, то и считал, что все собаки ведут себя так, остаются верными своим супружеским узам. Но Том Хаггин понимал всю необычность такого поведения. — Славная порода! — не раз одобрительно заявлял он, и глаза его увлажнялись от умиления. — Настоящий джентльмен, этот Терренс, четвероногий честный мужчина. Пес-мужчина на четырех ногах, и не знаю, есть ли еще такой на свете. Высшая порода, ей-богу! Его кровь, умная голова и мужественное сердце скажутся в тысяче поколений. Терренс если и горевал, то скорби своей вслух не проявлял; но его беспокойство о Бидди выражалось в том, что он кружился вокруг нее. Майкл, однако, заразился горем матери и, усевшись подле нее, гневно залаял на все увеличивавшуюся полосу воды, как стал бы лаять на всякую опасность, таящуюся в джунглях. Этот лай также сдавил сердце Джерри, и его предчувствие, что неведомая злая судьба надвигается на него, усилилось. Для своих шести месяцев Джерри знал и слишком много и слишком мало. Он знал, не думая об этом и сам не зная откуда, почему Бидди — мудрая и храбрая Бидди — не послушалась влечения своего сердца и не бросилась в воду, чтобы плыть вслед за ним. Она защищала его, как львица, когда большая пуарка (такова была в словаре Джерри — вместе с хрюканьем и визгом — комбинация звуков для слова «свинья») пыталась его сожрать, загнав в угол под домом на высоких сваях. Как львица, прыгнула Бидди на поваренка-негра, когда тот ударил его палкой, выгоняя из кухни. Она, не поморщившись, встретила сильный удар палки, затем повалила его на пол среди горшков и сковород и рвала зубами, пока ее не оттащил мистер Хаггин, на которого она впервые зарычала. Мистер Хаггин не рассердился на нее, но поваренок, осмелившийся поднять руку на собаку, принадлежащую богу, получил резкий выговор. Джерри знал, почему его мать не бросилась вслед за ним в воду. Соленое море, как и лагуны, ведущие к нему, было табу. Слова «табу» не было в словаре Джерри. Но смысл или значение его он отчетливо сознавал. Он смутно, неясно, но твердо знал, что входить в воду для собак не только нехорошо, но и в высшей степени опасно, что такая смелость может повлечь за собой исчезновение собаки: в воде скользили, бесшумно двигались, иногда по поверхности, иногда выплывая со дна, большие чешуйчатые чудовища с огромными зубастыми челюстями; они утаскивали в глубину и глотали собаку с такой же быстротой, как куры мистера Хаггина клевали зерна. Часто он слыхал, как его отец и мать, сидя в безопасности на берегу, с ненавистью лаяли на этих страшных обитателей моря, когда те появлялись на поверхности воды у самого берега, напоминая плавучие бревна. Слова «крокодил» не было в словаре Джерри. Крокодил был образом — образом плавучего бревна, отличавшегося от всякого другого бревна тем, что оно было живое. Джерри слышал, запоминал и узнавал много слов, и ему они служили тем же орудием мысли, что и человеку, хотя он, не наделенный даром членораздельной речи, не мог этих слов выговорить. Тем не менее в процессе мышления он пользовался образами так же, как люди пользуются словами. В конце концов и человек в процессе мышления поневоле прибегает к образам, которые соответствуют словам и дополняют их. Быть может, в мозгу Джерри образ плавучего бревна был теснее и полнее связан с самим предметом, чем слово «крокодил» и сопутствующий ему образ в сознании человека. Ибо Джерри действительно знал о крокодилах больше, чем знают люди. Он мог почуять запах крокодила на большем расстоянии и более отчетливо, чем любой человек, даже негр-островитянин или житель лесов. Он знал, когда крокодил, вылезший из лагуны, лежит неподвижно и, быть может, спит в тростнике джунглей на расстоянии сотни футов. О языке крокодилов он знал больше, чем знает любой человек. У него было больше способов и возможностей изучить его. Он знал издаваемые ими разнообразные звуки, похожие на хрюканье и потрескивание. Он узнавал по этим звукам, когда крокодилы сердятся или испуганы, голодны или ищут любви. И эти звуки в его словаре занимали такое же определенное место, как слова в словаре человека. Они служили ему орудием мысли. По ним он взвешивал, решал и определял свое собственное поведение, как это делает каждый человек, или, подобно человеку, лениво отказывался от какого-либо действия и только отмечал и запоминал, что вокруг него происходило и не требовало с его стороны никакого соответствующего поступка. И все же очень многого Джерри не знал. Он не знал величины земного шара. Он не знал, что лагуна Мериндж, окаймленная сзади высокими, поросшими лесом горами, а спереди прикрытая коралловыми островками, отнюдь не была всей вселенной. Он не знал, что она являлась лишь частью большого острова Изабеллы. А Изабелла была лишь одним — и даже не самым большим — из тысячи образующих группу Соломоновых островов, которую люди обозначали на картах скоплением пятнышек в юго-западной части Тихого океана. Правда, он смутно подозревал о существовании чего-то иного за пределами лагуны Мериндж. Но это «что-то» было окутано тайной. Оттуда внезапно появлялись вещи, которых раньше не было. Куры, пуарки и кошки, никогда раньше здесь не бывавшие, имели обыкновение вдруг появляться на плантации Мериндж. Однажды произошло даже вторжение странных четвероногих, рогатых и волосатых существ, образы которых запечатлелись в его мозгу. В человеческом словаре им соответствовало слово «козы». То же происходило и с неграми. Они появлялись внезапно, неведомо откуда и разгуливали по плантации Мериндж, высокие, с повязками на бедрах и с костяными палочками, продетыми в носу. Мистер Хаггин, Дерби и Боб назначали им работу. Их появление совпадало с прибытием «Эренджи», и это казалось Джерри делом само собой разумеющимся. Он над этим не задумывался, отметив только, что их случайное исчезновение за пределами плантации точно так же совпадало с отплытием «Эренджи». Джерри не допытывался о причине этих появлений и исчезновений. В его золотисто-рыжей голове никогда не появлялось желания полюбопытствовать и постараться разрешить тайну. Он принимал ее точно так же, как принимал сырую погоду и тепло солнечных лучей. Так делалось в той жизни и в том мире, которые он знал. Он смутно о чем-то подозревал, кстати, это подозрение соответствует неясному представлению человека о тайнах рождения, смерти и потустороннего, — тайнах, которые человек до конца раскрыть не может. Быть может, кеч «Эренджи», торговое судно, набиравшее негров-рабочих на Соломоновых островах, был для Джерри такою же таинственной лодкой, связывающей два мира, какою в былые времена казалась людям лодка Харона, перевозившая через Стикс. Люди приходили из ничего. В ничто они и уходили. А приходили и уходили они всегда на «Эренджи». И в это добела раскаленное тропическое утро к «Эренджи» в вельботе направлялся Джерри, сидя под мышкой у своего мистера Хаггина; на берегу Бидди выплакивала свое горе, а непосредственный Майкл своим лаем посылал в Неизвестное вечный вызов юности.
Глава вторая
Чтобы перейти с вельбота на низкий борт «Эренджи», нужно было сделать только шаг; Том Хаггин, все еще держа под мышкой Джерри, легко переступил на палубу через шестидюймовые поручни из тикового дерева. На палубе толпились люди. Эта оживленная толпа заинтересовала бы всякого человека, не привыкшего к путешествиям, как заинтересовала Джерри, но для Тома Хаггина и капитана Ван Хорна она являлась лишь привычным явлением повседневной жизни. Палуба была маленькая, ибо «Эренджи» вообще был маленьким судном. Это была прогулочная яхта из тикового дерева, с латунными украшениями, скрепленная по углам медью и железом, с медной обшивкой, как у военного судна, и бронзовым килем. Позже ее продали на Соломоновы острова для охоты «за черной птицей», или ловли негров. На языке закона эта охота называлась достойно — «вербовкой». «Эренджи» занимался вербовкой негров и отвозил захваченных каннибалов с отдаленных островов на новые плантации, где белые люди превращали туманные и ядовитые болота и джунгли в густые рощи стройных кокосовых пальм. Две мачты «Эренджи» из орегонского кедра были так выскоблены и напарафинены, что сияли на солнце, как коричневые опалы. Под парусами «Эренджи» шел великолепно и подчас с такой скоростью, что капитан Ван Хорн, его белый помощник и команда из пятнадцати негров едва могли справиться с работой. В длину судно имело шестьдесят футов, а палубные надстройки не ослабляли подпалубных бимсов. Единственными отверстиями, для которых, однако, не пришлось распиливать бимсы, были люки в главную и капитанскую каюты, люк на носу, на крохотном баке, и маленький люк на корме, ведущий в кладовую. И на такой маленькой палубе находились, помимо команды, «обратные» негры с трех отдаленных плантаций. Под словом «обратные» подразумевалось, что они отработали свои три года и, согласно контракту, их отвозили в родные деревни на диком острове Малаита. Из них двадцать человек — все знакомые Джерри — были из Меринджа; тридцать прибыли из Бухты Тысячи Кораблей, с островов Руссель; остальные двенадцать ехали из Пендерфрина на восточном берегу Гвадалканара. Кроме чернокожих — а все они были на палубе, переговариваясь на своем странном языке, напоминавшем птичье щебетание, — тут же находились и двое белых: капитан Ван Хорн и его помощник датчанин Боркман — всего семьдесят девять человек. — А я уж думал, что в последний момент у вас не хватит мужества, — приветствовал Хаггина капитан Ван Хорн. Глаза его радостно вспыхнули при виде Джерри. — Похоже было на то, — ответил Том Хаггин. — Только для вас я мог это сделать. Джерри — лучший из всех щенят, не считая, конечно, Майкла. Только эти двое и остались, а пропавшие были ничуть не хуже. Кэтлин была славная собака, вылитая Бидди, если б осталась жива… Вот, берите его! Он торопливо передал Джерри в руки Ван Хорна и, отвернувшись, зашагал по палубе. — Если с ним приключится беда, я вам этого никогда не прощу, шкипер, — резко бросил он через плечо. — Раньше им придется голову с меня снять, — усмехнулся шкипер. — И это, старина, может случиться, — проворчал Хаггин. — Мериндж в долгу перед Сомо, четыре головы остались здесь: трое умерли от дизентерии, а четвертого на прошлой неделе придавило дерево. К тому же он был сыном вождя. — Да. И «Эренджи» ответит перед Сомо еще за две головы, — кивнул Ван Хорн. — Помните, в прошлом году на юге парень по имени Гаукинс погиб со своим вельботом в проливе Арли? — Хаггин, направлявшийся вдоль палубы, кивнул головой. — Двое из его команды были из Сомо. Я их завербовал для плантации Уги. С вашими ребятами это выходит шесть голов. Но что за беда? В одной приморской деревне на подветренном берегу за «Эренджи» числится восемнадцать. Я их завербовал для Аоло; а так как они знали морское дело, то их и посадили на «Москита», а «Москит» погиб на пути в Санта-Крус. Они там на подветренном берегу уже котел приготовили… Ей-богу, парень, который сможет добыть мою голову, станет вторым Карнеги [4]. Деревня собрала сто пятьдесят свиней и бессчетное количество раковин, которые идут для обмена тому, кто поймает и выдаст меня. — Пока что не поймали, — фыркнул Хаггин. — А я не боюсь, — беззаботно откликнулся тот. — Вы говорите, как бывало, говаривал Арбекл, — заявил Хаггин. — Я не раз слышал его разглагольствования. Бедняга Арбекл!.. Самый надежный и самый осторожный парень, какой когда-либо имел дело с неграми. Он никогда спать не ложился, не разбросав по полу гвоздей, или если их не было, то смятых газет. Помню, жили мы с ним на Флориде под одной крышей; ночью большой кот погнался за тараканом и загнал его в бумагу. А Арбекл сейчас же пиф-паф, пиф-паф, — шесть раз выстрелил из своих двух больших револьверов. Дом продырявил, как решето, и кота убил! Он умел стрелять в темноте, без прицела: собачку спускал указательным пальцем, а большой палец держал на дуле. Э, нет, приятель! На что уж был молодчина… Казалось, не родился еще негр, который ухитрился бы снять с него голову. А все-таки они его заполучили. Да, заполучили. На четырнадцать лет его хватило. А прикончил его повар. Ударил топором перед самым завтраком. Я хорошо помню наше второе путешествие в джунгли за его останками. — Я видел его голову после того, как вы ее передали комиссару в Тулаги, — добавил Ван Хорн. — И такое спокойное, мирное лицо у него было и та же улыбка, какую я видел тысячу раз. Голова высохла над костром… А все же они его заполучили, хоть им и понадобилось для этого четырнадцать лет. Многие отправляются на Малаиту и некоторое время удерживают голову на плечах; но… повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить. — Но козыри-то на руках у меня, — настаивал капитан. — Чуть запахнет бедой, я иду прямо к ним и объясняю, как и что. Они не могут понять, в чем тут дело. Думают, что у меня есть какое-то сильное волшебное зелье. Том Хаггин неожиданно протянул руку и попрощался, стараясь не смотреть на Джерри, которого держал Ван Хорн. — Следите за моими «обратными», — предостерег он, спускаясь в вельбот, — следите, пока не высадите на берег последнего из них. У них нет основания любить Джерри и всю его породу, а мне будет противно, если он погибнет от руки черного. А ночью, в темноте, его могут отправить за борт. Не спускайте с них глаз, пока не разделаетесь с последним. Видя, что мистер Хаггин покидает его и отплывает в вельботе, Джерри беспокойно завертелся и тихонько заскулил. Капитан Ван Хорн теснее прижал его к себе и погладил свободной рукой. — Не забудьте об условии! — крикнул Том Хаггин. — Если с вами что-нибудь случится, Джерри должен вернуться ко мне. — Я напишу распоряжение и спрячу его вместе с судовыми документами, — отозвался Ван Хорн. Среди многих слов, которые знал Джерри, он знал и свое собственное имя. В разговоре двух белых оно повторялось несколько раз, и Джерри понял, что речь идет о чем-то неопределенном и ужасном, надвигающемся на него. Он еще энергичнее заерзал, и Ван Хорн опустил его на палубу. Джерри прыгнул к поручням с такой быстротой, какую трудно было ожидать от неуклюжего шестимесячного щенка, и попытка Ван Хорна остановить его не увенчалась бы успехом, если бы Джерри не отступил перед водой, лизавшей борт «Эренджи». Он вспомнил о табу. Его остановил образ плавучего бревна, какое было вовсе не бревном, а чем-то живым. Не рассудок заговорил в нем, а запрет, вошедший в его плоть и кровь. Он присел на свой обрубленный хвостик, поднял к небу золотистую мордочку и в отчаянии залился протяжным щенячьим воем. — Ничего, Джерри! Возьми себя в руки и будь мужчиной! — успокаивал его Ван Хорн. Но утешить Джерри было не так легко. Хотя Ван Хорн, несомненно, был белокожим богом, но это был не его бог. Его богом был мистер Хаггин, и к тому же высшим богом. Это ощущал Джерри, даже совершенно о том не думая. Его мистер Хаггин носил штаны и ботинки. А бог, стоявший подле него на палубе, был одет скорее как чернокожий. Штанов он не носил и ходил босиком. Мало того: вокруг бедер у него, как и у всякого чернокожего, была обмотана яркая набедренная повязка, которая спускалась, как юбка, почти до самых его колен. Капитан Ван Хорн был красив, хотя Джерри этого не понимал. Несмотря на то, что он родился в Нью-Йорке [5], он походил на голландца, выступившего из рамы рембрандтовского портрета. И предки его жили там же еще в те времена, когда Нью-Йорк был не Нью-Йорком, а Новым Амстердамом. На Ван Хорне была шестипенсовая белая бумажная рубашка, прикрывавшая торс и пояс, на котором болтались кисет с табаком, нож в ножнах, патронные обоймы и большой автоматический револьвер в кожаной кобуре. Костюм его завершала в рембрандтовском стиле заломленная набекрень мягкая шляпа. Бидди, притихшая было на берегу, услышала визг Джерри и снова подняла вой. А Джерри примолк на секунду, чтобы прислушаться, и услыхал, как Майкл бешено лает подле нее; и увидал Джерри, что высохшее его ухо по обыкновению упорно стоит торчком. Когда же капитан Ван Хорн и помощник Боркман отдали распоряжение поднять грот и контр-бизань, Джерри излил всю свою скорбь в отчаянном вое, по поводу которого на берегу Боб заявил Дерби, что это — «величайшее вокальное упражнение», какое он когда-либо слышал от собаки, и будь голос чуточку ниже, Карузо нечем было б похвалиться перед Джерри. Но Хаггин не мог вынести этого, едва высадившись на берег, он свистнул Бидди и быстро зашагал прочь. При виде удалявшейся матери Джерри еще более уподобился Карузо [6], чем доставил величайшее удовольствие негру из Пендефрина, стоявшему подле. Он захохотал, поддразнивая Джерри пискливым фальцетом, напоминавшим скорее птичьи звуки обитателей джунглей, чем голос человека — человека настоящего и, следовательно, бога. Это подействовало, как превосходное противоядие. Джерри был охвачен негодованием — какой-то чернокожий смеется над ним! — и через секунду его щенячьи зубы, острые, как иглы, оставили на голой икре пораженного негра длинные параллельные царапины, из которых сейчас же брызнула кровь. Чернокожий поспешно отскочил, но в Джерри была кровь Терренса Великолепного, и, подобно своему отцу, он прыгнул вперед и расцветил другую икру красноватым узором. Якорь был поднят, передние паруса поставлены. Капитан Ван Хорн, зоркие глаза которого не упустили ни одной детали происходившего, отдал распоряжение чернокожему рулевому и повернулся, чтобы похвалить Джерри. — Валяй, Джерри! — поощрял он. — Хватай его! Вали! Кусай его! Хватай! Чернокожий, защищаясь, лягнул Джерри, но тот прыгнул вперед, вместо того чтобы отскочить в сторону, — еще один прием, унаследованный им от Терренса, — ускользнул от голой пятки и отпечатал новую серию красных линий на черной ноге. Это было уже слишком, и негр, боясь скорее Ван Хорна, чем Джерри, повернулся и кинулся на нос, ища спасения на груде лиэнфильдских ружей, которые были сложены на люке каюты и охранялись одним из матросов. Джерри бушевал около люка, прыгая и крутясь вокруг, пока капитан Ван Хорн не отозвал его. — Этот щенок — славный охотник за неграми, славный охотник, — сообщил Ван Хорн Боркману, наклонившись, чтобы погладить Джерри и выразить ему свое одобрение. А Джерри под ласкающей рукой бога, правда, не носившего штанов, забыл на секунду постигшую его судьбу. — Лев, а не собака, он скорее похож на эрдельтерьера, а не на ирландского, — говорил Ван Хорн своему помощнику, продолжая гладить Джерри. — Посмотрите, какой он крупный. Посмотрите, какая у него кость. Вот это грудь! А какая выносливость! Из него выйдет славная собака, когда он подрастет. По лапам видно. Джерри внезапно вспомнил о своем горе и бросился через палубу к поручням, чтобы в последний раз взглянуть на Мериндж, уменьшавшийся с каждой секундой. В эту минуту порыв юго-восточного пассата надул паруса, и «Эренджи» накренился. Джерри, тщетно цепляясь за гладкую поверхность, чтобы удержаться, скользя, покатился по палубе, наклонившейся под углом в сорок пять градусов. Он долетел до основания бизань-мачты, а капитан Ван Хорн, зорким глазом моряка заметив прямо по носу коралловый риф, скомандовал: — Руль под ветер! Боркман и чернокожий рулевой повторили его слова, и с поворотом штурвала «Эренджи» быстро повернулся по ветру и выровнялся. Джерри, все еще поглощенный Меринджем, воспользовался тем, что палуба пришла в горизонтальное положение, и, оправившись, пополз к поручням. Но ему не удалось добраться до цели: раздался треск блока грота-шкота, скользнувшего по крепкому бугелю, и грот, перекинутый ветром, с бешеной скоростью пронесся над головой Джерри. Он избег опасности, сделав дикий прыжок, — такой же прыжок сделал и Ван Хорн, бросившийся к нему на помощь, — и очутился как раз под грота-гиком; огромный парус высился над ним, словно готовясь рухнуть на него и сокрушить. Это было первое знакомство Джерри с парусами. Он не был знаком со зверями и не знал их повадок, но когда был еще крохотным щенком, в памяти его запечатлелся образ ястреба, свалившегося на него с неба. Теперь под угрозой этого колоссального чудовища он припал к палубе. Над ним, падая, как стрела, из синевы, навис крылатый ястреб, неизмеримо больше того, с каким ему пришлось раньше встретиться. Но, припадая к земле, Джерри отнюдь не пытался спрятаться. Съежившись и собирая все силы, он готовился к прыжку, чтобы встретиться на полпути с этим грозным чудовищем. Через секунду вторично раздался треск блока на бугеле, и грот пролетел мимо. Джерри прыгнул, но не увидел даже тени паруса. Ван Хорн наблюдал за ним. Раньше ему приходилось видеть, как молодые собаки буквально до безумия пугались при первой встрече с парусами, закрывающими собой небо и грозно свисающими вниз. Джерри был первой собакой, бесстрашно прыгнувшей с оскаленными зубами, чтобы вступить в бой с чудовищным Неизвестным. С неподдельным восхищением Ван Хорн поднял Джерри на руки и прижал к себе.
Глава третья
Джерри на время совсем позабыл о Мериндже. Он хорошо помнил, что у ястреба были острые когти и клюв. За этим грохочущим в воздухе чудовищем нужно было следить. И Джерри, приседая для прыжка и упорно стараясь удержаться на скользкой, накреняющейся палубе, не спускал глаз с грота и тихонько ворчал при каждом намеке на движение с его стороны. «Эренджи» шел по узкому каналу между коралловыми рифами, против свежего пассатного ветра. Это вызывало необходимость лавировать, и грот наверху то и дело перелетал с левого галса на правый и обратно, производя шум, напоминающий взмах крыльев; рифы хлестали, а блок громко трещал на бугеле. Несколько раз, когда грот проносился над головой, Джерри бросался на него, готовый вцепиться; его чистые щенячьи зубы были оскалены и блестели на солнце, как драгоценные безделушки из слоновой кости. Каждый прыжок кончался неудачей, и Джерри пришел к определенному выводу. Следует, между прочим, отметить, что этот вывод, несомненно, являлся результатом мыслительного процесса. Из наблюдений над предметом, все время ему угрожавшим, из ряда своих нападений он вывел заключение, что этот предмет ему не вредит и даже не приходит с ним в соприкосновение. Он понял, что это не столь опасная вещь, какою она сначала ему показалась. Быть может, не мешает ее остерегаться, хотя в его классификации она уже заняла свое место в ряду предметов, которые казались страшными, но в действительности таковыми не были. Таким же путем он научился не бояться рева ветра среди пальм, когда лежал на веранде дома, и атаки волн, с шипением разбивавшихся в кипящую пену и брызги на берегу, у самых его ног. Не раз в течение дня Джерри весело, небрежно, чуть ли не юмористически поглядывал на грот, когда тот проносился мимо. Но больше он уже не припадал к палубе и не прыгал. Это был первый урок, и он быстро его усвоил. Покончив с гротом, Джерри мысленно вернулся к Меринджу. Но никакого Меринджа не было; не было Бидди, Терренса и Майкла на берегу; не было ни мистера Хаггина, ни Дерби, ни Боба; не было ни берега, ни земли с пальмами на переднем плане и далекими горами, вечно вздымающими к небу свои зеленые вершины. Где бы он ни стоял, положив передние лапы на шестидюймовые поручни, на правом или на левом борту, на носу или на корме, всюду он видел только волнующийся океан, который под напором пассата мирно и ритмично гнал свои волны, увенчанные белыми гребнями. Будь Джерри ярда на два выше и имей он глаза опытного моряка, он мог бы разглядеть на севере низкую полоску острова Изабеллы, а на юге очертания Флориды, обрисовывавшиеся все яснее по мере того, как «Эренджи», сильно накренясь, с натянутыми шкотами, полным ходом шел на левом галсе навстречу юго-восточному пассату. А имей Джерри возможность воспользоваться морским биноклем, который усиливал зрение капитана Ван Хорна, он увидел бы на востоке возвышающиеся над морем далекие вершины Малаиты, похожие на розоватые дымки облаков. Но то, что окружало Джерри, имело к нему непосредственное отношение. Он рано усвоил железный закон необходимости и научился принимать то, что есть, а не гнаться за далекими вещами. Море было; это была реальность. Земли больше не было. «Эренджи» — тоже реальность, как и живые существа, толпившиеся на его палубе. И он стал знакомиться с тем, что было, — короче, узнавать новую обстановку и приспособляться к ней. Первое его открытие оказалось восхитительным. Это была местная дикая собака — щенок из зарослей на острове Изабеллы; ее вез на Малаиту один из чернокожих с плантации Мериндж. По возрасту они были одинаковы, но разной породы. Туземная собака была собакой дикой, подлой и раболепной. Уши у нее вечно были опущены, хвост болтался между ногами; она всегда опасалась нового несчастья и новой обиды; трусливая и мстительная, под угрозой удара злобно кривила пасть, обнажая щенячьи клыки; припадала к земле, когда ее били, выла от страха и боли и всегда была готова на предательский укус, если представлялся удобный случай. Дикая собака физически была более развита, чем Джерри, сильнее и злее, чем он, но в жилах Джерри текла благородная кровь, он был храбр и чистокровен. Дикая собака тоже появилась на свет в результате не менее сурового отбора, но здесь отбор носил иной характер. Из лесных предков, от которых она происходила, выживали самые трусливые. Они никогда добровольно не вступали в бой с сильнейшим противником. Они никогда не нападали в открытую, за исключением тех случаев, когда добыча была слаба или беззащитна. Храбрость они заменили нападением исподтишка, они ускользали, прятались от опасности. Это был слепой отбор природы. Они выжили в жестокой и подлой среде, где жизнь покупалась главным образом ценой трусливой хитрости, а иногда отчаянным нападением из-за угла. Отбором предков Джерри руководили любовно. Только смелые выжили из них. Его предки были сознательно и разумно отобраны людьми, которые где-то в далеком прошлом занялись дикой собакой и сделали ее такой, какой она представлялась им в мечтах и какою они желали ее видеть. Она никогда не должна была сражаться в углу, как крыса, так как не должна была походить на крысу и забираться в угол. Она не должна была отступать. Собаки, которые отступали, не нужны были людям. Не они сделались предками Джерри. Его предки, отобранные людьми, были храбрыми псами, стойкими и дерзкими, они кидались навстречу опасности, сражались и умирали, но никогда не оставляли поля битвы. А так как каждый рождает себе подобного, то Джерри был таков, каким был до него Терренс и какими сотни лет назад были праотцы Терренса. Поэтому Джерри, случайно заметив дикую собаку, забившуюся в защищенный от ветра уголок между гротом и люком каюты, не стал размышлять о том, что противник крупнее и сильнее, чем он. Он знал только одно: перед ним древний враг — дикая собака, далеко, обходившая костры человека. С победным и радостным лаем, привлекшим внимание всевидящего и всеслышащего капитана Ван Хорна, Джерри бросился в атаку. Дикий щенок с невероятной быстротой обратился в бегство, но был настигнут Джерри и кубарем покатился по наклонной палубе. Катаясь и ощущая острые зубы, впивающиеся в него, он то огрызался и щелкал зубами, то повизгивал и хныкал, и в этом визге слышались ужас, боль и подлое смирение. А Джерри был джентльменом, иными словами, благородным псом. Таким его вырастили. Так как враг не сопротивлялся, гнусно визжал и беспомощно ежился под ним, Джерри перестал нападать и выбрался из шпигата, куда они скатились. Он не размышлял о своем поступке. Он это сделал, ибо таким был создан. Он выпрямился на качающейся палубе и с удовольствием ощущал во рту восхитительный вкус собачьих волос, а в ушах его звучал одобрительный возглас капитана Ван Хорна: — Умник, Джерри! Ты, Джерри, молодчина! Славный пес! Уходя от места сражения, Джерри, можно сказать, возгордился и важно перебирал лапами. Он оглянулся через плечо на пищавшую собаку, словно говоря: «Ну, думаю, на этот раз тебе хватит. Теперь не попадайся мне на шути!» Джерри продолжал обследовать свой новый крохотный мирок, который никогда не пребывал в покое, постоянно вздымаясь и опускаясь на волнующейся поверхности моря. Тут находились чернокожие, возвращавшиеся с плантаций Меринджа. Он решил осмотреть каждого из них; его встречали воркотней и бранью, а он отвечал грозным рычанием. Он был выдрессирован так, что хоть и разгуливал на четырех ногах, но считал себя выше этих двуногих, ибо всегда жил под эгидой великого двуногого бога, носившего штаны, — мистера Хаггина. Кроме того, здесь были чужие — рабочие из Пендефрина и из Бухты Тысячи Кораблей. Джерри хотел узнать их всех. В будущем это знание могло ему понадобиться. Об этом он не думал. Он просто знакомился с окружающей средой, не заботясь о будущем и не осознавая, что принимает меры предосторожности. Обогащаясь опытом, Джерри быстро обнаружил, что на «Эренджи», так же как и на плантации, где домашние слуги отличались от работавших в поле, существует класс людей, отличный от возвращавшихся рабочих. Это была судовая команда. Пятнадцать чернокожих, составлявших ее, были ближе к капитану Ван Хорну, чем все остальные. Они, казалось, принадлежали «Эренджи» и Ван Хорну. Они исполняли его приказания, стояли на руле, тянули снасти, втаскивали из-за борта ведра с водой и терли палубу щетками. От мистера Хаггина Джерри узнал, что должен снисходительно относиться к домашней прислуге; теперь капитан Ван Хорн научил его быть более снисходительным к судовой команде, чем к возвращавшимся рабочим. С командой он мог позволять себе меньше вольностей, чем с остальными. Пока капитан Ван Хорн не хотел, чтобы он охотился за его командой, Джерри считал своим долгом не охотиться. С другой стороны, он всегда помнил, что он собака белого бога. Хотя этих негров он и не преследовал, но от всякой фамильярности с ними воздерживался. Он наблюдал за ними. Ему приходилось видеть, как мистер Хаггин стегал хлыстом своих чернокожих слуг. Они являлись промежуточным звеном в схеме мира, и за ними следовало следить, чтоб они не забывали своего места. Джерри предоставлял им место, но равенства он не допускал. В лучшем случае он мог свысока удостаивать их своим вниманием. Джерри основательно обследовал кухню. Это было неуклюжее помещение на палубе, открытое ветрам, дождю и буре, где два чернокожих в облаках дыма ухитрялись готовить на маленькой печке еду для восьмидесяти человек, находившихся на борту. Затем Джерри заинтересовался странным поведением судовой команды. В поручни «Эренджи» были ввинчены прямые трубы, служившие подпорками для рядов колючей проволоки, которая обегала все судно. Единственный узкий прорыв в пятнадцать дюймов былсделан для выхода к трапу. Джерри понимал, что это была мера предосторожности против опасности, хотя он и не задумывался над этим. Всю свою жизнь, с самого первого дня, он провел, окруженный опасностью, постоянно грозившей со стороны чернокожих. В доме на плантации Мериндж белые всегда с подозрением поглядывали на многочисленных негров, работавших на них и им принадлежавших. В жилой комнате, где был обеденный стол, бильярд и фонограф, стояли козлы для ружей, а в каждой спальне, у каждой кровати лежали под рукой револьверы и винтовки. Мистер Хаггин и Боб, уходя из дому к своим чернокожим, всегда носили у пояса револьверы. Джерри знал, для какой цели служат эти производящие шум предметы, — то были орудия разрушения и смерти. Ему приходилось видеть, как они уничтожали живые существа: свиней, птиц и крокодилов. С помощью этих предметов белые боги по воле своей преодолевали пространство, не трогаясь с места, и убивали живые существа. А он, Джерри, чтобы причинить кому-нибудь вред, должен был преодолеть пространство и приблизиться к своему противнику. Он был иначе устроен. Он был ограничен в своих возможностях. Для совершенных двуногих белых богов все невозможное оказывалось возможным. Их способность уничтожать вещи, отделенные расстоянием, являлась как бы дальнейшим развитием когтей и клыков. Не задумываясь и не пытаясь осмыслить это, он принимал это так же, как принимал весь окружающий его таинственный мир. Однажды, в прошлом, Джерри случилось увидеть, как мистер Хаггин посеял смерть на расстоянии, но на другой манер. С веранды он видел, как тот швырнул палочки динамита в галдевшую толпу чернокожих, явившихся из внешнего мира на своих длинных черных военных лодках, остроносых, резных и инкрустированных перламутром, которые они втащили на берег у плантации Мериндж. Джерри видал немало мер предосторожности, принимаемых белыми богами, и теперь бессознательно увидел в этой ограде из колючей проволоки на плавучем мирке признак постоянной опасности. Гибель и смерть бродили вокруг, высматривая удобный случай, чтобы напасть на жизнь и задушить ее. Чтобы жить, следовало быть начеку — этот закон Джерри вывел из того немногого, что знал о жизни. Пока натягивали колючую проволоку, у Джерри произошло еще одно приключение с Леруми, рабочим из Меринджа, которого в то утро Бидди столкнула в воду со всеми его пожитками. Они встретились на штирборте у люка; Леруми разглядывал себя в дешевенькое зеркальце и расчесывал жесткие волосы деревянным гребнем ручной работы. Джерри, не обращая внимания на присутствие Леруми, пробегал на корму, где помощник капитана Боркман следил, как команда натягивает на подпорки колючую проволоку. А Леруми огляделся по сторонам, убедился, что его ноги никому не видны, прицелился и лягнул сына своего четвероногого врага. Голая нога больно ударила Джерри по кончику недавно обрубленного хвоста, и Джерри, оскорбленный таким святотатством, немедленно пришел в бешенство. Капитан Ван Хорн стоял на корме на левом борту, определяя по парусам направление ветра и следя за чернокожим рулевым, и не видел Джерри, заслоненного люком. Но он заметил, как Леруми дернул плечом, пока, балансируя на одной ноге, другой наносил удар. И следующие события помогли ему догадаться о том, что произошло. Вой Джерри, когда он упал, перевернулся, прыгнул и укусил, был поистине щенячьим воплем негодования. Он вцепился в лодыжку и, получив второй удар, скатился по палубе в ватервейс; но на черной коже остались красные следы его острых, как игла, зубов. Все еще визжа от негодования, он пополз, цепляясь когтями, по крутому деревянному холму. Леруми, снова бросив взгляд по сторонам, убедился, что за ним следят и через край хватать нельзя. Он бросился бегом вдоль люка, пытаясь ускользнуть вниз, но острые зубы Джерри впились в его икру. Как раз в эту минуту внезапный порыв ветра надул паруса, и Леруми растянулся во всю длину. Тщетно стараясь подняться на ноги, он налетел на колючую проволоку с подветренной стороны. Чернокожие, толпившиеся на палубе, завизжали от удовольствия, а Джерри, видя своего противника выбитым из строя и по ошибке сочтя себя объектом насмешек, с не меньшим бешенством накинулся на негров, хватая и кусая пролетавшие мимо него ноги. Они попрыгали вниз в трюм и на трап, ведущий на полубак, взобрались на бушприт, влезли на снасти и повисли в воздухе, как чудовищные птицы. В конце концов палуба осталась за Джерри, если не считать судовой команды; но Джерри уже научился делать различие. Капитан Ван Хорн подозвал Джерри, приласкал его и со смехом осыпал похвалами; затем повернулся к своим многочисленным пассажирам и произнес речь на чудовищном английском морском жаргоне. — Эй вы, ребята! Я вам говорю. Этот пес принадлежит мне. Если кто из вас, парней, этого пса тронет, тому придется плохо. Ей-богу, я из него семь склянок выбью! Вы своим ногам воли не давайте. А я придержу свою собаку. Поняли? И пассажиры, все еще висевшие в воздухе, поблескивая черными глазами и жалобно чирикая между собой, приняли закон белого. Даже Леруми, порядком поцарапанный колючей проволокой, не ругался и не грозил. Потирая пальцами свои царапины, он прошептал: «Ей-богу, здоровый парень этот пес! Здоровый парень!» — чем вызвал усмешку шкипера и оглушительный хохот товарищей. Но Джерри нельзя было назвать злым. Как Бидди и Терренс, он был буйным и бесстрашным; эти качества он получил по наследству. И, как Бидди и Терренс, он испытывал удовольствие от охоты на негров. Это был результат дрессировки; так дрессировали его, когда он был еще крохотным щенком. Негры были неграми, а белые люди были богами, и белые боги научили его преследовать негров и следить, чтобы они занимали подобающее им низшее место в мире. Белые держали в своих руках весь мир. Негры… Разве не знал он, что они всегда вынуждены оставаться в своем жалком положении? Разве не видел он, как на плантации Мериндж их привязывали иногда к пальмам и хлестали по спине, вырывая клочья мяса? Не удивительно, что породистый ирландский терьер, окруженный любовью белого бога, смотрел на негров глазами белого бога и вел себя с ними так, чтобы заслужить его похвалу. Для Джерри выдался хлопотливый денек. На «Эренджи» все для него было ново и странно, и здесь то и дело случались любопытные вещи. У Джерри произошла еще одна встреча с дикой собакой, которая предательски напала на него с фланга из засады. Сундучки с имуществом чернокожих были сложены в беспорядке, и между двумя ящиками в нижнем ряду осталось небольшое пространство. Из этой дыры дикая собака прыгнула на Джерри, пробегавшего мимо на зов шкипера, вонзила острые зубы в желтую бархатную шкуру Джерри и поспешно юркнула назад, в свою нору. Снова чувства Джерри были оскорблены. Атаку с фланга он понимал. Часто он играл так с Майклом, хотя у них это была только игра. Но отступать, не сражаясь, когда бой уже начался, было чуждо привычкам и характеру Джерри. Со справедливым негодованием он бросился в дыру за своим врагом. Но здесь все преимущества были на стороне дикой собаки, — она лучше всего сражалась в углу. Когда Джерри прыгнул в узкое пространство, он ударился головой о верхний сундучок и через секунду почувствовал у самой своей морды оскаленную пасть врага. Не было никакой возможности добраться до дикой собаки, налететь на нее всей тяжестью, как это делается в открытой атаке. Джерри оставалось только ползти, вертеться и рваться вперед, и всякий раз его встречали оскаленные зубы. И все же в конце концов он одолел бы ее, если бы проходивший мимо Боркман не наклонился и не вытянул Джерри за заднюю лапу. Снова раздался зов капитана Ван Хорна, и Джерри послушно побежал на корму. Обедали на палубе в тени контр-бизани, и Джерри, сидевший между двумя мужчинами, получил свою порцию. Он уже успел вывести заключение, что из двух белых капитан был высшим богом, отдававшим приказания, которым повиновался помощник. Помощник же, в свою очередь, командовал чернокожими, но никогда не отдавал приказаний капитану. Джерри почувствовал влечение к капитану и ближе к нему придвинулся. Когда он сунул нос в тарелку капитана, ему ласково сделали выговор. Но когда он только понюхал дымящуюся чашку чая помощника, тот щелкнул его по носу грязным пальцем. И помощник ни разу не дал ему есть. Капитан Ван Хорн дал ему прежде всего миску овсяной каши, щедро полив ее сгущенными сливками и подсластив сахаром; сахару он высыпал ложку с верхом. Затем он то и дело давал ему ломтики хлеба с маслом и кусочки жареной рыбы, заботливо вытащив сначала мелкие кости. Его возлюбленный мистер Хаггин никогда не кормил его во время обеда, и теперь Джерри был наверху блаженства. И, будучи еще молоденьким щенком, он до того увлекся, что вскоре стал настойчиво приставать к капитану, требуя еще рыбы и хлеба с маслом. Один раз он даже пролаял свою просьбу. Это навело капитана на мысль научить его «говорить», и он сейчас же принялся за дело. Через пять минут Джерри научился «говорить», тихо и только один раз — мягким, ласкающим, односложным лаем. И тут же он усвоил слово «сядь», как отличающееся от «ляг», и узнал, что должен садиться всякий раз, когда говорят, а затем ждать, пока не дадут куска. Далее его словарь обогатился тремя словами. Отныне «говори» стало означать для него «говори», а «сядь» означает «сядь» и отнюдь не «ляг». Третье слово было «шкипер». Он слышал, как помощник несколько раз называл этим именем капитана Ван Хорна. И точно так же, как когда кто-нибудь из людей кричал «Майкл», то Джерри знал, что зов относился к Майклу, а не к Бидди, или Терренсу, или к нему самому, то теперь он узнал, что «шкипер» было имя двуногого белого господина этого нового плавучего мира. — Право же, это не простая собака, — объявил Ван Хорн своему помощнику. — За этими карими глазами видишь настоящий человеческий мозг. Ему шесть месяцев. Всякий шестилетний мальчишка считался бы феноменом, если бы выучил в пять минут все, что выучил он. Да, черт меня побери! Собачий мозг, должно быть, похож на человеческий. Если пес действует, как человек, ему и думать приходится по-человечьи.
Глава четвертая
В главную каюту вел крутой трап, и по нему капитан после обеда снес Джерри на руках. Это было большое помещение во всю ширину «Эренджи», между лазаретом на корме и крохотной каюткой на носу. Дальше, за толстой переборкой, находился кубрик, где жила судовая команда. В крохотной каютке помещались Ван Хорн и Боркман, а главную каюту занимали шестьдесят рабочих. Они сидели на корточках, валялись на палубе и на длинных скамьях, тянувшихся по обеим сторонам каюты. Войдя в маленькую каюту, капитан бросил в угол одеяло и дал понять Джерри, что это его постель. Джерри, плотно пообедавший и утомленный после такого суетливого дня, немедленно заснул. Час спустя его разбудил вошедший Боркман. Джерри приветливо завилял обрубком хвоста и улыбнулся, но помощник нахмурился и сердито проворчал что-то сквозь зубы. Тогда Джерри перестал улыбаться и только спокойно за ним следил. Помощник зашел глотнуть спиртного. Он таскал выпивку из запасов Ван Хорна. Джерри этого не знал. На плантации ему часто приходилось видеть, как выпивают белые. Но в манерах Боркмана было что-то необычное. Он пил как будто исподтишка, украдкой, и Джерри смутно это сознавал. В чем тут дело, он не знал, но, почуяв что-то неладное, подозрительно присматривался. После ухода помощника Джерри мог бы еще поспать, но неплотно прикрытая дверь с шумом распахнулась. Открыв глаза, он приготовился встретить неведомого врага. Но никого не было, и он стал следить за тараканом, ползущим по переборке. Когда Джерри встал и осторожно направился к нему, таракан удрал, скрылся в щели. С тараканами Джерри был знаком всю свою жизнь, но на «Эренджи» обитала особая порода, и, столкнувшись с ней, ему еще суждено было узнать много нового. Наскоро обследовав маленькую каюту, он вышел в большую. Здесь повсюду валялись чернокожие. Джерри решил каждого освидетельствовать, видя в этом свой долг перед шкипером. Они хмурились и потихоньку ругались, когда он к ним принюхивался. Один осмелился пригрозить ему кулаком, но Джерри, вместо того чтобы увернуться в сторону, оскалил зубы и приготовился к прыжку. Чернокожий поспешно опустил руку и стал тихо и ласково бормотать, что, конечно, говорило о раскаянии; товарищи его захихикали, а Джерри прошел мимо. В этом не было ничего нового. От чернокожих всегда следовало ждать удара, если поблизости не было белых. И помощник и капитан находились на палубе, и Джерри, хотя и не трусил, но продолжал свои исследования более осторожно. Но у входа в лазарет, на корме, он позабыл о всякой осторожности и ринулся навстречу новому запаху, донесшемуся до его ноздрей. В низком темном помещении находилось какое-то странное существо; его он еще ни разу не обнюхивал. На грубой циновке, разостланной на ящиках с табаком и пятидесятифунтовых жестянках с мукой, лежала в одной сорочке молоденькая чернокожая девушка. Казалось, она притаилась или пряталась, и Джерри не замедлил это почувствовать, а ему с давних пор было известно, что дело неладно, если какой-нибудь чернокожий пытается спрятаться или улизнуть. Когда он тревожно залаял и бросился на нее, она с ужасом вскрикнула. Но она не ударила, хотя его зубы оцарапали ее голую руку. И больше она не кричала. Она съежилась на своей циновке, дрожала и не защищалась. Вцепившись зубами в ее реденькую сорочку, он тряс ее и тянул, сердито рыча и время от времени лая, чтобы призвать шкипера или помощника. В процессе борьбы равновесие ящиков и жестянок нарушилось, и вся груда рухнула на пол. Тут Джерри залаял еще неистовее, а чернокожие, выглядывая из каюты, безжалостно хохотали. Когда явился шкипер, Джерри завилял своим обрубленным хвостом и, прижав уши, еще сильнее задергал тонкую бумажную ткань сорочки. Он ждал похвалы за свое поведение, но когда шкипер велел отпустить девушку, он повиновался и понял, что это притаившееся, пораженное ужасом существо чем-то отличается от других таких же существ и обращаться с ним нужно иначе. А страх девушка перенесла такой, какой мало кто может вынести. Ван Хорн называл ее своей покупкой с неприятностями и рад был бы отделаться от этой покупки, однако не уничтожая. От этого-то уничтожения он и спас ее, когда купил, дав в обмен жирную свинью. Она была глупым, робким, больным созданием, молодые люди из ее деревни не обращали на нее никакого внимания, и когда ей исполнилось двенадцать лет, разочарованные родители предназначили ее для кухонного котла. Когда капитан Ван Хорн впервые ее встретил, она была центральной фигурой в траурной процессии на берегах реки Балебули. Отнюдь не красавица — таков был его приговор, когда он задержал процессию. Тощая, с шелудивой кожей, покрытой засохшими струпьями — следы болезни, называемой «букуа», — она была связана по рукам и по ногам и, как свинья, свешивалась с толстого шеста, который покоился на плечах носильщиков, намеревавшихся ею пообедать. Не надеясь на пощаду, она даже не пыталась молить о помощи, но в ее вытаращенных глазах застыл безграничный ужас. Разговорившись на универсальном английском морском жаргоне, капитан Ван Хорн узнал, что любовью своих спутников она не пользовалась, и сейчас они несли ее к реке Балебули, чтобы вбить там кол и погрузить ее по самую шею в текучую воду. Но прежде чем вбить кол, они намеревались вывихнуть ей суставы и переломать кости рук и ног. Это не было ни религиозным обрядом, ни жертвой жестоким богам джунглей. Вопрос был чисто гастрономического свойства. Живое мясо, приготовленное таким образом, делалось мягким и вкусным. А девушка, как указали ее спутники, несомненно, нуждалась в такой манипуляции. Два дня пребывания в воде, сказали они капитану, сделают свое дело. Затем они убьют ее, разложат костер и созовут друзей. Капитан Ван Хорн торговался около получаса, доказывая, что девушка никакой цены не имеет, затем купил свинью стоимостью в пять долларов и отдал в обмен на нее. Так как он расплатился за свинью товаром, а товары были расценены вдвое выше стоимости, то в действительности девушка обошлась ему в два доллара пятьдесят центов. И тут-то и начались затруднения капитана Ван Хорна. Он не мог отделаться от девушки. Он слишком хорошо знал туземцев Малаиты, чтобы вручить ее кому-нибудь из обитателей этого острова. Вождь племени Суу — Ишикола — предложил за нее сотню кокосовых орехов, а на берегу Малу вождь Бау давал двух цыплят. Но это последнее предложение сопровождалось усмешкой и свидетельствовало о презрении старого негодяя к худобе девушки. Капитану Ван Хорну не удалось связаться с миссионерским бригом «Западный Крест» — на нем она была бы в безопасности, — и он вынужден был держать ее в тесном помещении на «Эренджи» до того проблематического момента, когда удалось бы препроводить ее к миссионерам. Но девушка к нему никакой благодарности не чувствовала, ибо была слишком глупа. Она, которую получили в обмен на жирную свинью, считала, что ее плачевная роль в этом мире не изменилась. Она была обречена на съедение и осталась обреченной на съедение. Изменилось только ее назначение, и теперь ее, несомненно, съест большой белый господин «Эренджи», когда она в достаточной мере потолстеет. Его намерения обнаружились с самого начала, когда он пробовал ее откормить. А она его перехитрила и упорно ела столько, сколько нужно, чтобы остаться в живых. В результате девушка, проведя всю жизнь в лесах и ни разу не ступив ногой в лодку, теперь без конца носилась по поверхности океана в каком-то кошмарном тумане. На морском жаргоне, распространенном среди чернокожих тысячи островов, пассажиры «Эренджи» подтвердили ее страх. «Я тебе говорю, Мэри, — заявлял один, — скоро этот большой парень, белый господин, тебя кай-кай». А другой подхватывал: «Большой парень, белый господин, тебя кай-кай, я тебе говорю, — у него живот разгулялся». «Кай-кай» на этом жаргоне значило «есть». Даже Джерри это знал. Слова «есть» не было в словаре, а «кай-кай» было, и означало оно больше чем «есть», так как служило и существительным и глаголом. Но девушка никогда не отвечала на поддразнивание чернокожих. Она вообще все время молчала, не говорила даже с капитаном Ван Хорном, который и имени ее не знал. К концу дня, после приключения с девушкой в лазарете, Джерри снова вышел на палубу. Шкипер, держа его на руках, поднялся по трапу и едва опустил на палубу, как Джерри сделал новое открытие: земля! Он не видел ее, но обонял, высоко задрав нос. Джерри расположился с наветренной стороны и стал внюхиваться в воздух, который принес весть о земле; и носом он словно читал в воздухе, как человек читает газету. Он почуял соленые запахи морского берега и влажной грязи болот, благовонный аромат тропической растительности и очень слабый, едкий запах дыма тлеющих костров. Пассатный ветер, который пригнал «Эренджи» в воды, защищенные выступающим мысом Малаиты, теперь спадал, и судно покачивалось на невысоких волнах; слышался треск шкотов и блоков и грохот спускаемых парусов. Джерри с насмешливым презрением поглядывал на грот, прыгающий над его головой. Он понял уже пустую ветреность его угроз, но блоков грота-шкота остерегался и обходил бугель. Капитан Baн Хорн, пользуясь затишьем, вздумал обучать команду ружейной стрельбе и приказал достать с люка ли-энфильдские ружья. Вдруг Джерри припал к палубе и неслышно пополз вперед. Но дикая собака, удалившаяся на три фута от своей норы под сундуками, не зевала. Она заметила Джерри и грозно зарычала. Рычание было злобным, как и вся ее жизнь. Мелкие животные страшились этого рычания, но оно не испугало Джерри, который настойчиво крался вперед. Когда дикая собака прыгнула в нору под ящиками, Джерри бросился за ней, но враг ускользнул. Бросив за борт куски дерева, бутылки и пустые жестянки, капитан Ван Хорн приказал восьми матросам из своей команды стрелять. Джерри пришел в восторг от ружейной стрельбы, и к грохоту присоединился его возбужденный лай. Пустые медные гильзы летели на палубу, а чернокожие пассажиры ползали и подбирали; для них это были ценные предметы, и они немедленно засовывали их еще горячими в свои продырявленные уши. В их ушах было просверлено множество отверстий; самое маленькое могло вместить гильзу, в других торчали глиняные трубки, палочки табаку и даже коробки спичек. А были и такие отверстия, что в них держались деревянные цилиндры в три дюйма диаметром. Помощник и капитан носили у пояса автоматические револьверы. Они стали расстреливать обойму за обоймой, к большому удивлению чернокожих, которые, затаив дыхание, следили за такой быстрой стрельбой. Судовая команда стреляла неважно, но капитан Ван Хорн, как и каждый капитан на Соломоновых островах, знал, что туземцы — жители лесов и приморских берегов — стреляли еще хуже, и на стрельбу судовой команды можно было положиться, если ей не вздумается в минуту опасности перейти на сторону врага. Сначала автоматический револьвер Боркмана дал осечку, и капитан Ван Хорн сделал замечание своему помощнику за то, что тот не чистит и не смазывает своего оружия. Затем Ван Хорн с издевкой спросил Боркмана, сколько стаканчиков тот сегодня пропустил и не этим ли объясняется его неудачная стрельба. Боркман объяснил, что у него был приступ лихорадки, и Ван Хорн удержал сомнения при себе, но несколько минут спустя, усевшись в тени контр-бизани и взяв на руки Джерри, поделился с ним своими соображениями. — Прямо беда с ним, Джерри… И все из-за шнапса, — объяснял капитан Ван Хорн. — Черт побери, я из-за этого должен нести свои вахты и добрую половину его. А он говорит — лихорадка. Не верь, Джерри! Все это шнапс — самый обыкновенный ш-на-пс! А он хороший моряк, Джерри, когда трезв. Но когда напьется, становится полоумным. Голова у него идет кругом, человек ходит дурак дураком; в шторм храпит, в мертвый штиль страдает от бессонницы. Джерри, ты еще только вступаешь в мир на своих четырех бархатных лапках, так послушайся совета опытного моряка и не прикасайся к шнапсу. Верь мне, Джерри, мой мальчик, послушайся своего отца, от водки добра не увидишь. После этого капитан Ван Хорн оставил Джерри на палубе выслеживать дикую собаку, а сам спустился в крохотную каюту и глотнул из бутылки, к которой прикладывался Боркман. Выслеживание дикой собаки превратилось в забаву, во всяком случае, для Джерри; он никогда не злобствовал и сейчас наслаждался от души. Кроме того, эта игра преисполняла его восхитительным сознанием собственной силы, так как дикая собака все время от него удирала. Поскольку дело касалось собак, Джерри был героем на палубе «Эренджи». Ему не пришло в голову осведомиться, приятно ли его поведение дикой собаке, а, по правде сказать, это существо по его вине влачило жалкое существование. Когда Джерри находился на палубе, дикарка не смела отойти дальше чем на несколько футов от своего логовища и пребывала в страхе и трепете перед толстым щенком, который не боялся ее рычания. Под вечер Джерри, еще разок проучив дикую собаку, пробежал на корму и нашел там шкипера. Тот сидел, поджав ноги, на палубе, прислонившись спиной к низким поручням, и рассеянно глядел на море. Джерри понюхал его голую икру — не то чтобы он хотел проверить, его ли это нога, а просто ему нравился запах, и, кроме того, он видел в этом своего рода дружеское приветствие. Но Ван Хорн не обратил на него внимания и по-прежнему глядел вдаль. Он даже не заметил щенка. Джерри положил морду на колени шкипера и долго и пристально смотрел ему в лицо. Теперь уже шкипер его заметил и был приятно растроган, но не подал вида и продолжал сидеть неподвижно. Джерри решил испробовать новый способ. Шкипер опирался локтем о колено, рука его лениво свешивалась вниз; в полураскрытую руку Джерри по самые глаза засунул свою мягкую золотистую мордочку и застыл в такой позе. Ему не видно было, как вспыхнули у шкипера глаза; взгляд его оторвался от моря и обратился на щенка. Джерри еще минуту стоял, не шевелясь, а затем громко засопел. Шкипер не выдержал и от души расхохотался, а Джерри в приливе любви прижал свои шелковистые уши, греясь в лучах улыбки бога. И смех шкипера заставил Джерри бешено завилять хвостом. Полураскрытая рука сомкнулась в твердом пожатии. Затем рука стала его качать из стороны в сторону с такой силой, что Джерри едва устоял на ногах. Джерри блаженствовал. Нет, мало того, — он был в экстазе. Он знал, что в грубом пожатии не было гнева и оно не грозило опасностью; это была та же игра, какою он, бывало, забавлялся с Майклом. Иногда он играл так и с Бидди и любовно возился с ней. А в исключительных случаях сам мистер Хаггин ласково его тормошил. Для Джерри эта игра была полна глубокого смысла. Когда Ван Хорн стал сильнее его раскачивать, Джерри сердито зарычал и рычал все громче и громче по мере того, как усиливалась встряска. Но это была игра, он только притворялся, будто хочет укусить того, кого любил слишком горячо. Он дергался, стараясь вытащить голову и ухватить складку кожи, льнувшую к его щеке. Когда шкипер, сильно тряхнув его, освободил и отпихнул в сторону, Джерри подбежал к плечу, ворча и скаля зубы, и снова рука сомкнулась вокруг его морды и стала его раскачивать. Игра продолжалась, а возбуждение Джерри росло. Один раз шкипер замешкался, и Джерри поймал его руку, но зубов не стиснул. Зубы оставили на коже отпечаток, но это был не укус. Игра становилась все грубее, и Джерри забылся. По-прежнему играя, он до того увлекся, что принял игру за подлинное событие. Это было сражение, борьба с рукой, которая его хватала, трясла и отпихивала. Он больше уже не притворялся и рычал по-настоящему. Когда его отшвыривали назад и он снова бросался в атаку, из груди его вырывался истерически звонкий, щенячий лай. И капитан Ван Хорн, внезапно поняв, протянул раскрытую руку, как символ мира — символ столь же древний, как человеческая рука. И в то же время он произнес только одно слово: «Джерри!». В этом слове было все: и властный упрек, и приказание, и вся настойчивость любви. Джерри понял и сразу пришел в себя. Он сейчас же раскаялся, смирился, уши откинул назад, моля о прощении, а сердце его затрепетало в приливе любви. Нападающий пес с оскаленными клыками превратился в мягкий, шелковистый комочек; он рысцой подбежал к протянутой руке и лизнул ее; розово-красный язык блеснул, как драгоценный камень, между двумя рядами ослепительно белых зубов. А через секунду Джерри блаженствовал в объятиях шкипера и прижимался мордой к его щеке и лизал, словно хотел поцелуями заменить членораздельную речь. Это был подлинный праздник, и оба от души им наслаждались. — Черт бы меня побрал! — забормотал капитан Ван Хорн. — Ты весь клубочек натянутых нервов с золотым сердцем, и все это обернуто снаружи в золотую шкурку. Джерри, ты золото, чистое золото, и во всем мире нет второй такой собаки. Сердце у тебя золотое, золотой мой пес. Люби меня, и я буду добр к тебе и буду тебя любить всегда, во веки веков. И капитан Ван Хорн вдруг заморгал, глаза его затуманились, и секунду он не видел щенка, который в приливе любви весь затрепетал в его объятиях и слизнул соленую влагу с его глаз. А ведь Ван Хорн, шкипер «Эренджи», босой, в шестипенсовой рубахе и набедренной повязке, торговал «черной птицей», развозя чернокожих каннибалов, никогда не расставался со своим автоматическим револьвером, и голова его была оценена в десятках приморских деревень и лесных крепостей. Он считался самым крутым шкипером Соломоновых островов, где выживает только тот, кто жесток.
Глава пятая
Стремительная тропическая ночь поглотила «Эренджи». Судно то затихало в штиле, то накренялось и ныряло под ударами ветра и дождя, налетавшего со стороны Маланты, острова каннибалов. Здесь прекратился юго-восточный пассат, и этим объяснялась такая переменчивость погоды. Стряпать в камбузе на открытой палубе стало сущим наказанием, а чернокожие рабочие, ходившие нагишом, должны были уйти вниз. Первую вахту, с восьми до двенадцати, нес помощник; а капитан Ван Хорн, не желая мокнуть под ливнем, спустился в крохотную каюту, прихватив с собой Джерри. Джерри устал от бесконечных приключений этого дня — самого беспокойного во всей его жизни; он заснул, но во сне рычал и перебирал лапами; шкипер последний раз взглянул на него, убавил свет лампы и, усмехнувшись, пробормотал: — Это дикая собака, Джерри. Хватай ее! Кусай! Задай ей трепку! Джерри спал так крепко, что ничего не слышал. Дождь прекратился, унеся с собой последнее дыхание ветра и превратив каюту в удушливую парную баню, и задыхающийся шкипер, в мокрой от пота рубахе и набедренной повязке, поднялся, забрал под мышку подушку и одеяло и вышел на палубу. Джерри разбудил огромный трехдюймовый таракан, укусивший его за чувствительное местечко между пальцами, где кожа не покрыта волосами. Джерри проснулся, тряхнул пострадавшей лапой и поглядел на таракана, который не стал удирать, а с достоинством отполз в сторону. Джерри следил, как тот присоединился к другим тараканам, маршировавшим по полу. Он никогда не видел их в таком количестве. Они были огромные и ползали повсюду. Длинные вереницы ползли из щелей и спускались по переборке, чтобы присоединиться к своим товарищам, разгуливавшим по палубе каюты. По мнению Джерри, это было совершенно недопустимо. Мистер Хаггин, Дерби и Боб не переносили тараканов, а их мнение было и его мнением. Таракан был вечным врагом тропиков. Джерри прыгнул на ближайшего, намереваясь раздавить его лапой. Но насекомое сделало то, чего он никак не ожидал от таракана. Оно поднялось в воздух и полетело, как птица. И словно по сигналу, вся масса тараканов поднялась в воздух и заполнила комнату, кружась и взмахивая крыльями. Джерри атаковал крылатое войско; он прыгал, щелкая зубами и стараясь лапой сбросить летающую гадину. Иногда это ему удавалось, и таким путем он нескольких уничтожил. Сражение не прекращалось до тех пор, пока все тараканы, опять-таки словно по сигналу, не исчезли в многочисленных щелях, и поле битвы не осталось за ним. Тотчас у Джерри мелькнула мысль: где шкипер? Он знал, что в каюте его не было, но все же встал на задние лапы и обследовал низкую койку. Ноздри его затрепетали, и он засопел от удовольствия, почуяв запах недавно лежавшего здесь шкипера. А обрубок хвоста замотался направо и налево. Но где же был шкипер? Эта мысль сверлила его мозг так же, как если бы это был мозг человеческий. И точно так же мысль предшествовала у него действию. Дверь была открыта настежь и укреплена крючком, и Джерри выбежал в большую каюту, где с полсотни чернокожих стонали, вздыхали и храпели во сне. Они лежали тесно друг подле друга на палубе и на длинных скамьях, и Джерри вынужден был перелезать через их голые ноги. И поблизости не было белого бога, чтобы защитить его. Он это знал, но не боялся. Убедившись, что шкипера в каюте не было, Джерри приготовился было к опасному подъему по крутым ступенькам, напоминавшим приставленную лестницу, но тут вспомнил о лазарете. Он вбежал туда и обнюхал спящую девушку в бумажной сорочке, считавшую, что Ван Хорн ее съест, если ему удастся ее как следует откормить. Вернувшись к трапу, Джерри поглядел наверх и стал ждать в надежде, что появится шкипер и отнесет его на палубу. Шкипер здесь проходил; Джерри это знал по двум причинам. Только этим путем он и мог пройти, а обоняние подсказало Джерри, что он действительно здесь прошел. Его первая попытка подняться по трапу началась хорошо. Он миновал треть ступеней, но тут «Эренджи» нырнул и резко выпрямился, а Джерри поскользнулся и упал. Два-три чернокожих проснулись и следили за ним, приготовляя себе жвачку из бетеля и зеленых листьев. Два раза Джерри соскальзывал с первых же ступенек, а чернокожие, разбуженные своими товарищами, сидели и потешались над ним. Четвертый раз Джерри ухитрился добраться до половины трапа, а оттуда тяжело грохнулся на бок. Его падение было встречено тихим смехом и ругательствами, напоминавшими чириканье огромных птиц. Джерри поднялся на ноги, нелепо ощетинился и презрительно зарычал на эти низшие двуногие существа, которые приходили, и уходили, и подчинялись воле великих белокожих двуногих богов, таких, как шкипер и мистер Хаггин. Джерри не был обескуражен своим падением и снова полез по трапу. Временное затишье помогло ему добраться до верхних ступеней, а когда подошла большая волна, он удержался, цепляясь передними лапами, и вылез на палубу. В средней части палубы, около люка, сидело несколько человек судовой команды и Леруми. Джерри осторожно их всех обнюхал и ощетинился, когда Леруми тихо, угрожающе зашипел. На корме, у штурвала, он нашел чернокожего рулевого, а подле него стоял на вахте помощник. Помощник заговорил с Джерри и наклонился, чтобы погладить его, но тот потянул носом и почуял близость шкипера. Он завилял хвостом, словно попросил извинения, рысцой пустился на наветренную сторону и наткнулся на шкипера. Шкипер крепко спал, лежа на спине, и только голова его торчала из-под одеяла. Джерри прежде всего радостно его обнюхал и завилял хвостом. Но шкипер не проснулся. Моросил мелкий дождь, и Джерри, съежившись, забился в уголок между головой и плечом шкипера. Это разбудило шкипера; он ласково прошептал: «Джерри!» — а Джерри в ответ ткнулся в его щеку своим холодным влажным носом. И шкипер снова заснул. Но Джерри не спал. Он приподнял носом конец одеяла и полез через плечо, пока не очутился под одеялом. Тут шкипер проснулся и помог ему устроиться поудобнее. Но Джерри все еще был недоволен и вертелся, пока не забился между рукой и телом шкипера, а голову положил на его плечо. И тогда только с глубоким вздохом удовлетворения заснул. Несколько раз шум, с которым команда работала с парусами, будил шкипера, и каждый раз, вспомнив о щенке, он ласково прижимал его к себе. А Джерри во сне шевелился и старался поближе к нему прижаться. Хоть Джерри и был замечательным щенком, но многого он понять не мог и так никогда не узнал, какое впечатление произвело на капитана мягкое, теплое прикосновение его бархатного тела. А капитан вспомнил, как много лет назад держал на руках своих спящую девочку, когда она еще была грудным младенцем. И так живо было это воспоминание, что он окончательно проснулся, и бесконечные картины прошлого, начиная с детства девочки, стали всплывать перед его глазами. Ни один белый на Соломоновых островах не знал, какую тяжесть несет в себе капитан Ван Хори — тяжесть, не покидавшую его даже во сне. И на Соломоновы острова он приехал в тщетной надежде заглушить в себе эти воспоминания. Память, разбуженная мягким щенком, спящим в его объятиях, стала рисовать картины прошлого. Он увидел девочку и ее мать в маленькой квартирке в Гарлеме [7]. Да, правда, квартирка была маленькая, но трое счастливых людей превратили ее в рай. Ван Хорн увидел светлые, как лен, волосы своей девочки; они становились все длиннее, завивались в локоны и колечки; наконец, заструились вдоль спины двумя толстыми, длинными косами; и потемнели, зазолотились, как у матери. Он был не в силах прогнать эти воспоминания и даже умышленно на них останавливался, словно пытался ими заслонить ту единственную картину прошлого, которую не хотел увидеть. Ван Хори вспомнил свою работу, аварийный трамвайный вагон и команду, работавшую под его началом. Он задумался над тем, что делает теперь Кленси, его правая рука. Всплыл в памяти тот долгий день, когда его подняли с постели в три часа утра, — нужно было вытащить из витрины аптекарского магазина сошедший с рельсов трамвай и снова поставить его на рельсы. Они работали целый день, подобрали с полдюжины раздавленных людей и- вернулись в трамвайный парк только к девяти вечера. И сейчас же их снова вызвали на работу. — Слава тебе, господи! — сказал Кленси, живший с ним по соседству. Ван Хорн вспомнил, как тот вытирал пот с безобразного лица. — Слава тебе, господи, дело совсем пустячное и всего в каких-нибудь десяти кварталах от нас. Как только с ним покончим, айда домой, а ребята пусть отведут вагон в ремонтную мастерскую. — Нам придется только на секунду приподнять его, — ответил Ван Хорн. — А в чем дело? — спросил Билли Джефферс, один из рабочих. — Кого-то переехали и не могут вытащить, — ответил Ван Хорн, и они тронулись в путь, разместившись на подножке аварийного вагона. Ван Хорн отчетливо вспомнил все детали долгого пути, вспомнил, как задержала их пожарная команда с рукавами и лестницей, спешившая на пожар, а он и Кленси в это время подшучивали над Джефферсом, будто тот из-за сверхурочной ночной работы не попал на свидание с несуществующими девицами. Показался длинный ряд остановившихся трамваев, полиция, сдерживавшая напор толпы, две кареты скорой помощи, ожидавшие свою поклажу, и молодой дежурный полисмен, бледный и дрожащий, обратившийся к нему со словами: — Ужас что такое! Смотреть страшно! Две женщины. Мы не могли их вытащить. Я старался. Одна как будто была еще жива. Но Ван Хорн, здоровый и сильный парень, привык к своей работе; трудный день его утомил; он с удовольствием вспомнил светлую квартирку в нескольких кварталах отсюда, куда он пойдет, когда работа будет сделана. Полисмену он ответил беззаботно и уверенно, что вытащит их в один миг, и на четвереньках полез под вагон. Он вспомнил, как вспыхнул его электрический фонарь и он глянул вперед. Мелькнули тяжелые золотистые косы; потом его палец соскользнул с кнопки фонаря, оставив его в темноте. — Что, одна еще жива? — спросил взволнованный полисмен. Он повторил свой вопрос, пока Ван Хорн собирался с силами, чтобы вновь надавить кнопку фонаря. Он слышал свой собственный ответ: — Сейчас я вам скажу… И снова взглянул. Он смотрел добрую минуту. — Обе умерли, — ответил он спокойно. — Кленси, передай мне домкрат номер третий, а сам подлезай с другого конца вагона.
Ван Хорн лежал на спине и глядел вверх на колеблющуюся над его головой одинокую звезду, тускло светившую сквозь рваное облачко. Старая боль сжимала его сердце, сухо было в горле, горели глаза. И он знал — что не знал ни единый человек, — почему он попал на Соломоновы острова, сделался шкипером «Эренджи», охотился за неграми, рисковал своей головой и пил виски в большем количестве, чем полагается пить человеку. С тех пор он не глядел ни на одну женщину. И белые заметили, что он был подчеркнуто холоден с детьми, как с черными, так и с белыми. Но, заглянув в глаза самому страшному воспоминанию, Ван Хорн вскоре смог заснуть и, погружаясь в дремоту, с наслаждением ощущал на своем плече голову Джерри. Один раз Джерри, которому снились берег у плантации Мериндж, мистер Хаггин, Бидди, Терренс и Майкл, тихонько завизжал. Ван Хорн приподнялся, ласково притянул его к себе и зловеще забормотал: — Если только хоть один негр посмеет тронуть этого щенка!.. В полночь, когда помощник коснулся его плеча, чтобы разбудить, Ван Хорн спросонья машинально и быстро схватил правой рукой револьвер, висевший у бедра, и забормотал: — Если только хоть один негр посмеет тронуть этого щенка… — Пожалуй, это мыс Коноро впереди, — объяснил Боркман, когда они стояли на наветренном борту и глядели на неясные очертания земли. — Мы прошли не больше десяти миль, и ветер ненадежный. — Там наверху какая-то дрянь собирается, если только что-нибудь из этого выйдет, — сказал Ван Хорн, когда они оба перевели взгляд на разорванные облака, затемнявшие тусклые звезды. Едва помощник успел принести снизу свое одеяло и устроиться на палубе, как до них долетел свежий ветер с суши, и «Эренджи» понесся по гладкой поверхности воды со скоростью девяти узлов. Сначала Джерри пробовал нести вахту вместе со шкипером, но скоро свернулся клубочком и задремал, прижавшись к босой ноге шкипера. Когда тот завернул его в одеяло и положил на палубу, он сейчас же снова заснул; но потом так же быстро проснулся, вылез из-под одеяла и стал ходить за шкипером взад и вперед по палубе. Тут шкипер задал ему новый урок, и через пять минут Джерри его усвоил. Шкипер хотел, чтобы Джерри оставался под одеялом: все в порядке, и он, шкипер, будет ходить по палубе мимо Джерри. В четыре часа помощник принял вахту. — Прошли тридцать миль, — сказал ему Ван Хорн. — Но теперь ветер снова переменился. Может быть шквал. Лучше сбросьте на палубу фалы и поставьте вахтенных. Они, конечно, заснут, но пусть спят у фалов и шкотов. Джерри проснулся, когда шкипер подлез под одеяло, и, словно это был давно установленный обычай, свернулся в клубочек между его рукой и боком. Шкипер прижался щекой к его морде, а Джерри засопел, лизнул его холодным язычком и погрузился в сон. Полчаса спустя могло бы показаться, что приближается конец мира, но Джерри вряд ли это понимал. Проснулся он от неожиданного прыжка шкипера. Одеяло полетело в одну сторону, а Джерри в другую. Палуба «Эренджи» превратилась в отвесную стену, и Джерри полз по ней в ревущем мраке. Все снасти и ванты трещали, сопротивляясь яростному напору шквала. — К грота-фалам! Живо! — услышал он громкий крик шкипера. Затем он различил высокую ноту грота-шкота, визжавшего на шкивах, когда Ван Хорн, потравливая его в темноте, быстро пропускал трос между ладонями, обожженными трением. И еще много звуков — вопли судовой команды и окрики Боркмана — ударяли в барабанную перепонку Джерри в то время, как он катился вниз по крутой палубе своего нового, неустойчивого мира. Но он не налетел на поручни, где легко могли поломаться его хрупкие ребра, — теплая вода океана, хлынувшая через борт потоком бледно-фосфоресцирующего огня, смягчила его падение. Джерри запутался в бегучем такелаже и попробовал выплыть. А плыл он не для того, чтобы спасти свою жизнь, и не страх смерти гнал его. Одна мысль была в его мозгу: где шкипер? Он не думал о том, чтобы попытаться спасти шкипера или, быть может, помочь ему. Это была любовь, вечно влекущая к тому, кого любишь. Мать в минуту катастрофы бросается к своему ребенку; грек, умирая, вспоминает свой любимый Аргос; солдаты на поле битвы отходят в вечность с именем возлюбленной на устах; так и Джерри в момент опасности стремился к шкиперу. Шквал прекратился так же внезапно, как и налетел. «Эренджи» резко выровнялся, а Джерри очутился на мели, в ватервейсе у борта. Он побежал по палубе к шкиперу. Тот стоял, широко расставив ноги, и, все еще держа в руке конец грота-шкота, кричал: — Ах, черт побери! Ветер тут как тут, а дождя все нет! Почувствовав, как Джерри, радостно засопев, ткнулся в его голуюикру своим холодным носом, он, наклонившись, приласкал его. В темноте он ничего не видел, но его согревала уверенность, что Джерри, несомненно, виляет хвостом. Большинство перетрусивших чернокожих пассажиров столпилось на палубе, и их жалобные, ноющие голоса напоминали сонное воркованье птиц, дремлющих на шесте. Появился Боркман и стал подле Ван Хорна; оба в тревожном ожидании пытались что-то разглядеть в окружающем их мраке и напряженно прислушивались к движению воздуха и моря. — Где же дождь? — произнес с досадой Боркман. — За ветром всегда следует дождь. А сейчас его нет. Ван Хорн по-прежнему вглядывался в темноту, прислушивался и не отвечал. Джерри почувствовал волнение обоих мужчин и тоже насторожился. Он прижался холодным носом к ноге шкипера, лизнул его розовым язычком и ощутил соленый вкус морской воды. Шкипер внезапно наклонился, торопливо завернул Джерри в одеяло и опустил его в углубление между двумя мешками с бататом, привязанными на палубе позади бизань-мачты. Затем, подумав секунду, он обвязал одеяло тросом, так что Джерри очутился как бы в мешке. Едва он успел покончить с этим делом, как контр-бизань пронеслась над головой, передние паруса, внезапно наполнившись ветром, захлопали, а грот, ослабленный Ван Хорном, повернулся и с таким треском натянул шкоты, что судно содрогнулось и сильно накренилось на левый борт. Этот второй шквал налетел с другой стороны и был значительно сильнее первого. Джерри слышал, как шкипер крикнул помощнику: — К грота-фалам! Отдать фалы! Я позабочусь о талях! — Затем он обратился к команде: — Батто! Ты, парень, отдай фалы контр-бизани! Живей! Ранга! Потрави шкот контр-бизани! Тут Ван Хорна сбила с ног лавина чернокожих пассажиров, запрудивших палубу во время первого шквала. Барахтающаяся масса покатилась вместе с ним вниз по залитой водой палубе, к колючей проволоке у левого борта. Джерри сидел в своем уголке так плотно, что его не отбросило. Но когда команды, отдаваемые шкипером, смолкли, а секунду спустя от колючей проволоки понеслись его проклятия, Джерри пронзительно залаял и стал царапаться и биться, пытаясь выбраться из-под одеяла. Со шкипером что-то случилось. Он это знал. А о себе он ни разу не подумал, очутившись в этом хаосе гибнущего мира. Но вскоре он перестал лаять, прислушиваясь к новому шуму — оглушительному хлопанью парусов, сопровождаемому громкими криками. В этом он увидел дурное предзнаменование. Он не знал, что спускают грот, после того как шкипер перерезал фалы ножом. Адский шум все возрастал, а Джерри отвечал на него лаем, пока не почувствовал, как чья-то рука шарит поверх одеяла. Он притих и стал принюхиваться. Нет, это был не шкипер. Джерри еще раз потянул носом и узнал Леруми — того самого чернокожего, которого Бидди опрокинула на берегу, — Леруми, совсем недавно ударившего его, Джерри, по обрубку хвоста и всего неделю назад швырнувшего камнем в Терренса. Узел был развязан, и пальцы Леруми нащупывали его под одеялом. Джерри злобно зарычал. Это было святотатство. Он, Джерри — собака белого человека, — был табу для чернокожих. Он рано постиг закон, воспрещающий всякому негру прикасаться к собаке белого бога. И, однако, Леруми — воплощение зла — осмеливался коснуться его в тот самый момент, когда мир рушился вокруг них. И когда пальцы тронули Джерри, он вцепился в них зубами. Свободной рукой чернокожий нанес ему такой сильный удар, что зубы Джерри скользнули по пальцам, сорвав с них кожу и мясо. Джерри бесновался, как чертенок. Его схватили за горло, едва не придушив, и швырнули в пространство. На лету он все еще визжал от бешенства. Он упал в море и пошел ко дну, втянув в легкие добрый глоток соленой воды; затем, барахтаясь, поднялся на поверхность и поплыл. О плавании ему раньше никогда не приходилось думать. И учиться плавать ему нужно было не больше, чем учиться дышать. Ходьбе он должен был учиться, но тут нужно было плыть, и он поплыл. Ветер выл и ревел. Пена, вздымаясь под ударами ветра, наполняла ему рот и ноздри, била по глазам, разъедая их и вызывая слезы. С морем Джерри был мало знаком, и теперь, ловя воздух, он высоко поднял морду над водой, чтобы выбраться из душивших его волн. В результате горизонтальное положение было нарушено; перебирая лапами, он уже не мог удержаться на воде, нырнул и пошел ко дну. Снова выбрался он на поверхность, наглотавшись соленой воды. На этот раз, не рассуждая, но повинуясь инстинкту, подсказывавшему наиболее удобное положение, он вытянулся на воде и поплыл, сохраняя это положение. Шквал утихал. Из темноты доносилось хлопанье полуспущенного грота, пронзительные крики команды, проклятия Боркмана, а над всем этим гулом голос шкипера, выкрикивавшего: — Хватай за ликтрос, ребята! Держи туго! Тащи вниз! Выбирай грот! Живо, черт побери, пошевеливайся!
Глава шестая
Узнав голос шкипера, Джерри, барахтавшийся на зыби, сменившей шквал, залаял нетерпеливо и жалобно, и в этом лае была вся его любовь к новому господину. Но вскоре «Эренджи» уплыл от него, и все звуки замерли. И тогда одинокий, во мраке, на вздымающейся груди моря, в котором он признал еще одного из своих вечных врагов, Джерри стал жалобно визжать и скулить. Смутной интуицией он ощутил свою слабость среди этого безжалостного, грозного моря, несущего неведомую, но жутко предугадываемую опасность — смерть. Смерти — своей смерти — он не понимал. Однако смерть была совсем близка, ее близость он чувствовал каждой клеткой ткани, каждым нервом, и это ощущение предсказывало ему последнюю жизненную катастрофу; он ничего о ней не знал, но чуял, что здесь таится конечное и наибольшее несчастье. Не понимая, он предчувствовал это так же остро, как предчувствуют люди, которые знают и обобщают значительно глубже и шире, чем собаки. Как человек борется в тисках кошмара, так боролся и Джерри в гневном, насыщенном солью море. И он визжал и плакал — покинутый ребенок, покинутый щенок, всего полгода обитавший в волшебном мире радости и страдания. И ему нужен, необходим был шкипер. Ибо Шкипер был его богом!
Когда ветер утих и полил тропический дождь, Ван Хорн и Боркман столкнулись в темноте на борту «Эренджи», выпрямившегося после спуска грота. — Двойной шквал, — сказал Ван Хорн, — налетел с правого и левого борта. — Должно быть, расщепился надвое перед тем, как на нас ударить, — согласился помощник. — А дождь приберег на вторую половину… Ван Хорн не кончил фразы и выругался. — Эй, парень! Что там у тебя случилось? — крикнул он рулевому. Кеч, со слабо обтянутой контр-бизанью, попал в полосу ветра, задний парус обвис, а передние наполнились, но с другого галса. «Эренджи» стал двигаться назад, приблизительно в том направлении, откуда пришел. Иными словами, его несло туда, где Джерри барахтался в море. Так весы, на которых колебалась жизнь Джерри, склонялись в его пользу благодаря ошибке чернокожего рулевого. Приведя «Эренджи» на новый галс, Ван Хорн велел Боркману убрать снасти, разбросанные по палубе, а сам, присев под дождем на корточки, стал сращивать снасть, которую во время шквала принужден был разрезать. Дождь затихал и не так громко барабанил по палубе, когда шкипер обратил внимание на какой-то звук, шедший с моря. Он оторвался от работы, прислушался и, узнав жалобный визг Джерри, вскочил. — Щенок за бортом! — крикнул он Боркману. — Вынести кливер на ветер! Он бросился на корму, расталкивая кучу чернокожих. — Эй вы, ребята! Убрать контр-бизань! Он взглянул в нактоуз и наспех определил по компасу направление, откуда доносился визг Джерри. — Навались! — крикнул он рулевому, затем подскочил к штурвалу и сам стал его поворачивать, все время повторяя вслух: — Держать на норд-ост. Вернувшись к нактоузу, он тщетно прислушивался, не раздастся ли снова визг Джерри, надеясь проверить, правильно ли он определил направление. Но ждал он недолго. Хотя благодаря его маневру «Эренджи» лег в дрейф, шкипер хорошо знал, что ветер и морское течение быстро отнесут его в сторону от барахтавшегося щенка. Приказав Боркману идти на корму и спустить вельбот, он бросился вниз за электрическим фонарем и шлюпочным компасом. Кеч был так мал, что приходилось тащить его единственный вельбот на буксире за кормой на длинном двойном фалине, и к тому времени, когда его подтянули к корме, Ван Хорн уже вернулся. Колючая проволока его не остановила, он перекинул через нее одного за другим матросов, упавших плашмя в шлюпку, и сам последовал за ними. Последние инструкции он выкрикнул, когда отдавали фалинь. — Боркман, зажги якорный огонь! И лежать в дрейфе! Грот не ставить! Очистить палубу! — Он взял рулевое весло и, подбодряя гребцов, крикнул: — Греби, греби, ребята! Управляя рулем, он одновременно освещал фонарем компас, чтоб держаться курса ост-норд-ост. Затем он вспомнил, что лодочный компас на два деления уклоняется от компаса «Эренджи», и соответствующим образом изменил курс. Время от времени он приказывал гребцам сушить весла, прислушивался и звал Джерри. Иногда он направлял вельбот по кругу, возвращался назад, шел по ветру и против ветра, чтобы осмотреть все пространство, где, по его мнению, мог находиться щенок. — Ты, парень, слушай ушами, — сказал он первому гребцу. — Если кто из вас услышит собачьего детеныша, я дам тому пять раз по шесть футов коленкору и два раза по десять пачек табаку. Через полчаса он уже предлагал «двенадцать раз по десять футов коленкору и десять раз по десять пачек табаку» тому, кто первый услышит «собачьего детеныша».
Джерри пришлось плохо. Плавать он не привык, соленая вода, хлеставшая в открытый рот, душила его, и он уже начал выбиваться из сил, когда случайно заметил вспышку фонаря капитана. Этот свет, однако, не был связан у него с представлением о шкипере, и он обратил на него столько же внимания, сколько и на первые звезды, загоревшиеся в небе. Ему даже не пришло в голову подумать, звезда это или нет. Он продолжал визжать, захлебываясь в соленой воде. Но едва донесся голос шкипера, Джерри сразу обезумел. Он пытался подняться на задние лапы и опереться передними на голос шкипера, шедший из темноты, как оперся бы на его колено, будь тот подле него. Результаты оказались плачевными. Равновесие было нарушено. Джерри пошел ко дну, захлебнулся и едва выбился на поверхность. Некоторое время вода, наполнившая легкие, мешала ему отвечать на все еще доносившийся крик шкипера. Наконец, он смог ответить и разразился радостным лаем. Шкипер пришел, он возьмет его из этого едкого, колючего моря, которое слепит ему глаза и мешает дышать. Шкипер действительно был богом, его богом, наделенным божественной властью спасать. Вскоре он услыхал ритмический стук весел в уключинах, и его лай зазвучал так же радостно, как голос шкипера, который все время подбодрял его и подгонял гребцов. — Все в порядке, Джерри, старина! Все в порядке… Греби, греби, ребята! Мы здесь, Джерри, здесь! Держись, старина! Крепись! Греби, греби, черти! Вот и мы, Джерри. Держись, мы тебя вытащим. Легче… легче… Греби! И внезапно Джерри увидел, как из мрака выступили смутные очертания вельбота; свет фонаря ударил в глаза и ослепил его, и, радостно лая, Джерри почувствовал и узнал руку шкипера, схватившую его за загривок и поднявшую на воздух. Весь промокший, он прижался к сырой от дождя груди шкипера, бешено колотя хвостом по удерживающей руке и неистово облизывая подбородок, щеки, губы и нос шкипера. А шкипер не замечал, что сам он промок и трясется в приступе возвратной лихорадки, вызванной сыростью и недавней тревогой. Он знал только, что щенок, подаренный ему накануне утром, вернулся целым и невредимым. Когда команда склонилась к веслам, он зажал рулевое весло между рукой и боком, чтобы другой рукой поддерживать Джерри. — Ах, ты, мой малыш! — шептал он и все снова и снова повторял эти слова: — Ах, ты, мой малыш! А Джерри, повизгивая и скуля, отвечал ему поцелуями, как делают все дети, когда они потеряются и их находят. И он также весь дрожал, но не от холода: его чувствительные нервы были слишком потрясены. Очутившись на борту, Ван Хорн поделился своими мыслями с помощником. — Щенок попал за борт неспроста. И волной его не смыло. Я завернул его в одеяло и привязал тросом. Он прошел сквозь толпу, состоявшую из команды и шестидесяти чернокожих пассажиров, высыпавших на палубу, и осветил фонарем одеяло, все еще лежавшее на мешках с бататом. — Так и есть! Трос перерезан, а узел не тронут. Кто из негров это сделал? Он оглядел круг черных лиц, направляя на них свет фонаря, и в глазах его вспыхнул такой обличающий гнев, что все потупились и отвели глаза. — Эх, если бы только щенок умел говорить! — с сожалением воскликнул он. — Он бы сказал, чьих рук это дело. Вдруг он наклонился к Джерри, который так прижался к нему, что его мокрые передние лапы покоились на голых ступнях шкипера. — Ты его знаешь, Джерри, ты знаешь этого парня, — заговорил он быстро и возбужденно, указывая вопросительным жестом на толпу. Джерри моментально оживился, стал прыгать и нервно тявкать. — Похоже на то, что собака может меня привести к нему, — сообщил Ван Хорн помощнику. — Иди, Джерри, ищи его, куси, хватай! Где он, Джерри? Ищи его! Ищи! Джерри понял только, что шкипер что-то от него хочет. Он должен найти то, чего хотел шкипер, а Джерри рад был ему служить. Он бесцельно прыгал во все стороны, и возгласы шкипера еще сильнее его возбуждали. Затем ему пришла в голову одна мысль, и мысль вполне определенная. Круг чернокожих расступился перед ним, и он по штирборту бросился на нос, туда, где лежала куча крепко привязанных ящиков. Он сунул нос в отверстие норы, где обитала дикая собака, и втянул воздух. Да, дикая собака была там. Он не только узнал ее запах, но и услышал угрожающее рычание. Джерри вопросительно поглядел на шкипера. Быть может, шкипер хочет, чтобы он полез в нору за дикой собакой? Но шкипер расхохотался и махнул рукой, давая понять, что поиски нужно вести в другом месте и искать следует что-то иное. Джерри прыгнул в другую сторону и стал обнюхивать те уголки, где, как ему было по опыту известно, водятся тараканы и крысы. Однако он быстро понял, что шкипер не того хочет. Он горел желанием услужить и без всякой определенной цели начал обнюхивать ноги чернокожих. Это вызвало похвалу и поощрение шкипера, и Джерри едва не обезумел. Так вот в чем дело. Он должен опознать по ногам судовую команду и рабочих. Он рьяно принялся за работу, перебегая от одного чернокожего к другому, пока не наскочил на Леруми. И тут он забыл, что шкипер чего-то от него хочет. Он знал только, что перед ним Леруми, который нарушил табу, наложил руку на его священную особу, Леруми, швырнувший его за борт. Взвизгнув от бешенства, он оскалил белые зубы, весь ощетинился и прыгнул на чернокожего. Леруми пустился бегом по палубе, а Джерри преследовал его под дружный хохот негров. Несколько раз обегая по палубе, он ухитрился царапнуть зубами голые икры. Наконец, Леруми бросился на снасти грот-мачты, предоставив Джерри бесноваться на палубе. Чернокожие, образовав полукруг, отступили на почтительное расстояние от Ван Хорна и Джерри. Ван Хорн направил свой электрический фонарь на негра, повисшего на снастях, и увидел длинные параллельные царапины на пальцах той руки, которая осмелилась пролезть к Джерри под одеяло. Он многозначительно указал на них Боркману, который стоял вне круга так, чтобы ни один чернокожий не мог зайти к нему с тыла. Шкипер подхватил Джерри и стал его успокаивать. — Молодец, Джерри! Припечатал его, славный пес, молодчина! Он повернулся к Леруми, цеплявшемуся за снасти, осветил его и сурово проговорил: — Как звать тебя, парень? — Мой звать Леруми, — последовал нетвердый, чирикающий ответ. — Едешь из Пендефрина? — Мой едет из Меринджа. Секунду капитан Ван Хорн размышлял, продолжая ласкать щенка. Ведь Леруми был одним из возвращающихся рабочих. Через день, самое большее через два дня он высадит его на берег и отделается от него. — Слушай меня, — сказал он. — Я на тебя сердит. Я здорово на тебя сердит. Так сердит, что и сказать не могу. Какого черта ты бросил в воду собачку, которая принадлежит мне? Леруми не в силах был ответить. Он беспомощно закатил глаза и приготовился к хорошей порке, ибо по горькому опыту знал обычаи белых господ. Капитан Ван Хорн повторил свой вопрос, а чернокожий снова беспомощно закатил глаза. — За пару пачек табаку я выколочу из тебя семь склянок! — ругался шкипер. — А теперь слушай, что тебе говорят. Если ты посмеешь хоть разок поглядеть на мою собаку, я из тебя семь склянок выколочу. Понял? — Мой понял, — жалобно протянул Леруми, и инцидент был исчерпан. Чернокожие пассажиры отправились спать в каюту. Боркман и матросы поставили грот и привели «Эренджи» на прежний курс. А шкипер принес снизу сухое одеяло и улегся спать; Джерри прижался к нему и голову положил на его плечо.
Глава седьмая
В семь часов утра, когда шкипер вытащил его из-под одеяла и поднялся, Джерри отпраздновал новый день тем, что загнал назад в нору дикую собаку и заставил Леруми отскочить шагов на шесть в сторону и уступить ему палубу под сдержанное хихиканье чернокожих. Завтракал он вместе со шкипером, но тот ничего не ел, запил чашкой кофе пятьдесят гран хинина, завернутого в папиросную бумагу, и пожаловался помощнику, что ему придется залезть под одеяло и хорошенько пропотеть, пока его не отпустит приступ лихорадки. Палящее солнце сушило палубу, над которой поднимались завитки пара, а у Ван Хорна начался озноб и зубы стучали, но все же он ласково прижимал к себе Джерри и называл его принцем, и королем, и сыном королевским. Дело в том, что Ван Хорну не раз приходилось слышать за стаканом виски с содовой родословную Джерри. Ее рассказывал Том Хаггин в те часы, когда удушливый зной мешал уснуть. А родословная была поистине царственной, насколько это возможно для ирландского терьера, род которого шел от ирландского волкодава и формировался и совершенствовался под руководством человека в течение двух человеческих поколений. Ван Хорн помнил, что Терренс Великолепный происходил от американского Мильтона Дролин, рожденного королевой графства Энтрим — Бредой Медлер, чей род тянулся едва ли не с мифических времен. А род Бидди можно было проследить до Эрин, которая числилась в ряду предков Бреды Медлер. В объятиях возлюбленного бога Джерри познал экстаз любви, хотя и не понимал таких слов, как принца и «королевский сын»; он знал только, что эти слова говорят о любви, тогда как шипение Леруми несет в себе ненависть. Но одно Джерри знал, совсем о том не думая, а именно, что шкипера он полюбил за эти несколько часов больше, чем любил Дерби и Боба; а Дерби и Боб были, за исключением мистера Хаггина, единственными белыми богами, каких он когда либо знал. Этого он не сознавал. Он просто любил и действовал согласно побуждениям своего сердца, мозга или любого другого органа, где родится этот таинственный, восхитительный и ненасытный голод, именуемый «любовью». Шкипер направился вниз. Он шел, не обращая ни малейшего внимания на Джерри, который тихонько трусил за ним по пятам до самой рубки. Шкипер не замечал Джерри, ибо от лихорадки у него ныло все тело, ломило кости, голова, казалось, чудовищно распухла, все кружилось перед его помутившимися глазами, а походка стала шаткой и слабой, как у пьяницы или дряхлого старца. И Джерри чуял, что со шкипером творится что-то неладное. У шкипера уже начинался бред, сменявшийся секундами просветления, когда он сознавал, что ему нужно сойти вниз и забраться под одеяло. Он стал спускаться по трапу, а Джерри, сдерживая волнение, молчаливо следил за ним, надеясь, что шкипер, сойдя вниз, поднимет руки и спустит его на пол. Но шкиперу было так скверно, что он позабыл о существовании Джерри. Шатаясь и широко расставив руки, чтобы удержаться в равновесии, он потащился на нос, к своей койке в крохотной каюте. Джерри был действительно благородного происхождения. Он хотел залаять, попросить, чтобы его спустили вниз, но не сделал этого. Он сдержался, сам не зная почему и только смутно сознавая, что к шкиперу следует относиться так, как относятся к богу, и приставать к нему сейчас не время. Его томило желание залаять, но он не издал ни одного звука и только тосковал у комингса рубки, прислушиваясь к замиравшим шагам шкипера. Однако по прошествии четверти часа Джерри готов был нарушить молчание. С уходом шкипера, которого, очевидно, постигла какая-то беда, свет погас для Джерри. Его уже не привлекала возможность загнать в нору дикую собаку. Он не обратил внимания на прошедшего мимо Леруми, хотя и мог бы напасть на него и гнать по палубе. «Эренджи» скользил по затихшему морю, но даже хлопающий и раздувающийся над головой грот не удостоился ни единого презрительного взгляда Джерри. И как раз в ту минуту, когда Джерри почувствовал настоятельную необходимость присесть, повернуть нос к зениту и в звуках излить раздирающую сердце грусть, его осенила одна мысль. Нельзя объяснить, каким путем дошел он до нее. Так же точно не объяснить, почему человек сегодня за завтраком заказывает зеленый горошек и отказывается от стручковых бобов, тогда как накануне отдавал предпочтение бобам и отказывался от горошка. Так же точно судья, выносящий приговор осужденному преступнику и назначающий ему восемь лет тюремного заключения, а не пять или не десять лет, не сможет объяснить, почему он глубоко убежден в том, что именно восемь лет являются наказанием справедливым и соответствующим преступлению. А если люди — эти полубожественные существа — не могут проникнуть в тайну зарождения идей и побуждений, воспринимаемых ими как идеи, — то тем более нельзя ждать, чтобы собака познала, откуда пришла мысль, заставившая ее действовать с определенной целью. Так было и с Джерри. Мысль появилась в каком-то его мыслительном центре и повела к действию. Он повиновался ей, как повинуется марионетка шнурку, и немедленно побежал на корму разыскать помощника. Ему нужно было обратиться за помощью к Боркману. Боркман тоже был двуногим белым богом. Боркману ничего не стоило снести его вниз по крутому трапу, а этот трап был для Джерри, без посторонней помощи, табу, и нарушение его грозило катастрофой. Но в Боркмане было мало любви, а следовательно и понимания. Кроме того, Боркман был занят. Он следил за правильностью курса «Эренджи», ставя по ветру паруса и отдавая распоряжение рулевому, наблюдая за судовой командой, мывшей палубу и чистившей медные части, а помимо этого, то и дело прикладывался к украденной у капитана бутылке с виски, которую прятал в углубление между двумя мешками с бататом, привязанными на палубе позади бизань-мачты. Боркман, только что крепко выругавший за промах чернокожего рулевого и пообещавший выколотить из него семь склянок, как раз собирался еще разок глотнуть из бутылки, когда перед ним появился Джерри и преградил путь. Однако Джерри загородил дорогу не так, как если бы перед ним очутился хотя бы Леруми. Он не оскалил зубов и не ощетинился. Наоборот, Джерри весь превратился в мольбу и призыв; хотя он лишен был дара речи, но и без слов умел говорить красноречиво: он извивался всем телом, вилял хвостом, прижал назад уши, а глазами мог бы передать свою мысль всякому чуткому и понимающему человеку. Но Боркман видел перед собою только четвероногое существо животного мира и по свойственной ему животной заносчивости считал его ниже себя. Нежный щенок, горящий желанием передать ему свою просьбу, был скрыт от него, словно туманной пеленой. Он видел только четвероногое животное, которое следовало отбросить в сторону, а затем торжественно прошествовать к бутылке, разжигающей мозг, дарующей грезы о том, что он принц, а не простолюдин, господин, а не раб жизни. И Джерри был грубо отброшен в сторону босой ногой, такой же бесчувственной и жестокой, как бездушное море, ударяющее о прибрежные скалы. Джерри едва не растянулся на скользкой палубе, затем восстановил равновесие, застыл на месте и молча поглядел на белого бога, который так дерзко с ним обошелся. Этот низкий и несправедливый поступок не вызвал у Джерри мстительного рычания, которым, несомненно, был бы награжден Леруми или любой другой из чернокожих. И в голове его не мелькнуло ни одной мысли о мщении. Это был не Леруми. То был высший бог, двуногий, белокожий, как шкипер, как мистер Хаггин, как пара других высших богов, которых он знал. Он ощутил только обиду, как ребенок, получивший шлепок от легкомысленной или нелюбящей матери. С обидой была связана и злоба. Джерри прекрасно знал, что бывают два вида грубости. Бывает грубость ласковая, любовная, та грубость, с какой шкипер хватал его за морду, раскачивал до того, что зубы начинали стучать, и, отбрасывая в сторону, сейчас же приглашал вернуться и подвергнуться встряске. Такая грубость преисполняла Джерри блаженством. В ней была близость к возлюбленному богу, который пожелал таким путем выразить любовь. Но грубость Боркмана была иного рода. В ней не чувствовалось ни привязанности, ни любви. Джерри это не вполне понимал, но разницу ощущал, и несправедливый поступок вызвал в нем злобу, не претворившуюся, однако, в действие. И теперь, восстановив равновесие, он тщетно пытался понять происшедшее и серьезно глядел на помощника, который, повернув бутылку дном кверху, глотал виски, булькавшее у него в горле. И он продолжал так же серьезно глядеть на помощника, когда тот прошел на корму и пригрозил чернокожему рулевому выколотить из него «Песнь песней» [8] и весь Ветхий завет, а чернокожий смиренно и умоляюще скалил зубы — совсем так, как это делал Джерри несколько минут назад. Покинув этого бога, как бога нелюбимого и непонятного, Джерри грустно пустился назад, к рубке, и, томясь, свесил голову, через комингс, туда, где скрылся шкипер. Он мучительно ощущал жгучее желание быть вместе со шкипером, который чувствовал себя скверно и попал в беду. Ему нужен был шкипер. Ему хотелось быть с ним, ибо он его любил; кроме того, он мог ему помочь, но эту вторую мысль Джерри сознавал смутно. Он был беспомощен, молод и неопытен; стремясь к шкиперу, он свесил голову внутрь рубки и жалобно визжал и скулил, и так непосредственна была его скорбь, что он не обращал внимания на негров, столпившихся на палубе и внизу и хохотавших над ним. От комингса до каюты было семь футов. Всего несколько часов назад Джерри вскарабкался по крутому трапу, но спуститься вниз было невозможно, и он это знал. И все же дело кончилось тем, что он рискнул спуститься. Стремясь во что бы то ни стало найти шкипера, он в то же время отчетливо сознавал всю невозможность сползти по трапу головой вниз, не имея опоры для лап и когтей, и не пытался это проделать. Движимый любовью, он геройски прыгнул вниз. Он знал, что этим поступком нарушает табу, так же точно, как если бы прыгнул в лагуне Мериндж, где плавают страшные крокодилы. Великая любовь никогда не отступает перед жертвой и самоотречением. И только во имя любви мог совершить Джерри этот прыжок. Он ударился головой и боком. От удара в бок у него перехватило дыхание, удар в голову оглушил его. Но, даже лежа в беспамятстве на борту и подергиваясь всем телом, он судорожно перебирал лапами, словно бежал навстречу шкиперу. Чернокожие глядели на него и хохотали, а когда он перестал дрожать и перебирать лапами, они продолжали смеяться. У этих дикарей, проведших всю жизнь в глуши и ничего не видевших, и понятие о смешном было дико и нелепо. При виде оглушенного, а может быть, и мертвого щенка они едва не лопались от смеха. Лишь по прошествии четырех минут Джерри пришел в себя и поднялся с помутившимися глазами. широко расставив лапы, он приспособлялся к качке «Эренджи». Но с первым же проблеском сознания всплыла мысль, что ему нужно добраться до шкипера. Чернокожие?.. Охваченный беспокойством и любовью, он не считался с ними. Он не обращал внимания на хихикающих, ухмыляющихся, поддразнивающих чернокожих, которые, не будь он под страшной эгидой великого белого господина, с наслаждением убили бы его и съели, тем более, что щенок, пройдя хорошую тренировку, обещал стать первоклассным охотником за неграми. Не поворачивая головы, с остановившимися глазами, гордо подчеркивая свое пренебрежение к их существованию, Джерри побежал на нос в каюту, где шкипер метался в бреду на своей койке. Джерри никогда не болел малярией и не понимал, в чем дело. Но он был сильно встревожен тем, что шкипер попал в беду. Шкипер не узнал его, даже когда он вскочил на койку, перепрыгнул через тяжело вздымавшуюся грудь шкипера и слизнул с его лица едкий лихорадочный пот. А дико метавшийся шкипер отшвырнул его в сторону, и Джерри больно ударился о койку. В этой грубости не было ничего любовного. Не походила она и на грубость Боркмана, отпихнувшего его ногой. Она объяснялась бедой, которая приключилась со шкипером. Джерри не обсуждал этого вывода, но действовал так, словно дошел до него путем умозаключений. Точнее всего это можно выразить следующим образом: в этой грубости Джерри почуял новый оттенок. Он сел как раз на таком расстоянии, чтобы его не задевала беспокойно метавшаяся рука, и томился желанием придвинуться ближе и еще разок лизнуть лицо бога, который его не узнавал. Но Джерри знал, что тот его крепко любит. И он разделял беду шкипера и страдал вместе с ним. — Эй, Кленси, — болтал шкипер, — славная работа выдалась у нас сегодня, и лучших ребят для этого дела не найти… Кленси, дай домкрат номер третий. Подлезай с переднего конца. — Затем кошмарные видения исчезли. — Тише, милочка, зачем ты говоришь папе, как нужно расчесывать твои золотистые волосы? Словно я не расчесывал их эти семь лет… и лучше, чем твоя мама, милочка, лучше, чем твоя мама. Мне выдали золотую медаль за то, что я расчесываю золотые волосы моей красавицы дочки… Судно сбилось с курса! Руль на ветер! Поставить кливер и фор-марсель! Полный ход!.. А оно несется по волнам, как волшебный корабль!.. Моя игра! Блеки, если ты останешься в игре, — увидишь хорошие карты, уж можешь мне поверить! Из уст шкипера вырывались обрывки никому не поведанных воспоминаний, грудь его вздымалась, руки разметались; а Джерри, прижавшись к койке, грустил, сознавая всю невозможность помочь. Во всем происходящем он ничего не понимал. Об игре в покер он знал не больше, чем о курсе судна, о разбитых трамвайных вагонах в Нью-Йорке или о расчесывании длинных золотистых волос любимой дочки в маленькой квартирке в Гарлеме. — Обе умерли, — выговорил в бреду шкипер. Он произнес это спокойно, словно сообщал, который час; потом застонал: — Ох, какие у нее были красивые, золотые косы! Некоторое время он лежал неподвижно и надрывающе рыдал. Этим воспользовался Джерри. Он подлез под руку, прижался к шкиперу, голову положил ему на плечо, слегка касаясь холодным носом щеки шкипера, и почувствовал, как рука обвилась вокруг него и теснее его прижала. Кисть руки ласково его погладила, а прикосновение его бархатного тела изменило болезненные грезы шкипера, который начал бормотать холодным, зловещим тоном: — Если какой-нибудь негр посмеет тронуть этого щенка…
Глава восьмая
Когда спустя полчаса Ван Хорн основательно пропотел, это означало конец приступа. Он почувствовал огромное физическое облегчение, и последние остатки бреда выветрились у него из головы. Однако он страшно ослабел и после того, как сбросил с себя одеяла и узнал Джерри, погрузился в естественный и восстанавливающий силы сон. Проснулся он лишь через два часа и поднялся, чтобы идти на палубу. Взобравшись до половины трапа, он опустил Джерри на палубу, а сам вернулся вниз, в каюту, за забытой бутылкой хинина. Но он не сразу вернулся к Джерри. Его внимание привлек длинный ящик под койкой Боркмана. Деревянная задвижка, придерживавшая его, отскочила, ящик выдвинулся, готовый слететь на палубу. Положение было серьезно. Ван Хорн нимало не сомневался, что, упади этот ящик на палубу во время вчерашнего шторма, пропал бы и «Эренджи» и все восемьдесят человек, находившиеся на борту. Ящик был наполнен всякой всячиной: динамитными патронами, коробками со взрывчатыми капсюлями, дистанционными трубками, свинцовыми грузилами, инструментами и многочисленными коробками с ружейными, револьверными и пистолетными патронами. Ван Хорн рассортировал и в порядке уложил все это, взял винт подлиннее и с помощью отвертки приделал задвижку. А Джерри тем временем наткнулся на новое приключение. Поджидая шкипера, он случайно заметил дикую собаку, дерзко растянувшуюся на палубе, шагах в двенадцати от своей норы между ящиками. Джерри немедленно припал к палубе и стал подкрадываться. Успех, казалось, был обеспечен, так как дикая собака лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала. И в тот самый момент помощник, шествовавший с носа в том направлении, где между мешками с бататом была припрятана бутылка, крикнул заметно осипшим голосом: «Джерри!» Джерри прижал уши, по форме напоминавшие большие лесные орехи, вежливо завилял хвостом, но изъявил намерение продолжать выслеживание врага. Услыхав голос помощника, дикая собака открыла глаза, метнула взгляд в сторону Джерри и прыгнула в свою нору; очутившись там, она повернулась, высунула морду, оскалила зубы и торжествующе зарычала. Лишившись своей добычи по неосмотрительности помощника, Джерри побежал назад, к рубке, чтобы дожидаться шкипера. Но Боркман, у которого от частого прикладывания к бутылке голова затуманилась, цеплялся за свою мысль, как это свойственно пьяным. Еще дважды он повелительно окликнул Джерри, и оба раза Джерри, любезно прижав уши и вильнув хвостом, отказывался повиноваться. Затем щенок свесил голову вниз в каюту и стал ждать шкипера. Боркман вспомнил свое первоначальное намерение и продолжал путь к бутылке, которую не замедлил повернуть дном кверху. Но и вторая мысль, какой пустячной она ни была, удержалась; некоторое время он стоял, пошатываясь и что-то бормоча, затем сделал вид, будто изучает свежий ветер, надувший паруса «Эренджи» и накренивший палубу, попытался изобразить перед рулевым орлиную зоркость в своих мутных от пьянства глазах и, наконец, покачиваясь, пошел на середину судна к Джерри. Джерри обнаружил присутствие Боркмана, когда тот больно и жестоко щипнул его за бок. Джерри тявкнул от боли и обернулся. Тогда помощник принялся за ту же игру, какую вел шкипер: он стиснул рукой морду Джерри так сильно, что у того застучали зубы, и задал ему встряску, ничем не похожую на любовную встряску шкипера. Джерри еще удерживался на ногах, зубы болезненно лязгали, а затем его грубейшим образом отшвырнули в сторону по скользкому скату палубы. Но Джерри с равным и высшим был воплощенной вежливостью. В конце концов даже с низшими, как, например, с дикой собакой, он никогда сознательно не злоупотреблял выпадавшими на его долю преимуществами. А с высшим двуногим белым богом, как Боркман, требовался большой контроль, сдержанность и обуздание примитивных инстинктов. Он не хотел играть с помощником в игру, которую с таким экстазом вел со шкипером, так как помощника он не любил, хотя тот и был двуногим белым богом. И все же Джерри оставался в высшей степени любезным. Он вернулся, слабо имитируя ту увлекательную, возбуждающую атаку, которой научил его шкипер. В действительности он притворялся, разыгрывая роль, стараясь делать то, чего ему совсем не хотелось. Он делал вид, будто играет, и для вида рычал, но симуляция выходила мало правдоподобной. Он вилял хвостом добродушно и по-дружески, рычал грозно и дружелюбно, но помощник с пьяной прозорливостью уловил разницу и смутно почуял притворство, обман. Джерри плутовал — из вежливости. Боркман спьяна различил плутовство, но не оценил скрытого за ним доброго чувства. И это вывело его из себя. Забыв, что и сам он животное, он видел перед собой не больше, чем животное, с которым пытался дружески играть, как играл шкипер. Война стала неизбежной, но открыл ее не Джерри, а Боркман. Боркман ощущал непреодолимую потребность зверя утвердить свое господство над другим зверем — этим четвероногим щенком. Джерри почувствовал, как рука еще сильнее сдавила его челюсти и еще грубее отшвырнула вниз по палубе. А палуба вследствие сильного крена превратилась в крутой и скользкий холм. Джерри вернулся, неистово цепляясь когтями за палубу, дававшую плохую опору лапам; он вернулся, уже не симулируя гнев, но побуждаемый первым проблеском подлинной ярости. Этого он не сознавал. Вернее всего, он был под впечатлением, будто играет в ту же игру, какую вел со шкипером. Короче, он стал заинтересовываться игрой, хотя совсем иначе, чем играл со шкипером. На этот раз он быстро оскалил зубы, намереваясь глубже впиться в хватающую его руку, но промахнулся; он снова был схвачен и отброшен, отлетел дальше и ударился больнее, чем раньше. Отползая назад, он стал озлобляться, хотя и не сознавал этого. Но помощник, как человек, хотя и был пьян, почувствовал перемену в поведении Джерри раньше, чем сам Джерри ее почувствовал. И Боркман не только ее почувствовал, это ощущение отшвырнуло его назад, в первобытные времена, и побудило драться, чтобы восторжествовать над этим щенком… Так, быть может, дрался первобытный человек с первым выводком, похищенным из волчьего логовища в скалах. Действительно, род Джерри восходил к этим далеким временам. Его далекие предки были ирландскими волкодавами, а задолго до этого предками волкодавов были волки. Рычание Джерри звучало теперь по-иному. Незабываемое и неизгладимое прошлое стянуло его голосовые связки. Его зубы сверкали. Джерри был весь охвачен страстью, и страсть побуждала его глубоко вонзить зубы в руку человека. Он отпрыгнул назад, в темную жестокую дикость первобытного мира, отпрыгнул почти с той же быстротой, как это сделал Боркман. И на этот раз его зубы оставили метку, содрав нежную, чувствительную кожу и мясо на правой руке Боркмана. Зубы Джерри кололи, как иголки, и Боркман, ухватив морду Джерри, отбросил его в сторону с такой силой, что тот едва не ударился о низкие поручни «Эренджи». Ван Хорн, покончив с уборкой и починкой ящика с взрывчатыми веществами, поднялся по трапу, увидел битву, остановился и молча смотрел. Но смотрел он в прошлое, за миллионы лет, и видел два безумных существа, которые сорвали с себя узду многих поколений и возвратились в мрак зарождающейся жизни. В мозгу Боркмана пробудились те же далекие унаследованные инстинкты, что и в мозгу Джерри. Оба вернулись назад, к прошлому. Все усилия и достижения десяти тысяч поколений сошли на нет, и битва шла не между Джерри и помощником, а между собакой-волком и дикарем. Ни один из них не видел Ван Хорна, который, не вылезая из люка, стоял так, что глаза его приходились как раз на уровне порога. Для Джерри Боркман уже не был больше богом, так же точно, как и сам он, Джерри, не был гладкошерстным ирландским терьером. Оба забыли миллион лет, отпечатавшийся в их наследственности слабее, чем те века, какие протекли до этого миллиона. Джерри опьянения не знал, но несправедливость понимал хорошо и теперь был охвачен яростным негодованием. Боркман, готовясь отразить следующее нападение, промахнулся, и Джерри успел укусить его за обе руки раньше, чем был отброшен в сторону. И всякий раз Джерри возвращался. Как истинный обитатель джунглей, он истерическим лаем выражал свое негодование. Но он не скулил, ни разу не попятился, не уклонился от удара. Он бросался напролом, стараясь укусить, не избегая удара, и встретить удар зубами. Наконец он с такой силой был отброшен назад, что больно ударился боком о поручни, и Ван Хорн крикнул: — Прекрати, Боркман! Оставь щенка в покое! Помощник, не подозревавший, что за ним наблюдают, вздрогнул от удивления и обернулся. Резкий, повелительный голос Ван Хорна пронесся через миллион лет. Боркман попытался изобразить на искаженном от гнева лице нелепую, извиняющуюся улыбку и едва успел пробормотать: «Ведь мы только играли…» — как Джерри вернулся, подпрыгнул и вонзил зубы в руку врага. Боркман снова был отброшен назад за миллион лет, попробовал лягнуть ногой, а Джерри ободрал ему лодыжку. От боли и бешенства помощник забормотал что-то несвязное и, наклонившись, с размаху ударил Джерри по голове и по шее. Как раз в этот момент Джерри подпрыгнул и, получив удар на лету, перекувыркнулся в воздухе и упал на спину. Едва поднявшись на ноги, он хотел возобновить нападение, но шкипер его окликнул: — Джерри! Брось! Иди сюда! Ему стоило большого труда повиноваться; шерсть на шее ощетинилась, и он оскалился, проходя мимо помощника. И в первый раз он заскулил; это было вызвано не страхом и не болью, а оскорблением и желанием продолжать битву, но это желание он пытался обуздать по приказанию шкипера. Шкипер вылез на палубу, взял его на руки и стал ласкать, успокаивать, отчитывая в то же время помощника: — Стыдись, Боркман! Пристрелить тебя следует или башку за это снести! Щенок, маленький щенок, только что отнятый от груди! Я бы за два цента задал тебе трепку. И придет же в голову! Щенок, маленький щеночек-сосунок! Хорошо, что хоть руки разодрал. Поделом. Надеюсь, получишь заражение крови. А затем — ты пьян. Ступай вниз и носа не показывай на палубу, пока не отоспишься. Понял? А Джерри, совершив далекое путешествие в веках, пытался восторжествовать над тинистой бездной доисторических времен, опираясь на любовь, которая лишь значительно позднее вошла в его жизнь и стала ее основой. Древний гнев утихал, в голосе слышались лишь слабые отзвуки его — отдаленные раскаты пронесшейся грозы, — и Джерри, охваченный теплой волной чувства, познал величие и справедливость своего шкипера. Шкипер поистине был богом: он действовал справедливо, он защищал, он властвовал над тем, другим — меньшим богом, который бежал от его гнева.
Глава девятая
Джерри и шкипер вместе несли долгую послеполуденную вахту, и последний то и дело усмехался и восклицал: «Черт бы меня побрал, Джерри! Уж можешь мне поверить, ты славный пес и знатный боец!» Или: «Ты молодчина! У тебя настоящее львиное сердце! Бьюсь об заклад, что еще не было такого льва, который сумел бы отнять у тебя добычу». И Джерри, не понимая ни единого слова, за исключением своего собственного имени, знал тем не менее, что звуки, издаваемые шкипером, несут похвалу и согреты любовью. А когда шкипер наклонялся, трепалего за уши, протягивал пальцы для поцелуя или брал его на руки, Джерри преисполнялся блаженством. Ибо разве может выпасть на долю какого-либо существа больший экстаз, чем быть любимым богом? Именно такой экстаз переживал Джерри. Шкипер был богом осязаемым, реальным богом трех измерений, который расхаживал босиком, в набедренной повязке, управлял своим миром и любил его, Джерри, нашептывал ему что-то ласкающее и прижимал к себе. В четыре часа пополудни Ван Хорн, определив на глаз положение солнца и измерив скорость «Эренджи», приближавшегося к Суу, спустился вниз и грубо растолкал помощника. До их возвращения Джерри один оставался на палубе. И только благодаря тому, что белые боги пребывали внизу и в любой момент могли появиться, Джерри удерживал за собой палубу: по мере приближения к Малаите у возвращавшихся негров поднималось настроение, и, предвкушая независимость, Леруми бросал на Джерри мстительные взгляды и, глотая слюну, оценивал его с точки зрения съедобности. Подгоняемый свежим бризом, «Эренджи» быстро несся к земле. Джерри глядел сквозь колючую проволоку, втягивая носом воздух, шкипер стоял подле него, отдавая распоряжения помощнику и рулевому. На палубе развязали груду сундучков, и чернокожие то и дело открывали и закрывали их. Особое удовольствие доставлял им звон колокольчика, которым был снабжен каждый сундучок; этот колокольчик звонил всякий раз, когда поднимали крышку. Они, как дети, наслаждались игрушечным механизмом и, то и дело подходя к своему собственному сундучку, открывали его и прислушивались к звону. В Суу высаживались пятнадцать негров. Дико жестикулируя и крича, они узнавали и указывали на мельчайшие детали берега — того единственного клочка земли, какой они знали раньше, три года назад, пока отцы, дяди и вожди не продали их в рабство. Узкая полоса воды, шириной едва в сто ярдов, служила входом в длинную и узкую бухту. Густая тропическая растительность покрывала берег. Нигде не видно было ни жилья, ни следов человека. Но Ван Хорн, пристально вглядывавшийся в густые джунгли, прекрасно знал, что десятки, а быть может, и сотни пар человеческих глаз смотрят на него. — Принюхивайся к ним, Джерри, принюхивайся, — подбадривал он. А у Джерри шерсть взъерошилась, и он залаял на мангиферовую стену, так как действительно распознал своим острым обонянием запах притаившихся негров. — Будь у меня такой нюх, как у него, — сказал капитан помощнику, — я бы не рисковал потерять голову. Но Боркман ничего не отвечал и угрюмо делал свое дело. Ветра почти не было. «Эренджи» медленно вошел в бухту и отдал якорь на глубине ста восьмидесяти футов. Дно гавани так круто опускалось начиная от самого берега, что даже на такой большой глубине корма «Эренджи» находилась на расстоянии какой-нибудь сотни футов от мангифер. Ван Хорн по-прежнему тревожно всматривался в берег, поросший лесом. Суу пользовался дурной славой. Пятнадцать лет назад шхуна «Фэйр-Хатавей», вербовавшая рабочих для плантаций Квинсленда [9], была захвачена туземцами, а вся команда перебита; с тех пор ни одно судно, за исключением «Эренджи», не осмеливалось подходить к Суу. И большинство белых осуждало безрассудную отвагу Ван Хорна. Высоко в горах, вздымающихся на тысячи футов к облакам, гонимый пассатным ветром, клубился дым сигнальных костров, возвещавший о прибытии судна. И вдали и вблизи было известно о появлении «Эренджи»; и все же из джунглей, так близко подступавших к судну, доносились лишь пронзительные крики попугаев да болтовня какаду. К борту подтянули вельбот, снаряженный шестью матросами, и спустили в него пятнадцать парней из Суу с их сундучками. Вдоль скамей для гребцов лежали под рукой пять ли-энфильдских ружей. На палубе «Эренджи» один из матросов судовой команды с ружьем в руке охранял оставшееся на борту оружие. Боркман принес снизу свое собственное ружье и держал наготове. Ружье Ван Хорна лежало подле него в шлюпке, а сам он стоял близ Тамби, управлявшего длинным кормовым веслом. Джерри тихонько скулил, перевесившись через поручни, пока шкипер не сжалился и не спустил его за собой в вельбот. Опасным местом была шлюпка, ибо казалось маловероятным, чтобы именно в этот момент взбунтовались рабочие, оставшиеся на борту «Эренджи». Они были родом из Сомо, Ноола, Ланга-Ланга и далекого Малу и сами трепетали от страха: лишись они защиты своих белых господ, им грозило быть съеденными жителями Суу; того же могли опасаться со стороны жителей Сомо, Ланга-Ланга и Ноола и чернокожие из Суу. Опасность, грозившая вельботу, усиливалась тем, что не было второй, защитной шлюпки. Более крупные суда, вербовавшие рабочих, неизменно посылали на берег две шлюпки. Пока одна подходила к берегу, вторая останавливалась на некотором расстоянии, чтобы в случае тревоги прикрыть отступление. «Эренджи» был слишком мал и даже одну шлюпку не мог нести на палубе, а тащить на буксире две было неудобно; в результате Ван Хорн, самый отважный из всех вербовщиков, был лишен этой существенной защиты. Тамби, повинуясь тихой команде Ван Хорна, вел вельбот вдоль берега. Там, где исчезали мангиферы и показалась сбегавшая к воде тропа, Ван Хорн приказал гребцам табанить, чтобы остановиться… В этом месте высокие пальмы и величественные ветвистые деревья вздымались над джунглями, а тропинка походила на тоннель, пробитый в плотной зеленой стене тропической растительности. Ван Хорн, ища на берегу каких-либо признаков жизни, закурил сигару и, приложив руку к поясу своей набедренной повязки, убедился, что динамитный патрон находится на своем месте, между поясом и голым телом. Сигара была зажжена для того, чтобы в случае необходимости было чем поджечь динамитную трубку. Один конец трубки был расщеплен и приспособлен для головки спички, а трубка была так мала, что взрывалась через три секунды после прикосновения к ней горящей сигары. Таким образом, если бы понадобилось пустить в ход динамит, Ван Хорн должен был действовать быстро и хладнокровно. В течение трех секунд нужно было бросить патрон в намеченную цель. Однако он не рассчитывал прибегать к динамиту и держал его наготове только из предосторожности. Прошло пять минут, а на берегу царило все то же молчание. Джерри понюхал босые ноги шкипера, словно заверяя его, что он здесь, подле него, и тут и останется, чем бы ни угрожало враждебное молчание земли; затем он поставил передние лапы на борт и, ощетинившись, стал сопеть, втягивая воздух, и тихонько ворчать. — Что и говорить, они тут, — сказал ему шкипер; а Джерри, искоса взглянув на него улыбающимися глазами, вильнул хвостом, любовно откинул назад уши и, снова повернув морду к берегу, принялся читать повесть джунглей, которая доносилась к нему на легких крыльях душного, замирающего ветерка. — Эй! — внезапно крикнул Ван Хорн. — Эй вы, ребята! Высуньте-ка головы! И сразу все изменилось: необитаемые, казалось, джунгли ожили. В одну секунду появились сотни дикарей. Они выступили отовсюду из зарослей. Все были вооружены: одни снайдеровскими ружьями [10] и старинными самодельными пистолетами, другие — луками и стрелами, длинными метательными копьями, военными дубинками и томагавками с длинной рукояткой. Один из дикарей выпрыгнул на открытое место, где тропинка упиралась в воду. Если не считать украшений, он был наг, как Адам до грехопадения. В глянцевитых черных волосах торчало белое перо. Полированная игла из белой окаменелой раковины с заостренными концами проходила сквозь ноздри и торчала на пять дюймов поперек лица. Вокруг шеи, на шнурке, скрученном из волокон кокоса, висело ожерелье из клыков дикого кабана цвета слоновой кости. Повязка из белых раковин охватывала одну ногу под самым коленом. Пламенно-красный цветок был кокетливо засунут за ухо, а в дырке другого уха красовался свиной хвост, очевидно, недавно отрубленный, так как еще кровоточил. Выпрыгнув на освещенное солнцем место, этот меланезийский денди со снайдеровским ружьем в руках прицелился, направив дуло прямехонько на Ван Хорна. Так же быстро действовал и Ван Хорн. Он моментально схватил свое ружье и прицелился. Так стояли они друг против друга, держа палец на спуске, разделенные сорока футами. Миллион лет, отделявший варварство от цивилизации, зиял между ними в этом узком пространстве в сорок футов. Современному, развитому человеку труднее всего позабыть древние привычки. И насколько ему легче забыть все нормы цивилизации и скользнуть назад — в прошлые века! Наглая ложь, удар в лицо, укол ревности в сердце могут в одну секунду превратить философа двадцатого века в обезьяноподобного жителя лесов, бьющего себя в грудь, скрежещущего зубами и жаждущего крови. То же ощущал и Ван Хорн. Но с некоторой разницей. Он подчинил себе время. Он весь был и в современности и в первобытных веках — одновременно, он способен был пустить в ход зубы и когти, но желал оставаться современным до тех пор, пока ему удавалось подчинять своей воле этого дикаря с черной кожей и ослепительно белыми украшениями. Долгие десять секунд протекли в молчании. Даже Джерри, сам не зная почему, приглушил свое ворчание. Сотня каннибалов — охотников за головами, — стоявших у стены джунглей, пятнадцать возвращавшихся в Суу чернокожих, сидевших в лодке, семь чернокожих матросов и одинокий белый человек с сигарой в зубах, ружьем у бедра и ощетинившимся терьером, жмущимся к его голой икре, поддерживали торжественное молчание этих секунд, и ни один из них не знал и не предугадывал, чем кончится дело. Один из возвращавшихся чернокожих в знак мира вытянул вперед открытую безоружную ладонь и начал что-то чирикать на непонятном диалекте Суу. Ван Хорн держал ружье наготове и ждал. Денди опустил свое ружье, и все участники этой сцены вздохнули свободнее. — Мой — добрый парень, — пискнул денди не то по-птичьи, не то по-детски. — Ты, парень, большой дурак, — грубо возразил Ван Хорн, бросая ружье и приказывая рулевому и гребцам развернуть шлюпку, небрежно затянулся сигарой, словно его жизнь не висела на волоске всего секунду назад. — Мой говорит, — продолжал он, прикидываясь рассерженным. — Какого черта твой наставил на меня ружье? Мой не хотел тебя кай-кай. Мой, когда рассердится, будет тебя кай-кай. И твой, когда рассердится, будет меня кай-кай. А твой не хочет, чтобы парней из Суу кай-кай? Очень давно, три муссона тому назад, мой сказал правду. Мой сказал: пройдут три муссона, и парни из Суу придут назад. Мой говорит: три муссона кончились, и парни из Суу пришли назад. Тем временем шлюпка развернулась, и Ван Хорн повернулся, чтобы стать лицом к вооруженному снайдеровским ружьем денди. По знаку Ван Хорна гребцы начали табанить, и лодка кормой пристала к берегу у тропинки. И каждый гребец, держа весло наготове на случай нападения, потихоньку ощупал свое ли-энфильдское ружье, спрятанное под брезентом. — С тобой пришли хорошие парни? — осведомился у денди Ван Хорн. Тот отвечал утвердительно: по обычаю Соломоновых островов, он полузакрыл глаза и чванливо вскинул вверх голову. — Парни Суу, что пришли с тобой, не будут кай-кай? — Нет, — ответил денди. — Парни Суу хороший. А придут парни не из Суу, мой говорит: будет беда. Ишикола, большой черный господин на этих местах, говорил моему: пойди и скажи — тут по джунглям ходят дурные парни. Большой белый господин, не надо ходить тут. Ишикола говорил: хороший белый господин, надо остаться на своя корабль. Ван Хорн небрежно кивнул головой, словно это сообщение большой цены для него не имело; в действительности же он понял, что на этот раз Суу не доставит ему новых рекрутов. Он приказал чернокожим рабочим отправляться на берег поодиночке. Остальные должны были остаться на своих местах. Такова была тактика на Соломоновых островах. Скопление людей могло повлечь за собой опасность. Нельзя было разрешать чернокожим собираться группами. И Ван Хорн, с равнодушным и величественным видом покуривая сигару, не спускал глаз с негров, которые поодиночке пробирались на корму, каждый со своим сундучком на плече, и сходили на берег. Один за другим они скрылись в зеленом тоннеле, и когда последний сошел на берег, Ван Хорн приказал гребцам возвращаться к судну. — На этот раз здесь нечего делать, — сказал он помощнику. — Утром мы снимемся с якоря. Тропические сумерки быстро сменились тьмой. На небе высыпали звезды. Ни малейшего дыхания ветерка не пробегало над водой, и от сыроватого зноя тела и лица обоих мужчин покрылись каплями пота. Они лениво поужинали на палубе, то и дело отирая рукой едкий пот со лба. — И зачем только человек тащится на Соломоновы острова, в эту проклятую дыру! — пожаловался помощник. — И остается здесь, — отозвался капитан. — Слишком уж я прогнил от лихорадки, — проворчал Боркман. — Я бы умер, если бы уехал отсюда. Помнишь, два года назад я пытался это сделать. Но как попадешь в холодный климат, так лихорадка и выступает наружу. В Сидней меня привезли совсем больным. Пришлось отправить в карете в госпиталь. Мне становилось все хуже и хуже. Доктора мне сказали, что единственное средство — вернуться назад, туда, где я захватил лихорадку. Если я это сделаю, могу прожить долго. Если же останусь в Сиднее, конец не заставит себя ждать. Положили меня в карету и отправили на судно. Вот и все, что я видел в Австралии за мой отпуск. Я не хочу оставаться на Соломоновых островах. Здесь сущий ад. Но выбор таков: или оставайся, или подыхай. Он отсыпал на глаз гран тридцать хинина, завернул в папиросную бумагу, секунду угрюмо смотрел на комочек, затем проглотил его. Глядя не него, и Ван Хорн потянулся за пузырьком и принял такую же дозу. — Не мешает натянуть брезент, — заметил он. Под руководством Боркмана несколько человек из команды занавесили тонким брезентом обращенную к берегу сторону «Эренджи». Это была мера предосторожности против шальной пули, так как всего сотня футов отделяла судно от прибрежных мангиферовых зарослей. Ван Хорн послал Тамби вниз за маленьким фонографом и поставил с дюжину поцарапанных, визжавших пластинок, уже тысячу раз бывших в употреблении. Слушая музыку, Ван Хорн вспомнил о дикарке и приказал вытащить ее из темной норы в лазарете, чтобы и она послушала фонограф. Девушка в страхе повиновалась, полагая, что час ее пробил. Расширенными от ужаса глазами она глядела на большого белого господина и долго дрожала всем телом, уже после того как он велел ей лечь. Фонограф никакого впечатления на нее не произвел. Она знала только страх — страх перед этим ужасным белым господином, которому, по ее глубокому убеждению, она была обречена на съедение. Джерри покинул гладившую руку шкипера, чтобы подойти к девушке и обнюхать ее. Долг побудил его еще раз ее опознать. Что бы ни случилось, сколько месяцев или лет ни протекло бы впредь, он всегда сможет ее узнать. Затем он вернулся к шкиперу, и тот снова стал гладить его одной рукой, держа в другой дымящуюся сигару. Влажный, удушливый зной становился невыносимым. Воздух был наполнен тошнотворными сырыми испарениями, вздымавшимися над мангиферовыми болотами. Дребезжащая музыка напомнила Боркману далекие порты и города, и, лежа плашмя на горячей палубе, он отбивал босой ногой зорю и вел тихий монолог, сплошь состоящий из ругательств. А Ван Хорн, поглаживая тяжело дышавшего Джерри, безмятежно и философски курил, зажигая свежую сигару всякий раз, как кончалась старая. Внезапно он встрепенулся, услышав слабый плеск весел. Собственно говоря, насторожиться его заставило тихое ворчание ощетинившегося Джерри. Вытащив из складки набедренной повязки динамитный патрон и убедившись, что сигара не потухла, он быстро, но не суетясь, поднялся на ноги и подошел к поручням. — Как тебя звать? — крикнул он в темноту. — Мой звать Ишикола, — раздался в ответ дрожащий, старческий фальцет. Раньше чем снова заговорить, Ван Хорн наполовину вытащил из кобуры свой автоматический пистолет и передвинул кобуру с бедра, чтобы она приходилась у него под рукой. — Сколько парней с тобой идет? — спросил он. — Мой идет всего десять парень, — ответил старческий голос. — Подходите к борту. — Не поворачивая головы, бессознательно опустив правую руку на пистолет, Ван Хорн скомандовал: — Эй, Тамби! Тащи фонарь! Не сюда, а на корму, к бизани, и гляди в оба. Тамби повиновался и отнес фонарь на двадцать футов от того места, где стоял капитан. Это давало Ван Хорну преимущество над приближающимися в пироге людьми: фонарь, спущенный через колючую проволоку за поручни, ярко освещал подплывшую лодку, тогда как сам Ван Хорн оставался в полутьме. — Греби, греби! — побуждал он, так как люди в невидимой пироге все еще медлили. Раздался плеск весел, и на пространство, освещенное фонарем, вынырнул высокий черный нос пироги, изогнутый, как гондола, и инкрустированный перламутром; затем показалась и вся пирога; чернокожие, стоя на коленях на дне лодки, гребли, их глаза блестели, черные тела лоснились. Ишикола, старый вождь, сидел посредине и не греб; беззубыми деснами он сжимал незажженную короткую глиняную трубку. А на корме стоял чернокожий денди; все украшения его были ослепительно белы, за исключением свиного хвостика в одном ухе и ярко-красного цветка, все еще пламеневшего над другим ухом. Бывали случаи, когда человек десять чернокожих нападали на судно вербовщика, если оно управлялось не более чем двумя белыми, и потому рука Ван Хорна легла на спуск его автоматического пистолета, хотя он и не вытащил его из кобуры. Левой рукой он поднес ко рту сигару и сильно затянулся. — Здорово, Ишикола, старый негодяй! — приветствовал Ван Хорн старого вождя, когда денди, подсунув свое весло под дно пироги и действуя им как рычагом, подвел его к «Эренджи», так что оба судна стояли бок о бок. Ишикола, освещенный фонарем, поднял голову и улыбнулся. Он улыбался правым глазом — единственным, оставшимся у него: левый был пронзен стрелой когда-то, в одной из юношеских стычек в джунглях. — Мой говорит! — крикнул он в ответ. — Твой долго не видели мои глаза. Ван Хорн на жаргоне стал подшучивать над ним, расспрашивая о новых женах, которыми тот наполнил свой гарем, и о том, сколько свиней он за них заплатил. — Я говорю, — заключил он, — слишком уж ты богатый парень. — Мой хотел прийти к твоему на борт, — смиренно намекнул Ишикола. — А я говорю, ночью нельзя, — возразил капитан. Всем известное правило гласило, что с наступлением ночи посетители на борт не допускаются. Затем, подумав, он сделал уступку: — Ты иди на борт, а парни останутся в лодке. Ван Хорн галантно помог старику вскарабкаться на поручни, перешагнуть через колючую проволоку и спуститься на палубу. Ишикола был грязный старый дикарь. Одно из его тамбо («тамбо» у меланезийцев и на морском жаргоне означает «табу») гласило, что вода никогда не должна касаться его кожи. Он, живший у берегов океана, в стране тропических ливней, добросовестно избегал соприкосновения с водой. Он никогда не купался, не переходил вброд, а от ливня всегда бежал под прикрытие. Но остального его племени это не касалось. Таково было своеобразное тамбо, наложенное на него колдунами. На других членов племени колдуны налагали другие табу: им запрещалось есть акулу, трогать черепаху, прикасаться к крокодилам или ископаемым останкам крокодилов, либо всю жизнь избегать оскверняющего прикосновения женщины и женской тени, упавшей на траву. Итак, Ишиколу, для которого вода была табу, покрывала кора многолетней грязи. Шелудивый, словно больной проказой, с худым лицом, весь морщинистый, он сильно хромал от полученного некогда удара копьем в бедро. Но его единственный глаз блестел ярко и злобно, и Ван Хорн знал, что этим одним глазом Ишикола видит не хуже, чем сам он своими двумя. Ван Хорн поздоровался с ним за руку — эту честь он оказывал только вождям — и знаком предложил присесть на корточки на палубе, неподалеку от пораженной ужасом девушки, которая снова начала дрожать: ей вспомнилось, как Ишикола предложил однажды десять десятков кокосовых орехов за обед, приготовленный из нее. Джерри во что бы то ни стало должен был обнюхать этого противного, хромого, голого, одноглазого старика, чтобы в будущем его распознать. А обнюхав его и запомнив своеобразный запах, Джерри почувствовал потребность угрожающе зарычать, чем заслужил одобрительный взгляд шкипера. — Мой говорит, хорошо будет кай-кай эта собака, — сказал Ишикола. — Мой дает три фут раковин и берет собака. Это предложение было щедрым, так как три фута раковин, нанизанных на шнурок из скрученных волокон кокоса, равнялись полусоверену в английской валюте, двум с половиной долларам в американской, или, переведя на здешнюю ходячую монету — живых свиней, — половине крупной, жирной свиньи. — Эта собака стоит семь футов раковин, — возразил Ван Хорн, в глубине души прекрасно зная, что не продаст Джерри и за сотню футов раковин или за любую баснословную цену, даваемую чернокожими. Такую маленькую сумму он назначил для того, чтобы чернокожие не заподозрили, как высоко оценивает он в действительности златошерстного сына Бидди и Терренса. Затем Ишикола заявил, что девушка сильно исхудала и он как знаток мяса не может предложить за нее на этот раз больше, чем три раза по двадцать связок кокосов. Обменявшись любезностями, белый господин и чернокожий повели разговор; первый чванился превосходством разума и знаний белого человека, второй чутьем угадывал недоговоренное. Ишикола был примитивным государственным мужем и теперь пытался уяснить себе равновесие человеческих и политических сил, давивших на его территорию Суу, в десять квадратных миль. Эта территория была ограничена морем и линиями фронта междуплеменной войны, которая была древнее самого древнего мифа Суу. То одно, то другое племя побеждало, захватывало головы и поедало тела. Границы оставались неизменными. Ишикола на грубом морском жаргоне старался узнать об общем положении Соломоновых островов по отношению к Суу, а Ван Хорн не прочь был вести нечистую дипломатическую игру, какая ведется во всех министерствах великих держав. — Я говорю, — заключил Ван Хорн, — в этих местах слишком много у вас злых парней. Берете вы слишком много голов; слишком много кай-кай длинных свиней («длинные свиньи» означали зажаренное человеческое мясо). — Мой говорит, черные парни Суу всегда брать головы и кай-кай длинные свиньи, — возразил Ишикола. — Слишком много в этих местах злых парней, — повторил Ван Хорн. — Тут, поблизости, стоит большой военный корабль; скоро он подойдет сюда и выколотит семь склянок из Суу. — Как звать большой военный корабль у Соломоновых? — спросил Ишикола. — Большой корабль «Кэмбриен» — вот как звать корабль, — солгал Ван Хорн, слишком хорошо зная, что за последние два года ни один британский крейсер не заходил на Соломоновы острова. Разговор, принимавший характер шутовской декларации об отношениях, какие установятся между государствами, столь несходными по величине, был прерван криком Тамби. Чернокожий спустил за борт другой фонарь и сделал неожиданное открытие. — Шкипер, у него в лодке ружья! — крикнул он. Ван Хорн одним прыжком очутился у поручней и свесился вниз через колючую проволоку. Ишикола, несмотря на свое искалеченное тело, отстал от него всего на несколько секунд. — Какого черта на дне лодки лежат ружья? — негодующе спросил Ван Хорн. Денди, сидевший на корме, постарался подпихнуть ногой зеленые листья так, чтобы они прикрыли выступавшие приклады нескольких ружей, но только испортил все дело. Он наклонился, чтобы рукой сгрести листья, но тотчас же выпрямился, когда Ван Хорн заревел на него сверху: — Смирно сидеть! Руки прочь, парень! Повернувшись к Ишиколе, Ван Хорн симулировал гнев, которого в действительности не чувствовал, так как уловка была старая и периодически повторялась. — Какого черта ты едешь на судно, а ружья лежат у тебя в лодке?! — грозно спросил он. Старый вождь закатил свой единственный глаз и моргнул с видом глупым и невинным. — Я на тебя сердит, много сердит, — продолжал Ван Хорн. — Ишикола, ты дрянной парень. Убирайся к черту за борт! Старик запрыгал к поручням проворнее, чем можно было от него ждать, без посторонней помощи перешагнул через колючую проволоку и прыгнул в пирогу, искусно удержавшись на здоровой ноге. Затем поднял голову и моргнул, моля о прощении и заверяя в своей невинности. Ван Хорн отвернулся, чтобы скрыть улыбку, а потом открыто ухмыльнулся, когда старый плут, показывая свою пустую трубку, вкрадчиво спросил: — Может, твой даст моему пять пачка табаку? Пока Боркман ходил вниз за табаком, Ван Хорн проповедовал Ишиколе о святости чести и обещаний, затем перегнулся через колючую проволоку и вручил ему пять пачек табаку. — Я говорю, — пригрозил он, — когда-нибудь, Ишикола, я тебя совсем прикончу. Ты нехороший друг у берегов соленой воды. Ты большой дурак и убирайся в джунгли. Когда Ишикола попробовал протестовать, Ван Хорн резко оборвал его: — Я говорю, слишком много ты со мной болтаешь. Все-таки пирога медлила. Денди украдкой старался нащупать ногой приклады ружей под зелеными листьями, а Ишикола не имел ни малейшего желания уезжать. — Греби! Греби! — неожиданно крикнул Ван Хорн. Гребцы, не дожидаясь команды вождя или денди, невольно повиновались и глубокими, сильными ударами весел вывели пирогу из освещенного круга. С такой же быстротой Ван Хорн переменил свое место на палубе, отпрыгнул ярдов на двенадцать, чтобы случайная пуля его не настигла. Затем он присел на корточки, прислушиваясь к плеску весел, замиравшему вдали. — Тамби, — спокойно приказал он, — пусти нам музыку. И пока с дребезжащей пластинки срывалась красивая мелодия «Красное крыло», он курил сигару, опираясь локтем о поручни и обнимая Джерри. Куря, он следил, как звезды затуманивались дождем, надвигавшимся с подветренной стороны. Собираясь приказать Тамби отнести вниз фонограф и пластинки, он заметил дикарку, в немом страхе глядевшую на него. Он ей кивнул в знак согласия, полузакрыв глаза и вскинув голову, и рукой указал на рубку. Она повиновалась, как повинуется побитая собака, и поднялась на ноги, дрожа и в ужасе озираясь на большого белого господина, который, как она была убеждена, в один прекрасный день съест ее. И эта невозможность объяснить ей через пропасть веков свои добрые намерения кольнула Ван Хорна. Она скользнула в рубку и сползла по трапу вперед ногами, словно какой-то огромный, большеголовый червь. Послав вслед за ней вниз Тамби с драгоценным фонографом, Ван Хорн продолжал курить, а острые, как иглы, брызги дождя освежали его разгоряченное тело. Через пять минут дождь прекратился. Небо опять покрылось звездами; зловонный запах поднялся с мангиферовых болот, а удушливый зной снова усилился. Ван Хорн никогда ничем не болел, если не считать лихорадки; и сейчас он даже не потрудился пойти за одеялом. — Твоя вахта первая, — сказал он Боркману. — Поутру я выведу судно из бухты. Он положил голову на бицепс правой руки, левой рукой прижал к груди Джерри и погрузился в сон. Так, рискуя жизнью, белые и местные чернокожие влачили день за днем на Соломоновых островах, занимаясь торговлей и стычками; белые старались сохранить головы на своих плечах, а чернокожие также единодушно старались завладеть головами белых и одновременно сохранить свои собственные головы. А Джерри, знакомый только с миром лагуны Мериндж, узнал, что эти новые миры — судно «Эренджи» и остров Малаита, — по существу, не отличаются от первого, и с проблеском понимания взирал на вечную игру людей.
Глава десятая
На рассвете «Эренджи» снялся с якоря. Паруса тяжело повисли в мертвом воздухе, и судовая команда, спустившись в вельбот, налегла на весла и на буксире тянула судно через узкий проход. Один раз, когда кеч, подхваченный случайным течением, приблизился к берегу, чернокожие, оставшиеся на борту, сбились в кучу, как испуганные овцы в загоне, заслышавшие вой мародера диких лесов. И не нужно было Ван Хорну кричать гребцам в вельботе: «Греби, греби, черти!» Судовая команда, поднимаясь со скамей, всем весом налегала на весла. Они знали, какая страшная судьба грозит им, если «Эренджи» застрянет на омываемом морем коралловом рифе. Они испытывали тот же страх, что и запуганная девушка внизу, в лазарете. В прошлом немало парней из Ланга-Ланга и Сомо попали на пиршественный стол в Суу, точно так же как парни из Суу поставляли лакомые блюда в Ланга-Ланга и Сомо. — Мой говорит, — обратился стоявший у руля Тамби к Ван Хорну, когда общее напряжение спало и «Эренджи» вышел в открытое море, — брат моего отца давно-давно пришел на это место на судне. На большая шхуна пришел брат моего отца. Все остались на этом месте в Суу. Брат моего отца парни Суу кай-кай. Ван Хорн вспомнил, как пятнадцать лет назад судно «Фэйр-Хатавей» было разграблено и сожжено племенем Суу, а весь экипаж перебит. Действительно, Соломоновы острова в начале двадцатого века были дикими островами, а самым диким из них был большой остров Малаита. Шкипер испытующе окинул взглядом покрытые лесом склоны горы Колорат, служившей указанием для мореходов; ее окутанная облаками вершина вздымалась в небо на четыре тысячи футов. Столбы дыма взвивались вверх над ее склонами и с вершин более низких гор. — Мой говорит, — усмехнулся Тамби, — много парни сидит в кусты и смотрит на судно. Ван Хорн улыбнулся с понимающим видом. Он знал этот древний способ передачи новостей сигналами дыма; сейчас из деревни в деревню от племени к племени давали сигнал: с подветренной стороны идет судно, вербующее рабочих. Все утро под свежим ветерком, подувшим с восходом солнца, «Эренджи» летел к северу, а учащавшиеся столбы дыма, вьющиеся над зелеными вершинами, возвещали о его курсе. В полдень Ван Хорн со своим неизменным спутником Джерри стоял на носу и следил за ходом кеча, а «Эренджи», лавируя, шел против ветра в пролив между двумя островками, поросшими группами пальм. Нужно было зорко следить за курсом. Из бирюзовых глубин повсюду вздымались коралловые рифы, являвшие гамму зеленых тонов от темного нефрита до бледного турмалина, а море, набегая на них, меняло оттенки цветов, лениво пенилось или вздымалось фонтаном искрящихся на солнце брызг. Столбы дыма по вершинам завели оживленную болтовню, и задолго до того, как «Эренджи» прошел через пролив, весь подветренный берег, от приморских жителей до отдаленнейших лесных деревень, знал, что судно-вербовщик направляется к Ланга-Ланга. Когда открылась лагуна, образованная цепью прибрежных островков, Джерри почуял запах жилья. По гладкой поверхности лагуны двигалось множество пирог: одни приводились в движение веслами, другие подгонялись свежим юго-восточным пассатом, надувавшим паруса из листьев кокосовых пальм. На пироги, слишком близко подходившие, Джерри грозно лаял, ощетинив шерсть и изображая яростного защитника белого господина, стоявшего подле него. И после каждой такой демонстрации он мягко тыкался холодной, влажной мордой в обожженную солнцем ногу шкипера. Войдя в лагуну, «Эренджи» понесся, пользуясь боковым ветром. Сделав полмили, он повернулся; передние паруса были спущены, захлопали грот и бизань, и якорь был отдан на глубине пятидесяти футов. Вода была так прозрачна, что можно было разглядеть на коралловом дне огромные извилистые двустворчатые раковины. Возвращавшихся в Ланга-Ланга рабочих не нужно было отвозить на берег в вельботе. Сотни пирог ждали по обе стороны «Эренджи», и каждого парня, с его сундучком и колокольчиком, вызывали десятки родственников и друзей. Ввиду царившего возбуждения Ван Хорн никого не пускал на борт. Меланезийцы в отличие от животных в атаку переходят так же быстро, как и в отступление. Два матроса стояли у ли-энфильдских ружей, сложенных на люке. Боркман следил, как одна половина команды занималась приборкой судна. Ван Хорн с Джерри, следовавшим за ним по пятам, руководил отплытием возвращавшихся в Ланга-Ланга чернокожих и зорко наблюдал за второй половиной судовой команды, охранявшей проволочное ограждение. А парни из Сомо расселись на своих сундучках, чтобы чернокожие из Ланга-Ланга не сбросили их вещи в поджидавшие пироги. Через полчаса шумная толпа отплыла на берег. Замешкалось только несколько пирог, и с одной из них Ван Хорн поманил на борт Нау-Хау, сильнейшего вождя из укрепленного поселка Ланга-Ланга. Большинство великих вождей племени были стариками, но Нау-Хау был молод и в отличие от большинства меланезийцев даже красив. — Здорово, царь Вавилонский! — поздоровался Ван Хорн, давший ему это прозвище за воображаемое сходство с семитами и грубую силу, наложившую отпечаток на его лицо и сказывавшуюся в походке. С детства приученный к наготе, Нау-Хау шествовал по палубе смело и не стыдясь. Все его одеяние состояло из затянутого вокруг талии ремня от чемодана. Между этим ремнем и голым телом был заткнут клинок поломанного ножа, дюймов в десять длины. Единственным его украшением являлась белая фарфоровая суповая тарелка. Она была просверлена, надета на шнурок из кокосовых волокон и свешивалась с шеи, покоясь на его груди и наполовину прикрывая сильные мускулы. Это было величайшее сокровище. Ни один человек на Малаите не имел целой суповой тарелки. Но суповая тарелка не вызывала смеха, как не казалась смешной и его нагота. Он был знатного рода. До него вождем был его отец, а сам он превзошел своего отца. Жизнь и смерть держал он в своих руках. Часто пользовался он этой властью, чирикая своим подданным на языке Ланга-Ланга: «Убей здесь» и «Убей там», «Ты умрешь» и «Ты будешь жить». Когда его отец, за год до того сложивший с себя сан, вздумал безрассудно вмешаться в государственные дела своего сына, тот призвал двух молодцов и повелел стянуть петлю из кокосовых волокон на шее отца, дабы отныне тот не дышал. Когда его любимая жена, мать первенца, осмелилась по глупости нарушить одно из его царственных табу, он приказал ее убить, и самолично и добросовестно съел всю, вплоть до мозга из переломанных костей, не подарив ни кусочка своим ближайшим друзьям. Царственным он был и по рождению, и по воспитанию, и по делам своим. И в походке его сквозило сознание своего царственного достоинства. Он выглядел царственным, как может выглядеть царственным великолепный жеребец или лев, нарисованный на фоне пустыни. Его торс, грудь, плечи, голова были великолепны. Великолепен был и ленивый, надменный взгляд из-под тяжелых век. В эту минуту на борту «Эренджи» царственной была храбрость Нау-Хау, хотя он знал, что ступает по динамиту. Давно уже он на горьком опыте узнал, что белый человек — тот же динамит и подобен таинственному смертоносному метательному снаряду, каким пользуются иногда белые. Еще будучи подростком, он участвовал в нападении на сандаловый куттер, который был даже меньше «Эренджи». Этой тайны он никогда не мог забыть. Двое из трех белых были убиты на его глазах, и на палубе им отрубили головы. Третий за минуту до того ускользнул вниз. И тогда куттер со всем своим богатством — железными кольцами, табаком, ножами и коленкором — взлетел на воздух и снова упал в море, разбитый на мельчайшие куски. То был динамит — тайна. А сам Нау-Хау, пролетев по воздуху и каким-то чудом уцелев, понял тогда, что белые люди — тот же динамит и в них та же тайна, как и в веществе, которым они оглушают целые стаи проворных голавлей или в случае необходимости взрывают самих себя и свои корабли, пришедшие по морю из далеких стран. И все же твердой, тяжелой поступью он шел по этому смертоносному веществу, из которого, как ему было известно, состоял Ван Хорн. И при этом осмеливался давить на это вещество, рискуя взрывом. — Мой говорит, — начал он, — почему твой слишком долго держал мой парень? То было вполне справедливое обвинение: рабочие, которых только что доставил Ван Хорн, пробыли в отлучке три с половиной года вместо трех. — Если ты, парень, будешь так разговаривать, я на тебя рассержусь много-много! — ощетинился в ответ Ван Хорн, а затем дипломатически прибавил, запустив руку в ящик и достав оттуда пригоршню табаку: — Лучше ты покури и заведи разговор о чем-нибудь хорошем. Но Нау-Хау величественно отстранил дар, несмотря на то, что ему очень хотелось его взять. — Много-много табаку мой есть, — солгал он, а затем спросил: — Как звать парень — ушел и не вернулся? Ван Хорн вытащил из складки набедренной повязки длинную и узкую отчетную книгу; и, глядя, как он перелистывает страницы, Нау-Хау ощущал динамитную, высшую власть белого человека, помогающую ему извлекать воспоминания из замаранных листов книги, а не из собственной головы. — Сати… — начал Ван Хорн, ведя пальцем по записи; глаза его, отрываясь от страницы, зорко следили за чернокожим вождем, стоявшим перед ним. А чернокожий вождь взвешивал, насколько удобен этот момент, чтобы подскочить к белому сзади и одним ударом ножа перерубить ему спинной мозг у основания шеи. — Сати, — читал Ван Хорн. — Прошлый муссон, как раз в это время, парень Сати болел животом много-много; потом парень Сати совсем нет. — Так перевел Ван Хорн на морской жаргон запись: «Умер от дизентерии 4 июля 1901 года». — Много работа парень Сати, долгое время, — вел свою линию Нау-Хау. — Что стало его деньги? Ван Хорн мысленно сделал подсчет. — Всего он заработал шесть раз по десять фунтов и два фунта золотыми деньгами, — перевел он шестьдесят два фунта жалованья. — Я платил вперед отцу один раз по десять фунтов и пять фунтов. Остался четыре раза по десять фунтов и семь фунтов. — Что стало четыре раза по десять фунтов и семь фунтов? — спросил Нау-Хау, который лишь произнес, но умом не мог постичь столь чудовищную сумму. Ван Хорн поднял руку. — Очень много торопишься, парень Нау-Хау. Парень Сати купил на плантации сундук за два раза по десять фунтов и один фунт. Ему, Сати, осталось два раза по десять фунтов и шесть фунтов. — Где два раза по десять фунтов и шесть фунтов? — спросил неумолимый Нау-Хау. — У меня, — кратко ответил капитан. — Дай два раза по десять фунтов и шесть фунтов. — Проваливай к черту! — отказал Ван Хорн, и в его голубых глазах чернокожий вождь почуял отблеск динамита, из которого сделаны белые люди, и перед ним встало видение того кровавого дня, когда он впервые увидел взрыв динамита и был подброшен на воздух. — Как звать старого парня в пироге? — спросил Ван Хорн, указывая на пирогу у борта «Эренджи». — Отец Сати? — Ему отец Сати, — подтвердил Нау-Хау. Ван Хорн позвал старика на борт, дал знак Боркману, чтобы тот следил за порядком на палубе и за поведением Нау-Хау, и спустился вниз за деньгами. Вернувшись, он, подчеркнуто не обращая внимания на вождя, обратился к старику: — Как тебя звать? — Мой парень Нино, — ответил тот дрожащим голосом. — Парень Сати мой. Ван Хорн взглянул на Нау-Хау, ожидая подтверждения. Тот кивнул, по обычаю Соломоновых островов вскинул голову вверх. Тогда Ван Хорн отсчитал в руку отца Сати двадцать шесть золотых соверенов. Нау-Хау тотчас же протянул руку и взял деньги. Двадцать золотых монет вождь оставил себе, а остальные шесть вернул старику. Ван Хорну до этого не было дела. Свой долг он выполнил и расплатился честно. Тирания вождя над своими подданными его не касалась. Оба господина — и белый и черный — были собой довольны. Ван Хорн уплатил долг; Нау-Хау по праву вождя отнял у старика заработок Сати. Но Нау-Хау не прочь был почваниться. Он отклонил предложенный в подарок табак, купил у Ван Хорна ящик табаку за пять фунтов и, настояв, чтобы его немедленно вскрыли, набил свою трубку. — Много хороших парней в Ланга-Ланга? — с невозмутимой вежливостью осведомился Ван Хорн, желая поддержать разговор и подчеркнуть свою беспечность. Царь Вавилонский усмехнулся, но не удостоил ответом. — Сойти на берег и прогуляться? — с вызывающим видом продолжал Ван Хорн. — Может, будет беда, — не менее вызывающе отозвался Нау-Хау. — Много-много дурной парень тебя кай-кай. От этих слов у Ван Хорна мурашки пробежали по голове, совсем как у Джерри, когда тот щетинился. — Эй, Боркман! — крикнул он. — Подтянуть вельбот! Когда вельбот остановился у борта «Эренджи», Ван Хорн с сознанием собственного превосходства спустился первым и затем пригласил Нау-Хау следовать за собой. — Тебе говорю, царь Вавилонский, — пробормотал он на ухо вождю, когда гребцы взялись за весла, — если какой парень мне повредит, пристрелю тебя. А затем взлетит на воздух Ланга-Ланга. И ты будешь идти подле меня. Не захочешь идти — конец тебе будет. Одинокий белый человек спустился на берег, сопровождаемый ирландским терьером, чье собачье сердце было переполнено любовью к нему, и черным царьком, благоговевшим перед динамитом белых людей. Ван Хорн, босой, чванливо разгуливал по поселку в три тысячи человек; его белый помощник, тяготевший к водке, наблюдал за порядком на палубе крохотного судна, ставшего на якорь у самого берега. А чернокожая команда вельбота с веслами в руках ждала, когда прыгнет на корму тот, кому они, не любя, служили и чьей головой они охотно завладели бы, не останавливай их страх перед ним. Ван Хорн и не думал раньше сходить на берег, но сделал это лишь в ответ на вызов чернокожего вождя. Около часу бродил он по поселку, держа правую руку у спуска автоматического пистолета и зорко следя за нехотя сопровождавшим его Нау-Хау. Вулканический гнев Нау-Хау готов был вспыхнуть при первом удобном случае. И во время этой прогулки Ван Хорну дано было увидеть то, что могли видеть лишь немногие белые, ибо Ланга-Ланга и соседние с ним островки — великолепные бусы, нанизанные вдоль подветренного берега Малаиты, — исключительны по своей красоте и совсем не исследованы. Первоначально эти островки представляли лишь песчаные отмели и коралловые рифы, омываемые морем, либо скрытые под водой. Только загнанные, несчастные создания, способные вынести невероятные тяготы, могли влачить на них жалкое существование. Но эти существа, спасшиеся от резни в деревнях, ускользнувшие от гнева и судьбы длинных свиней, предназначенных для кухонного котла, пришли на островки и выжили здесь. Они, знавшие раньше только лесную жизнь, познали соленую воду и приобрели навыки приморских жителей. Они изучили нравы рыб и моллюсков и изобрели крючки и лесы, сети и капканы для рыб и весь сложный аппарат, с помощью которого можно добыть изизменчивого, ненадежного моря плавающее мясо. Эти пришельцы похищали женщин из деревень, лежавших в глубине острова, плодились и размножались. Трудясь, как геркулесы, под палящим солнцем, они завоевали море. Свои коралловые рифы и песчаные отмели они обвели стенами из кораллового камня, украденного темными ночами в дальних поселениях. Не имея ни известки, ни долота, они построили отличные стены, противостоящие напору океана. И как мыши по ночам обкрадывают человеческие жилища, так и они обокрали остров, увезя на миллионах пирог богатый чернозем. Прошли века — и вот вместо голых песчаных отмелей, полускрытых водой, возникли обведенные стенами крепости. К морю были проведены спусковые полозья для длинных пирог, а стены защищались со стороны острова лагунами. Кокосовые пальмы, банановые деревья и величественные хлебные деревья давали им пищу и служили защитой от солнца. Их сады процветали. Их длинные, узкие военные пироги опустошали берега и мстили потомкам тех, кто преследовал и стремился пожрать их праотцев. Подобно беглецам, скрывшимся в соленых болотах Адриатики и воздвигшим дворцы мощной Венеции на глубоко вбитых сваях, эти жалкие, загнанные чернокожие упрочивали свою власть, пока не стали господами всего острова и не взяли в свои руки торговлю и торговые пути. Отныне и навсегда они принудили лесных жителей оставаться в лесах и не дерзать приближаться к морю. И здесь, среди отважных приморских жителей, Ван Хорн шел своей дорогой, рисковал и не верил в возможность близкой смерти. Он знал, что делает это для успеха вербовки рабочих, необходимых другим отважным белым людям на далеких островах. Через час Ван Хорн переправил Джерри на корму вельбота и сам последовал за ним, оставив на берегу ошеломленного и недоумевающего чернокожего царька. А царек более чем когда-либо проникся уважением к состоящим из динамита белым людям, привозившим ему табак, коленкор, ножи и топоры и неизменно извлекавшим прибыль из этой торговли.
Глава одиннадцатая
Вернувшись на борт, Ван Хорн приказал немедленно поставить паруса и сняться с якоря. «Эренджи», лавируя, пронесся по лагуне, покрывая десять миль, отделявшие его от Сомо. По пути Ван Хорн зашел в Бину, чтобы приветствовать вождя Джонни и спустить на берег несколько человек рабочих. Теперь оставалось совершить путешествие до Сомо — последний рейс «Эренджи» и многих, находившихся на его борту. Прием, оказанный Ван Хорну в Сомо, был полной противоположностью приему в Ланга-Ланга. Как только спустили на берег возвратившихся рабочих — а это было сделано в три тридцать пополудни, — Ван Хорн пригласил на борт вождя Башти. И вождь Башти явился. Несмотря на свой престарелый возраст, это был человек проворный и живой и очень добродушно настроенный — до того добродушно, что он непременно пожелал захватить с собой на борт трех своих пожилых жен. В прошлом этому не бывало примера. Никогда не разрешал он ни одной из своих жен появляться перед лицом белого, и Ван Хорн был до того польщен этой честью, что презентовал каждой глиняную трубку и двенадцать пачек табаку. Несмотря на поздний час, торговали бойко. Башти захватил львиную долю заработка, принадлежавшего отцам двух умерших парней, и щедро покупал товары «Эренджи». Когда Башти пообещал много новых рекрутов, Ван Хорн, зная изменчивый характер дикарей, стал настаивать на том, чтобы записать их немедленно. Башти колебался и предлагал отложить до завтра, а Ван Хорн уверял, что удобней всего записать их именно сейчас. Он говорил очень убедительно, и старый вождь послал наконец пирогу на берег за парнями, предназначавшимися для отправки на плантации. — Ну, что ты на это скажешь? — спросил Ван Хорн Боркмана, у которого глаза были мутнее обычного. — Никогда еще старый плут не бывал так любезен. Быть может, у него что-нибудь неладное на уме? Помощник поглядел на многочисленные пироги, стоявшие у борта «Эренджи», заметил, сколько было в них женщин, и покачал головой. — Когда они что-нибудь затевают, своих женщин они отправляют в лес, — сказал он. — Ничего нельзя предвидеть с этими неграми, — проворчал капитан. — Сметки у них, может, и не хватает, но время от времени они выдумывают что-нибудь новенькое. А Башти — самый сметливый старый негр, какого я когда-либо знал. Что может помешать ему задумать такую штуку и повести игру шиворот-навыворот? До сих пор они не таскали за собой женщин, когда затевали недоброе, но это еще не значит, что они всегда так будут поступать. — Даже у Башти не хватит ума на такую штуку, — возразил Боркман. — Просто он настроен сегодня добродушно и раскошелился. Ведь он уже купил у вас на сорок фунтов всякого добра. Вот почему он хочет доставить вам новую партию рабочих, и, готов биться об заклад, он надеется, что половина перемрет и он сможет растратить их жалованье. Доводы были веские. Тем не менее Ван Хорн покачал головой. — Все-таки глядите в оба, — посоветовал он. — И помните: нам не следует одновременно спускаться вниз. И к водке не прикасайтесь, пока мы не выберемся из этой каши. Башти был невероятно тощ и поразительно стар. Он сам не знал, сколько ему лет; он знал только, что ни один из его племени еще не родился на свет, когда он был мальчишкой. Он помнил дни, когда родился кое-кто из стариков, живших еще и по сей день; но теперь это были дряхлые, трясущиеся старцы, с подслеповатыми глазами, беззубые, глухие или парализованные. Он не походил на них. Он даже мог похвалиться остатками зубов — дюжиной корней, стершихся до уровня десен, которыми ему и сейчас еще удавалось разжевывать пищу. Хотя прежней юношеской выносливости у него уже не стало, но мыслил он по-прежнему самостоятельно и ясно. И благодаря его ясному мышлению племя стало сильнее с тех пор, как он сделался вождем. То был меланезийский Наполеон в маленьком масштабе. Воюя, он сумел отодвинуть границы лесных жителей. Рубцы на его высохшем теле свидетельствовали о том, что он сражался в первых рядах. Управляя, он поощрял сильных и способных людей своего племени. А в политике он всегда одерживал верх над соседними вождями в заключении выгодных договоров. И теперь в его живом уме родился план, с помощью которого он надеялся перехитрить Ван Хорна и подставить ножку великой Британской империи; о ней у Башти имелись лишь самые смутные сведения. Дело в том, что Сомо имел свою историю. По странному стечению обстоятельств приморское племя обосновалось на земле, где обычно живут лишь лесные жители. Фольклор Сомо бросает чуть брезжущий свет в глубь времен. Однажды, давным-давно, в незапамятные времена, некто Сомо, сын Лоти, который был вождем островной крепости Умбо, поссорился со своим отцом и бежал от его гнева. С ним ушли на двенадцати пирогах другие юноши. В течение двух муссонов они странствовали, как Одиссей. Миф повествует, что они дважды объехали Малаиту и добрались до Уги и Сан-Кристобаля. После успешных боев они похищали женщин, и, наконец, обремененный женщинами и потомством, Сомо обосновался на берегу большого острова, оттеснил лесных жителей и основал приморскую крепость Сомо. С фронта, со стороны моря, эта крепость была построена как всякая морская крепость и обведена коралловыми стенами, чтобы выдерживать натиск моря и случайных врагов, а в стенах были проделаны спусковые полозья для длинных пирог. С тыла, где крепость соприкасалась с джунглями, она походила на любую деревушку. Но Сомо, родоначальник нового племени, углубил свои владения в лесах до уступов гор, а на уступах основал деревни. Только великих смельчаков, прибегавших к нему, принимал Сомо в свое племя. Хилых же и трусливых племя немедленно поедало, и невероятная повесть о многочисленных головах, украшавших их дома-пироги, превратилась в миф. И это племя, территорию и крепость Башти унаследовал спустя много поколений. Он приумножил свое богатство и не прочь был продолжать свою умную политику. Долго и тщательно обдумывал он план, созревший в его голове. Три года назад племя Ано-Ано, жившее на много миль ниже вдоль берега, овладело судном-вербовщиком, уничтожило его и всю команду и захватило баснословное количество табака, коленкора, бус, разных других товаров, ружей и амуниции. Расплата была ничтожна. Спустя полгода военное судно сунуло нос в лагуну, бомбардировало Ано-Ано и загнало всех обитателей его в джунгли. Десант тщетно преследовал беглецов по тропинкам джунглей. В конце концов он удовольствовался тем, что убил сорок жирных свиней и срубил сотню кокосовых пальм. Едва военное судно вышло в открытое море, как племя Ано-Ано вернулось из зарослей в свою деревню. Бомбардировка легких лесных хижин особого вреда не приносит. Поработав несколько часов, женщины привели все в порядок. Что же касается сорока убитых свиней, то все племя накинулось на туши, зажарило их под горячими камнями и устроило пиршество. Нежные верхушки кокосовых пальм также были съедены, а тысячи кокосовых орехов очищены, раздроблены, высушены на солнце и прокопчены в дыму; полученную из них копру можно было продать первому торговому судну. Таким образом, положенное наказание превратилось в праздник и пиршество. Это произвело впечатление на бережливого и расчетливого Башти. А что принесло пользу Ано-Ано, то, по его мнению, должно было пойти и на благо Сомо. Раз таковы обычаи белых людей, которые плавают под британским флагом, убивают свиней и срубают кокосовые пальмы в отместку за пролитую кровь и захваченные головы, то Башти не видел основания, почему бы и ему не извлечь выгоды, как то сделало племя Ано-Ано. Цена, какую, возможно, придется уплатить в будущем, до нелепости не отвечала этой прямой выгоде. А помимо этого, уже больше двух лет прошло с тех пор, как в последний раз заглядывал на Соломоновы острова британский военный корабль. Итак, Башти, захваченный новым прекрасным замыслом, кивнул головой, разрешая своему народу подняться на борт и вести торг. Очень немногие из его подданных знали, какова его идея и что у него вообще есть какой-то замысел. Торговля оживилась по мере того, как к борту подходили новые пироги и чернокожие мужчины и женщины заполняли палубу. Затем появились рекруты — только что пойманные молодые дикари, робкие, как лани, но повинующиеся закону родительскому и племенному. В сопровождении отцов, матерей и родственников, следовавших за ними группами, они спускались вниз в каюту «Эренджи», где становились перед лицом великого белого господина. Белый господин записывал их имена в какую-то таинственную книгу, заставляя их для утверждения трехгодичного контракта прикасаться правой рукой к перу, которым он писал, и затем уплачивал главе семьи жалованье товарами за первый год. Старший Башти сидел поблизости и по обыкновению забирал себе львиную долю из каждого аванса. Три его старых жены смиренно сидели на корточках у его ног; одно их присутствие вселяло уверенность в Ван Хорна, который радовался такому обороту дел. Похоже было на то, что его рейс близится к концу и с Малаиты он отплывет с полным комплектом рабочих. На палубе, где находился Боркман, всюду вертелся Джерри, обнюхивая ноги чернокожих, которых он никогда раньше не встречал. Дикая собака сошла на берег вместе с вернувшимися рабочими, а из них назад на судно пришел только один. То был Леруми. Мимо него Джерри несколько раз проходил, ощетинившись, но Леруми холодно его игнорировал, а затем спустился вниз, купил ручное зеркальце и взглядом заверил старого Башти, что все готово и можно приступить в первый благоприятный момент. И этот момент наступил по вине Боркмана, вследствие его небрежности и неисполнения приказания капитана. Боркман не отказался от водки. Он не почуял того, что надвигалось со всех сторон. На корме, где он стоял, почти никого не было. Чернокожие обоего пола, болтая с судовой командой, толпились на шканцах и на носу. Боркман направился к мешкам с бататом, привязанным позади бизань-мачты, и достал свою бутылку. Перед тем как глотнуть, он из предосторожности оглянулся. Поблизости стояла безобидная женщина средних лет, жирная, коренастая и уродливая, и кормила двухлетнего ребенка. Конечно, с этой стороны опасаться было нечего. Кроме того, она, несомненно, была безоружна, так как на ней не было ни клочка одежды, где бы можно было спрятать оружие. У поручней, футах в десяти в сторону, стоял Леруми и сладко улыбался перед только что купленным зеркальцем. В это зеркальце Леруми и увидел, как Боркман наклонился к мешкам с бататом, затем выпрямился и отклонил голову, присосавшись к бутылке, перевернутой дном кверху. Подняв правую руку, Леруми дал сигнал женщине, сидевшей в пироге у борта «Эренджи». Она быстро наклонилась, схватила что-то и бросила Леруми. То был томагавк с длинной рукояткой. Обух у него был сделан, как у обыкновенного каменного топора, а рукоятка туземной работы, была грубо инкрустирована перламутром и обмотана плетением из кокосовых волокон. Лезвие топора было остро, как бритва. Томагавк бесшумно пролетел по воздуху в руку Леруми, а через секунду так же бесшумно перелетел к жирной женщине с ребенком, стоявшей позади помощника. Она обеими руками вцепилась в рукоятку, а ребенок, сидевший верхом на ее бедре, слегка отогнувшись назад, ухватился за мать ручонками. Женщина еще медлила нанести удар, так как голова Боркмана была откинута назад и мешала перерубить позвоночный столб у затылка. Много глаз следило за надвигающейся катастрофой. Видел это и Джерри, но не понимал. Несмотря на всю свою вражду к неграм, он не мог, конечно, догадаться, что нападение совершится по воздуху. Тамби, случайно оказавшийся подле люка, увидел и потянулся за ли-энфильдским ружьем. От Леруми не ускользнуло движение Тамби, и он свистом дал сигнал женщине. Боркман, не сознавая, что наступила последняя секунда его жизни, как не сознавал он и первой ее секунды, опустил бутылку и поднял голову. Острое лезвие вонзилось в шею. Что ощутил или подумал Боркман — если он мог что-либо ощущать или думать — в эту вспышку секунды, когда его мозг отделялся от остального тела, — тайна, неразрешимая для всех живых. Ни один человек с перебитым спинным мозгом не произносил еще ни слова, которое бы осветило его ощущение. Тело Боркмана осело на палубу, мягко, спокойно, с той же быстротой, с какой был нанесен удар. Он не закачался, не пошатнулся. Он сел так же внезапно, как проколотый пузырь с воздухом. Бутылка выпала из его мертвой руки на мешки с бататом, а остатки ее содержимого тихонько забулькали по палубе. Действие развивалось с такой быстротой, что Тамби выстрелил в женщину и промахнулся раньше, чем Боркман осел на палубу. Для второго выстрела времени не было, так как женщина, бросив томагавк и держа обеими руками ребенка, прыгнула к поручням и перескочила за борт, опрокинув оказавшуюся под ней пирогу. События развернулись молниеносно. Из пирог, стоявших по обе стороны «Эренджи», хлынул сверкающий, искристый дождь томагавков с рукоятками, инкрустированными перламутром. Парни из Сомо, стоявшие на палубе, ловили их на лету, а бывшие на борту женщины на четвереньках уползали прочь с поля битвы. В тот момент, когда женщина, убившая Боркмана, прыгнула за борт, Леруми наклонился поднять брошенный ею томагавк, а Джерри, почуяв кровавую войну, вцепился в руку, тянувшуюся за томагавком. Леруми выпрямился и в протяжном вое излил свою злобу и ненависть к щенку. И в то же время он изо всех сил лягнул подскочившего к нему Джерри. Удар пришелся прямо в брюхо и поднял Джерри высоко в воздух. А в следующую секунду, пока Джерри перелетал через колючую проволоку за борт, а с пирог передавали на судно снайдеровские ружья, Тамби, почти не прицеливаясь, выстрелил вторично. Леруми, снова потянувшийся за томагавком, не успел даже опустить ногу, лягнувшую щенка, как пуля попала ему в сердце. Он осел на палубу и вместе с Боркманом погрузился в тишину смерти. Джерри еще не успел коснуться воды, как слава удачного выстрела потеряла всю прелесть для Тамби. В тот самый момент, когда он нажимал спуск, делая этот выстрел, томагавк врезался в его череп, и для него навсегда померкло видение тропического мира, омываемого океаном и палимого солнцем. С такой же быстротой и почти одновременно перешли в небытие остальные люди команды, и палуба превратилась в бойню. Голова Джерри вынырнула из воды под выстрелы снайдеровских ружей и шум смертельной битвы. Чья-то мужская рука опустилась за борт и вытащила его за загривок в пирогу. Джерри рычал и пытался укусить своего спасителя, он был не столько рассержен, сколько безумно обеспокоен судьбой шкипера. Он знал, совсем о том не думая, что на борту «Эренджи» разразилась величайшая катастрофа, какую смутно предощущает все живое, а знает только человек и называет ее «смерть». Он видел, как пал Боркман. Он слышал падение Леруми. А теперь до него доносились ружейные выстрелы, торжествующий вой и отчаянные крики. Беспомощно барахтаясь, Джерри визжал, лаял, задыхался и кашлял, пока чернокожий не швырнул его грубо на дно пироги. Затем поднялся на ноги и сделал два прыжка: первый — на нос пироги и второй — отчаянный и безнадежный, — не думая о себе, он прыгнул к поручням «Эренджи». Джерри не допрыгнул всего на один ярд и снова погрузился в море. Он выплыл на поверхность и отчаянно поплыл, давясь и захлебываясь соленой водой, ибо он все еще выл, визжал и лаял, охваченный тоской по шкиперу и желанием быть с ним на борту. Но мальчик лет двенадцати, сидевший в другой пироге и видевший борьбу Джерри с первым чернокожим, обошелся с ним безо всяких церемоний; сперва он ударил его по голове веслом плашмя, а затем ребром. Мрак окутал ясный маленький мозг, охваченный любовью, и чернокожий втащил в свою пирогу слабого, неподвижного щенка. Тем временем внизу, в каюте «Эренджи», пока Джерри, еще не коснувшись воды, летел по воздуху, отброшенный ногой Леруми, Ван Хорн в одной великой и глубокой вспышке секунды познал свою смерть. Недаром старик Башти жил дольше всех своих соплеменников и был мудрейшим из правителей со времен Сомо. Живи он в иное время и в ином месте, он мог бы стать Александром или Наполеоном. Но и теперь он удивительно хорошо проводил свою роль в своем маленьком королевстве на подветренном берегу Малаиты, мрачного острова каннибалов. То была великолепная игра. Хладнокровный и добродушный, строго соблюдая свои права вождя, Башти улыбался Ван Хорну, давал своим молодым подданным царственное разрешение записываться в трехлетнее рабство на плантациях и брал свою долю из каждого аванса за первый год. Аора, которого можно было назвать его первым министром и казначеем, принимал подати по мере их выплаты и набивал ими большие мешки, сплетенные из кокосовых волокон. За спиной Башти на койке сидела на корточках стройная тринадцатилетняя девочка с гладкой кожей и отгоняла опахалом мух от его царственной головы. У ног его сидели три старых жены; самая старшая, беззубая и частично парализованная, повинуясь его кивку, то и дело подставляла ему грубо сплетенную корзинку из пандановых листьев. А Башти, чутко прислушиваясь к первому признаку мятежа на палубе, поминутно кивал головой и запускал руку в подставленную корзинку то за бетелем, кусочком известки и неизменным зеленым листом для обертывания жвачки; то за табаком, чтобы набить свою короткую глиняную трубку; то за спичками, чтобы разжечь трубку, которая почему-то частенько гасла. Старуха все время подносила к нему корзинку, и, наконец, он в последний раз запустил в нее руку. Это произошло в тот момент, когда на палубе топор поразил Боркмана, а Тамби выстрелил в женщину из своего ли-энфильдского ружья. И сухая, старая рука Башти, покрытая сложной сетью вздувшихся вен, извлекла огромный пистолет — такой древний, что его с успехом мог носить один из «круглоголовых» [11] Кромвеля, либо соратник Кироса [12] и Лаперуза [13]. Это был кремневый пистолет, длиной в полруки, а зарядил его в тот день не кто иной, как сам Башти. Ван Хорн действовал так же быстро, как и Башти, но все же недостаточно быстро. В тот самый момент, когда рука его схватилась за современный автоматический пистолет, вынутый из кобуры и лежавший у него на коленях, древний пистолет выстрелил. Заряженный двумя кусками свинца и круглой пулей, он сработал как ружье. К Ван Хорну метнулось пламя, и он познал мрак смерти раньше, чем с губ его успело сорваться: «Черт побери!» А пальцы, схватившие автоматический пистолет, разжались и уронили его на пол. Чересчур набитый черным порохом, древний пистолет возымел еще одно действие. Он разорвался в руке Башти. Пока Аора, неведомо откуда извлекший нож, отделял голову белого господина, Башти с юмором глядел на свой указательный палец правой руки, болтавшийся на лоскутке кожи. Он схватил его левой рукой, быстро дернул, перекрутил и оторвал; затем, ухмыляясь, швырнул, как игрушку, в корзинку из пандановых листьев, которую все еще держала перед ним одной рукой его жена, зажимая другой окровавленный лоб, пораненный осколком пистолета. Одновременно с этим трое молодых рекрутов, сопровождаемые своими отцами и дядьями, спустились в каюту и прикончили единственного матроса судовой команды, находившегося внизу. Башти, проживший достаточно долго, чтобы сделаться философом, мало обращал внимания на боль, а еще того меньше на потерю пальца. Он гордо чирикал и ухмылялся, довольный удачным завершением своего плана, а его три старых жены, вся жизнь которых зависела от кивка его головы, распростерлись перед ним на полу, раболепно принося свои поздравления. Долго прожили они, и этой долгой жизнью обязаны были лишь его царственной прихоти. Они кривлялись, барахтались и лопотали у ног господина их жизни и смерти, доказавшего на этот раз, как и всегда, свою бесконечную мудрость. А тощая, пораженная ужасом девушка, стоя на четвереньках, выглядывала из лазарета, как испуганный кролик из своей норы, и, взирая на эту сцену, понимала, что близок кухонный котел и конец жизни.
Глава двенадцатая
Джерри никогда не узнал, что произошло на борту «Эренджи». Знал он только, что судно погибло, так как видел его гибель. Мальчик, оглушивший его веслом, крепко связал ему лапы, выбросил на берег и позабыл о нем, увлеченный ограблением «Эренджи». С громкими криками и песнями красивую яхту из тикового дерева длинные пироги подтянули к берегу, как раз к тому месту, где у подножия коралловых стен лежал Джерри. Костры пылали на берегу; на борту зажгли фонари, и среди великого ликования ограбили и ободрали «Эренджи». На берег снесли все, что можно было захватить, начиная с железных болванок, служивших балластом, и кончая бегучим такелажем и парусами. В ту ночь в Сомо не спал ни один человек. Даже самые крохотные ребятишки топтались вокруг пиршественных костров или, сытые по горло, валялись врастяжку на песке. В два часа ночи, по приказанию Башти, корпус судна был подожжен. И Джерри, томясь от жажды, уже не имея сил визжать, беспомощно лежал со связанными ногами на боку и видел, как был охвачен огнем и дымом тот плавучий мир, который он так недавно узнал. При свете горевшего судна старый Башти разделил добычу. Никто из всего племени не был обойден. Даже жалкие рабы, бывшие жители лесов, все время своего рабства трепетавшие от страха быть съеденными, получили по глиняной трубке и по нескольку пачек табаку. Большую часть товаров, не подлежащих дележу, Башти отправил в свой большой травяной дом. Вся оснастка и богатое оборудование кеча было сложено в нескольких сараях для пирог. А в дьявольских домах колдуны принялись за работу, высушивая многочисленные головы над тлеющими кострами; а голов было много, так как на борту «Эренджи», помимо судовой команды, находилась дюжина рабочих из Поола и несколько парней из Малу, которых Ван Хорн еще не доставил на родину. Однако не все они были убиты. Башти категорически воспретил поголовное избиение. Но руководствовался он при этом не гуманностью, а тонким расчетом. Обречены они были все, но Башти никогда не видел льда, не знал о его существовании и не был знаком с холодильниками. Он знал лишь один способ сохранить мясо свежим, а именно — хранить его живым. И пленники были сложены в самом большом сарае для пирог, где помещался «мужской дом» [14] и куда под страхом мучительной смерти не смела войти ни одна женщина. Связанных, как кур или свиней, их свалили на утрамбованный земляной пол, под которым на незначительной глубине лежали останки древнейших вождей, а над головой, обернутые в травяные циновки, висели предшественники Башти, включая и его отца. Сюда же принесли из лазарета и тощую маленькую негритянку, так как она была предназначена для съедения, а табу не распространялось на приговоренных к кухонному котлу. Ее бросили связанной на пол среди чернокожих, которые, бывало, так насмехались над ней и дразнили, уверяя, что Ван Хорн откармливает ее для кухонного котла. В этот же дом принесли и Джерри и бросили его на пол. Анго, глава колдунов, наткнулся на него на берегу и, несмотря на протесты мальчика, требовавшего щенка как свою личную добычу, приказал отнести в сарай для пирог. Когда его проносили мимо пиршественных костров, он почуял, что это за пиршественные блюда. И как ни ново было для него это открытие, он ощетинился, зарычал и попробовал освободиться от пут. Когда же его бросили на пол, он снова ощетинился и зарычал на своих товарищей по несчастью, не понимая, что и они попали в беду. Так как на негров его приучили смотреть как на вечных врагов, то и теперь он считал их ответственными за несчастье, постигшее «Эренджи» и шкипера. Ведь Джерри был только собакой, с собачьим ограниченным умом и к тому же очень молодой. Но он не долго рычал на пленников. Смутный инстинкт подсказал ему, что и они тоже несчастны. Некоторые были тяжело ранены и все время охали и стонали. Не отдавая себе в том отчета, Джерри понял, что их положение так же тягостно, как и его. А ему и в самом деле пришлось скверно. Он лежал на боку, а веревки так туго стягивали его лапы, что врезались в нежное тело и мешали кровообращению. Он изнывал от жажды и с пересохшим языком и горлом задыхался в жаре. Жутким местом был этот дом для пирог, наполненный стонами и вздохами; трупы под полом, создания, обреченные в скором времени стать трупами, на полу; трупы, висящие в воздушных гробах, над головой. Длинные черные пироги, остроносые, напоминающие хищных чудовищ с огромными клювами, смутно вырисовывались при свете тлеющего костра, у которого сидел древний старик племени Сомо за своей нескончаемой работой — прокапчиванием дымом головы дикаря. Высохший, слепой и дряхлый, лопоча и кривляясь, как большая обезьяна, он то и дело поворачивал во все стороны голову, подвешенную в едком дыму, и горсть за горстью подбрасывал гнилую труху в тлеющий костер. При редких вспышках тусклого костра, сквозь темные поперечные балки проглядывал конек крыши, покрытый циновкой из кокосовых волокон. Некогда эти волокна были двух цветов — черного и белого, но от дыма приняли почти однотонную грязновато-коричневую окраску. С поперечных балок на длинных крученых веревках свешивались головы врагов, захваченные во время столкновений в джунглях и морских набегов. Все помещение дышало гниением и смертью, и сам слабоумный старик, прокапчивающий в дыму символ смерти, был на краю могилы. Перед рассветом несколько десятков чернокожих с громкими криками приволокли одну из больших военных пирог. Руками и ногами они расчистили место для пироги, расталкивая и отбрасывая в сторону связанных пленников. Они отнюдь не деликатничали с мясом, дарованным им благосклонной судьбой и мудростью Башти. Потом они расселись вокруг, покуривая из глиняных трубок, и, чирикая и смеясь странным тонким фальцетом, стали перебирать события прошедшего дня и ночи. Время от времени то один, то другой растягивался и тут же засыпал, ничем не покрывшись, так как от рождения они привыкли спать нагими даже под палящими лучами солнца. Когда стало рассветать, не спали только тяжело раненные или слишком туго связанные веревками да дряхлый старик, который все же был моложе Башти. Когда мальчик, оглушивший Джерри лопастью весла и предъявлявший на него свои права, прокрался в дом, старик его не услышал. И не увидел, потому что был слеп. Он продолжал, безумно хихикая и бормоча что-то, поворачивать голову, коптившуюся в дыму, и подбрасывать труху в тлеющий костер. Никто не обязан был трудиться над этим ночью, даже он, ни на что иное не способный. Но возбуждение, царившее после захвата «Эренджи», передалось и его поврежденному мозгу; смутно вспоминалась ему былая сила, и он принял участие в триумфе Сомо, занявшись копчением головы, которая являлась символом этого триумфа. Но двенадцатилетний мальчик, прокравшийся в дом, осторожно шагал через спящих и пробивал себе дорогу среди пленных, замирая от страха. Он знал, какое табу нарушает. Он не дорос даже до того, чтобы покинуть травяной кров своего отца и спать с юношами в доме для пирог, не говоря уже о доме, где спали молодые мужчины. И теперь, вторгшись в священную обитель вполне созревших и признанных взрослыми мужчин Сомо, он знал, что рискует своей жизнью, со всеми ее смутно предощущаемыми тайнами и стремлениями. Но он хотел во что бы то ни стало добыть Джерри, и добыл-таки его. Только тощая маленькая негритянка, предназначенная для кухонного котла, вытаращив от ужаса глаза, видела, как мальчик схватил Джерри за связанные лапы и вынес его из этой кладовой живого мяса. Героическое смелое сердечко Джерри заставило бы его огрызнуться на такое грубое обращение, если бы он не был слишком истощен: из пересохшей глотки не вырывалось ни единого звука. В каком-то полукошмаре, жалкий, беспомощный, почти без сознания, он смутно ощущал, словно между двумя страшными сновидениями, что его тащат головой вниз из дома, где пахнет смертью, проносят через затихшую деревню и несут вверх по тропинке, осененной высокими ветвистыми деревьями, лениво шелестящими под первым дыханием утреннего ветерка.
Глава тринадцатая
Как узнал впоследствии Джерри, мальчика звали Ламаи, и он нес щенка к себе домой. Незавидный был этот дом, даже среди травяных хижин каннибалов. На земляном полу, плотно утрамбованном многолетней грязью, жили отец и мать Ламаи с потомством, состоявшим из четырех младших его братьев и сестер. Тростниковая крыша, протекавшая при сильном ливне, еле держалась. Дырявые стены вообще не были защитой от дождя. Дом Лумаи, отца Ламаи, был самым жалким жилищем во всем Сомо. Лумаи, хозяин дома и глава семьи, в отличие от большинства малаитян, был толст. И, должно быть, этой тучностью и объяснялось его добродушие и леность. Но жужжащей мухой в эту радостную беспечность врывалась его жена Ленеренго — самая сварливая женщина во всем Сомо, настолько же тощая, насколько ее супруг был шарообразен; язык у нее был столь остер, сколь сладкоречив у него; ее кипучая энергия служила противовесом его бесконечной лени; и от рождения мир казался ей пропитанным горечью, тогда как он ощущал лишь его сладость. Мальчик обошел дом, по дороге заглянул внутрь, где его отец и мать лежали в противоположных углах, ничем не прикрытые, а посредине, на полу, свернувшись в клубок, как выводок щенят, спали его голые братья и сестры. Вокруг дома, который, по правде сказать, сильно смахивал на звериную берлогу, был рай земной. Воздух был пряный, напоенный сладким благоуханием диких ароматных растений и великолепных тропических цветов. Над головой три хлебных дерева переплетали благородные ветви. Бананы и смоковницы были отягощены гроздьями зреющих плодов. А огромные золотистые дыни-папайя, уже созревшие, свешивались с тонкоствольных деревьев, диаметр которых не достигал и одной десятой диаметра росших на них плодов. Но Джерри самым восхитительным показалось журчание и плеск незримого ручейка, пробивающего себе путь среди мшистых камней, под прикрытием нежных и изящных папоротников. Ни одна королевская оранжерея не могла сравниться с этой дикой тропической растительностью, залитой солнцем. Обезумевший от журчания воды, Джерри должен был выносить объятия и ласки мальчика; тот присел перед ним на корточки и, раскачиваясь взад и вперед, затянул странную, мурлыкающую песенку. А Джерри, не наделенный даром речи, не мог рассказать ему о своей невыносимой жажде. Затем Ламаи крепко привязал его плетеной веревкой и снял путы, врезавшиеся в его лапы. От неправильного кровообращения у Джерри онемели все члены, и, кроме того, не прикасаясь к воде почти целый тропический день и всю ночь, он так ослабел, что, поднявшись на ноги, зашатался и упал, и так при каждой попытке встать шатался и падал. Тут Ламаи понял или догадался. Он схватил кокосовую плошку, прикрепленную к концу бамбуковой палки, погрузил ее в заросль папоротников и подставил Джерри, наполненную до краев драгоценной водой. Сначала Джерри пил, лежа на боку; потом вместе с влагой жизнь влилась в его иссохшие сосуды, и вскоре он смог подняться на ноги, все еще слабый и дрожащий, и, широко расставив лапы, продолжал лакать. Мальчик весело чирикал, любуясь этим зрелищем, а Джерри, почувствовав в себе достаточно бодрости, смог заговорить на красноречивом собачьем языке. Он высунул нос из плошки и розовым языком, похожим на кусок ленты, лизнул руку Ламаи. А Ламаи, в восторге от того, что они поняли друг друга, подсунул плошку, и Джерри снова стал пить. Он пил долго. Он пил до тех пор, пока его впавшие от зноя бока не раздулись, как шар, а в промежутках он в знак благодарности лизал черную руку Ламаи. Все шло хорошо, и так бы и продолжалось, если бы не проснулась мать Ламаи — Ленеренго. Переступив через свой черный выводок, она подняла пронзительный крик, укоряя своего первенца за то, что он привел в дом лишний рот, и тем заставит ее хлопотать по хозяйству еще больше. Затем последовала перебранка, из которой Джерри не понял ни слова, но смысл уяснил. Ламаи был с ним и за него. Мать Ламаи была против него. Она визгливо выражала свое глубочайшее убеждение, что сын ее дурак и даже хуже дурака, так как дурак и тот посочувствует матери, обремененной трудом. Тут она стала взывать к спавшему Лумаи; тот проснулся, грязный и жирный, и забормотал ласковые слова на диалекте Сомо, уверяя, что это прекраснейший мир, что все щенки и первенцы — восхитительные создания, что сам он еще ни разу не умирал с голоду, а спокойствие и сон — прекраснейшие вещи, когда-либо выпадавшие на долю смертного; и в подтверждение сего, возвращаясь к мирному спокойствию сна, он уткнулся носом в бицепс руки, служившей ему подушкой, и сразу же захрапел. Но Ламаи, упрямый, как пень, злобно топая ногами и прекрасно зная, что путь к отступлению открыт и он сможет удрать, если мать на него накинется, продолжал отстаивать щенка. Кончилось тем, что, многословно обрисовав ничтожество отца Ламаи, Ленеренго снова улеглась спать. Одна идея порождает другую. Ламаи узнал, как ненасытна была жажда Джерри, и это навело его на мысль, что, быть может, Джерри в не меньшей мере голоден. Подбросив сухие ветви в тлеющие угли, оставшиеся в золе, он развел большой костер, затем навалил на него камней из ближайшей кучи; все камни были закопчены, так как не раз служили для этой цели. Потом он достал из воды ручейка плетеный мешок и вынул из него жирного лесного голубя, которого он накануне поймал в силок. Голубя он завернул в листья и, оградив от огня камнями, засыпал сверху землей. Когда, спустя некоторое время, он вытащил голубя и снял обуглившиеся листья, распространился такой аппетитный запах, что Джерри навострил уши и ноздри у него затрепетали. Мальчик разодрал на части дымящуюся птицу, и началось пиршество Джерри, которое продолжалось до тех пор, пока последний лоскуток мяса не был содран с кости, а кости разгрызены и проглочены. И в продолжение всего пиршества Ламаи ухаживал за Джерри, мурлыкал свою песенку, гладил и ласкал его. Что же касается Джерри, то он, утолив голод и жажду, уже не столь сердечно отвечал на эти ласки. Он был только вежлив, и в ответ на ласку, поблескивая глазами, вилял хвостом, и, по своему обыкновению, извивался всем телом; но в этом проглядывало какое-то беспокойство, он то и дело прислушивался к отдельным звукам и страстно хотел удрать. Это не укрылось от мальчика, и перед тем, как улечься спать, он обвязал вокруг шеи Джерри веревку, а конец ее привязал к дереву. Джерри некоторое время натягивал веревку, а потом сдался и заснул. Но ненадолго. Слишком томила его мысль о шкипере. Он знал — и в то же время не знал, — что шкипера постигло непоправимое высшее несчастье. Сначала он тихонько визжал и скулил, а затем вонзил свои острые зубы в плетеную веревку и жевал ее до тех пор, пока она не перетерлась. Освободившись, Джерри, как голубь, возвращающийся домой, понесся стрелой прямо к берегу моря, по которому плавал «Эренджи» со шкипером. Из Сомо почти все разбрелись, а те, кто остался, спали сладким сном. Поэтому никто не досаждал Джерри, пока он пробегал по извилистым тропинкам между многочисленными домами и мимо зловещего места, где люди, высеченные из цельного куска дерева, сидели в разинутой пасти акул. Племя Сомо, со времени своего основателя Сомо, поклонялось богу-акуле и прочим океанским божествам, так же как богам лесов, болот и гор. Свернув направо, Джерри миновал коралловую стену и выбежал на берег. Но «Эренджи» не было видно на гладкой поверхности лагуны. Повсюду валялись остатки пиршества, и Джерри почуял дым угасающих костров и запах паленого мяса. Многие из пировавших не потрудились вернуться в свои дома, растянулись на песке и спали под лучами утреннего солнца; мужчины, женщины, дети и целые семьи лежали там, где их настиг сон. Джерри подошел к самому краю воды и сел, опустив передние лапы в воду. Сердце его разрывалось от тоски по шкиперу. Он поднял морду к небу и горестно завыл, как воют все собаки с тех пор, как пришли из диких лесов к людским кострам. Здесь и нашел его Ламаи, прижал к своей груди, чтобы лаской утешить его горе, и отнес назад, к травяной хижине у ручья. Он предложил ему воды, но Джерри не мог больше пить. Он предложил ему свою любовь, но Джерри не мог забыть мучительную тоску по шкиперу. Наконец, раздраженный упорством щенка, мальчик забыл о своей любви, ударил Джерри по голове и привязал его так, как очень немногие белые люди когда-либо привязывали своих собак. Ведь Ламаи был своего рода гением. Он никогда не видал, чтобы так привязывали собак, но теперь, в минуту нужды, сам изобрел способ привязывать Джерри при помощи палки. Палка была из бамбука, длиной в четыре фута. Один конец он привязал к самой шее Джерри, а другой — к дереву. Джерри мог достать зубами только палку, а сухой бамбук может противостоять зубам любой собаки.
Глава четырнадцатая
Много дней Джерри, привязанный к палке, был пленником Ламаи. Это время нельзя было назвать счастливым, так как в доме Лумаи постоянно происходили ссоры и стычки. Ламаи ожесточенно сражался со своими братьями и сестрами, не давая им дразнить Джерри, и эти битвы неизменно завершались вмешательством Ленеренго, беспрестанно наделявшей колотушками все свое потомство. После этого она по привычке начинала сводить счеты с Лумаи, который всегда кротко подавал голос за тишину и спокойствие, а по окончании спора скрывался на пару дней в дом для пирог. Тут Ленеренго была бессильна. В «мужской дом» не смела проникнуть ни одна женщина. Ленеренго не могла забыть судьбу той последней женщины, которая нарушила табу. Это случилось много лет тому назад, когда сама она была девочкой, но в ее мозгу на всю жизнь запечатлелось воспоминание о несчастной женщине. В первый день она висела, подвешенная за одну руку, под палящими лучами солнца; на второй день ее подвесили за другую руку. После этого она была съедена членами «мужского дома», и еще долго-долго спустя все жены были необычайно кротки со своими мужьями. Джерри чувствовал привязанность к Ламаи, но не было в этом ни силы, ни страсти. Это чувство проистекало скорее из благодарности, так как один Ламаи заботился о том, чтобы он получал пищу и питье. Джерри не мог относиться к мальчику так, как относился к шкиперу и мистеру Хаггину или даже к Дерби и Бобу. Ламаи был низшим человеческим существом — негром, а Джерри в течение всей его недолгой жизни внушали закон, гласивший, что белые люди — высшие двуногие боги. Однако он не преминул заметить, что и негры наделены разумом и могуществом. Он это принял, не рассуждая. У них была власть над другими предметами, они могли метать палки и камни и даже сумели превратить его в пленника, привязав к палке, делавшей его беспомощным. Все же они были своего рода богами, хотя, быть может, и ниже белых богов. Первый раз в жизни Джерри был на привязи, и ему это не понравилось. Тщетно портил он себе зубы, начавшие уже расшатываться под давлением вторых зубов, росших на смену. Палку он так и не мог осилить. Хотя шкипера он не забыл, но горечь утраты с течением времени потеряла свою остроту, и наконец над всеми его мыслями восторжествовало желание быть свободным. Но, когда настал день освобождения Джерри, он не воспользовался этим и не удрал к берегу. Случилось так, что освободила его Ленеренго. Сделала она это умышленно, желая от него избавиться. Но, когда она его отвязала, Джерри задержался и в знак благодарности повилял ей хвостом, улыбаясь своими светло-карими глазами. Она топнула ногой и сердито закричала, чтобы его прогнать. Этого Джерри не понял; а так как страха он не знал, то его нельзя было спугнуть и заставить удрать. Он перестал вилять хвостом и продолжал на нее глядеть, но его глаза уже не улыбались. Ее поведение он счел недружелюбным и сейчас же насторожился, приготовившись к дальнейшим враждебным действиям с ее стороны. Она снова крикнула и топнула ногой. Это только заставило Джерри сосредоточить свое внимание на ее ногах. Тут она окончательно разозлилась и попыталась ударить его ногой; а Джерри, уклонившись от удара, куснул ее за лодыжку. Немедленно разгорелась война, и весьма вероятно, что Ленеренго в бешенстве убила бы Джерри, не появись на сцене Ламаи. Увидев палку, отвязанную от шеи Джерри, он понял, в чем дело, и, рассвирепев, прыгнул между сражающимися и отразил удар, нанесенный каменным пестиком, который легко мог размозжить голову Джерри. Теперь серьезной опасности подвергался Ламаи. Но, когда мать свалила его на землю ударом кулака по голове, бедный Лумаипроснулся, разбуженный суматохой, и попытался восстановить мир. Ленеренго, по обыкновению, забыла все на свете, с наслаждением отдавшись препирательствам со своим супругом. Дело закончилось довольно безобидно: дети перестали реветь, Ламаи снова привязал Джерри к палке. Ленеренго договорилась до одышки, а оскорбленный в своих чувствах Лумаи удалился в «мужской дом», где мужчины могли почивать в мире и где им не докучали никакие женщины. В тот вечер, в кругу своих товарищей, Лумаи рассказал о своих злоключениях и поведал причину их, заключавшуюся в щенке, прибывшем с «Эренджи». Случилось так, что рассказ его услыхал Агно, главный колдун, или верховный жрец, а услыхав, вспомнил, как он отправил Джерри в дом для пирог вместе с остальными пленниками. Полчаса спустя он уже допрашивал Ламаи. Вне всякого сомнения, мальчик нарушил табу, что Агно и сообщил ему конфиденциально. Тут Ламаи задрожал, заплакал и униженно припал к его ногам, так как наказанием за это была смерть. Агно представился удобный случай получить власть над мальчиком. И он этот случай упустить не захотел. От убитого мальчика нечего ждать пользы, но мальчик живой, чью жизнь он держал в своих руках, мог сослужить ему хорошую службу. О нарушенном табу никто, кроме него, не знал; следовательно, он мог сохранить это в тайне. Итак, он приказал Ламаи отныне жить в доме для пирог, отведенном юношам; здесь должно было начаться его ученичество; и пройдя длинный ряд испытаний и церемоний, он мог вступить в «мужской дом» и стать признанным мужчиной.
Утром, повинуясь приказанию колдуна, Ленеренго связала ноги Джерри; дело не обошлось без борьбы, во время которой порядком пострадала его голова, а у нее руки покрылись царапинами. Затем она понесла его вниз через деревню, чтобы сдать Агно. Дойдя до открытой площадки в центре деревни, где стояли тотемы, она положила его на землю, а сама приняла участие в народном увеселении. Старый Башти был не только суровым, но и мудрым законодателем. Этот день он предназначил для того, чтобы наложить наказание на двух сварливых женщин, проучить всех остальных женщин и дать возможность подданным еще раз оценить достоинства своего правителя. Тиха и Вивау, коренастые, толстые молодые женщины, давно уже были посмешищем всей деревни из-за своих нескончаемых ссор. Башти повелел им участвовать в беге. Но что это был за бег! Можно было лопнуть со смеху. Мужчины, женщины и дети, взирая на эту сцену, выли от восторга. Даже пожилые матроны и седобородые старцы, одной ногой стоявшие в могиле, радостно визжали. Путь в полмили лежал через всю деревню, от того места, где был сожжен «Эренджи», и до другого конца коралловой стены. Тиха и Вивау должны были пробежать туда и обратно, причем поочередно одна должна подгонять другую. Только Башти мог придумать подобное зрелище. Тихе дали два круглых коралловых камня весом в добрых сорок фунтов каждый. Она вынуждена была плотно прижимать их к бокам, чтобы они не покатились на землю. За ней Башти поставил Вивау, которая была вооружена легким и длинным бамбуковым шестом, утыканным на одном конце щетиной из бамбуковых щепок. Щепки были остры, как иглы, — ими и пользовались как иглами при татуировке. Этим шестом, усаженным иглами, Вивау должна подгонять Тиху так же, как люди бодилом подгоняют волов. Серьезных повреждений причинить было нельзя, а лишь сильную боль, но этого-то именно и добивался Башти. Вивау колола бодилом, а Тиха спотыкалась и шаталась, пытаясь развить скорость. Когда они добегут до дальнего берега, положение переменится — Вивау будет нести камни, а Тиха — колоть бодилом. Вивау знала, что Тиха постарается вернуть ей с процентами полученные уколы, а потому изощрялась, насколько позволяли ей силы. Пот каплями стекал по лицу обеих. У каждой в толпе были свои сторонники, встречающие каждый укол ободрением либо насмешками. Как ни смехотворно было это наказание, но за ним лежал железный закон дикарей. Камни нужно было нести на протяжении всего пути. Та, что колола, должна была действовать быстро и рьяно. Но той, которая бежала с камнями, воспрещалось терять терпение и колотить свою мучительницу. Башти своевременно предупредил, что виновная в нарушении этих правил будет выставлена во время отлива на коралловом рифе на съедение акулам. Когда состязающиеся поравнялись с Башти и его первым министром Аорой, они удвоили свои усилия. Вивау колола с энтузиазмом, Тиха при каждом уколе подпрыгивала, подвергаясь опасности уронить камни. За ними по пятам, улюлюкая и визжа, неслись деревенские ребята и собаки. — Долго тебе не придется сидеть в пироге, Тиха! — крикнул Аора жертве, а Башти снова разразился кудахтающим смехом. Получив особенно чувствительный укол, Тиха уронила камень и была основательно исколота, пока опускалась на колени и подбирала его одной рукой. Поднявшись на ноги, она заковыляла дальше. Один раз, возмущенная невыносимой болью, она решительно остановилась и обратилась к своей мучительнице. — Мой много-много сердит на тебя! — крикнула она Вивау. — Подожди, скоро… Но она так и не закончила своей угрозы. Новый укол заставил ее рысцой пуститься вперед. Крик ребятишек стал затихать, когда эта пара приблизилась к берегу, но вскоре опять усилился. Женщины возвращались. На этот раз Вивау пыхтела под тяжестью коралловых камней, а Тиха, озлобленная перенесенными страданиями, старалась расквитаться с лихвой. Поравнявшись с Башти, Вивау уронила один из камней, стараясь поднять его, выронила и другой, который откатился на двенадцать футов в сторону от первого. Тут Тиха превратилась в мстительную фурию. И весь Сомо обезумел. Башти хохотал, держась за тощие бока, а слезы сбегали по его морщинистым щекам. А когда все было кончено, Башти обратился к своему народу: — Так будут драться все женщины, которые любят ссоры. Но сказал он это не совсем так и не на языке Сомо, а на морском жаргоне. Вот как сложилась у него фраза: — Всякая женщина любит сражаться — всякая женщина в Сомо будет сражаться так.
Глава пятнадцатая
По окончании бега Башти завел разговор со своими старшинами, среди которых был и Агно; а Ленеренго, в свою очередь, заболталась со старыми кумушками. Джерри лежал на боку там, где она его забыла, когда к нему подошла дикая собака, которую он выслеживал на борту «Эренджи». Сначала она издали потянула носом, готовая в любой момент обратиться в бегство, затем осторожно подошла ближе, Джерри горящими глазами следил за ней. Как только дикая собака ткнулась в него носом, он предостерегающе зарычал. Та отскочила назад, повернулась и стремительно отлетела на пару десятков шагов, пока не убедилась, что ее не преследуют. Тогда она осторожно вернулась назад, крадучись, словно выслеживая дичь, так низко припадая к земле, что почти касалась ее брюхом. Лапы она переставляла с гибкой мягкостью кошки и время от времени озиралась по сторонам, словно опасалась атаки с фланга. Громкий взрыв хохота мальчишек, донесшийся издали, заставил ее съежиться, впиться когтями в землю и напрячь все мускулы для прыжка, хотя она и не знала, угрожает ли ей опасность и с какой стороны. Затем она как будто убедилась, что вреда этот шум не причинит, и снова стала крадучись подбираться к ирландскому терьеру. Неизвестно, чем кончилось бы дело, ибо в этот момент взгляд Башти случайно упал на золотистого щенка — впервые со дня гибели «Эренджи». Захваченный событиями, Башти забыл о щенке. — Это что за собака? — крикнул он резко, заставив дикого пса припасть к земле. Крик привлек внимание Ленеренго. Она в страхе распростерлась у ног грозного старого вождя и дрожащим голосом рассказала, как обстоит дело. Ее никудышный мальчишка Ламаи вытащил собаку из воды. В доме собака послужила причиной многих ссор. Но теперь Ламаи переселился к юношам, а собаку она несет в дом Агно, повинуясь приказанию самого Агно. — Зачем тебе собака? — обратился Башти непосредственно к Агно. — Я ее кай-кай, — последовал ответ. — Жирная собака. Хорошую жирную собаку хорошо кай-кай. Проницательному старому Башти явилась мысль, давно уже зревшая в его мозгу. — Хорошая собака, — заявил он. — Ты съешь лесную собаку, — посоветовал он, показывая на дикого пса. Агно покачал головой. — Лесную собаку невкусно кай-кай. — Лесная собака — собака не такая хорошая, — вышнее свое суждение Башти. — Лесная собака слишком труслива. Все лесные собаки трусливы. Собака белого господина ничего не боится. Лесная собака не дерется. Собака белого господина дерется, как черт. Лесная собака удирает, как черт. Смотри и увидишь! Башти подошел к Джерри и перерезал веревки, стягивавшие ему ноги. А Джерри моментально вскочил и впопыхах не стал тратить время на изъявление благодарности. Он кинулся к дикой собаке, настиг ее на лету и несколько раз перекувырнул в облаке пыли. Всякий раз, когда дикая собака пыталась удрать, Джерри ее настигал, перевертывал и кусал, а Башти надрывался от хохота и лопотал своим старшинам, призывая их смотреть на подвиг Джерри. А Джерри превратился в маленького взбесившегося чертенка. Воспламененный воспоминаниями обо всех нанесенных ему обидах, начиная с кровавого дня на «Эренджи» и потери шкипера и кончая последней обидой — связанными ногами, он вымещал все на дикой собаке. Собственник дикой собаки — чернокожий, вернувшийся с плантации, по недомыслию, попробовал отогнать Джерри. Тот моментально на него набросился, царапнул ему зубами икры и, попав между ног чернокожего, повалил его на землю. — Как звать? — в бешенстве крикнул Башти обидчику, который, пораженный ужасом, лежал там, где упал, и в страхе ждал, какие еще слова сорвутся с уст его вождя. Но Башти уже валился от хохота, глядя, как дикий пес улепетывает во всю прыть вниз по улице, а Джерри, вздымая пыль, несется за ним на расстоянии сотни шагов. Когда собаки скрылись из виду, Башти изложил свою мысль. Если люди сажают банановые деревья, они получают бананы. Если они посадят батат, — вырастет батат, не сладкий картофель или смоковницы, а батат — и только батат. Так же обстоит дело с собаками. Если все собаки чернокожих трусливы, то и все потомство этих собак будет трусливым. Собаки белых людей — смелые бойцы. Размножаясь, они дают смелых бойцов. Отлично, а вывод отсюда таков: в их руках собака белого человека, — было бы очень глупо съесть ее и тем уничтожить обитающую в ней храбрость. Мудрость требует считать ее племенной собакой и сохранить ей жизнь, чтобы в грядущих поколениях собак Сомо храбрость ее повторялась снова и снова до тех пор, пока все собаки Сомо не станут сильными и храбрыми. Затем Башти приказал главному колдуну взять на себя заботу о Джерри и хорошенько за ним смотреть. Затем он повелел уведомить все племя, что Джерри — табу. Ни один мужчина, женщина или ребенок не может бросить в него копьем или камнем, бить его дубинкой или томагавком и причинять ему какой-либо вред.
С этого дня и до тех пор, пока Джерри сам не нарушил одного из величайших табу, для него наступила счастливая пора в мрачной травяной хижине Агно, ибо Башти, в отличие от большинства вождей, железной рукой управлял своими колдунами. Другие вожди, даже Нау-Хау из Ланга-Ланга, повиновались колдунам. Потому-то население Сомо считало, что и Башти находился в таком же положении. Но народ в Сомо не знал, что происходило за кулисами, когда Башти, подлинный безбожник, разговаривал один на один со своими колдунами. В этих частных беседах он заявил, что знает их игру не хуже, чем они сами, и отнюдь не является рабом темных суеверий и грубых обманов, с помощью коих они держат народ в повиновении. Затем он выдвинул теорию, такую же древнюю, как сами жрецы и правители, что для правильного управления народом и те и другие должны работать совместно. Пусть народ верит, что богам и жрецам — глашатаям богов — принадлежит последнее слово; но он заставит-де жрецов признать последнее слово за ним — Башти. И в конце концов он заявил им, что как ни мало верят они в свои собственные плутни, — он верит в них еще меньше. Он знал табу и истину, скрывавшуюся за табу. Он объяснял свои личные табу и их происхождение. Агно он объявил, что никогда он — Башти — не должен есть моллюсков. Так решил он сам, ибо моллюски ему не нравились. Старый Нино, верховный жрец, предшественник Агно, вняв гласу бога-акулы, наложил на него это табу. Но в действительности верховный жрец исполнял тайное повеление Башти. Кроме того, все жрецы были его ставленниками, ибо он жил дольше самого старейшего из них. Он знал их всех, всех возвел в этот сан, сделал тем, чем они были, и они зависели от его милостей. И жрецы должны были принимать его программу, как делали это всегда; иначе их постиг бы быстрый и неожиданный конец. Ему следовало лишь напомнить им о кончине Кори, колдуна, который считал себя сильнее своего вождя и по собственной вине вопил от боли целую неделю, пока не затих навсегда. В большом травяном доме Агно было мало света и много таинственности, но для Джерри тайн не существовало; он или знал вещи, или их не знал и никогда не беспокоился о том, чего не знал. Засушенные головы и прочие прокопченные и заплесневелые части человеческих трупов производили на него не больше впечатления, чем засушенные аллигаторы и рыбы, украшавшие мрачное жилище Агно. Джерри нашел здесь хороший уход. В доме шамана не толпились ни жены, ни дети. Несколько старух, одиннадцатилетняя девочка, отмахивавшая мух, и два молодых человека, прошедшие юношеское обучение в доме для пирог и теперь, под руководством учителя, знакомившиеся со жреческим искусством, составляли домашний штат и ухаживали за Джерри. Пищу он получал самую изысканную. После Агно, съедавшего первый кусок свиньи, еда подавалась Джерри. Даже два прислужника и девочка, отмахивавшая мух, ели после него, а остатки отдавались старухам. И в отличие от обыкновенных лесных собак, которые в дождь украдкой прятались под навес, Джерри отвели сухое местечко под крышей, где с потолка свешивались сухие головы лесных жителей и забытых торговцев сандаловым деревом. Тут же висели покрытые пылью сухие внутренности акул и скелеты крыс длиною вместе с хвостом в две трети ярда. Не раз Джерри, пользовавшийся неограниченной свободой, пробирался через всю деревню к дому Ламаи. Но он так и не нашел Ламаи, который со времени потери шкипера был единственным человеком, завоевавшим симпатии Джерри. Открыто Джерри не показывался ни разу; прячась в густом папоротнике на берегу ручья, он следил за домом и принюхивался к его обитателям. Но запах Ламаи уловить он не мог и спустя некоторое время отказался от своих посещений и признал дом колдуна своим домом, а самого колдуна — своим господином. Но никакой любви к этому господину он не питал. Агно, столько лет в страхе державший свой таинственный дом, любви не знал, как не знал он и привязанности и жизнерадостности. Юмора он не понимал и был холодно бесчувствен, как ледяная сосулька. По могуществу он занимал второе место, уступая первое Башти, и вся его жизнь была омрачена сознанием, что не он первый. К Джерри он никаких чувств не питал, но, опасаясь Башти, боялся обидеть Джерри. Проходили месяцы, и у Джерри появились крепкие, массивные вторые зубы. Он вырос и прибавился в весе. Он был избалован, насколько может избаловаться собака. Под защитой табу он быстро научился властвовать над населением Сомо и во всем поступать по-своему. Никто не смел останавливать его палкой или камнем. Агно его ненавидел, он это знал; пронюхал он и то, что Агно его боится и не посмеет тронуть. Но Агно был хладнокровным философом и выжидал; в отличие от Джерри он обладал человеческой способностью предвидения и умел сообразовать свои действия с достижением определенной цели в будущем. Джерри бродил по всем владениям Башти, от пограничных лесных деревень до края лагуны, в воды которой он никогда не рисковал спуститься, помня крокодилов и табу, усвоенное им еще в Мериндже. Все перед ним расступались. Все кормили его, когда он требовал пищи. Ибо табу лежало на нем, и он мог, не встречая противоречий, вторгаться на их циновки для спанья или совать нос в плошки с едой. Он мог драться, сколько ему было угодно, держаться заносчиво, нарушая всякие правила приличия, и никто не смел ему прекословить. Башти повелел даже, чтобы в случае нападения на Джерри взрослых лесных собак народ Сомо принимал его сторону, а лесных собак прогонял камнями и палками. Таким образом, его собственные четвероногие двоюродные братья на горьком опыте узнали, что на нем лежит табу. И Джерри благоденствовал. Он легко мог разжиреть до отупения, если бы не его неутомимое любопытство и хорошо развитые нервы. Пользуясь свободой во всем Сомо, он вечно его исследовал, изучая границы и межи, знакомился с обычаями диких существ, обитавших в лесах и на болотах и не признававших лежавшего на Джерри табу. Много случалось с ним приключений. Он выдержал две битвы с лесными крысами, почти не уступавшими ему по величине. Эти дикие крысы, попав в безвыходное положение, сражались так, как никто и никогда еще с ним не сражался. Первую он убил, не зная, что то была старая и слабая крыса. Вторая, в расцвете сил, так его проучила, что он, больной и обессилевший, приполз в дом колдуна, где и пролежал неделю под сухими эмблемами смерти, зализывая свои раны и медленно возвращаясь к жизни и здоровью. Он крался к дюгоню и радовался, обращая в бегство это глуповатое, робкое животное неожиданным яростным нападением; хотя он прекрасно знал, что из таких нападений толку не выйдет, но его подзадоривала и веселила удавшаяся шутка. Он выгонял тропических уток из их хитро упрятанных гнезд, осторожно бродил среди вылезших подремать на берег крокодилов, пробирался под сводами джунглей и выслеживал белоснежных дерзких какаду, свирепых морских орлов, тяжелокрылых сарычей, райских попугаев, и зимородков, и болтливых мелких попугаев. За пределами Сомо он трижды встретил маленьких черных лесных жителей, которые больше походили на призраков, чем на людей: так бесшумно и незаметно они двигались; они охраняли кабаньи тропы в джунглях и во время этих достопамятных встреч трижды бросали в него копьем. И лесные крысы и эти двуногие существа, скрывавшиеся в сумерках джунглей, научили Джерри осторожности. Он не ввязывался с ними в драку, хотя они и пытались пронзить его копьем. Он быстро усвоил, что это был иной народ, не похожий на племя Сомо, и его табу для них ничего не значит. А кроме того, они были своего рода двуногими богами, посылавшими смерть, которая достигала дальше, чем простирались их руки. По деревне Джерри бегал так же свободно, как и по джунглям. Для него не было священных мест. В дома колдунов, где мужчины и женщины в страхе и трепете припадали к земле перед лицом тайны, он входил напряженный, ощетинив шерсть, ибо здесь висели свежие головы, а его зоркий глаз и чуткое обоняние говорили ему, что эти головы некогда принадлежали тем чернокожим, каких он знавал на борту «Эренджи». В самом большом колдовском доме он наткнулся на голову Боркмана и зарычал на нее, не получив ответа; ему вспомнилась битва, какую он выдержал на палубе «Эренджи» с подвыпившим помощником. Однажды в доме Башти Джерри случайно увидел все, что осталось на земле от шкипера. Башти жил очень долго, жил в высшей степени мудро, о многом передумал и прекрасно знал, что пережил век, положенный человеку, и жить ему осталось мало. И он интересовался всем этим — смыслом и целью жизни. Он любил мир и жизнь, где так счастливо родился, любил за установленный порядок и то положение, какое ему досталось и вознесло его над жрецами и народом. Смерти он не боялся, но его занимало, будет ли он жить снова. Он перерос глупые воззрения плутоватых колдунов и чувствовал себя очень одиноким, не умея разобраться в этой сложной проблеме. Он жил так долго и так счастливо, что ему пришлось наблюдать, как вянут и исчезают все могучие стремления и желания. Были у него жены и дети, и он знавал острый юношеский голод. Он видел, как его дети вырастали, превращались в мужчин и женщин, становились отцами и дедами, матерями и бабками. Но, познав женщину, любовь, отцовство и чревоугодие, он все это оставил. Пища? Вряд ли понимал он ее смысл, так мало он теперь ел. Голод, впивавшийся в него, как шпоры, когда он был молод и здоров, давно уже перестал терзать и возбуждать его. Он ел из чувства необходимости и долга и мало заботился о том, что ест, за одним только исключением: он любил яйца мегаподов; каждый сезон эти птицы неслись на особом птичьем дворе, который являлся частной собственностью Башти и охранялся строжайшими табу. Вот все, что осталось от чувственных вожделений Башти. Во всем же остальном его жизнь сводилась к работе мысли: он правил своим народом и выискивал новые данные, откуда можно вывести законы, какие сделают народ сильнее и закрепят его власть над жизнью. Но Башти отчетливо улавливал разницу между абстрактным понятием «племя» и конкретнейшим из понятий — «индивид». Племя остается. Члены его исчезают. Племя является восприемником привычек и истории всех предшествующих членов, а оставшиеся в живых сохраняют эти привычки, пока сами не станут историей и воспоминанием в том неосязаемом целом, каковым является племя. И он, как член племени, рано или поздно, — а «поздно» было уже совсем близко, — должен уйти. Но куда уйти? Вот где возникало затруднение. И случилось так, что однажды он велел удалиться всем из его большого травяного дома и, оставшись наедине со своей проблемой, снял с балок под крышей завернутые в циновки головы людей, которых он знал некогда живыми, — людей, ушедших в таинственное «ничто» смерти. Не как скупец собирал он эти головы и не как скупец, пересчитывающий свои тайные сокровища, всматривался в них, держа в своих руках или положив к себе на колени. Он хотел знать. Хотел знать то, что, казалось ему, могли знать они, давно ушедшие во тьму, окутывавшую конец жизни. Разнообразны были головы, какие держал в своих руках и на коленях Башти, вопрошая их в полумраке травяного дома; а над головой солнце бросало вниз палящие лучи, юго-восточный ветер вздыхал в листве пальм и в ветвях хлебных деревьев. Была здесь голова одного японца — единственная, какую ему довелось увидеть. Она была снята его отцом до рождения Башти. Плохо прокопченная, она местами прогнила от времени. И все же он изучал ее черты и решил, что когда-то были у нее губы, такие же подвижные, как и его собственные, был и рот, звучный и алчный, каким когда-то был и его рот. Были и глаза, и нос, и волосы, и уши такие же, как у него. Некогда голове принадлежали две ноги и туловище, и знала она желания и вожделения. И он решил, что ведомы ей были вспышки гнева и любви в те времена, когда она еще и не помышляла о смерти. Сильно занимала Башти одна голова, история которой относилась еще к временам, предшествовавшим его отцу и деду; то была голова француза, хотя Башти этого и не знал. Не знал он и того, что эта голова принадлежала Лаперузу, знаменитому мореплавателю, который сложил свои кости, кости своей команды и останки своих двух фрегатов «Астролябия» и «Буссоль» на берегах каннибальских Соломоновых островов. Другая голова — а Башти был завзятым коллекционером голов — относилась к эпохе за два столетия до Лаперуза — к эпохе испанца Альварро де Мендана [15]. Она принадлежала его оруженосцу и во время берегового столкновения была захвачена одним из отдаленных предков Башти. Была еще одна голова с неясным прошлым — голова белой женщины. Никто не знал, кому принадлежала эта голова, — жене или спутнице мореплавателя. Но в высохших ушах до сих пор висели золотые с изумрудом серьги, а волосы, в четыре фута длины, — мерцающий шелком золотистый ручей, — струились с черепа, скрывавшего то, что было некогда ее разумом и волей и побуждало ее, как рассуждал Башти, в былые времена трепетать от любви в объятиях мужчины. Обыкновенные головы лесных и приморских жителей и даже белых, опьянявшихся водкой, вроде Боркмана, Башти отдавал в дома для пирог и жилища колдунов, ибо он был знаток своего дела. Имелась у него одна странная голова немца, сильно его интриговавшая. То была рыжебородая и рыжеволосая голова, но даже высохшие мертвые черты говорили о железной воле, а массивный лоб нашептывал Башти о власти тайн, недоступных его пониманию. Не знал он, что некогда это была голова немецкого профессора, астронома — голова, когда-то вмещавшая в себе глубокое знание звезд в беспредельном небе, морских путей, по каким идут ведомые звездами корабли, и путей земли по ее звездной орбите в пространстве, превышающем в мириады миллионов раз то пространство, какое мог постичь Башти. Самой последней и более всего раздражавшей мысль Башти была голова Ван Хорна. Ее-то он и держал на своих коленях и созерцал, когда Джерри, пользовавшийся неограниченной свободой в Сомо, вбежал в травяной дом Башти, почуял и узнал смертные останки шкипера и горестно завыл над ним, а затем в бешенстве ощетинился. Башти сначала его не заметил, так как весь ушел в созерцание головы Ван Хорна. Всего несколько месяцев назад эта голова была жива, размышлял он, разум оживлял ее, она была прикреплена к двуногому туловищу, которое держалось прямо и расхаживало в набедренной повязке и с автоматическим пистолетом у пояса; и потому эта голова была могущественнее Башти, но разумом слабее его, ибо разве не он, Башти, вооруженный старинным пистолетом, погрузил во мрак этот череп, где раньше таился разум? И разве не он, Башти, отделил череп от ослабевшего остова из плоти и костей, на котором держалась эта голова, чтобы двигаться по земле и по палубе «Эренджи»? Что же сталось с этим разумом? Один ли только этот разум и был в надменном, вспыльчивом Ван Хорне, и исчез ли он, как исчезает мигающее пламя лучины, когда она сгорает до конца и превращается в пылеобразную золу? Все ли, составлявшее Ван Хорна, исчезло, как пламя лучины? Ушел ли он навсегда во тьму, куда уходит зверь, куда уходит пронзенный копьем крокодил, пойманная на крючок макрель, захваченный неводом голавль и убитая свинья, жирная и пригодная для еды? И та же ли тьма поглотила Ван Хорна, какая поглощает отливающую металлом синеватую муху, которую его девочка с опахалом давит и уничтожает на лету? Та ли это тьма, какая поглощает москита, знающего тайну полета и, несмотря на свое умение летать, погибающего от руки его, Башти, когда он, почувствовав укус на шее, почти бессознательно расплющивает его ладонью. Башти знал: что было истиной для головы этого белого человека, еще совсем недавно живой и властной, то истина и для него, Башти. Что случилось с этим белым человеком за темными вратами смерти, то случится и с ним. Вот почему вопрошал он голову, словно ее немые уста могли заговорить с ним из таинственного мира и объяснить ему смысл жизни и смерти, которая неизбежно побеждает жизнь. Протяжный горестный вой Джерри, увидевшего и почуявшего все, что осталось от шкипера, пробудил Башти от его грез. Он взглянул на сильного золотисто-рыжего щенка и немедленно включил и его в свои размышления. Этот щенок живет. Он похож на человека. Он знает голод и боль, гнев и любовь. В жилах его течет кровь, как у человека, и от удара ножом она брызнет красной струей, и щенок погибнет. Подобно человеку, собака любит себе подобных, размножается и кормит грудью своих детенышей. И исчезает. Да, исчезает, ибо он, Башти, в дни своей молодости и здоровья пожрал немало собак: столько же, сколько и людей. Но от скорби Джерри перешел к гневу. Он напряженно приближался, оскалив зубы и ощетинившись, так что волны пробегали по его спине к плечам и шее. А шагал он не к голове шкипера, на которой сосредоточилась его любовь, но к Башти, державшему эту голову на своих коленях. Как дикий волк на горных пастбищах крадется к кобыле с ее маленьким жеребенком, так крался Джерри к Башти. А Башти, который всю свою долгую жизнь не боялся смерти и смеялся, когда разорвавшийся кремневый пистолет отхватил ему указательный палец, радостно усмехался: его восхищал этот щенок, которого он бил по носу короткой палкой твердого дерева и заставлял держаться на расстоянии. Как бы свирепо ни нападал на него Джерри, каждый раз он отражал нападение палкой и громко хихикал, ценя смелость щенка, дивясь нелепости жизни, которая все время побуждала его подставлять нос под палочные удары и, подогревая страстные воспоминания об умершем, заставляла снова и снова идти навстречу боли. «Вот и здесь — жизнь», — размышлял Башти, ловким щелчком отгоняя визжавшего щенка. Это четвероногое существо, молодое, глупое, горячее, следующее влечениям сердца, походило на любого юношу, ухаживающего в сумерках за своей возлюбленной или вступившего в смертный бой с другим юношей из-за страсти, оскорбленной гордости или несбывшейся надежды. И Башти пришел к тому заключению, что в этом живом щенке, так же как и в мертвой голове Ван Хорна или любого человека, таится объяснение бытия. И он продолжал щелкать Джерри по носу палкой, отгоняя его от себя, и дивиться той неведомой жизненной силе, которая снова и снова заставляла щенка прыгать вперед под удары палки, причинявшей боль и вынуждавшей отступать. Он видел в этом отвагу и энергию, силу и безрассудство молодости, и грустно восхищался, и завидовал этой молодости, готовый отдать за нее всю свою седую мудрость. «Славный пес, что и говорить, славный пес», — мог бы он повторить слова Ван Хорна. Вместо этого на морском жаргоне, который был ему так же привычен, как и родное наречие Сомо, он подумал: «Мой говорит, собака не знает трусить перед моим». Но старику быстро надоела игра, и Башти положил ей конец, сильно ударив Джерри за ухом и лишив его сознания. При виде щенка, секунду назад такого подвижного и разъяренного, а теперь лежавшего без признаков жизни, пытливая фантазия Башти снова разыгралась. Одним-единственным сильным ударом вызвала палка эту перемену. Куда ушел гнев и разум щенка? Неужели все это лишь пламя лучины, которое гаснет от всякого случайного дуновения ветерка? Секунду назад Джерри бесновался и страдал, огрызался и прыгал, проявляя свою волю и управляя своими действиями. А через секунду он лежал безвольный и слабый, в бессознательном состоянии, напоминавшем смерть. Башти знал, что через короткий промежуток времени сознание, чувствительность, способность двигаться и воля вернутся в ослабевшее маленькое тело. Но куда же скрылись с ударом палки и сознание, и чувство, и воля? Башти устало вздохнул и устало завернул головы в травяные циновки, служившие им чехлами, — завернул все головы, кроме головы Ван Хорна. И подвесил их к балкам крыши; там они будут висеть много лет после того, как он умрет и уйдет из жизни, так же точно, как висели они задолго до его отца и деда. Голову Ван Хорна он положил на пол, а сам вышел и стал смотреть в щелку, что будет делать дальше щенок. Джерри сначала вздрогнул, а через минуту с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь. И Башти, припав к щели, видел, как жизнь снова потекла по сосудам инертного тела, напрягла ноги, давая им силу двигаться; видел он, как сознание — эта тайна из тайн — вернулось в костяную коробку, покрытую шерстью, загорелось в открывшихся глазах, заставило оскалить зубы и издать рычание, прерванное в тот момент, когда удар палки опрокинул щенка во тьму. И еще кое-что увидел Башти. Сначала Джерри огляделся, разыскивая врага, рыча и ощетинивая шерсть на шее. Затем вместо врага он увидел голову шкипера, подполз к ней и стал ласкать, целуя языком твердые щеки; сомкнутые веки, не поднимавшиеся от его ласки; губы, которые никогда не выговорят ни одного из тех любовных слов, какими, бывало, ласкали собаку. И в глубокой тоске уселся Джерри перед головой шкипера, поднял морду к высокому коньку крыши и завыл горестно и протяжно. Наконец, измученный и подавленный, он выполз из дома и ушел в жилище своего колдуна, где в течение двадцати четырех часов бодрствовал, и спал, и видел кошмары. С тех пор Джерри до конца своего пребывания в Сомо боялся травяного дома Башти. Самого Башти он не боялся. Страх его был необъяснимый и бессознательный. В этом доме пребывало нечто, некогда бывшее шкипером. То был символ величайшей катастрофы жизни, — инстинктом, заложенным в глубинах его существа, он предчувствовал ее. На один шаг опередив Джерри, народ Сомо, созерцая смерть, достиг представления о душах умерших, продолжающих жить в нематериальных и сверхчувственных областях. И с тех пор Джерри напряженно ненавидел Башти как владыку жизни, который хранил и держал на своих коленях нечто шкипера. Об этом Джерри не рассуждал. Все это было смутно и неопределенно — ощущение, эмоция, чувство, инстинкт, интуиция — называйте любым туманным словом, из туманной номенклатуры речи, где слова обманно создают впечатление определенности и приписывают мозгу понимание, каковым мозг не обладает.
Глава шестнадцатая
Прошло еще три месяца; северо-западный муссон через полгода уступил место юго-восточному пассату, а Джерри по-прежнему жил в доме Агно и свободно бегал по всей деревне. Он вырос, прибавил в весе и под защитой табу стал самоуверенным и едва ли не высокомерным. Но никакого господина он не нашел. Агно так и не приобрел его расположения — да и не пытался его завоевать. Однако, по свойственному ему хладнокровию, он никогда не проявлял своей ненависти к Джерри. Даже обитавшие в доме Агно старухи, два прислужника и девочка, отгонявшая мух, не подозревали, что колдун ненавидит Джерри. Не подозревал этого и сам Джерри. Для него Агно был особой нейтральной, которая в счет не шла. В остальных Джерри угадывал рабов или слуг Агно, а когда они его кормили, знал, что эта пища исходит от Агно и является пищей Агно. За исключением Джерри, защищенного табу, весь домашний штат боялся Агно, и дом его поистине был домом страха. Одиннадцатилетняя служанка могла бы завоевать расположение Джерри, если бы ее с самого же начала не остановил Агно, сделавший ей суровый выговор за то, что она дерзнула прикоснуться и приласкать собаку, на которой лежало столь священное табу. Агно вынужден был отложить выполнение замысла, направленного против Джерри, до окончания полугодового муссона, так как на частном птичьем дворе Башти мегаподы начинали кладку яиц лишь с наступлением юго-восточного пассата. И Агно, давно уже задумавший свой план, со свойственным ему терпением выжидал удобного момента. Мегапод Соломоновых островов приходился дальним родичем австралийскому ястребу. Он не больше крупного голубя, а его яйца такой же величины, как яйца домашних уток. Мегапод, лишенный чувства страха, так глуп, что был бы уничтожен сотни веков назад, если бы правители и жрецы не охраняли его при помощи табу. Для мегаподов пришлось завести расчищенные песчаные участки и защитить их изгородью от собак. Мегаподы зарывают яйца в песок на глубине около двух футов, а вылупливание птенцов зависит от солнечной жары. И они продолжают разрывать песок и класть яйца, хотя бы в двух-трех шагах от них чернокожий эти яйца выкапывал. Птичник был собственностью Башти. В течение всего сезона Башти питался почти исключительно яйцами мегаподов. В редких случаях он приказывал убивать и подавать ему на обед тех мегаподов, которые перестали нестись. Однако то была прихоть: он гордился столь исключительной диетой, возможной лишь для человека, занимающего такое высокое положение. По правде сказать, мясо мегаподов нравилось ему не больше всякого другого мяса. А всякое мясо казалось ему на вкус одинаковым, ибо его любовь к мясу отошла в область воспоминаний. Но яйца! Вот что ему нравилось. То была единственная пища, какую он ел с удовольствием. Они напоминали ему былые вкусовые наслаждения молодости. Яйца мегаподов вызывали у него настоящий голод, и, когда он видел яйцо, приготовленное для еды, почти высохшие слюнные железы снова начинали функционировать и в желудке появлялся сок. Поэтому он один во всем Сомо ел яйца мегаподов, защищенные суровым табу от всего остального населения. А так как табу по существу своему религиозно, то священная обязанность охранять птичий двор вождя и заботиться о нем была возложена на Агно. Но Агно был уже немолод. Острота животных вожделений давно покинула его, и он также ел из чувства долга, не разбираясь во вкусовых ощущениях. Только яйца мегаподов раздражали его аппетит и вызывали работу пищеварительных желез. Поэтому-то он и нарушал табу, наложенное им самим, и украдкой, когда ни мужчина, ни женщина, ни ребенок не могли его видеть, поедал яйца, украденные из птичника Башти. Когда начался сезон кладки яиц и Агно и Башти, после шестимесячного воздержания, оба тосковали по лакомому блюду, Агно повел Джерри по тропинке, охраняемой табу, среди мангиферовых деревьев. Там приходилось прыгать с корня на корень над болотом, вечно испускавшим пар и зловоние. Эта тропинка не походила на обычные тропинки и была незнакома Джерри. Здесь человеку приходилось делать большие шаги, переступая с корня на корень, а собаке — совершать такие же прыжки. Во время своих прогулок по Сомо Джерри ни разу не видел этой тропинки. Поведение Агно, взявшего его с собой, заставляло Джерри удивляться и радоваться; он смутно предчувствовал, что, может быть, Агно все же до известной степени окажется тем господином, которого непрестанно искала собачья душа Джерри. Выйдя из топкой мангиферовой рощи, они внезапно очутились на песчаном участке, все еще пропитанном солью и неплодородном от морских наносов. Ни одно большое дерево не могло пустить здесь корни и своими ветвями защитить от палящих лучей солнца. Войти в огороженное место можно было через примитивную калитку, но Агно не повел туда Джерри. Вместо того, ободряюще чирикая и подзадоривая, он научил Джерри прорыть тоннель под грубым плетнем и сам помогал ему, обеими руками выгребая песок. И Джерри, поощряемый им, оставил на песке отпечатки лап и когтей. А когда Джерри очутился за плетнем, Агно, войдя через калитку, соблазнил его выкапывать яйца. Но яиц Джерри не довелось отведать. Восемь штук Агно высосал сырыми, а два яйца сунул себе под мышку, чтобы отнести в свое дьявольское жилище. Скорлупу восьми высосанных яиц он раздавил так, как могла это сделать собака, а для осуществления задуманного плана часть восьмого яйца он сохранил и обмазал им не морду Джерри, где тот мог слизнуть яйцо языком, а повыше — над глазами и вокруг глаз. Здесь следы должны были остаться и свидетельствовать против собаки. Хуже того, он совершил величайшее святотатство, науськав Джерри на самку мегапода, несущую яйца. А пока Джерри душил ее, Агно, зная, что жажда убийства, раз пробужденная, побудит его продолжать избиение глупых птиц, опрометью бросился с птичьего двора через мангиферовое болото, чтобы представить религиозную проблему на рассмотрение Башти. Табу, охранявшее собаку, — так изложил он дело — помешало ему вмешаться, когда собака-табу поедала мегапода-табу. Какое табу выше, этого он, Агно, решить не может. А Башти, уже полгода не евший яиц мегапода и страстно хотевший освежить в памяти последнее вкусовое ощущение далекой юности, полетел через мангиферовое болото с такой быстротой, что его верховный жрец совсем запыхался, хотя и был на много лет моложе. Когда он прибежал на птичий двор, Джерри убивал четвертую самку-мегапода; лапы и морда у него были окровавлены, а вокруг глаз и на лбу виднелся остаток сырого желтка, налепленный Агно и долженствовавший изображать много поеденных яиц. Башти тщетно разыскивал хотя бы одно целое яйцо, а шестимесячный голод — под впечатлением катастрофы — мучил сильнее, чем когда-либо. А Джерри, уверенный в ободрении и похвале Агно, завилял Башти хвостом, ожидая воздаяния за свою доблесть, и улыбнулся обагренным кровью ртом и глазами, полузалепленными яичным желтком. Башти не бесновался, так как был не один. На глазах своего верховного жреца он не хотел унижаться до столь банальных человеческих чувств. Тот, кто занимает высокое положение, всегда обуздывает свои естественные стремления и скрывает свою банальность под маской безразличия. Потому-то и Башти не проявил раздражения при виде этой неудачи, обманувшей его аппетиты. Агно меньше владел собой, так как не мог скрыть жадный огонек, блеснувший в глазах. Башти этот огонек заметил, но, не угадав истинной причины, счел проявлением простого любопытства. Отсюда можно сделать два вывода относительно лиц, занимающих высокое положение: во-первых, они могут одурачить тех, кто ниже их, во-вторых, сами могут быть ими одурачены. Башти саркастически поглядел на Джерри, словно усмотрел здесь шутку, и искоса бросив взгляд на своего верховного жреца, подметил в его глазах разочарование. «Ага! — подумал Башти. — Я таки его надул!» — Какое табу выше? — осведомился Агно на языке Сомо. — Разве нужно спрашивать? Конечно, мегапод. — А собака? — продолжал Агно. — Должна заплатить за нарушение табу. Это — высшее табу. Это — мое табу. Так было установлено древним праотцом и первым правителем, и с тех пор оно всегда табу вождей. Собака должна умереть. Он замолчал и задумался, а Джерри снова стал разрывать песок, откуда поднимался знакомый запах. Агно шагнул вперед, чтобы его остановить, но Башти вмешался. — Оставь его, — сказал он. — Пусть собака изобличит себя на моих глазах. Джерри это и сделал, откопав два яйца, раздавив их и вылакав часть драгоценного содержимого, которая не расплескалась по песку. Глаза Башти совсем потускнели, когда он спросил: — Пир из собачьего мяса назначен на сегодня? — Завтра в полдень, — ответил Агно. — Собак уже приносят. Набралось не меньше пятидесяти. — Пятьдесят одна, — вынес свой приговор Башти, кивнув в сторону Джерри. Жрец сделал быстрое движение, чтобы схватить Джерри. — Зачем? — остановил его вождь. — Тебе придется тащить его по болоту. Пусть он идет назад на своих собственных ногах. А когда дойдет до дома для пирог, ты свяжи ему ноги. Миновав болото и приблизившись к дому для пирог, Джерри, весело бежавший по пятам обоих людей, услышал жалобное завывание множества собак, несомненно, выражавшее боль и страдание. Он сейчас же подозрительно прислушался, не опасаясь, впрочем, лично за себя. И в тот самый момент, когда он, насторожив уши, нюхом доискивался причины, Башти схватил его за загривок и поднял на воздух, а Агно стал связывать ему ноги. Ни стона, ни визга не вырвалось у Джерри, он не проявил ни малейших признаков страха, а только, задыхаясь, свирепо рычал, гневно скалил зубы и воинственнобрыкался задними лапами. Но собака, схваченная за загривок, не может противостоять двум людям, одаренным человеческим рассудком и ловкостью и имеющим по две руки, а на каждой руке — по пять пальцев. Ему связали передние и задние лапы и потащили головой вниз к месту бойни и стряпни. Там его бросили на землю — туда, где лежало еще штук двадцать собак, беспомощных и связанных. Было уже после полудня, но многие собаки лежали так — на припеке — с раннего утра. Все они были лесными или дикими собаками, и так ничтожно было их мужество, что жажда и физическая боль, вызванная веревками, слишком туго перетягивавшими артерии и вены, и смутное предчувствие судьбы, какую предвещало подобное обращение, заставляло их в отчаянии визжать и выть. Следующие тридцать часов были скверными часами для Джерри. Немедленно разнеслась весть, что табу с него снято, и ни один мужчина и мальчишка не унизился до того, чтобы быть с ним вежливым. До ночи толпились вокруг него люди, дразнившие и мучившие его. Они зубоскалили по поводу его падения, издевались и насмехались над ним, презрительно толкали ногами, и, вырыв ямку в песке, из которой он не мог выкатиться, положили его туда на спину, так что его связанные лапы позорно болтались в воздухе. А он мог только беспомощно рычать и бесноваться. В отличие от прочих собак он не визжал и не выл от боли. Ему был теперь год, а последние шесть месяцев помогли ему созреть; по природе же своей он был бесстрашен и вынослив. Белые господа научили его ненавидеть и презирать негров, а за эти тридцать часов он познал особенно горькую и неугасимую ненависть. Его мучители ни перед чем не останавливались. Они привели даже дикую собаку и стали науськивать ее на Джерри. Но дикая собака не атакует врага, который не может двигаться, хотя бы врагом этим был Джерри, так часто преследовавший ее на палубе «Эренджи». Будь у Джерри сломана нога или сохрани он хоть возможность двигаться, тогда дикий пес мог загрызть его, пожалуй, до смерти. Но эта полная беспомощность останавливала пса, и, таким образом, план не удался. Когда Джерри рычал и огрызался, рычала и дикая собака, вертясь вокруг него, но чернокожие не могли заставить ее вонзить зубы в Джерри. Площадка перед домом для пирог превратилась в место ужаса. Сюда то и дело приносили связанных собак и бросали их на землю. В воздухе стоял непрерывный вой; особенно выли те собаки, которые с раннего утра лежали на солнцепеке без воды. Время от времени начинали выть все собаки. Этот вой, не смолкая, продолжался всю ночь, а к утру все собаки мучились невыносимой жаждой. Солнце, поднявшееся на небе, накалявшее белый песок и чуть ли не обжигавшее собак, отнюдь не принесло облегчения. Вокруг Джерри снова образовался круг мучителей, изливавших на него оскорбительное презрение за утрату его табу. Больше всего бесили Джерри не удары и физические мучения, а смех. Ни одна собака не любит, когда над ней смеются, а Джерри тем более не мог сдержать гнева, когда они хихикали и гоготали перед самой его мордой. Хотя он и не выл, но от рычания и жажды у него в горле пересохло и высохла слизистая оболочка рта. И только под влиянием величайших оскорблений ему удавалось издавать звуки. Он высунул язык, и утреннее солнце стало медленно жечь его. Как раз в это время один из мальчишек жестоко его обидел. Он выкатил Джерри из ямки, где тот всю ночь пролежал на спине, перевернул его на бок и подсунул маленькую плошку, наполненную водой. Джерри с жадностью стал лакать и только через полминуты обнаружил, что мальчик выдавил в воду жгучий сок из семян спелого красного перца. Зрители взвизгнули от удовольствия, а прежнюю жажду Джерри нельзя было сравнить с этой новой жаждой, все усиливавшейся от жгучего перца. Затем — а это было чрезвычайно важное событие — на сцену появился Наласу. То был шестидесятилетний старик, слепой и шествовавший с палкой, которой нащупывал себе тропу. Свободной рукой он нес за связанные ноги небольшую свинью. — Говорят, собака белого господина должна быть съедена, — сказал он на языке Сомо. — Где собака белого господина? Покажите мне ее. Как раз в это время пришел Агно и стал подле старика, который, наклонившись к Джерри, стал ощупывать его пальцами. А Джерри не стал рычать или кусаться, хотя пальцы слепого не раз приближались к его зубам. Дело в том, что Джерри не чувствовал враждебности в этих пальцах, так мягко скользивших по нему. Затем Наласу пощупал свинью и несколько раз, словно сравнивая, ощупывал то Джерри, то свинью. Наконец Наласу встал и высказал свое мнение: — Свинья так же мала, как и собака. По величине они одинаковы, но на свинье больше для еды мяса. Берите свинью, а я возьму собаку. — Нет, — сказал Агно. — Собака белого господина нарушила табу. Ее должны съесть. Бери другую собаку и оставь свинью. Бери большую собаку. — Я хочу взять собаку белого господина, — упорствовал Наласу, — только собаку белого господина. Дело не подвигалось ни на шаг, пока не подошел Башти и не остановился, прислушиваясь. — Бери собаку, Наласу, — сказал он наконец, — у тебя хорошая свинья, и я сам ее съем. — Но собака нарушила табу, твое великое табу, охранявшее птичий двор, и она должна пойти на съедение, — быстро вмешался Агно. В мозгу Башти мелькнула мысль, что Агно вмешался слишком быстро; им овладело какое-то смутное подозрение, хотя он и не знал, в чем можно заподозрить Агно. — За нарушение табу уплата — кровь и кухонный котел, — продолжал Агно. — Отлично, — сказал Башти. — Я съем эту свинью. Пусть перережут ей горло, и пусть ее тело опалит огонь. — Я говорю о законе табу. За нарушение табу платят жизнью. — Есть и другой закон, — усмехнулся Башти. — Жизнь можно купить за жизнь; так было с тех пор, как Сомо возвел эти стены. — Только жизнь мужчины или женщины, — ограничил Агно. — Я знаю закон, — настаивал Башти. — Сомо его создал. Никогда не было сказано, что за жизнь животного нельзя купить жизнь другого животного. — Этого еще до сих пор не бывало у нас, — заявил колдун. — Вполне понятно, — возразил старый вождь. — Не было еще такого дурака, который бы отдавал свинью за собаку. Это молодая свинья, жирная и нежная. Бери собаку, Наласу. Бери ее сейчас же. Но колдун не успокаивался. — Ты, Башти, в своей великой мудрости сказал, что это племенная собака, рассадник силы и мужества. Пусть она будет убита. Когда ее снимут с огня и разделят ее тело на маленькие кусочки, каждый отведает ее и получит свою долю силы и мужества. Лучше будет для Сомо, если люди, а не собаки станут сильными и храбрыми. Но Башти не гневался на Джерри. Он вел жизнь философа и прожил слишком долго, чтобы винить собаку в нарушении табу, которого она не знала. Конечно, собак часто убивали за нарушение табу. Но он разрешал их убивать потому, что те собаки отнюдь его не интересовали, а их смерть подчеркивала святость табу. Джерри же сильно его интересовал. Не раз с тех пор, как Джерри атаковал его из-за головы Ван Хорна, задумывался он над этим инцидентом. Этот случай сбивал его с толку, как и все проявления жизни, и доставлял ему пищу для размышлений. Кроме того, Башти восхищался отвагой Джерри и тем, что тот не выл от боли под ударами палки. А красота форм и окраска Джерри незаметно пленяли Башти, совсем о том не думавшего. На Джерри приятно было смотреть. Можно было и под другим углом взглянуть на поведение Башти. Он недоумевал, почему его колдун так настаивал на смерти простой собаки. Собак было много. Так зачем же убивать именно эту собаку? Несомненно, у того было что-то на уме, но что именно, Башти догадаться не мог; быть может, им двигала месть, зародившаяся в тот день, когда он воспретил Агно съесть собаку. Если такова была причина, Башти не мог терпеть подобное настроение ума у кого бы то ни было из своих соплеменников. Но каковы бы ни были мотивы, Башти, по своему обыкновению остерегаясь неизвестного, решил проучить своего жреца и еще раз показать населению Сомо, кому принадлежит последнее слово. И он ответил: — Я жил долго и съел много свиней. Кто осмелится сказать, что эти свиньи вошли в меня и сделали меня свиньей? Он остановился и вызывающе окинул взглядом круг слушателей, но все молчали. Кое-кто робко ухмыльнулся, переминаясь с ноги на ногу, а на лице Агно была написана глубокая уверенность в том, что в его вожде нет ничего, напоминающего свинью. — Я съел много рыб, — продолжал Башти, — но ни одна рыбья чешуйка не выросла на моей коже. И жабры не появились на моей шее. И вы все, глядя на меня, знаете, что никогда не вырастал у меня плавник на спине. Наласу, бери собаку. Агэ, отнеси свинью в мой дом. Я съем ее сегодня. Агно, пусть режут собак, чтобы люди получили еду вовремя. Затем, собравшись уйти, он перешел на английский морской жаргон и сурово кинул через плечо: — Мой говорит, мой много сердит на тебя.
Глава семнадцатая
Слепой Наласу медленно побрел прочь, держа в одной руке палку, которой нащупывал дорогу, а в другой неся вниз головой Джерри за связанные лапы. Но в отличие от мальчика Ламаи старик не потащил Джерри прямо к себе домой. У первого же ручья, протекавшего среди низких холмов, он остановился и напоил Джерри. И Джерри забылся, с наслаждением ощущая холодную влагу на языке, во рту и в горле. Тем не менее подсознательно в нем нарастало впечатление, что этот чернокожий добрее Ламаи, добрее Агно и Башти, добрее всех, кого он встречал в Сомо. Пил он до тех пор, пока не мог уже больше вместить ни капли, и, напившись, в благодарность лизнул Наласу — не с жаром и страстью, как лизнул бы руку шкипера, но с должной признательностью за животворный напиток. Старик усмехнулся с довольным видом, погрузил Джерри в воду и, поддерживая его голову на поверхности, разрешил ему так лежать долгие блаженные минуты. От ручья до дома Наласу — порядочное расстояние — старик по-прежнему нес его со связанными ногами, но уже не головой вниз, а прижав одной рукой к груди. Он хотел привязать к себе собаку. Наласу, много лет одиноко просидевший во тьме, думал об окружавшем его мире гораздо больше и знал его гораздо лучше, чем если бы был зрячим. Ему была нужна собака. Он испробовал несколько лесных собак, но они мало ценили его доброту и неизменно от него удирали. Последняя оставалась дольше всех, ибо он обращался с ней с величайшей добротой, но и она убежала раньше, чем он ее натренировал. И вот он услышал, что собака белого господина иная. Она никогда не удирала от опасности и считалась умнее всех собак Сомо. Изобретенный Ламаи способ привязывать собаку с помощью палки распространился по деревне, и теперь в доме Наласу Джерри снова очутился привязанным к палке. Но была разница. Слепой никогда не терял терпения и каждый день часами просиживал на корточках и ласкал Джерри. Однако, не делай даже он этого, Джерри, евший его хлеб и привыкший уже к перемене хозяев, готов был видеть в Наласу своего господина. Джерри прекрасно понимал, что господство Агно кончилось с той поры, как колдун связал ему ноги и бросил в кучу к остальным беспомощным собакам на убойной площадке. А Джерри, с первых дней своей жизни не остававшийся без хозяина, чувствовал настойчивую потребность в хозяине. Настал день, когда палка была отвязана, и Джерри добровольно остался в доме Наласу. Старик, убедившись, что он не сбежит, приступил к его обучению. С каждым днем он все дольше занимался его обучением и наконец стал посвящать этому по нескольку часов в день. Прежде всего Джерри усвоил свое новое имя — Бао и выучился отзываться на него, как бы тихо его ни называли, а Наласу окликал его все тише и тише, пока не понизил голоса до шепота. У Джерри слух был чуткий, но и Наласу благодаря длительным упражнениям слышал немногим хуже. А затем слух Джерри был доведен до еще большей чуткости. По целым часам Джерри, сидя подле Наласу или стоя поодаль, учился улавливать еле слышные звуки и шорохи в кустарнике. Старик его обучал согласовывать рычание, каким он предостерегал Наласу, с лесными шумами. Если по шороху Джерри узнавал свинью или курицу, рычать совсем не полагалось. Если он не мог определить шум, то рычал тихо. Но если шорох производил мужчина или мальчик, старавшийся двигаться осторожно, а следовательно, внушавший подозрения, Джерри научился рычать громко; если раздавался громкий шум и человек двигался беззаботно, тогда Джерри ворчал тихонько. Джерри никогда не приходило в голову поинтересоваться, зачем его всему этому обучали. Он учился, потому что такова была воля его нового господина. Путем длительных усилий и терпения Наласу обучил его не только этому, но еще многому другому, и словарь Джерри так разросся, что они могли издали поддерживать быстрый и вполне точный разговор. Так, находясь на расстоянии пятидесяти шагов, Джерри тихонько рычал, сообщая, что раздался шум, которого он не знает, а Наласу различными присвистываниями приказывал ему стоять на месте, рычать тише, замолчать, бесшумно к нему приблизиться, пойти в кустарник и выяснить причину странного шороха либо с громким лаем броситься в атаку. Иногда Наласу, заслышав в противоположной стороне незнакомый звук, спрашивал Джерри, слышал ли тот его. А Джерри, насторожившись, отвечал Наласу, меняя характер и оттенки своего рычания, что он ничего не слышал. Затем ответ становился определеннее. Джерри услышал: это чужая собака, или лесная крыса, или мужчина, или мальчик. Все это Джерри передавал еле слышно, едва ли громче дыхания, и эти звуки были односложны — подлинная стенография речи. Странный старик был Наласу. Он жил в маленьком травяном доме на окраине деревни. Ближайший дом находился на большом расстоянии, а его собственная хижина стояла на просеке, окруженной густыми зарослями джунглей, но стена растительности нигде не подступала к дому ближе чем на шестьдесят шагов. И эту просеку Наласу постоянно очищал от быстро пробивающейся зелени. Друзей у него, по-видимому, не было. Во всяком случае, никто никогда его не навещал. Много лет прошло с тех пор, как он отвадил последнего посетителя. И родни у него не было. Жена давно умерла, а три неженатых сына потеряли головы в стычке за пределами Сомо, на лесистых холмах, и были съедены лесными жителями. Несмотря на свою слепоту, Наласу не сидел без дела. Помощи он не просил ни у кого и сам себя поддерживал. На своей просеке он сажал батат, сладкий картофель и таро. На другой просеке — а он был против того, чтобы разводить деревья у самого дома, — у него были смоковницы, бананы и с полдюжины кокосовых пальм. Плоды и овощи он обменивал внизу, в деревне, на мясо, рыбу и табак. Добрую часть дня он посвящал обучению Джерри, а иногда занимался изготовлением луков и стрел, которые высоко ценились его соплеменниками и находили постоянный сбыт. Почти не проходило дня, когда бы он не попрактиковался в стрельбе из лука. Он целился только по направлению звука; и всякий раз, когда в джунглях раздавался шум и шелест и Джерри сообщал ему о характере звука, Наласу пускал стрелу. Затем в обязанности Джерри входило найти и осторожно принести назад стрелу, если она не попала в цель. Любопытно, что Наласу спал не больше трех часов в сутки, никогда не спал ночью, а для своего короткого дневного сна всегда уходил из дому. У него было нечто похожее на гнездо в самой густой чаще соседних джунглей. Ни одна тропинка не вела к этому гнезду. Он никогда не приходил туда и не уходил одной и той же дорогой, а богатая тропическая растительность тотчас же уничтожала малейшие следы шагов. Всякий раз, когда он спал, Джерри был обучен оставаться на страже и никоим образом не засыпать. У Наласу было достаточно оснований для таких бесконечных предосторожностей. Старший из его трех сыновей убил в ссоре некоего Ао. Ао был одним из шести братьев семьи Анно, жившей в одной из нагорных деревень. Согласно закону Сомо, семья Анно имела право взыскать кровавый долг с семьи Наласу, но им помешала смерть трех сыновей Наласу, убитых в джунглях. А так как кодекс Сомо требовал «жизнь за жизнь», а из всей семьи в живых остался один Наласу, то всему племени было известно, что Анно не успокоятся до тех пор, пока не лишат жизни слепого старика. Наласу прославился не только как отец трех воинственных сыновей, но и как великий боец. Дважды пытались Анно свести счеты и первый раз напали, когда Наласу еще был зрячим. Наласу открыл их засаду, обошел ее и, напав с тыла, убил самого Анно, отца семьи, удвоив тем кровавый долг. Затем его постигло несчастье. Он набивал снайдеровские патроны, уже неоднократно употреблявшиеся, когда черный порох взорвался и выжег ему оба глаза. Немного спустя, когда он еще залечивал свои раны, Анно пришли из своей деревни. Этого ждал Наласу и должным образом приготовился к встрече. В ту ночь трое из рода Анно наступили на отравленные колючки и умерли в страшных муках. Таким образом, количество жизней, отнятых у семьи Анно, возросло до пяти, а взыскивать долг можно было только с одного слепого старика. С того дня Анно слишком боялись колючек, чтобы отважиться на новую попытку, но жажда мести не угасала, и они жили надеждой в один прекрасный день украсить головой Наласу конек своей крыши. Перемирия не было, но наступило затишье. Старик ничего не мог против них предпринять, а они опасались открыть военные действия. День мести пришел уже после появления Джерри у Наласу, когда один из Анно изобрел вещь, дотоле невиданную во всей Малаите.
Глава восемнадцатая
Месяцы шли. Кончился юго-восточный пассат, подул муссон, а Джерри повзрослел на шесть месяцев, вырос, увеличился в весе, и кости у него окрепли. То было хорошее полугодие, проведенное у слепого старика, хотя Наласу был сторонником суровой дисциплины и изо дня в день посвящал долгие часы обучению Джерри, а это не многим собакам выпадает на долю. Но Джерри не получил от него ни одного удара, не слыхал ни одного грубого слова. Этот человек, убивший четырех Анно, — причем троих из них после потери зрения, — в дни своей необузданной молодости прикончивший немало людей, никогда не повышал голоса, гневаясь на Джерри, и добивался послушания не суровыми наказаниями, а ласковой воркотней. Это постоянное обучение, которому подвергся Джерри в период своей возмужалости, на всю жизнь укрепило и развило его умственные способности. Пожалуй, ни одна собака в мире не обладала таким словарем, как он, а объяснялось это, во-первых, его природным умом, во-вторых, гениальной способностью Наласу к дрессировке и, наконец, долгими часами, посвящаемыми обучению. Его стенографический словарь был на редкость богат для собаки. Пожалуй, можно сказать, что он и старик могли часами вести разговор, хотя отвлеченные темы были немногочисленны и просты; очень мало говорили они о недавнем прошлом и почти не касались ближайшего будущего. Джерри ничего не мог ему рассказать о Мериндже и «Эренджи», о великой любви, какую он питал к шкиперу, или о причине своей ненависти к Башти. И Наласу не мог рассказать Джерри о кровавой вражде с Анно или о том, как он потерял зрение. На практике все их разговоры вертелись непосредственно вокруг настоящего момента, хотя они могли коснуться слегка и недалекого прошлого. Наласу давал Джерри ряд поручений, например: пойти одному на разведки, дойти до гнезда, описать около гнезда большой круг, двинуться оттуда на вторую просеку, где росли фруктовые деревья, пересечь джунгли до главной тропы, спуститься по ней вниз, к деревне, до большой смоковницы, а затем по маленькой тропинке вернуться к Наласу. Все эти поручения Джерри выполнял с величайшей точностью и по возвращении делал доклад в таком роде: у гнезда ничего необыкновенного, разве что поблизости появился сарыч; на просеке упали на землю три кокоса — Джерри умел безошибочно считать до пяти; между просекой и главной тропой он видел четырех свиней; на главной тропе он повстречал одну собаку, двух детей и больше пяти женщин; а на маленькой тропинке, ведущей к дому, заметил одного какаду и двух мальчиков. Но Джерри не мог объяснить Наласу, что потребности его ума и сердца мешают ему быть вполне довольным своей жизнью. Ибо Наласу был не белым, а только черным богом. А Джерри ненавидел и презирал всех негров, за исключением Ламаи и Наласу. Их он терпел, а к Наласу чувствовал даже ровную и теплую привязанность. Любить его он не любил и не мог полюбить. В лучшем случае они были второразрядными богами, а он не мог позабыть таких великих белых богов, как шкипер и мистер Хаггин да еще Дерби и Боба, относившихся к той же породе. Они были какими-то другими, лучшими, чем-то отличались от этих черных дикарей, среди которых он сейчас жил. Они были где-то над ними, жили в недосягаемом раю; об этом рае у Джерри сохранилось живое воспоминание, по нему он тосковал, но пути к нему не знал и смутно ощущал конечность всего, представлял, что и этот рай может исчезнуть в последнем «ничто», которое поглотило шкипера и «Эренджи». Тщетно пытался старик завоевать любовь Джерри. Он не мог вытравить воспоминания Джерри, хотя и добился его преданности и верности. За Наласу Джерри готов был сражаться не на жизнь, а на смерть, но сражаться преданно, а не страстно, как сражался бы за шкипера. А старик и не подозревал, что Джерри не отдал ему всего своего сердца.
Настал день для семьи Анно, когда один из них изобрел плетеные сандалии, чтобы предохранить подошвы ног от отравленных колючек, которыми Наласу отнял жизнь у троих. Собственно говоря, то был не день, а ночь, и такая черная ночь под затемненным облаками небом, что перед самым носом нельзя было разглядеть стволы деревьев. И двенадцать человек из семьи Анно спустились к просеке Наласу; они были вооружены снайдеровскими винтовками, пистолетами, томагавками и военными дубинками. Несмотря на свои толстые сандалии, они двигались очень осторожно, опасаясь колючек, которых Наласу больше уже не разбрасывал. Джерри, сидя между коленями своего господина и сонно клюя носом, первый предостерег Наласу. Старик сидел у двери своего дома, широко раскрыв глаза и напряженно прислушиваясь; так просиживал он все ночи уже много лет. Он стал прислушиваться еще напряженнее, но он долго ничего не мог уловить и шепотом расспрашивал Джерри, приказав ему отвечать возможно тише; и Джерри пыхтением, сопениями и всеми стенографическими звуками, каким был обучен, уведомил его, что приближаются люди — много людей, больше пяти человек. Наласу пододвинул лук, наставил стрелу и стал ждать. Наконец и он уловил легкий шелест, раздававшийся то здесь, то там и надвигавшийся из джунглей. Еле слышно он потребовал подтверждения от Джерри, у которого шерсть ерошилась на шее под чувствительными пальцами Наласу. Джерри к тому времени мог читать ночной воздух не хуже, чем ушами, и снова тихо подтвердил Наласу, что идут люди — много людей, больше пяти. Наласу, терпеливый, как и все старики, сидел, не шевелясь, пока не уловил вблизи на опушке джунглей, на расстоянии шестидесяти футов, шорох человеческих шагов. Он натянул лук, спустил стрелу и был вознагражден вздохом и стоном. Первым делом он удержал Джерри, порывавшегося за стрелой, ибо он знал, что стрела попала в цель, а затем наставил на тетиву новую стрелу. Пятнадцать минут прошли в молчании; слепец сидел, словно высеченный из камня, собака дрожала от возбуждения под внятным прикосновением его пальцев, повинуясь приказанию молчать. Ибо Джерри знал не хуже Наласу, что смерть шелестит и крадется в окружающем мраке. Снова раздался шелест, на этот раз ближе, но спущенная стрела не попала в цель. Они слышали, как она ударилась о ствол дерева, и раздались тихие шаги отступавшего врага. После недолгого молчания Наласу приказал Джерри достать стрелу. Джерри был хорошо выдрессирован, и даже Наласу, слышавший лучше зрячих людей, не уловил ни единого звука, когда он двинулся по направлению к вонзившейся в дерево стреле и принес ее в зубах. И снова Наласу стал ждать, пока не раздался шорох приближавшихся людей; тогда он взял все свои стрелы и в сопровождении Джерри бесшумно передвинулся на полкруга. И пока они шли, прогремел выстрел — целились наугад в только что покинутое ими место. И с полуночи до рассвета слепец и собака успешно отражали нападение двенадцати человек, имевших в своем распоряжении порох и далеко бьющие пули из мягкого свинца. А слепец защищался только луком и сотней стрел. Он выпускал стрелы, а Джерри приносил их назад, и старик снова и снова пускал их. Джерри работал доблестно, помогая своим более чутким слухом, бесшумно кружась вокруг дома и докладывая, где готовится наступление. Много драгоценного пороха израсходовали Анно впустую, так как это сражение напоминало игру с невидимыми духами. Ничего не было видно, кроме вспышек пороха. И Джерри они не видели ни разу, хотя чутьем угадывали его близость, когда он отыскивал стрелы. Один из них, нащупывая стрелу, едва в него не вонзившуюся, коснулся рукой спины Джерри и дико взвыл от ужаса, почувствовав острый укус. Они пробовали целиться в то место, где прогудела тетива Наласу, но всякий раз Наласу, выпустив стрелу, немедленно менял позицию. Не раз, почуяв близость Джерри, они стреляли в него, и один раз ему обожгло порохом нос. На рассвете в недолгих тропических сумерках Анно отступили, а Наласу, скрывшись от света в свое жилище, все еще имел в своем распоряжении благодаря Джерри восемьдесят стрел. В результате Наласу убил одного человека, и неизвестно, сколько еще раненных стрелами с трудом уползли прочь. Полдня Наласу просидел на корточках перед Джерри, лаская его за все, что он сделал. Затем, захватив с собой Джерри, он отправился в деревню и рассказал о сражении. — Я обращаюсь к тебе, как старик к старику, — начал Башти. — Я старше тебя, о Наласу; я никогда не ведал страха. Однако я никогда не был храбрее тебя. Я бы хотел, чтобы все в племени были так же храбры, как ты. И все же ты причиняешь мне великую скорбь. Что толку в твоей отваге и ловкости, если нет у тебя потомства, в котором возродилась бы твоя отвага и ловкость. — Я старый человек, — заговорил Наласу. — Моложе меня, — перебил Башти. — И не слишком стар для женитьбы, чтобы дать племени сильное потомство. — Я был женат долго и был отцом трех храбрых сыновей, но они умерли. Мне не прожить так долго, как тебе. О днях своей молодости я думаю, как о приятнейших сновидениях, о которых помнишь после пробуждения. Но больше думаю я о смерти, о конце. О женитьбе я совсем не думаю. Я слишком стар, чтобы жениться. Я достаточно стар, чтобы готовиться к смерти, и великое любопытство охватывает меня при мысли о том, что случится со мною, когда я умру. Буду ли я навеки мертвым? Стану ли снова жить в стране сновидений — жить, как тень, вспоминающая дни, когда я жил в знойном мире и голод щекотал мой рот, а в груди вздымалась любовь к женщине? Башти пожал плечами. — Я тоже много об этом думал, — сказал он. — И, однако, ни к чему не пришел. Я не знаю. И ты не знаешь. Мы не будем знать, пока не умрем, если только сможем что-нибудь знать, когда уж станем не теми, кем были раньше. Но одно мы знаем, ты и я: племя живет, племя никогда не умирает. Поэтому, если есть вообще какой-нибудь смысл в нашей жизни, мы должны делать племя сильным. Твой долг перед племенем не выполнен. Ты должен жениться, чтобы твоя ловкость и отвага остались после тебя. У меня есть для тебя на примете жена, нет, две жены, ибо дни твои сочтены и я, конечно, доживу до той поры, когда ты будешь подвешен к коньку дома для пирог, где висят отцы. — Не стану платить за жену! — запротестовал Наласу. — Ни за какую жену не стану платить! Пачки табака или треснувшего кокоса не отдам за лучшую женщину Сомо! — Не тревожься, — спокойно продолжал Башти. — Я заплачу выкуп за жену, за двух жен. Вот хотя бы Бубу. Я куплю ее для тебя за полкоробки табаку. Она плотная и коренастая, широкобедрая, с круглыми ногами. А другая — Нену. Ее отец загнул большую цену — целую коробку табаку. Я куплю тебе и ее. Дни твои сочтены. Мы должны спешить. — Не женюсь! — истерически крикнул старик. — Женишься! Я приказал. — Нет, говорю я, нет, нет, нет! От жен одни неприятности. Они молоды, и головы у них забиты ерундой. И на язык они распущенны. Я стар, привык к спокойствию, пламя жизни покинуло меня, я предпочитаю сидеть один в темноте и думать. Молодые, болтливые создания, у которых и в голове и на языке одни глупости, сведут меня с ума. Непременно сведут с ума, и я стану плевать в каждую раковину, корчить рожи луне, выть и кусать себе вены. — Если и сойдешь с ума, что за беда, раз семя твое не погибнет. За жен я заплачу отцам и пришлю тебе их через три дня. — Не буду я с ними иметь дела! — в бешенстве заявил Наласу. — Будешь, — спокойно сказал Башти. — А не то ты мне заплатишь. Я прикажу вывернуть тебе каждый сустав, и ты превратишься в студенистую рыбу, в жирную свинью с вынутыми костями; потом тебя положат на самую середину убойного поля, и будешь ты в муках пухнуть на солнцепеке. А то, что от тебя останется, велю бросить на съедение собакам. Семя твое не погибнет для Сомо. Я, Башти, так сказал. Через три дня я пришлю тебе твоих двух жен… Он кончил, и наступило долгое молчание. — Ну? — возобновил разговор Башти. — Или женись, или будешь лежать с вывихнутыми суставами на солнцепеке. Выбирай, но подумай хорошенько раньше, чем выберешь вывихнутые суставы. — И это на старости лет, когда отошли все печали юности! — простонал Наласу. — Выбирай. Познаешь печаль и волнение, когда будешь лежать на убойном поле, а солнце припечет твои больные суставы и вытопит жир из твоего тощего тела, как вытапливают сало из жареного поросенка. — Присылай… — после долгой паузы выговорил с трудом Наласу. — Но присылай их через три дня, а не через два и не завтра. — Хорошо. — Башти с важностью кивнул головой. — Не забудь, что тебя бы вовсе не было, если бы не те, жившие до тебя и давно уже пребывающие во мраке, кто трудился для того, чтобы племя могло жить и чтобы ты мог существовать. Ты существуешь. Они уплатили за тебя цену. Это твой долг. Ты вошел в жизнь, неся на себе этот долг. Ты уплатишь долг прежде, чем уйдешь из жизни. Таков закон. Это справедливо.
Глава девятнадцатая
Пришли Башти жен на два дня раньше назначенного срока или хотя бы на один день, Наласу пришлось бы вступить в пугавшее его чистилище брачной жизни. Но Башти сдержал свое слово, а на третий день он был поглощен более важным делом, чем отсылать Бубу и Нену к слепому старику, с опаской их поджидавшему. А дело было в том, что на утро третьего дня на всех вершинах подветренного берега Малаиты появились сигнальные столбы дыма. Они несли весть о том, что военный корабль появился у берега; большой военный корабль входит в коралловую лагуну у Ланга-Ланга. Молва росла. Военный корабль не остановился в Ланга-Ланга. Не остановился и в Бину. Он направляется в Сомо. Наласу по своей слепоте не мог видеть эти дымные письмена, начертанные в воздухе. Дом его стоял на отлете, и никто не пришел уведомить старика. Первое предостережение он получил, когда пронзительные голоса женщин, плач детей и визг грудных младенцев донеслись с главной тропы, которая вела из деревни к нагорной границе Сомо. В этих звуках он прочел только панический страх и вывел заключение, что деревенское население бежит в горные укрепления. Но причины бегства он не знал. Он подозвал Джерри и приказал пойти на разведку к большой смоковнице, где тропинка Наласу пересекалась с главной тропой; там он должен наблюдать, а затем вернуться с отчетом. Джерри уселся под смоковницей и стал следить за бегством всего Сомо. Мужчины, женщины и дети, юноши и старцы, матери с грудными младенцами и патриархи, опиравшиеся на палки и посохи, поспешно проходили мимо, охваченные великой тревогой. Деревенские псы, испуганные не меньше людей, воя и скуля, бежали за ними. И Джерри едва не заразился общим ужасом. Он чувствовал побуждение присоединиться к беглецам, спасавшимся от какой-то неведомой катастрофы, которая надвигалась и будила в нем инстинктивную боязнь смерти. Но над этим импульсом одержало верх чувство долга перед слепым, который кормил и ласкал его в течение долгих шести месяцев. Вернувшись к Наласу, Джерри уселся между его коленями и сделал доклад. Он не умел считать больше, чем до пяти, хотя и знал, что беглецов было во много раз больше. Поэтому он отметил пять мужчин и больше, пять женщин и больше, пять человек детей и больше, пять собак и больше, даже свиней он не забыл — пять свиней и больше. Наласу по слуху определил, что беглецов было во много раз больше, и спросил их имена. Джерри знал имена Башти, Агно, Ламаи и Лумаи. В его произношении эти имена отнюдь не напоминали обычного звукосочетания, а состояли из сопения и фырканья — той стенографической речи, которой обучил его Наласу. Наласу стал перечислять другие имена, которые Джерри знал по слуху, но сам произнести не мог; большей частью он отвечал утвердительно, наклоняя голову и одновременно поднимая правую лапу. Выслушав некоторые имена, он продолжал сидеть неподвижно в знак того, что их не знает. Если же людей, кому принадлежали знакомые Джерри имена, он не видел, то отвечал отрицательно, поднимая левую лапу. И, не зная, что надвигается нечто ужасное, значительно более ужасное, чем нападение соседних приморских племен, которое легко могло отразить население Сомо, защищенное своими стенами, Наласу догадался, в чем дело: то мог быть только карательный военный корабль. Несмотря на свои шестьдесят лет, Наласу ни разу не видел бомбардировки деревни. Он слыхал неясную молву о пушечном обстреле других деревень, но никакого представления о нем не имел, думая только, что пули должны быть большего размера и лететь дальше, чем снайдеровские. Но перед смертью ему суждено было познакомиться с пушечным обстрелом. Башти, давно поджидавший крейсер, который должен был отомстить за уничтожение «Эренджи» и снятые головы двух белых, успел подсчитать предстоящие убытки и теперь отдал приказ своему народу бежать в горы. В авангарде шли двенадцать молодых людей, неся завернутые в циновки головы. В арьергарде шли последние запоздавшие беглецы, когда Наласу, захватив свой лук и восемьдесят стрел, сделал первый шаг, чтобы последовать за ними. Джерри шел за ним по пятам. В эту минуту воздух над его головой был рассечен ужасающим звуком. Наласу сразу присел. То была первая граната, какую он слышал, и она оказалась в тысячу раз ужаснее, чем он воображал. Звук был оглушительный, раскалывающий небо, словно какое-то могущественное божество руками разодрало космическую ткань. Словно кто-то раздирал сложенные в кипу паруса — обширные, как земля, и необъятные, как небо. Наласу не только опустился у самой двери своего дома, но и спрятал голову в колени и прикрыл ее руками. И Джерри, никогда не слыхавший бомбардировки, не мог дать себе отчета в происходящем и был охвачен ужасом. Для него это была естественная катастрофа, вроде той, какая постигла «Эренджи», когда судно накренилось на бок под ревущим ветром. Но, верный своей природе, он не припал к земле под визгом первого снаряда. Напротив, он ощетинился и угрожающе оскалил зубы, встречая то невидимое существо, какое на него надвигалось. Наласу еще ближе припал к земле, когда снаряд разорвался вдали, а Джерри снова оскалил зубы и взъерошил шерсть. То же повторялось при каждом новом снаряде, которые визжали уже не так громко, но разрывались в джунглях все ближе и ближе. И Наласу, мужественно проживший всю свою долгую жизнь среди знакомых ему опасностей, был обречен умереть смертью труса, охваченный ужасом перед неведомым химическим процессом, пославшим снаряд белых людей. По мере того как разрывы приближались, он терял последнее самообладание. Так велик был его панический страх, что он готов был прокусить себе вены и завыть. С безумным воплем он вскочил на ноги и ринулся в дом, словно соломенная крыша его жилища и в самом деле могла защитить его голову от обстрела. Он ударился о косяк и, описав полукруг, упал на середину пола, а следующий снаряд угодил ему прямехонько в голову. Джерри как раз дошел до порога, когда снаряд разорвался. Дом разлетелся на части, а с ним и Наласу. Джерри, стоявший на пороге, был подхвачен воздушной волной и отлетел шагов на двадцать в сторону. И в тот же момент что-то рухнуло на него. Казалось, то было землетрясение, волна прилива, извержение вулкана, небесный гром и огненная вспышка молнии. И он потерял сознание… Он не имел представления, как долго пролежал. Прошло пять минут, прежде чем его ноги судорожно задергались; а когда он, одурманенный, шатаясь, поднялся на ноги, протекшее время словно стерлось в его памяти. О времени он вообще не думал. В сознании мелькнуло только, что секунду назад его поразил устрашающий удар, бесконечно более сильный, чем удар палки. Горло и легкие были заполнены едким, удушливым дымом пороха, ноздри забиты землей и пылью; он отчаянно чихал и фыркал, метался, падал на землю, словно пьяный, снова подпрыгивал, пошатываясь на задних лапах, наконец, опустив морду, стал тереть нос передними лапами, а потом зарылся носом в землю. Он думал только о том, чтобы уничтожить едкую боль в носу и во рту, прогнать из груди удушье. Каким-то чудом разлетевшиеся осколки снаряда его не задели, а благодаря здоровому сердцу он не умер от сотрясения воздуха при взрыве. Лишь по истечении пяти минут бешеной борьбы, когда он вел себя ни дать ни взять, как только что зарезанная курица, жизнь снова показалась ему сносной. Удушье и боли стали проходить, и хотя он еще испытывал слабость и головокружение, но все же засеменил по направлению к дому и к Наласу. Но ни дома, ни Наласу не было: оба были искрошены. Снаряды по-прежнему визжали и разрывались то вблизи, то вдалеке, пока Джерри вникал в происшедшее. И дом и Наласу, несомненно, исчезли. На обоих спустилось последнее ничто. Казалось, весь непосредственно близкий мир был обречен на уничтожение. Жизнь как будто еще оставалась там, среди высоких холмов и в далеких джунглях, куда уже скрылось племя Сомо. Джерри был верен своему господину, которому так долго повиновался, хотя тот и был чернокожим. Наласу его кормил, и к нему Джерри был искренне привязан. Но этот господин перестал существовать. Джерри стал удаляться, но удалялся не спеша. Сначала он всякий раз рычал, заслышав визг снаряда, летящего в воздухе, или взрыв в кустах. Но спустя некоторое время, хотя снаряды все еще действовали на него неприятно, он перестал рычать и скалить зубы, а шерсть на шее разгладилась. Расставшись с тем, что некогда было и перестало существовать, он не визжал и не помчался, как лесная собака. Вместо этого он размеренной рысью и с достоинством побежал по тропинке. Выскочив на главную тропу, он нашел ее безлюдной. Последние беглецы прошли. Тропа, где обычно с утра до ночи шло движение, та тропа, которую Джерри так недавно видел запруженной народом, теперь своим безлюдьем говорила ему о конечности всех вещей в гибнущем мире. И потому Джерри не уселся под смоковницей, а побежал дальше за арьергардом племени. Нюхом он читал историю бегства и только один раз наткнулся на страшную картину. То была целая группа, группа, уничтоженная снарядом: пятидесятилетний мужчина на костыле — нога его была отхвачена акулой, когда он был мальчишкой, — мертвая женщина с мертвым младенцем у груди и мертвым трехлетним ребенком, уцепившимся за ее руку, и две мертвые свиньи, большие и жирные, которых женщина гнала в безопасное место. И нос Джерри рассказал ему, как поток беглецов раздвоился, обошел это место и снова слился. Джерри встречал следы бегства: полуобглоданный стебель сахарного тростника, брошенный ребенком; глиняная трубка с отбитым коротким мундштуком; перо, выпавшее из прически юноши; плошка с печеным мясом и сладким картофелем, осторожно поставленная у тропинки какой-нибудь женщиной, уставшей ее тащить. Тем временем обстрел прекратился. Вскоре Джерри услышал ружейную стрельбу: десант расстреливал домашних свиней на улицах Сомо. Но Джерри не слыхал, как срубались кокосовые пальмы, и так и не вернулся, чтобы поглядеть, какие опустошения произвели топоры. Ибо как раз в это время с Джерри произошла чудесная вещь, какую еще не объяснил ни один из мировых мыслителей. В его собачьем мозгу проснулась свобода воли, которая для всех философов-метафизиков являлась постулатом бытия, а всех философов-детерминистов водила за нос, несмотря на их определенное заявление, что свобода воли — чистейшая иллюзия. Как и почему он это сделал, Джерри знал столько же, сколько знает любой философ, почему он решил позавтракать кашей со сливками, а не двумя яйцами всмятку. А Джерри, повинуясь импульсу, выбрал не то, что легко и привычно, а как раз обратное: то, что казалось трудным и необыкновенным. Так как легче выносить известное, чем стремиться к неизвестному, и так как несчастье и страх заставляют бежать от одиночества, то легче всего было бы для Джерри последовать за племенем Сомо в его укрепления. А вместо этого Джерри свернул с пути отступающих и двинулся на север, к границам Сомо, и все дальше на север, в страну неведомого. Если бы Наласу не перешел в последнее небытие, Джерри остался бы. Это правда, и, обсуждая его поступок, можно предположить именно такой ход мышления. Однако Джерри об этом не размышлял и вовсе ни о чем не думал: он действовал импульсивно. Он мог сосчитать пять предметов и назвать их, но совершенно не способен был осознать, что остался бы в Сомо, не умри Наласу. Он уходил из Сомо, ибо Наласу был мертв, а ужасный обстрел отошел в область прошлого, тогда как настоящее сделалось живым. Бесшумно пробирался он по тропинкам диких лесных жителей, напряженно чуя притаившуюся смерть, которая, как ему было известно, бродит по этим тропам. При каждом шелесте в джунглях он напряженно настораживал уши, а глазами впивался в заросли, стараясь выяснить причину шума. Колумб, весь целиком отдавшийся неизвестному, был не более отважен, чем Джерри, рискнувший войти во мрак джунглей черной Малаиты. И этот удивительный поступок, это великое проявление свободной воли он совершил так же, как совершают свои странствования по лицу земли люди, которые не могут усидеть на месте и отдаются дразнящей мечте. Джерри так больше и не увидел Сомо, но Башти вернулся со своим племенем в тот же день и, хихикая и ухмыляясь, определил ничтожные убытки. Всего лишь несколько травяных домов пострадало от обстрела. И очень мало кокосовых пальм было срублено. А чтобы убитые свиньи не испортились, их туши пошли на пиршественный стол. Один снаряд пробил брешь вбереговой стене. Он приказал ее расширить для спусковых полозьев и укрепить по бокам коралловыми камнями и повелел построить добавочный дом для пирог. Досаду причинили ему только смерть Наласу и исчезновение Джерри: пропали оба объекта для примитивных экспериментов в области наследственности.
Глава двадцатая
В джунглях Джерри прожил недолго, а в горы ему мешали пробраться лесные жители, постоянно охранявшие тропинки. С пищей ему пришлось бы туго, не встреть он на второй день одинокого поросенка, видимо, отбившегося от семьи. То было первое его охотничье приключение, и это помешало ему продвигаться дальше, так как, верный своему инстинкту, он не отходил далеко от убитого поросенка, пока не сожрал его. Правда, он рыскал по соседству, но другой пищи добыть не мог и всякий раз возвращался к поросенку, пока не прикончил его. Свобода не дала ему счастья. Он был слишком приручен, слишком цивилизован. Слишком много тысячелетий прошло с тех пор, как его предки жили свободной, дикой жизнью. Он был одинок. Он не мог обойтись без человека. Слишком долго он и поколения его предков прожили в тесной близости с двуногими богами. Слишком долго его предки любили человека, за любовь служили ему, страдали и умирали за любовь, а взамен получали грубую ласку, мало понимания и немногим больше внимания. Так велико было одиночество Джерри, что он порадовался бы и черному богу, раз уж белые боги давно отошли в область прошлого. Умей он делать выводы, он пришел бы к тому заключению, что все белые боги погибли. Следуя предпосылке, что черный бог лучше, чем полное отсутствие бога, Джерри, покончив с поросенком, изменил свой курс и двинулся налево, с холмов к морю. Поступил он так, опять-таки не рассуждая, а на основании запечатлевшегося в мозгу воспоминания о пережитом. Он жил всегда у моря, и у моря всегда встречал людей, а холмы неизменно спускались к морю. Он вышел на берег защищенной коралловыми рифами лагуны; здесь он увидел разрушенные травяные шалаши — следы живших тут людей. Джунгли завладели покинутой деревней. Шестидюймовые деревья, охваченные гнилыми остатками тростниковых крыш, сквозь которые они пробились к солнцу, вздымались над Джерри. Быстро растущие деревья затенили священные столбы, где идолы и тотемы, восседающие в пасти вырезанных из дерева акул, сквозь налет мха и пятнистых грибков ухмылялись зеленым чудовищным оскалом, издеваясь над суетой сует. От кокосовых пальм к спокойному морю тянулись развалины маленького, жалкого приморского вала. Бананы, смоквы и плоды хлебного дерева гнили на земле. Повсюду валялись кости — человеческие кости, — и Джерри, обнюхав их, признал их за то, чем они были, — эмблемы суетности жизни. Черепа ему не попадались, так как они служили украшением домов колдунов в гористых лесных деревнях. Соленый привкус моря дразнил его обоняние, и он с удовольствием вдыхал зловоние мангиферового болота. Но вдруг, как новый Робинзон, наткнувшийся на след Пятницы, Джерри насторожился, как наэлектризованный. Он не увидел, а носом почуял свежий след ноги живого человека. То была нога негра, но негра живого, совсем недавно оставившего этот отпечаток; а проследив его ярдов на двадцать, он напал на след другой ноги, несомненно, принадлежавшей белому человеку. Созерцай кто-нибудь эту сцену, он бы подумал, что Джерри внезапно взбесился. Он кидался, как сумасшедший, из стороны в сторону, вертелся, извивался, то утыкался носом в землю, то водил им по воздуху, бешено взвизгивая на бегу; почуяв новый запах, круто сворачивал под углом, метался то туда, то сюда, словно играя в пятнашки с невидимым товарищем. А в действительности он читал то, что было написано людьми на земле. Тут прошел белый человек, вынюхивал Джерри, а с ним несколько чернокожих. А здесь негр влез на кокосовую пальму и стряхнул орехи. Там с бананового дерева сняли пучки плодов, а дальше та же участь, несомненно, постигла и хлебное дерево. Только одно приводило его в недоумение — новый для него запах, который не был ни запахом чернокожего, ни запахом белого. Обладай он нужными знаниями и умением всматриваться, он бы отметил, что отпечаток ноги меньше мужского, а пальцы в отличие от чернокожей женщины сближены и не так глубоко вдавливаются в землю. А с толку его сбивал незнакомый запах талька, раздражающий ноздри и не встречавшийся ни разу с тех пор, как он научился нюхом узнавать след человека. И с запахом талька смешивались другие, более слабые запахи, также совершенно ему незнакомые. Но Джерри недолго останавливался на этой тайне. Почуяв след белого человека, он проследил его сквозь лабиринт всех других следов, через брешь в приморской стене, до песчаной коралловой косы, омываемой морем. Самые свежие отпечатки ног он нашел в том месте, где нос лодки врезался в берег, и люди высаживались из нее, а потом снова в нее уселись. Он нюхом почуял все, здесь происходившее, и, опустив передние лапы в воду, пока она не коснулась его плеч, поглядел на лагуну — туда, где терялся след. Приди Джерри получасом раньше, он бы увидел лодку без весел, с газолиновым двигателем, летящую по спокойной воде. А теперь он увидел «Эренджи». Правда, этот «Эренджи» был значительно больше прежнего «Эренджи», но такой же белый, длинный, с мачтами, и плыл он по поверхности моря. На нем были три величественные мачты — все одной вышины, — но Джерри был не настолько наблюдателен, чтобы уловить разницу между ними и двумя мачтами «Эренджи» — короткой и длинной. Джерри знал один только плавучий мир — окрашенный в белый цвет «Эренджи». А раз это был «Эренджи», то на борту должен находиться его возлюбленный шкипер. Если может воскресать «Эренджи», то почему не воскреснуть и шкиперу? И Джерри, проникнутый верой, что мертвая голова, виденная им в последний раз на коленях у Башти, снова присоединилась к двуногому туловищу и находится на палубе белого плавучего мира, пошел вброд до глубокого места, а затем поплыл. Джерри рисковал многим, так как, бросаясь в море, нарушал величайшее и старейшее из всех усвоенных им табу. В его словаре не было слова «крокодил», но таким же сильным, как членораздельное слово, жил в его мыслях страшный образ — образ плавучего бревна. Но бревно было живым существом, могло плавать и на поверхности воды и под водой и ползти по суше; у этого бревна были огромные зубастые крепкие челюсти, и оно несло верную смерть всякой плывущей собаке. И все-таки Джерри продолжал бесстрашно нарушать табу. В отличие от человека, который, плывя, может одновременно испытывать два чувства: страх и мужестве, берущее верх над страхом, — Джерри сознавал лишь одно: он плывет к «Эренджи» и к шкиперу. В момент, предшествовавший первому взмаху лап в глубокой воде, он сознавал весь ужас умышленного нарушения табу. Но, пустившись вплавь, приняв решение и избрав линию наименьшего сопротивления, он весь, умом и сердцем, сосредоточился на том, что плывет к шкиперу. Ему мало приходилось практиковаться в плавании, и сейчас он напрягал все силы, подвывая и в этом вое выражая свою страстную любовь к шкиперу, который, несомненно, должен быть на борту белой яхты на расстоянии полумили от него. Его маленькая песенка, полная любви и острого беспокойства, донеслась до слуха мужчины и женщины, отдыхавших в креслах под палубным тентом, а зоркая женщина первая увидела золотистую голову Джерри и вскрикнула. — Спусти шлюпку! — скомандовала она. — Там собачка. Как бы она не утонула! — Собаки не так-то легко тонут, — ответил муж. — Выбьется. Но как попала сюда собака? — Он поднес к глазам свой морской бинокль и секунду всматривался. — Да к тому ж собака белых людей! Джерри ударял лапами по воде и упорно плыл вперед, не сводя глаз с приближавшейся яхты, как вдруг почуял близость опасности. Табу карал его. Навстречу ему двигалось плавучее бревно, которое было не бревном, а чем-то живым и грозным. Он видел, как часть его двигается над поверхностью воды, и раньше, чем оно целиком погрузилось в воду, Джерри уловил какую-то разницу между ним и плавучим бревном. Затем что-то пронеслось мимо него, а он ответил рычанием и зашлепал передними лапами по воде. Его едва не закрутило в водовороте, так как скользнувшее существо пугливо взметнуло хвостом. То была акула, а не крокодил, и она не отступила бы так робко, если бы не была уже сыта по горло, прикончив большую морскую черепаху, которая по старости не сумела спастись. Джерри не видел, но чувствовал, что это существо, грозящее гибелью, вертится неподалеку. Не видел он и спинного плавника, показавшегося над водой и приближавшегося к нему с тыла. С яхты раздались частые ружейные выстрелы, и в тылу у него началась паника, послышался плеск воды. Тем и кончилось дело. Опасность миновала и была забыта. Джерри не связывал ружейные выстрелы с уничтожением опасности. Он не знал, и никогда не суждено ему было узнать, что некто по имени Гарлей Кеннан, или «муженек», как называла его женщина, именуемая им «женушкой», собственник трехмачтовой яхты «Ариель», спас ему жизнь, пробив ружейной пулей основание плавника акулы. Но Джерри суждено было в самом непродолжительном времени узнать Гарлея Кеннана, так как сам Гарлей Кеннан, обвязанный под мышкой булинем, был спущен двумя матросами за борт гостеприимного «Ариеля» и ухватил за загривок гладкошерстного ирландского терьера. А Джерри, повиснув над водой, даже не удостоил его взглядом, так как искал только одно знакомое ему лицо и жадно вглядывался в людей, свесившихся через поручни. Очутившись на палубе, Джерри не стал терять времени на изъявление благодарности, а, инстинктивно отряхнувшись на бегу, понесся искать шкипера. Муж и жена рассмеялись. — Он ведет себя так, словно с ума сошел от радости, — заметила миссис Кеннан. — Не в том дело, — возразил мистер Кеннан. — У него, должно быть, какого-нибудь винтика не хватает. Быть может, у него, как у зубчатого колеса, соскочила задерживающая полоска. Вот он и не может остановиться, пока не убегается. Тем временем Джерри продолжал носиться по палубе вдоль обоих бортов, от кормы до носа и обратно, виляя обрубленным хвостом и дружелюбно улыбаясь многочисленным двуногим богам, попадавшимся ему на пути. Будь он способен на отвлеченные рассуждения, он был бы поражен количеством белых богов. Их было не меньше тридцати, не считая других богов, ни черных и ни белых, которые тем не менее ходили на двух ногах, были одеты и, несомненно, являлись богами. Кроме того, будь он способен к подобному обобщению, он бы решил, что еще не все белые боги перешли в небытие. Но Джерри все это воспринимал бессознательно. А шкипера нигде не было. Джерри сунул нoc в люк на баке и в камбуз, где два кока-китайца залопотали что-то непонятное, и в рубку, и в люк машинного отделения, где впервые познакомился с запахом газолина и машинного масла; но сколько он ни принюхивался и где бы ни бегал, запаха шкипера не находил. У штурвала он готов был сесть и завыть от горького разочарования, но тут к нему обратился белый бог, по-видимому, особа важная, в форменном кителе и белоснежной полотняной фуражке, обшитой золотом. Джерри, всегда вежливый, сейчас же улыбнулся, любезно прижав уши, завилял хвостом и приблизился. Рука этого важного бога уже почти коснулась его головы, когда по палубе пронесся женский голос. Слов Джерри не понял, но почувствовал в них властное приказание. Бог, одетый в белое с золотом, быстро отдернул руку, уже почти коснувшуюся его головы, выпрямился, как наэлектризованный, и указал Джерри вдоль палубы, поощряя его словами; Джерри мог только догадаться, что его направляют к той, которая выразила свою волю в словах: — Капитан Винтере, пожалуйста, пришлите его ко мне. Джерри изогнулся всем телом, восторженно повинуясь, и с готовностью просунул бы голову под ее ласково протянутую руку, если бы его не остановило что-то странное в ней, отличное от других людей. Он застрял на полдороге и, оскалив зубы, попятился от ее раздуваемой ветром юбки. Он знал только голых туземных женщин. Эта юбка, хлопающая на ветру, как парус, напомнила ему грозный грот «Эренджи», трещавший и бившийся над его головой. Голос ее был ласковый и вкрадчивый, но страшную юбку по-прежнему раздувал ветерок. — Ах ты, смешная собака! — расхохоталась миссис Кеннан. — Я не собираюсь тебя укусить. А ее муж протянул сильную руку и привлек к себе Джерри. И Джерри в восторге извивался под лаской бога и лизал ему руку красным языком. Затем Гарлей Кеннан направил его к женщине, сидевшей в кресле и протягивавшей ему навстречу руки. Джерри повиновался. Он приблизился с прижатыми ушами и смеющейся мордой, но не успела она его коснуться, как ветер снова стал трепать юбку, и Джерри с ворчанием отступил. — Он не тебя боится, Вилла, а твоей юбки, — сказал Кеннан. — Быть может, ему никогда не приходилось видеть юбку. — Ты, видимо, думаешь, — заметила та, — что здешние людоеды имеют образцовые псарни. Ведь этот собачий авантюрист — ирландский терьер чистейшей породы. Это так же верно, как и то, что «Ариель» — шхуна, обшитая орегонской сосной. Гарлей Кеннан засмеялся, соглашаясь с ней. Засмеялась и она; а Джерри, поняв, что перед ним пара счастливых богов, сам стал смеяться. По собственной инициативе он приблизился к женщине-богу, привлекаемый тальковым порошком и другими более слабыми ароматами, в которых он уже успел узнать странные запахи, встреченные на берегу. Но злополучный пассат снова раздул ее юбку, и снова Джерри отступил — на этот раз не так далеко и уже не рыча, а лишь слегка оскалив клыки. — Он боится твоей юбки, — настаивал Гарлей. — Посмотри на него! Он хочет к тебе подойти, а юбка его отпугивает. Подбери ее, чтобы она не развевалась, и увидишь, что будет. Вилла Кеннан последовала совету, и Джерри осторожно подошел и подсунул голову под ее руку, обнюхал ее ноги. В них он узнал те самые ноги, которые шли разутые по заброшенным тропам прибрежной деревни. — Не может быть никаких сомнений, — заявил Гарлей. — Эта собака появилась на свет в результате тщательного отбора и воспитана белым человеком. У него есть прошлое. Он пережил исключительные приключения и если бы мог рассказать свою историю, мы бы слушали, зачарованные, по целым дням. Уж можешь мне поверить — он не всю свою жизнь провел с чернокожими. Давай испытаем его на Джонни. Джонни, которого подозвал к себе Кеннан, был предоставлен в их распоряжение верховным комиссаром британских Соломоновых островов, жившим в Тулаги, и служил Кеннану лоцманом и гидом. Джонни, ухмыляясь, приблизился, и поведение Джерри резко изменилось. Тело его напряглось под рукой Виллы Кеннан, он отошел от нее и, не сгибая ног, двинулся к чернокожему. Уши Джерри не были прижаты, и он уже не улыбался дружелюбно, когда осматривал Джонни и обнюхивал его голые икры, чтобы уметь опознать его в будущем. Но он был в высшей степени вежлив и после самого поверхностного осмотра вернулся к Вилле Кеннан. — А что я говорил? — торжествовал ее муж. — Он понимает разницу в цвете. Это собака белого человека, и ее выдрессировали соответствующим образом. — Мой говорит, — начал Джонни. — Мой знает этот собака. Мой знает его папа и мама. Большой белый господин мистер Хаггин живет в Мериндже, и там живет папа и мама этот собака. Гарлей Кеннан перебил его, возбужденно воскликнув: — Ну, конечно! Ведь комиссар рассказал мне об этом. «Эренджи», захваченный племенем Сомо, отошел с плантации Мериндж. Джонни узнал в собаке ту же породу, какую, должно быть, держит Хаггин в Мериндже. Но с тех пор прошло немало времени. Собака была тогда еще щенком. Ну, конечно, это собака белых. — Однако ты не заметил главного доказательства, — поддразнила его Вилла Кеннан. — А это доказательство собака носит на себе. Гарлей тщательно осмотрел Джерри. — Неоспоримое доказательство, — настаивала она. После вторичного длительного осмотра Кеннан покачал головой. — Ей-богу, не вижу ничего столь неоспоримого, чтоб отмести все возражения. — А хвост? — залилась смехом его жена. — Ведь туземцы не отрубают хвостов у своих собак… Джонни, черный человек в Малаите не режет собаке хвост? — Не режет, — согласился Джонни. — Мистер Хаггин в Мериндже, он режет. Мой говорит, он резал хвост этот собака. — Значит, эта собака одна только и уцелела с «Эренджи», — заключила Вилла Кеннан. — Вы согласны со мной, Шерлок Холмс-Кеннан? — Преклоняюсь перед вами, миссис Шерлок Холмс, — галантно ответил ее муж. — Вам остается только повести меня туда, где находится голова самого Лаперуза. В морских записях имеются указания, что он ее оставил где-то на этих островах.

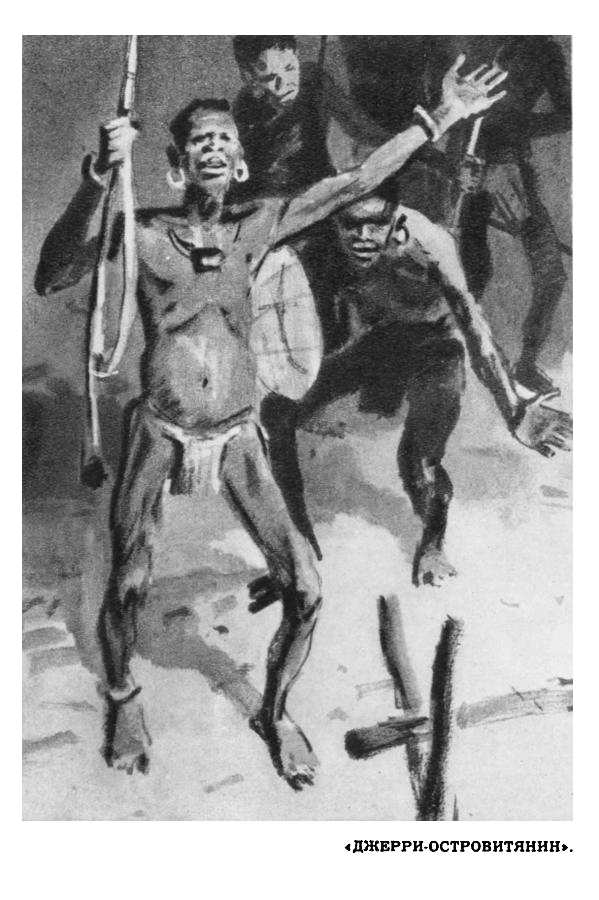
Они и не подозревали, что Джерри жил в тесной близости с неким Башти. А в это самое время всего в нескольких милях вдоль по берегу, в Сомо, сидел в своем травяном доме Башти и размышлял над лежавшей на его иссохших коленях головой, которая была некогда головой великого мореплавателя, чья история была забыта сыновьями вождя, снявшего ее.
Глава двадцать первая
Красивая трехмачтовая шхуна «Ариель» совершала кругосветное плавание и вышла из Сан-Франциско за год до того, как Джерри попал к ней на борт. Как мир, и при этом мир белых богов, она казалась ему вне всяких сравнений. Она была больше «Эренджи», и чернокожие не сновали на ней повсюду: и на носу, и на корме, и на палубе, и внизу Джерри нашел на ней только одного чернокожего — Джонни; остальное же ее пространство было заполнено двуногими белыми богами. Джерри встречал их повсюду: они стояли на вахте у штурвала, мыли палубу, начищали медные части, взбирались на мачты и поднимали паруса. Но боги были разные, и Джерри скоро усвоил, что в иерархии этих белых богов «Ариеля» матросы и прочая судовая команда стояли значительно ниже капитана и его двух помощников, одетых в белое с золотом. А эти, в свою очередь, были ниже Гарлея Кеннана и Виллы Кеннан, ибо им, как быстро обнаружил Джерри, приказания отдавал Гарлей Кеннан. Однако кое-что Джерри не знал, и не суждено было ему это узнать, а именно: кто был верховным божеством на «Ариеле». Эту загадку он и не пытался разрешить, ибо на подобное мышление был неспособен; он так никогда и не узнал, командовал ли Гарлей Кеннан Виллой или Вилла Кеннан Гарлеем. Не утруждая себе голову разрешением этой проблемы, Джерри принял их верховное господство над миром как дуалистическое. Ни один не превосходил другого. Казалось, они правили как равные, а все остальные перед ними склонялись. Неверно, будто необходимо кормить собаку, чтобы завоевать собачье сердце. Гарлей и Вилла никогда не кормили Джерри; однако их он избрал своими господами, их пожелал любить и им служить, а не японцу-баталеру, аккуратно его кормившему. Дело в том, что Джерри, как и всякая собака, умел уловить разницу между тем, кто дает ему есть, и тем, кто приказывает его кормить. Подсознательно он понимал, что не только его собственная кормежка, но и пропитание всех на борту зависит от мужчины и женщины. Это они всех кормили и всеми управляли. Капитан Винтере мог отдавать приказания матросам, но сам получал приказания от Гарлея Кеннана. Джерри был в этом убежден и действовал соответственно, хотя это никогда сознательно не приходило ему в голову. И как всегда — как это было с мистером Хаггином, со шкипером и даже с Башти и верховным колдуном Сомо — Джерри привязался к старшим богам, а со стороны низших богов принимал соответствующие знаки внимания. Как шкипер на «Эренджи» и Башти Сомо провозгласили табу на Джерри, так и владельцы «Ариеля» защитили его табу. Пищу Джерри получал от Сано, японца-баталера, — и только от него. Ни один матрос не смел ему предложить кусочек сухаря или пригласить на берег пробежаться, а Джерри не мог принять такое предложение. Но они и не предлагали. Не разрешалось им и фамильярничать с Джерри, затеять с ним игру или позвать его свистом. Джерри по натуре своей был собакой «одного господина», а потому все это было для него очень приемлемо. Конечно, намечались известные градации, но никто не разбирался в них с такой тонкостью и точностью, как сам Джерри. Так, обоим помощникам разрешалось приветствовать его словом «Алло!» и даже дружески погладить по голове. А с капитаном Винтерсом допускалась большая фамильярность. Капитан Винтере мог трепать его за уши, здороваться с ним за лапу, чесать ему спину и даже хватать за морду. Но капитан Винтере неизменно оставлял его в покое, когда на палубе показывались Кеннаны. Что касается вольностей очаровательных и шаловливых — только Джерри, одному из всех находившихся на борту, разрешалось вольничать с мужем и женой, а с другой стороны — только им двоим и он позволял такие же вольности. Всякую выходку, какая приходила на ум Вилле Кеннан, он принимал, замирая от счастья; так, например, она завертывала ему внутрь уши и одновременно заставляла его служить; чтобы сохранить равновесие, он беспомощно махал передними лапами, а она шутливо дула ему в нос. Такими же вольными были и шутки Гарлея Кеннана; застав Джерри сладко спящим на подоле юбки Виллы, он начинал щекотать ему между пальцами. Джерри бессознательно отбрыкивался во сне, а проснувшись, слышал взрыв смеха по своему адресу. По вечерам на палубе Вилла шевелила пальцами под одеялом, подражая какому-то странному ползущему животному, а Джерри прикидывался одураченным и приводил в полный беспорядок ее постель, яростно накидываясь на крадущееся животное, хотя прекрасно знал, что это были всего-навсего ее пальцы. К взрывам ее смеха примешивались возгласы почти подлинного испуга, когда Джерри едва не хватал ее зубами за ногу, и дело всегда кончалось тем, что Вилла заключала его в свои объятия, и замиравший смех щекотал ему уши, любовно прижатые назад. Кто еще из находившихся на борту «Ариеля» дерзнул бы так безобразничать на постели богини? Этого вопроса Джерри себе не задавал; однако он прекрасно понимал, какими исключительными милостями пользуется. Еще одну вольную шалость Джерри придумал случайно. Как-то он любовно подсунул морду к ее лицу и нечаянно ткнулся своим твердым носом с такой силой, что она вскрикнула и отшатнулась. А когда это случилось вторично, он уже сознательно отметил, какое впечатление это производит на Виллу, и с тех пор всякий раз, как она начинала слишком вольно над ним подшучивать и дразнить его, он совался мордой в ее лицо, заставляя ее откидывать голову. Вскоре он убедился, что своей настойчивостью может заставить Виллу сдаться: она прижимала его к себе, и ее журчащий смех лился прямо ему в уши; и с той поры он упорно играл свою роль, пока не добивался такой восхитительной капитуляции и радостной развязки игры. В этой игре гораздо больнее приходилось его нежному носу, чем ее подбородку или щеке, но и сама боль доставляла ему удовольствие. Все это было шуткой, и вдобавок еще любовной шуткой. Такая боль казалась ему счастьем. Все собаки поклоняются божеству. Джерри оказался счастливее большинства собак: он обрел любовь двух богов; хотя они и командовали им, но и любили сильнее. Правда, нос его угрожал ударить щеку возлюбленного бога, но Джерри скорей отдал бы по капле всю кровь своего сердца, чем согласился сделать больно. Он жил не ради куска хлеба, не ради пристанища, не ради уютного местечка в мире, окутанном мраком. Он жил ради любви. И за любовь он готов был умереть с такою же радостью, с какою жил ради любви. В Сомо воспоминания о шкипере и мистере Хаггине не скоро могли стереться. Жизнь в деревне каннибалов не удовлетворяла Джерри. Слишком мало было там любви. Только любовь может изгладить память о любви, или, вернее, боль утраченной любви. А на борту «Ариеля» этот процесс совершался быстро. Джерри не забыл шкипера и мистера Хаггина. Но в те минуты, когда он их вспоминал, тоска по ним была менее острой и мучительной. Он стал реже вспоминать их и видеть во сне, а сны Джерри, как и всех собак, были отчетливые и яркие.
Глава двадцать вторая
Яхта «Ариель» лениво двигалась на север вдоль подветренного берега Малаиты, прокладывая себе путь по красочной лагуне, окаймленной рифами. Яхта дерзала проходить в такие узкие, усеянные кораллами проливы, что у капитана Винтерса, по его словам, с каждым днем прибавлялась новая тысяча седых волос на голове. Якорь отдавали у каждого укрепленного кораллового островка и у каждого мангиферового болота, где могли селиться каннибалы. Гарлею и Вилле Кеннан некуда было спешить. Пока путешествие их занимало, они не беспокоились о том, сколько времени тянется переезд с одного места на другое. За это время Джерри усвоил свое новое имя — вернее, целую серию имен. Это объяснялось тем, что Гарлею Кеннану не хотелось давать ему новую кличку. — Какое-нибудь имя у него было, — убеждал он Виллу. — Хаггин, несомненно, дал ему кличку, перед тем как отправить на «Эренджи». Пусть уж он останется безымянным, пока мы не вернемся в Тулаги и не узнаем его настоящего имени. — Велика важность — имя! — стала поддразнивать Вилла. — Это очень важно. Представь себе, что ты потерпела кораблекрушение и твои спасители называют тебя миссис «Ригге», или мадемуазель «де Мопен», или просто — «Топси». А меня — «Бенедикт Арнольд», или «Иуда», или… или «Аман». Нет, пусть остается без имени, пока мы не узнаем его первоначальной клички. — Но должна же я как-нибудь его называть, — не соглашалась Вилла. — Иначе как я буду о нем думать? — Ну, так давай ему разные клички, но никогда не повторяй одной и той же. Называй его сегодня «Пес», завтра — «Мистер Пес», а послезавтра как-нибудь иначе. И с тех пор, угадывая скорее по тону, ударению и по обстоятельствам момента, Джерри стал смутно отождествлять себя с кличками: Пес, Мистер Пес, Авантюрист, Силач, Глупыш, Безымянный и Горячее Сердце. То были лишь несколько из многочисленных прозвищ, расточаемых Виллой. Гарлей, в свою очередь, называл его: Мужественный Пес, Неподкупный, Некто, Грешник, Золотой, Сатрап Южных Морей, Немврод, Юный Ник и Убийца Львов. Короче, и муж и жена соперничали друг с другом, давая ему всевозможные имена и никогда не повторяясь. А Джерри, не столько по звукам и слогам, сколько по любовной интонации, быстро научился отождествлять себя со всяким новым прозвищем. Он больше не думал о себе, как о Джерри, и своим именем признавал всякое слово, звучащее ласково и любовно. Большим разочарованием — если только можно считать разочарованием неосознанную неудачу-окончилась его попытка разговаривать. Ни один человек на борту, не исключая Гарлея и Виллы, не говорил на языке Наласу. Весь богатый словарь Джерри и его умение пользоваться им, какое могло выдвинуть его как феномен из среды всех прочих собак, тратились зря на борту «Ариеля». Обитатели «Ариеля» не понимали и не догадывались о существовании стенографического языка, какому обучил его Наласу, и со смертью Наласу этот язык знал во всем мире один только Джерри. Тщетно пытался Джерри разговаривать с богиней. Сидя перед ней и положив вытянутую голову на ее руки, он говорил и говорил, но ни разу не услышал от нее ответного слова. Еле слышно повизгивая, скуля, сопя, издавая горлом разнообразные звуки, он старался рассказать ей что-нибудь из своей жизни. Она вся была воплощенное внимание: так близко подставляла ухо к его рту, словно хотела утопить его в струящемся благоухании своих волос, и все же ее мозг не воспринимал его речи, хотя сердцем она, несомненно, чуяла его намерение. — Боже мой, муженек! — восклицала она. — Ведь Пес говорит. Я знаю, что он говорит. Он мне рассказывает всю свою жизнь. Я знала бы о нем все, если бы могла понять. Но мои несчастные несовершенные уши ничего не улавливают. Гарлей отнесся скептически, но женская интуиция ее не обманывала. — Я в этом уверена! — убеждала она мужа. — Говорю тебе, он мог бы рассказать нам историю всех своих приключений, если бы мы его понимали. Ни одна собака не разговаривала так со мной. Это настоящий рассказ. Я чувствую все его оттенки. Иногда я почти уверена, что он говорит о радости, о любви, о великих битвах. А потом слышится негодование, оскорбленная гордость, отчаяние и печаль. — Ну, естественно, — спокойно согласился Гарлей. — Собака белых, заброшенная к антропофагам на остров Малаиту, несомненно, испытывала подобные чувства; и так же естественно жена белого человека, женушка, очаровательная женщина Вилла Кеннан, может себе представить переживания собаки и найти в ее бессмысленном визге рассказ об этих переживаниях, не замечая, что все это лишь ее собственная очаровательная, милая выдумка. Песня моря срывается с губ раковины… Вздор! Человек сам создает песню моря и приписывает ее раковине. — А все-таки… — А все-таки ты права, — галантно перебил он. — Всегда права, в особенности когда коренным образом ошибаешься. Разумеется, оставим в стороне таблицу умножения или мореплавание, где сама реальность ведет судно среди скал и отмелей; но в остальном ты права, тебе доступна сверхистина, которая выше всего, а именно, истина интуитивная. — Вот ты теперь меня высмеиваешь с высоты своей мужской мудрости, — возразила Вилла. — Но я знаю… Она приостановилась, ища слова посильнее, но слова изменили ей, и она прижала руку к сердцу с таким авторитетным видом, что все слова оказались лишними. — Согласен, преклоняюсь, — весело рассмеялся он. — Это именно то, что я сказал. Наши сердца почти всегда могут переспорить наши головы. А лучше всего то, что наши сердца всегда правы — вопреки статистике, утверждающей, будто они большей частью ошибаются. Гарлей Кеннан так никогда и не поверил рассказу своей жены о повествовательных способностях Джерри. И всю свою жизнь, до последнего дня, считал это милой фантазией, поэтическим вымыслом Виллы. Но Джерри, гладкошерстный ирландский терьер, действительно обладал даром речи… Хотя он и не мог обучать других, но сам был способен изучать языки. Без всяких усилий, быстро, даже не обучаясь, он стал усваивать язык «Ариеля». К несчастью, то не был урчащий и придыхательный язык, доступный собакам, какой изобрел Наласу, и Джерри, научившись понимать многое из того, что говорилось на «Ариеле», сам не мог воспроизвести ни слова. Для богини у него было по меньшей мере три имени: «Вилла», «Женушка» и «Миссис Кеннан», ибо так называли ее окружающие. Но он не мог называть ее этими именами. То был исключительно язык богов, и говорить на нем могли только боги. Он не походил на язык, изобретенный Наласу и являвшийся компромиссом между речью собак и речью богов, так что бог и собака могли между собой разговаривать. Таким же образом выучил Джерри и различные имена мужского божества: «Мистер Кеннан», «Гарлей», «капитан Кеннан» и «Шкипер». И только присутствуя третьим в их интимном кругу, Джерри узнал другие имена: «Муженек», «Супруг», «Дорогой», «Возлюбленный», «Мое сокровище». Но никоим образом не мог Джерри выговорить эти имена. Однако в спокойную ночь, когда ветер не шелестел в кустах, Джерри часто шепотом называл по имени Наласу. Однажды Вилла, распустив волосы, мокрые после купания в море, сжала обеими руками морду Джерри и, наклонившись к нему так близко, что он почти мог коснуться языком ее носа, стала напевать: «Не знаю, как его назвать, но он похож на розу!» На другой день она повторила эту фразу и пропела почти всю песенку в самые его уши. А в разгар пения Джерри удивил ее. Пожалуй, с не меньшим правом можно сказать, что он и сам удивился. Сознательно он никогда еще так не поступал. И сделал он это без всякого умысла. Он вовсе не намеревался это делать. В самом поступке заключалось принуждение его совершить. От этого поступка он не мог воздержаться, как не мог не отряхнуться после купания или не брыкнуть во сне ногой, если его щекочут. Когда ее голос стал мягко вибрировать, Джерри показалось, что она обволакивается перед его глазами какой-то дымкой, а сам он под влиянием нежного, томительного напева переносится в какое-то другое место. И тут он сделал удивительную вещь. Он резко, почти судорожно присел, высвободил морду из ее рук и опутывавшей паутины распущенных волос и, подняв нос кверху под углом в сорок пять градусов, начал дрожать и громко дышать под ритм ее песни. Затем так же судорожно он вздернул нос к зениту, и поток звуков полился кверху, вздымаясь и медленно ослабевая до полного замирания. Этот вой послужил началом, и за него Джерри получил кличку «Певчий песик-дурачок». Вилла Кеннан обратила внимание на завывания, вызывавшиеся ее пением, и сейчас же занялась их развитием. Джерри всегда повиновался, когда она, усевшись, ласково протягивала к нему руки и приглашала: «Иди сюда, Певчий песик-дурачок». Он подходил, садился так, что благоухание ее волос щекотало ему ноздри, мордой прижимался к ее щеке, а нос поднимал кверху около ее уха и при первых же звуках ее тихой песни начинал вторить. Минорные мотивы особенно его провоцировали, а раз начав, он пел с ней, сколько ей хотелось. И это действительно было пение. Способный ко всем видам звукоподражания, он быстро научился смягчать и понижать свой вой, пока он не становился мелодичным и бархатистым. И вой этот замирал чуть ли не до шепота, вздымался и падал, то ускоряя, то замедляя темп, повинуясь ее голосу. Джерри наслаждался пением, как курильщик опиума своими грезами. Он грезил смутно, грезил наяву, с широко раскрытыми глазами, а волосы богини благоуханным облаком его окутывали, ее голос заунывно ему вторил, его сознание тонуло в грезах о нездешнем, долетавшем к нему из песни. Ему вспомнилось страдание, но страдание давно забытое и потому переставшее быть болью. Оно наполняло его сладостной грустью и уносило с «Ариеля» (ставшего на якорь в какой-нибудь коралловой лагуне) в нереальную страну, в нездешний мир. И в такие минуты перед ним вставали видения. Казалось, он сидит в холодном мраке ночи на пустынном холме и воет на звезды, а из темноты, издалека, несется к нему ответный вой. И поднимаются другие зазывания — вблизи и вдалеке, — пока ночь не зазвучит родными ему голосами. То родня его. Сам того не зная, он приобщался к «нездешнему миру». Наласу, обучая его языку сопения и урчания, намеренно обратился к его рассудку; а Вилла, не зная, что она делает, нашла путь к его сердцу и к сердцу его предков, затронув глубочайшие струны воспоминаний о далеком прошлом и заставив их вибрировать. Вот пример: смутные образы являлись ему иногда из ночи, как призраки, скользили мимо, и он слышал, словно во сне, охотничьи крики собачьей стаи; пульс его ускорялся, пробуждался его охотничий инстинкт, и сдержанное, мягкое подвывание переходило в страстный визг. Его голова опускалась, освобождаясь от паутины женских волос, ноги начинали беспокойно, судорожно подергиваться, словно порываясь бежать, и в одну секунду он уносился прочь и летел по лику времени из реальности в сон. И подобно тому, как люди вечно жаждут зелья из мака и конопли, так и Джерри тянулся к радостям, выпадавшим на его долю, когда Вилла Кеннан открывала ему свои объятия, окутывала паутиной волос и пением уносила его сквозь время и пространство в сон, к его древним предкам. Не всегда, однако, испытывал Джерри эти ощущения, когда они пели вместе. Обычно видения ему не являлись, и он переживал лишь смутные, сладостно-грустные настроения, похожие на тени воспоминаний. Иногда, под влиянием этой грусти, всплывали в его мозгу образы шкипера и мистера Хаггина, образы Терренса, и Бидди, и Майкла, и видения давно исчезнувшей жизни на плантациях Мериндж. — Дорогая моя, — сказал однажды Гарлей, — счастье для Джерри, что ты не дрессировщица животных, а то ведь твое имя не сходило бы с афиш мюзик-холлов и цирков всего земного шара. — Ну, что ж! — ответила она. — Я уверена, что он бы с восторгом выступал со мной… — Что было бы в высшей степени необычайно, — перебил Гарлей. — Почему? — Один шанс из ста, что животное любит свою работу или пользуется любовью своего дрессировщика. — Я думала, что со всякой жестокостью в этой области давным-давно покончено, — сказала Вилла. — И публика так думает, но в девяноста девяти случаях публика ошибается. Вилла глубоко вздохнула. — Пожалуй, придется мне бросить такую соблазнительную и прибыльную карьеру в тот самый момент, когда ты ее для меня открыл. А как великолепно выглядели бы афиши и мое имя огромными буквами… — Вилла Кеннан, певица с голосом дрозда, и Певчий песик-дурачок, ирландский терьер, тенор, — процитировал Гарлей заглавные строки афиши. И Джерри, высунув язык, с бегающими глазами, присоединился к смеху. Он не знал, над кем смеются, но по смеху понял, что они счастливы, а любовь побуждала его радоваться вместе с ними. Джерри нашел то, чего жаждал существом, — любовь божества. И он любил обоих богов, признав их совместное господство на «Ариеле». Но, пожалуй, женское божество он любил больше. Такой любви он никогда еще не испытывал, не исключая и его любви к шкиперу, а объяснялось это тем, что она проникла в глубочайшие тайники его сердца своим волшебным голосом, уносившим Джерри в нездешнюю страну.
Глава двадцать третья
Джерри вскоре узнал, что на борту «Ариеля» преследовать негров не полагается. Горя желанием понравиться и услужить своим новым богам, он воспользовался первым удобным случаем и набросился на чернокожих, которые, подъехав в пироге, поднялись на борт. Восклицание Виллы и повелительный оклик Гарлея заставили его в недоумении остановиться. Глубоко убежденный, что ошибся, Джерри снова стал бесноваться вокруг одного высмотренного им чернокожего. На этот раз голос Гарлея звучал сурово, и Джерри подошел к нему, виляя хвостом и извиваясь всем телом, словно умоляя о прощении, и лизнул своим розовым языком погладившую его руку. Затем Вилла подозвала его к себе. Зажав руками его морду и близко к нему наклонившись, она серьезно заговорила о том, что преследовать негров грешно. Ведь он, говорила Вилла, не простая лесная собака, а кровный ирландский джентльмен, которому не подобает заниматься таким делом, как травля бездомных чернокожих. Все это он выслушал сосредоточенно, не мигая, и хотя понимал мало, но чутьем постиг все. Из языка, на каком говорили на «Ариеле», он уже усвоил слово «нехороший», а Вилла повторила это слово несколько раз. «Нехороший» он понимал как «нельзя», и для него этим словом установилось табу. Раз таковы их обычаи и желания, то может ли он нарушать их? Если негров травить нельзя, — он этого делать не станет, несмотря на то, что шкипер, бывало, сам его натравливал. Разумеется, Джерри обсуждал этот вопрос не в таких выражениях, а по-своему, но выводы были те же. Для него любовь к богу требовала служения. Ему нравилось служением снискивать любовь. А в его положении краеугольным камнем служения было послушание. Однако первое время ему стоило величайших усилий не рычать и не кусать за ноги чужих и самоуверенных чернокожих, проходивших мимо него по белой палубе «Ариеля». Но Джерри суждено было увидеть и иные времена. Настал день, когда Вилла Кеннан пожелала выкупаться по-настоящему, в свежей текучей пресной воде, и тут Джонни, чернокожий лоцман из Тулаги, совершил ошибку. На карте была нанесена только одна миля реки Сули, впадающей в море, ибо белые еще не исследовали ее выше. Когда Вилла заговорила о купании, ее муж посоветовался с Джонни. Джонни покачал головой. — Нет черных парней в этом месте, — сказал он. — Не будет вам беда. Лесной парень отсюда далеко. К берегу пристал баркас, матросы развалились в тени прибрежных кокосовых пальм, а Вилла, Гарлей и Джерри прошли с четверть мили вверх по реке до первого удобного для купания местечка. — Все-таки нужно принять меры предосторожности, — сказал Гарлей, вынимая из кобуры свой автоматический пистолет и кладя его поверх одежды. — Чернокожая братия может на нас наткнуться. Вилла вошла по колени в воду, взглянула вверх, на темный свод джунглей, едва пропускавший лучи солнца, и содрогнулась. — Самая подходящая обстановка для темного дела, — улыбнулась она и, набрав в ладонь прохладной воды, плеснула в мужа. Тот бросился за ней в погоню. Некоторое время Джерри сидел подле их одежды и следил за купальщиками. Затем его внимание привлекла мелькнувшая тень огромной бабочки, а вскоре он уже выслеживал по джунглям лесную крысу. То был не особенно свежий след. Джерри прекрасно это знал, но в нем хранились все древние инстинкты, побуждавшие его охотиться, красться, преследовать живые существа — короче, вести игру, будто он сам добывает себе пропитание, хотя уже в течение веков его предков кормил человек. Он развивал способности, в каких он уже и не нуждался, хотя они все еще в нем жили и стремились пробиться. И сейчас он шел по следу давно пробежавшей лесной крысы, крался неслышно, словно настоящий охотник за дичью, и с точностью определял запах. Этот след пересекался другим следом — свежим, совсем недавним. Джерри резко повернул голову под прямым углом направо — так резко, словно его дернули за веревку. Он носом почуял несомненный запах чернокожего. И то был совершенно незнакомый ему чернокожий, так как запах его не совпадал с воспоминаниями о тех неграх, каких он раньше встречал. Забыт был след лесной крысы, и Джерри бросился по новому следу. К этому побуждало его любопытство и увлечение игрой. Ему в голову не приходило бояться за Виллу и Гарлея — даже когда он дошел до того места, где чернокожий, видимо, услышав их голоса, остановился в нерешимости и где его следы сохранили особенно сильный запах. Отсюда след резко сворачивал к реке. Нервно напряженный и внимательный, все еще не тревожась, а только продолжая играть в слежку, Джерри побежал по следу. Время от времени с реки доносились возгласы и смех, и, заслышав их, Джерри всякий раз испытывал радостный трепет. Если бы его спросили и он сумел бы выразить свои ощущения, он бы сказал, что самый приятный звук в мире — звук голоса Виллы Кеннан, а затем — Гарлея Кеннана. Их голоса всегда приводили его в трепет, напоминая о том, как он их любит и как они любят его. При первом же взгляде на незнакомого негра, остановившегося у самой воды, в Джерри проснулись подозрения. Негр держался не так, как полагается обыкновенному чернокожему, не замышляющему ничего дурного. Напротив, все его движения обличали человека, действующего с преступным замыслом. Присев на ковер джунглей, негр выглядывал из-за большого корня дерева. Джерри ощетинился, тоже припал к земле и стал наблюдать. Один раз чернокожий поднялбыло ружье к плечу, но ничего не подозревающие жертвы с плеском и хохотом скрылись, по-видимому, из поля его зрения. А ружье у него было не снайдеровское, довольно уже устарелое, а современный автоматический винчестер. И негр, по-видимому, привык стрелять с плеча, а не держа приклад у бедра, как большинство малаитян. Недовольный своей позицией у дерева, он опустил ружье и пополз ближе к воде. Джерри приник к земле и последовал за ним. Приник он так низко, что голова, горизонтально вытянутая вперед, была значительно ниже плеч, которые странно возвышались над всем туловищем. Когда чернокожий останавливался, немедленно останавливался и Джерри — словно примерзал к земле. Когда чернокожий снова трогался в путь — полз и Джерри, но быстрее, сокращая разделявшее их расстояние. И все время шерсть на шее и плечах щетинилась под наплывом ярости и злобы. То была не золотистая собака с прижатыми ушами и смеющейся мордой, нежащаяся в объятиях богини, не Певчий песик-дурачок, гpeзящий в облачной паутине ее волос, но четвероногое воинственное существо, боец с оскаленными клыками, которые рвут и уничтожают. Джерри намеревался перейти в атаку, как только подползет достаточно близко. Он забыл о табу, усвоенном на «Ариеле» и воспрещающем травлю негров. В этот момент в его сознании не оставалось места для табу. Знал он только, что беда грозит мужчине и женщине, грозит со стороны этого негра. Джерри почти нагнал свою добычу, и когда чернокожий присел и поднял ружье, Джерри счел момент благоприятным для прыжка. Ружье почти коснулось плеча, когда он прыгнул вперед. Прыгая, он не произвел ни малейшего звука, и его жертва почувствовала его присутствие, только когда тело Джерри, мелькнув, как снаряд, очутилось между лопатками чернокожего. В ту же секунду зубы Джерри вонзились в шею, но слишком близко к основанию, в крепкие плечевые мышцы, так что клыки не задели спинного мозга. Чернокожий, ошеломленный и испуганный, нажал спуск, и из груди его вырвался дикий вопль. Отдача была так сильна, что он перевернулся и сцепился с Джерри, который куснул его за скулу и за щеку и полоснул ухо: ирландские терьеры обычно кусают быстро и часто, а не мертвой хваткой, как бульдоги. Когда Гарлей Кеннан, с револьвером в руке и нагой, как Адам, прибежал на место сражения, собака и человек, сцепившись, катались по лесному чернозему. Негр, по лицу которого струилась кровь, обеими руками сжимал шею Джерри, а Джерри, сопя, задыхаясь и рыча, изо всех сил отбрыкивался и царапался когтями задних лап. То были когти не щенка, а взрослого мускулистого пса. Джерри все время царапал ими обнаженную грудь и живот, покрасневшие от струившейся крови. Гарлей Кеннан стрелять не решался, так как противники слишком тесно переплелись. Вместо того он, подойдя вплотную, ударил негра по голове рукояткой револьвера. Оглушенный негр разжал руки, а Джерри в одну секунду кинулся к выпятившемуся горлу, и только рука Гарлея, схватившая его за загривок, и резкий окрик заставили его отступить. Он дрожал от бешенства и продолжал яростно рычать, но все же прижимал уши, вилял хвостом и вскидывал глаза на Гарлея, когда тот говорил: «Молодчина!». Джерри знал, что «молодчина» означает похвалу. Гарлей несколько раз повторил это слово, и Джерри убедился, что оказал своему господину услугу, и услугу немалую. — Знаешь, негодяй хотел пристрелить нас из-за кустов, — обратился Гарлей к Вилле, когда та, на ходу одеваясь, присоединилась к нему. — Здесь не больше пятидесяти шагов, он не мог промахнуться. И посмотри, какой у него винчестер. Это не какая-нибудь старая гладкостволка. Раз у парня такое ружье, уж он умеет им пользоваться. — Почему же он нас не пристрелил? — осведомилась Вилла. Гарлей указал на Джерри. У Виллы глаза вспыхнули, когда она поняла. — Что ты говоришь?.. — начала она. Он кивнул. — Вот именно. Певчий песик-дурачок ему помешал. — Гарлей наклонился, перевернул чернокожего и увидел разодранную шею. — Вот куда он его цапнул, а тот, должно быть, держал пальцы на спуске, целясь в нас, — вероятно, в меня первого, — когда Певчий песик-дурачок смешал ему все карты. Но Вилла почти не слушала, она обнимала Джерри, называя его «своим дорогим песиком», и старалась утишить его рычание и пригладить все еще ерошившуюся шерсть. Но Джерри снова зарычал и собрался прыгнуть на чернокожего, когда тот беспокойно зашевелился и сел, все еще оглушенный. Гарлей выдернул у него нож, засунутый между поясом и голым телом. — Как звать? — спросил он. Но негр видел только одного Джерри, изумленно таращил на него глаза, пока не уяснил себе положения и не понял, что этот маленький неуклюжий пес испортил ему игру. — Мой говорит, — ухмыляясь, обратился он к Гарлею, — этот собака здорово моего поймал. Ощупывая раны на шее и на лице, он увидел, что белый завладел его ружьем. — Отдай мое ружье, — дерзко сказал он. — Я тебе им голову прошибу, — ответил Гарлей. — По-моему, этот парень не похож на малаитянина, — обратился он к Вилле. — Прежде всего, где он достал такое ружье? И подумай, что за дерзость? Он должен был видеть, как мы стали на якорь, и знал, что наш баркас стоит у берега. И все же он хотел захватить наши головы и удрать с ними в лес… Как звать? — снова обратился он к негру. Но имени чернокожего он не узнал до тех пор, пока не прибежали запыхавшиеся матросы с баркаса и Джонни. Увидев пленника, Джонни выпучил глаза и, заметно волнуясь, обратился к Кеннану. — Вы дайте мне этот парень, — попросил он. — А? Дайте мне. — Да зачем он тебе? На этот вопрос Джонни ответил не сразу, а лишь после того, как Кеннан сообщил ему о своем намерении отпустить чернокожего, так как тот никому вреда не причинил. Тут Джонни с жаром запротестовал. — Вы везите этот парень в Тулаги, в дом правительства: вам дадут двадцать фунтов. Он много злой парень. Ему звать Макавао. Много злой. Он из Квинсленда… — Как из Квинсленда? — перебил Кеннан. — Он оттуда родом? Джонни покачал головой. — Он был раньше с Малаита. Много-много годов назад его взял шкуна работать на Квинсленде. — Он работал на квинслендских плантациях, — пояснил Гарлей Вилле. — Ты знаешь, когда в Австралии начался «белый» наплыв, пришлось с квинслендских плантаций отослать всех черных назад. Этот Макавао, видимо, один из них, и, должно быть, дрянной парень, если Джонни не врет относительно двадцати фунтов вознаграждения за поимку его. Это большая цена за черного. Джонни продолжал свои объяснения, какие, в переводе на общепринятый английский, сводились к тому, что Макавао всегда пользовался дурной славой. В Квинсленде он провел в тюрьме четыре года за кражи, грабежи и покушение на убийство. Когда австралийское правительство отослало его назад на Соломоновы острова, он завербовался на плантацию Були, — как впоследствии выяснилось, с целью добыть оружие и патроны. За покушение на убийство надсмотрщика он получил в Тулаги пятьдесят ударов плетью и прослужил лишний год. Вернувшись на плантацию в Були, чтобы отработать свой срок, он ухитрился, воспользовавшись отсутствием надсмотрщика, убить владельца плантации и удрать на вельботе. В вельбот Макавао забрал все оружие и патроны, бывшие на плантации, голову хозяина, десять рабочих-малаитян и двух из Сан-Кристобаля — последних потому, что они были приморскими жителями и умели обращаться с вельботом. Сам же он и десять малаитян, как жители лесов, моря не знали и не решались на длинный переезд с Гвадалканара. По пути он сделал набег на маленький остров Уги, разграбил все запасы и захватил голову одинокого торговца, добродушного полукровки с острова Норфолк. Благополучно прибыв на Малаиту, он и его товарищи, не видя более нужды держать двух рабочих из Сан-Кристобаля, отрубили им голову, а тела съели. — Мой говорит, он много-много злой парень, — закончил свой рассказ Джонни. — Правительство Тулаги много рад дать двадцать фунтов за парень. — Ах ты, дорогой мой Певчий песик-дурачок! — прошептала Вилла на ухо Джерри. — Если бы не ты… — Наши головы находились бы сейчас у Макавао, а он пробирался бы с ними по холмам к себе на родину, — докончил за нее Гарлей. — Что и говорить, славный пес, — весело прибавил он. — А я-то как нарочно задал ему на днях взбучку за травлю негров. Оказывается, он свое дело знал лучше, чем я. — Если кто-нибудь вздумает предъявлять на него права… — угрожающе пробормотала Вилла. Гарлей кивком подтвердил ее оборвавшуюся фразу. — Во всяком случае, — с улыбкой сказал он, — хоть одно утешение было бы, если б твоя голова отправилась в джунгли. — Утешение? — воскликнула она, захлебнувшись от негодования. — Ну, конечно! Ведь и моя голова отправилась бы вместе с твоей! — Ах ты, дорогой мой муженек! — прошептала она, и глаза ее подернулись влагой, когда она любовно на него взглянула, все еще прижимая к себе Джерри. А Джерри, почуяв важность момента, лизнул ее душистую щеку.
Глава двадцать четвертая
«Ариель» отошел от Малу на северо-западном берегу Малаиты, и скоро Малаита скрылась из виду. Для Джерри она скрылась навеки — еще один исчезнувший мир, который в его сознании провалился в небытие, поглотившее и шкипера. Если бы Джерри стал о том размышлять, он бы представил себе Малаиту как обезглавленную вселенную, покоящуюся на коленях какого-то младшего бога, который все же был бесконечно могущественнее Башти, на чьих коленях лежала высушенная солнцем и прокопченная дымом голова шкипера. И это младшее божество выпытывало, нащупывало и пыталось угадать тайны пространства и времени, движения и материи, вверху, внизу, вокруг и над собой. Но Джерри не размышлял над этой проблемой, не подозревал о существовании таких тайн. Он вспоминал об исчезнувшей Малаите, как вспоминал о своих снах. Сам он был существом живым, материальным, обладающим весом и объемом, неопровержимо реальным, и двигался в пространстве бытия — конкретном, осязаемом, живом и убедительном, являвшемся абсолютным нечто. А то нечто было окружено тенями и призраками изменчивой фантасмагории небытия. Джерри принимал свои миры один за другим. Один за другим они испарялись, скрываясь из поля его зрения, погружались навек ниже уровня океана, нереальные и преходящие, как сновидения. Целостность маленького, простого мира людей, микроскопического и ничтожного по сравнению со звездной вселенной, была недоступна его догадкам так же, как недоступна звездная вселенная вдохновеннейшим прозрениям и измышлениям человека. Джерри не суждено было снова увидеть мрачный остров дикарей, хотя он часто вставал перед ним в сновидениях, и Джерри во сне переживал свои дни на нем, начиная с уничтожения «Эренджи» и оргии людоедов на берегу и кончая бегством от разрушенного снарядом дома и растерзанного тела Наласу. Эти сновидения были для него еще одной страной нездешнего, таинственного, нереальной и эфемерной, как облака, проплывающие по небу, или радужные пузыри, лопающиеся на поверхности моря. То была пена, быстро исчезающая, едва он просыпался, несуществующая, как шкипер и голова шкипера на высохших коленях Башти в высоком травяном доме. Малаита реальная, Малаита конкретная и весомая исчезла — и исчезла навсегда — в небытие, куда скрылся Мериндж, куда скрылся шкипер. От Малаиты «Ариель» взял курс на северо-запад к Онгтону, Яве и Тасмании — большим атоллам, которые изнемогают от жары под самым экватором и заливаются волнами в необъятном просторе юго-западной части Тихого океана. Оставив Тасманию, «Ариель» проделал длинный рейс к гористому острову Бугенвиль. После Бугенвиля, держась на юго-запад и медленно лавируя против ветра, «Ариель» отдавал якорь почти в каждой гавани Соломоновых островов, от Шуазеля и Гононго до острова Куламбангра, Вангуну, Павуву и Новой Георгии. Он отдал якорь даже в пустынной Бухте Тысячи Кораблей. И, наконец, якорь «Ариеля» с грохотом упал и впился в песчано-коралловое дно гавани Тулаги, где на берегу острова Флориды жил и правил верховный комиссар. Ему Гарлей Кеннан передал Макавао, который был посажен под хорошей охраной в травяную тюрьму; здесь, с кандалами на ногах, ему предстояло ждать суда за многочисленные преступления. А лоцман Джонни, прежде чем вернуться на службу к резиденту, получил львиную долю из назначенных в премию денег; остальную сумму Кеннан распределил между матросами, которые бросились сквозь джунгли к нему на выручку в тот день, когда Джерри вцепился в шею Макавао и заставил его, не целясь, нажать спуск ружья. — Я вам скажу его имя, — говорил резидент, усадив их на широкой веранде своего бунгало. — Это один из терьеров Хаггина — Хаггина с лагуны Мериндж. Отца собаки зовут Терренс, а мать — Бидди. А его имя — Джерри; я сам присутствовал при крещении, когда он был еще слепым щенком. Мало того, я могу вам показать его брата Майкла. Он охотник за неграми на «Евгении», двухмачтовой шхуне, которая стоит на рейде рядом с вами. Шкипером на ней капитан Келлар. Я попрошу его доставить Майкла на берег. Вне всякого сомнения, Джерри один только и уцелел из всех, находившихся на борту «Эренджи». — Когда у меня будет время и необходимые средства, я нанесу визит вождю Башти. О нет, программы британских крейсеров я придерживаться не стану. Зафрахтую парочку торговых кечей, заберу свою чернокожую полицию и тех белых добровольцев, каким не смогу отказать. Никакого обстрела травяных шалашей не будет. Десант я высажу, не доходя до Сомо, зайду в глубь страны, а к Сомо подойду с тыла; одновременно мои суда подступят к Сомо с моря. — На бойню ответите бойней? — возразила Вилла Кеннан. — На бойню я отвечу законом, — заявил комиссар. — Я научу Сомо закону. Надеюсь, ничего неприятного не случится, и ни с той, ни с другой стороны потерь не будет. Но могу обещать, что головы капитана Ван Хорна и его помощника Боркмана я разыщу и доставлю в Тулаги для христианского погребения. А старого Башти возьму за загривок и заставлю посидеть, пока я буду внедрять в него закон и справедливость. Разумеется… — комиссар, окончивший Оксфордский университет, узкоплечий пожилой человек с видом аскета, близорукий и в очках, как и подобает ученому, приостановился и пожал плечами, — разумеется, если не удастся образумить, возможны неприятности, и кому-нибудь из них и из нас придется скверно. Но, так или иначе, своего мы добьемся. Старый Башти поймет, что целесообразнее оставлять на плечах головы белых. — Да как он поймет? — спросила Вилла Кеннан. — Если он достаточно умен, чтобы не сражаться с вами, а только сидеть и поучаться английским законам, дело обернется для него отменной забавой. В наказание за всякую жестокость ему придется только выслушать лекцию. — Не совсем, дорогая моя миссис Кеннан. Если он будет спокойно слушать лекцию, я потребую с него всего только сто тысяч кокосовых орехов, пять тонн других пальмовых орехов, сто саженей раковин и двадцать жирных свиней. Если же он откажется выслушать лекцию и приступит к военным действиям, тогда я, как это ни печально, вынужден буду прежде всего расправиться с ним и с его поселком, а затем потребую с него тройной штраф и уже в немногих словах внедрю в него закон. — А если он драться не станет, в ответ на вашу лекцию заткнет себе уши и откажется платить? — настаивала Вилла Кеннан. — Тогда он пожалует ко мне в гости — сюда, в Тулаги — и будет здесь сидеть, пока не одумается, не заплатит штрафа и не выслушает полного курса лекций. А Джерри привелось услышать свое старое имя от Виллы и Гарлея и снова увидеть своего кровного брата Майкла. — Не говори ничего, — шепнул Гарлей Вилле, когда они разглядели мохнатого пшенично-рыжего Майкла, выглядывавшего из-за борта подходившего к берегу вельбота. — Сделаем вид, будто мы ничего не знаем и никакого внимания на них не обращаем. Джерри, прикидываясь сильно заинтересованным, рыл яму в песке, словно напал на свежий след, и не подозревал о приближении Майкла. Он быстро увлекся и заинтересовался по-настоящему, когда, радостно фыркая и сопя, очутился на дне вырытой им ямы. А яма была такая глубокая, что от Джерри виднелись только задние лапы да забавно торчащий обрубок хвоста. Не чудо, что он и Майкл не заметили друг друга. Майкл, вырвавшись на свободу с тесной палубы «Евгении», радостно суетясь, помчался по берегу, на бегу ловя тысячи знакомых запахов суши. Он бросался из стороны в сторону, прыгал и добродушно щелкал зубами при виде крабов, торопливо перебегавших ему дорогу, ища спасения в воде, или пятившихся и угрожавших ему своими огромными клешнями. Пляж был не длинный и упирался в шероховатую стену мыса. Пока комиссар представлял капитана Келлара мистеру и миссис Кеннан, Майкл уже несся назад по влажному, плотному песку. Все до такой степени его интересовало, что он и не заметил Джерри. Джерри о его присутствии узнал по слуху, и едва успел, попятившись, выбраться из ямы, как Майкл уже на него налетел. Джерри перекувыркнулся, Майкл перелетел через него, и оба свирепо зарычали. Поднявшись на ноги, они ощетинились, оскалили зубы и грозно, с достоинством стали обходить один другого степенной, напряженной походкой. Но все это время они только дурачились и были немного сбиты с толку. У каждого в мозгу всплыли яркие картины прошлого — дом на плантации и берег Мериндж. Они узнали друг друга и мешкали. Они уже не были щенками и, смутно гордясь своей степенностью и возмужалостью, старались держаться с достоинством, хотя им ужасно хотелось в сумасшедшем восторге броситься друг к другу. Майкл, меньше видевший свет и по натуре своей менее сдержанный, чем Джерри, первый отбросил напускное достоинство и, взвизгивая от волнения и восторженно извиваясь всем телом, высунул язык и прильнул к брату плечом. Джерри с таким же пылом его лизнул, затем оба отскочили в сторону и вопросительно, почти вызывающе поглядели друг на друга. Настороженные уши Джерри выражали живой вопрос; у Майкла одно здоровое ухо вопрошало столь же красноречиво, а другое, высохшее, стояло, по обыкновению, торчком. И вдруг они стремглав помчались по берегу бок о бок, пересмеиваясь и то и дело подталкивая друг друга на бегу. — Сомнений быть не может, — сказал комиссар. — Так же точно, бывало, бегали их родители. Я частенько к ним присматривался. .............. Но через десять дней наступила разлука. То был первый визит Майкла на борт «Ариеля», и он с Джерри провел веселые полчаса, резвясь на белой палубе среди суматохи и гула, пока поднимали шлюпки, ставили паруса и поднимали якорь. Когда «Ариель» заскользил по воде, а паруса надулись под свежим пассатным ветром, комиссар и капитан Келлар распрощались и прошли по шкафуту к поджидавшим их вельботам. В самый последний момент капитан Келлар поднял Майкла, сунул его под мышку и вместе с ним прыгнул на корму своего вельбота. Концы были отданы; на корме обеих шлюпок белые люди стояли с непокрытыми головами, презирая палящее тропическое солнце и посылая последние приветы. А Майкл, заразившись всеобщим возбуждением, тявкал без конца. — Попрощайся с братом, Джерри, — шепнула на ухо Вилла Кеннан, подняв терьера на поручни и обеими руками придерживая за трепетавшие бока. А Джерри, не понимая слов и раздираемый противоречивыми желаниями, в ответ стал извиваться всем телом, повернул голову, лизнул свою госпожу языком, а через секунду снова свесил голову за борт, следя за быстро уменьшавшимся Майклом, и завыл от горя, совсем так, как выла его мать Бидди, когда он отплывал со шкипером. Джерри понимал значение разлуки, и сейчас не сомневался, что расстается с братом; ему и в голову не приходило, что он встретит Майкла спустя несколько лет, по ту сторону мира, в сказочной долине далекой Калифорнии, где они проживут до конца дней своих в ласковых объятиях возлюбленных богов. Майкл, поставив передние лапы на планшир, тявкал вопросительно и недоуменно, а Джерри отвечал ему визгом. Богиня успокаивающе сжала его бока, а он повернулся к ней и ткнулся влажным носом в ее щеку. Одной рукой она прижимала его к своей груди, свободная рука, полураскрытая, покоилась на поручнях — бело-розовое сердце цветка, ароматное и соблазнительное. Джерри подсунул к ней нос. Полураскрытая рука манила. Протискивая и всовывая морду, он слегка раздвигал пальцы пока нос его не очутился в ее пленительной, душистой руке. Джерри успокоился, втиснув свою золотистую морду по самые глаза, и замер, позабыв об «Ариеле», под напором ветра поворачивавшемся к солнцу, позабыв о Майкле, который все уменьшался по мере того, как увеличивалось расстояние до вельбота. И Вилла замерла. Оба ушли в игру, хотя для нее это было ново. Джерри не шевелился, пока хватало выдержки. Потом волна любви захлестнула его, и он засопел — так же громко, как засопел когда-то, сунув морду в руку шкипера на палубе «Эренджи», и как тогда шкипер, так и теперь богиня рассмеялась журчащим любовным смехом. Пальцы ее почти до боли стиснули морду Джерри. Другой рукой она так крепко прижала его к себе, что он едва мог вздохнуть. Однако он все время мужественно вилял обрубком хвоста, а высвободившись из восхитительного объятия, прижал уши и, лизнув ее в щеку алым языком, схватил зубами ее руку и оставил на нежной коже отпечаток любовного укуса, который боли не причиняет. Так исчезли для Джерри Тулаги и бунгало комиссара на вершине холма. Исчезли суда, стоявшие на рейде, и Майкл, его кровный брат. Джерри привык к таким исчезновениям. Так же ведь исчезали, как сонные грезы, Мериндж, Сомо и «Эренджи». Так исчезали все миры, гавани, рейды и атолловые лагуны, откуда уходил «Ариель», чтобы плыть дальше по необъятному простору моря.
 МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ
Предисловие
Еще в очень раннем возрасте, может быть, в силу моего врожденного ненасытного любопытства я возненавидел представления с дрессированными животными. Любопытство отравило мне этот вид развлечения, ибо я проник за кулисы, чтобы собственными глазами увидеть, как же все это делается. И картина, открывшаяся мне за блеском и мишурой представления, оказалась очень уж неприглядной. Я столкнулся там с жестокостью столь страшной, что раз и навсегда понял: ни один нормальный человек, хоть однажды увидев все это собственными глазами, уже не получит удовольствия от дрессированных животных. Меньше всего я склонен к сентиментальности. Литературные критики и разные сентиментальные люди считают меня звероподобным существом, упивающимся видом крови, насилиями и всевозможными ужасами. Не оспаривая такой своей репутации и даже соглашаясь с этой оценкой, позволю себе заметить, что я действительно прошел суровую школу жизни, видел и знал больше жестокости и бесчеловечности, чем обычно видит и знает средний обыватель. Чего только я не видел: корабельный кубрик и тюрьму, трущобы и пустыни, застенки и лепрозории, поля сражений и военные госпитали. Я видел страшные смерти и увечья. Видел, как вешают идиотов только за то, что они идиоты и не имеют денег на адвоката. Я был свидетелем того, как разрываются стойкие, мужественные сердца и надламываются недюжинные силы, видел людей, доведенных жестоким обращением до буйного, неизлечимого помешательства. Я был свидетелем голодной смерти стариков, юношей, даже детей. Я видел, как мужчин и женщин бьют кнутом, дубинками и кулаками; видел чернокожих мальчиков, которых хлестали бичом из кожи носорога столь искусно, что каждый удар кровавой полосой опоясывал их тела. И тем не менее — я заявляю об этом во всеуслышание — никогда не был я так подавлен и потрясен людским жестокосердием, как среди веселой, хохочущей, рукоплещущей толпы, глазеющей на дрессированных животных. Человек со здоровым желудком и крепкой головой может стерпеть жестокость и мучительство, если они являются следствием скудоумия или горячности. Я человек со здоровым желудком и крепкой головой. Но у меня тошнота подступает к горлу и все кружится перед глазами от той хладнокровной, сознательной, обдуманной жестокости, от того мучительства, которое кроется за девяноста девятью из ста номеров с дрессированными животными. Жестокость как искусство пышным цветом расцвела в среде дрессировщиков. И вот я, взрослый человек с крепкой головой и здоровым желудком, привычный к тяжелым испытаниям, к грубости и жестокости, поймал себя на том, что бессознательно старался избежать страданий, которые испытывал, глядя на дрессированных животных. Я вставал и выходил из зала при их появлении на сцене. Говоря «бессознательно», я хочу сказать, что я и не полагал, будто таким способом можно действенно бороться с этим «искусством». Я просто ограждал себя от жгучей боли. Но в последние годы я, как мне кажется, лучше понял человеческую природу и смело могу утверждать, что нормальный человек, безразлично мужчина или женщина, не потерпел бы этих зрелищ, знай он, сколь страшная жестокость кроется за ними. Поэтому я и беру на себя смелость высказать три нижеследующих пожелания: Первое. Пусть каждый сам убедится, какая чудовищная мера жестокости необходима для того, чтобы заставить животное, «играть» в этих весьма доходных представлениях. Второе. Я предлагаю всем мужчинам и женщинам, юношам и девушкам, ознакомившись с методами, которые применяются в искусстве дрессировки, стать членами местных, а также общеамериканских обществ покровительства животным. Третьему пожеланию я должен еще предпослать несколько слов. Подобно сотням тысяч людей, я трудился на другом поприще, стремясь объединить людские массы для борьбы за лучшее, за более достойное существование. Нелегкий труд — заставить людей сплотиться, еще труднее подвигнуть их на организованный протест против невыносимых условий их собственной жизни и — тем более — жизни порабощенных ими животных. Холодный пот прошибает нас, и мы льем кровавые слезы при виде свирепой жестокости, которая является основой работы с дрессированными животными. Но даже одна десятая процента потрясенных зрителей не организуется для того, чтобы словом и делом воспрепятствовать преступному мучительству. Тут сказывается наша человеческая слабость, и нам следует это признать, так же, как мы «признаем» тепло и холод, непрозрачность непрозрачного тела и извечный закон земного притяжения. И тем не менее для девяноста девяти и девяти десятых процента всех нас, не пожелавших побороть собственную слабость, открыт путь борьбы с жестокостью меньшинства, занимающегося для нашего развлечения дрессировкой животных, которые, в сущности, являются нашими меньшими братьями. И это очень простой путь. Чтобы пойти по нему, не надо платить членские взносы и обзаводиться штатом секретарей. И думать ни о чем не надо до того момента, когда в цирке или в театре нам объявят по программе выступление дрессированных-животных. Тут мы обязаны выразить наше недовольство, — обязаны встать с места и выйти в фойе или на свежий воздух и вернуться в зал лишь по окончании этого номера. Вот и все, что мы должны делать для того, чтобы добиться повсеместного снятия с репертуара дрессировочных номеров. Если дирекции театров убедятся, что эти номера не пользуются успехом, они в тот же день и час перестанут потчевать ими публику. Джек Лондон Глен Эллен, округ Сонома, Калифорния. 8 декабря 1915 г.
Глава первая
Майкл, ирландский терьер, охотник за неграми, так и не уехал из Тулаги на судне «Евгения». Раз в пять недель, на пути от Новой Гвинеи и Шортлендских островов до Австралии, в Тулаги заходил пароход «Макамбо». Однажды он прибыл с опозданием, а Келлар, капитан «Евгении», в тот же вечер забыл Майкла на берегу. Ничего страшного в этом, собственно, не было; ночью капитан Келлар вернулся на берег, и пока он взбирался на высокий холм к бунгало комиссара, экипаж шлюпки уже обыскивал, правда, тщетно, всю округу и навесы, под которыми стояли лодки. На деле же вышло, что за час до этого, когда на «Макамбо» уже поднимали якорь, а капитан Келлар спускался по сходням на берег, Майкл влезал на «Макамбо» через иллюминатор правого борта. Случилось это потому, что Майкл мало смыслил в жизни, потому, что он надеялся встретить Джерри на борту этого судна, — ведь в последний раз они виделись именно на судне, — и еще потому, что он обзавелся другом. Дэг Доутри был стюардом на «Макамбо»; и, может быть, многое в его жизни сложилось бы по-другому, не будь он всецело заворожен своей необычной и странной славой. Природа наделила его добродушным, но неустойчивым характером и железным здоровьем, а славился он тем, что в течение двадцати лет ни разу не пренебрег своими обязанностями и ни разу не поступился своей ежедневной порцией в шесть кварт пива, даже во время пребывания на Немецких островах, где, по его хвастливому заверению, в каждой бутылке пива содержалось не менее десяти гран хины — на предмет предупреждения малярии. Капитан «Макамбо» (а в свое время капитаны «Моресби», «Масены», «Сэра Эдварда Грэйса» и прочих пароходов компании Бернс Филп, носивших не менее причудливые имена) с гордостью показывал пассажирам эту легендарную личность, этого единственного в морских летописях человека. В такие минуты Дэг Доутри, притворяясь, что занят своим делом на верхней палубе, нет-нет да и косился на мостик, с которого его рассматривали капитан и пассажиры; грудь его при этом высоко вздымалась от гордости, — ведь он точно знал, что капитан сейчас говорит: «Смотрите-ка! Это Дэг Доутри, человек-цистерна. За двадцать лет никто его не видел ни пьяным, ни трезвым, и не было дня, чтобы он не выпил своих шести кварт пива. По нему этого не скажешь, но смею вас уверить, что это так. Сам не понимаю, как он умудряется, и просто восхищаюсь им. Работает за троих, не считаясь со временем. У меня и от одного стакана пива делается изжога и пропадает аппетит. А он прямо-таки цветет от этого напитка. Вы только посмотрите на него! Посмотрите!» Итак, зная, какую речь держит капитан, Доутри, напыжившись от сознания собственной доблести, еще ретивее принимался за работу и в такой день, случалось, выпивал даже седьмую кварту пива во славу своего удивительного организма. Конечно, это была своеобразная слава, но ведь на свете немало своеобразных людей. Дэг Доутри, например, в этой славе видел смысл жизни. Итак, все свои душевные силы и всю энергию он употреблял на поддержание утвердившейся за ним репутации «шестиквартового» человека. Для этой же цели в часы досуга он мастерил на продажу черепаховые гребни и другие украшения и, кроме того, набил себе руку на краже собак. Кто-то ведь должен был платить за пресловутые шесть кварт, а шесть, помноженные на тридцать, к концу месяца составляли кругленькую сумму, и поскольку этот «кто-то» был сам Дэг Доутри, то он и счел необходимым водворить Майкла на «Макамбо» через иллюминатор правого борта. В тот вечер в Тулаги Майкл, недоумевавший, куда же запропастился вельбот, повстречался с коренастым и седоволосым пароходным стюардом. Дружба между ними завязалась, можно сказать, мгновенно, так как Майкл, возмужав, превратился из жизнерадостного щенка в жизнерадостную собаку. Он был куда общительнее своего брата Джерри, хотя знал очень мало белых: сначала только мистера Хаггина, Дерби и Боба на плантации в Мериндже; позднее — капитана Келлара и его помощника с «Евгении», наконец, Гарлея Кеннана да еще нескольких офицеров с «Ариеля». Майкл полагал, что все они чрезвычайно выгодно отличаются от той массы чернокожих людей, которых его обучили презирать и на которых его натравливали. Дэг Доутри был такой же, как все белые, судя по тому, как он приветствовал Майкла: «Эй ты, пес белого человека, что ты делаешь в этой негритянской стороне?» Майкл отозвался на это приветствие скромно и с явно притворным равнодушием, что изобличали прижатые уши и веселые огоньки в глазах. Дэг Доутри, умевший с первого взгляда оценивать собаку, отметил все это, едва только он рассмотрел Майкла при свете фонарей, которые держали в руках чернокожие мальчики при разгрузке вельботов. Стюард немедленно признал за Майклом два достоинства: первое — симпатичная и явно добродушная собака, второе — собака дорогая. Вынесши такое суждение, Дэг Доутри быстро огляделся вокруг. Никто за ним не подглядывал; кроме негров, никого поблизости не было, да и те смотрели в сторону моря, откуда доносился всплеск весел, предупреждавший о приближении очередного вельбота. Дальше направо, под другим фонарем, он разглядел комиссарского клерка и эконома с «Макамбо», яростно споривших по поводу какой-то ошибки в накладной. Стюард бросил еще один быстрый взгляд на Майкла и, незамедлительно приняв решение, повернулся и пошел вдоль берега, торопясь выйти из полосы света. Отойдя ярдов на сто, он уселся на песок и стал ждать.


— Этому псу цена двадцать фунтов, ни пенни меньше, — пробормотал Дэг Доутри себе под нос. — Если мне не удастся выручить за него десять фунтов, значит, я болван, не умеющий отличить терьера от борзой. Нет, десять фунтов мне обеспечены в первом попавшемся кабаке сиднейского порта. Десять фунтов, преображенные в кварты пива, слились в его мозгу в грандиозное и лучезарное видение, нечто вроде пивоваренного завода. Быстрый переступ лап по песку и негромкое пофыркивание заставили его насторожиться. Произошло то, на что он рассчитывал. Он сразу полюбился собаке, и она пристала к нему. Дэг Доутри умел обходиться с собаками, и Майкл это смекнул, как только стюард потрепал его по шее пониже уха. В этом прикосновении не чувствовалось угрозы, так же как не чувствовалось опаски или боязни. Оно было сердечным, решительным и внушило доверие Майклу. Грубоватое без жестокости, властное без угрозы, уверенное без коварства. Майклу показалось вполне естественным, что совсем чужой человек ласково треплет его по шее, добродушно приговаривая: «Молодец, псина! Валяй, валяй — познакомишься со мной, еще того и гляди бриллиантами тебя осыплю». Что и говорить, никогда в жизни Майкл не встречал человека, который бы так сразу пришелся ему по душе. Дэг Доутри инстинктивно умел ладить с собаками. Натуре его была чужда жестокость. Он умел соблюдать меру как в строгости, так и в баловстве. Он не домогался всевозможными уловками дружбы Майкла. Вернее, конечно, домогался, но так, что этого нельзя было заподозрить. Потрепав Майкла по шее для первого знакомства, он отпустил его и сделал вид, что вовсе о нем позабыл. Он принялся раскуривать трубку, чиркая спичку за спичкой, словно ветер задувал их. Но пока они догорали, едва не обжигая ему пальцев, а он старательно пыхтел трубкой, его пронзительные голубые глазки под мохнатыми седыми бровями упорно изучали Майкла. Майкл же, насторожив уши, в свою очередь, не сводил глаз с незнакомца, который, казалось ему, никогда не был для него незнакомцем. Майкл почувствовал некоторое разочарование оттого, что этот восхитительный двуногий бог перестал заниматься им. Он даже сделал попытку навязаться на более близкое знакомство и вовлечь его в игру, для чего стремительно вскинул вверх передние лапы, затем вытянул их и, бросившись на землю распластался так, что грудь его легла на песок; при этом он энергично завилял обрубком хвоста и несколько раз громко и призывно тявкнул. А человек, сидя в полной темноте, после того, как догорела третья спичка, оставался равнодушным и продолжал флегматично покуривать трубку. Свет еще не видывал более умелого ухаживания, более продуманного и коварного обольщения, чем то, к которому прибег пожилой шестиквартовый стюард, желая завладеть Майклом. Когда Майкл, раздосадованный столь неуважительным обхождением, беспокойно заерзал, словно грозясь уйти, тот сердитым голосом подозвал его: — Поди сюда, пес! Поди сюда, говорят тебе! Дэг Доутри удовлетворенно ухмыльнулся про себя, когда Майкл подбежал и принялся усердно и вдумчиво обнюхивать его брюки и уж, конечно, воспользовался случаем, чтобы при слабых вспышках трубки получше рассмотреть его великолепные стати. — Ничего себе собачка, подходящая, — одобрительно проговорил он. — Скажу тебе, псина, что ты можешь получить приз на любой собачьей выставке. Вот только одно ухо у тебя подгуляло, но я, пожалуй, тебе его выглажу, а не я, так ветеринар. Он небрежно положил руку на ухо Майкла и с какой-то чувственной нежностью принялся кончиками пальцев мять его в том месте, где оно берет начало из туго натянутой кожи. И Майклу это понравилось. Никогда еще рука человека не обходилась с его ухом так фамильярно и в то же время ласково. Прикосновения этих пальцев вызывали в нем чувство такого острого физического наслаждения, что он в знак признательности весь извивался и корчился. Затем ухо Майкла стали вытягивать снизу вверх, неторопливо, уверенно, и оно, скользя между пальцами, испытывало какой-то сладостный зуд. Это ощущение возникало то в одном, то в другом ухе, и при этом человек все время бормотал какие-то слова; Майкл не понимал их, но знал, что они обращены к нему. — Голова превосходная, плоская, — решил Дэг Доутри, погладив Майкла, и зажег спичку. — И челюсти отличные, что угодно перегрызут; щеки тоже не впалые, но и не раздутые. Он запустил руку в пасть Майкла — проверить, насколько у него крепкие и ровные зубы, смерил ширину его плеч, объем груди, потом опять зажег спичку и внимательно обследовал все четыре лапы. — Черные-пречерные до самых когтей, — сказал Доутри, — на таких чистопородных лапах не бегала еще ни одна собака, и пальцы у тебя длинные и выпуклые, не слишком, а в самый раз — словом, все точно, как положено. Бьюсь об заклад, псина, что твои папаша с мамашей в свое время отхватили золотые медали. Майкл уже начал было тяготиться таким подробным обследованием, но тут Доутри как раз и перестал ощупывать строение его бедер и крепость коленных суставов, а схватил хвост Майкла, чтобы своими чудодейственными пальцами проверить мускулы у его основания; сначала он провел ладонью по позвоночнику, продолжением которого является хвост, а потом начал ласково его крутить. Майкл, вне себя от восторга, бросался из стороны в сторону, по направлению ласкающей его руки. А человек внезапно, схватив собаку под брюхо, поднял ее на воздух. Но не успел Майкл испугаться, как уже опять стоял на земле. — Двадцать шесть или двадцать семь фунтов, — уж во всяком случае побольше двадцати пяти, и я ставлю шиллинг против пенни, что в тебе со временем будет и все тридцать фунтов весу, — сообщил Майклу Дэг Доутри. — Ну и что дальше? А то, что многие знатоки очень даже ценят такой вес. Несколько лишних унций в крайности всегда можно сбавить тренировкой. У тебя, пес, стати прямо-таки великолепные. Сложение — как по заказу для бега, вес — для борьбы, и очесов нет на ногах. Что и говорить, уважаемый мистер пес, вес у тебя правильный, а ухо тебе уж разгладит какой-нибудь почтенный собачий доктор. Бьюсь об заклад, что в Сиднее найдется не меньше сотни охотников раскошелиться фунтов на двадцать, а то и больше за право назвать тебя своим. И чтобы Майкл не слишком о себе возомнил, Доутри отстранился от него, зажег погасшую трубку и, по-видимому, опять забыл о его существовании. Он отнюдь не собирался заискивать перед Майклом, а, напротив, хотел, чтобы Майкл заискивал перед ним. И Майкл не замедлил это сделать. Он стал тереться о колени Доутри и подталкивать мордой его руку, прося еще так же сладостно потереть ему ухо, потрепать хвост. Вместо этого Доутри зажал обеими руками его морду и, поворачивая ее из стороны в сторону, заговорил: — Чей ты, пес? Может, твой хозяин негр, тогда плохо твое дело. А может, какой-нибудь негр украл тебя, — но это и того хуже. Знаешь ведь, какие беды другой раз случаются с вашим братом. Это был бы уж просто срам. Ни один белый не потерпит, чтобы негр имел такого пса, и вот перед тобой белый, который этого уже не потерпел. Подумать только! Ты в руках у негра, а он и натаскать-то тебя как следует не сумеет! Ясное дело — тебя украл негр. Попадись он мне, да я с него семь шкур спущу! Можешь не сомневаться! Ты меня только наведи на след, а там уж увидишь, как я с ним расправлюсь. Можно рехнуться от одной мысли, что негр отдает тебе приказания, а ты для него из кожи вон лезешь! Нет, уважаемый пес, больше ты этого делать не будешь. Ты пойдешь со мной, и надо думать, что мне тебя упрашивать не придется! Дэг Доутри поднялся и вразвалку пошел вдоль берега. Майкл поглядел ему вслед, но остался на месте. Ему очень хотелось ринуться за ним, но ведь человек его не пригласил. Спустя несколько минут Доутри слегка чмокнул губами. Звук этот был так тих, что он сам едва слышал его и положился скорей на свидетельство своих губ, чем ушей. Ни один человек не расслышал бы этого звука на таком расстоянии, но Майкл услыхал, вскочил и в упоении стремглав помчался за Доутри.
Глава вторая
Дэг Доутри шагал вдоль берега, а Майкл то бежал за ним по пятам, то на радостях, при повторении таинственного звука, описывал широкие круги и вновь возвращался к нему; остановился Доутри у самой границы освещенного фонарями пространства, где какие-то смутные тени разгружали вельботы, а комиссарский клерк все еще препирался с судовым экономом по поводу неправильно выписанной накладной. Когда Майкл попытался снова двинуться вперед, Доутри остановил его все тем же невнятным звуком, похожим на чуть слышный поцелуй. Вполне понятно, что стюард не желал быть замеченным за столь сомнительным занятием, как кража собак, и прикидывал, как бы ему половчее переправить Майкла на борт. Он обошел освещенную фонарями пристань и двинулся вдоль берега по направлению к туземной деревушке. Как он и предполагал, все мало-мальски трудоспособное население было занято разгрузкой судов на пристани. Тростниковые хижины казались нежилыми, но из одной под конец все же послышался какой-то сварливый и дребезжащий старческий голос: — Кто там? — Моя долго здесь ходит, — отвечал Доутри на жаргоне, на котором говорят англичане в западной части Южных морей. — Моя сошла с парохода. Свези мою обратно на лодке, и моя будет давать тебе две палочки табаку. — Пускай твоя дает десять палочек, тогда свезу, — последовал ответ. — Моя даст пять, — не преминул поторговаться шестиквартовый стюард. — А если тебе мало, так иди, голубчик, ко всем чертям. Тишина. — Пять палочек, — настаивал стюард, обращаясь к темному отверстию в хижине. — Моя везет за пять, — отвечал голос, и в темноте обрисовалась фигура того, кому он принадлежал; фигура приблизилась, издавая такие странные звуки, что Доутри зажег спичку — посмотреть, в чем тут дело. Перед ним, опираясь на костыль, стоял старик с гноящимися, красными и воспаленными глазами, впрочем, видными только наполовину из-за каких-то болезненных наростов. На покрытой паршой голове старика торчком стояли патлы грязно-серых волос. Кожа на его лице, ссохшаяся, морщинистая, изрытая, была красно-синего цвета с бурым налетом, который казался бы нанесенным кистью, если бы при ближайшем рассмотрении не становилось очевидно, что этот налет является неотъемлемой ее принадлежностью. «Прокаженный», — пронеслось в уме Дэга Доутри, и он быстро с головы до пят оглядел старика, боясь увидеть язвы вместо пальцев и суставов. Но старик был цел и невредим, если не считать, что одна его нога кончалась чуть пониже бедра. — Черт подери, куда же это девалась твоя нога? — осведомился Доутри, тыча пальцем в то место, где ей полагалось быть. — Большой рыба, акул, забрал себе нога. — Старик осклабился беззубым, зияющим ртом. — Очень я старая старик, — прошамкал одноногий Мафусаил [16]. — И давно, давно не курила табак. Пусть большой белый хозяин дает скорей одна палочка, и я буду возить ее на пароход. — А вот возьму и не дам! — сердито буркнул Доутри. Вместо ответа старик повернулся и, опираясь на костыль, так, что обрубок ноги болтался в воздухе, заковылял к хижине. — Погоди, — торопливо воскликнул Доутри, — моя сейчас дает тебе покурить! Он сунул руку в карман за главной валютой Соломоновых островов и отломил от большой пачки палочку прессованного табака. Старик весь преобразился, когда, жадно протянув руку, получил вожделенную палочку. Набивая дрожащими, негнущимися пальцами дешевый и уже подпорченный виргинский табак в черную глиняную трубку, извлеченную им из отверстия в мочке уха, он все время испускал какие-то мурлыкающие звуки, прерываемые визгливыми вскриками то ли обиды, то ли восторга. Наконец, придавив большим пальцем содержимое плотно набитой трубки, старик внезапно бросил костыль и плюхнулся на землю, поджав под себя единственную ногу, так что, казалось, от него остался только торс. Затем он развязал маленький мешочек из волокон кокосового ореха, свисавший с шеи на его впалую, иссохшую грудь, вытащил из него кремень, огниво, трут и, хотя стюард нетерпеливо протягивал ему коробок спичек, высек искру, зажег об нее трут, раздул посильнее огонь и, наконец, закурил. С первой же затяжки он прекратил свои стоны, волнение его мало-помалу улеглось, и Доутри, внимательно за ним наблюдавший, заметил, что руки его перестали дрожать, отвислые губы больше не дергались, из уголков рта не стекала слюна, и воспаленные глаза приобрели успокоенное выражение. Что грезилось старику во внезапно наступившей тишине, Доутри не пытался угадать. Он был слишком поглощен тем, что живо предстало его собственному воображению: голые, убогие стены богадельни, и старик, очень похожий на него самого в будущем, который, несвязно что-то бормоча, клянчит и вымаливает щепотку табаку для своей старой глиняной трубки; богадельня, где — о ужас! — не достать даже и глотка, а не то что шести кварт пива. А Майкл, при слабых вспышках трубки наблюдавший за двумя стариками, одним, прикорнувшим на земле, и другим, стоящим поодаль, ничего не подозревая о трагедии старости, непоколебимо, твердо знал только одно: бесконечно привлекателен этот двуногий белый бог, который, потрепав его, Майкла, уши, подергав ему хвост и погладив спину своими чудодейственными руками, завладел его сердцем. Глиняная трубка догорела; старик негр при помощи костыля с необыкновенным проворством вскочил на свою единственную ногу и заковылял к морю. Доутри пришлось помочь ему спустить на воду утлую лодчонку. Это был выдолбленный из дерева челнок, такой же облезлый и дряхлый, как его хозяин; для того чтобы забраться в эту посудину, не опрокинув ее, Доутри промочил одну ногу до лодыжки, а другую до колена. Старик перевалился через борт так ловко, что, когда казалось, лодка вот-вот перевернется, вес его тела, миновав опасную точку, восстановил ее равновесие. Майкл остался сидеть на песке, дожидаясь приглашения и зная, что слабый чмокающий звук вполне сойдет за таковое. Дэг Доутри чмокнул губами так тихо, что старик ничего не услыхал, а Майкл прямо с песка вскочил в лодчонку, даже не замочив лапы. Использовав плечо Доутри как промежуточную ступень, он перебрался через него на дно лодки. Доутри снова тихонько воспроизвел звук поцелуя, Майкл тотчас же повернулся и сел прямо перед ним, уткнувшись мордой в его колени. — Могу присягнуть на целой груде библий, что собака просто-напросто ко мне пристала, — ухмыляясь, шепнул Доутри на ухо Майклу. — Вези, вези живей, старикан, — скомандовал он. Старик послушно погрузил в воду весло и попытался взять курс на группу огней, указывавших место, где стоял «Макамбо». Но он был слишком слаб и после каждого удара весла, пыхтя и отдуваясь, делал передышку. Стюард в нетерпении выхватил у него весло и сам взялся за работу. На полпути к пароходу старик наконец отдышался и, указав головой на Майкла, объявил: — Этот собака имеет хозяин, большой белый господин на шхуне… Даешь моя десять палочек табаку, — добавил он после соответствующей паузы, решив, что его сообщение уже успело возыметь эффект. — Я дам тебе по башке, — обнадежил его в ответ Доутри. — Белый господин на шхуне моя закадычный друг. Он сейчас на «Макамбо». Моя везет ему собаку. Больше старик ни в какие разговоры не пускался и, хотя он прожил на свете еще много лет, но ни разу ни словом не обмолвился о ночном пассажире, увезшем Майкла. Даже когда на берегу поднялась невообразимая суматоха и капитан Келлар в поисках собаки перевернул вверх дном весь Тулаги, одноногий старик благоразумно молчал. Кто он такой, чтобы затевать раздоры с этими чужеземными белыми хозяевами, которые появляются и исчезают, разбойничают и чинят расправы? В этом смысле старик ничем не отличался от всех своих соплеменников меланезийцев. Они знали: белые идут какими-то неразгаданными путями к своим собственным непостижимым целям, у белых свой собственный мир, и он расположен точно на возвышении; там, вне реального мира, то есть мира чернокожих людей, движутся какие-то фантомы, верховные белые существа, тени на необъятной и таинственной завесе космоса. Поскольку трап был спущен с левого борта, Дэг Доутри предпочел обогнуть пароход справа и подойти к открытому иллюминатору. — Квэк! — негромко позвал он раз, другой. После второго оклика свет в иллюминаторе померк, верно, потому, что его загородила чья-то голова, и пискливый голос отозвался: — Я здесь, хозяин. — Принимай собаку, — прошептал стюард. — Проследи, чтобы дверь была закрыта, и дожидайся меня. А ну! Приготовься! В мгновение ока он подхватил Майкла, поднял его, передал в невидимые руки, протянувшиеся из железной стены, и стал снова грести вдоль парохода, пока не добрался до грузового люка. Тут он вытащил из кисета столько табачных палочек, сколько захватила рука, швырнул их старику и оттолкнул лодчонку, нимало не заботясь о том, как ее беспомощный владелец доберется до берега. Старик не дотронулся до весла, предоставив лодке вольно скользить вдоль высокого борта корабля, к погруженной во мраке корме. Он был весь поглощен пересчитыванием табачных богатств, свалившихся на него. А это дело было не из легких. Старик умел считать только до пяти. Насчитав пять палочек, он начинал сначала и отсчитывал еще пяток. Всего он насчитал три пятка и еще две штуки; итак, в результате он не менее точно определил количество палочек, чем определил бы его любой белый человек с помощью цифры семнадцать. Это было больше, куда больше, чем он запрашивал. Но он не удивился. Никакой поступок белого человека не мог удивить его. Окажись у него в руках две палочки вместо семнадцати, он бы тоже не удивился. Раз всё поступки белых людей неожиданны, то удивить негра может разве что вполне ожиданный поступок белого человека. Работая веслом, пыхтя и время от времени бросая грести, старый негр, уже не думавший больше о призрачном мире белых людей, медленно продвигался к берегу. Для него сейчас существовала только реальность гор Тулаги, черные вершины которых врезались в блеклое сияние звездного неба, реальность моря и лодочки, С трудом пробиравшейся по волнам, реальность его иссякающих сил и смерти, которой все это неминуемо кончится.
Глава третья
Но вернемся к Майклу. Поднятый на воздух и подхваченный невидимыми руками, которые протащили его через узкое отверстие в борту, окаймленное медью, он очутился в освещенном помещении и стал озираться вокруг, ища Джерри. Но Джерри в эту минуту лежал, свернувшись клубочком, у койки Виллы Кеннан на сильно накренившейся палубе «Ариеля», в то время как это нарядное суденышко, уже оставившее позади Шортлендские острова и подгоняемое крепчавшим пассатом, рассекало носом бурлящую воду, идя в Новую Гвинею со скоростью одиннадцати узлов. Итак, вместо Джерри, которого он видел в последний раз тоже на пароходе, Майкл увидел Квэка. Квэк? Ну что ж, Квэк — это Квэк, существо, куда более отличающееся от всех остальных людей, чем все остальные люди отличаются друг от друга. По волнам житейского моря вряд ли когда-нибудь носилось создание столь же нелепое. Согласно общечеловеческому летосчислению, ему минуло семнадцать лет; но при взгляде на его высохшее лицо, морщинистый лоб и виски, на его глубоко запавшие глаза казалось, что здесь наложило свою печать по меньшей мере столетие. Ноги у него были тонкие, как соломинки, — просто кости без мяса, запиханные в иссохшую кожу; но на этих стеблях произрастало весьма тучное туловище. Громадное вздутое брюхо поддерживалось могучими бедрами, а плечи по ширине не уступали плечам Геркулеса. Но если смотреть сбоку, то эти плечи и грудь казались совершенно плоскими. Руки Квэка были так же тонки, как и ноги, и Майкл с первого взгляда принял его за громадного толстобрюхого черного паука. Квэк мигом оделся, то есть натянул на себя грязные парусиновые штаны, протершиеся от долгой носки, и такую же блузу. Два пальца на его левой руке были скрючены и не разгибались; опытный глаз сразу бы определил, что он болен проказой. И хотя он принадлежал Дэгу Доутри так же несомненно, как если бы тот выправил на него купчую крепость, но стюард нимало не подозревал, что эти изуродованные пальцы — признак страшной болезни. Доутри приобрел Квэка весьма несложным путем. На острове Короля Вильгельма, в группе островов Адмиралтейства, Квэк, по местному выражению, «сверзился с мола». Иными словами, вместе с проказой и прочими своими прелестями угодил прямо в объятия Дэга Доутри. Прогуливаясь однажды по протоптанным туземцами тропинкам в прибрежных зарослях и, как обычно, размышляя, чем бы поживиться, стюард поживился Квэком. И случилось это в момент, для последнего весьма критический. Преследуемый двумя шустрыми юнцами с железными копьями наперевес, Квэк, невероятно быстро передвигавшийся на своих журавлиных ногах, в полном изнеможении пал ниц перед Доутри и поднял на него молящий взор затравленной собаками лани. Доутри немедленно учинил суд и расправу, причем довольно крутую. Он испытывал естественный страх перед всякого рода микробами и бациллами и, заметив, что шустрые юнцы намереваются проткнуть его своими грязными и ржавыми копьями, выбил у одного копье из рук, а другого свалил с ног ловким ударом в челюсть. Мгновение спустя юнец, у которого он выбил копье, лежал на земле рядом со своим товарищем. Но стюард, человек уже в летах, не мог удовлетвориться одними копьями. Покуда спасенный Квэк продолжал охать и бормотать слова благодарности, лежа у его ног, Доутри успел обобрать юнцов. Одежды на них, правда, никакой не было, но зато на шее они оба носили ожерелья из зубов дельфина, каждое из которых стоило не меньше соверена. Из жестких, как щетина, волос на голове одного из них он вытащил самодельный частый гребень, инкрустированный перламутром, который впоследствии спустил в Сиднее торговцу редкостями за восемь шиллингов. Из носов и ушей выдернул черепаховые и костяные украшения, а с груди у обоих снял перевязи в виде полумесяца, длиной не менее четырнадцати дюймов, сделанные из жемчужных раковин, за которые ему где угодно дали бы не менее пятнадцати шиллингов. Копья он тоже сумел сбыть туристам в порту Моресби по пяти шиллингов за штуку. Не легко бедному стюарду поддерживать свою репутацию шестиквартового человека! Когда Доутри повернулся, чтобы уйти от шустрых юнцов, которые уже очнулись и смотрели на него блестящими, бегающими, как у диких зверьков, глазами, Квэк потащился за ним следом, да так, что наступал ему на пятки, заставляя его спотыкаться. Тогда Доутри нагрузил Квэка своими трофеями и пустил вперед себя по тропинке. Весь остальной путь до парохода Дэг Доутри самодовольно ухмылялся, глядя на свою добычу и на Квэка, который семенил впереди, толстый, как бочка, на тоненьких, точно тростинки, ногах. На борту парохода — на сей раз это был «Кокспэр» — Доутри уговорил капитана зачислить Квэка помощником стюарда с жалованьем десять шиллингов в месяц и тут же ознакомился с историей своего нового помощника. Причиной раздора явилась свинья. Шустрые юнцы были братья, жившие в соседней деревне, и свинья была их собственностью, рассказывал Квэк на своем немыслимом английском языке. Он, Квэк, никогда этой свиньи не видывал, даже не знал о ее существовании, покуда она не околела. Братья любили свинью. Ну и что же? Квэку-то какое дело, он так же не подозревал об их любви к свинье, как не подозревал о ее существовании. В первый раз он услыхал о ней, утверждал Квэк, когда по деревне прошел слух, что свинья сдохла и теперь кто-нибудь должен умереть за нее. Так уж положено, пояснил он в ответ на недоумевающий вопрос стюарда. Таков обычай. Когда у хозяев околевает любимая свинья, они обязаны кого-нибудь убить, все равно кого. Конечно, предпочтительнее убить того, кто колдовством наслал болезнь на свинью. Но если этот злодей не сыщется, то сойдет любой. Таким образом, Квэк и был избран искупительной жертвой. Заслушавшись Квэка, Дэг Доутри выпил седьмую кварту пива, так захватила его мрачная романтика этого происшествия в дебрях джунглей, где люди убивают первого попавшегося человека из-за околевшей свиньи. Разведчики, высланные на дороги, продолжал Квэк, принесли весть о приближении осиротелых хозяев свиньи, и вся деревня бежала в джунгли, ища спасения на деревьях, — остался только Квэк, он ведь не мог влезть на дерево. — Честное слово, — заключил Квэк, — моя не сглазила свинью. — Честное слово, — сказал Дэг Доутри. — Ты чего-то там наколдовал с этой свиньей. Ты похож на черта и можешь сглазить кого угодно. Я уж сам заболел, глядя на тебя. С того дня у стюарда вошло в привычку, покончив с шестой бутылкой, заставлять Квэка на сон грядущий рассказывать ему свою историю. Она оживляла в нем воспоминания детства, когда он бредил рассказами о дикарях-людоедах и мечтал когда-нибудь собственными глазами увидать их. А вот теперь — и он самодовольно ухмылялся — у него рабом был настоящий людоед. Квэк действительно был рабом Дэга Доутри, не в меньшей степени, чем если бы тот купил его на невольничьем рынке. На какой бы пароход компании Берне Филп ни поступал Доутри, он всегда устраивал туда и Квэка на жалованье десять шиллингов в месяц. Квэк в этом вопросе права голоса не имел. Пожелай он даже удрать в одном из австралийских портов, Доутри все равно не было надобности следить за ним. Австралия, с ее «курсом на белых», стояла на страже его интересов. Ни один темнокожий человек, будь то малаец, японец или полинезиец, не мог ступить на тамошнюю землю, не вручив правительству залога в сто фунтов. Да и на других островах, куда заходил «Макамбо», Квэк не проявлял ни малейшего желания сбежать. Остров Короля Вильгельма — единственное известное ему место на земном шаре — служил для него мерилом всех остальных мест. И поскольку остров Короля Вильгельма населяли людоеды, Квэк был убежден, что и на всех других островах население придерживается той же диеты. Что касается острова Короля Вильгельма, то «Макамбо», так же как в свое время «Кокспэр», заходил туда раз в два с половиной месяца, и самой страшной угрозой для Квэка оставалась угроза ссадить его на берег в том месте, где шустрые юнцы все еще оплакивали свою свинью. И правда, у них уже вошло в обычай всякий раз сновать на своей лодчонке вокруг «Макамбо» и строить страшные гримасы Квэку, а тот, в свою очередь, корчил им рожи, перегнувшись через поручни. Доутри даже поощрял этот наглядный обмен любезностями, который должен был лишить Квэка надежды когда-нибудь вернуться в родную деревню. Впрочем, Квэк отнюдь не стремился покинуть своего господина, который в конце концов был добр, справедлив и ни разу не поднял на него руки. Поначалу Квэк страдал морской болезнью, но быстро от нее отделался, так как никогда не сходил на берег, и был убежден, что живет в земном раю. Ему уже не приходилось горевать о своей неспособности лазить по деревьям, потому что никакая опасность ему более не угрожала. Еду он получал регулярно, в любых количествах, и какую еду! Никому из жителей его деревни даже во сне не снился хоть один из тех деликатесов, которые он поедал ежедневно. Итак, Квэк быстро справился с легким приступом тоски по родине и был самым счастливым из людей, когда-либо плававших по морям. Вот этот самый Квэк и втащил Майкла через иллюминатор в каюту Дэга Доутри и теперь дожидался, покуда сей достопочтенный муж войдет в нее кружным путем, через дверь. Бегло оглядев помещение, обнюхав койку, а также пространство под койкой и убедившись, что Джерри здесь нет, Майкл перенес все внимание на Квэка. Квэк старался быть полюбезнее. Он издал какое-то кудахтанье в доказательство дружелюбных намерений, а Майкл сердито заворчал на этого негра, посмевшего притронуться к нему своими нечистыми руками, — так уж это было внушено Майклу его воспитателями, — а теперь еще и разговаривающего с ним, псом, привыкшим общаться только с белыми богами. На этот резкий отпор Квэк ответил каким-то глупым смешком и сделал было попытку приблизиться к двери, чтобы отворить ее хозяину. Но не успел он поднять ногу, как Майкл уже схватил ее зубами. Квэк немедленно поставил ногу на место, и Майкл успокоился, хотя и не спускал с него глаз. Что он знал об этом негре, кроме того, что это негр, а ведь за всяким негром надо внимательно следить в отсутствие белого хозяина. Квэк попробовал сделать скользящее движение ногой по направлению к двери, но Майкл, мигом распознав его намерение, ощетинился, заворчал, и тот замер на месте. Эту картину и увидел вошедший Доутри. Он окинул признательным взором Майкла, ярко освещенного электричеством, и тотчас же оценил положение. — А ну, Квэк, шагни-ка вперед, — скомандовал он для проверки. Опасливый взгляд, брошенный Квэком на Майкла, был достаточно красноречив, однако стюард стоял на своем. Квэк нехотя повиновался, но не успел он двинуть ногой, как Майкл уже бросился к нему. Квэк застыл в неподвижности, а Майкл грозно прошелся вокруг него. — Да что он, пригвоздил тебя к полу, что ли? — усмехнулся Доутри. — Ей-богу, этот пес — охотник за неграми, ясно как день. Эй ты, Квэк, поди принеси мне две бутылки пива со льда! — приказал он. Квэк бросил на него умоляющий взгляд, но не пошевелился. Он не двинулся с места и после повторного приказания. — Черт подери! — взревел стюард. — Если ты сию минуту не притащишь мне пару пива, я закачу тебе восемь вахт подряд да еще полувахту в придачу. А не то высажу на острове Короля Вильгельма и заставлю пробежаться по берегу. — Моя не может, — пролепетал Квэк. — Собачья глаз очень много смотрит. Моя не любит, когда собака делает кус-кус! — Ты боишься собаки? — спросил Доутри. — Честный слово, моя ужас боится собака. Дэг Доутри был в восторге. Но так как после экспедиции на берег его томила жажда, то он решил положить конец препирательствам. — Эй ты, пес, — обратился он к Майклу. — Этот парень хороший. Понял? Хороший парень. Майкл помахал хвостом и прижал уши в доказательство того, что старается понять. Когда же стюард дотронулся до плеча Квэка, Майкл, в свою очередь, приблизился к нему и обнюхал его ноги, которые сам же пригвоздил к полу. — Ну, теперь иди, — приказал Доутри. — Иди, но не торопись, — добавил он, хотя в этом предупреждении особой нужды не было. Майкл ощетинился, но позволил Квэку сделать первый, робкий шажок. На втором он для проверки взглянул на Доутри. — Все в порядке, — заверил его стюард. — Это мой парень. Хороший парень. Майкл понимающе улыбнулся одними глазами и отошел в сторону с целью исследовать стоявший на полу ящик, доверху набитый черепаховыми пластинами, напильниками и наждачной бумагой.
— А теперь, — внушительно проговорил Дэг Доутри, поудобней устраиваясь в кресле с бутылкой в руке, в то время как Квэк расшнуровывал ему башмаки, — теперь, уважаемый пес, надо придумать для тебя имя, да такое, которое не посрамит твоей породы и сделает честь моей изобретательности.
Глава четвертая
Ирландские терьеры, достигнув зрелости, отличаются не только отвагой, преданностью, способностью к бескорыстной любви, но также хладнокровием, удивительным самообладанием и сдержанностью. Заставить их выйти из себя очень не легко; голосу хозяина они повинуются даже в разгаре неистовой драки и никогда не впадают в истерику, как, например, фокстерьеры. Майкл, чуждый всякой истеричности, был куда более возбудим и вспыльчив, чем его кровный брат Джерри, а их родители по сравнению с ним могли считаться степеннейшей собачьей четой. Взрослый Майкл резвился и шалил больше, чем взрослый Джерри. Его кипучая энергия готова была вырваться наружу при малейшем поощрении, а разыгравшись, он мог перещеголять любого щенка. Одним словом, у Майкла была веселая душа. Слово «душа» здесь употреблено не случайно. Что бы ни называлось человеческой душой — подвижный дух, сознание, ярко выраженная индивидуальность, — Майкл, безусловно, обладал этим трудноопределимым свойством. Его душе были присущи те же чувства, что и душе человека, разве что в меньшей степени. Он знал любовь, печаль, радость, гнев, гордость, застенчивость, юмор. Три основные свойства человеческой души — это память, воля и ум. У Майкла была память, были воля и ум. Как и человек, он познавал внешний мир при помощи своих пяти чувств. Как и у человека, результатом этого познания являлись ощущения. Как у человека, эти ощущения временами перерастали в эмоции. И, наконец, так же, как человек, он обладал способностью воспринимать, и восприятия в его мозгу складывались в представления, — о, разумеется, не такие обширные, глубокие и сложные, как у человека, но все же представления. Надо, пожалуй, признать, чтобы уж слишком не унижать человека такой тождественностью его природы с природой собачьей, что чувства Майкла уступали в остроте человеческим чувствам и что, скажем, укол в лапу для собаки менее чувствителен, чем укол в ладонь для человека. Надо также признать, что мысли, озарявшие его мозг, были не так ясны и определенны, как мысли в мозгу человека. И далее, что никогда, никогда, проживи Майкл хоть миллионы жизней, не смог бы он доказать теорему Эвклида или решить квадратное уравнение. Но все же он твердо знал, что три кости — это больше, чем две кости, и что десять собак составляют свору куда более внушительную, чем две собаки. Но вот уж чего никак нельзя утверждать — это, что Майкл не умел любить так же преданно, беззаветно, самозабвенно, безумно и жертвенно, как любит человек. И любил он так не потому, что был Майклом, а потому, что был собакой. Майкл любил капитана Келлара больше жизни. Так же, как Джерри за своего шкипера, он, не задумываясь, пожертвовал бы жизнью за своего капитана. И когда с течением времени капитан Келлар, а заодно и Мериндж и Соломоновы острова ушли в роковое небытие, ему было суждено столь же беззаветно полюбить шестиквартового стюарда, умевшего так хорошо ладить с собаками и так ласково чмокать губами. Чувство это не распространялось на Квэка, потому что Квэк был негром. К Квэку он относился лишь как к неотъемлемому атрибуту окружающей обстановки, как к личному достоянию Дэга Доутри. Что этот новый бог зовется Дэгом Доутри, Майкл не знал, Квэк называл его «хозяин», но Майкл слышал, что другие негры называли так и других белых людей. Сколько негров, например, именовали «хозяином» капитана Келлара! Капитан Дункан своего стюарда так и звал стюардом, так же звали его офицеры и пассажиры, так что для Майкла имя его бога было «Стюард», и с тех пор он в мыслях своих никогда не называл его иначе. Но сейчас на очереди стоял вопрос о его собственном имени, — вопрос, который и начал обсуждать Доутри на следующий же вечер после появления Майкла на «Макамбо». Майкл сидел, положив морду на колени Доутри. Зрачки его горящих глаз то сужались, то ширились. Вслушиваясь в слова стюарда, он то прижимал уши, то настораживал их, в упоении колотя по полу обрубком хвоста. — Да сынок, — говорил ему стюард. — Твой отец и мать были ирландцы. Нет, уж ты, каналья, не отпирайся… — прибавил он, потому что Майкл, подстрекаемый дружелюбием и веселостью его голоса, стал извиваться всем телом и с удвоенной быстротой забарабанил хвостом. Слов он, конечно, не понимал, но понимал, что в этом сочетании звуков кроется таинственная прелесть, неизменно исходящая от его белого бога. — Никогда не стыдись своих предков. И помни, бог любит ирландцев… Квэк! Живо притащи-ка мне две бутылки пива с ледника!.. Да ведь у тебя на морде написано, что ты ирландец! (Хвост Майкла отбивал зорю.) Ну, ну, нечего ко мне подлизываться. Знаю все ваши штучки, знаю, как ваш брат умеет подольщаться. Только ты помни, что у меня сердце жесткое. Оно, брат, насквозь пропиталось пивом. Я тебя украл, чтобы продать, а вовсе не для того, чтобы любить. В свое время я бы тебя, пожалуй, и полюбил, но это было давно, когда я еще не свел знакомства с пивом. Если бы подвернулся случай, я бы сию минуту спустил тебя за двадцать фунтов. Деньги на стол — и точка. А любить тебя я не собираюсь, заруби себе это на носу… Да, о чем, бишь, я говорил, когда ты набросился на меня с нежностями? Он прервал свою речь и опрокинул в рот бутылку, откупоренную Квэком. Потом вздохнул, вытер губы рукой и продолжал: — А странная штука, сынок, получается с этим дурацким пивом. Вот, например, Квэк, эта обезьяна с мафусаиловой рожей, которая ухмыляется, глядя на нас с тобой, принадлежит мне. А я, ей-богу правда, принадлежу пиву, сотням бутылок пива, целым горам бутылок, таким высоким, что они могут судно потопить. Честное слово, пес, я тебе завидую, что у тебя нутро не отравлено алкоголем. Сейчас я твой хозяин, потом твоим хозяином будет тот, кто выложит мне за тебя двадцать фунтов, а вот гора бутылок над тобой никогда хозяином не будет. Ты, уважаемый пес, не знаю уж, как тебя величать, свободнее меня. Погоди, что-то мне помнится… Он допил бутылку, швырнул ее Квэку и знаком велел откупорить следующую. — Не так-то просто придумать тебе имя. Конечно, оно должно быть ирландское, но какое, спрашивается? Пэдди? Это правильно, что ты качаешь головой. Очень уж оно простецкое. А за дворнягу тебя никто не примет. Баллимена — это бы еще куда ни шло, да звучит как-то не по-мужски, а ты ведь, мой мальчик, мужчина. Ага, постой! Мальчик! Бой! Банши-бой?.. Нет, не годится! Эрин-бой? Он одобрительно кивнул и взялся за вторую бутылку. Отпил глоток, подумал, потом снова отпил. — Нашел! — торжествующе воскликнул Доутри. — Киллени — хорошее имя! Ты у меня будешь Киллени-бой. Звучное имя, точно граф какой-нибудь или… отставной пивовар. А я за свою жизнь многим из этих господ помог заработать и удалиться на покой. Он допил бутылку, внезапно схватил Майкла за морду, подтянул его к себе, потерся носом о его нос и так же внезапно отпустил. Майкл вилял хвостом и сияющими глазами смотрел на белого бога. Душа, самая настоящая душа, или (если хотите) сущность, или, иначе, сознание светилось в собачьих глазах, теперь уже с обожанием обращенных на этого седовласого бога, который говорил ему какие-то слова, непонятные, но все равно радостью согревавшие его сердце. — Эй, Квэк, где ты там? Квэк, который, сидя на корточках, полировал черепаховый гребень, вырезанный Доутри по собственному рисунку, прервал свое занятие и поднял глаза, готовый выслушать и исполнить приказание своего господина. — Запомни хорошенько, Квэк, как зовут этого пса. Его имя Киллени-бой. Тверди, пока не запомнишь. И всегда обращайся к нему: Киллени-бой. Понятно? Если не понятно, я тебе башку сверну. Киллени-бой, понял? Киллени-бой. Киллени-бой. Когда Квэк уже стягивал башмаки с Доутри и помогал ему раздеваться, тот сонными глазами взглянул на Майкла. — Я тебя, дружище, раскусил, — объявил он, вставая и шаткой походкой направляясь к койке. — И имя подыскал, и аттестат тебе уже готов, я все разгадал. Шалый, но разумный. Вот это точно. Да, да, шалый, но разумный, вот какой ты есть, Киллени-бой, — продолжал он бормотать, с помощью Квэка укладываясь на койке. Квэк снова взялся за полировку гребня. Губы его шевелились, беззвучно что-то шепча, брови хмурились, пока он наконец не обратился к стюарду. — Хозяин, какой имя будет держаться на этот собак? — Киллени-бой, глупая ты людоедская башка! Киллени-бой, Киллени-бой, — сквозь сон лопотал Дэг Доутри. — Эй ты, черномазый кровопийца, притащи-ка мне пива из ледника! — Не буду притащить, — дрожащим голосом отозвался Квэк, тревожно озираясь в ожидании, что какой-нибудь предмет вот-вот полетит ему в голову. — Шесть бутылок уже кончил хозяин. В ответ послышался только громкий храп. И негр со сведенной проказой рукой и едва заметным утолщением кожи над переносицей — зловещим признаком той же болезни — снова склонился над работой, в то время как губы его непрерывно шептали: «Киллени-бой, Киллени-бой».
Глава пятая
В течение многих дней Майкл не видел никого, кроме Доутри и Квэка, так как был узником в каюте стюарда. Ни один человек не подозревал о его присутствии на борту; Дэг Доутри, не сомневавшийся в том, что он похитил собаку, принадлежавшую белому, уповал, что Майкл не будет обнаружен и что, когда «Макамбо» отдаст якорь в Сиднее, ему удастся незаметно свести его на берег. Стюард очень скоро оценил из ряда вон выдающиеся способности Майкла. Он хорошо его кормил, иногда давал ему куриные кости. И вот оказалось, что двух уроков, которые, собственно, даже нельзя было назвать уроками, так как каждый из них длился не более полминуты, вполне достаточно, чтобы Майкл понял: кости можно грызть только на полу и только в уголке возле двери. С тех пор, получив кость, он неизменно относил ее в этот угол. И ничего тут нет удивительного. Он мгновенно схватывал то, чего хотел от него стюард, и не было для него большего счастья, чем служить ему. Стюард был бог, добрый бог, чью любовь Майкл чувствовал в голосе, в движении губ, в прикосновении руки, обнимавшей его, когда они сидели нос к носу и стюард вел с ним нескончаемые разговоры. Нет служения радостнее, чем служение любимому. И если бы Доутри потребовал, чтобы Майкл не дотрагивался до костей в своем уголке, он бы к ним не притронулся. Таковы уж собаки, единственные животные, которые весело, более того — прыгая от радости, оставят недоеденный кусок, чтобы последовать за своим господином-человеком или услужить ему. Дэг Доутри почти все свободное время проводил с заточенным в каюте Майклом, который, повинуясь его приказу, быстро отучился скулить и лаять. В эти часы, проведенные вдвоем с хозяином, Майкл приобрел уйму всевозможных познаний. Обнаружив, что простейшие понятия, такие, как «нельзя», «можно», «встань» и «ложись», уже знакомы Майклу, Доутри стал обучать его более сложным, например: «поди ляг на койку», «пошел под койку», «принеси один башмак», «принеси два башмака». И так, почти без всякого труда, он научил его перекатываться с боку на бок, изображать молящегося, «умирать», сидеть в шляпе, нахлобученной на голову, и с трубкой в зубах и не только стоять, но и ходить на задних лапах. Затем пришла очередь более сложного трюка — с «можно» и «нельзя». Положив пахучий, соблазнительный кусок мяса или сыра на край койки вровень с носом Майкла, Доутри просто говорил: «Нельзя». И Майкл никогда не дотрагивался до пищи, прежде чем не раздавалось долгожданное «можно». Сказав «нельзя», Доутри мог уйти из каюты на полчаса или на шесть часов и по возвращении находил пищу нетронутой, а Майкла иногда даже спящим в уголке у изголовья койки, на отведенном ему месте. Как-то раз, когда стюард, еще только начавший обучать Майкла этому трюку, вышел из каюты, а чуткий нос Майкла находился на расстоянии дюйма от запретного куска, Квэк в приступе игривости сам потянулся к этому куску, но Майкл так хватил его зубами, что на руке Квэка осталась рваная рана. Ни одной из своих штук, которые Майкл с таким рвением проделывал для стюарда, он не проделал бы для Квэка, хотя Квэк относился к нему беззлобно и даже доброжелательно. Объяснялось это тем, что Майкла, едва только в нем забрезжило сознание, стали обучать различию между черным и белым человеком. Черные люди всегда находились в услужении у белых — по крайней мере на его памяти; их всегда в чем-то подозревали и считали, что за ними нужен глаз да глаз, так как они способны на любое преступление. И главный долг собаки, служащей белому богу, заключался в том, чтобы неусыпно следить за всеми чернокожими, встречающимися на его пути. Тем не менее Майкл позволял Квэку кормить и поить его, а также оказывать ему и другие услуги, сначала лишь в отсутствие Доутри, когда тот исполнял свои обязанности стюарда, а потом и в любое время. Не раздумывая над этим, он понял, что пища, которую ему приносил Квэк, и все прочее, что Квэк для него делал, исходила не от Квэка, а от господина, которому принадлежал Квэк, так же как и он, Майкл. Впрочем, Квэк не сердился на Майкла. Неусыпно заботясь о благополучии и покое своего хозяина — хозяина, который в тот страшный день на острове Короля Вильгельма спас его от кровавой мести убитых горем владельцев свиньи, — он ради него холил и нежил Майкла. Заметив растущую привязанность своего хозяина к Майклу, он и сам полюбил его, — вернее, стал относиться к нему с таким же благоговением, с каким относился к башмакам или одежде стюарда, которые ему надлежало чистить, или к шести бутылкам пива, которые он ежедневно выносил для него на ледник. По правде говоря, в Квэке не было ни одной аристократической черточки, Майкл же был прирожденным аристократом. Он мог из любви служить стюарду, но на одну доску с этим черным уродцем он себя не ставил. У Квэка была душа раба, а в Майкле рабского было не больше, чем в индейцах в ту пору, когда их тщетно пытались обратить в рабов на плантациях Кубы. Во всем этом не было вины Квэка, так же как не было заслуги Майкла. Майкл унаследовал от своих предков, в течение веков строго отбираемых человеком, свирепость и преданность — сочетание, в результате неизменно дающее гордость. Гордости же нет без чувства чести, как нет чести без самообладания. Лучшими достижениями Майкла в первые дни обучения в каюте стюарда было то, что он выучился считать до пяти. Несмотря на его исключительную понятливость и ум, на это ушло много часов напряженной работы. Ведь он должен был научиться, во-первых, узнавать звуки, обозначающие цифры; во-вторых, видеть глазами и одновременно отличать мысленно один предмет от всех других предметов и, наконец, отождествлять в уме предмет или несколько предметов, числом до пяти, с цифрой, произносимой стюардом. Для натаски Майкла Дэг Доутри применял шарики, скатанные из бумаги и перевязанные бечевкой. Бросив пять шариков под койку, он приказывал Майклу принести ему три, и Майкл безошибочно приносил и клал ему в руку не два, не четыре, а именно три шарика. Когда Доутри бросал под койку три шарика и требовал четыре, Майкл притаскивал ему три, тщетно искал четвертый и начинал с виноватым видом вилять хвостом и прыгать вокруг стюарда, под конец снова кидался на розыски и вытаскивал четвертый из-под подушки или из-под одеяла. То же самое он проделывал и с другими известными ему предметами. В пределах пятерки он всегда приносил требуемое число башмаков, или рубах, или наволочек. Разница между математическими способностями Майкла, умевшего считать до пяти, и старика негра в Тулаги, который раскладывал табачные палочки на кучки, по пятку каждая, была много меньше, чем разница между Майклом и Дэгом Доутри, умевшим умножать и делить многозначные числа. В этом смысле еще большая дистанция отделяла Дэга Доутри от капитана Дункана, управлявшего «Макамбо» с помощью точных математических расчетов. Но все-таки самая большая дистанция существовала между математическим мышлением капитана Дункана и мышлением астронома, который вычерчивает карту неба и мысленно пускается в плавание между светил, отстоящих от нас на тысячи миллионов миль, астронома, уделяющего крупицу своих познаний капитану Дункану, чтобы тот во всякий день и час мог определить местонахождение «Макамбо» в открытом море. Только одно давало Квэку известную власть над Майклом. У Квэка был варганчик, и когда замкнутый мирок «Макамбо» и ухаживание за стюардом нагоняли на него тоску, он губами и рукой извлекал из него таинственные звуки, уносившие его в иные края и времена, а Майкл подпевал, вернее подвывал ему, хотя в его вое была та же ласкающая слух мелодичность, что и в вое Джерри. Майклу вовсе не хотелось выть, но все его существо так же неизбежно реагировало на музыку, как при лабораторных опытах реагируют друг на друга химические вещества. Поскольку он проживал в каюте стюарда нелегально, голоса его никто не должен был слышать, и Квэку теперь приходилось искать утешения в звуках своего варганчика, сидя в адской жаре над кочегаркой. Впрочем, это продолжалось недолго. То ли благодаря слепому случаю, то ли в силу предначертаний судьбы, занесенных в книгу жизни еще до сотворения мира, Майкл оказался вовлеченным в приключение, которое коренным образом повлияло не только на его участь, но также и на участь Квэка и Дэга Доутри, — более того, которое определило место их кончины и погребения.
Глава шестая
События, имевшие столь важные последствия в будущем, начались с того, что Майкл всем, решительно всем выдал свое присутствие на «Макамбо». Произошло это по небрежности Квэка, недостаточно плотно закрывшего за собой дверь в каюту. По морю катилась легкая зыбь, и дверь то оставалась распахнутой на несколько секунд, то снова затворялась, но не захлопывалась. Майкл перескочил через высокий комингс с невинным намерением исследовать ближайшие окрестности. Но не успел он выйти из каюты, как «Макамбо» сильно качнуло и на этот раз дверь захлопнулась. Он хотел тотчас же вернуться обратно. Послушание стало его второй натурой, потому что он всем сердцем желал повиноваться воле своего хозяина и с первых же дней заключения почувствовал, понял или догадался, что сидит взаперти по воле стюарда. Он долго торчал перед закрытой дверью, тоскливо поглядывая на нее, но потом сообразил, что лаять на неодушевленный предмет или вступать с ним в беседу не имеет никакого смысла. Майкл еще маленьким щенком научился понимать, что мольба или угроза воздействуют только на живые существа, а неживые предметы, как эта дверь, например, хоть и движутся, но не по собственной воле и остаются глухими к любому зову жизни. Время от времени он прохаживался по небольшой площадке, на которую выходила дверь каюты, посматривая на длинный проход, тянувшийся от носа к корме. Так он провел примерно с час, то и дело возвращаясь к упорно не открывавшейся двери. Затем его осенила мысль: раз дверь не открывается, а стюард и Квэк не идут и не идут, то надо их разыскать. Приняв этот план действий, Майкл, не мешкая, без дальнейших размышлений или колебаний, двинулся по длинному коридору, в конце которого, за поворотом, он обнаружил узенький трап. Учуяв среди многих запахов запахи стюарда и Квэка, Майкл узнал, что они прошли здесь. Поднявшись по трапу и выйдя на палубу, он стал встречать пассажиров. Поскольку все это были белые боги, Майкл не оскорблялся тем, что они заговаривали с ним, но продолжал бежать, не останавливаясь, и очутился наконец на открытой палубе, где множество почитаемых им белых богов уютно расположились в шезлонгах. Ни Квэка, ни стюарда среди них не было. Зато перед ним оказался еще один узкий трап, и он поднялся на верхнюю палубу. Здесь, под широким тентом, было еще больше белых богов — много больше, чем он видел за всю свою жизнь. Передняя часть верхней палубы кончалась мостиком, не возвышавшимся над ней, а как бы составлявшим ее продолжение. Обойдя рубку рулевого с теневой, подветренной стороны, Майкл лицом к лицу столкнулся со своей судьбой. Здесь необходимо заметить, что у капитана Дункана на борту, кроме двух фокстерьеров, имелась еще большая персидская кошка, а у этой кошки целый выводок котят. Детскую для своих малюток кошка устроила в рубке, а капитан Дункан, всячески ублажавший ее, велел еще поставить туда ящик для котят и пригрозил своим помощникам самыми страшными карами, если они раздавят хоть одного котенка. Но Майкл ничего об этом не знал. Кошка же узнала о существовании Майкла раньше, чем он узнал о существовании кошки. Короче говоря, он впервые увидел ее, когда она ринулась на него из открытой двери рубки. Еще не успев отдать себе отчет в неожиданно нагрянувшей опасности, Майкл инстинктивно отскочил в сторону. С его точки зрения, это была ничем не спровоцированная агрессия. Он смотрел на кошку, ощетинившись и начиная понимать, что перед ним всего-навсего кошка, но она снова ринулась на него, распушив свой хвост, по длине не уступавший руке крупного мужчины, и выпустила когти, фыркая от злобы и жажды мести. Для уважающего себя ирландского терьера это было уже слишком. Ярость вспыхнула в нем в ту самую минуту, когда кошка сделала второй прыжок; он отскочил, чтобы спастись от ее когтей и самому броситься на нее сбоку, и зубами схватил ее за спину в мгновение, когда она еще находилась ввоздухе. В следующую секунду кошка уже билась и корчилась с перегрызенным спинным хребтом. Но для Майкла это оказалось еще только началом. Пронзительный лай, вернее, тявканье, новых врагов заставило его сделать стремительный, но — увы! — все же недостаточно быстрый полуоборот. С обоих флангов на него налетели два рослых фокстерьера; он упал и покатился по палубе. Эти фокстерьеры, кстати сказать, давно, еще маленькими щенками, явились на борт «Макамбо» в карманах Дэга Доутри, который, по обыкновению, «поживился» ими в Сиднее и затем продал капитану Дункану по гинее за штуку. На этот раз Майкл вскочил на ноги, разозленный уже не на шутку. И правда, на него градом сыпались какие-то воинственные кошки и собаки, а он ведь не только не затевал с ними ссоры, но даже не подозревал об их существовании, покуда они на него не напали. Фокстерьеры вели себя отважно, несмотря на свою истерическую ярость, и не успел он подняться на ноги, как они уже снова атаковали его. Клыки одного из них сцепились с его клыками, губы у обоих были разодраны. Получив новый удар, один фокс отпрянул от своего более тяжеловесного противника. Зато другой ухитрился налететь на Майкла с фланга и в кровь разодрать ему бок. Мгновенно, почти спазматически, изогнувшись всем телом, Майкл отшвырнул фокса, оставив в его пасти целый клок своей шерсти, но зато насквозь прокусив ему ухо. Фокстерьер, пронзительно взвизгнув от боли, так резко отскочил, что клыки Майкла, точно гребень, насквозь прочесали его ухо. Тут на Майкла налетел первый фокс, и едва только он обернулся, чтобы принять бой, как опять подвергся неспровоцированной атаке. На сей раз это был капитан Дункан, разъяренный видом своей убитой кошки. Он так хватил Майкла сапогом в грудь, что едва не вышиб из него дух. Майкл, взлетев в воздух, тяжело рухнул на бок. Оба фокса стремглав бросились на него и впились зубами в его жесткую щетинистую шерсть. Лежа на боку и тщетно пытаясь подняться, Майкл все же умудрился схватить за ногу одного из противников. Тот с громким визгом начал отступать на трех лапах, поджимая четвертую, до кости прокушенную Майклом. Майкл дважды отбросил второго четвероногого врага стал стремительно кружить вокруг него, а за Майком, в свою очередь, погнался капитан Дункан. Затем, сократив расстояние между собой и противником прыжком по хорде дуги, описываемой фоксом, Майкл впился зубами ему в загривок. При столь неожиданном нападении более крупной собаки фокс не устоял и тяжело шлепнулся на палубу. И в то же мгновение капитан Дункан вторично так пнул Майкла ногой, что у того в зубах остался кусок фокстерьерова мяса. Тогда Майкл двинулся на капитана. Пускай он белый бог! Взбешенный столькими нападениями такого множества врагов, Майкл, мирно пустившийся на поиски Квэка и стюарда, не стал тратить времени на размышления. К тому же он этого белого бога раньше и в глаза не видывал. Поначалу Майкл щерился и рычал. Но так как битва с белым богом была делом нешуточным, то, отскочив в сторону, чтобы уклониться от нового удара ногой, он не издал ни звука. Сманеврировав, как в случае с кошкой, Майкл атаковал капитанскую ногу с фланга. В сторону, чтоб увернуться от удара, а потом из укрытия ринуться на врага — такова была его тактика. Он научился ей на неграх, в Мериндже и на борту «Евгении», причем иногда этот трюк ему удавался, а иногда и нет. Зубы его мгновенно прокусили белую парусину брюк. Резкий толчок в ногу — и взбешенный моряк потерял равновесие. Едва не шлепнувшись носом, он с огромным усилием удержался на ногах, перескочил через изготовившегося к вторичному нападению Майкла, пошатнулся и сел прямо на палубу. Сколько времени ему понадобилось бы на то, чтобы отдышаться, осталось неизвестным, так как, пришпоренный отчаянным укусом в плечо, он вскочил с максимальной быстротой, на какую только был способен при всей своей тучности. И тут Майкл хоть и упустил возможность вцепиться ему в икру, но зато в клочья разорвал штанину на другой ноге и сам получил такой пинок, что взлетел на воздух, перекувырнулся и грохнулся спиною оземь. Капитан, бывший до сих пор яростно наступающей стороной, собрался еще раз наподдать Майклу, но тот вдруг вскочил на ноги и прыгнул, чтобы на этот раз вцепиться капитану уже не в ногу или в бедро, а в глотку. Впрочем, до глотки он не достал, и, вонзившись зубами в широкий черный галстук капитана, повис на нем, но тут же оборвался и разодрал его в лохмотья. Но не столько это обстоятельство заставило капитана отступить и перейти уже к чисто оборонительной тактике, сколько молчание Майкла, зловещее, как смерть. Этот пес не рычал, не огрызался. Уставившись на капитана немигающими глазами, он снова и снова бросался на него. Он не лаял, кидаясь в атаку, и не взвизгивал, получив удар ногой. Страха Майкл не знал. Том Хаггин часто бахвалился выдержкой Бидди и Теренса; надо думать, что они и своего сына Майкла обучили глазом не моргнув сносить побои. Бидди и Теренс — так уж были созданы эти псы — неизменно бросались навстречу удару и вступали в схватку с тем, кто его наносил. В молчании, суровом, как смерть, вели они бой, непрерывно атакуя противника. Такой же был и Майкл. Капитан ударял его ногой и отступал, а Майкл подпрыгивал и впивался зубами в его ногу. Спасение явилось капитану в лице матроса со шваброй для мытья палубы, насаженной на длинную палку. Вмешавшись в потасовку, он изловчился засунуть эту швабру в пасть Майклу и отпихнул его. Майкл машинально сжал швабру зубами, но тотчас же выплюнул и уже больше не старался ее укусить, сообразив, что это неодушевленный предмет, которому его клыки не причиняют боли. Матрос тоже занимал его лишь постольку, поскольку от него надо было увертываться. Лакомым куском сейчас был капитан Дункан, который стоял, привалившись к поручням, и, тяжело дыша, вытирал пот, градом катившийся по его лицу. Если на рассказ об этом побоище, начиная с убийства персидской кошки и кончая шваброй, засунутой в пасть Майкла, потребовалось немало времени, то на деле все произошло с такой молниеносной быстротой, что пассажиры, повскакавшие с шезлонгов, подоспели к месту происшествия, лишь когда Майкл, ловко увернувшись от швабры матроса, снова ринулся на капитана Дункана и на этот раз так зверски укусил его за жирную ногу, что тот взвыл от боли и разразился каким-то бессвязным проклятием. Меткий пинок отшвырнул Майкла и дал возможность матросу снова пустить в ход швабру. В этот момент подоспел Дэг Доутри, глазам которого представились: перепуганный, окровавленный, доведенный чуть ли не до апоплексического удара капитан; Майкл, в зловещем молчании неистово кидающийся на швабру, и громадная персидская кошка в предсмертных судорогах. — Киллени-бой! — повелительно крикнул стюард. Несмотря на все негодование и ярость, обуревавшие Майкла, голос хозяина проник в его сознание; он почти мгновенно остыл, прижал уши, его вздыбившаяся шерсть улеглась, и губы уже закрыли клыки, когда он обернулся и вопросительно взглянул на Доутри. — Сюда, Киллени! Майкл повиновался; он не пополз на брюхе, как виноватый, а радостно и быстро подбежал к стюарду. — Ложись, бой! Он улегся, предварительно сделав полуоборот, и со вздохом облегчения лизнул своим красным языком сапог стюарда. — Это ваша собака, Доутри? — голосом, сдавленным от гнева, и едва переводя дыхание, осведомился капитан. — Да, сэр, моя. Что она тут натворила, сэр? Беды, которые натворил Майкл, лишили капитана дара речи. Он лишь слабо поводил рукой, указывая на издыхающую кошку, на свои вымазанные кровью, лохмотьями висевшие брюки и на распростертых у его ног фокстерьеров, которые, жалобно скуля, зализывали раны. — Очень сожалею, сэр… — начал Доутри. — Сожалею! Черт вас возьми! — прервал его капитан. — Боцман! Вышвырнуть собаку за борт. — Есть вышвырнуть собаку за борт, сэр! — повторил боцман, но не двинулся с места. Лицо Дэга Доутри становилось все более ожесточенным по мере того, как в его душе крепла воля к противодействию, которое он собирался оказать, как всегда спокойно, но непреклонно. Впрочем, он ответил капитану почтительно и, правда, не без труда, придал своим чертам обычное добродушное выражение. — Это хорошая собака, сэр, и не задиристая. Я даже представить себе не могу, с чего она так разъярилась. Наверное, случилось что-нибудь из ряда вон… — Так оно и было, — вмешался один из пассажиров, владелец кокосовой плантации на Шортлендских островах. Стюард бросил на него признательный взгляд и продолжал: — Это хороший пес, сэр, послушный. Вы же сами видели, что даже в такую минуту он послушался меня, пришел и лег. Он умен, как бес, сэр; делает все, что я ему приказываю. Сейчас я его заставлю просить прощения. Вот поглядите… Доутри шагнул к истерическим фоксам и подозвал Майкла. — Это славная собака, Киллени, славная, — тихонько заговорил он, одной рукой гладя фокса, а другой Майкла. Фокс отчаянно заскулил и крепче прижался к ногам капитана Дункана, Майкл же, повиливая хвостом и мирно свесив уши, подошел к нему, взглянул для проверки на стюарда, обнюхал своего недавнего врага и даже высунул язык, собираясь лизнуть его в ухо. — Вот видите, сэр, какой это добродушный пес! — возликовал Доутри. — Он делает все, что ему прикажут. Настоящий пес, храбрый! Сюда, Киллени! Это тоже славная собачка. Славная! Поцелуйтесь и больше не ссорьтесь. Вот так! Второй фокс, у которого была поранена передняя лапа, кое-как снес обнюхивание Майкла, только в глотке у него что-то истерически клокотало, но когда Майкл высунул язык, фоксово терпение лопнуло. Несчастная собачонка попыталась куснуть Майкла в морду. — Он хороший, Киллени, хороший, — торопливо вмешался стюард. Майкл вильнул хвостом в знак того, что понял его, и с добродушнейшим видом шлепнул фокса по шее своей тяжелой лапой так, что тот перекувырнулся через голову и покатился по палубе. Фокс злобно огрызнулся. Майкл же равнодушно отвернулся от него и посмотрел в глаза стюарду, ожидая одобрения. Пассажиры приветствовали взрывом хохота этот невольный трюк фокстерьера и величественное добродушие Майкла. Впрочем, хохот относился не только к обоим псам: в минуту, когда Майкл перекувырнул фокса, нервы капитана Дункана не выдержали, и он подскочил на месте, как ужаленный. — Бьюсь об заклад, сэр, что не позднее завтрашнего дня Киллени станет вашим другом! — доверительно обратился к капитану Доутри. — Завтрашнего… Через пять минут он будет за бортом! — крикнул капитан. — Боцман, кончай с собакой! Боцман нерешительно приблизился, но среди пассажиров послышался ропот. — Посмотрите на мою кошку, посмотрите на меня самого! — Капитан Дункан пытался оправдать свой жестокий приказ. Боцман сделал еще шаг, Дэг Доутри метнул на него грозный взгляд. — Живо! — скомандовал капитан. — Ни с места! — крикнул вдруг шортлендский плантатор. — Надо по справедливости отнестись к собаке! Я все видел. Он не лез в драку. Кошка первая бросилась на него. Он и защищаться-то стал только тогда, когда она уже второй раз на него кинулась. А она бы непременно выцарапала ему глаза. И тут же на него налетели эти две собачонки. Он их не задирал. Затем на него налетели вы. Вас он тоже на задирал. Потом еще явился ваш матрос со шваброй. А теперь вы еще приказываете вышвырнуть его за борт! Будьте же справедливы! Это была самозащита. Да и что, по-вашему, должна делать собака, попавшая в такой переплет? Лежать и покорно сносить, что ее лупят кошки и другие псы? Подумайте, капитан! Вы надавали ему здоровых пинков. Он только защищался. — И нельзя не признать, что довольно энергично, — усмехнулся капитан Дункан; к нему постепенно возвращалось его обычное добродушие, хотя он ощупывал свое окровавленное плечо и горестно поглядывал на изодранные парусиновые брюки. — Вот что, Доутри, если вы беретесь помирить нас в пять минут — пусть его остается на борту. Но придется вам купить мне новые штаны. — С радостью, сэр! Благодарю вас, сэр! — воскликнул Доутри. — Я и кошку вам достану новую, сэр. Поди сюда, Киллени-бой. Это большой господин, хороший, человек, понимаешь? Майкл слушал. Слушал без затаенной злобы, не трясясь и не задыхаясь, как фокстерьеры, все еще бившиеся в истерике, не вздрагивая всем телом от нервного перенапряжения, но спокойно, сдержанно, точно не было какую-нибудь минуту назад ни великого побоища, ни укусов, ни пинков, от которых все еще болело и ныло его тело. В одном только он не совладал с собой, — ощетинился, обнюхивая ногу, на которой только что сам изодрал штанину. — Дотроньтесь до него, сэр, — попросил Дэг Доутри. И капитан Дункан, уже успевший обрести душевное равновесие, наклонился и, не задумываясь, положил руку на голову Майкла; более того, он погладил его, почесал у него за ушами. А простодушный Майкл, только что сражавшийся, как лев, все забыл и простил, как человек. Взъерошенная шерсть улеглась, он повилял обрубком хвоста, заулыбался глазами, ушами, пастью и стал лизать руку, с которой так недавно воевал.
Глава седьмая
После этого происшествия Майкл уже свободно бегал по судну. Дружелюбный ко всем, снисходивший даже до возни с фокстерьерами, он любил только стюарда. — Такого веселого пса я отродясь не видывал, и до чего смышленый притом, — заметил Дэг Доутри шортлендскому плантатору, которому он только что сбыл один из своих самодельных черепаховых гребней. — Обычно, знаете ли, игривые собаки уж ни на что больше не годятся. Но Киллени-бой — дело другое. Он в секунду может набраться серьезности. Я сейчас вам это докажу, и вы увидите: у него довольно ума, чтобы считать до пяти, вдобавок он знает беспроволочный телеграф. Вот, смотрите. И стюард чмокнул губами так тихо, что даже сам не был уверен, удалось ему издать какой-то звук или нет, а шортлендский плантатор уж и подавно ничего не услышал. В этот момент Майкл валялся на спине, шагах в десяти от стюарда, задрав кверху все четыре лапы, а оба фокса докучали ему своими притворно яростными атаками. Вдруг он, оттолкнувшись лапами, перекатился на бок, навострил уши — в глазах у него появилось вопросительное выражение — и прислушался. Доутри сделал то же движение губами, шортлендский плантатор и на этот раз ничего не услышал и не заметил, а Майкл вскочил и в мгновение ока очутился подле своего господина. — Ну что, хорош пес? — хвастливо осведомился Доутри. — Но откуда он узнал, что должен подойти к вам? — поинтересовался плантатор. — Вы же его не звали. — Телепатия, сродство душ, настроенных, так сказать, на один музыкальный лад, — дурачился стюард. — Киллени и я, надо думать, сделаны из одного материала, только обличье у нас разное. Он, видно, предназначался быть моим родным братом, да только в природе произошла какая-то ошибка. А сейчас вы увидите, что он и в арифметике недурно разбирается. Вытащив из кармана бумажные шарики, Доутри под удивленные и восторженные возгласы собравшихся пассажиров продемонстрировал способность Майкла считать до пяти. — Теперь вы сами убедились, сэр, — закончил представление стюард, — если я закажу в каком-нибудь портовом кабачке четыре кружки пива и по рассеянности не замечу, что мне подали три, то Киллени-бой немедленно учинит скандал. С тех пор как присутствие Майкла на «Макамбо» было раскрыто, Квэку уже не приходилось тайком наслаждаться музыкой варганчика над кочегаркой, и иногда, улучив минуту, он тоже занимался обучением Майкла в каюте Доутри. Как только раздавались варварские звуки варганчика, Майкл утрачивал всякую власть над собой. Пасть его непроизвольно открывалась, и он разражался воем. Но, как и у Джерри, это не был обыкновенный собачий вой. Звуки, им издаваемые, куда больше походили на пение, а в скором времени Квэку удалось, конечно, в пределах определенного регистра, научить Майкла понижать и повышать голос, правильно воспроизводя ритм и мелодию. Майкл не любил этих уроков, так как относился к Квэку свысока и всякий вид подчинения негру считал для себя унизительным. Но все это в корне переменилось с того дня, когда Дэг Доутри застал их за таким уроком пения. Он немедленно раскопал где-то губную гармонику, на которой любил играть в портовых кабачках, в промежутках между двумя бутылками пива. Очень скоро Доутри открыл, что Майкл быстрее начинает петь под минорные звуки, а начав петь, уже не умолкает, покуда не смолкнет музыка. Впрочем, Майкл пел и без гармоники, под аккомпанемент голоса Доутри, который начинал с протяжного, грустного причитания, а потом затягивал какую-нибудь старую песню. Майкл терпеть не мог петь с Квэком, но обожал петь со стюардом, даже когда последний выводил его на палубу и заставлял «давать представление» перед покатывающимися со смеху пассажирами. Под самый конец плавания у стюарда состоялось два серьезных разговора: один с капитаном Дунканом и другой с Майклом. — Вот в чем дело, Киллени, — как-то вечером начал стюард, когда Майкл сидел, положив морду на колени своего господина и уставившись на него преданными глазами; он не понимал ни слова из того, что тот говорил, но был счастлив дружелюбием, звучавшим в его голосе. — Я тебя украл из чистой корысти, потому что, как увидел тебя тогда, ночью, на берегу, так сразу смекнул, что мне где угодно дадут за тебя десять фунтов. А десять фунтов — целая прорва денег. Это пятьдесят долларов на американские деньги и сотня — на китайские. Так вот, на пятьдесят долларов я могу купить столько пива, что хоть топись в нем. Но сначала я хочу тебя спросить: можешь ты себе представить, что я тебя отдам за десять фунтов?.. Ну же! Говори! Можешь? Майкл колотил хвостом по полу и громко лаял в знак того, что согласен с любым мнением стюарда. — Или, скажем, за двадцать фунтов. Невредные денежки! Как, по-твоему, продам я тебя? А? Продам? Да никогда в жизни! А что я скажу, если мне предложат пятьдесят фунтов? Такое предложение можно, пожалуй, назвать интересным, но ведь сто фунтов еще интереснее, а? Если сто фунтов обратить в пиво, то оно затопит эту старую посудину. Но кто, скажи на милость, выложит мне за тебя сто фунтов? Хотел бы я посмотреть на такого чудака. А знаешь, зачем? Ладно, так и быть, уж скажу тебе по секрету. Чтобы послать его ко всем чертям. Клянусь честью, Киллени-бой, так бы и послал, очень вежливо, конечно, ну, скажем, предложил бы проводить его в такое место, где ему уж никогда не придется мерзнуть. Майкл любил стюарда так, что любовь эта уже переходила в своего рода безумие. То, как стюард относился к Майклу, лучше всего уяснится из его разговора с капитаном Дунканом. — Право же, сэр, он ко мне пристал и пробрался за мной на борт, — закончил Доутри свое вранье. — А я и не заметил. Я в последний раз видел его на берегу. А потом вдруг, смотрю, спит крепким сном на моей койке. Как он туда попал? Как разыскал мою каюту? Может, вы сумеете найти объяснение, сэр? Мне лично это кажется чудом, самым настоящим чудом. — Ну, конечно, чудо, особенно если принять во внимание, что у трапа стоял помощник, — фыркнул капитан Дункан. — Точно я не знаю ваших штук, Доутри. Чудом тут и не пахнет. Вы просто-напросто украли его. Увязался за вами на судно и взбежал по трапу! Как бы не так! Пес этот попал сюда через иллюминатор, и уж, конечно, не по собственной воле. Бьюсь об заклад, что тут дело не обошлось без вашего негра. Ну, да что там ходить вокруг да около. Отдайте мне пса, и я прощу вам кошку. — Если вы и вправду так думаете, вас обвинят в укрывательстве краденого, — нашелся Доутри; упрямо сдвинутые брови свидетельствовали о непоколебимости его решения. — Мне что, сэр, я всего-навсего стюард; невелика беда, если меня арестуют за кражу собаки. А вы, сэр, капитан большого парохода, и вам это будет очень неприятно. Потому я и считаю: собака, которая увязалась за мной, должна при мне и остаться. — Я дам за нее десять фунтов, — предложил капитан. — Не пойдет, сэр, тут и говорить нечего, ведь вы как-никак капитан, — упорствовал стюард, мрачно покачивая головой. — Кроме того, я знаю, где раздобыть в Сиднее замечательную ангорскую кошку. Ее хозяин переехал за город, и она ему больше не нужна, а для любой кошки, сэр, будет просто счастьем пристроиться на «Макамбо».
Глава восьмая
Другой трюк, которому Дэг Доутри обучил своего пса, так возвысил Майкла в глазах капитана, что он предложил стюарду полсотни фунтов и обещал «никогда не попрекать кошкой». Сначала Доутри демонстрировал этот трюк в узкой компании старшего механика и шортлендского плантатора, и только убедившись, что все идет как по маслу, решился дать публичное представление. — Попробуйте вообразить, что вы полисмены или сыщики, — обратился он к старшему и третьему помощнику капитана, — а я человек, совершивший какое-то ужасное преступление. И еще представьте себе, что только Киллени может меня изобличить. Если он узнает своего хозяина, то есть меня, значит, я пойман. Возьмите его на сворку и уходите с ним, затем возвращайтесь, вообразив, что палуба — это улица; если он узнает меня, вы меня арестуете, если нет — вы не имеете права меня арестовать. Понятно? Оба помощника увели Майкла и через несколько минут вернулись с ним на палубу. Майкл сильно натягивал сворку и рвался вперед, разыскивая стюарда. — Сколько вы возьмете за эту собаку? — осведомился Доутри, когда они поравнялись с ним, — условленная реплика, к которой он приучил Майкла. И Майкл, изо всех сил натягивавший сворку, прошел мимо, даже не вильнув хвостом, даже не покосившись на стюарда. Помощники остановились подле Доутри и за сворку подтянули поближе Майкла. — Эта собака отстала от хозяина, — сказал первый помощник. — Мы стараемся его разыскать, — добавил третий. — Недурной пес, сколько вы за него возьмете? — полюбопытствовал Доутри, с интересом разглядывая Майкла. — И нрав у него хороший? — Испытайте сами, — последовал ответ. Стюард протянул руку, чтобы погладить собаку по голове, но тотчас же ее отдернул: Майкл ощетинился, зарычал и угрожающе оскалил зубы. — Ничего, ничего, попробуйте еще, он вас не тронет! — кричали восхищенные пассажиры. На этот раз Майкл едва не цапнул стюарда за руку, тот отпрянул, а Майкл сделал свирепый прыжок, так что помощники едва удержали его. — Уведите этого пса! — заорал Доутри. — Что за подлая бестия! Мне его даром не надо. Те повиновались, и Майкл, вне себя от ярости, зарычал, запрыгал, пытаясь сорваться с привязи и броситься на стюарда. — Ну, что скажете? Кто поверит, что он вообще знает меня! — торжествующе воскликнул Доутри. — Я сам никогда в жизни этого фокуса не видал, но слышал о нем. В старину английские браконьеры натаскивали на такую штуку своих овчарок. Если лесничему или констеблю удавалось поймать собаку, опознать ее хозяина он все равно не мог. Да, он немало знает, этот пес. И по-английски отлично понимает. Дверь моей каюты как раз открыта, велите ему принести оттуда башмаки, туфли, шапку, полотенце, щетку, кисет, что угодно. Только скажите, он немедленно притащит. Пассажиры наперебой стали выкрикивать разные предметы. — Да, но не все сразу, выберите кого-нибудь одного, — вмешался стюард. — Туфли, — с общего одобрения решил капитан Дункан. — Одну или две? — спросил Доутри. — Две. — Поди сюда, Киллени. — Стюард наклонился к нему, но отскочил, так как зубы Майкла свирепо щелкнули под самым его носом. — Это — моя вина, — заявил он, — позабыл сказать ему, что представление окончено. Теперь смотрите в оба, не подам ли я ему какой-нибудь знак. Никто ничего не услышал и не увидел, кроме того, что Майкл, взвизгнув от счастья, смеясь, извиваясь всем телом, как безумный бросился к стюарду; он неистово лизал ему руки, те самые любимые руки, на которые только что огрызался, и, высунув язык, прыгал, пытаясь достать до его лица. Ведь ему пришлось сделать колоссальное нервное и умственное усилие, чтобы разыграть эту сцену ненависти и ярости против своего возлюбленного стюарда. — Погодите немного, дайте ему прийти в себя, — попросил Доутри, лаская и успокаивая Майкла. — Ну, а теперь, Киллени, марш, принеси мне туфли. Стоп! Одну туфлю! Нет, две! Майкл насторожил уши и вопросительно поглядел на Доутри. В его глазах светились разум и понимание. — Живо принеси мне две туфли! Майкл вскочил и помчался; распластываясь, как птица на лету, он мигом обогнул рулевую рубку и скользнул вниз по лестнице. В мгновение ока он вернулся, неся в зубах обе туфли, которые и сложил у ног стюарда.
— Чем больше я узнаю собак, тем большим чудом они мне кажутся, — управившись с четвертой бутылкой пива, объявил Дэг Доутри шортлендскому плантатору, с которым беседовал на сон грядущий. — Возьмите хоть Киллени-боя. Он проделывает свои штуки отнюдь не механически, не потому, что я так обучил его. Тут что-то другое. Он готов на все из любви ко мне. Не знаю, как вам объяснить, но я это чувствую, знаю. Одним словом, я вот к чему клоню: Киллени, конечно, не умеет говорить, как мы с вами, и потому не может мне сказать, как он меня любит, но он весь любовь до мозга костей. Дела-то ведь говорят больше, чем слова, вот он и расшибается в лепешку из любви ко мне. Цирковые номера? Верно! Но по сравнению с ними все человеческое красноречие гроша ломаного не стоит. Ей-богу, это его разговор. Собачий разговор, хоть у них и нет дара речи. Вы думаете, я так болтаю? Нет, если я знаю, что все люди смертны и что искры летят вверх, а не вниз, то также знаю, что он счастлив, проделывая все это для меня. Так счастлив бывает человек, когда он вызволит друга из беды, или влюбленный, когда накидывает на плечи девушке свою куртку, чтобы она не озябла. Уверяю вас… Дэг Доутри запнулся от непривычки облекать в слова мысли, проносящиеся в его хмельном, насквозь пропитанном пивом мозгу, и, пробормотав что-то нечленораздельное, начал с новыми силами: — Тут, понимаете ли, все дело в разговоре, а говорить-то ведь Киллени не умеет. Башка у него полна мыслей, это же видно по его славным карим глазенкам, но он умеет передать их мне. Я, честное слово, вижу, что он иногда из кожи вон лезет, так ему хочется мне что-то сказать. Между мной и им целая пропасть, и, кроме слов, моста через эту пропасть нету, — вот он, бедняга, не может через нее перебраться, хотя мысли и чувства у него такие же, как у меня. И вот ведь что! Он чувствует себя всего ближе ко не, когда я играю на губной гармошке, а он подвывает. Музыка тоже вроде как бы мост. И он по-настоящему поет, только без слов. И… не знаю, как вам и объяснить… только мы, когда кончаем песню, становимся намного ближе друг другу, и слова нам уже как будто и не нужны. Вот верите ли, когда я играю, а он поет, из нашего дуэта получается то, что попы назвали бы религией, познанием бога. Честное слово, стоит нам запеть, я становлюсь верующим, становлюсь ближе к богу. Это что-то такое громадное, как земля, как океан, как небо со всеми его звездами. Мне даже начинает казаться, что все мы сработаны из одного материала — вы, я, Киллени-бой, горы, песок, морская вода, черви, москиты, солнце, и падающие звезды, и пылающие кометы… Дэг Доутри замялся. Восторг его души явно не укладывался в слова, и, чтобы скрыть свое замешательство, он снова стал бахвалиться Майклом. — Да, такие собаки не каждый день рождаются. Я его украл, верно! Очень уж он мне приглянулся. А теперь, когда я его знаю, я бы и опять его украл, даже если бы мне пришлось после этого остаться одноногим калекой. Вот какой он пес!
Глава девятая
В то утро, когда «Макамбо» вошел в сиднейскую гавань, капитан Дункан сделал еще одну попытку заполучить Майкла. Вельбот портового врача уже направлялся к судну, когда он кивком головы подозвал стюарда, проходившего по палубе. — Доутри, я даю вам двадцать фунтов. — Нет, сэр! Благодарю вас, — последовал ответ. — Я не могу с ним расстаться. — Ладно, двадцать пять. Но это уж крайняя цена. На свете немало ирландских терьеров. — Я тоже так полагаю, сэр. И я вам одного из них раздобуду. Здесь же, в Сиднее. И он, сэр, вам ни пенса не будет стоить. — Но я хочу именно Киллени-боя, — настаивал капитан. — Я тоже, в том-то и беда, сэр. И, кроме того, я ведь первый достал его. — Двадцать пять соверенов — неплохие денежки… за собаку, — заметил капитан. — А Киллени-бой неплохая собака… за такие денежки, — отрезал стюард. — Оставим все сантименты, сэр, одни его штуки дороже стоят. Он меня не узнает, когда я ему приказываю, — уж этому одному цена пятьдесят фунтов. А как он считает, а его пение и все прочее! Не важно, как я его раздобыл, но только он ведь ничему не был обучен. Это моих рук дело. Я его научил всем фокусам. Он теперь совсем не та собака, какой был в первый день на «Макамбо». В нем столько моего, что продать его, все равно что продать кусок самого себя. — Тридцать фунтов, — сурово произнес капитан. — Нет, сэр, благодарю вас, тут дело не в деньгах, — отвечал стюард. Капитану Дункану осталось только отойти от него и поспешить навстречу портовому врачу, поднимавшемуся по трапу. Когда на «Макамбо» закончился врачебный осмотр и судно уже направлялось к причалу, к нему подошел щегольской военный баркас, и одетый с иголочки лейтенант взбежал по трапу на палубу. Он не замедлил разъяснить причину своего появления. «Альбатрос», британский крейсер второго ранга, на котором он был четвертым помощником командира, заходил в Тулаги с депешами от верховного комиссара английских владений в Южных морях. Поскольку между приходом «Альбатроса» и уходом «Макамбо» прошло не больше двенадцати часов, комиссар Соломоновых островов и капитан Келлар полагали, что пропавшая собака увезена именно на этом судне. Капитан «Альбатроса», рассчитав, что крейсер будет в Сиднее раньше «Макамбо», пообещал узнать насчет собаки. Итак: не находится ли на борту ирландский терьер по кличке Майкл? Капитан Дункан чистосердечно признался, что находится; но тут же соврал и, чтобы выгородить Дэга Доутри, повторил его сказку о неожиданном появлении собаки на борту. На очередь встал вопрос, как вернуть собаку капитану Келлару; «Альбатрос» держал курс на Новую Зеландию. Капитан Дункан нашел выход. — Через два месяца «Макамбо» вернется в Тулаги, — заметил он лейтенанту, — и я лично беру на себя обязательство вернуть собаку владельцу. А пока что мы сумеем позаботиться о ней. Наш стюард, можно сказать, усыновил ее, так что пес находится в хороших руках. — Похоже, что ни одному из нас собака не достанется, — печально проговорил Доутри, после того как капитан изложил ему положение вещей. Но когда он повернулся и пошел по палубе, брови его так упрямо хмурились, что встретившийся ему шортлендский плантатор удивился, за что мог капитан распечь своего стюарда. Несмотря на пресловутые шесть кварт пива и несколько легкомысленный характер, Дэг Доутри был человеком не без устоев. Правда, он мог без малейших угрызений совести украсть собаку или кошку, но никогда не пренебрегал своими обязанностями, такая уж у него была натура. Он ни за что бы не позволил себе получать жалованье стюарда, не делая той работы, которую положено делать стюарду. Итак, хотя он уже принял непоколебимое решение, но во время стоянки «Макамбо» в сиднейских доках компании «Бернс Филп и Ко» заботливо следил за тем, как убиралось и чистилось судно после сошедших с него пассажиров и как готовилось к принятию на борт новых, уже купивших билеты для далекого путешествия к коралловым рифам и островам, населенным людоедами. Среди этих хлопот он все же отлучался на берег, раз а всю ночь и два раза под вечер. Ночь он провел в портовых кабачках, посещаемых матросами, где можно узнать все сплетни и все новости о кораблях и мореплавателях. Собрав нужные ему сведения и заодно выпив немало пива, Доутри на следующий день нанял за десять шиллингов небольшой баркас и отправился на нем в бухту Джексона, где стояла на якоре изящная трехмачтовая американская шхуна «Мэри Тернер». Взойдя на борт шхуны, он объяснил цель своего прибытия и был немедленно проведен в кают-компанию, где узнал все, что его интересовало, и сам, в свою очередь, был подробно расспрошен четырьмя мужчинами, которых он мысленно окрестил «сворой чудаков». Пространный разговор, накануне ночью состоявшийся у Доутри с бывшим стюардом этого судна, позволил ему немедленно опознать всех четверых. Вот этот, сидящий поодаль, с выцветшими, почти белесыми глазами, — явно «Старый моряк» [17]. Длинные жидкие космы седых, давно не чесанных волос, словно ореол, обрамляли его лицо. Он был худ, как скелет, щеки впалые, морщинистая кожа, казалось, уже не покрывая ни жира, ни мускулов, нелепо свисала на адамово яблоко, которое при непроизвольных глотательных движениях то вдруг высовывалось из складок кожи, похожей на пелены мумии, то снова куда-то проваливалось. «А ведь и вправду «старый моряк», — думал Доутри. — Ему можно дать лет семьдесят пять, или сто пять, или, с таким же успехом, и все сто семьдесят пять». Глубокий рубец, начинавшийся от правого виска, шел через все лицо старика, до нижней челюсти, и дальше прятался в складках дряблой кожи. В иссохшие мочки обоих ушей были продеты цыганские серьги в виде золотых колец. На костлявых пальцах правой руки было надето не менее пяти перстней, не мужских и не женских, но довольно оригинальных и уж, во всяком случае, «стоящих», как заключил Доутри. На левой руке перстней не было, видимо, потому, что их не на что было надеть: на ней сохранился один-единственный палец — большой, да и вся рука выглядела так, словно по ней прошлось то же острие, которое рассекло его лицо от виска до нижней челюсти; один бог знает, как далеко еще уходил этот рубец, скрытый морщинистой и обвислой кожей шеи. Выцветшие глаза Старого моряка насквозь просверливали Доутри (а может быть, ему это только казалось), так что он даже в смущении отступил в сторонку. Он мог это сделать, потому что пришел сюда как слуга в поисках места и стоял навытяжку, тогда как остальные сидели и всматривались в него, как судьи. И все-таки взгляд старика преследовал Доутри, покуда он, приглядевшись повнимательнее, не пришел к выводу, что тот вообще его не видит. Ему вдруг стало казаться, что белесые, выцветшие глаза подернуты пеленой мечты и что живой ум, кроющийся где-то в глубине этих глаз, трепещет и бьется о пелену, но не прорывает ее. — На какое жалованье вы рассчитываете? — осведомился капитан, имевший весьма «не морской» вид, по мнению Доутри. Этот капитан скорее напоминал щеголеватого пронырливого дельца или с иголочки одетого шефа модной фирмы. — Вы не будете участвовать в прибылях, — произнес один из четырех, крупный широкоплечий мужчина средних лет; по рукам, смахивавшим на окорока, Доутри узнал калифорнийского фермера, о котором ему рассказывал прежний стюард. — Всем хватит! — Доутри даже вздрогнул, так громко и пронзительно выкрикнул эти слова Старый моряк. — Груды, джентльмены, целые груды в бочках и сундуках, в бочках и сундуках на глубине каких-нибудь шести футов под слоем песка. — Участвовать — в чем, сэр? — спросил Доутри, хотя отлично все расслышал. Прежний стюард на все лады клял себя за то, что ушел из Сан-Франциско, прельстившись неопределенными обещаниями участия в каких-то прибылях вместо твердого оклада. — Это неважно, сэр, — поспешил добавить Доутри. — Я служил на китобойном судне три года подряд и за все свои труды не получил ни доллара. Мои условия — шестьдесят золотых в месяц, поскольку вас всего четверо. — И помощник, — добавил капитан. — И помощник, — повторил Доутри. — Я согласен, сэр, без всякого участия в прибылях. — А как там у вас обстоит… — заговорил четвертый, толстый, громадного роста, весь какой-то неопрятный и похожий на груду мяса армянский еврей, ростовщик из Сан-Франциско, о котором весьма нелестно отозвался прежний стюард, — как там у вас обстоит с бумагами, рекомендациями? Имеются ли у вас на руках документы об окончательном расчете с пароходной компанией, у которой вы состояли на службе? — Я тоже мог бы спросить вас о бумагах, сэр. — дерзко отвечал Доутри. — Это ведь не настоящее торговое или пассажирское судно, так же как вы, джентльмены, не настоящие судовладельцы с официальной конторой, правомочно ведущей дела. Почем я знаю, являетесь ли вы собственниками судна, или срок фрахта давно истек и на берегу вам предстоит диффамация? Почем я знаю, что вы не высадите меня в какой-нибудь богом забытой бухте, ничего не заплатив мне? А впрочем, — он счел за благо предупредить взрыв притворной ярости со стороны еврея, — впрочем, вот мои бумаги. И Доутри мигом вытащил из кармана и швырнул на стол целую кипу бумаг, испещренных печатями и штампами, — документы за сорок пять лет службы, из которых последний был выдан пять лет назад. — Но я с вас бумаг не спрашиваю, — продолжал он, — а спрашиваю только жалованье, шестьдесят долларов, которое и желаю получать чистоганом каждое первое число… — Груды, груды золота и еще кое-что получше, в бочках и сундуках, на глубине всего шести футов под слоем песка, — залопотал Старый моряк. — Силы небесные! На всех нас хватит, до самого последнего. И больше того, джентльмены, много больше. Широта и долгота мне известны. А также пеленги Львиной Головы с остова корабля на отмели и крюйс-пеленги с безымянных пунктов. Один я уцелел из всей нашей отважной, безумной и озорной команды. — Итак, хотите вы подписать контракт? — перебил, еврей несвязное бормотание старика. — Какой ваш порт назначения? — Сан-Франциско. — Тогда так и напишем, что я нанялся к вам до прихода в Сан-Франциско. Еврей, капитан и фермер одновременно кивнули. — Но нам надо договориться еще о разных дополнительных условиях, — продолжал Доутри. — И прежде всего я должен получать ежедневно шесть кварт. Я к этому привык и уже слишком стар, чтобы менять свои привычки. — Шесть кварт… спирта, я полагаю? — саркастически спросил еврей. — Нет, пива, доброго английского пива. Об этом надо договориться заранее, так чтобы на борту был достаточный запас, сколько бы мы ни находились в плавании. — Еще что-нибудь? — осведомился капитан. — Да, сэр, — отвечал Доутри. — У меня есть собака, которая должна остаться при мне. — Что еще? Жена, дети? — поинтересовался фермер. — Ни жены, ни детей у меня нет, сэр. Зато есть негр, очень славный негр, и он тоже останется при мне. Он подпишет договор на десять долларов в месяц и будет работать с утра до ночи. Если же он будет работать только на меня, я прикажу ему подписать на два с половиной доллара. — Восемнадцать дней на баркасе! — не своим голосом вскричал Старый моряк. Доутри даже вздрогнул. — Восемнадцать дней на баркасе, восемнадцать дней в геенне огненной! — Ей-богу, — заметил Доутри, — от этого вашего старого джентльмена можно получить разрыв сердца. Да, здесь мне понадобится немало пива. — Э-ге, некоторые стюарды, видно, любят жить на широкую ногу, — заметил фермер, не обращая ни малейшего внимания на Старого моряка, все еще лопотавшего что-то о море и баркасе. — А что, если мы не склонны принять на службу стюарда, привыкшего к столь комфортабельным путешествиям? — полюбопытствовал еврей, вытирая потную шею пестрым шелковым платком. — Тогда, сэр, вы так и не узнаете, какого хорошего стюарда вы упустили, — беспечно отвечал Доутри. — Не сомневаюсь, что в Сиднее не так-то трудно раздобыть стюарда, — живо отозвался капитан. — Во всяком случае, в прежнее время их было хоть пруд пруди. — Благодарю вас, господин стюард, за то, что вы нас разыскали, — с язвительной любезностью подхватил еврей. — Весьма сожалеем, что не в состоянии удовлетворить ваши требования в пункте, касающемся… — Я видел, как их засасывал песок, видел, как они уходили на глубину в шесть футов там, где вянут мангиферы, и растут кокосовые пальмы, и берег поднимается к Львиной Голове… — Придержите язык! — раздраженно воскликнул фермер, причем его слова относились не столько к Старому моряку, сколько к капитану и еврею. — Кто снарядил эту экспедицию? И мне же еще слова сказать не дают. Моего мнения даже на спрашивают! Мне этот стюард по душе. Я считаю, что он нас устраивает. Он человек учтивый, и я уверен, что он будет беспрекословно выполнять все приказания. К тому же он отнюдь не дурак. — В том-то и дело, Гримшоу, — примирительно отвечал еврей. — Принимая во внимание некоторую… как бы сказать?.. необычность нашей экспедиции, нам больше подошел бы стюард поглупее. Вдобавок, покорнейше прошу вас не забывать, что в эту экспедицию вы вложили не больше, чем я… — А далеко ли вы оба уехали бы без меня и моих познаний в мореплавании? — вызывающе спросил капитан. — Не говоря уже о закладной под мою недвижимость, включая лучший доходный дом, который был выстроен в Сан-Франциско после землетрясения. — А сейчас на ком все держится, скажите на милость? — Фермер подался вперед, уперев руки в колени, а пальцы его свисали вдоль громадных голеней чуть ли не до самых ступней; так, во всяком случае, показалось Доутри. — Вы, капитан Доун, больше гроша ломаного не выжмете из своей недвижимости, а на моей земле растет пшеница, с которой мы получаем наличные денежки. Вы, Симон Нишиканта, невесть как скопидомничаете, а между тем ваши ссудно-жульнические кассы по-прежнему дерут безбожные проценты с пропившихся матросов. И теперь вы еще задерживаете экспедицию в этой чертовой дыре, дожидаясь, покуда агенты переведут мне мои пшеничные денежки. Одним словом, либо мы немедленно подписываем контракт с этим стюардом на шестьдесят долларов и все прочее, либо я оставляю вас с носом, сажусь на первый же пароход и отправляюсь в Сан-Франциско. Фермер вскочил и выпрямился во весь свой гигантский рост, так что Доутри даже взглянул, не стукнулся ли он теменем о потолок. — Все вы мне осточертели, да, да, осточертели! — продолжал он выкрикивать. — Пора браться за дело! Давно пора! Мои деньги придут. Завтра они будут здесь. Надо подготовиться к отплытию, и надо взять этого стюарда, потому что он настоящий стюард. До остального мне дела нет — пусть везет с собой хоть две семьи! — По-моему, вы правы, Гримшоу, — кротко согласился Нишиканта. — Мне вся эта история тоже начинает действовать на нервы. Простите мне мою вспыльчивость. Конечно, мы возьмем этого стюарда, раз он вам так понравился. Я просто подумал, что у него слишком шикарные замашки. Он обернулся к Доутри. — Вы понимаете, что чем меньше будет разговоров на берегу, темлучше… — Понятно, сэр. Я-то умею держать язык за зубами, но должен вам заметить, что о вас идет уже немало толков в порту. — О цели нашей экспедиции? — спросил еврей. Доутри утвердительно кивнул. — Они-то и привели вас к нам? — Второй вопрос последовал так же быстро. Доутри покачал головой. — Покуда вы мне будете ежедневно выдавать мою порцию пива, я вашей охотой за кладом интересоваться не буду. Эти штуки мне не в новинку. Южные моря так и кишат искателями кладов. — Доутри готов был поклясться, что при этих его словах тревожный огонек блеснул в глазах Старого моряка. — И должен вам сказать, сэр, — непринужденно добавил Доутри то, чего не стал бы говорить, не заметь он тревоги старика, — что Южные моря и вправду богаты кладами. Вот хотя бы Килинг-Кокос. Миллионы миллионов фунтов стерлингов ждут там счастливцев, которым известен правильный курс. На этот раз Доутри готов был присягнуть, что Старый моряк почувствовал облегчение; дымка мечты снова заволокла его взор. — Но я кладами не интересуюсь, сэр, — заключил Доутри. — Мне было бы пиво. Гоняйтесь за сокровищами, сколько вашей душе угодно, — раз у меня есть пиво, это дело не мое. Но честно вас предупреждаю, сэр, пока мы еще не подписали контракта: как только пиво кончится, я тут же начну интересоваться вашими делами. Откровенность — мой девиз. — Значит, вы полагаете, что, кроме всего прочего, мы еще будем оплачивать ваше пиво? — спросил Нишиканта. Это уж было так здорово, что Доутри едва верил своим ушам. Грешно не извлечь пользу из желания еврея помириться с фермером, которому агенты шлют и шлют деньги. — Да, конечно, это входит в наши условия, сэр. В котором часу прикажете мне завтра явиться в агентство для подписания контракта? — Бочки и сундуки, бочки и сундуки, несметные богатства под тонким слоем песка… — залопотал Старый моряк. — Все вы тут немножко… того… — ухмыльнулся Доутри. — Но меня это не касается, покуда вы поите меня пивом, платите положенное жалованье каждое первое число и производите со мной окончательный расчет в Сан-Франциско; покуда вы выполняете свои обязательства, я готов идти с вами хоть к черту на рога и смотреть, как вы в поте лица выкапываете из песка сундуки и бочки. Мне ничего не надо, и я наймусь к вам, если вы этого хотите и соглашаетесь на мои условия. Симон Нишиканта взглянул на остальных. Гримшоу и капитан Доун кивнули головами. — Завтра в три в пароходном агентстве, — объявил еврей. — Когда вы приступите к исполнению обязанностей? — А когда вы собираетесь сняться, сэр? — ответил вопросом Доутри. — Послезавтра, чуть свет. — Значит, я буду на борту завтра вечером. Когда он выходил из кают-компании, до него донеслось: «… восемнадцать дней на баркасе, восемнадцать дней геенны огненной…»
Глава десятая
Майкл покинул «Макамбо» так же, как явился на него, — через иллюминатор. Дело опять происходило вечером, и опять его принял на руки Квэк. Это было дерзкое предприятие, и действовать надо было быстро и умело, так как еще только начинало смеркаться. С помощью веревки, обвязанной под мышками Квэка, Доутри опустил своего прокаженного слугу с верхней палубы в покачивающуюся на волнах шлюпку. У трапа он столкнулся с капитаном Дунканом, который счел необходимым предупредить его: — Никаких штук с Киллени-боем не устраивать! Вы слышите, Доутри? Он должен вернуться в Тулаги вместе с нами. — Слушаюсь, сэр, — отвечал стюард. — Я его для верности запер в своей каюте. Хотите взглянуть на него, сэр? Искренность его тона показалась капитану подозрительной: уж не сумел ли вороватый насчет собак стюард заблаговременно припрятать Киллени где-нибудь на берегу? — Что же, я не прочь с ним поздороваться, — отвечал капитан. Каково же было его удивление, когда, войдя в каюту стюарда, они невольно разбудили Майкла, клубочком свернувшегося на полу. Но если бы капитан мог видеть через закрытую дверь, что стало твориться в каюте, когда он вышел оттуда, то его удивление не имело бы границ. Доутри непрерывным потоком сыпал в открытый иллюминатор все, что составляло его собственность, включая черепаховые пластинки, фотографии, висевшие на стене, и даже отрывной календарь. Напоследок в иллюминатор был просунут Майкл, получивший приказание вести себя тихо. Через несколько минут в каюте остался только сундук и два чемодана, не прошедшие в отверстие иллюминатора, но зато полностью очищенные от своего содержимого. Когда через несколько минут Доутри вышел на палубу и остановился у трапа почесать язык с таможенным чиновником и помощником штурмана, капитану, мимоходом взглянувшему на него, и во сне не могло присниться, что он в последний раз видит своего стюарда. Доутри спускался по трапу с пустыми руками, и собака не бежала за ним следом, как обычно. Сойдя на берег, он неторопливо пошел по пристани, вдоль полосы электрических огней. Дэг Доутри заплатил за Майкла, и заплатил очень щедро. Боясь вызвать подозрения, он не взял причитающегося ему жалованья в конторе «Бернс Филп» и таким образом поставил крест на сумме в двадцать фунтов, — иными словами, той самой, которую когда-то в Тулаги понадеялся выручить за Майкла. Он украл его, чтобы продать. И сам же заплатил за него деньги, на которые в свое время польстился. Хорошо сказал кто-то: лошадь облагораживает благородного, а подлеца делает еще подлее. То же самое и с собакой. Кража собаки с корыстной целью унизила Доутри, и виной этого унижения был Майкл. И тот же Майкл облагородил его: стюард из одной только любви к нему, любви, для которой нет ничего слишком дорогого, поступился весьма значительной суммой. И когда шлюпка скользила по водной глади, освещаемой южными звездами, Дэг Доутри готов был положить жизнь за то, чтобы не расстаться с собакой, которую он в свое время считал пригодной только на оплату нескольких дюжин пива.
На рассвете, когда буксир вывел «Мэри Тернер» из гавани, Доутри, Квэк и Майкл последний раз в жизни бросили взгляд на Сидней. — Довелось-таки моим старым глазам еще разок полюбоваться этой прекрасной гаванью, — пробормотал Старый моряк, стоявший рядом, и Доутри невольно заметил, как фермер и ростовщик навострили уши при этих словах и обменялись многозначительными взглядами. — В пятьдесят втором, в тысяча восемьсот пятьдесят втором году, вот в такой же великолепный день мы пили и пели на палубах «Бдительного», выходившего из Сиднея. Отличное это было судно, джентльмены, красивое и с превосходной оснасткой. А команда, какая команда! Один моложе другого, сорокалетних среди нас не было, сумасбродная, веселая команда! Капитан у нас, правда, считался пожилым — шутка ли, двадцать восемь лет! Третьему помощнику едва минуло восемнадцать, и кожа у него на лице, не знавшая прикосновения бритвы, была как бархат. Он тоже погиб на баркасе. А капитан испустил дух под пальмами на безымянном острове; смуглые девушки рыдали над ним, стараясь опахалами охладить воздух, который он ловил запекшимися губами. Дальше Дэг Доутри уже не слушал: он отправился вниз, чтобы приступить к своим новым обязанностям. Перестилая белье на койках и давая указания Квэку, силившемуся отмыть грязную, запущенную палубу, он нет-нет да покачивал головой и бормотал себе под нос: «Молодчина старик, настоящий молодчина! Не всякий глуп, кто с виду дурак». Красота обводов «Мэри Тернер» объяснялась тем, что шхуна эта была в свое время построена для охоты на тюленей. Поэтому же все ее помещения были очень просторны. В носовом кубрике имелось двенадцать коек, а помещалось там только восемь матросов-скандинавов. Пять кормовых кают занимали три охотника за кладами, Старый моряк и, наконец, широкоплечий, благодушный помощник капитана из обрусевших финнов, которого все называли мистер Джексон, за невозможностью выговорить фамилию, проставленную им под контрактом. Было на «Мэри Тернер» еще одно помещение под палубой, отделенное от кормовых кают толстой переборкой. В него входили через люк прямо с палубы. Между люком и полуютом находился камбуз, а под ним — просторная каюта с шестью койками в один ярус. Каждая койка была вдвое шире, чем матросская койка в кубрике, и снабжена пологом. — Недурное помещеньице, что скажешь, Квэк? — обратился Доутри к своему семнадцатилетнему папуасу с пергаментным лицом столетнего старца, с ногами, как у живого скелета, и огромным животом престарелого японского борца. — Верно? Квэк, потрясенный этой роскошью и простором, только восторженно вращал глазами. — А эта коечка вам не подойдет? — подобострастно спросил кок, маленький китаец, показывая рукой на свою койку и ожидая одобрения белого человека. Доутри покачал головой. Он давно усвоил, что с корабельными коками следует поддерживать добрые отношения, потому что народ это заведомо ненадежный и подверженный приступам ярости; им ничего не стоит по пустячному поводу пырнуть кого-нибудь ножом или сечкой. А кроме того, напротив имелась другая койка, ничуть не хуже. Койку по левому борту рядом с койкой китайца Доутри приказал занять Квэку. Таким образом, в распоряжении его и Майкла оставалась вся правая сторона каюты — иными словами, целых три койки. Ткнув пальцем в ту, что находилась рядом с его койкой, он произнес: «Киллени-бой» — и потребовал, чтобы Квэк и китаец это запомнили. Доутри показалось, что кок, называвший себя А Моем, не очень доволен таким распределением, но он не придал этому значения, а только мысленно отметил: «Любопытная штука — китаец, а считает для себя унизительным спать в одной каюте с собакой». Через полчаса, когда Доутри, покончив с уборкой кормовых кают, вернулся к себе, намереваясь послать Квэка за бутылкой пива, он заметил, что А Мой перетащил все свои пожитки на третью койку по правому борту. Таким образом, он оказывался в одном ряду с Доутри и Майклом, вторая же половина каюты оставалась целиком в распоряжении Квэка. Любопытство Доутри разгорелось. — Что ему на ум взбрело, этому китаезе? — обратился он к Квэку. — Не хочет спать на одной стороне с тобой. Почему, черт возьми? Ничего не понимаю. Я, ей-богу, на него рассержусь. — Может, китайца боится — моя будет его кушать? Квэк ухмыльнулся, — ему не часто случалось острить. — Ладно же, — решил стюард. — Мы доищемся, в чем тут дело. А ну, перетаскивай мои вещи на твою койку, а твои на мою. Когда это было сделано и Квэк, Майкл и А Мой очутились на одной стороне, а стюард в полном одиночестве на другой, Доутри отправился наверх и снова взялся за работу. Придя через некоторое время обратно, он обнаружил, что А Мой вновь перекочевал на левую сторону с той только разницей, что на этот раз облюбовал себе крайнюю койку. «Можно подумать, что этот мошенник ко мне неравнодушен», — улыбнулся про себя стюард. Он никак не мог взять в толк, почему А Мой всегда устраивается на противоположной от Квэка стороне. — Моя любит менять, — объяснил маленький кок, робко и заискивающе глядя на Доутри, когда тот однажды припер его к стене этим вопросом. — Всегда менять, много менять, понимаешь? Доутри покачал головой и ничего не понял, ибо раскосые глаза китайца теперь уже не останавливались с таким страхом на скрюченных пальцах левой руки Квэка и на его лбу, где кожу между глаз, чуть-чуть более темную и утолщенную, уже прорезали три короткие вертикальные линии, или морщинки, сообщавшие его лицу сходство со львом; «львиный лик» — называли врачи эту печать страшной болезни. Время шло, и стюард после пяти бутылок пива нередко забавлялся, меняясь койками с Квэком. И А Мой тоже неизменно перекочевывал на другую койку, но Доутри по-прежнему не замечал, что он никогда не занимал койки, на которой раньше спал Квэк. Не заметил он этого и тогда, когда А Мой, после того как Квэк уже перебывал на всех койках, сделал себе парусиновый гамак, подвесил его к потолку и с тех пор каждую ночь спокойно и мирно покачивался в нем. Доутри просто не задумывался над этим, раз и навсегда объяснив себе поведение кока непостижимостью китайского склада ума. Правда, он все же заметил, что в камбуз Квэк никогда не допускался. Заметил и еще одну странность, о которой отозвался в следующих выражениях: «Отродясь не видывал такого чистоплюя китайца. В камбузе — ни пылинки, и вокруг койки и вообще куда ни глянь. Только и знает, что мыться, или стирать свои простыни, или шпарить посуду кипятком. Ей-богу, он даже одеяла кипятит каждую неделю!» Может быть, стюард об этом не задумывался потому, что мысли его были заняты другим. Он внимательно присматривался к пяти обитателям кормовых кают, взвешивая все обстоятельства, старался учесть отношение каждого из пяти к этим обстоятельствам и друг к другу, — на все это требовалось немало времени. Кроме того, ведь «Мэри Тернер» неслась по волнам. А на свете нет бывалого моряка, который не интересовался бы курсом своего судна и ближайшим портом назначения. — Похоже, что мы движемся вдоль линии, которая проходит севернее Новой Зеландии, — сам себе говорил Доутри, раз сто украдкой заглянув в нактоуз. Но этим и исчерпывались сведения о курсе шхуны, которые ему удалось наскрести: капитан Доун сам вел наблюдения, к разработке их не допускал никого, даже помощника, и педантично запирал на ключ карту и вахтенный журнал. Правда, Доутри знал, что в каютах происходят жаркие споры, при которых на все лады склоняются широты и долготы; но это и все. Ему было строго-настрого внушено, что во время таких «совещаний» он волен находиться где угодно, кроме… каюты, в которой происходит «совещание». Однако он не мог не заметить, что все они заканчивались форменными баталиями: господа Доун, Нишиканта и Гримшоу кричали друг на друга, стучали кулаками по столу, и тишина в каюте воцарялась только тогда, когда они терпеливо и очень вежливо выспрашивали Старого моряка. Чем-то он их выводит из себя, втихомолку решил Доутри, но разгадать, чем именно, не мог. Старого моряка звали Чарльз Стоу Гринлиф. Это Доутри узнал от него самого, но больше ничего от него не добился, кроме несвязного бормотания о жаре на баркасе и сокровищах на глубине шести футов под слоем песка. — Здесь кто-то кого-то дурачит, а кто-то с удовольствием за этим наблюдает, — попробовал однажды стюард позондировать почву. — Я, например, уверен, что смотрю интересный спектакль. И чем больше я смотрю, тем больше восхищаюсь. Старый моряк посмотрел прямо в глаза стюарду своими белесыми, невидящими глазами. — На «Бдительном» все были молоды, почти мальчики, — пробормотал он. — Да, сэр, — охотно согласился Доутри. — Из ваших слов видно, что «Бдительный» с его молодой командой был веселый корабль. Не то, что наша шхуна, битком набитая стариками. Только я думаю, сэр, что эта молодежь не умела вести такую игру, какая ведется здесь, на борту. Я просто восхищаюсь ею, сэр. — Сейчас я вам кое-что скажу, — отвечал Старый моряк с таким таинственным видом, что Доутри даже наклонился к нему, желая получше расслышать. — Ни один из стюардов на «Бдительном» не умел так приготовить виски с содовой, как умеете вы. В ту пору еще не знали коктейлей, но херес и настойки у нас не переводились. И закусок было сколько угодно, самых лучших закусок. И вот еще что, — неожиданно продолжил он, как раз вовремя, чтобы предотвратить третью попытку Доутри разобраться в положении вещей на шхуне и в той роли, которую во всем этом играл Старый моряк. — Сейчас пробьет пять склянок, и я с удовольствием отведал бы перед обедом одного из ваших восхитительных коктейлей. После этого случая Доутри стал еще подозрительнее присматриваться к старику. Но с течением времени все больше убеждался, что Чарльз Стоу Гринлиф просто дряхлый старец, искренне убежденный в существовании клада в Южных морях. Как-то раз, надраивая медные поручни трапа, Доутри подслушал, как старик рассказывал Гримшоу и армянскому еврею, откуда у него такой ужасный рубец и каким образом он лишился пальцев на левой руке. Эта парочка непрерывно подливала ему вина, надеясь, что у старика развяжется язык и они вытянут из него еще какие-нибудь дополнительные сведения. — Это было на баркасе, — донесся до ушей стюарда шамкающий старческий голос. — На одиннадцатый день вспыхнул бунт. Все мы, на корме, оказали дружное сопротивление. То было подлинное безумие. Мы тяжко страдали от голода, но много страшнее была жажда. Из-за воды все и началось. Мы, видите ли, слизывали росу с лопастей весел, с планшира, с банок и внутренней стороны обшивки. Каждый из нас имел право утолять жажду только на своем участке. Так, например, румпель и половина кормовой обшивки правого борта стали неприкосновенной собственностью второго офицера. И никто из нас не позволял себе посягнуть на его права. Третий офицер, восемнадцати лет от роду, был прелестный и отважный мальчик. Он разделял со вторым офицером право на поверхность кормовой обшивки. Они провели разграничительную линию и, вылизывая скудную влагу, осевшую за ночь, ни сном, ни духом не помышляли о возможности захвата соседней территории. Это были подлинно честные люди. Не так обстояло дело с матросами. Они пререкались из-за каждой росинки, и ночью, накануне событий, о которых я вам рассказываю, один пырнул другого ножом за такую кражу. В ту ночь, дожидаясь часа, когда роса пообильнее выпадет на принадлежащую мне поверхность, я услышал, как кто-то уже слизывает ее с планшира, бывшего моей собственностью от задней банки до самой кормы. Я очнулся от забытья, в котором мне представлялись кристально чистые источники и полноводные реки, и прислушался, боясь, что негодяй проникнет в мои владения. Он и вправду приближался к ним, и я уже слышал, как он с кряхтеньем и стонами водит языком по влажным доскам, точно лошадь в ночном, щиплющая траву где-то все ближе и ближе. По счастью, в руках у меня была уключина, я готовился слизать с нее скудные капли. Я не знал, кто преступник, но когда этот человек добрался до моих владений и, кряхтя, начал слизывать драгоценную влагу, я размахнулся. Уключина треснула его прямо по носу — это оказался наш боцман, — и бунт вспыхнул. Нож боцмана полоснул меня по лицу и отрезал мне пальцы. Третий офицер, восемнадцатилетний юноша, дрался бок о бок со мной. Он спас меня, и, за минуту до того, как я лишился сознания, мы вдвоем выкинули тело боцмана за борт. В каюте зашаркали ногами и задвигали стульями, так что Доутри вновь принялся за оставленную было чистку. Усердно натирая медные поручни, он потихоньку беседовал сам с собой: «Старик, видно, побывал в изрядных переделках. Впрочем, на море чего-чего только не случается». — Нет, — снова послышался тонкий фальцет Старого моряка, отвечающего на чей-то вопрос. — Я потерял сознание не от ран. Напряженная борьба потребовала всех моих сил. Я был очень слаб. Что же касается ран, то в моем организме было так мало влаги, что они почти не кровоточили. Но самое удивительное, что в тех условиях раны так быстро затянулись. Второй офицер зашил их на следующий день иголкой, которую сделал из костяной зубочистки, нитками, надерганными из куска старой просмоленной парусины. — Разрешите узнать, мистер Гринлиф, — услышал Доутри голос Симона Нишиканты, — были ли перстни на ваших отрезанных пальцах? — Да, и один очень красивый. Я нашел его потом на дне баркаса и подарил торговцу сандаловым деревом, который спас меня. В этом перстне был большой алмаз. Я заплатил за него сто восемьдесят гиней английскому моряку в Барбадосе. Он, вероятно, украл его, — такой алмаз, несомненно, стоил дороже. Это был прекрасный камень. Имейте в виду, что торговец сандаловым деревом не только спас мне жизнь за этот камень, но истратил еще сотни фунтов на мою экипировку и вдобавок купил мне билет от острова Четверга до Шанхая.
Вечером Доутри услышал, как Симон Нишиканта, стоя на неосвещенном полуюте, говорил Гримшоу: — Его перстни не идут у меня из головы. В наше время ничего подобного не увидишь. Это действительно старинные перстни. Не те, что теперь называются мужскими кольцами, — такие вещи в старину носили настоящие джентльмены, — я хочу сказать: знатные люди. Хорошо бы, что-нибудь подобное попало мне в заклад. Эти штучки стоят больших денег.
— Должен тебе сказать, Киллени-бой, что я, пожалуй, еще до конца плавания пожалею: зачем я согласился на жалованье, а не потребовал доли в прибылях, — так Доутри поверял Майклу свои сокровенные мысли, осушая на сон грядущий шестую бутылку пива, в то время как Квэк разувал его. — Верь мне, Киллени, этот старый джентльмен знает, что говорит, он в свое время был молодец хоть куда. Ни за что ни про что людям пальцев не отрубают, и лица не исполосовывают, и колец, от которых у еврея-ростовщика слюни текут, тоже никто спроста не носит.
Глава одиннадцатая
Однажды, когда «Мэри Тернер» была еще в открытом море, Дэг Доутри, сидя в трюме среди бочонков с пресной водой и покатываясь со смеху, перекрестил шхуну в «Корабль дураков». Но это случилось несколько позднее. А до тех пор он с таким рвением выполнял свои обязанности, что даже капитан Доун ни к чему не мог придраться. Всего усерднее стюард служил Старому моряку, который сделался предметом его восхищения, пожалуй, даже любви. Старик очень отличался от своих компаньонов. Это были корыстолюбцы, и вся жизнь для них сводилась к погоне за долларами. Доутри, по характеру великодушный и беспечный, не мог не оценить широкой натуры Старого моряка, видимо, любившего когда-то пожить в свое удовольствие и всегда ратовавшего за то, чтобы сокровища, которые им предстояло отыскать, были честно поделены между всеми. — Вы не останетесь в накладе, стюард, даже если мне придется разделить с вами свою долю, — частенько заверял он Доутри, когда тот бывал к нему особенно внимателен. — Там груды, груды сокровищ. А я человек одинокий, и жить мне осталось недолго, куда же мне так много. Итак, «Корабль дураков» плыл дальше, и все люди на нем только и знали, что дурачить друг друга, начиная с ясноглазого добродушного финна, которому запах сокровищ так нащекотал ноздри, что он подделал ключ и регулярно выкрадывал из запертого стола капитана Доуна вахтенный журнал с отметками о ежедневном местонахождении судна, и кончая коком А Моем, всячески сторонившимся Квэка, но ни разу не намекнувшим об опасности, которой подвергались пассажиры и команда, соприкасаясь с носителем страшной заразы. Сам Квэк о своей болезни не думал и не беспокоился. Он знал, что люди, случается, хворают ею, но болей он, собственно, никаких не испытывал, и в его курчавую голову никогда не закрадывалась мысль, что его хозяин и не подозревает о болезни. По той же самой причине он не догадывался, почему А Мой старается не подпускать его к себе. Да и вообще ничто не тревожило Квэка. Божество, которое он чтил превыше всех божеств моря и джунглей, было тут, возле него, а там, где бог, — даже если этот бог стюард, — там и рай. То же самое испытывал и Майкл. Как Квэк любил, более того — обожал шестиквартового Доутри, так же любил и обожал его Майкл. Для Майкла и Квэка ежедневное, ежечасное лицезрение Дэга Доутри было равносильно постоянному пребыванию в лоне Авраамовом [18]. Господа Доун, Нишиканта и Гримшоу поклонялись идолу — золоту. Бог Квэка и Майкла был живой бог; они ежедневно слышали его голос, ощущали тепло его рук, в каждом прикосновении чувствовали биение его сердца. Не было у Майкла большей радости, чем часами сидеть с Доутри и вторить мелодиям, которые тот пел или мурлыкал себе под нос. Более одаренный, чем Джерри, Майкл еще быстрее все усваивал, а поскольку его учили петь, то он и пел, так, как Вилле Кеннан не удавалось заставить петь Джерри. Майкл мог провыть, вернее — пропеть (настолько его вой был мелодичен и приятен для слуха) любую песню, которую напевал ему стюард, учитывая возможность его диапазона. Мало того, он мог петь и один совсем простые мелодии, вроде «Родина любимая моя», «Боже, храни короля» и «Спи, малютка, спи». Бывало и так, что стюард, отойдя подальше, только чуть слышно давал ему тон, а Майкл уже поднимал морду кверху и пел «Шенандоа» и «Свези меня в Рио». Случалось, что и Квэк, когда стюарда не было поблизости, доставал свой варганчик, и Майкл, зачарованный наивными звуками этого примитивного инструмента, пел вместе с ним варварские заклинания острова Короля Вильгельма. Вскоре, к величайшему восторгу Майкла, появился еще один маэстро. Звали этого маэстро — Кокки. Во всяком случае, так он назвал себя, представляясь Майклу при первой встрече. — Кокки, — храбро объявил он, нимало не испугавшись и даже не сделав попытки к бегству, когда Майкл свирепо бросился на него. И человеческий голос, голос бога, исходивший из горла крохотной белоснежной птички, заставил Майкла попятиться. При этом он усиленно нюхал воздух, ища глазами человека, только что говорившего с ним. Но человека не было… Был только маленький какаду, который, дерзко покачивая головкой, повторил: «Кокки!» Еще в Мериндже, чуть ли не в первые дни жизни Майкла, ему было внушено, что куры неприкосновенны. Собаке не только не полагалось нападать на кур, столь почитаемых мистером Хаггином и окружавшими его белыми богами, — напротив, ей вменялось в обязанность охранять их. А это создание — безусловно не курица, а скорей пернатый обитатель джунглей, то есть законная добыча всякого пса, — вдруг заговорило с ним голосом бога. — Убери лапу! — скомандовало таинственное существо так повелительно, так по-человечески, что Майкл опять стал озираться вокруг: кто же это все-таки говорит? — Убери лапу! — опять послышалась команда крохотного пернатого создания. Затем визгливый голос, до невозможности похожий на голос А Моя, выпалил целый поток китайских слов, так что Майкл опять, правда, в последний раз, огляделся в поисках невидимого болтуна. Тут Кокки разразился диким, пронзительным хохотом, и Майкл, насторожив уши и склонив голову набок, уловил в этом хохоте отдельные нотки смеха множества знакомых ему людей. И Кокки, создание в несколько унций весом, футлярчик из тончайших косточек и горсти перьев, в котором, однако, билось сердце, такое же большое и храброе, как многие сердца на «Мэри Тернер», тут же стал другом, товарищем, даже повелителем Майкла. Сплошной комочек дерзости и отваги, Кокки немедленно завоевал его уважение. Майкл, который нечаянным движением лапы мог переломить тонкую шейку Кокки и навеки угасить его светящиеся отвагой глазки, сразу же понял, что с ним следует обходиться бережно, и дозволял ему тысячи вольностей, которых никогда бы не дозволил Квэку. В Майкле прочно укоренился, унаследованный, верно, от самой первой собаки на земле, инстинкт «защиты пищи». Он никогда не думал об этом, и кусок мяса, до которого он уже дотронулся лапой и к которому хоть раз прикоснулся зубами, защищал так же непроизвольно, как непроизвольно билось его сердце и легкие вдыхали воздух. Одному стюарду, и то благодаря огромному усилию воли и самообладанию, он разрешал трогать пищу после того, как сам дотронулся до нее. Даже Квэк, обычно кормивший Майкла по инструкциям Доутри, знал раз и навсегда, что его пальцам не уцелеть, если он дотронется до пищи, уже поступившей в распоряжение собаки. И только Кокки, крохотный комочек перьев, мимолетная вспышка жизни и света с голосом бога, дерзко и храбро нарушал табу — неприкосновенность пищи. Усевшись на край Майкловой миски, этот маленький храбрец, выпорхнувший из тьмы на свет жизни, этот огонек, блеснувший во мраке, взъерошив свой ярко-розовый хохолок, то расширяя, то вновь суживая черные бусинки глаз и повелительно покрикивая, как свойственно богам, заставлял Майкла отступать и неторопливо выбирал самые лакомые кусочки, из его порции. А все потому, что Кокки знал, прекрасно знал, как обходиться с Майклом. Непреклонный в своих требованиях, он умел озорничать и задираться, как пьяный гуляка, но умел и неотразимо обольщать, точно первая женщина, изгнанная из рая, или последняя в поколении Евиных дочерей. Когда Кокки взбирался на Майкла и, прыгая на одной лапке, другой теребил его загривок или, прильнув к его уху, ласкался к нему, жесткая шерсть Майкла ложилась шелковыми волнами, глаза его принимали блаженно-идиотское выражение, и он готов был исполнить любое желание, любой каприз Кокки. Кокки так сдружился с Майклом еще и потому, что А Мой быстро отказался от своей птицы. А Мой купил ее за восемнадцать шиллингов в Сиднее у одного матроса, с которым торговался битый час. Но когда в один прекрасный день он увидел, что Кокки сидит на скрюченных пальцах левой руки Квэка и неумолчно болтает, он почувствовал к нему такое отвращение, что даже позабыл о своих восемнадцати шиллингах. — Хочешь птица? Любишь птица? — предложил А Мой. — Менять, моя будет менять, — отвечал Квэк, считая само собой разумеющимся, что ему предлагают меновую сделку, и уже волнуясь, не льстится ли старикашка на его драгоценный варганчик. — Нет менять, — заявил А Мой. — Хочешь птица, бери птица. — Как бери птица? — удивился Квэк. — А если у меня нет, чего твоя надо? — Нет менять, — повторил А Мой. — Хочешь птица, любишь птица — бери. Все. И вот смелый пернатый комочек жизни с отважным сердцем, прозванный людьми «Кокки», да и сам так именовавший себя, родившийся на Новых Гебридах, в девственном лесу острова Санто, пойманный там в силок чернокожим людоедом и проданный за шесть палочек табаку и каменный топор умиравшему от лихорадки шотландскому купцу, который со своей стороны за четыре шиллинга перепродал его работорговцу, далее обмененный на черепаховый гребень — изделие английского кочегара по староиспанскому образцу, — проигранный потом в покер тем же кочегаром и отданный следующим своим владельцем за старый аккордеон стоимостью по меньшей мере двадцать шиллингов и, наконец, за восемнадцать шиллингов попавший в руки старого судового кока А Моя, сорок лет назад зарезавшего в Макао свою молодую жену-изменницу и скрывшегося на первом попавшемся судне, — Кокки, смертный или бессмертный, как всякая искорка жизни на нашей планете, стал собственностью Квэка, прокаженного папуаса [19], раба некоего Дэга Доутри, в свою очередь, бывшего слугой других людей, которым он смиренно говорил: «слушаюсь, сэр», «никак нет, сэр» и «благодарю вас, сэр». Майкл сыскал себе и еще одного друга, хотя Кокки не разделял его симпатий. Это был Скрэпс, неуклюжий щенок ньюфаундленд, не имевший другого хозяина, кроме шхуны «Мэри Тернер»; ни один человек из ее команды не предъявлял на него прав, не желая сознаться, что именно он привел щенка на борт. Щенка назвали Скрэпсом, и, не будучи ничьей собственностью, он был собственностью всех, — так что мистер Джексон, например, посулил снести А Мою голову с плеч, если тот будет плохо кормить щенка, а Сигурд Хальверсен попросту вздул на баке Генрика Иертсена, когда тот пнул сапогом Скрэпса, путавшегося у него в ногах. И это еще не все. Когда жирный колосс Симон Нишиканта, как барышня, любивший писать нежные и расплывчатые акварельные картинки, запустил складным стулом в Скрэпса, ненароком толкнувшего его мольберт, громадная рука Гримшоу так тяжело опустилась на плечо ростовщика, что он закрутился на месте и едва не шлепнулся на палубу, а плечо его еще долго было покрыто синяками и здорово ныло… Майкл, хотя уже и взрослый пес, был по природе до того весел и добродушен, что наслаждался нескончаемой возней со Скрэпсом. В сильном теле Майкла жил столь сильный инстинкт игры, что под конец щенок уже изнемогал и валился на палубу, задыхаясь, смеясь и беспомощно отбиваясь передними лапами от притворно яростных атак Майкла, притворных, несмотря на то, что забияка Скрэпс был раза в три больше его, а о тяжести своих лап, да и всего тела, помышлял так же мало, как слоненок, топчущий поросшую маргаритками лужайку. Отдышавшись, Скрэпс опять принимался за свое, а уж Майкл и подавно от него не отставал. Эти игры были прекрасной тренировкой для Майкла, укреплявшей его физически и духовно.
Глава двенадцатая
Так вот и продолжалось плавание на «Корабле дураков». Майкл возился со Скрэпсом, почитал Кокки, который то помыкал им, то ласкался к нему, и пел со своим обожаемым стюардом; Доутри ежедневно выпивал шесть кварт пива, каждое первое число получал жалованье и пребывал в убеждении, что Чарльз Стоу Гринлиф — лучший человек на борту «Мэри Тернер»; Квэк, не думая о том, что кожа у него на лбу все темнеет и утолщается по мере развития страшной болезни, усердно служил своему господину и любил его; А Мой бегал от папуаса, как от чумы, мылся по нескольку раз на дню и каждую неделю кипятил свои одеяла; капитан Доун вел судно и думал только о своем доходном доме в Сан-Франциско; Гримшоу, сложив на колоссальных коленях похожие на окорока руки, издевался над ростовщиком, требуя, чтобы тот вложил в предприятие сумму, не меньшую, чем вложил он, Гримшоу, со своих пшеничных доходов; Симон Нишиканта вытирал потную шею грязным носовым платком и с утра до вечера писал акварели; помощник, вооруженный подобранным ключом, с удивительной методичностью выкрадывал вахтенный журнал из стола капитана; а Старый моряк тешил свою душу шотландским виски с содовой, курил благоуханные гаванские сигары — три штуки на доллар, — припасенные для участников экспедиции, и бормотал что-то о «геенне огненной» на баркасе, о безымянных пунктах и сокровищах, скрытых под слоем песка. Та часть океана, которую бороздила сейчас шхуна, по мнению Доутри, ровнешенько ничем не отличалась от всего остального океана. Полоса земли нигде не прорезала водного пространства. Извечный, неизменный круг, замкнутый горизонтом, и в центре его — судно. Только компас позволял определить курс «Мэри Тернер». Солнце безусловно вставало на востоке и безусловно садилось на западе, что, разумеется, подтверждалось девиацией и склонением компаса, а по ночам светила и созвездия свершали свой неизменный путь по небосводу. И в этой части океана матросы дежурили на марсе с рассвета до сумерек, когда «Мэри Тернер» ложилась в дрейф. Время шло, цель, по словам Старого моряка, приближалась, и трое акционеров предприятия стали сами подниматься на мачты. Гримшоу удовольствовался тем, что стоял на салинге грот-мачты. Капитан Доун залезал выше и устраивался на фок-мачте, верхом на формарса-рее. А Симон Нишиканта, забросив вечное писание моря и неба во всех их оттенках, достойное кисти молоденькой пансионерки, поддерживаемый и подпираемый двумя худощавыми ухмыляющимися матросами, карабкался по выбленкам бизань-мачты и, с трудом взобравшись на салинг, подносил к глазам, затуманенным жаждой золота, лучший из невыкупленных у него биноклей, впиваясь взором в залитую солнцем водную гладь. — Странно, — бормотал Старый моряк, — в высшей степени странно. Те самые места. Ошибки быть не может. Я полностью доверился нашему третьему помощнику. Ему едва минуло восемнадцать, но он управлял кораблем лучше самого капитана. Разве после восемнадцати дней пути он не привел баркас к коралловому острову? На утлой лодчонке, без компаса, с одним только секстаном. Он умер, но курс, который он, умирая, наметил мне, был настолько правилен, что я достиг атолла на следующий же день после того, как его тело было предано океану. Капитан Доун пожимал плечами и вызывающим взглядом отвечал на недоверчивый взгляд армянского еврея. — Уйти под воду остров не мог, — спешил нарушить неприятное молчание Старый моряк — Ведь это остров, а не банка или риф. Высота Львиной Головы — три тысячи восемьсот тридцать пять футов. Капитан и помощник при мне триангулировали ее. — Я прочесал все море, — сердито прерывал его капитан Доун, — а гребень у меня не настолько редкий, чтобы между его зубьями мог проскочить пик в четыре тысячи футов высотой… — Странно, странно, — бурчал Старый моряк то ли в ответ на свои мысли, то ли обращаясь к охотникам за сокровищами, и вдруг с просветлевшим лицом воскликнул: — Ну конечно же, капитан Доун, изменилось склонение! Приняли ли вы во внимание изменения, которые неизбежно должны были произойти за полстолетия? Насколько я понимаю, хотя мало что смыслю в навигации, в ту пору склонение магнитной стрелки не было так подробно и точно изучено, как в наши дни. — Широта всегда была широтой, а долгота долготой, — отвечал капитан. — Склонение и девиация принимаются в расчет при прокладке курса и счислении пути. Поскольку для Симома Нишиканты все это было китайской грамотой, он предпочел встать на сторону Старого моряка. Но Старый моряк был человеком учтивым. Согласившись с мнением еврея, он спешил воздать должное и словам капитана. — Какая жалость, — заметил он, — что у вас, капитан, только один хронометр. Возможно, что тут все дело в хронометре. Как это вы вышли в море, не запасшись вторым хронометром? — Что касается меня, то я был согласен на два, — защищался еврей. — Вы свидетель, Гримшоу! Фермер нехотя кивнул, а капитан злобно воскликнул: — На два, но не на три! — Да, но если два все равно что один, как вы сами сказали, — Гримшоу может это подтвердить, — то три все равно что два, только расход лишний. — Но если у вас два хронометра, как вы определите, который из них врет? — осведомился капитан Доун. — Понятия не имею, — отвечал ростовщик, скептически пожимая плечами. — Если вы не можете определить, который из двух врет, так как же вы определите, какой врет из двадцати? С двумя по крайней мере пятьдесят процентов вероятности, что врет либо тот, либо другой. — Но неужели вы не в состоянии понять… — Я отлично понимаю, что все ваши навигационные разговоры — сущий вздор. У меня в ссудных кассах работают четырнадцатилетние мальчишки, которые больше вас смыслят в мореплавании. Спросите их: если два хронометра — все равно что один, то почему две тысячи хронометров лучше, чем один? Они вам в секунду ответят, что если два доллара не лучше одного, так и две тысячи не лучше. Тут достаточно простейшего здравого смысла. — Нет, вы не правы в основном, — вмешался Гримшоу. — Я уж тогда говорил, что если мы принимаем в долю капитана Доуна, то только потому, что нам нужен опытный моряк; мы с вами в навигации ни черта не смыслим. Вы со мной согласились, а как дошло до покупки трех хронометров, так сделали вид, что не хуже его разбираетесь в мореплавании. На самом деле вы просто испугались расхода. Боязнь потратиться — единственная идея, которую вмещает ваша башка. Вы только и думаете, как бы не переплатить несколько центов за лопату, которой вы будете вырывать из земли клад в десять миллионов долларов. Дэг Доутри поневоле слышал иногда эти разговоры, походившие скорей на перебранку, чем на деловое совещание. Кончались они непременно тем, что в Симона Нишиканту, по морскому выражению, «вселялся черт». Обозленный, он часами ни с кем не разговаривал и никого не слушал. Засев по обыкновению за свои акварели, он внезапно приходил в ярость, рвал их в клочья и топтал ногами, затем вдруг доставал свое крупнокалиберное автоматическое ружье, усаживался на носу шхуны и пытался подстрелить какого-нибудь отбившегося от стаи дельфина, тунца или гринду. Видно, у него становилось легче на душе, когда, всадив пулю в тело плещущегося на волнах пестро окрашенного морского животного, он навек прекращал буйную, радостную игру этого существа и смотрел, как оно, перевернувшись на бок, медленно погружается в смертный мрак морской пучины. Когда вблизи резвилось стадо китов и Нишиканте удавалось причинить боль хотя бы одному из них, он был на верху блаженства. Его пуля, словно бич, впивалась в тело левиафана [20], и тот, как жеребенок, которого нежданно огрели кнутом, подскакивал в воздух или, вдруг взмахнув могучим хвостом, исчезал под водой и бешено мчался прочь, вспенивая поверхность океана, пока, наконец, не скрывался с глаз. Старый моряк только грустно покачивал головой, а Дэг Доутри, который тоже страдал от этого бесцельного мучительства безобидных животных, спешил для успокоения старика принести ему его любимую сигару. Гримшоу презрительно кривил губы и бормотал: — Экий мерзавец! Вот уж подлец так подлец! Ни один человек, в котором еще осталось что-то человеческое, не станет вымещать свою злобу на этих безобидных созданиях. Я с детства знаю таких типов: если он вас невзлюбит или обидится за то, что вы посмеялись над его плохим ответом по грамматике или арифметике, так он способен в отместку убить вашу собаку… или — еще того лучше — отравить ее. В доброе старое время в Колусе мы таких типов просто-напросто вздергивали на сук — для оздоровления воздуха. Однажды и капитан Доун решительно запротестовал против подобных забав. — Послушайте-ка, Нишиканта, — побледнев, проговорил он трясущимися от гнева губами. — То, что вы делаете, — пакость, и ничего, кроме пакости, из этого не получится. Я знаю, что говорю. Вы не имеете права всех нас подвергать опасности из-за ваших дурацких затей. Лоцманское судно «Анни Майн», входившее в гавань Сан-Франциско, было потоплено китом у Золотых ворот [21]. Я сам, будучи вторым помощником на бриге «Бернкасль», по две вахты простаивал у насоса на пути в Хакодате, откачивая воду, потому что кит пробил борт нашего судна. А разве трехмачтовое китобойное судно «Эссекс» не пошло ко дну у западных берегов Южной Америки только потому, что кит разнес его в щепы, так что команде пришлось тысячу двести миль добираться на шлюпках до земли? Симон Нишиканта, злобствуя и не удостаивая капитана ответом, продолжал донимать пулями последнего кита, не успевшего скрыться из его поля зрения. — Я помню эту историю с китобоем «Эссекс», — обратился Старый моряк к Дэгу Доутри. — Они подранили самку кита с детенышем. На «Эссексе» было еще две трети запаса воды. Он затонул в течение часа. А судьба одной из шлюпок так и осталась неизвестной. — Другую, кажется, занесло на Гавайи, сэр? — почтительно осведомился Доутри. — Помнится, лет тридцать назад я встретил в Гонолулу одного старикашку, который утверждал, что служил гарпунером на судне, потопленном китом у берегов Южной Америки. С тех пор я больше ничего об этой истории не слышал, пока вы, сэр, сейчас не заговорили о ней. Как вы полагаете, сэр, ведь речь, вероятно, шла именно об этом судне? — Да, если только два разных судна не были потоплены китами у Западных берегов, — отвечал Старый моряк. — Что касается «Эссекса», то это не подлежит сомнению и стало уже историческим фактом. Так чточеловек, которого вы встретили, скорей всего принадлежал именно к команде «Эссекса».
Глава тринадцатая
Капитан Доун работал с утра до ночи, ловя солнце, колдуя над уравнением времени, рассчитывая аберрацию, вызванную движением земли по ее орбите, и прокладывая Сомнеровы линии до тех пор, пока у него голова не начинала идти кругом. Симон Нишиканта открыто издевался над навигационными талантами капитана, продолжал писать акварели, когда находился в безмятежном настроении, и стрелять китов, морских птиц и все, что вообще можно подстрелить, когда состояние духа у него было подавленное и злобное оттого, что пик Львиная Голова — остров сокровищ Старого моряка — упорно не показывался над волнами. — Я вам докажу, что я не скряга, — заявил однажды Нишиканта, после того как он добрых пять часов жарился на мачте, наблюдая за морем. — Скажите-ка, капитан, какую сумму, по-вашему, мы должны были истратить в Сан-Франциско на покупку хороших хронометров, разумеется, подержанных? — Примерно долларов сто, — отвечал капитан. — Отлично. Я неспроста этим заинтересовался. Расход должен был быть поделен между нами тремя. А теперь я целиком беру его на себя. Объявите матросам, что я, Симон Нишиканта, плачу сто золотых долларов тому, кто первый увидит землю на широте и долготе, указанных мистером Гринлифом. Но матросам, облепившим мачты, суждено было испытать горькое разочарование: всего два дня и пришлось им наблюдать за водными просторами в надежде на щедрую награду. И произошло это не только по вине Дэга Доутри, — хотя того, что он намеревался сделать, и того, что он сделал, тоже было бы достаточно, чтобы прекратить наблюдения. Однажды, спустившись в трюм под кормовыми каютами, он вздумал пересчитать ящики с пивом, доставленные на борт специально для него. Пересчитав их, он усомнился в правильности своего счета, чиркнул несколько спичек, опять пересчитал, затем излазил весь трюм в надежде обнаружить еще несколько куда-то запропастившихся ящиков. Доутри уселся под люком и с добрый час просидел погруженный в размышления. Это все штуки еврея, — решил он. — Того самого, который согласился снабдить «Мэри Тернер» двумя хронометрами, но не тремя и сам же подписал контракт с ним, Доутри, где черным по белому стояло, что «стюард должен быть обеспечен пивом на все время плавания из расчета шесть кварт в день». Потом он еще раз пересчитал ящики, чтобы убедиться окончательно. Ящиков было три. И поскольку в каждом из них хранилось две дюжины кварт, а его ежедневная порция составляла полдюжины, то с полной очевидностью выяснилось, что этого запаса ему достанет не более как на двенадцать дней. А за двенадцать дней они только-только доберутся из этих неведомых морских просторов до ближайшего порта, где можно обновить запас пива. Приняв решение, стюард не стал даром терять времени. Часы показывали без четверти двенадцать, когда он вылез из трюма, закрыл люк и стал торопливо накрывать на стол. Обнося кушанья во время обеда, он едва удержался от соблазна вывернуть миску горохового супа на голову Симона Нишиканты. И удержало его только решение, принятое им: безотлагательно приступить к действиям в трюме, где хранились бочки с пресной водой. В три часа, когда Старый моряк, вероятно, дремал в своей каюте, а капитан Доун, Гримшоу и половина вахтенных влезли на мачты в надежде вырвать наконец у сапфировых вод океана пресловутую Львиную Голову, Дэг Доутри спустился в главный трюм. Здесь, оставляя лишь узкий проход, вдоль борта длинными рядами лежали заклиненные бочки с пресной водой. Доутри вытащил из-за пазухи коловорот, а из кармана штанов полудюймовую перку. Затем, опустившись на колени, принялся сверлить дно первой бочки, пока вода, хлынув на пайол, не начала утекать сквозь доски настила. Он работал быстро, продырявливая бочку за бочкой по всему ряду, уходившему в глубину трюма Дойдя до конца первого ряда, он остановился и прислушался к журчанию множества маленьких ручейков. И тут его острый слух уловил такое же журчание справа, в направлении следующего ряда. Прислушавшись повнимательнее, он уже мог бы поклясться, что слышит, как и там перка впивается в неподатливое дерево. Минутой позже, тщательно спрятав свои собственные инструменты, он опустил руку на плечо человека, которого не мог разглядеть в потемках. Человек этот, стоя на коленях и тяжело дыша, сверлил дно бочки. Преступник не сделал ни малейшей попытки к бегству, и, когда Доутри зажег спичку, он увидел перед собой Старого моряка. — Вот так штука! — пробормотал опешивший стюард. — Скажите на милость, какого черта вы выпускаете воду? Он почувствовал, что все тело старика сотрясается от нервной дрожи, и его сердце немедленно смягчилось. — Ладно, — прошептал он, — меня вам нечего бояться. Сколько бочек вы уже обработали? — Весь этот ряд, — послышался тихий ответ. — Вы не выдадите меня тем… наверху? — Выдать вас? — добродушно засмеялся Доутри. — Ведь мы, что греха таить, ведем одну и ту же игру, хотя зачем это вам понадобилось, не понимаю. Я только что расправился со своим рядом. А теперь, сэр, мой совет — уносите-ка отсюда ноги, пока проход свободен. Сейчас все наверху, и вас никто не заметит. Я здесь справлюсь один… воды останется… ну, скажем, дней на двенадцать. — Я хотел бы поговорить с вами… объяснить… — прошептал Старый моряк. — Хорошо, сэр, должен признаться, что я просто сгораю от любопытства. Я приду к вам в каюту минут через десять, и мы с вами спокойно побеседуем. Во всяком случае, что бы вы ни задумали — я с вами. Во-первых, потому, что мне важно поскорей добраться до порта, а во-вторых, потому, что я вас уважаю и люблю. А теперь поторапливайтесь, я буду у вас через десять минут. — Я вас очень люблю, стюард, — дрожащим голосом проговорил старик. — И я вас, сэр; поверьте, много больше, чем этих трех мошенников. Но об этом после. Ступайте скорее отсюда, а я выпущу оставшуюся воду. Четверть часа спустя, когда три мошенника все еще торчали на мачтах, Чарльз Стоу Гринлиф сидел у себя в каюте, попивая виски с содовой, а Дэг Доутри стоял по другую сторону стола и тянул пиво прямо из бутылки. — Может быть, вы и не догадываетесь, — начал Старый моряк, — но я уже четвертый раз отправляюсь за этими сокровищами. — Вы хотите сказать… — перебил его Доутри. — Вот именно. Никаких сокровищ нет. И никогда не было, так же как те было ни Львиной Головы, ни баркаса, ни безымянных пунктов. Доутри растерянно почесал в своей седеющей шевелюре и заметил: — Подумать только, что вы и меня провели. Ей-богу, я поверил в эти сокровища. — Признаюсь, мне приятно это слышать. Значит, я еще достаточно хитер, если мне удалось провести такого человека, как вы. Нетрудно надувать людей, которые только и думают, что о деньгах. Но вы другой породы. Вы не живете одной только мечтой о наживе. Я наблюдал, как вы обходитесь с вашей собакой. И с вашим слугой негром. Я наблюдал, как вы пьете свое пиво. И потому, что вам не мерещатся днем и ночью погребенные сокровища, вас труднее обмануть. Ничего нет легче, как одурачить корыстолюбцев. Они все одного поля ягода. Посулите им дело, дающее сто процентов прибыли, и они, как голодные щуки, кинутся на наживку. А если поманить их возможностью за доллар получить тысячу или десять тысяч долларов, так они и вовсе рехнутся. Я старый, очень старый человек. И я хочу только дожить свой век, но дожить не как-нибудь, а прилично, покойно, почтенно. — И вдобавок вы любите дальние путешествия? Я начинаю поднимать, сэр. Когда судно будто бы приближается к острову, где скрыты сокровища, случается что-нибудь непредвиденное — утечка пресной воды, например, — следовательно, возникает необходимость вернуться в порт, ну, а потом, потом… все сначала. Старый моряк кивнул, его выцветшие глаза заблестели. — Так было с «Эммой-Луизой». При помощи разных происшествий с водой и прочих ухищрений я заставил ее пробыть в плавании полтора года, не говоря уже о том, что они четыре месяца до отплытия еще содержали меня в одной из лучших гостиниц Нового Орлеана и аванс мне выплатили щедро, да, да, очень щедро. — Расскажите подробнее, сэр; мне очень интересно, — попросил Дэг Доутри, закончив свою несложную повесть о трех ящиках пива. — Это, ей-богу, недурная затея. Может, она и мне пригодится на старости лет; впрочем, даю вам слово, сэр, я вам поперек дороги не стану. Пока вы живы, сэр, я за такие штуки не возьмусь. — Прежде всего надо напасть на след денежных, очень денежных людей, чтобы никакие убытки не разорили их. Да и заинтересовать таких людей много легче. — Потому что они скоты, — перебил его стюард. — Чем больше денег, тем больше жадности. — Правильно, — продолжал Старый моряк. — Но в конце концов и они внакладе не остаются. Морские путешествия полезны для здоровья. Вот и выходит, что я не только не делаю им зла, а, напротив, пекусь об их благополучии. — Ну, а шрам у вас на лице и отрубленные пальцы? Значит, это не боцман полоснул вас ножом в той свалке на баркасе? Где же вы тогда, черт подери, обзавелись такими рубцами?.. Погодите минуточку, сэр. Сначала я долью ваш бокал. И вот, с полным бокалом в руке, Чарльз Стоу Гринлиф принялся рассказывать историю своих шрамов. — Прежде всего надо вам знать, стюард, что я джентльмен. Мое имя значилось в истории Соединенных Штатов еще задолго до того, как они стали Соединенными Штатами. Я был вторым по успехам в своем выпуске университета, какого именно, я умолчу. Кстати сказать, имя, под которым вы меня знаете, вымышленное. Я тщательно составил его из имен других людей. Мне очень не повезло. В дни юности я служил на корабле, но не на «Бдительном», его я просто выдумал, а теперь, на склоне лет, он кормит меня. Вы спрашиваете о моих шрамах и отрубленных пальцах? Вот как это было. Я ехал в пульмановском вагоне, и утром, когда почти все уже встали, произошло крушение. Вагон был переполнен, и мне накануне досталось верхнее место. Случилось это несколько лет назад. Я был уж стариком. Поезд шел из Флориды. На высокой эстакаде он столкнулся с другим. Вагоны сплющило, некоторые из них свалились с высоты в девяносто футов прямо на дно высохшего ручья. От этого ручья оставалась только галька да лужа футов десять диаметром и дюймов восемнадцать глубиной, и вот в эту-то лужу я и угодил. А случилось это так. Я успел обуться, натянуть штаны и рубашку и собирался соскочить вниз. Но в момент, когда я уселся на край койки и спустил ноги, паровозы столкнулись. Койки напротив, верхняя и нижняя, уже были застелены и прибраны. Сидя на койке и болтая ногами, я, конечно, понятия не имел — едем мы по эстакаде или по земле. Я сверзился с койки, как птичка, перелетел через проход, прошиб головой стекло противоположного окна и вылетел из него; сколько раз меня перевернуло в воздухе, пока я падал с высоты в девяносто футов, лучше не вспоминать, и… каким-то чудом я попал в эту самую лужу, В ней было всего восемнадцать дюймов глубины. Но я ударился о воду плашмя, и она смягчила падение. Из всего вагона в живых остался только я один. Вагон перевернуло футах в сорока от меня. И вытащили из него уже только мертвые тела. А я в своей луже был живехонек. Но когда я вышел из хирургического отделения больницы, на руке у меня недоставало четырех пальцев, а лицо было изуродовано вот этим шрамом… вдобавок, хотя ручаюсь, что вы и не подозреваете об этом, я лишился еще и трех ребер. О, жаловаться мне не приходилось. Подумайте о других пассажирах — они все были убиты. К сожалению, я ехал по бесплатному билету и не мог предъявить иск железнодорожной компании. Но так или иначе, а я единственный человек на свете, свалившийся с высоты в девяносто футов в лужу глубиной в восемнадцать дюймов и еще рассказывающий об этом. Будьте так добры, стюард, подлейте мне в стакан. Дэг Доутри исполнил просьбу старика и, до крайности взволнованный его рассказом, откупорил себе еще бутылку пива. — Продолжайте, продолжайте, сэр, — хрипло пробормотал он, вытирая губы. — Ну, а охота за сокровищами? Я до смерти хочу услышать, что было дальше. Ваше здоровье, сэр! — Можно сказать, что я родился с серебряной ложкой во рту, да только она расплавилась, и я стал точь-в-точь походить на блудного сына, ибо, кроме ложки, природа наградила меня еще шишкой гордости, которая не плавится ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что моя семья, конечно, безотносительно к этой дурацкой железнодорожной катастрофе, а в силу разных причин до и после нее предоставила мне только одно право — право умереть, а я — я предоставил ей право жить. В этом все и дело. Я предоставил моей семье право жить. Да в конце концов вина ложилась не на нее. Я никогда не жаловался и никому ничего не говорил. Я просто расплавил остатки моей серебряной ложки — хлопок в Южных морях, кокосовые рощи в Тонго, каучук и красное дерево в Юкатане. И что же? В конце концов я спал в ночлежках Бауэри [22], питался в обжорках Ист-Сайда и нередко до полуночи простаивал в очередях за куском хлеба у дверей благотворительных организаций, гадая, выстою я или свалюсь и потеряю сознание от голода. — И вы никогда ничего не просили у своей семьи? — с восхищением прошептал Доутри, когда старик остановился, чтобы перевести дыхание. Старый моряк распрямил плечи, высоко закинул голову, потом склонил ее и сказал: — Нет, никогда! Я попал в богадельню, или в сельский работный дом, как они это называют. Я жил хуже собаки. Шесть месяцев жил хуже собаки, а потом вдруг увидел луч света. Я принялся за постройку «Бдительного». Я строил его доска за доской, обшивал медью, облюбовывал мачты и шпангоуты, я набирал экипаж, размещал его на судне, затем я оснастил свой корабль с помощью богатых евреев и отплыл на нем в Южные моря — искать сокровища, погребенные под слоем песка. Да, — пояснил он, — все это я проделал в воображении, сидя узником в работном доме, среди сломленных жизнью людей. Лицо Старого моряка вдруг приняло мрачное, даже свирепое выражение, а тонкие пальцы стальным кольцом сдавили запястье Доутри. — Долгий и тяжкий путь пришлось мне пройти, прежде чем я выбрался из работного дома и сколотил немного денег для этой маленькой и жалкой авантюры с «Бдительным». Знайте, что мне два года пришлось проработать в тамошней прачечной за полтора доллара в неделю — и это, собственно, с одной только рукой, потому что много ли я мог сделать второй? Я сортировал грязное белье, складывал простыни и наволочки, и тысячи раз мне казалось, что моя бедная старая спина разламывается надвое, не говоря уже о нестерпимой боли в каждом дюйме тела — там, где у меня недостает ребер. Вы человек еще молодой… Доутри только усмехнулся и потеребил свои седые взлохмаченные волосы. — Да, вы еще молоды, стюард, — настойчиво и не без раздражения повторил Старый моряк. — Вы не испытали, что значит быть выброшенным из жизни. А человек в работном доме — выброшенный из жизни человек. В богадельнях не уважается не только возраст, куда там, но и самая жизнь человеческая. Как бы это объяснить вам? Человек не мертв. Но он и не жив. Он то, что было некогда живым человеком и теперь находится в стадии умирания. Как прокаженный. Или душевнобольной. Я это знаю. Когда я еще молодым человеком служил на корабле, один наш лейтенант сошел с ума. Временами он буйствовал, и мы боролись с ним, скручивали ему руки, в кровь избивали его, связывали, караулили, чтобы он не причинил вреда нам, себе или судну. Он, еще живой, умер для нас. Вы понимаете? Он перестал быть одним из нас, таким, как мы. Он стал иным. Да, да, именно — иным. Так вот и в богадельнях — мы, еще не погребенные, были иными. Вы слышали, что я там плел насчет геенны огненной на баркасе. Уверяю вас, что это еще увеселительная поездка по сравнению с жизнью в богадельне. Тамошняя пища, грязь, ругань, побои — это скотская, скотская жизнь! Два года я работал в прачечной за полтора доллара в неделю. Вы только представьте себе, Доутри, я, умудрившийся расплавить свою серебряную ложку, кстати сказать, довольно увесистую, работаю в прачечной! Представьте себе мои старые больные кости, мой старый желудок, еще помнящий гастрономические наслаждения юных лет, мое нёбо, еще не окончательно иссохшее и избалованное изысканными вкусовыми ощущениями, к которым я привык с детства, — да, да, стюард, я, привыкший транжирить, как скупец, трясся над этими полутора долларами, не позволяя себе истратить даже цента на табак, ни разу я не побаловал каким-нибудь лакомством свой желудок, измученный грубой, неудобоваримой и скудной пищей. Я выклянчивал скверный, дешевый табак у несчастных стариков, одной ногой стоящих в могиле. А когда я однажды утром обнаружил, что Сэмюэль Мерривэйл, мой сосед по палате, умер, я стремглав бросился обшаривать карманы его заплатанных штанов, зная, что он был обладателем полпачки табаку — все его достояние, — и только тогда сообщил о случившемся. Да, Доутри, я дрожал над этими полутора долларами. Поймите, я был узником, пропиливающим лазейку крохотным стальным напильником. И я пропилил ее! Он с таким торжеством выкрикнул эти слова, что голос у него сорвался. — Доутри, я пропилил себе лазейку! И Дэг Доутри с бутылкой пива в руках серьезно, от души проговорил: — Честь и хвала вам, сэр! — Благодарю вас, сэр, вы поняли меня, — просто и с достоинством отвечал Старый моряк, стукнув своим бокалом о бутылку Доутри; они выпили, глядя друг другу прямо в глаза. — Мне причиталось сто пятьдесят шесть долларов, когда я решил уйти из работного дома, — продолжал старик. — Но две недели я прохворал инфлюэнцой, а неделю плевритом; итак, я ушел от этих живых мертвецов, имея в кармане сто пятьдесят один доллар и пятьдесят центов. — Насколько я понимаю, сэр, — с нескрываемым восхищением перебил его Доутри, — тоненький напильник превратился в лом, и с его помощью вы сызнова проломили себе дорогу в жизнь. Изуродованное лицо и выцветшие глаза Чарльза Стоу Гринлифа светились счастьем, когда он опять поднял свой бокал. — Ваше здоровье, стюард. Вы хорошо это сказали. И вы все поняли. Я проломил себе вход в обитель жизни. Крохи, сколоченные мною за два года крестных мук, стали моим ломом. Подумать только! Такую сумму я в свое время, когда моя серебряная ложка еще не расплавилась, не задумываясь, ставил на карту! Но, как вы сказали, я, точно взломщик, вломился в жизнь и… попал в Бостон. Вы умеете образно выражаться, стюард. Ваше здоровье! Они снова чокнулись бокалом и бутылкой и выпили, глядя в глаза друг другу, причем каждый был убежден, что смотрит в честные и понимающие глаза. — Но это был непрочный лом, Доутри, и рычагом он мне служить не мог. Я снял номер в небольшом, но вполне пристойном отеле без пансиона. Я, кажется, уже сказал вам, что это было в Бостоне. О, как бережно обходился я со своим ломом! Я ел не больше, чем нужно для того, чтобы душа не рассталась с телом. Но других я потчевал вином, превосходным, умело выбранным вином, — потчевал с видом богатого человека, это внушало доверие к моим рассказам. А захмелев, притворно захмелев, Доутри, я начинал свои бредни о «Бдительном», о баркасе, о безымянных пунктах и о сокровищах, погребенных в песке, на глубине шести футов; сокровища в песке — это звучало романтично, действовало на психологию, мои рассказы имели привкус соленой морской воды, дерзких пиратских похождений в Испанских морях. Вы, наверное, заметили самородок, который я ношу в виде брелока? В ту пору я еще не мог приобрести его, но зато сколько ж я говорил о золоте, о калифорнийском золоте, о несметных количествах золотых самородков, о россыпях, открытых в сорок девятом году. Это было романтично и красочно. Позднее, после моего первого путешествия, я уже был в состоянии купить этот самородок. Он оказался приманкой, на которую люди клевали, как рыба. И, как рыба, заглатывали ее. Эти перстни — тоже приманка. Теперь таких не найдешь. Получив деньги, я тотчас же обзавелся ими. Возьмем, к примеру, этот самородок: я рассеянно играю им, рассказывая о несметных богатствах, погребенных в песке. Внезапно он вызывает во мне прилив воспоминаний. Я начинаю говорить о баркасе, о муках жажды и голода, о третьем помощнике, прелестном юноше, чьи щеки еще не знали прикосновения бритвы, он будто бы воспользовался ею как грузилом при попытке наловить рыбы. Но вернемся к моему пребыванию в Бостоне. Чего-чего только я не плел, будто бы под хмельком, моим новоявленным приятелям — безмозглым дуракам, людям, которых я презирал от всей души. Мои слова возымели действие, и в один прекрасный день какой-то молодой репортер явился проинтервьюировать меня относительно сокровищ и «Бдительного». Я был в негодовании, возмущался. Погодите, Доутри, погодите: в душе я ликовал, выставив за дверь этого юного репортера. Я не сомневался, что он уже выведал у моих «приятелей» множество разных подробностей. Утренние газеты на двух столбцах, снабженных интригующим заголовком, повторили мою басню. Ко мне стали являться различные посетители, которых я внимательно изучал. Многие рвались на поиски сокровищ, не имея гроша за душой. Я отделывался от них и, по мере того как таяли мои капиталы, еще больше урезывал себя в пище. И вот, наконец, он явился — мой славный, веселый доктор философии и изрядный богач к тому же. Сердце мое радостно забилось, когда я увидел его. Но в кармане у меня оставалось уже всего двадцать восемь долларов, а потом — смерть или богадельня. В душе я уже сделал выбор в пользу смерти, — все лучше, чем вернуться в эту компанию живых трупов, в богадельню. Но я не вернулся туда и не умер. Кровь молодого доктора зажглась при мысли о Южных морях, я заставил его почуять благоухание напоенного цветами воздуха тех дальних краев, вызвал перед его глазами прекрасные видения пассатных облаков, неба в дни, когда дуют муссоны, островов, поросших пальмами, и коралловых рифов. Веселый повеса, беззаботно-щедрый, бесстрашный, как львенок, гибкий и красивый, как леопард, он был немного сумасброден; его тонкий ум отличался необыкновенной затейливостью и прихотливостью. Вот послушайте, Доутри. Незадолго до отплытия «Глостера», купленной доктором рыбачьей шхуны, которая изяществом и быстроходностью превосходила многие яхты, он пригласил меня к себе — посоветоваться относительно экипировки. Мы перебирали его костюмы в гардеробной, когда он вдруг заметил: — Интересно, как леди отнесется к моей долгой отлучке? Может, мне взять ее с собой? А я и понятия не имел, что у него есть жена или дама сердца. На моем лице, видимо, выразилось удивление и недоверие. — Вот потому, что вы мне не верите, я и возьму ее в плавание. — Он захохотал безумно и зло, прямо мне в лицо. — Пойдемте, я вас представлю. Мы пришли в его спальню; он подвел меня прямо к кровати, откинул покрывало и показал спящую уже в течение многих тысячелетий мумию стройной египетской девушки. Она сопровождала нас в долгом и бесплодном плавании по Южным морям и вернулась с нами обратно. И, верите ли, Доутри, я сам всей душой привязался к этому прелестному созданию. Старый моряк мечтательно загляделся в свой бокал, а стюард, воспользовавшись паузой, спросил: — Ну, а молодой доктор? Как он отнесся к неудаче? Лицо Старого моряка просияло. — Он похлопал меня по плечу и назвал милым старым мошенником. Да, стюард, я полюбил этого молодого человека, как сына. Все еще держа руку на моем плече, — в этом жесте было нечто большее, чем доброта, — он признался, что обнаружил обман, еще когда мы достигли Ла-Платы. Смеясь не только весело, но и ласково, он указал мне на различные несоответствия в моих рассказах (благодаря ему я внес в них поправки, весьма существенные поправки) и заявил, что наше плавание было просто великолепно и он навеки считает себя моим должником. Что мне оставалось делать? Я открыл ему всю правду и даже назвал свое настоящее имя, которое я скрыл, чтобы спасти это имя от позора. Он опять положил руку мне на плечо и… Старый моряк умолк, так как в горле у него пересохло; по щекам старика катились слезы. Дэг Доутри молча чокнулся с ним, и старик, пригубив из бокала, вновь овладел собой. — Он сказал мне, что отныне я должен жить вместе с ним, и в день нашего возвращения в Бостон привез меня в свой большой пустынный дом. И еще сказал, что переговорит со своими поверенными, так как намерен усыновить меня, — эта идея очень веселила его. «Я усыновлю вас, — уверял он, — усыновлю вместе с Иштар» [23]. Иштар звали девушку, нашу маленькую мумию. И вот, стюард, я вернулся к жизни, он собирался официально усыновить меня. Но жизнь — великая обманщица. Утром, через восемнадцать часов, мы нашли его мертвым в постели; рядом с ним лежала мумия девушки. Что это было — разрыв сердца или одного из кровеносных сосудов в мозгу, — я так и не узнал. Я просил, умолял похоронить эту чету в одной могиле. Но его тетки и другие родственники были жестокие, холодные люди новоанглийской породы, они передали Иштар в музей, а мне предложили в течение недели покинуть дом. Я уехал ровно через час, но они все же успели обыскать мой скромный багаж. Я отправился в Нью-Йорк и там начал ту же игру, только теперь у меня было больше денег и я лучше разыгрывал ее. То же повторилось в Новом Орлеане и в Гальвестоне. Наконец я очутился в Калифорнии. Это мое пятое плавание. Нелегко мне было уговорить этих троих, — я истратил все свои сбережения, прежде чем они подписали договор. Они страшно скаредничали. Ссудить меня авансом! Самая эта мысль казалась им несообразной. Но я своего добился, представил им солидный счет за гостиницу, а под конец даже заказал основательный запас вина и сигар и послал им счет. Что тут было! Все трое от злости едва не повырывали себе волосы, а заодно и мне. Они отказались от уплаты. Я немедленно захворал и объявил, что они истрепали мне нервы и довели меня до болезни. Чем больше они бесновались, тем хуже мне становилось. Наконец, они уступили. Здоровье мое немедленно улучшилось. И вот мы здесь, без воды, так что нам, видимо, придется взять курс на Маркизские острова, чтобы наполнить бочки. А потом они снова примутся за поиски сокровищ. — Вы так полагаете, сэр? — В моей памяти всплывут новые важные данные, — с улыбкой отвечал Старый моряк. — Не сомневайтесь, что эти люди вернутся. О, я их знаю! Это тупые, мелкие, корыстные дураки! — Дураки, сплошь дураки! «Корабль дураков»! — возликовал Дэг Доутри, повторяя слова, пришедшие ему на ум еще в трюме, когда, просверлив последнюю бочку, он прислушивался к журчанию убегающей пресной воды и радовался, что Старый моряк действует с ним заодно.
Глава четырнадцатая
На следующее утро вахтенные, набиравшие дневной запас пресной воды для камбуза и кают, обнаружили, что бочки пусты. Мистер Джексон так встревожился, что немедленно побежал к капитану Доуну, и не прошло нескольких минут, как тот, в свою очередь, поднял Гримшоу и Нишиканту, чтобы сообщить им о случившемся несчастье. Завтрак прошел в превеликом волнении. Доутри и Старый моряк тоже были взволнованы. Пресловутое трио вне себя от бешенства изрыгало жалобы и проклятия. Капитан Доун чуть не плакал. Симон Нишиканта изливал свою ярость, понося негодяя, совершившего преступление, и выдумывал кары, которым его следовало бы подвергнуть. Гримшоу то и дело сжимал свои толстые пальцы, словно уже душил кого-то. — Помнится, в сорок седьмом году… нет, кажется, в сорок шестом… ну да, конечно же, в сорок шестом, — заговорил Старый моряк, — мы попали в такое же, только еще худшее положение… На баркасе нас было шестнадцать человек. Мы держали курс на Глистер-риф. Так он был назван после того, как наша храбрая команда открыла его темной ночью и об него же разбилась. Этот риф нанесен на карты Адмиралтейства. Капитан Доун может подтвердить… Никто его не слушал, кроме Дэга Доутри. Подавая горячие пирожки, он от души восхищался стариком. Только Симон Нишиканта, который внезапно понял, что старик опять плетет какие-то небылицы, свирепо заорал: — Молчать! Заткнитесь, говорят вам! Мне это «помнится» уже поперек глотки стоит. На лице Старого моряка изобразилось удивление: неужели он и вправду допустил какую-то неточность в своем рассказе? — Неужто я оговорился? — продолжал он. — Все мой старый язык виноват! Это был не «Бдительный», а бриг «Глистер». А я, верно, сказал «Бдительный»? Конечно, «Глистер», чудный маленький бриг, просто игрушка, обшитый медью и очертаниями напоминающий дельфина, к тому же быстрый, как ветер, и юркий, как волчок. Вахтенные на нем, бывало, с ног сбивались. Я был на «Глистере» суперкарго. Выйдя из Нью-Йоркской гавани, мы взяли курс, по-видимому, к северо-западным берегам. На руках у нас был запечатанный приказ… — Замолчите, прошу вас, замолчите! Вы меня с ума сведете всей этой чепухой! — с неподдельным страданием закричал Нишиканта. — Побойтесь бога, старик! Какое мне дело до вашего «Глистера» и запечатанных приказов! — Да, запечатанный приказ, — с просветленным лицом продолжал Старый моряк. — Магические слова — запечатанный приказ. — Казалось, он смакует самые эти звукосочетания. — В те времена, джентльмены, суда, отправляясь в плавание, получали запечатанные приказы. Будучи суперкарго и имея лишь пустяковую долю в предприятии, которой соответствовала и доля в будущей наживе, я фактически командовал капитаном. Запечатанные приказы хранились не у него, а у меня. Клянусь вам, что их содержания я не знал. Я сломал печати, только когда мы, обогнув Кейп-Стифф, вошли в Тихий океан, и я узнал, что «Глистеру» приказано идти к земле Ван Димена. В те времена этот край называли землей Ван Димена… То был день неожиданных открытий. Капитан Доун застал своего помощника отпирающим подобранным ключом стол, где хранился вахтенный журнал. Произошла сцена, впрочем, довольно сдержанная: финн был слишком дюжим мужчиной, и у капитана не возникло ни малейшего желания помериться с ним силой; он ограничился выговором, а финн отвечал только почтительными: «да, сэр», «нет, сэр» и «очень сожалею, сэр». Но, пожалуй, самым важным открытием, хотя до поры до времени он этого не знал, было открытие, сделанное Дэгом Доутри, когда «Мэри Тернер» уже переменила курс и на всех парусах неслась к Тайохаэ на Маркизских островах, о чем стюарду по секрету сообщил Старый моряк. Доутри весело приступил к бритью. На сердце у него была только одна забота — удастся ли раздобыть в таком захолустье, как Тайохаэ, хорошее пиво. Намылив лицо и поднеся к нему бритву, Доутри вдруг заметил темное пятно у себя между бровями. Покончив с бритьем, он потрогал пятно пальцем, удивляясь, как странно лег загар, и при этом не ощутил собственного прикосновения. Кусочек потемневшей кожи был полностью лишен чувствительности. «Чудно!» — подумал он, вытер лицо и тут же забыл об этом. Он не знал рокового значения пятна, так же как не знал, что раскосые глаза А Моя уже давно его заметили и изо дня в день с возрастающим ужасом всматривались в него. Подгоняемая юго-восточным пассатом, «Мэри Тернер» скользила к Маркизским островам. На баке все были довольны. Команда, не имевшая за душой ничего, кроме жалованья, радовалась предстоящему заходу на тропический остров для пополнения запасов воды. На корме же царило мрачнейшее настроение. Нишиканта открыто глумился над капитаном Доуном, сомневаясь в его способности найти Маркизские острова. Зато в носовой каюте были счастливы все без исключения: Дэг Доутри потому, что жалованье продолжало идти, а пополнение пивных запасов было теперь обеспечено; Квэк потому, что хозяин чувствовал себя счастливым; А Мой потому, что в ближайшее время надеялся унести ноги со шхуны и спастись от соседства двух прокаженных. Майкл разделял всеобщую радость и ретиво разучивал со стюардом шестую по счету песню — «Веди нас, свет благой». Когда Майкл пел — по существу, это, конечно, было всего-навсего музыкальное подвывание, — он искал что-то, но что именно, сам не знал. Видимо, то была утраченная стая, стая первобытного мира, когда собака еще не грелась у огня, разведенного человеком, более того, когда человек еще не разводил огня и не был человеком. Майкл недавно появился на свет, от роду ему было всего два года, так что сам он никакой стаи не знал. От стаи его отделяли тысячи поколений. Но где-то в глубине его существа, в каждой его жилке, в каждом нерве жило неизгладимое воспоминание о временах, когда дикие предки, скрытые от него туманом тысячелетий, жили вольной стаей; стая росла и крепла, а вместе с ней росли и крепли собаки. Иногда во сне воспоминания о стае всплывали в подсознании Майкла. Это были очень реальные сны, хотя, пробудившись, он почти не помнил их. Но во сне или наяву, когда Майкл пел со стюардом, он с тоской вспоминал утраченную стаю и пытался искать забытую дорогу к ней. Зато, проснувшись, он находил другую стаю, вполне реальную. Ее составляли стюард, Квэк, Кокки и Скрэпс, — и Майкл бегал среди них и резвился, как его далекие предки бегали и охотились среди себе подобных. Логовищем этой стаи была каюта при камбузе, а вне ее стае принадлежал весь мир, иными словами — «Мэри Тернер», то плавно скользившая, то стремительно летевшая по поверхности изменчивого океана. Надо сказать, что каюта и ее обитатели значили для Майкла больше, чем обыкновенная стая. Ибо эта каюта заодно была и раем — обителью бога. Люди давно стали придумывать бога из камня, из глины, из огня и поселять его в лесах, или в горах, или среди звезд. Случилось это оттого, что они поняли; человек умирает и оказывается вне своего племени или рода, — словом, вне своей привычной кучки, как бы там она ни называлась, эта человеческая стая. А человек не хотел оставаться вне стаи. И он создал в своем воображении новую, вечную стаю, с которой ему не нужно было разлучаться. Страшась мрака, скрывающего тех, что умерли, он создал за этим мраком прекрасную страну, небывало богатое охотничье поприще. Небывало обширный и величественный пиршественный покой и на разных языках нарек его «раем». Майкл никогда не помышлял, как это Делали некоторые первобытные и дикие народы, об обожествлении собственной тени. Он не почитал теней. Он почитал подлинного, неоспоримого бога, отнюдь не созданного по его собственному четвероногому, мохнатому подобию, но бога во плоти и крови, двуногого — не мохнатого — стюарда.
Глава пятнадцатая
Если бы пассат не прекратился на следующий день после того, как «Мэри Тернер» взяла курс на Маркизские острова; если бы капитан Доун за обедом не стал снова брюзжать, что его снабдили одним-единственным хронометром; если бы Симон Нишиканта не пришел от этого в ярость и не отправился бы с ружьем в руках на палубу в жажде убить какого-нибудь обитателя морских глубин; и если бы этот обитатель, вынырнувший у самого борта, оказался бонитой, дельфином, тунцом или еще чем-то, но только не китовой самкой восьмидесяти футов в длину, да еще с детенышем, — словом, если бы хоть одно звено выпало из этой цепи событий, «Мэри Тернер», несомненно, достигла бы Маркизских островов и, пополнив там запас воды, отправилась бы дальше на поиски сокровищ; а тогда и судьбы Майкла, Доутри, Квэка и Кокки сложились бы иначе и, может быть, менее ужасно. Но все звенья оказались на местах. Когда Симон Нишиканта всадил пулю в китеныша, стоял штиль, шхуна медленно скользила по необозримой гладкой поверхности океана; снасти и реи ее тихонько поскрипывали, не надутые ветром паруса полоскали в воздухе. По странной, почти невероятной случайности китеныш был смертельно ранен. Это было почти такое же чудо, как если бы слона убило игрушечное ружье, заряженное горохом. Кит издох не сразу. Он только прекратил свою затейливую игру и, содрогаясь всем телом, лежал на поверхности воды. Мать поравнялась с ним почти в тот же миг, как его поразила пуля, и люди на шхуне, наблюдавшие за нею, видели все ее смятение и отчаяние. Она пыталась подтолкнуть детеныша своим гигантским телом, потом начинала кружить вокруг него, затем опять приближалась, толкала и тормошила его. Все население «Мэри Тернер» столпилось на палубе, со страхом следя за левиафаном, по длине не уступающим шхуне. — А вдруг она сделает с нами то же, что та китовая матка с «Эссексом»? — сказал Дэг Доутри Старому моряку. — Что ж, мы получим по заслугам, — отвечал тот. — Это была ничем не оправданная, бессмысленная жестокость. Майкл, понимая, что за высоким бортом происходит что-то, чего он не видит, вскочил на крышу рубки и, разглядев чудовище, воинственно залаял. Все взоры, как по команде, с испугом обратились на него, а стюард шепотом приказал ему замолчать. — Чтоб это было в последний раз, — сдавленным от гнева голосом проговорил Гримшоу, обращаясь к Нишиканте. — Если во время плавания вы еще раз посмеете выстрелить в кита, я сверну вам вашу толстую шею. Можете не сомневаться. Да еще и глаза вам вырву. Еврей кисло улыбнулся и заскулил: — Ничего не случится. Я не верю, что «Эссекс» был потоплен китом. Понуждаемый матерью, издыхающий кит тщетно силился плыть, но только крутился на месте, перевертываясь с боку на бок. Кружась возле детеныша, самка случайно толкнулась о левый кормовой подзор «Мэри Тернер»; шхуна резко накренилась на правый борт, а корма ее на целый ярд вылетела из воды. Кит не ограничился этим нечаянным легким толчком. Мгновение спустя, смертельно испуганный прикосновением к постороннему телу, он взмахнул хвостом. Хвост ударил по планширу впереди фок-вант, и дерево треснуло, словно то был не борт корабля, а коробка из-под сигар. Взмах хвоста — вот и все; люди на шхуне, затаив дыхание от страха, следили за обезумевшим от горя морским чудовищем. В продолжение часа шхуна и оба кита медленно продвигались вперед, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Детеныш тщетно пытался не отставать от матери, но затем судорога вдруг свела все его тело, а хвост отчаянно забил по воде. — Это агония, — прошептал Старый моряк. — Околел, черт его возьми, — заявил капитан Доун минут пять спустя. — Ну кто бы мог подумать! Обыкновенная ружейная пуля! Эх, если бы нам хоть на полчаса попутный ветер, мы бы избавились от этого соседства. — Мы были на волосок от гибели, — заметил Грим-шоу. Капитан Доун покачал головой, озабоченным взглядом окинул повисшие паруса и впился глазами в морскую даль, надеясь увидеть вдали белую пену барашков. Но зеркально-гладкое море выглядело так, как выглядят все моря во время штиля, — округлое, выпуклое, словно пролитая ртуть. — Все в порядке, — заметил Гримшоу, — видите, она уходит. — Конечно, в порядке, да все и было в порядке, — хвастливо отозвался Нишиканта, вытирая пот, струившийся по его физиономии и шее, и вместе с другими глядя вслед удалявшейся китовой матке. — Храбрецы, нечего сказать, — насмерть перепугались большой рыбины. — Я заметил, что ваше лицо было менее желтым, чем обыкновенно, — съязвил Гримшоу. — Не иначе, как у вас желчь отлила к сердцу. Капитан Доун испустил вздох облегчения. Он так обрадовался избавлению от опасности, что ему было не до пререканий. — Вы трус и больше ничего, — продолжал Гримшоу и, кивнув головой в сторону Старого моряка, добавил: — Вот настоящий человек. Он и бровью не повел, хотя можно поручиться, что отдавал себе отчет в опасности яснее, чем мы все. Если бы я потерпел кораблекрушение и мог выбирать, с кем очутиться на необитаемом острове, я бы, безусловно, выбрал его, а не вас. Если же… Отчаянный крик, раздавшийся в кучке матросов, прервал его излияния. — Боже милостивый! — невольно вырвалось у капитана Доуна. Гигантский кит повернул вспять и теперь несся прямо на «Мэри Тернер». Он рассекал воду с не меньшей силой, чем дредноут или океанский пароход. — Держись! — заорал капитан. Каждый постарался за что-нибудь ухватиться. Генрик Иертсен, рулевой, широко расставил ноги, присел и, напружинив плечи, вцепился обеими руками в рукоятки штурвала. Одни матросы ринулись со шкафута на полуют, другие стали карабкаться вверх по вантам. Доутри, левой рукой держась за планшир, правой крепко обхватил Старого моряка. Все замерли. Кит ударил «Мэри Тернер» чуть позади фок-вант. Дальше события развивались с быстротой, уже неуловимой для глаза. Один из матросов на вантах, вместе с выбленкой, за которую он держался обеими руками, сорвался и упал головой вниз, но кто-то из товарищей успел на лету ухватить его за лодыжку и тем самым спасти от неминуемой гибели. Шхуна трещала, содрогалась, левый борт ее вздыбился, а правый накренился так, что вода хлынула на палубу. Майкл соскользнул с гладкой крыши рубки, его протащило вдоль правого борта, и, наконец, он, цепляясь когтями за поверхность пола и сердито ворча, скрылся в люке. В этот момент сорвало левые ванты фок-мачты, и фор-стеньга, как пьяная, качнулась на правый борт. — Ну-ну, — сказал Старый моряк, — удар довольно чувствительный. — Мистер Джексон, — приказал капитан своему помощнику, — замерьте уровень воды в трюме. Помощник повиновался, не сводя, впрочем, встревоженного взгляда с кита, уже мчавшегося к востоку. — Вот вы свое и получили, — злобно огрызнулся Гримшоу на Нишиканту. Нишиканта кивнул и, вытирая пот, пробурчал: — Да, и я вполне удовлетворен. Я своего добился. Никогда не думал, что кит может такое выкинуть. И больше уж я этого опыта не повторю. — Да вам, вероятно, и случая больше не представится, — оборвал его капитан. — Пока что мы еще и с этим китом не совладали. Кит, потопивший «Эссекс», раз за разом повторял нападения, а полагать, что природа китов изменилась за последние годы, у нас, по правде сказать, не имеется оснований. — В трюме воды нет, сэр, — доложил о результатах своего обследования мистер Джексон. — Он возвращается! — воскликнул Доутри. Удалившись на полмили от шхуны, кит вдруг круто повернул и устремился назад. — Полундра, там, на носу! — громовым голосом крикнул капитан Доун одному из матросов, который как раз вылезал из люка с вещевым мешком в руках и оказался прямо под качающейся фор-стеньгой. — Он уже собрался удирать, — шепнул Доутри Старому моряку, — как крыса с тонущего корабля. — Все мы крысы, — послышался ответ. — Я это понял, живя среди запаршивевших крыс в работном доме. Всеобщий испуг и возбуждение передались Майклу. Он снова вскочил на крышу рубки, чтобы получше видеть, и зарычал на приближающегося кита, тогда как люди опять схватились за что попало, лишь бы удержаться на ногах при предстоящем толчке. Удар пришелся забизань-вантами. Шхуна дала крен на правый борт. Майкла позорнейшим образом сбросило на палубу, и тут же раздался громкий треск шпангоутов. Крутой, непроизвольный поворот штурвала подбросил вверх Генрика Иертсена, изо всех сил в него вцепившегося. Он полетел на капитана Доуна, которого оторвало от планшира. Оба они, задыхаясь, повалились на палубу. Нишиканта, изрыгая проклятия, прислонился к стене рубки, — ему выворотило все ногти на руках, когда он пытался удержаться за поручни. Покуда Доутри привязывал Старого моряка к бизань-вантам, капитан Доун, пыхтя, дополз до фальшборта и с усилием поднялся на ноги. — Ну, теперь нам крышка, — хриплым шепотом сказал он помощнику, потирая ушибленный бок. — Замерьте снова уровень воды в трюме и регулярно продолжайте замеры. Несколько матросов, воспользовавшись передышкой, проскользнули под едва державшейся фор-стеньгой в свой кубрик и с лихорадочной поспешностью принялись укладывать вещи. Когда и А Мой появился на палубе с туго набитым мешком, Доутри тоже приказал Квэку собирать пожитки. — В трюме воды нет, сэр, — доложил помощник. — Продолжайте измерения, мистер Джексон. — Капитан уже несколько оправился от столкновения с рулевым, и голос его звучал тверже. — Продолжайте замеры, вот он возвращается, а таких ударов ни одна шхуна не выдержит. Тем временем Доутри уже подхватил Майкла под мышку, а свободную руку держал наготове, чтобы уцепиться за снасти при следующем толчке. Поворачивая, кит потерял точное направление и прошел футах в двадцати от кормы «Мэри Тернер». Однако волнение, вызванное его стремительным броском, было так велико, что корма «Мэри Тернер» поднялась, а нос окунулся в воду, словно отвешивая изысканный поклон. — Если бы он ударил… — пробормотал капитан Доун и умолк. — …то мы с вами распрощались бы с белым светом, — договорил за него Доутри. — Он попросту срезал бы нам корму, сэр. Отдалившись ярдов на двести, кит резко повернул, не описав полного полукруга, и ударил шхуну в нос с правого борта. Спиной он задел форштевень и, казалось, совсем легонько, мартин-штаг. Тем не менее «Мэри Тернер» осела кормой так, что вода стала переливаться через фальшборт. Но это еще не все. Мартин-штаг, ватер-штаг и все бакштаги бушприта с правого борта разлетелись, так что бушприт повернулся под прямым углом влево и задрался кверху, подтянутый уцелевшими фор-стень-штагами. Фор-стеньга несколько мгновений раскачивалась высоко в воздухе, затем рухнула на палубу, отчего бушприт окунулся в воду, отделился от форштевня и потащился рядом со шхуной. — Уберите собаку! — свирепо заорал Нишиканта. — Если вы его не… Майкл на руках у Доутри угрожающе рычал не столько на кита, сколько на грозные, враждебные силы, посеявшие панику среди двуногих богов его плавучего мира. — А вот и не уберу, — огрызнулся Доутри, — пускай его распевает. Из-за вас затеялась вся эта кутерьма, и если вы посмеете хоть пальцем тронуть мою собаку, то уж не увидите, чем все это кончится, подлый ростовщик! — Поделом ему, поделом, — одобрительно закивал Старый моряк. — А скажите, стюард, не могли бы вы раздобыть кусок парусины или одеяло — словом, что-нибудь помягче и пошире этой веревки? Она очень уж больно врезается, и как раз в то место, где у меня недостает трех ребер. Доутри передал Майкла на руки старику. — Подержите его, сэр. А если этот ростовщик хотя бы замахнется на Киллени, плюньте ему в рожу или укусите его — дело ваше. Я мигом обернусь, сэр, — раньше, чей он успеет причинить вам какую-нибудь неприятность, и раньше, чем кит еще раз подшибет нас. И пусть Киллени-бой лает сколько его душе угодно. Один волос на его шкуре дороже целой своры таких вонючих ростовщиков. Доутри слетал в каюту и вернулся оттуда с подушкой и тремя простынями; из подушки он соорудил нечто вроде сиденья, простыни быстро связал вместе морскими узлами и, надежно устроив Старого моряка, снова взял Майкла на руки. — Появилась вода, сэр, — объявил помощник. — Уровень — шесть… нет, уже семь дюймов, сэр. Матросы, перепрыгивая через рухнувшую фор-стеньгу, ринулись в кубрик укладывать вещи. — Вывалить шлюпку правого борта, — скомандовал капитан, глядя на пенный след, оставляемый китом, явно готовившимся к повторному нападению, — но не спускать. Пусть висит на талях, а не то треклятая рыбина еще разнесет ее в щепы. Людям пока готовить вещи, грузить продовольствие и пресную воду. Найтовы были отданы, тали закреплены, и матросы схватились за что попало, еще до того как приблизился кит. На этот раз удар пришелся точно посередине левого борта, так что с полуюта было видно и слышно, как он затрещал, прогнулся и снова выпрямился, точно лист фанеры. Шхуна зачерпнула воду правым бортом, волны перекатились через палубу, и все матросы, столпившиеся у шлюпки, на мгновение оказались по колено в воде; затем вода стремительно хлынула из шпигатов левого борта. — Тали подобрать! — командовал капитан с полуюта. — Вываливай! Стоп травить! Тали завернуть! Шлюпка висела за бортом, опираясь своим буртиком на планшир шхуны. — Десять дюймов, сэр, и быстро прибывает, — доложил помощник, производивший измерения. — Пойду за приборами, — объявил капитан Доун, отправляясь к себе в каюту. Уже наполовину скрывшись в люке, он помешкал и, глядя на Нишиканту, насмешливо добавил: — И за нашим единственным хронометром. — Полтора фута, и прибывает непрерывно! — крикнул ему вдогонку помощник. — Нам тоже пора подумать об укладке вещей, — следуя за капитаном, сказал Гримшоу. — Стюард, — распорядился Нишиканта, — идите вниз и уложите мою постель. Об остальном я позабочусь сам. — Можете убираться к черту, мистер Нишиканта, вместе со всеми вашими пожитками, — спокойно отвечал Доутри и тут же почтительно обратился к Старому моряку: — Подержите, пожалуйста, Киллени, сэр. Я соберу ваши вещи. И скажите, что бы вы в первую очередь хотели взять с собою, сэр? Внизу Джексон присоединился к обитателям кормовых кают, лихорадочно укладывавшим наиболее ценное из своего имущества; в это время «Мэри Тернер» получила новый удар. Застигнутые врасплох, все отлетели влево; из каюты Нишиканты послышались стоны и проклятия: он зашиб себе бок об угол койки. Но тут же все перекрыл отчаянный треск и грохот наверху. — Могу вас заверить, что от нашей шхуны не останется ничего, кроме груды щепок, — послышался во внезапно наступившей тишине голос капитана Доуна, осторожно поднимавшегося по трапу с прижатым к груди хронометром. Передав его на попечение одного из матросов, капитан вернулся вниз, с помощью стюарда вынес на палубу свой рундук [24] и затем подсобил Доутри вытащить рундук Старого моряка. После этого он и стюард с помощью изрядно перетрусивших матросов проникли в кладовую и начали вскрывать и передавать на руки матросам запасы провианта — ящики с рыбными и мясными консервами, банки с вареньем и галетами, бочонки масла, сгущенное молоко — словом, все консервированные, сушеные, выпаренные и концентрированные продукты, которыми в наше время питаются экипажи и пассажиры судов. Доутри и капитан последними выбрались из кладовой, и оба одновременно взглянули вверх, на то место, где несколько минут назад высились грот — и крюйс-стеньги. В следующую же секунду взгляд их упал на обломки, загромоздившие палубу: крюйс-стеньга, падая, порвала бизань и, поддерживаемая в стоячем положении крепкой парусиной, с шумом раскачивалась в воздухе; грот-стеньга лежала поперек люка, ведущего в каюту Доутри. Покуда китовая самка, изживавшая свое горе в неистовой жажде мести, отплывала на расстояние, необходимое ей для новой атаки, на борту «Мэри Тернер» все хлопотали вокруг качавшейся за бортом шлюпки. Палуба уже была завалена ящиками, бочонками с пресной водой и личными вещами. Достаточно было взглянуть на эти вещи и на людей, столпившихся на корме и на носу, чтобы понять, до какой степени будет перегружена шлюпка. — Матросы пусть идут в нашу шлюпку, нам нужны гребцы, — объявил Симон Нишиканта. — Но вы-то нам на что? — мрачно осведомился Гримшоу. — Вам надо слишком много места, не говоря уже о том, что вы скотина. — Думается, я буду желанным пассажиром, — возразил ростовщик, расстегивая рубашку и от поспешности обрывая пуговицы. Под мышкой левой руки, прямо на голом теле, у него был привязан автоматический одиннадцатимиллиметровый кольт, с таким расчетом, чтобы правая рука могла моментально выхватить его. — Думается, я буду весьма желанным пассажиром, а от нежеланных мы уж сумеем избавиться. — Как вам будет угодно, — язвительно отвечал фермер, в то время как его огромные руки непроизвольно сжимались, словно он кого-то душил. — Вдобавок, если у нас кончится провиант, вы, безусловно, окажетесь желанным, — я, разумеется, говорю только о количестве, а отнюдь не о качестве. Ну, а кого вы считаете нежелательным? Негра? Но ведь он безоружен. Этот обмен любезностями был прерван новым нападением кита — удар в корму снес руль и вывел из строя рулевой привод. — Уровень воды? — крикнул капитан Доун помощнику. — Три фута, сэр, я только что замерил, — последовал ответ. — Я считаю, сэр, что пора грузить шлюпку; тогда после следующего удара мы быстро погрузим остальной багаж, погрузимся сами и тронемся в путь. Капитан Доун кивнул. — Да, мешкать больше нечего. Приготовиться! Стюард, вы первый прыгнете в шлюпку, и я передам вам хронометр. Нишиканта с воинственным видом всей своей тушей надвинулся на капитана, распахнул рубашку и показал револьвер. — Шлюпка и так будет перегружена, — заявил он, — стюарда мы не возьмем. Зарубите это себе на носу. Стюард попадает в число остающихся. Капитан Доун хладнокровно посмотрел на внушительный кольт; в сознании его возникло прекрасное видение — доходный дом в Сан-Франциско. Он пожал плечами. — Шлюпка и без того будет перегружена всей этой дрянью. Подбирайте себе компанию по своему вкусу, пожалуйста, но запомните раз и навсегда, что капитан — я, и если вы хотите еще когда-нибудь увидать свои ссудные кассы, то советую вам позаботиться о моей целости и сохранности! Стюард! Доутри шагнул к нему. — Для вас, к сожалению, не хватит места, так же как еще для двух или трех человек. — Слава богу! — отвечал Доутри. — А я-то боялся, что вы потащите меня за собой, сэр. Квэк, перенеси мои вещи на тот борт, в другую шлюпку. Покуда Квэк исполнял приказание, помощник в последний раз замерил уровень воды, он достигал уже трех с половиной футов, и матросы начали грузить в шлюпку мелкую поклажу. Мускулистый, поджарый швед, с покатыми плечами, шести с половиной футов роста, при этом худой, как щепка, с выцветшими голубыми глазами и, уж разумеется, белокурый, бросился помогать Квэку. — Эй, Длинный Джон, — окликнул его помощник капитана, — ваша шлюпка здесь. Идите сюда. Долговязый матрос смущенно улыбнулся и нерешительно пробормотал: — Я лучше буду там, где кок. — Ну и отлично, пусть отправляется с ними; чем меньше у нас народу, тем лучше, — вмешался Нишиканта. — Кто еще хочет в ту шлюпку? — Заметьте, — вызывающе глядя ему прямо в лицо, объявил Доутри, — что все оставшееся пиво грузится в мою шлюпку, конечно, если вы не возражаете. — За два цента! — с притворным гневом крикнул Нишиканта. — Вы даже за два миллиона центов не рискнете поссориться со мной, подлый кровосос, — отвечал Доутри. — Этих-то вы сумели запугать, но со мной, вы знаете, шутки плохи! Я вас насквозь вижу. За два миллиарда центов вы меня к себе не заманите. Эй, Длинный Джон! Тащи-ка этот ящик пива и эти пол-ящика тоже в нашу шлюпку. Вы хотите что-нибудь возразить, Нишиканта? Возражать Симон Нишиканта не решился, да и вообще не знал, что делать; из этой растерянности его вывел крик: — Вот он опять! Все снова вцепились во что попало. Новым ударом кит разнес еще несколько шпангоутов, и «Мэри Тернер» беспомощно закачалась с борта на борт. — Спускать шлюпку! Ходом! Приказ капитана был немедленно выполнен. Шлюпка поднималась и опускалась на волнах у борта шхуны; с палубы стали торопливо кидать в нее еще не погруженную поклажу. — Разрешите помочь вам, сэр, раз уж поднялась этакая суматоха, — проворчал Доутри, принимая хронометр из рук капитана Доуна и готовясь передать его обратно, как только капитан усядется в шлюпке. — Идите же, Гринлиф, — позвал Старого моряка фермер. — Покорно благодарю, сэр, но мне думается, что в другой шлюпке будет просторнее. — Давайте сюда кока! — крикнул Нишиканта, устроившийся на корме. — Прыгай сюда, желтая обезьяна! Живо! Сухонький старичок А Мой стоял, что-то соображая. Он явно пребывал в нерешительности, хотя никто не мог бы в точности догадаться, о чем он думает, глядя то на револьвер ростовщика, то на прокаженных — Квэка и Доутри и взвешивая все за и против, вплоть до загрузки обеих шлюпок. — Моя едет та лодка, — сказал он наконец и потащил свой мешок к другому борту. — Отваливай! — скомандовал капитан Доун. Скрэпс, раскормленный щенок ньюфаундленд, непрерывно резвившийся среди всеобщей суматохи, увидав множество знакомых ему людей с «Мэри Тернер» в стоящей рядом со шхуной шлюпке, перескочил через фальшборт, находившийся у самой воды, и плюхнулся на груду мешков и ящиков. Лодка качнулась, и Нишиканта, с револьвером в руке, крикнул: — К черту! Швырните его обратно! Матросы повиновались, и удивленный Скрэпс, взлетев в воздух, вдруг опять оказался лежащим на спине на палубе «Мэри Тернер». Сочтя это не более как грубоватой шуткой, он стал, извиваясь от восторга, кататься по палубе в ожидании уготованных ему новых забав. Дружелюбно ворча, он подкатился было к Майклу, теперь разгуливавшему на свободе, но тот встретил его весьма неприветливым рычанием. — Похоже, что нам придется и его принять в компанию, что вы скажете, сэр! — заметил Доутри и, улучив минутку, потрепал щенка по голове, за что разнежившийся песик с благодарностью лизнул его руку. Первоклассный пароходный стюард непременно отличается от всех прочих людей недюжинной ловкостью и расторопностью. А Дэг Доутри был первоклассным стюардом. Пристроив Старого моряка в безопасный уголок и отдав Длинному Джону приказание готовить к спуску шлюпку, он послал Квэка в трюм на полнить бочонки скудными остатками пресной воды, а А Моя в камбуз — собрать то, что еще оставалось от провизии. Первая шлюпка, до отказа набитая людьми, провиантом, багажом и стремительно удалявшаяся от центра опасности, то есть от «Мэри Тернер», не отошла еще и на сотню ярдов, когда кит, стрелой промчавшийся мимо шхуны, сделал резкий поворот на полном ходу и, вздымая пенящуюся воду, прошел так близко от шлюпки, что гребцам пришлось убрать весла с этой стороны. Качаясь на волнах, поднятых китом, низко сидевшая посудина зачерпнула воды. Нишиканта, по-прежнему с револьвером в руке стоявший подле облюбованного им места, пошатнулся. Стараясь удержать равновесие, он сделал какое-то судорожное движение и… уронил револьвер за борт. — Ха-ха! — торжествовал Доутри. — Ну что, Нишиканта? Теперь, господа, и вам его нечего бояться! Можете в случае нужды использовать его на мясо! Кушанье, конечно, незавидное, но что поделаешь. Мой совет: как начнете голодать, съешьте его первым. Правда, он грязное животное, и мясо будет с душком, ну да ведь многим честным людям приходилось есть тухлятину — и ничего, живы оставались. Советую только предварительно положить его на ночь в соленую воду. Гримшоу, не слишком удобно устроившийся на корме, тотчас же, как и Доутри, оценил положение; он вскочил на ноги, схватил толстого ростовщика за шиворот, весьма неделикатно встряхнул его и бросил лицом вниз на дно шлюпки. — Ха — ха! — уже издалека послышался смех Доутри. Гримшоу неторопливо уселся на освободившееся удобное место. — Хотите к нам? — крикнул он Доутри. — Нет, благодарствуйте, сэр, — донесся ответ. — Нас много, и нам будет лучше разместиться в другой шлюпке. Гребцы изо всех сил налегали на весла, другие с не меньшей энергией вычерпывали воду, и шлюпка быстро удалялась. Доутри вместе с А Моем спустился в кладовую, находившуюся под каютами, и стал выбирать оттуда остатки провианта. Покуда они возились в трюме, кит опять ударил шхуну в левый борт и могучим взмахом хвоста начисто снес вант-путенсы и планшир у бизань-вант. Набежавшая волна снова качнула шхуну, и вся бизань-мачта с треском рухнула. — Ну, это всем китам кит, — заметил Доутри А Мою, когда они, поднявшись на палубу, обнаружили последние разрушения. А Мой решил принести еще кое-каких продуктов, а Доутри, Квэк и Длинный Джон, всей своей тяжестью налегши на тали, подняли и приготовили шлюпку к спуску. — Подождем следующего удара, затем спустим шлюпку, побросаем в нее поклажу и… наутек, — сказал стюард Старому моряку. — Времени у нас еще хоть отбавляй. Шхуна, даже и залитая водой, будет погружаться не скорее, чем погружается сейчас. Когда он произносил эти слова, шпигаты были уже почти вровень с водой; судно медленно покачивалось на волнах. — Эй! — вдруг крикнул Доутри вслед удалявшейся шлюпке капитана Доуна. — Как держать курс на Маркизские острова? И сколько до них миль? — Норд-норд-ост-четверть к осту, — едва слышно донесся ответ. — Курс на Нука-Хиву! Около двухсот миль. Идите с юго-восточным пассатом полный бейдевинд и дойдете. — Благодарю вас, сэр! — успел еще крикнуть стюард. Затем он бросился на корму, разбил нактоуз, выхватил компас и перенес его в шлюпку. Поскольку кит не возобновлял нападений, они уж было решили, что он угомонился, и выжидательно наблюдали за плавающим на расстоянии двухсот или трехсот ярдов чудовищем, тогда как «Мэри Тернер» медленно погружалась в воду. — Надо бы, по-моему, воспользоваться минутой, — говорил Доутри, обсуждая с Длинным Джоном создавшееся положение, когда в их разговор неожиданно ворвался третий голос. — Кокки, Кокки! — послышались жалобные звуки откуда-то снизу и тут же сменились раздраженными, злобными: — Черт подери, черт подери, черт подери! — Ну, конечно же, возьмем! — крикнул Доутри, ринулся вперед, перебрался через путаницу снастей рухнувшей грот-стеньги, преграждавшую ему дорогу, и обнаружил, наконец, беленький комочек жизни, примостившийся на краю койки: он сидел, взъерошив перышки, нахохлившись, и на человеческом языке клял превратности судьбы, сумасбродство кораблей и мореплавателей. Какаду вспорхнул на протянутый ему Доутри указательный палец, быстро перебирая коготками, больно царапавшими руку стюарда, вскарабкался к нему на плечо, прильнул головкой к его уху и с благодарностью и облегчением вновь прокричал: — Кокки, Кокки! — Ах ты сукин сын! — ласково буркнул Доутри. — Слава богу! — произнес Кокки голосом, до того похожим на голос Доутри, что тот вздрогнул. — Ну и сукин сын! — повторил стюард, прижимая то к щеке, то к уху нарядный хохолок попугая. — А ведь есть люди, которые думают, что мир создан только для них. Кит продолжал бездействовать, но вода уже начинала заливать палубу, и Доутри отдал приказ спускать шлюпку. А Мой первым вскочил в нее и уселся на носу. Доутри предположил, что торопливость маленького китайца объясняется боязнью лишнюю минуту остаться на тонущем корабле. Но он ошибся. А Мой хотел сесть как можно дальше от Доутри и Квэка. Оттолкнувшись, они живо сбросили вещи и продукты с банок на дно шлюпки и заняли свои места: А Мой на носу, Длинный Джон рядом с Квэком, а Доутри (Кокки все еще сидел у него на плече) загребным. Майкл, взгромоздившийся на кучу вещей, сваленных на корме, не сводил тоскливого взора с «Мэри Тернер» и сердито огрызался на дурачка Скрэпса, уже собравшегося затеять возню. Старый моряк стал на руль и, когда все расселись по местам, отдал приказ отваливать. Майкл заворчал и ощетинился, давая знать, что кит близко. Но чудовище больше не нападало, а медленно кружило вокруг шхуны, как бы изучая и разглядывая своего противника. — Бьюсь об заклад, что от всех этих ударов у него башка разболелась, — засмеялся Доутри, главным образом чтобы подбодрить своих спутников. Не успели они раз десять взмахнуть веслами, как неожиданный возглас, вырвавшийся у Длинного Джона, заставил их посмотреть по направлению его взгляда на бак шхуны, где судовая кошка гонялась за огромной крысой. Они увидели и еще множество крыс: прибывающая вода, по-видимому, выгнала их из нор. — Неужто же мы оставим эту кошку на погибель? — вопросительно произнес Доутри. — Конечно, нет, — ответил Старый моряк, наваливаясь на румпель, чтобы повернуть шлюпку обратно. Кит, продолжавший неторопливо описывать круги, дважды изрядно качнул шлюпку, прежде чем им удалось отойти от судна. На них он, видимо, не обращал ни малейшего внимания. Ведь смерть настигла его детеныша с этой громадины, со шхуны, и весь его гнев, вся его ярость были направлены против нее. Когда они отошли, кит устремился в открытое море, но, пройдя с полмили, круто повернул и снова ринулся на приступ. — Ну, теперь, когда она полна воды, он об нее расшибется насмерть, — заметил Доутри. — Бросьте грести, давайте понаблюдаем. Удар, сильнейший из всех, пришелся как раз по середине корабля. Обломки фальшборта и штаги взлетели в воздух, шхуну качнуло так, что медная обшивка блеснула на солнце. Покуда она медленно выпрямлялась, грот-мачта качалась, как пьяная, но не падала. — Точка! — закричал Доутри, видя, как кит вздымает воду бессмысленными и нелепыми взмахами гигантского хвоста. — Теперь, видно, им обоим конец. — Шхуна уже нет! — заметил Квэк, когда фальшборт «Мэри Тернер» исчез под водой. «Мэри Тернер» погружалась с такой быстротой, что не прошло и нескольких мгновений, как даже обломок грот-мачты исчез из глаз. На поверхности океана теперь виднелась только едва передвигающаяся туша кита. — Даже похвалиться-то нечем будет, — гласило краткое надгробное слово Доутри. — Никто нам все равно не поверит. Чтобы такое прочное суденышко потопила — форменным образом потопила — старая китиха! Да, судари мои! Я никогда не верил тому старикашке в Гонолулу, который уверял меня, что своими глазами видел гибель «Эссекса», а теперь и мне никто не поверит. — Красавица шхуна, прелестное, умное суденышко, — причитал Старый моряк. — Никогда я не видывал более изящной оснастки на трехмачтовом судне, и никогда не бывало шхуны, которая бы лавировала так легко и красиво. Дэг Доутри, старый холостяк, непривычный к оседлому образу жизни, всматривался в пассажиров лодки, оказавшихся теперь на его попечении. Вот они: Квэк, уродливый папуас, некогда спасенный им от прожорливости своих соплеменников; А Мой, маленький китаец, судовой кок неопределенного возраста; Старый моряк, благородный, любимый, почитаемый; Длинный Джон — юный скандинав, великан ростом и младенец душой; Киллени-бой — чудо-пес; Скрэпс, неимоверно глупый, круглый, точно шар, щенок; Кокки — белоперый комочек жизни, высокомерный, как стальной клинок, и неотразимо прелестный, как балованное дитя, и, наконец, судовая кошка — рыжая, гибкая, истребительница крыс, свернувшаяся в клубочек у ног А Моя. А от Маркизских островов их отделяли добрых двести миль! Да еще попутный ветер сейчас улегся, хотя с восходом солнца, без сомнения, должен был задуть снова. Стюард вздохнул, и ему внезапно вспомнилась детская песенка: «Жила-была старушка в дырявом башмаке. И было у нее ребят, что пескарей в реке!» [25]. Он отер рукою пот со лба, смутно ощутил онемевшее место на лбу между бровями и сказал: — Вот что, ребятки, до Маркизских островов нам на веслах не добраться. Для этого нужен хороший ветер. Но отойти на милю-другую от этой треклятой старой китихи надо непременно. Не знаю, оживет она или нет, но вблизи от нее я чувствую себя не в своей тарелке.
Глава шестнадцатая
Двумя днями позднее на пароходе «Марипоза», совершавшем свой обычный рейс между Таити и Сан-Франциско, пассажиры вдруг прервали игру в серсо, повскакали из-за карточных столов в курительном салоне, бросили недочитанные романы на шезлонгах и столпились у борта, не сводя глаз с маленькой шлюпки, которая приближалась к ним по волнам, подгоняемая легким попутным ветром. Когда же Длинный Джон с помощью А Моя и Квэка спустил парус и убрал мачту, в толпе пассажиров послышались смешки и хихиканье. То, что они увидели, резко противоречило их представлениям о потерпевших крушение моряках, спасающихся посреди океана на утлой лодчонке. Совсем как Ноев ковчег, выглядела эта шлюпка, до отказа набитая постельными принадлежностями, провиантом, ящиками с пивом, имеющая на борту кошку, двух собак, белоснежного какаду, китайца, курчавого папуаса, белокурого гиганта, седовласого Дэга Доутри и Старого моряка, как нельзя лучше подходившего к роли праотца Ноя. Какой-то шутник, клерк строительной конторы, проводивший свой отпуск на море, так и приветствовал его. — Мое почтение, дедушка Ной! — крикнул он старику. — Ну, как потоп? Скоро ли доберетесь до Арарата? — Много рыбы наловили? — поинтересовался другой юнец, перегнувшийся через фальшборт. — Вот здорово! Вы только посмотрите, сколько пива! Доброго английского пива! Запишите за мной один ящик. Никогда еще потерпевших кораблекрушение не спасали с таким гамом и хохотом. Веселые молодые люди уверяли, что это сам старик Ной с остатками погибших колен Израилевых явился на «Марипозу», и рассказывали пожилым пассажиркам леденящие кровь истории о тропическом острове, погрузившемся в океан вследствие землетрясения и вулканических катастроф. — Я стюард, — представился Дэг Доутри капитану «Марипозы», — и буду счастлив и благодарен, если вы поместите меня вместе с вашими стюардами. Длинный Джон — матрос, он отлично устроится в кубрике. Китаец — кок, а негр — моя собственность. Но мистер Грин-лиф — джентльмен, сэр, и ему нужен самый лучший стол и самая лучшая каюта. Когда же на «Марипозе» стало известно, что это люди, спасшиеся с трехмачтовой шхуны «Мэри Тернер», разнесенной в щепы и потопленной китом, то почтенные дамы поверили этой истории не больше, чем небылицам о затонувшем острове. — Скажите, капитан Хэйворд, — полюбопытствовала одна из них, — мог бы кит потопить «Марипозу»? — До сих пор с ней этого не случалось, — отвечал капитан. — Я была в этом уверена, — многозначительно подчеркнула дама. — Корабли строятся не для того, чтобы их топили киты! Верно ведь, капитан? — Вы, безусловно, правы, сударыня, тем не менее все пятеро настаивают именно на такой версии. — Моряки ведь известны своей буйной фантазией, и вы, наверно, не станете это оспаривать, капитан? — Свое раз и навсегда сложившееся мнение о моряках леди почему-то решила облечь в вопросительную форму. — Заправские врали, сударыня. Ей-богу, после сорока лет морской службы я бы не поверил и тому, что сам показал под присягой.
Девять дней спустя «Марипоза» вошла в Золотые ворота и стала на якорь в Сан-Франциско. Юмористические статейки в местных газетах, творения желторотых репортеров, едва окончивших среднюю школу, на часок-другой потешили жителей города сообщением о том, что «Марипоза» подобрала в открытом море потерпевших кораблекрушение, которые рассказали о себе столь фантастическую историю, что даже репортеры им не поверили. Дурацкие репортерские измышления давно уже привели к тому, что все факты, мало-мальски отклоняющиеся от обыденных, воспринимаются как вранье. Желторотые репортеры, газетчики и тупоумные обыватели, все свои впечатления черпающие из кинофильмов, попросту не подозревают о существовании бескрайних просторов реального мира. — Потоплен китом? — переспрашивает обыватель. — Чушь и больше ничего. Форменная ерунда. Вот «Приключения Элинор» — это, доложу вам, фильм; там я видел… Так Доутри и его команда сошли на берег во Фриско безвестными и почти не замеченными, и уже на следующее утро газеты были полны досужими выдумками морских репортеров о нападении гигантской медузы на итальянского рыбака. Длинного Джона товарищи тотчас же потеряли из виду: он поселился в одном из портовых пансионов, через неделю вступил в союз моряков и нанялся на паровую шхуну, отправляющуюся за грузом секвойи в Бандой, штат Орегон. А Мой, едва сойдя на берег, был задержан федеральным иммиграционным управлением и на первом же пароходе Тихоокеанской компании насильственно отправлен в Китай. Кошка с «Мэри Тернер» прижилась на баке «Марипозы» и отправилась в обратный рейс на Таити. Скрэпса взял к себе домой помощник капитана. Итак, Дэг Доутри, очутившись на берегу, снял на свои скромные сбережения две недорогие комнатки для себя и своих подопечных — иными словами, для Чарльза Стоу Гринлифа, Квэка, Майкла и еще одной весьма значительной персоны — Кокки. Но Старому моряку Доутри не позволил долго оставаться вместе с ними. — Этак ничего у нас не получится, сэр, — заявил он ему. — Нам нужны деньги. А приобрести их можете только вы. Вам надо сегодня же купить два чемодана, взять такси и ошвартоваться у подъезда Бронкс-отеля в роли человека, который расходами не стесняется. Это шикарный отель и не такой уж дорогой, если вести себя разумно. Номер придется взять небольшой, окнами во двор, а питаться вы будете на стороне, это выйдет много дешевле. — Помилуйте, Доутри, да ведь у меня совсем нет денег, — запротестовал Старый моряк. — Неважно, сэр! Я вас поддержу по мере сил. — Но, дорогой мой, вы же знаете, что я старый мошенник. Я не могу обжуливать вас, как всех прочих. Вы… вы же друг мне, понимаете? — Отлично понимаю и очень благодарен вам за эти слова, сэр. Потому-то я и забочусь о вас. Но когда вы подцепите новых искателей кладов и оснастите судно, вы возьмете меня с собой в качестве стюарда вместе с Квэком, Киллени-боем и всем остальным семейством. Вы меня усыновили, теперь я ваш взрослый сын, и уж извольте меня слушаться. Отель Бронкс прямо-таки создан для вас — одно название чего стоит. Такая вот обстановка нам и нужна. Люди не столько будут прислушиваться к вашим речам, сколько отмечать про себя, в каком отеле вы живете. Помяните мое слово, когда вы, развалясь в кожаном кресле, с дорогой сигарой во рту и стаканом двадцатицентового питья на столике, начнете рассказывать им про сокровища, это уж само по себе будет дорого стоить. Вам обязательно поверят. Пойдемте-ка, сэр, не мешкая, и купим чемоданы. Старый моряк с шиком подъехал к Бронкс-отелю, старомодным почерком начертал в книге для приезжающих: «Чарльз Стоу Гринлиф» — и с новой энергией принялся за дело, которое годами спасало его от работного дома. Дэг Доутри не менее энергично взялся за поиски работы. Это было крайне необходимо при столь широком образе жизни. Его семейству, состоящему из Квэка, Майкла и Кокки, нужны были кров и пища; еще дороже обходилось содержание Старого моряка в первоклассном отеле; и вдобавок существовала его собственная неутолимая потребность в шести квартах пива. На беду, это было время промышленного кризиса. Проблема безработицы в Сан-Франциско стояла острее, чем когда-либо. На каждое место стюарда имелось по крайней мере три кандидата. Постоянной работы Доутри найти не удалось, а случайные заработки никак не покрывали его текущих расходов. Три дня он даже пропотел с киркой и лопатой на земляных работах, производившихся муниципалитетом, но затем, согласно закону, должен был уступить свое место другому безработному, которому эти три дня помогли бы еще немного продержаться на поверхности. Доутри охотно подыскал бы какую-нибудь работенку Квэку, но это было невозможно. Папуас, лишь однажды видевший Сидней с парохода, сроду не бывал в большом городе. В жизни он знал только пароходы, острова, затерянные в Южных морях, да свой родной остров Короля Вильгельма в Меланезии. Итак, Квэк оставался дома стряпать, убирать две комнатки и ухаживать за Майклом и Кокки. Майклу, привыкшему к просторным палубам, к коралловым бухтам и плантациям, комнатки эти казались тюрьмой. Правда, по вечерам он отправлялся гулять с Доутри, и Квэк иногда сопровождал их. Двуногие боги, которыми кишели тротуары, очень докучали Майклу и сильно обесценились в его глазах. Зато стюард, неизменно обожаемый бог, стал ему еще дороже. Майкл чувствовал себя потерянным в этом сонме богов и только в Доутри видел защиту от бурь и горестей жизни. «Не позволяй наступать себе на ногу» — вот основной лозунг горожан двадцатого века. И Майкл живо усвоил его, оберегая свои лапы от тысяч обутых в кожу людских ног, вечно куда-то спешащих и нисколько не церемонящихся со скромным ирландским терьером. Вечерние прогулки со стюардом неизменно сводились к странствию из бара в бар, где люди, толпясь у длинных стоек, на посыпанном опилками полу или сидя за столиками, пили и болтали, много пили и много болтали. То же самое делал и Доутри, но, выполнив свой ежедневный шестиквартовый урок, немедленно шел домой и заваливался спать. В эти вечера Доутри и Майкл завели немало знакомств среди моряков каботажного плавания, грузчиков и портовых рабочих. Один, из таких моряков, капитан шхуны, совершавшей регулярный рейс в бухте Сан-Франциско, а также плававшей по рекам Сан-Хоакин и Сакраменто, пообещал Доутри место кока и одновременно матроса на шхуне «Говард». Эта шхуна, водоизмещением в восемьдесят тонн, включая палубный груз, плавала днем и ночью, в любую погоду, а капитан Иоргенсен, кок и два матроса, на основах полной демократии, грузили и разгружали ее; когда один стоял у штурвала, трое остальных спали. Каждый работал за двоих, а то и за троих, но пища на «Говарде» была обильной, а заработок от сорока пяти до шестидесяти долларов в месяц. — Даю вам слово, — заявил капитан Иоргенсен, — что я живо спроважу своего кока Гансона, и тогда вы явитесь к нам на борт вместе с вашим псом. — Он ласково потрепал Майкла по голове своей большой, мозолистой рукой. — Славный песик, что и говорить! Он нам очень пригодится на стоянках, когда все спят как убитые. — Спровадьте поскорей этого Гансона, — настаивал Доутри. Но капитан в ответ только медленно покачал своей тугодумной головой. — Сначала я должен задать ему хорошую трепку. — Ну так задайте ему трепку сегодня и спровадьте его, — твердил Доутри. — Вон он стоит в углу у стойки. — Нет, так не пойдет. Он должен дать мне повод. Поводов-то у меня, положим, хоть отбавляй, но нужно такой, чтобы всем все было ясно. Я задам ему трепку, а народ кругом пусть говорит: «Ай да капитан, так его, так его!» Тогда место будет за вами, Доутри. Если бы капитан Иоргенсен не медлил так с задуманной трепкой, а Гансон поскорее дал бы повод к ней, Майкл отправился бы вместе с Доутри на шхуну «Говард» и вся его последующая жизнь резко отличалась бы от той, которую ему готовила судьба. Но чему быть, того не миновать — случайность и сочетание случайностей, над которыми Майкл был не властен и о которых не подозревал, так же как не подозревал о них Доутри, определили его дальнейшую участь. В ту пору самая безудержная фантазия не могла бы предугадать сценическую карьеру Майкла и ту ужасающую жестокость, которую ему пришлось испытать на себе. Что же касается судьбы Дэга Доутри и Квэка, то она не могла бы привидеться даже наркоману в его кошмарном забытьи.
Глава семнадцатая
Как-то вечером Дэг Доутри сидел в салуне «Приют землекопов». Он находился в обстоятельствах весьма затруднительных. Найти работу было почти невозможно, а сбережения его подошли к концу. Перед вечером у него состоялся телефонный разговор со Старым моряком, который только и мог сообщить ему, что какой-то отставной доктор-шарлатан, видимо, клюнул на его удочку. — Позвольте мне заложить кольца, — уже не в первый раз настаивал Старый моряк. — Нет, сэр, — отвечал Доутри. — Ваши кольца нужны нам для дела. Это наш основной капитал. Они создают нужную нам атмосферу. Что называется, говорят красноречивее слов. Сегодня вечером я кое-что обмозгую, а завтра утром мы встретимся, сэр. Оставьте при себе кольца и не слишком энергично обрабатывайте своего доктора. Пусть он сам прибежит к вам. Это лучший способ. Итак, все идет недурно, а дураков на наш век хватит. Ни о чем не беспокойтесь, сэр. Дэг Доутри еще никогда не давал маху. Но, сидя в «Приюте землекопов», он чувствовал себя далеко не так уверенно. В кармане у него было ровно столько денег, сколько нужно было для уплаты квартирной хозяйке за следующую неделю; он уже просрочил три дня, и хозяйка, особа весьма неприятная, шумно требовала долг. Дома у них пищи было разве что на завтрашний день, да и то при соблюдении строжайшей экономии. Отельный счет Старого моряка не оплачивался уже в течение двух недель и составлял изрядную сумму, так как отель был первоклассный; а у самого старика в кармане оставалось всего несколько долларов, бряцая которыми он пускал пыль в глаза жадному до кладов доктору. Но самое печальное было то, что Доутри пришлось наполовину сократить свою ежедневную порцию пива, — он твердо решил не тратить квартирных денег, так как в противном случае очутился бы со всем своим семейством на улице. Поэтому он и сидел сейчас за столиком о капитаном Иоргенсеном, который только что вернулся с грузом сена из Петалумы. Иоргенсен уже дважды заказывал пиво, и жажда его, видимо, была утолена. Он то и дело зевал, устав от тяжелой работы и ночного бодрствования, да поглядывал на часы. А Доутри недоставало трех кварт! Вдобавок Гансон еще не получил своей трепки, а значит, и поступление в качестве кока на шхуну все еще оставалось туманной и отдаленной перспективой. Внезапно Доутри, совсем уже было впавшего в отчаяние, осенила идея, как добыть еще кружку молодого пива. Он не очень-то долюбливал молодое пиво, но оно было дешевле. — Посмотрите на моего пса, капитан, — начал он. — Вы себе даже представить не можете, до чего этот Киллени-бой умен. Считает он, например, не хуже нас с вами. — Гм! — буркнул капитан Иоргенсен. — Я видал таких собак в балаганах. Все это обман. Собаки и лошади считать не умеют. — А этот пес умеет, — спокойно продолжал Доутри. — И вы его ничем не собьете. Давайте поспорим: я сейчас закажу две кружки пива, громко, так, чтобы он услышал, затем шепотом велю официанту принести одну, и вы увидите, какой шум поднимет Киллени-бой, когда официант явится с одной кружкой. — Вот это да! На что же мы будем спорить? Доутри нащупал в кармане десятицентовик. Если Киллени подведет его, то деньги за квартиру внесены не будут. Но Киллени не может его подвести, решил Доутри и сказал: — Давайте спорить на две кружки пива. Они подозвали официанта и, после того как ему была дана секретная инструкция, кликнули Майкла, примостившегося в углу, у ног Квэка. Когда Доутри придвинул стул и пригласил его к столу, Майкл насторожился. Ясно, что стюард чего-то домогается от него, видимо, хочет, чтобы он показал себя в выгодном свете. И он преисполнился рвения: не показать себя в выгодном свете, а выказать свою любовь стюарду. Любовь и служение любимому — для Майкла это было единое понятие. Готовый по первому слову Доутри прыгнуть в огонь, Майкл сейчас был готов угадать малейшее его желание. Так он понимал любовь. Любовь для него означала одно — служение. — Эй, официант, — позвал Доутри и, когда тот приблизился, громко сказал: — Два пива!.. Ты понял, Киллени? Два пива! Майкл заерзал на стуле, порывисто положил на стол лапу и так же порывисто лизнул своим красным языком склонившееся над ним лицо Доутри. — Он запомнит, — сказал Доутри капитану. — Не запомнит, если мы будем разговаривать. Сейчас мы собьем с толку вашего песика. Я скажу, что место кока за вами, как только я спроважу Гансона. А вы скажете, что мне надо спровадить его как можно скорее. Потом я скажу, что Гансон сначала должен подать мне повод для трепки. А затем мы начнем спорить и орать друг на дружку. Ну как, идет? Доутри кивнул, они затеяли громкий спор, и Майкл стал внимательно поглядывать то на одного, то на другого. — Я выиграл, — объявил капитан Иоргенсен, когда официант подошел к их столику с одной кружкой пива. — Песик все забыл, если только он вообще помнил. Он думает, что мы сейчас подеремся. Одна или две кружки пива — это представление уже стерлось в его мозгу, как стираются волной слова, написанные на песке. — А я полагаю, что он своей арифметики не забудет, сколько бы мы ни шумели, — отвечал Доутри, хотя сердце у него упало. — Впрочем, что там говорить, сейчас вы сами увидите, — обнадеживающе добавил он. Официант поставил перед капитаном высокую кружку пива, и тот немедленно потянул ее к себе. Майкл весь напрягся, как струна: сейчас потребуется его служение, он отлично знал — стюард чего-то ждет от него, и, вдруг вспомнив старые уроки на «Макамбо», взглянул на невозмутимое лицо стюарда в ожидании «знака», затем осмотрелся и увидел не две, а одну кружку пива. Он так прочно усвоил разницу между одним и двумя, что — каким образом, этого не мог бы определить самый тонкий психолог, так же как не мог бы определить, что есть мысль, — немедленно понял: здесь стоит одна кружка, тогда как заказаны были две. Он молниеносно вскочил, в горле у него запершило от злости, он уперся передними лапами в стол и залаял на официанта. Капитан Иоргенсен ударил кулаком по столу. — Ваша взяла! — крикнул он. — Я плачу за пиво! Официант, еще кружку. Майкл взглянул на Доутри — для проверки; и рука, погладившая его голову, дала ему утвердительный ответ. — Попробуем еще раз, — сказал оживившийся и очень заинтересованный капитан, вытирая ладонью пену с усов. — Он, наверно, только и знает, что один да два, а вот как насчет трех или четырех? — То же самое капитан. Он умеет считать до пяти. Он понимает, когда и больше пяти, но названия цифр дальше не знает. — Эй, Гансон! — заорал на весь зал капитан своему коку. — Иди сюда, дурья башка! Выпей с нами! Гансон подошел и придвинул себе стул. — Я плачу за пиво, Доутри, — объявил капитан. — Но заказывать будете вы. Погляди-ка, Гансон, какие штуки выделывает эта псина. Доутри сейчас закажет три пива. Пес слышит слово «три». А я — вот так — показываю официанту два пальца. Он приносит две кружки. И псина его за это облаивает. Вот увидишь. Представление повторилось; Майкл не умолкал, пока приказание Доутри не было исполнено в точности. — Он считать не умеет, — заключил Гансон. — А просто видит, что один из нас остался без пива. Вот и все.Пес знает, что перед каждым человеком должна стоять кружка. А раз это не так, вот он и лает. — Он вам покажет еще кое-что почище, — хвастливо заметил Доутри. — Нас трое? Мы закажем четыре пива. Тогда у каждого будет по кружке, но Киллени все равно будет лаять на официанта. И правда, Майкл, теперь уже отлично смекнувший, в чем состоит игра, лаял и огрызался, покуда официант не принес четвертой кружки. К этому времени вокруг их столика уже собралась целая толпа; каждый готов был оплатить пиво Доутри, чтобы только лишний раз испытать Майкла. — Честное слово, — пробурчал себе под нос Доутри, — чудно устроена жизнь. Только что человек пропадал от жажды, а теперь его, кажется, хотят утопить в пиве. Многие выражали желание купить Майкла, но давали за него смехотворные суммы — пятнадцать, двадцать долларов. — Вот что я вам предлагаю, — говорил капитан Иоргенсен Доутри, которого он заманил в дальний угол. — Отдайте мне псину, я немедленно задам трепку Гансону, и можете завтра же приходить на работу. Владелец «Приюта землекопов», в свою очередь, отозвал Доутри в сторонку и шептал ему на ухо: — Приходите к нам каждый вечер с вашей собачкой. Дела у меня пойдут побойчее. Пиво будете получать бесплатно и вдобавок еще пятьдесят центов наличными за вечер. Последнее предложение и зародило великую идею в мозгу Доутри. Дома, покуда Квэк расшнуровывал ему башмаки, он обратился к Майклу со следующей речью: — Живем, Киллени! Если хозяин этого заведения дает мне за тебя сколько хочешь пива да еще пятьдесят центов в придачу, значит, ты этого стоишь, сынок, для него… а для меня и больше, куда больше. Ведь хозяин-то уж знает свою выгоду, раз он продает пиво, а не покупает его. И ты, Киллени, не откажешься поработать на меня, это уж я знаю. Деньги нам нужны. У нас есть Квэк, и мистер Гринлиф, и Кокки, не говоря уж о нас с тобой, и еды нам требуется немало. Да и деньги на квартиру раздобыть нелегко, а работу и того труднее. Одним словом, сынок, завтра вечером мы с тобой погуляем по городу и посмотрим, сколько нам удастся раздобыть деньжонок. И Майкл, сидя на коленях стюарда нос к носу и глядя ему прямо в глаза, от восторга весь извивался и корчился, высовывал язык и вилял хвостом. Что бы ни говорил стюард, это было прекрасно, потому что исходило от него.
Глава восемнадцатая
Седовласый стюард и мохнатый ирландский терьер быстро сделались заметными фигурами в ночной жизни портового района Сан-Франциско. В представление со счетом Доутри после тщательной подготовки ввел и Кокки. Теперь, когда официант не приносил заказанного ему числа кружек, Майкл оставался совершенно спокоен, покуда Кокки, по неприметному знаку стюарда, не становился на одну лапку и не упирался другой в шею Майкла, словно шепча ему что-то на ухо. После чего Майкл обводил глазами стол и задавал свой обычный «разнос» официанту. Но настоящий успех выпал на их долю, когда Доутри и Майкл впервые исполнили дуэт «Свези меня в Рио!». Это было в матросском дансинге на Пасифик-стрит. Танцы немедленно прекратились, и матросы стали шумно требовать еще песен. Впрочем, хозяин заведения на этом не прогадал: никто не уходил, наоборот, толпа, окружавшая певцов, все прибывала, по мере того как Майкл исполнял свой репертуар: «Боже, храни короля», «Спи, малютка, спи», «Веди нас, свет благой», «Родина любимая моя» и «Шенандоа». Теперь запахло уже чем-то посущественнее дарового пива: когда Доутри собрался уходить, владелец танцевального зала, сунув ему в руку три серебряных доллара, настойчиво просил завтра зайти опять. — За эти-то гроши? — спросил стюард, с презрением глядя на деньги. Хозяин торопливо прибавил еще два доллара, и Доутри пообещал прийти. — Все равно, Киллени, сынок, — говорил он Майклу, когда они укладывались спать, — мы с тобой стоим больше, чем пять долларов за вечер. Таких псов, как ты, еще на свете не было. Подумать только — поющая собака, может исполнять со мной дуэты да еще сколько песен умеет петь и без меня. Говорят, Карузо в вечер зарабатывает тысячу долларов. Ты, конечно, не Карузо, но среди собак ты все-таки Карузо, первый и единственный. Я, сынок, буду твоим импресарио. Если мы с тобой не сумеем здесь зашибить долларов по двадцати в вечер, переберемся в кварталы пошикарнее. А наш старик в отеле Бронкс переедет в комнату по фасаду. И Квэка мы оденем с головы до ног. Киллени, друг мой, мы с тобой еще так разбогатеем, что если нашему старику не удастся опять подцепить какого-нибудь дуралея, то мы и сами раскошелимся — купим шхуну и пошлем его искать клад. Это значит, что простаками будем мы, ты и я. Ну что ж, и отлично! Портовый район, бывший матросским поселком еще в те времена, когда Сан-Франциско слыл портом самых отчаянных в мире головорезов, разросся вместе с городом и теперь добрую половину своих доходов получал с туристов — любителей «живописных трущоб», которые напропалую сорили деньгами в этих самых трущобах. У богатых людей, в особенности когда они хотели развлечь любопытных приезжих из Восточных штатов, даже вошло в обычай после обеда разъезжать на машинах из одного матросского дансинга в другой или подряд объезжать низкопробные кабаки. Словом, портовый район сделался такой же достопримечательностью, как Китайский квартал или отель Клифф-Хаус. Вскоре Дэг Доутри уже получал двадцать долларов в вечер за два двадцатиминутных сеанса и отказывался от такого количества предлагаемых ему кружек пива, что ими можно было напоить десяток подобных ему, вечно жаждущих людей. Никогда еще стюард так не процветал; не будем отрицать, что и Майкл радовался этой новой жизни. Впрочем, радовался он главным образом за стюарда. Он служил ему, и именно такого служения больше всего жаждало его сердце. Собственно говоря, Майкл был теперь кормильцем семьи, все члены которой благоденствовали. Квэк, в своих рыжих башмаках, в котелке и брюках с безукоризненно заглаженной складкой, просто сиял. Кроме всего прочего, он пристрастился к кинематографу и тратил на него от двадцати до тридцати центов в день, неуклонно просиживая в зале все сеансы. Хлопоты по дому отнимали у него теперь очень немного времени, так как они столовались в ресторанах. Старый моряк не только перебрался в один из лучших номеров отеля Бронкс, но, по настоянию Доутри, иногда даже приглашал своих новых знакомых в театр или в концерт и потом отвозил их домой на такси. — А все же век мы так жить не станем, Киллени, — говорил Майклу стюард. — Вот сколотит наш старик новую компанию денежных мешков, разохотятся они на клады и… айда — в синее море, сынок! Под ногами крепкое суденышко, брызги воды, нет-нет и волна перекатится через палубу. Мы с тобой вправду отправимся в Рио, а не будем только петь об этом всякому сброду. Пусть себе сидят в этих мерзких городах. Море — вот это нам подходит, сынок, тебе и мне, и нашему старику, и Квэку, и Кокки тоже. Городская жизнь не про нас. Нездоровая это жизнь. Да, сынок, хочешь верь, хочешь не верь, а я как-то даже состарился и гибкость свою потерял. Мочи моей нет больше болтаться без дела. У меня сердце готово выпрыгнуть, как подумаю, что старик опять скажет мне: «А неплохо, стюард, выпить перед обедом вашего великолепного коктейля». В следующее плавание мы возьмем с собой маленький ледничок, чтоб у него всегда были хорошие коктейли. А посмотри на Квэка, друг мой Киллени. Его ведь узнать нельзя. Если он и дальше будет все вечера просиживать в кинематографе, так, пожалуй, еще чахотку схватит. Ради его здоровья, и моего, и твоего, и всех нас надо нам поскорее сняться с якоря и удирать туда, где дуют пассаты, где летят брызги морской воды и все тело твое насквозь пропитывают солью.
И правда, Квэк, не жаловавшийся ни на какое недомогание, быстро таял. Опухоль под правой рукой, вначале разраставшаяся медленно и нечувствительно, теперь причиняла ему непрестанную ноющую боль. По ночам Квэк часто просыпался от боли, хотя спал всегда на левом боку. А Мой, если бы его не схватили и не отправили в Китай чиновники Иммиграционного управления, мог бы разъяснить ему, что означает эта опухоль, так же как мог бы разъяснить Дэгу Доутри, что означает все увеличивающееся онемелое пространство между его бровями, где уже явственно обозначались вертикальные «львиные» черточки. А Мой также растолковал бы, отчего у него согнут мизинец на левой руке. Сам Доутри поначалу определил это как растяжение сухожилия. Позднее он решил, что подхватил ревматизм в сыром и туманном Сан-Франциско. И это заставляло его еще больше рваться в море, где тропическое солнце выжигает любые ревматизмы. Работая стюардом, Доутри привык соприкасаться с представителями высших кругов общества. Но здесь, на «дне» Сан-Франциско, он впервые встретился с ними как равный с равными. Более того, они сами стремились к общению с ним. Искали его. Домогались чести сидеть за столиком Доутри и оплачивать его пиво в любом второразрядном кабачке, где Майкл давал свои представления. Они охотно потчевали бы стюарда и самым дорогим вином, не будь он так привержен к пиву. Некоторые из них даже приглашали его к себе на дом: «С вашей замечательной собачкой, которая, надо думать, споет нам несколько песенок». Но Доутри, гордясь Майклом, ради которого и делались эти приглашения, неизменно отклонял их, ссылаясь на то, что профессиональная жизнь слишком утомляет их обоих и они не могут позволить себе подобных развлечений. Майклу же он объяснил, что вот если бы им предложили пятьдесят долларов за вечер, то они бы, конечно, «кочевряжиться не стали». Среди многочисленных новых знакомых Доутри и Майкла двоим было суждено сыграть значительную роль в их жизни. Первый — врач и местный политик, некий Уолтер Меррит Эмори — не раз подсаживался к столику Доутри, за которым неизменно восседал на стуле и Майкл. В благодарность за оказанную ему честь доктор Эмори вручил Доутри свою визитную карточку и заявил, что будет счастлив оказать медицинскую помощь, разумеется, бесплатно, и хозяину и собаке, в случае если таковая им понадобится. Доутри считал доктора Уолтера Меррита Эмори дельным человеком, бесспорно, хорошим врачом, но в достижении своей цели беспощадным, как голодный тигр. Однажды он с грубоватой прямотой, допустимой при ныне сложившихся обстоятельствах, объявил ему: — Вы, док, какое-то чудо! Это видишь с первого взгляда. Вам ничего не станет поперек дороги, разве что… — Разве что, что? — Разве что то, чего вы добиваетесь, вколочено кольями в землю, заперто на замок или находится под охраной полиции. Не хотел бы я иметь то, что хочется иметь вам. — А вы, кстати сказать, имеете, — заверил его доктор, указав глазами на Майкла. — Бр-р! — У Доутри мороз пробежал по коже. — Вы меня в дрожь вгоняете. Не знай я, что вы шутите, я бы дня не остался в Сан-Франциско. — Минуту-другую он сидел в задумчивости, уставившись в свое пиво, затем вдруг успокоенно засмеялся. — Никто на свете у меня этого пса не отнимет. Я убью всякого, кто на него позарится. И я заранее скажу ему это, так же как вот вам говорю сейчас; и он мне поверит, так же как верите вы. Вы знаете, что я не хвастаюсь. Ведь это собака… Дэг Доутри запнулся, не умея выразить всей глубины своих чувств, и до дна осушил кружку. Совсем к иному типу принадлежал другой человек, призванный сыграть роковую роль в жизни Доутри и Майкла. Гарри Дель Мар — называл он себя; Гарри Дель Мар — значилось на афишах «Орфеума», когда он там гастролировал. Этот человек для заработка занимался дрессировкой животных, но Доутри этого не знал, так как в данное время Дель Мар отдыхал от своих трудов и ровно ничего не делал. Он тоже оплачивал пиво Доутри, сидя за его столиком. Еще молодой, лет тридцати, не более, с очень длинными ресницами, окаймлявшими большие карие глаза, которые он сам считал магнетическими, красивый, с пухлыми женственными губами, он, вразрез со своим внешним видом, отличался необыкновенной деловитостью в разговоре. — У вас не хватит денег купить его, — отвечал Доутри, когда Дель Мар увеличил предлагаемую за Майкла сумму с пятисот долларов до тысячи. — Тысяча долларов у меня найдется, — возражал Дель Мар. — Нет! — Доутри покачал головой. — Я не продам его ни за какие деньги. Да и на что он вам сдался? — Он мне нравится, — был ответ. — Зачем, по-вашему, я сюда пришел? Почему здесь толчется столько народу? И почему вообще люди тратятся на вино, держат лошадей, похваляются своей связью с актрисами, становятся попами или буквоедами? Потому что им это нравится. Вот и все. Все мы по мере сил делаем то, что нам нравится, и гоняемся за тем, чего нам хочется, независимо от того, есть у нас шансы на успех или нет. Мне, например, нравится ваша собака. Я хочу ее иметь. Пусть за тысячу долларов. Посмотрите, какой бриллиант на пальце вон у той женщины. Несомненно, он понравился ей, она его пожелала и получила, не думая о цене. Цена значила для нее меньше, чем бриллиант. А ваша собака… — Но вы-то ей не нравитесь, — перебил его Доутри, — и это даже странно. Обычно она со всеми приветлива. На вас же ощерилась с первого взгляда. А на что, спрашивается, человеку собака, которая его не любит? — Это не существенно, — спокойно отвечал Дель Мар. — Мне собака нравится. А нравлюсь я ей или не нравлюсь — это уж мое дело; думаю, что я бы сумел ее перевоспитать. И Доутри вдруг показалось, что под безмятежной и корректной внешностью этого человека кроется бесконечная жестокость, еще усугубленная холодной расчетливостью. Конечно, Доутри подумал об этом не в таких словах. Вернее, даже не подумал, а почувствовал, чувствам же не нужны слова. — Здесь поблизости есть банк, открытый всю ночь, — продолжал Дель Мар. — Мы можем зайти туда, и через полчаса деньги будут у вас в руках. Доутри покачал головой. — Никуда не годится, даже с коммерческой точки зрения, — заявил он. — Посудите сами, этот пес зарабатывает двадцать долларов в вечер. Допустим, что он работает двадцать пять дней в месяц. Это составляет пятьсот долларов ежемесячно, или шесть тысяч в год. Допустим, что это пять процентов с капитала, так легче считать, — значит, капитал равняется ста двадцати тысячам долларов. Предположим, что мое жалованье и мои личные расходы равняются двадцати тысячам, — выйдет, что собака стоит сто тысяч. Ладно, возьмем даже половину этой суммы — пятьдесят тысяч. А вы предлагаете мне за нее тысячу! — Вы, кажется, полагаете, что он будет приносить доход вечно, как земельная собственность, — со спокойной улыбкой отвечал Дель Мар. Доутри мгновенно почуял, куда он клонит. — Пусть он проработает пять лет — вот уже тридцать тысяч. Пусть, наконец, всего один год — это шесть тысяч. Значит, вы мне за шесть тысяч предлагаете одну. Такая сделка меня не устраивает… и его тоже. И, наконец, когда он не сможет больше работать и никто за него цента не даст, для меня он все равно будет стоить миллион; и если кто-нибудь мне этот миллион предложит, я обязательно потребую надбавки.
Глава девятнадцатая
— Мы еще встретимся, — так закончил Гарри Дель Мар свой четвертый разговор относительно продажи Майкла. Но Гарри Дель Map ошибся. Он никогда больше не встретился с Доутри, потому что Доутри встретился с доктором Эмори. Квэк, спавший все более и более беспокойно из-за своей опухоли под мышкой, мешал спать Доутри. После целого ряда тревожных ночей стюард подумал-подумал и решил, что Квэк теперь уже достаточно болен, чтобы можно было обратиться к врачу. Потому-то однажды, часов в одиннадцать утра, он явился вместе с Квэком к Уолтеру Мерриту Эмори и дождался своей очереди, сидя в переполненной пациентами приемной. — Боюсь, что у него рак, доктор, — заметил Доутри, покуда Квэк снимал рубашку и фуфайку. — Он ведь ничего не подозревал, покуда он не начал вертеться и стонать во сне. Вот смотрите! Что это, по-вашему? Рак или просто опухоль? Во всяком случае — одно из двух. Но острый глаз Уолтера Меррита Эмори, скользнув по Квэку, тотчас же приметил скрюченные пальцы на левой руке. Впрочем, взгляд у доктора Эмори был не только острый, но и особо наметанный на проказу. В свое время он одним из первых добровольно отправился на Филиппины, где специально занимался изучением проказы, и насмотрелся такого множества прокаженных, что с первого взгляда мог определить эту болезнь, если только она не была в самой начальной стадии. От скрюченных пальцев, симптома безболезненной формы проказы, объясняющейся распадом нервов, и «львиных» складок на лбу его взгляд скользнул к опухоли под мышкой, и диагноз был поставлен молниеносно: бугорковая форма проказы. И так же молниеносно мелькнули в его мозгу две мысли: первой была аксиома: когда и где бы ты ни встретил прокаженного — ищи второго; и вторая: вожделенный ирландский терьер, собственность Доутри, долгое время находившийся на попечении Квэка. В ту же секунду доктор Уолтер Меррит Эмори отвернулся от своего пациента. Неизвестно, что знает стюард о проказе и знает ли вообще что-нибудь, а пробуждать в нем подозрения весьма нежелательно. Взгляд его как бы случайно упал на часы, и он обратился к Доутри: — Я бы сказал, что у него кровь не в порядке. Он очень истощен. Не привык к беспокойной городской жизни и к нашей пище. Я, конечно, произведу исследование опухоли на рак, хотя почти уверен, что результат будет отрицательный. Говоря это, он впился глазами в лицо Доутри, вернее, в маленький клочок кожи между его бровями повыше переносицы. Этого было достаточно. Опытный глаз мгновенно различил «львиную» печать проказы. — Да вы и сами порядком утомлены, — спокойно продолжал он. — Держу пари, что и вы чувствуете себя не в своей тарелке. — Пожалуй, так оно и есть, — согласился Доутри. — Надо мне поскорее отправиться в море, в тропики, и там хорошенько прогреть свой ревматизм. — Где у вас ревматизм? — как бы рассеянно спросил доктор Эмори, притворяясь, что хочет вновь заняться исследованием опухоли Квэка. Доутри протянул ему левую руку со слегка скрючившимся мизинцем, беспокоившим его. Уолтер Меррит Эмори из-под опущенных ресниц с притворной небрежностью взглянул на мизинец Доутри, чуть припухший, слегка искривленный, с блестящим, атласистым кожным покровом, и опять почти мгновенно повернулся к Квэку, но взгляд его еще раз испытующе остановился на «львиных» складках между бровей Доутри. — Ревматизм — все еще загадка для нас, врачей, — произнес Эмори и, как бы увлеченный этой мыслью, обернулся к Доутри. — Очень индивидуальное заболевание, проявляющееся в самых различных формах. У каждого по-своему. Вы, наверно, чувствуете онемение? Доутри усиленно сгибал и разгибал свой мизинец. — Да, сэр, — отвечал он. — Палец потерял гибкость. — Ага, — сочувственно пробормотал доктор Эмори. — Сядьте, пожалуйста, вон в то кресло. Если мне даже не удастся вас вылечить, то я во всяком случае направлю вас в наилучшее место для такого рода больных… Мисс Джадсон! Покуда молодая особа в костюме сестры милосердия соответствующим образом устанавливала выкрашенное эмалевой краской врачебное кресло и усаживала в него Доутри, а доктор Эмори погружал кончики пальцев в сильнейший из имевшихся у него антисептических растворов, в мозгу его вновь всплыл вожделенный образ мохнатого ирландского терьера, показывавшего разные штуки в матросских кабачках и откликавшегося на кличку Киллени-бой. — У вас ревматизм не только в левом мизинце, — заметил доктор Эмори. — Лоб у вас тоже поражен. Одну минуточку, прошу прощения. Скажите, если будет больно. Я только хочу проверить свой диагноз… Ну да, конечно! Повторяю: скажите, когда что-нибудь почувствуете. Ревматизм — капризная болезнь… Обратите внимание, мисс Джадсон, держу пари, что вы еще не видели этакой формы ревматизма. Видите, больной не реагирует, полагает, что я еще не приступил… Не переставая болтать и что-то рассказывать, он проделал нечто такое, что не могло бы и во сне присниться Дэгу Доутри, а Квэку, наблюдавшему за его манипуляциями, показалось дьявольским наваждением. Доктор Эмори с помощью большой иглы исследовал темное пятнышко между «львиными» складками. Он не зондировал больное место, а попросту всадил в него иглу с одной стороны и, ведя ее параллельно кожному покрову, вытащил с другой. Квэк смотрел на все это, вытаращив глаза, но хозяин его не вздрогнул, не дернулся, не шелохнулся во время этой операции. — Что же вы не начинаете? — нетерпеливо спросил Дэг Доутри. — А кроме того, дело вовсе не в моем ревматизме, а в опухоли негра. — Вам надо пройти курс лечения, — внушительно заявил доктор Эмори. — Ревматизм — упорная штука. Нельзя допускать, чтобы он сделался хроническим. Я назначу вам лечение. Теперь вставайте, сейчас я посмотрю вашего негра. Но, прежде чем уложить Квэка, доктор Эмори набросил на кресло простыню, насквозь пропитанную каким-то едко пахнущим раствором. Еще не приступив к исследованию Квэка, он, словно вдруг вспомнив что-то, взглянул на часы и тотчас же с укоризненной миной повернулся к ассистировавшей ему сестре. — Мисс Джадсон, — холодно и резко проговорил он. — Вы меня подвели. Сейчас без двадцати двенадцать, а вы отлично знали, что ровно в половине двенадцатого у меня консилиум с доктором Хэдли. Могу себе представить, как он меня клянет. Вы же знаете его сварливый характер. Мисс Джадсон кивнула головой с видом смиренным и раскаянным; казалось, она сознает свою вину и понимает, как важен был этот консилиум, на самом же деле она только отлично знала своего патрона, о встрече же, назначенной на половину двенадцатого, сейчас услыхала впервые. — Доктор Хэдли принимает в этом же самом здании, — объяснил Доутри доктор Эмори. — На разговор нам потребуется минут пять, не более. Мы с ним разошлись во мнениях. Он поставил диагноз — хронический аппендицит и настаивает на операции, я же считаю, что это пиорея [26], из полости рта перекинувшаяся на желудок, и что смазывание рта эметином окажет целительное действие и на желудок. Вы, конечно, во всех этих вещах не разбираетесь, но дело в том, что я уговорил доктора Хэдли вызвать еще и доктора Гренвилля, зубного врача, специалиста по пиорее. Теперь они оба вот уже десять минут дожидаются меня! Мне надо бежать! — Я вернусь через пять минут! — крикнул он уже в дверях. — Мисс Джадсон, скажите, пожалуйста, пациентам, ожидающим в приемной, чтобы они не беспокоились. Он вошел в кабинет доктора Хэдли, где и в помине не было больного, страдающего то ли аппендицитом, то ли пиореей, снял телефонную трубку и позвонил сначала председателю городского санитарного управления, потом начальнику полиции. Ему повезло: он застал обоих на месте и, называя их запросто, по имени, сделал тому и другому какое-то секретное сообщение. Вернулся он к себе в превосходном расположении духа. — Я ему так прямо и сказал, — доверительно обратился он к мисс Джадсон, а заодно и к Доутри. — Доктор Гренвилль поддержал меня. Разумеется, типичная пиорея. Операция отменяется. Сейчас они уже смазывают ему эметином гнойники на деснах. А приятно, когда подтверждается твоя правота. Теперь я заслужил сигару. Верно ведь, мистер Доутри? Доутри утвердительно кивнул, и доктор Эмори закурил толстую гавану, продолжая похваляться своим вымышленным торжеством над собратом по профессии. За этой болтовней он, видимо, позабыл про сигару и, небрежно облокотившись о кресло, не заметил, что горящий кончик ее уперся в один из скрюченных пальцев Квэка. Быстрый кивок в сторону мисс Джадсон, единственной, от кого это не укрылось, послужил ей предупреждением — не удивляться, что бы ни произошло. — Вы понимаете, мистер Доутри, — оживленно повествовал Уолтер Меррит Эмори, гипнотизируя стюарда взглядом и не отнимая кончика сигары от пальца Квэка, — чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что к операциям у нас часто прибегают непродуманно и чересчур поспешно. Огонь продолжал жечь живое человеческое тело, и тоненькая струйка дыма, поднимавшаяся от пальца Квэка, по цвету резко отличалась от дыма сигары. — Возьмем хотя бы этого пациента доктора Хэдли. Я спас его не только от риска, связанного с операцией аппендицита, но также от расходов на врачей и лечебницу. Я, конечно, ничего с него за это не возьму. Доктор Хэдли ограничится весьма скромным гонораром. Доктор Гренвилль будет лечить его пиорею эметином за какие-нибудь несчастные пятьдесят долларов. Итак, я не только спас его от опасности и волнений, связанных с операцией, но сохранил этому человеку по меньшей мере тысячу долларов, которые пошли бы на оплату хирурга, лечебницы и сиделок. Покуда он говорил, по-прежнему не сводя с Доутри гипнотизирующего взгляда, в воздухе запахло горелым мясом. Доктор Эмори с удовлетворением вдыхал этот запах. Мисс Джадсон тоже почуяла его, но, памятуя о полученном предупреждении, не подала виду. Она не оглядывалась на Квэка, хотя этот запах явственно говорил о том, что сигара по-прежнему жжет его палец. — Пахнет чем-то паленым! — вдруг спохватился Доутри, втягивая ноздрями воздух и озираясь вокруг. — Дрянь сигара, — отвечал доктор Эмори. Он отнял ее от пальца Квэка и принялся неодобрительно разглядывать, потом поднес к носу, и физиономия его приняла брезгливое выражение. — Только что не капустные листья, но вообще какая-то пакость, которой я не знаю да и знать не хочу. Черт знает что! Выпускают новый сорт сигар из действительно прекрасного табака, а как только он получает распространение, начинают подмешивать низкопробный табак. Благодарю покорно! С сегодняшнего дня я меняю марку! С этими словами он швырнул сигару в плевательницу. А Квэк, полулежавший в самом удивительном кресле, которое ему когда-либо пришлось видеть, понятия не имел, что палец его прожжен на полдюйма в глубину, и только ждал, когда же этот доктор кончит наконец болтать и приступит к осмотру опухоли, от которой у него ломит всю руку. И тут впервые в жизни, но уже навек, Дэг Доутри потерпел поражение, поражение окончательное и непоправимое. Вольная жизнь с плаванием по бурным морям, где дуют пассаты, колеблющаяся палуба под ногами, недолгие стоянки в портах — все это кончилось здесь, во врачебном кабинете Уолтера Меррита Эмори, покуда невозмутимая мисс Джадсон удивлялась, как это может человек даже не поморщиться, когда его руку жарят на медленном огне. Доктор Эмори, продолжая свои разглагольствования, закурил новую сигару и, несмотря на то, что приемная его была переполнена ожидающими своей очереди пациентами, даже произнес пространный и в высшей степени поучительный монолог о табачных плантациях и о способах обработки табака в странах, где он лучше всего произрастает. — Что касается опухоли, — начал он, наконец-то приступая к осмотру Квэка, — то на первый взгляд это, по-моему, не доброкачественная опухоль, не рак и даже не фурункул. Я считаю… Стук в запертую боковую дверь заставил его выпрямиться с откровенной поспешностью. Мисс Джадсон, которую он кивком головы послал открыть дверь, впустила в кабинет двух полисменов, сержанта полиции и какого-то усатого субъекта в сюртуке и с гвоздикой в петлице. — Добрый день, доктор Мастерс, — приветствовал доктор Эмори усатого субъекта. — Мое почтение, сержант! Здравствуй, Тим! Здравствуй, Джонсон, давно ли тебя перевели к нам из Китайского квартала? Затем Уолтер Меррит Эмори, погруженный в рассматривание опухоли Квэка, продолжил прерванную сентенцию: — Как уже было сказано, я считаю, что это самая типичная, созревшая язва, вызванная bacillus leprae, которую какой-либо врач имел честь продемонстрировать органам санитарного надзора в Сан-Франциско. — Проказа! — крикнул доктор Мастерс. При этом слове все вздрогнули. Сержант и оба полисмена отпрянули от Квэка, мисс Джадсон, подавляя крик, обеими руками схватилась за сердце; ошеломленный, но все еще не веря своим ушам, Дэг Доутри спросил: — Что это вы там плетете, док? — Стоп! Ни с места! — повелительно крикнул ему Уолтер Меррит Эмори. — Заметьте себе, прошу вас, — обратился он к остальным, прикасаясь кончиком зажженной сигары к темному пятнышку между бровями стюарда. — Сидеть смирно! — скомандовал он ему. — Подождите! Я еще не кончил. И покуда Доутри, потрясенный, растерянный, дожидался, когда же доктор приступит к каким-нибудь манипуляциям, огонь жег его лоб так, что запах горелого мяса уже начал щекотать ноздри присутствующих. Доктор Эмори торжествующе рассмеялся и отступил на несколько шагов. — Ну, делайте же скорей, что вам надо, — буркнул Доутри; события развертывались с такой быстротой и так странно, что он не успел собраться с мыслями. — А когда кончите, объясните мне, ради бога, что вы там говорили насчет проказы и моего негра. Это мой негр, и я не позволю клепать на него и на меня… — Джентльмены, вы сами видели, — сказал доктор Эмори. — Два несомненных случая — хозяин и слуга: у слуги более поздняя стадия, при соединении двух форм, у хозяина — безболезненная форма, — у него тоже поражен мизинец. Уберите их. Доктор Мастерс, я настаиваю на тщательной дезинфекции кареты, после того как они будут доставлены на место. — Да послушайте… — заносчиво начал Дэг Доутри. Доктор Эмори предостерегающе взглянул на доктора Мастерса, доктор Мастерс, в свою очередь, с начальнической строгостью поглядел на сержанта, сержант бросил повелительный взгляд на обоих полисменов. Однако те не только не ринулись на Доутри, но, напротив, попятились от него, подняв свои дубинки, и метнули на него грозный взгляд. Поведение полисменов было для Доутри убедительнее всяких слов. Они явно боялись прикоснуться к нему. Когда он шагнул к ним, они вытянули свои дубинки и ткнули Доутри под ребра, чтобы удержать его на должном расстоянии. — Не приближаться! — скомандовал один из них, замахиваясь дубинкой. — Стоять на месте и ждать приказаний! — Надень рубаху и встань рядом со своим хозяином, — приказал Квэку доктор Эмори; он внезапно поднял кресло, и Квэк поневоле соскользнул с него. — Ради всего святого, скажите… — начал было Доутри. Но недавний друг, не слушая его, обратился к доктору Мастерсу: — Чумной барак пустует с тех пор, как умер тот японец. Я знаю, что ваш департамент — банда трусов, и поэтому советую дать этим двум дезинфицирующие средства, — пусть сами потрудятся. — Ради господа бога, — взмолился Доутри; ошеломленный ужасом, который свалился на него, стюард утратил всю свою заносчивость. Он прикоснулся пальцем к онемелому месту на лбу, потом понюхал палец и почуял запах горелого мяса, хотя не чувствовал, когда его жгли. — Ради господа бога, не спешите так. Раз уж я подцепил эдакую штуку — ничего не поделаешь. Но ведь это не значит, что мы не можем договориться, как белый с белым. Дайте мне два часа, и я смотаюсь из Сан-Франциско. А через сутки меня уже не будет в этой стране. Я сяду на корабль и… — И будете представлять угрозу общественному здоровью, где бы вы ни находились, — перебил его доктор Мастерс, которому уже мерещились столбцы вечерних газет с сенсационными заголовками, прославляющие его как героя, как святого Георгия, во имя спасения человечества пронзающего своим копьем дракона проказы. — Уведите их, — проговорил Уолтер Меррит Эмори, стараясь не смотреть Доутри в глаза. — Вперед! Марш! — скомандовал сержант. Полисмены с резиновыми дубинками подступили к Доутри и Квэку. — Живей поворачивайся! — свирепо гаркнул один из них. — Слушать команду, а не то голову размозжу! Пошли! Живо вон отсюда! Прикажите черномазому идти рядом с вами. — Док, дайте хоть слово сказать! — умоляюще воскликнул Доутри. — Время разговоров прошло, — услышал он в ответ. — Вы изолированы от людей. Доктор Мастерс, когда сбудете их с рук, не забудьте о дезинфекции кареты. И вот процессия двинулась к выходу. Во главе врач из санитарного управления и сержант, сзади два полисмена, в целях самозащиты вытянувшие перед собой дубинки. В дверях Доутри, рискуя, что ему размозжат голову, вдруг круто обернулся и крикнул: — Док! Моя собака! Вы ее знаете! — Я пришлю ее вам, — быстро согласился доктор Эмори, — скажите ваш адрес. — Клей-стрит, меблированные комнаты Баухэд, номер восемьдесят семь; вы знаете этот дом — за угол от салуна Баухэд. Пришлите его мне, куда бы они меня ни засадили. Идет? — Ну, конечно, пришлю, — отвечал доктор Эмори. — У вас, кажется, есть еще и попугай? — Да, да. Кокки! Пришлите мне обоих, будьте так добры, сэр! — Бог мой! — в тот же вечер говорила мисс Джадсон, сидя за обедом с неким молодым врачом из больницы святого Иосифа. — Доктор Эмори прямо-таки кудесник. Не удивительно, что он преуспевает в жизни. Подумать только: сразу два гнусных прокаженных в нашем кабинете! Один из них негритос. Не успел доктор взглянуть на них, как уже понял, в чем дело. Он ужасный человек. Если бы вы только знали, что он проделывал своей сигарой! И какая находчивость! Мне он подал знак! Они и не подозревали, что он с ними вытворяет. Нет, вы только себе представьте, берет сигару и…
Глава двадцатая
Собака, равно как и лошадь, подлеца делает еще подлее. Уолтер Меррит Эмори был подлецом, а желание завладеть Майклом приумножило меру его подлости. Если бы не Майкл, все его поведение было бы иным. Он поступил бы с Доутри, говоря словами последнего, «как белый с белым». То есть, сказав Доутри о его болезни, предоставил бы ему возможность уехать в Южные моря или в Японию, — иными словами, в страны, где прокаженные не подвергаются изоляции. Это не явилось бы неблаговидным поступком по отношению к тамошним жителям, ибо таков закон и обычай их родины, а Доутри и Квэк избегли бы ада чумного барака в Сан-Франциско, на пожизненное пребывание в котором обрек их этот подлец. И далее, если учесть расходы по содержанию вооруженной охраны, на протяжении долгих лет день и ночь стерегущей чумной барак, то Уолтер Меррит Эмори сберег бы много тысяч долларов налогоплательщикам города и округа Сан-Франциско, а эти деньги, истраченные на другие цели, дали бы возможность расширить тесные школьные помещения, напоить детей бедняков неразбавленным молоком или же разбить парки, в которых могли бы вольнее вздохнуть жители душных трущоб. Но если бы Уолтер Меррит Эмори обо всем этом подумал, то за море уехал бы не только Доутри и Квэк, а, без всякого сомнения, и Майкл. Никогда еще врач с такой быстротой не выпроваживал пациентов, как доктор Эмори, после того как дверь его кабинета закрылась за полисменами, уводившими Дэга Доутри. Не успев даже позавтракать, он сел в свою машину и покатил в портовый район, к меблированным комнатам Баухэд. По пути доктор, имевший немалые политические связи, захватил с собой капитана сыскной полиции. Его присутствие оказалось весьма нужным, так как хозяйка меблированных комнат решительно запротестовала против увода собаки, принадлежащей ее недавнему жильцу. Но, поскольку капитан Миликен был ей хорошо известен, она склонилась перед законом, олицетворением которого он ей казался, хотя о том, что такое закон, точного представления не имела. Когда Майкла на веревке выводили из комнаты, с подоконника, где сидел крохотный белоснежный какаду, послышалось жалобное напоминание: — Кокки! Кокки! Уолтер Меррит Эмори оглянулся, и нерешительность на мгновение овладела им. — Мы пришлем за птицей немного погодя, — сказал он, и хозяйка, которая, все еще громко сокрушаясь, провожала их вниз по лестнице, не заметила, что Миликен по небрежности неплотно закрыл дверь в комнаты Доутри.
Но Уолтер Меррит Эмори был не единственный подлец, которого желание завладеть Майклом сделало еще подлее. В яхт-клубе Гарри Дель Map, развалившись в глубоком кожаном кресле и положив вытянутые ноги на другое такое же кресло, полусонный после весьма плотного завтрака, лениво просматривал свежие дневные газеты. Но вот его взгляд упал на заголовок, набранный крупными буквами над маленькой заметкой строчек в пять. Ноги его мигом соскользнули с кресла, и он вскочил. Подумав секунду, не более, он снова опустился на прежнее место, нажал кнопку электрического звонка и в ожидании прихода лакея перечитал заголовок и пять коротеньких строчек под ним. В такси, несшемся в портовый район, перед внутренним взором Гарри Дель Мара вставали золотые видения. Они принимали образ то золотых монет ценностью в двадцать долларов, то желтых банковых билетов Соединенных Штатов Америки, то чековых книжек или купонов, к которым надо было только прикоснуться ножницами; но все это преломлялось сквозь одно видение — жесткошерстного ирландского терьера на залитой огнями эстраде, который, задрав морду кверху, пел, все время пел так, как до него не пел ни один пес на свете. Кокки первый заметил, что дверь приотворена, и смотрел на нее в раздумье (если «раздумьем» можно назвать душевное состояние птицы, когда в ее сознании каким-то таинственным образом откладываются новые впечатления и она готовится к действию или к воздержанию от действия, в зависимости от того, как эти внешние впечатления на нее влияют). Когда то же происходит с людьми, они именуют это «свободной волей».
Кокки, уставившись на приоткрытую дверь, как раз решал: стоит или не стоит поподробнее обследовать эту щелочку в большой мир и, в зависимости от результатов этого обследования, либо воспользоваться ею, либо нет, но тут его глаза встретились с глазами другого обследователя этой же щелки. То были хищные желто-зеленые глаза, они рыскали среди света и тени комнаты, и зрачки их то расширялись, то суживались. Кокки мгновенно понял опасность — опасность неминуемой насильственной смерти. Но он ничего не предпринял. Сердце его не забилось сильнее. Не шевелясь и скосив один глаз, он пристально смотрел этим одним глазом на голову тощей уличной кошки, просунувшуюся в щель. Настороженные, то расширяющиеся, то суживающиеся, быстрые, бдительные и хитрые, эти глаза с вертикальными зрачками, прорезанными на изумительном зелено-желтом фоне, шарили по комнате. При виде Кокки они остановились. По выражению морды ясно было видно, что кошка замерла, прижалась к земле и изготовилась к прыжку. Взгляд ее уподобился взгляду сфинкса, устремленному вдаль, поверх извечных и нескончаемых песков пустыни. Казалось, она смотрит так уже века, тысячелетия. Кокки тоже замер. Он не прикрыл пленкой свой скошенный глаз и головку по-прежнему держал склоненной набок, ни одно перышко на нем не шелохнулось, не выдало ужаса, охватившего его. Оба эти существа окаменели, глядя друг на друга взглядом охотника и затравленного зверя, хищника и жертвы, мясника и предназначенной к убою скотины. Так смотрели они долгие минуты, покуда голова, просунувшаяся в дверь, не дернулась слегка и не исчезла. Умей птица вздыхать, Кокки бы вздохнул с облегчением. Но он, не шевелясь, прислушивался к неторопливым шаркающим шагам человека, раздавшимся в коридоре и скоро замершим в отдалении. Прошло несколько минут, и призрак с такою же внезапностью возник снова; но на этот раз показалась не только голова — в дверь пролезло извивающееся туловище, и зверь улегся на середине комнаты. Взгляд его опять вонзился в Кокки, вытянутое тело застыло, и только длинный хвост сердито, отрывисто и монотонно барабанил по полу. Не спуская глаз с Кокки, кошка медленно подкрадывалась к подоконнику и футах в шести от него замерла вновь. Только хвост ее ходил из стороны в сторону да глаза, восприняв яркий свет, струившийся из окна, искрились, словно драгоценные камни; зрачки их сузились в почти неприметные черные полоски. И Кокки, который не мог, конечно, иметь ясного человеческого представления о смерти, тем не менее понял, что конец неумолимо приближается. Заметив, что кошка изготовилась к прыжку, Кокки, этот храбрый комочек жизни, впервые обнаружил свой отчаянный и, конечно, вполне простительный страх. — Кокки, Кокки! — жалостно крикнул он глухим, бесчувственным стенам. Крик этот, обращенный ко всем сильным в этом мире, к могущественным двуногим созданиям и прежде всего к стюарду, к Квэку, к Майклу, означал: «Это я, Кокки, я так мал и так хрупок, чудовище хочет пожрать меня, а я люблю свет, волю, и я хочу жить, хочу продолжать жизнь в этом светлом мире, я ведь так мал, и я доброе создание, с добрым сердечком, где уж мне бороться с этим огромным, косматым, голодным зверем, который сейчас сожрет меня. Я прошу: помогите, помогите, помогите! Я Кокки! Все знают меня. Я Кокки!» Это и еще многое другое значил его двукратный вскрик: «Кокки! Кокки!» Глухие стены не откликнулись, не откликнулся и пустой коридор и весь остальной мир; но миг отчаянного страха уже прошел, и Кокки вновь стал храбрым маленьким какаду. Он недвижно сидел на подоконнике, склонив головку набок, одним немигающим глазом уставившись в пол, где до ужаса близко сидел извечный враг его племени. Звук его голоса, столь похожего на человеческий, поразил кошку; она помедлила с прыжком, прижала уши и распласталась на полу. В наступившей тишине слышалось только назойливое жужжание большой мясной мухи да время от времени громкие удары ее тельца об оконное стекло — свидетельство того, что и она переживала трагедию: трагедию узника, которого прозрачная преграда отрешает от светлого мира, сияющего так близко. Но и у кошки были свои страдания, и ей трудно давалась жизнь. Голод мучил ее и иссушал ее сосцы, которые должны были питать семерых слабеньких, едва попискивающих котят, точного повторения ее самой, если не считать того, что они еще слепы и до смешного неуверенно ступают на своих тоненьких младенческих лапках. Почувствовав режущую боль в пустых сосцах, она инстинктивно вспомнила о котятах и благодаря какому-то таинственному процессу в мозгу словно воочию увидела их сквозь сломанную решетку вентилятора, в самом темном углу погреба, на куче тряпья под лестницей, где она устроила свое логовище и произвела на свет детенышей. Воспоминание о котятах и новый приступ голода стряхнули с нее оцепенение; она вся подобралась и глазами измерила расстояние для прыжка. Но Кокки уже опять был самим собой. — Черт побери! Черт побери! — крикнул он громко и воинственно, точно театральный злодей, так что кошка от испуга ниже припала к земле, плотно прижала уши, забила хвостом и завертела головой, стараясь взглядом проникнуть в самые темные уголки комнаты, где, видно, спрятался вскрикнувший сейчас человек. Тощая кошка проделала все это, хотя человеческий голос явно исходил от беленькой птички на подоконнике. Мясная муха еще раз ударилась о невидимую стену своей тюрьмы. Отощавшая кошка изготовилась и прыгнула на то самое место, где секунду назад сидел Кокки. Кокки отпрянул, но в это самое мгновение кошка зацепила его лапой, и Кокки взлетел, беспомощно трепыхая в воздухе своими непривычными к полету крылышками. Кошка поднялась на задние лапы и передней лапкой сделала движение, похожее на движение ребенка, когда он шляпой пытается поймать бабочку. Но лапка ее имела немалый вес и когти, цепкие, как крючки. Схваченный в воздухе этой лапкой, Кокки, рассыпающийся комок белых перышек, упал. Легчайшие перышки, как снежные хлопья, закружились в воздухе и стали падать медленно, медленно, но на спину кошки они ложились свинцовой тяжестью. Некоторые из них застревали в шерсти, раздражая ее и без того натянутые нервы, так что она еще ниже припадала к земле и пугливо озиралась — не грозит ли из-за угла какая-нибудь опасность.
Глава двадцать первая
Гарри Дель Мар не нашел в комнате Дэга Доутри ничего, кроме нескольких белых перышек, а от хозяйки узнал, что сталось с Майклом. Первым делом Гарри Дель Map, предусмотрительно не отпустивший такси, поехал к дому доктора Эмори и убедился, что Майкл действительно заперт там в маленьком сарайчике на заднем дворе. Затем он взял билет на пароход «Уматилла», отходивший на рассвете следующего дня в Сиэтл, и наконец расплатился по счетам и упаковал свой багаж. Тем временем в кабинете Уолтера Меррита Эмори происходила словесная баталия. — Этот человек прямо волком воет, — твердил доктор Мастерс. — Полицейским пришлось дубинками загонять его в санитарную карету. Он был вне себя, требуя свою собаку. Так не годится. Это слишком жестоко. Вы не имеете права, пользуясь обстоятельствами, присваивать себе его собаку. Он поднимет крик в газетах. — Фью! — свистнул Уолтер Меррит Эмори. — Хотел бы я посмотреть на репортера, у которого хватит храбрости отправиться в чумной барак для собеседования с прокаженным, и хотел бы я также посмотреть на редактора, который тотчас же не швырнет в огонь письмо, узнав, что оно пришло из чумного барака (если даже допустить, что этому Доутри удастся как-нибудь обойти охрану и отправить его). Так что, док, не волнуйтесь. В газетах шум не поднимется. — Ну, а проказа? Общественная безопасность? Собака долгое время с ним соприкасалась. Она сама является ходячим источником заразы… — Инфекции, док. Это термин, да и звучит лучше, — с видом превосходства перебил его Уолтер Меррит Эмори. — Пусть инфекции, — согласился доктор Мастерс. — Мы обязаны заботиться об общественном благе. Население не должно подвергаться опасности заражения… — Инфекции, — спокойно поправил его собеседник. — Называйте как хотите. Население… — Чепуха! — заявил Уолтер Меррит Эмори. — То, чего вы не знаете о проказе и чего не знают все остальные работники санитарного управления, может дать материал для большего количества книг, чем до сих пор написано людьми, специально посвятившими себя изучению этой болезни. А им известно, что все попытки привить проказу животному неизменно кончались и кончаются полной неудачей. Они тысячи, сотни тысяч раз пытались привить ее лошадям, кроликам, крысам, ослам, обезьянам, мышам, собакам — все тщетно! Более того, им ни разу не удалось привить проказу от одного человека другому. Вот читайте сами. И Уолтер Меррит Эмори стал доставать из книжного шкафа труды специалистов по проказе. — Удивительно… В высшей степени интересно!.. — то и дело восклицал доктор Мастерс, просматривая, по указанию доктора Эмори, те или иные страницы. — Никогда не предполагал… такое количество ученых трудов… и тем не менее, — заключил он, — все ваши книги не переубедят профанов. Мне тоже не удастся переубедить наших жителей. Да я и пытаться не буду. Не говоря уже о том, что человек этот обречен до конца своих дней жить живым мертвецом в чумном бараке. Вы-то знаете, что это за местечко. Он любит своего пса, он прямо помешан на нем. Отдайте ему собаку. Это низость, жестокость, и я вам в таком деле помогать не стану. — Нет, станете, — холодно заверил его Уолтер Меррит Эмори, — и я вам даже скажу, почему. И он сказал. Сказал то, что ни один врач не должен был бы говорить другому, но что зачастую говорят друг другу политиканы. Повторять эти разговоры не стоит хотя бы потому, что они слишком унизительны и уж никак не могут способствовать развитию чувства собственного достоинства у среднего американца; это внутренние дела, секреты муниципальных управлений, которые выбираются средними американцами, убежденными в том, что это «свободные выборы»; такие дела редко, очень редко всплывают на поверхность, да и то лишь затем, чтобы тотчас же быть похороненными в многотомных отчетах всевозможных комитетов Лексо и федеральных комиссий.
Итак, во-первых, Уолтер Меррит Эмори, не посчитавшись с доктором Мастерсом, присвоил Майкла; во-вторых, в ознаменование своего торжества повез жену обедать к Жюлю, а потом в театр смотреть Маргарет Энглен и, в-третьих, вернувшись домой в час ночи, вышел в пижаме еще раз взглянуть на Майкла, но Майкла уже не обнаружил.
Чумной барак в Сан-Франциско, как и все чумные бараки во всех американских городах, был построен на самом грязном отдаленном заброшенном пустыре, на самой дешевой из всех принадлежащих городу земель. На этом почти не защищенном с моря пространстве среди песчаных дюн выли холодные ветры, и береговой туман затягивал все вокруг. Веселые компании не приезжали сюда на пикники, мальчишки не искали здесь птичьих гнезд и не играли в диких индейцев. Если кто-нибудь и забредал сюда, то разве что самоубийцы: устав от жизни, они выискивали ландшафт попечальнее, декорацию, подходящую для окончательных расчетов с жизнью. А совершив задуманное, уже, разумеется, своих посещений не повторяли. Вид из окон барака был безрадостный. На четверть мили в обе стороны Доутри не видел ничего, кроме однообразных песчаных холмов да будок, в которых размещалась вооруженная охрана; каждый из этих солдат, безусловно, скорее застрелил бы сбежавшего чумного, чем дотронулся до него руками, и, уж конечно, не стал бы его уговаривать вернуться в неволю. Напротив окон, в некотором отдалении, росли деревья. Это были эвкалипты, но до чего же непохожие на своих царственных собратьев, произрастающих на родимой почве! Редко посаженные, неухоженные, искалеченные в тяжелой борьбе с чуждыми климатическими условиями, они, точно агонизируя, протягивали в воздух свои кривые, уродливые сучья. Вдобавок они были еще и низкорослы, так как значительная часть скудной влаги, выпадавшей на их долю, поглощалась корневищами, глубоко вросшими в песок, для того, чтобы деревья могли противостоять штормам. Доутри и Квэку не разрешалось доходить даже до будок. Пограничная линия для них проходила в ста ярдах от барака. Стражники торопливо приносили сюда запасы продовольствия, лекарства, письменные врачебные предписания и еще торопливее удалялись. Здесь же находилась грифельная доска, на которой Доутри разрешалось — крупными буквами, чтобы видно было издали, — писать свои пожелания и требования. И на этой доске уже много дней кряду он писал не просьбы о доставке пива, хотя его шестиквартовый режим и был внезапно нарушен, а воззвания вроде следующих:
Где моя собака?
Это ирландский терьер!
Жесткошерстный!
Кличка — Киллени-бой!
Я хочу получить свою собаку!
Мне нужно переговорить с доктором Эмори!
Пусть доктор Эмори напишет мне, что с собакой.
Если мне не вернут собаку, я убью доктора Эмори.
Глава двадцать вторая
Темной ночью Майкл сравнительно охотно последовал за Гарри Дель Маром, хотя и не любил этого человека. Неслышно, с бесконечными предосторожностями, словно вор, прокрался Дель Map к сарайчику на заднем дворе доктора Эмори, где сидел в плену Майкл. Дель Map достаточно знал сцену, чтобы прибегать к дешевым мелодраматическим эффектам вроде карманного электрического фонарика. В потемках он ощупью отыскал дорогу к двери сарайчика, отпер ее и тихонько вошел, стараясь руками нащупать жесткую шерсть Майкла. И Майкл, собака-человек и собака-лев по всем своим повадкам, ощетинился при этом неожиданном вторжении, но не издал ни звука. Он только обнюхал вошедшего и немедленно признал его. Не любя Дель Мара, он тем не менее дал обвязать себе шею веревкой и тихо пошел за ним по тротуару за угол, где их ожидало такси. Рассуждал Майкл — если признать за ним способность рассуждать — очень просто. Этого человека он не раз видел в обществе стюарда. Стюард дружил с этим человеком: они сидели за одним столом и вместе пили. Стюард исчез. Майкл не знал, где искать его, да и сам попал в плен и сидел на заднем дворе какого-то незнакомого дома. То, что однажды случилось, может повториться. Случалось ведь, что стюард, Дель Мар и Майкл вместе сидели за столом. Возможно, что это повторится, повторится сейчас, и опять они окажутся в ярко освещенном кабачке, и он, Майкл, будет сидеть на стуле — по одну его сторону Дель Мар, по другую обожаемый стюард, перед которым стоит неизменная кружка пива. Вот к какому «умозаключению» пришел Майкл, и согласно этому умозаключению он и действовал. Разумеется, Майкл не мог додуматься до такого логического вывода, и тем более не мог додуматься в словах. Слова «дружба» в его сознании не существовало. А что привело его к этому выводу — быстро сменяющиеся в воображении образы и картины или мгновенный сплав образов и картин, — это проблема, которая еще не разрешена человеком. Важно одно: он думал. Если отрицать в нем способность мышления, то, следовательно, он действовал чисто инстинктивно, а это в данном случае было бы еще более удивительно, чем то, что в его мозгу происходил какой-то неясный нам мыслительный процесс. Так или иначе, но в такси, мчавшемся по лабиринту улиц Сан-Франциско, Майкл настороженно лежал на полу у ног Дель Мара, не проявляя какого-либо дружелюбия по отношению к нему, но и не подавая вида, что этот человек внушает ему отвращение. Гарри Дель Map был подлецом — он желал завладеть Майклом в целях наживы; и Майкл с первой минуты почуял его подлость. В первую же встречу, состоявшуюся в кабачке портового района, когда Дель Map положил руку ему на голову, Майкл ощетинился и замер в воинственной позе. Майкл вовсе не думал о нем тогда и не пробовал разобраться в своем отношении к нему, — просто что-то было неладно с рукой, небрежно и с виду так ласково его коснувшейся. Нехорошее ощущение вызвала в нем эта рука. Ее прикосновение было лишено теплоты и сердечности; передатчик мыслей и душевных движений человека, она свидетельствовала об его неискренности. Одним словом, сигнал, ею переданный, или чувство, ею вызванное, было нехорошим сигналом, нехорошим чувством, — и Майкл весь сжался и ощетинился не от своих мыслей, а от «знания», или, как говорят люди, «по интуиции». Электрические фонари, пристань под навесом, горы багажа и груза, суета грузчиков и матросов, громкое пыхтение лебедок, скрип подъемных кранов, стюарды в белых куртках, несущие ручной багаж, помощник капитана у сходней, сходни, круто взбегающие на верхнюю палубу «Уматиллы», опять штурманы и офицеры с золотыми нашивками, толпа, сутолока и неразбериха на узком пространстве палубы — все это окончательно убедило Майкла в том, что он вернулся к морю, на судно, а ведь на судне он впервые встретил стюарда и уже не разлучался с ним до этих кошмарных дней в большом городе. Образы Квэка и Кокки тоже продолжали жить в его сознании. Повизгивая от нетерпения, он рвался на сворке, не боясь, что равнодушные, торопливо шагающие, обутые в кожу людские ноги отдавят его нежные лапы, он искал, разнюхивал следы Кокки и Квэка, но прежде всего, конечно, стюарда. Не встретив их, Майкл покорно принял чувство разочарования, ибо понятие о том, что собака должна служить человеку, внушенное ему с младенчества, облеклось в форму бесконечного терпения. Он научился терпеливо ждать, когда ему хотелось домой, а стюард продолжал сидеть за столом, болтать и пить пиво, так же как научился покорно сносить веревку вокруг шеи, останавливаться перед изгородью, слишком для него высокой, и смиряться с сидением в комнате, снабженной дверью, которую он никогда не сумел бы отпереть и которую с такой легкостью отпирали люди. Поэтому он позволил увести себя судовому мяснику, которому на «Уматилле» была поручена забота о пассажирских собаках. В низком межпалубном пространстве, заваленном ящиками и тюками, привязанный веревкой, обвивавшей его шею, он с минуты на минуту ждал, что вот сейчас распахнется дверь и перед ним предстанет ослепительное видение — стюард, мечта о котором владела его сознанием. Но вместо стюарда — позднее Майкл усмотрел в этом некое проявление могущества Дель Мара — появился поощренный солидными чаевыми судовой мясник, отвязал его и передал с рук на руки не менее щедро награжденному служителю, который и отвел Майкла в каюту Дель Мара. До последнего мгновения Майкл был убежден, что его ведут к стюарду, но, увы, в каюте сидел Дель Map. — Нет, нет стюарда! — вот как можно было бы выразить мысль Майкла; но терпение, как долг и основа поведения собаки, заставило его покорно отнестись к новой отсрочке встречи со своим божеством, своим возлюбленным, своим стюардом, который был его собственным богом в образе человеческом среди всей этой толпы богов. Майкл повилял хвостом, прижал одно ухо, по мере сил даже второе, сморщился и улыбнулся — словом, сделал все, что полагается делать в знак приветствия; потом он обнюхал каюту и, окончательно убедившись в отсутствии стюарда, улегся на палубе. Когда Дель Мар заговорил, он внимательно уставился на него. — Итак, друг мой, настали иные времена, — холодным, резким тоном объявил Дель Map. — Я собираюсь сделать из тебя актера и заодно вправить тебе мозги. Начнем с самого простого… Поди сюда! Поди сюда! Майкл приблизился к нему не торопливо, не слишком медленно, но явно неохотно. — Придется тебе смириться, голубчик, и живей пошевеливаться, когда я с тобой разговариваю, — заметил Дель Map; и в том, как он произнес эти слова, Майкл уже расслышал угрозу. — Ну, а сейчас посмотрим, удастся ли нам номер. Слушай меня и пой, как ты пел для того прокаженного. Он достал из кармана гармошку, приложил ее к губам и заиграл «В поход, в поход по Джорджии». — Сидеть! — скомандовал Дель Мар. И Майкл опять повиновался, хотя все его существо негодовало. Он затрепетал, когда резкие, но сладостные звуки коснулись его ушей. Его горло, его грудь уже приготовились запеть, но он сдержал себя, так как не хотел петь для этого человека. Он хотел от него только одного — стюарда. — Э-ге, да ты, кажется, упрямишься? — Дель Мар уже явно глумился над ним. — Ну, конечно, ты ведь чистопородный пес, а с вашим братом это часто случается. Но я все-таки полагаю, что справлюсь с тобой, и ты будешь работать на меня, так же как работал на того дурака. А теперь за дело! На этот раз он заиграл «На биваке». Но Майкл упорствовал. И только когда трогательная мелодия «Мой старый дом в Кентукки» пронизала все его существо, он потерял самообладание и издал мягкий, мелодичный вой, вой, который звучал как призыв, сквозь тысячелетия обращенный к утраченной собачьей стае. Под гипнотизирующим воздействием этих звуков он не мог не испытывать жгучей тоски по далекой, позабытой стайной жизни, когда мир был молод и стая была стаей, еще не потерявшейся в нескончаемой чреде столетий, прожитых собакой подле человека. — Ага! — насмешливо протянул Дель Мар, ничего не подозревавший о том, какие глубины седой древности всколыхнули серебряные трубочки его гармошки. Громкий стук в стену из соседней каюты дал ему знать, что они мешают спать какому-то пассажиру. — На сегодня хватит, — резко объявил он, отнимая гармошку от губ. Майкл умолк, полный ненависти. — Я тебя, голубчик мой, раскусил. И не воображай, пожалуйста, что я оставлю тебя здесь ночевать, чтобы ты искал блох и не давал мне покоя. Он позвонил и, когда явился служитель, велел ему отвести Майкла вниз, в темную и тесную дыру.
За несколько дней и ночей на «Уматилле» Майкл разобрался в том, какого рода человек был Гарри Дель Map. Можно, пожалуй, сказать, что он изучил всю генеалогию Дель Мара, хотя ничего о нем не знал. Так, например, он не знал, что настоящее имя Дель Мара Персиваль Грунский и что в начальной школе девочки называли его «шатенчиком», а мальчики «чернявчиком», так же как не знал, что Грунский, еще не окончив школы, попал в колонию для малолетних преступников, откуда по истечении двух лет был взят на поруки Гарри-сом Коллинзом, который зарабатывал себе на жизнь — кстати сказать, весьма недурную — дрессировкой животных. И уж подавно он не мог знать, что, работая в продолжение шести лет ассистентом при дрессировщике Коллинзе, Дель Map не только научился дрессировать зверей, но и сам непрестанно подвергался дрессировке. Зато Майкл отлично знал, что у Дель Мара нет родословной и что он полное ничтожество в сравнении с такими породистыми существами, как стюард, капитан Келлар и мистер Хаггин в Мериндже. Вывод этот напросился сам собой. Днем Майкла приводили на верхнюю палубу к Дель Мару, постоянно окруженному восторженными молодыми девицами и пожилыми дамами, которые буквально осыпали Майкла ласками и всевозможными выражениями нежности. Он покорно принимал их докучливые ласки, но когда с ним нежничал Дель Мар, ему становилось невмоготу. Он знал холодную неискренность этих ласк: ведь по вечерам, когда его приводили в каюту Дель Мара, голос этого человека был холоден и резок, от всего его существа веяло бедой и жестокостью, а руку Дель Мара Майкл ощущал как неодушевленный предмет, как кусок стали или дерева: ни души, ни теплого человеческого участия не чувствовалось в ее прикосновении. Этот человек был двуличен и двоедушен. Породистое существо с горячей кровью всегда искренне. А в этом ублюдке не было ни тени искренности. Породистому существу, в жилах которого течет горячая кровь, свойственна страстность; этот ублюдок не ведал страсти. Его кровь была холодна, и каждый поступок заранее обдуман и рассчитан. Конечно, Майкл всего этого не думал. Он просто постигал это, как всякое существо постигает себя в любви и нелюбви. Надо еще добавить, что в последнюю ночь на «Уматилле» этот лишенный человечности человек заставил Майкла изменить своим повадкам породистого животного. Дело дошло до битвы. И Майкл был побежден. Он царственно гневался и царственно сражался, ринувшись на приступ уже после того, как ему дважды был нанесен удар кулаком пониже уха. Несмотря на всю стремительность Майкла, поражавшего негров Южных морей своим умом и увертливостью, он так и не сумел вонзиться зубами в тело этого человека, в течение шести лет приобретавшего сноровку дрессировщика в заведении Гарриса Коллинза. Когда Майкл, оскалившись, бросился на Дель Мара, тот молниеносно вытянул правую руку, схватил его уже в воздухе за нижнюю челюсть, перекувырнул и изо всей силы бросил на спину. Майкл еще раз ринулся в атаку и снова был одним ударом брошен наземь с такой силой, что у него перехватило дыхание. Следующий прыжок едва не стал его последним прыжком. Майкла схватили за глотку. Большими пальцами правой и левой руки Дель Map сдавил его дыхательное горло возле сонной артерии, приток крови к мозгу прекратился, Майклу показалось, что это смерть, и он потерял сознание быстрее, чем его теряют под действием наркоза. Тьма заволокла все вокруг. Лежа на полу и весь дрожа мелкой дрожью, он лишь по прошествии некоторого времени стал вновь видеть свет, предметы в комнате и человека, небрежно подносящего спичку к сигарете и при этом исподтишка за ним наблюдающего. — Продолжай в том же духе, — подстрекал его Дель Map. — Я вашу породу знаю. Тебе меня не осилить. Может, конечно, и мне тебя не осилить, но работать на меня ты будешь. Валяй дальше! И Майкл дал подстрекнуть себя. Чистопородный пес, знавший, что в этом двуногом, который прибил его, не было ничего человеческого и что нападать на него так же бессмысленно, как грызть зубами стены комнаты, пень или скалу, он тем не менее сделал попытку вцепиться клыками ему в горло. Но то, против чего возмутился Майкл, было дрессировкой, законом укрощения. Опыт повторился. Большие пальцы человека сдавили горло Майкла, отогнали кровь от его мозга, и он опять погрузился во тьму. Будь Майкл не обыкновенным чистопородным псом, а чем-то большим, он продолжал бы яростно нападать на неуязвимого врага, нападать, покуда его сердце не разорвалось бы в груди или с ним не сделался бы нервный припадок. Но он был обыкновенным псом. Перед ним было существо неприступное и несокрушимое. Он так же не мог одержать над ним победу, как не мог бы одержать победу над асфальтовым тротуаром. Возможно, что это был сам черт, — ведь обладал же он жестокосердием и невозмутимостью, злобой и мудростью черта. Дель Мар был настолько же зол, насколько стюард был добр. Оба они были двуногими. Оба были богами. Но этот был богом зла. Конечно, Майкл так не рассуждал. Но на языке человеческой мысли то, что он испытывал по отношению к Дель Мару, звучало бы именно так. Будь Майкл вовлечен в битву с богом, у которого в жилах струится горячая кровь, он бы, беснуясь и не помня себя, набрасывался на противника, который, сам плоть и кровь, в свою очередь, давал бы и получал тумаки. Но этот двуногий бог-черт не знал ни слепой ярости, ни горячей страсти. Он был только хитроумной стальной машиной и проделывал то, чего Майкл не мог и заподозрить, так как на это способны лишь очень немногие люди, если не считать дрессировщиков: он предвосхищал каждую мысль Майкла и, следовательно, каждым своим действием предупреждал его действие. Этому искусству его научил Гаррис Коллинз — нежнейший, преданнейший супруг и отец, но с животными сущий дьявол, полновластно царящий в зверином аду, который он сам создал и обратил в доходное предприятие.
Сбегая по сходням в Сиэтле, Майкл от нетерпения так натягивал сворку, так задыхался и кашлял, что Дель Map холодно обругал его. Майкл надеялся на встречу со стюардом и начал искать его за первым же углом, а потом и за всеми углами с неослабевающим рвением. Но среди огромной толпы людей стюарда не было. В подвале отеля «Вашингтон», где круглые сутки горело электричество, Майкла отдали под надзор кладовщика и крепко-накрепко привязали среди гор сундуков и чемоданов, которые то и дело уносили и приносили, загоняли наверх, сбрасывали вниз, передвигали и устанавливали. Три злосчастных дня просидел он в этом подвале. Носильщики сдружились с ним и в изобилии приносили ему остатки пищи из ресторана. Но Майкл был слишком разочарован и убит горем, чтобы объедаться; а Дель Мар, однажды заглянувший туда в сопровождении директора отеля, учинил носильщикам форменный скандал за нарушение его инструкций по кормлению собаки. — Никудышный человек, — сказал старший носильщик своему помощнику, когда Дель Мар вышел. — Сам заелся так, что даже лоснится. Терпеть не могу жирных брюнетов. У меня жена хоть и брюнетка, да, слава богу, не жирная. — Что верно, то верно, — подтвердил помощник. — Я таких негодников знаю. Пырни его ножом — и из него не кровь потечет, а сало. После такого обмена мнениями они притащили Майклу двойную порцию мяса, к которому он не притронулся, ибо его снедала тоска по стюарду. Дель Мар же тем временем отправил две телеграммы в Нью-Йорк, первую Гаррису Коллинзу, в заведении которого он на время отпуска оставил своих собак: «Продайте моих собак. Вы знаете, что они умеют делать и сколько за них можно взять. Мне они больше не нужны. Удержите что следует за их содержание. Остаток вручите мне при встрече. Моя новая собака верх совершенства, а все мои прежние номера ничто. Небывалый успех обеспечен. Скоро убедитесь сами». Вторая телеграмма была адресована его антрепренеру: «Приступайте к делу. Ничего не жалейте на рекламу. Гвоздь сезона. Небывалый номер. Назначайте цены выше праздничных. Подготовляйте публику. Номер превзойдет все ее ожидания. Вы меня знаете. Я даром слов не трачу».
Глава двадцать третья
Клетка! Поскольку ее внес в подвал Дель Мар, Майкл немедленно заподозрил недоброе. Не прошло и минуты, как выяснилось, что его подозрения были не напрасны. Дель Map предложил ему войти в клетку, Майкл отказался. Быстрым движением схватив Майкла за ошейник, Дель Мар дернул его вверх и сунул в клетку, вернее, сунул его голову и шею, так как Майкл изо всех сил уперся передними лапами. Дрессировщик времени терять не любил. Левым кулаком он хватил Майкла по лапам — раз-раз! Майкл от боли ослабил упор и в следующее мгновение уже оказался в клетке; покуда он, рыча от негодования, тщетно пытался перегрызть прутья, Дель Мар уже запер тяжелую дверцу. Затем клетку вынесли и поставили в фургон, среди груды багажа. Дель Мар немедленно исчез, а двоих людей, которые остались в фургоне, уже подпрыгивавшем по булыжной мостовой, Майкл видел впервые. Он едва помещался в клетке и не мог даже поднять головы. Когда фургон встряхивало на ухабах, Майкл больно стукался головой о прутья. Вдобавок клетка была коротка, так что морда его тоже упиралась в прутья. Автомобиль, внезапно выскочивший из-за угла, заставил возчика резко нажать на тормоз. Майкла рвануло вперед. У него, увы, не было тормоза, чтобы задержать свое тело, если не считать тормозом его нежный нос, который, уткнувшись в железные прутья, остановил движение туловища. Майкл попытался лежать на этом ограниченном пространстве и почувствовал себя несколько лучше, хотя губы его, во время толчков с силой прижимавшиеся к зубам, были рассечены и кровоточили. Но худшее было еще впереди. Правая передняя лапа Майкла высунулась из клетки и легла на пол фургона, по которому со скрипом и грохотом перекатывались чемоданы. При следующем толчке один из чемоданов качнулся и сдвинулся с места, а когда его поволокло обратно, придавил Майклу лапу. Майкл взвыл от испуга и боли и инстинктивно попытался втащить лапу обратно в клетку. Это судорожное движение привело к вывиху плеча, боль в застрявшей между прутьями лапе стала нестерпимой. Слепой страх охватил Майкла — страх перед западней, одинаково свойственный как животным, так и людям. Майкл больше не выл, но, как безумный, метался и бился в клетке, еще больше напрягая связки и мускулы вывихнутого плеча и ноги. В своем ослеплении он тщился зубами перегрызть прутья, чтобы добраться до чудовища, цепко державшего его лапу. Спас Майкла следующий толчок; чемодан качнуло, и ему удалось наконец высвободить из-под него пораненную лапу. У вокзала клетку стали вытаскивать из фургона, не то чтобы сознательно грубо, но так небрежно, что она, едва не выскользнув из рук грузчика, перевернулась набок; по счастью, грузчик успел подхватить ее, прежде чем она ударилась о цементный пол. Майкл же беспомощно покатился по клетке и всей своей тяжестью навалился на раненую лапу. — Вот так так! — несколькими минутами позднее говорил Дель Мар, подошедший к концу платформы, где стояла тележка с клеткой и прочим приготовленным к отправке багажом. — Повредил себе лапу? Не беда, в следующий раз будешь умнее. — Этот коготь, пожалуй, пропал, — сказал один из приемщиков багажа, внимательно рассматривавший сквозь клетку лапу Майкла. Дель Мар, в свою очередь, приступил к обследованию. — Пропал не только коготь, а весь палец, — объявил он, вытаскивая из кармана складной нож и открывая лезвие. — Я мигом с этим разделаюсь, если вы мне поможете. Он отпер клетку и, как всегда, за шиворот вытащил Майкла. Майкл извивался, противился, бил воздух всеми четырьмя лапами, отчего боль становилась еще невыносимее. — Держите ему лапу, — командовал Дель Мар. — Я живо управлюсь, секунда, не больше! И правда, операция была произведена в одно мгновение. Только у неистовствующего Майкла, водворенного обратно в клетку, оказалось на один палец меньше, чем при рождении. Кровь ручьем лилась из раны, нанесенной жестокой, но умелой рукой; Майкл зализывал рану, убитый и подавленный предчувствием ожидающей его страшной участи. Никто и никогда с ним так не обращался, а тут еще эта клетка, до ужаса напоминающая западню. Да, он, Майкл, беспомощный, сидел в западне, а со стюардом, видимо, случилось самое страшное на свете — его поглотило небытие, ранее уже поглотившее Мериндж, «Евгению», Соломоновы острова, «Макамбо», Австралию и «Мэри Тернер». Вдруг издали донесся какой-то отчаянный шум. Майкл навострил уши и ощетинился в предчувствии новой беды. Это был вой, визг и лай целой своры собак. — Черт возьми! Опять эти проклятые цирковые псы, — буркнул приемщик багажа, обращаясь к своему подручному. — Хорошо бы вышел закон, запрещающий дрессировку собак. Это же сущее безобразие! — Труппа Петерсона, — отозвался подручный. — Я видел, как их привезли на прошлой неделе. Одна из собак околела в клетке, похоже, что ее избили до смерти. — Наверно, Петерсон исколотил ее в последнем городе, где они выступали, а потом сунул со всеми остальными в багажный вагон и предоставил ей околевать в дороге. Шум еще значительно возрос, когда собак стали высаживать из фургона на тележку. Минуту спустя тележка поравнялась с Майклом, и он увидел множество клеток с собаками, нагроможденных одна на другую. В клетках было тридцать пять собак всевозможных пород, но главным образом дворняжек, — по их поведению было ясно, каково им приходится. Одни выли, другие визжали или, злобно огрызаясь, пытались укусить обитателя соседней клетки, многие хранили горестное молчание. Некоторые лизали свои пораненные лапы. Маленькие и менее злые собаки сидели по двое в тесной клетке. Полдюжины борзых были размещены в несколько больших, но отнюдь не достаточно просторных клетках. — Это собаки-прыгуны, — заметил приемщик. — Погляди только, как сельди в бочке. Петерсон удавится, лишь бы не заплатить лишний цент за провоз. Им надо бы по крайней мере вдвое больше места. Переезды из города в город для этих бедняг просто пытка. Приемщик не подозревал, что пытка не прекращается и во время гастролей в городах, что собак и там не выпускают из тесных клеток, и многие из них фактически находятся в пожизненном заключении. Свободу собаки Петерсона получали только в часы спектакля. С коммерческой точки зрения хороший уход за животными оказывался нерентабельным. Поскольку дворняжка стоила недорого, то дешевле было заменить околевшую собаку, чем заботливым попечением сохранять ей жизнь. Приемщик не подозревал еще и другого обстоятельства, хорошо известного Петерсону, — а именно, что из тридцати пяти собак труппы, сколоченной им четыре года назад, ни одной уже не было в живых и ни одна не была отпущена на волю за непригодностью. Из труппы Петерсона и тесной клетки имелась только одна дорога — смерть. А Майкл не знал даже того, что знал приемщик. Он знал только, что здесь парят страдания и муки и что ему предстоит разделить участь этих несчастных. Визжащих, воющих собак погрузили в багажный вагон, туда же втиснули и клетку с Майклом. Поезд шел на восток. День и без малого две ночи провел Майкл в этом собачьем аду. Затем собак выгрузили в каком-то большом городе, Майкл же продолжал свой путь уже в несколько более спокойной обстановке, хотя лапа его болела и рана при резких толчках открывалась снова. Что происходит, почему его везут в тесной клетке, в душном вагоне, Майкл себя не спрашивал. Он принимал это как беду, как свое злосчастье, но объяснить себе не мог, как не мог объяснить, почему у него раздроблена лапа. Такие беды случались. Он жил, а в жизни много зла. Проникнуть в сущность явлений он был не в состоянии. Почему происходит то или иное явление, Майкл не знал. Как происходит, иногда догадывался. Что есть, то есть. Вода мокрая, огонь горячий, железо твердое, мясо вкусное. Все это он принимал так же, как принимал извечное чудо света и мрака; ведь и оно для него было не большим чудом, чем его жесткая шерсть, его бьющееся сердце, его мыслящий мозг. В Чикаго клетку Майкла поставили на грузовик, провезли по грохочущим улицам огромного города и снова погрузили в багажный вагон, следовавший на восток. Это значило — опять новые лица, новые приемщики багажа. В Нью-Йорке повторилось все то же самое: Майкла перегрузили вместе с клеткой в багажный фургон и прямо с вокзала отправили в заведение некоего Гарриса Коллинза на Лонг-Айленде. Прежде всего Майкл увидел самого Коллинза, полновластного хозяина звериного ада. Далее… но об этом надо сказать в первую очередь. Майкл никогда больше не видел Гарри Дель Мара. Наподобие других знакомых Майклу людей, которые уходили из жизни, Гарри Дель Map ушел из поля зрения Майкла и из жизни тоже. Понимать это следует буквально. Катастрофа на эстакадной железной дороге, паника среди уцелевших пассажиров, попытки спуститься на улицу по фермам эстакады, прикосновение к третьему рельсу — и небытие, которое люди называют смертью, поглотило Дель Мара. Небытие — поскольку люди, им поглощенные, никогда уже не возвращаются на дороги жизни.
Глава двадцать четвертая
Гаррису Коллинзу недавно исполнилось пятьдесят два года. Он был строен, подвижен и с виду так ласков и благожелателен, что казался даже несколько слащавым. Его можно было принять за учителя воскресной школы, директора женской гимназии или председателя благотворительного общества. Цвет лица у него был бело-розовый, руки нежные, почти такие, как у его дочерей, весил он сто двенадцать фунтов. Ко всему он еще боялся своей жены,боялся полисменов, боялся физического насилия и жил в вечном страхе перед ночными грабителями. Единственное, что не внушало ему страха, — это дикие звери, даже наиболее свирепые из них — львы, тигры, леопарды и ягуары. Он знал свое ремесло и мог палкой от метлы укротить самого строптивого льва, при этом находясь с ним один на один в запертой клетке. Ремесло свое он перенял у отца, человека на вид даже более щуплого, чем он сам, и еще более робевшего перед всем на свете, кроме диких зверей. Отец Гарриса, Ноэль Коллинз, до эмиграции в Америку был весьма преуспевающим дрессировщиком в Англии. В Америке он тоже быстро преуспел и основал в Сидеруайльде школу дрессировщиков, которую его сын впоследствии перестроил и расширил. Гаррис Коллинз с таким умением повел дело отца, что его школа вскоре стала считаться образцом санитарного благоустройства и гуманного обращения с животными. Многочисленные посетители уходили оттуда, восхищаясь удивительной атмосферой мягкости и доброты, царившей в заведении Коллинза. Правда, никто из них никогда не присутствовал при дрессировке. Время от времени посетителям показывали уже готовое представление, и тогда они еще больше восторгались гуманным обхождением с животными в этой школе. Доведись им увидеть дрессировку — дело другое. Возможно, что результатом было бы открытое возмущение. Но так школа представлялась им зоологическим садом, где к тому же не надо было платить за вход. Кроме собственных животных Коллинза, которых он покупал, учил и перепродавал, там помещалось еще множество всякого зверья, принадлежащего дрессировщикам, в данное время не имевшим ангажемента, или таким, которые еще только организовывали собственное дело. Коллинз мог по первому требованию раздобыть любое животное — от крыс и мышей до верблюдов и слонов, а не то и носорогов или парочку гиппопотамов включительно. Когда имущество «Бродячих братьев», прославившихся своими грандиозными пантомимами на трех аренах, должно было пойти с молотка в неудачный сезон, Коллинз приютил весь их зверинец и манеж и в три месяца заработал на этом деле пятнадцать тысяч долларов. Более того, накануне торгов он заложил все, что имел, и скупил дрессированных лошадей, пони, стадо жирафов, даже ученых слонов, а затем в течение полугода всех их распродал, за исключением пони-прыгуна, — опять-таки с барышом в пятнадцать тысяч долларов. Что же касается пони, то он был продан полугодом позднее и принес Коллинзу две тысячи долларов чистой прибыли. Если банкротство «Бродячих братьев» дало Коллинзу возможность совершить блистательнейшую из всех его финансовых операций, то надо сказать, что немалую выгоду он извлекал и из временно находившихся у него животных; зимой он посылал их давать представления на ипподром, делясь барышами с их владельцами; но, отдавая тех же животных на прокат в киностудии, почему-то, как правило, забывал о дележе. В цирковой среде он слыл не только самым богатым человеком, но и самым отважным укротителем, когда-либо входившим в клетку дикого зверя. Все наблюдавшие его за работой в один голос утверждали, что Коллинз — человек без души. Зато жена, дети и еще несколько близких ему людей придерживались как раз обратного мнения. Никогда не видя его со зверями, они полагали, что нет на свете более добросердечного и чувствительного человека. Голос у Коллинза был тихий, движения мягкие, его отношение к жизни, а также политические и религиозные убеждения отличались крайней терпимостью. Он таял от любого ласкового слова, и не было ничего легче, чем его разжалобить. Коллинз состоял жертвователем всех местных благотворительных обществ и после гибели «Титаника» [28] с неделю ходил сам не свой. Тем не менее коллеги считали его наиболее жестоким и хладнокровным из всех дрессировщиков. А ведь он дрожал при мысли, что его рослая, дородная супруга, разозлившись, швырнет ему в голову тарелку супа. В первые годы брака это случилось дважды. Впрочем, он не только боялся повторения подобной сцены, но искренне и преданно любил жену, так же как и детей, которых у него было семеро и для которых он ничего на свете не жалел. Нежнейший отец, Коллинз не допускал, чтобы сыновья видели его за работой, и мечтал для всех четверых о более аристократической жизни. Старший, Джон, избравший карьеру литератора, числился в Йейлском университете, но больше разъезжал на собственном автомобиле и вел такой же образ жизни, какой вели в Нью-Хэвене прочие молодые люди, имеющие собственные автомобили. Гарольда и Фредерика Коллинз определил в колледж в Пенсильвании, где учились сынки миллионеров; младший, Кларенс, готовился к поступлению в колледж в Массачусетсе и все еще не сделал выбора между карьерой врача и пилота. Три дочери — две 13 них были двойняшки — воспитывались, как настоящие леди. Элси заканчивала курс в колледже Васар, Мэри и Мадлен подготовлялись в одном из самых дорогих пансионов к поступлению туда же. Для всего этого требовались деньги. Гаррис Коллинз отнюдь не был скуп, но ему приходилось с удвоенной энергией выколачивать их из своего заведения. Он работал не щадя сил, хотя его жена и дети были твердо убеждены, что он лично не занимается дрессировкой. Уверенные, что Коллинз, как человек незаурядного ума и способностей, лишь руководит своим заведением, они были бы до крайности смущены, увидев, как он с палкой в руке расправляется с сорока дворняжками, вышедшими из повиновения во время очередного урока. Правда, большую часть работы выполняли помощники Коллинза, но он неустанно указывал им, как действовать, какие приемы применять в том или ином случае, и сам демонстрировал эти приемы на наиболее интересных животных. Помощники его были сплошь зеленые юнцы, которых он благодаря своей интуиции почти безошибочно выбирал из воспитанников колоний для малолетних правонарушителей. Коллинз брал их на поруки и потому неусыпно контролировал, от них же требовал прежде всего ума и хладнокровия, то есть качеств, которые в сумме обычно дают жестокость. Горячая кровь, благородные порывы и чувствительные сердца — для его предприятия это не годилось; школа дрессировки в Сидеруайльде была коммерческим, и только коммерческим, предприятием. Короче говоря, Гаррис Коллинз со своими сотрудниками причинял животным больше мук и страданий, чем все вивисекционные институты, вместе взятые. В этот ад и низринулся Майкл, — хотя его прибытие совершилось не по вертикали, а по горизонтали, — проделав три с половиной тысячи миль пути все в той же клетке, в которую он был посажен в Сиэтле. За долгую дорогу его ни разу не выпустили на свободу, он весь перепачкался и чувствовал себя разбитым. Благодаря его природному здоровью рана после ампутации пальца благополучно заживала. Но он был с ног до головы облеплен грязью, и блохи одолевали его. С виду Сидеруайльд меньше всего походил на ад. Бархатистые лужайки, посыпанные гравием дорожки, заботливо разбитые цветники — вот что представлялось взгляду посетителя, направлявшегося к ряду продолговатых строений из дерева или бетона. Майкла принял не Коллинз, — в момент его прибытия Коллинз сидел у себя в кабинете и писал записку секретарю, в которой поручал ему осведомиться на железной дороге и в конторе городских перевозок относительно собаки в клетке, отправленной из Сиэтля неким Гарри Дель Маром в адрес Сидеруайльда. Майкла встретил светлоглазый юнец в рабочем комбинезоне; расписавшись в получении собаки, он втащил клетку в бетонированное помещение с покатым полом, насквозь пропахшее дезинфекцией. Эта необычная обстановка произвела на Майкл и сильное впечатление, но юнец, засучивший рукава и облачавшийся в клеенчатый фартук, прежде чем открыть клетку, ему не понравился. Майкл выскочил и пошатнулся, — ноги, отвыкшие от движения, едва держали его. Новый белый бог не имел в себе ничего примечательного. Он был холоден, как бетонный пол, и методичен, как машина. Холодно и методично он приступил к мытью, чистке и дезинфекции Майкла. Коллинз требовал, чтобы с животными обходились по последнему слову и науки и гигиены, и Майкл подвергся научному мытью — нельзя сказать, чтобы особенно жестокому, но отнюдь не ласковому. Майкл, разумеется, не отдавал себе столь точного отчета в происходящем. После всего, что ему пришлось пережить, эта голубая, пропахшая дезинфекцией комната могла показаться ему, ничего не знавшему о палачах и застенках, местом его окончательной гибели; а этот юнец — богом, который спровадит его во тьму, уже поглотившую всех, кого он знал и любил. Но одно Майкл понимал: все здесь страшно и враждебно ему. Он кое-как стерпел, что юный бог, сняв ошейник, схватил его за шиворот; но, когда на него направили струю воды, возмутился и запротестовал. Молодой человек, работавший по раз навсегда установленному шаблону, приподнял Майкла за загривок и тут же другой рукой направил струю из брандспойта ему прямо в пасть, при этом предельно увеличив напор воды. Майкл боролся, покуда, весь измокнув, не ослабел и не начал задыхаться. Больше он уже не сопротивлялся; его вымыли, вычистили и продезинфицировали с помощью брандспойта, большой жесткой щетки и огромного количества карболового мыла, которое щипало ему глаза и нос, так что он чихал и проливал обильные слезы. Ежесекундно опасаясь беды, Майкл тем не менее понял: сейчас этот юнец не причинит ему ни добра, ни зла — и покорно дождался минуты, когда его, чисто вымытого и отчасти успокоенного, отвели в опрятное светлое помещение, где он быстро заснул, так как никто его больше не тревожил. Это был лазарет, или, вернее, изолятор; там Майкл провел целую неделю, прежде чем выяснилось, что он не болен никакой заразной болезнью. Ничего плохого за это время с ним не случилось; он получал хорошую пищу и чистую воду, но был отрешен от всего остального мира, и только юнец, как автомат, ухаживал за ним. Теперь Майклу предстояло встретиться с Гаррисом Коллинзом, чей голос, негромкий, но повелительный, уже не раз доносился до него. Услышав этот голос, Майкл сразу понял, что обладатель его является очень важным богом. Только важный бог, господин над другими богами, мог говорить так повелительно. В этом голосе слышалась непреклонная воля и привычка властвовать. Любая собака смекнула бы это не хуже Майкла и так же, как Майкл, решила бы, что бог, говорящий таким голосом, чужд доброты и мягкости, а следовательно, поклоняться ему и любить его невозможно.
Глава двадцать пятая
В одиннадцать часов утра бледный юноша-бог надел на Майкла ошейник с цепью, вывел его из изолятора и передал смуглому юноше-богу, который даже и не поздоровался с Майклом. Тащившийся на цепи, как пленник, Майкл по дороге встретил трех других пленников, которых вели в том же направлении. Он никогда еще не видел медведей — тяжеловесных, неуклюжих громадин, а потому ощетинился и зарычал что было мочи; голос крови помог ему узнать в них (так корова узнает врага в первом же встретившемся ей волке) исконных врагов древней собачьей стаи. Но он уже довольно объездил свет, довольно видел, да и вообще был слишком благоразумен, чтобы напасть на них. Вместо этого он, осторожно ступая, шел на цепи за своим властелином, и только ноздри его напряженно втягивали незнакомый запах чудовищ. А между тем все новые и новые запахи дразнили его обоняние. Хоть он и не мог видеть сквозь стены, но чуял, а позднее научился и различать запах львов, леопардов, мартышек, павианов, тюленей и морских львов. Все это ошеломило бы заурядную собаку, но Майкл только весь как-то подобрался и насторожился. Ему казалось, что он в джунглях, населенных неведомыми страшными зверями. Едва ступив на арену, он отскочил в сторону, весь ощетинился и зарычал. Навстречу ему двигались пять слонов. Это были отнюдь не крупные слоны, но Майклу они показались гигантскими чудовищами и напомнили ему мельком виденную им китовую матку, которая разнесла в щепы «Мэри Тернер». Слоны, не обращая на него ни малейшего внимания, гуськом, неторопливо покинули арену, причем каждый держал хоботом хвост идущего впереди, — это был специальный трюк «на уход». Непосредственно вслед за Майклом на арену вышли медведи. Арена — посыпанный опилками круг величиной с обыкновенную цирковую арену — помещалась в квадратном здании со стеклянной крышей, но амфитеатра вокруг не было, зрители сюда не допускались. Только Гаррису Коллинзу с его ассистентами, покупателям и продавцам зверей да профессионалам-дрессировщикам разрешалось смотреть, как здесь мучают животных, обучая их трюкам, на которые публика потом смотрит, разинув рот от изумления или покатываясь со смеху. Медведи немедленно приступили к «работе» на противоположной стороне арены, и Майкл позабыл о них. Внимание его отвлекли люди, выкатывавшие громадные пестро раскрашенные бочки такой прочности, что они выдерживали тяжесть сидящих на них слонов. Когда молодой человек, ведший его на цепи, остановился, Майкл с живейшим интересом принялся рассматривать пегого шетлендского пони. Пони лежал на боку и, то и дело поднимая голову, целовал сидящего на нем человека. Вот и все, что видел Майкл, но при этом он ясно почувствовал: что-то тут не так. Сам не зная почему и, собственно, ничего подозрительного не заметив, Майкл понял, что за всем здесь происходящим кроется жестокость, насилие, несправедливость. А он ведь не видел длинной булавки в руке человека, сидящего на пони. Человек вонзал эту булавку в тело пони и, когда тот рефлекторно поднимал голову, наклонялся к нему, отчего создавалось впечатление, что пони его целует. Зрители были уверены, что лошадка выражает хозяину свою любовь и приверженность. Шагах в десяти от Майкла стоял другой, черный шетлендский пони. С этим уж и вовсе творилось что-то неладное. Передние его ноги были опутаны веревками, концы которых держали два стоявших по бокам человека; третий, стоявший впереди, ударял пони по ногам коротким хлыстом из индийского тростника, в то же мгновение двое других дергали за веревки — и выходило, что пони преклоняет колени перед человеком с хлыстом. Пони оказывал сопротивление: упирался широко расставленными ногами, гневно мотал головой, кружился на месте, пытаясь освободиться от опутывавших его веревок, и тяжела валился на бок, когда ему удавалось ослабить их. Но его опять поднимали и ставили перед человеком, который бил его хлыстом по ногам. Так пони обучали преклонять колени — трюк, неизменно вызывающий восторг зрителей, видящих только результаты дрессировки и не подозревающих о том, чем эти результаты достигаются. Но Майкл быстро смекнул, что умение здесь приобретают ценою муки и что Сидеруайльд — это школа страданий. Гаррис Коллинз кивком головы подозвал смуглого молодого человека и окинул Майкла испытующим взглядом. — Собака Дель Мара, сэр, — доложил молодой человек. Глаза Коллинза загорелись, и он еще внимательнее всмотрелся в Майкла. — Ты знаешь, что эта собака умеет делать? — осведомился он. Тот покачал головой. — Гарри был малый не промах, — продолжал Коллинз, казалось, обращаясь к ассистенту, но, в сущности, просто думая вслух. — Он считал эту собаку редкостной находкой. Но что она делает? Вот в чем вопрос. Бедняга Гарри скончался, и теперь мы ничего о ней не знаем. Сними с нее цепь. Майкл выжидательно взглянул на главного бога: что-то будет дальше? В это мгновение пронзительно взвыл от боли один из медведей, как бы предупреждая Майкла о том, что его ждет. — Чертовски породистый пес, — усмехнулся Коллинз. — Эй ты, надо бы двигаться поживее. Ладно, мы тебя научим. Вставай! Ложись! Вставай! Ложись! Вставай! Команда его звучала резко, отрывисто, как револьверные выстрелы или удары бича; и Майкл повиновался, но все так же медленно и неохотно. — По крайней мере хоть понимает, что ему говорят, — заметил Коллинз. — Уж не обучен ли этот пес двойному сальто-мортале, — предположительно добавил он; двойное сальто-мортале — заветная мечта всех дрессировщиков, работающих с собаками. — Сейчас испытаем! Надень на него цепь. А ты, Джимми, давай сюда сбруйку. Второй юнец из колонии малолетних правонарушителей надел на Майкла сбруйку с прикрепленным к ней тонким поводком. — Поставь его прямо, — командовал Коллинз. — Готово? Начали! И Майклу было нанесено тяжкое и жестокое оскорбление. При слове «начали» его одновременно дернули вверх и назад за цепь, идущую от ошейника, и вперед и вниз за поводок от сбруйки, при этом Коллинз хлыстом полоснул его под нижнюю челюсть. Будь Майкл хоть немного знаком с таким маневром, он избавил бы себя от лишней боли, подпрыгнув и перекувырнувшись в воздухе. Но сейчас ему казалось, что ему выворачивают члены, разрывают его на части, а удар под нижнюю челюсть окончательно ошеломил его. Насильственно перевернутый в воздухе, Майкл грохнулся затылком на арену. Вскочил он весь в опилках, разъяренный, со вздыбившейся шерстью и непременно вцепился бы зубами в главного бога, если бы его не держали согласно всем хитроумным правилам дрессировки. Молодые люди знали свое дело. Один до отказа натянул поводок, другой — цепь, и Майклу осталось только рычать и щериться в бессильной ярости. Он ничего не мог сделать — ни прыгнуть, ни отступить, ни даже податься в сторону. Молодой человек, стоявший впереди, не давал ему броситься на того, кто стоял сзади, а тот, в свою очередь, удерживал его от нападения на стоявшего впереди, и оба вместе охраняли от него Коллинза — властителя этого мира зла и страданий. Ярость Майкла была так же велика, как и его беспомощность. Он рычал, в бессильной злобе надрывая свои голосовые связки. Но для Коллинза все это было только старым, наскучившим приемом дрессировки. Он даже воспользовался передышкой и окинул взглядом всю арену, проверяя, как идет работа с медведями. — Эх ты, породистый пес! — осклабился Коллинз, снова переводя глаза на Майкла. — Отпустите его! Освобожденный от уз Майкл взвился и прыгнул на Коллинза, но многоопытный дрессировщик, точно рассчитавший время и расстояние, новым ударом под челюсть далеко отшвырнул его. — Держите! — распорядился он. — Поставьте его прямо! И молодые люди, дернув в разные стороны цепь и поводок, снова привели Майкла в состояние полнейшей беспомощности. Коллинз взглянул по направлению форганга, откуда в этот момент появились две парных упряжки тяжелых ломовых лошадей, а вслед за ними молодая женщина, одетая в чрезмерно элегантный и сверхмодный английский костюм. — По-моему, он никогда сальто-мортале не делал, — заметил Коллинз, снова возвращаясь к разговору о Майкле. — Сними с него поводок, Джимми, и поди помоги Смиту. А ты, Джонни, отведи его в сторонку, да смотри береги ноги! Вот идет мисс Мари. Мне надо с ней позаняться, этот идиот, ее муж, не умеет растолковать ей, что надо делать. Майкл ровно ничего не понял из последовавшей за этим сцены, свидетелем которой он поневоле стал, ибо молодой человек, отойдя с ним в сторонку, помедлил, чтобы посмотреть на приготовления к «занятиям». Понял он по поведению женщины только одно — и она страдала, и она была пленницей. Ее тоже заставляли проделывать сложный и непонятный трюк. До решительного момента женщина держалась храбро, но при виде двух пар лошадей, тянущих в разные стороны, которые вот сейчас, когда она накинет крючки на вагу, казалось, неминуемо разорвут ее надвое, вдруг утратила самообладание, пошатнулась и, вся сникнув, закрыла лицо руками. — Нет, нет, Билликенс, — взмолилась она, обращаясь к мужу, полному, хотя еще молодому человеку. — Я не могу. Я боюсь! Боюсь! — Пустяки, сударыня, — вмешался Коллинз. — Абсолютно безопасный номер. И притом эффектный и весьма доходный. Погодите минуточку! — Он начал руками ощупывать ее плечи и спину под английским жакетом. — Аппарат в полном порядке! — Он провел ладонью по ее рукам от плеча до кисти. — Хорошо! Теперь выпускайте крючки. — Она тряхнула руками, и из-под изящных кружевных манжет выскочили железные крючки, насаженные на тонкую стальную проволоку, видимо, укрепленную под рукавами. — Не так! Публика не должна их видеть! Уберите обратно! Давайте еще раз. Они должны незаметно скользнуть в ладонь. Так! Понятно? Вот-вот, очень хорошо. Овладев собой, она старалась точно выполнять приказания, но все же бросала умоляющие взгляды на Билликенса, хмуро стоявшего поодаль. Оба возницы, правившие запряжками, подняли ваги так, чтобы женщина могла зацепить их крючками. Она пыталась это сделать, но силы опять изменили ей. — Если ваш аппарат откажет, лошади вырвут мне руки, — жалобно воскликнула она. — Никоим образом, — уверял ее Коллинз. — Пострадает разве что ваш жакет. А в самом худшем случае публика поймет, в чем тут дело, и посмеется над вами. Но аппарат отказать не может. Еще раз объясняю вам: лошади тянут не вас — одна запряжка тянет другую; это только публика воображает, что они тянут вас. Попробуйте-ка еще раз. Беритесь за ваги, одновременно выпускайте крючки и закрепляйте их! Пошли! Он говорил резко и повелительно. Она вытряхнула крючки из рукавов, но отшатнулась от ваг. Коллинз, ничем не выдавая своего недовольства, посмотрел на уходящих с арены шетлендских пони. Но муж пришел в ярость: — Черт подери, Джулия, ты, видно, хочешь испортить мне все дело! — Я постараюсь, Билликенс, — пролепетала женщина. — Даю тебе слово. Смотри! Я уже не боюсь. Она вытянула руки и захватила ваги. Коллинз с едва заметной усмешкой на губах проверил, правильно ли она держит руки и хорошо ли закреплены крючки. — Теперь упритесь крепче! Расставьте ноги! Прямее. Вот так! — Он придал правильное положение ее плечам. — Не забудьте вытянуть руки еще до первого рывка. Иначе вам это уже при всем желании не удастся, и проволока обдерет вам кожу. Еще раз повторяю: вытянуть руки на уровне плеч. Так, так! Начали! — Подождите минутку, — умоляла женщина, снова опустив руки. — Я сделаю, я все сделаю; только поцелуй меня, Билликенс, и я больше не буду думать, вырвут они мне руки или нет. Смуглый молодой человек, державший Майкла на цепи, и все прочие осклабились. Коллинз подавил усмешку и пробурчал: — Мы будем ждать, сколько вам угодно, сударыня. Самое важное, чтобы первая проба удалась, это придаст вам уверенности. Подбодрите же ее, Билл, прежде чем она возьмется за дело. Билликенс повиновался; рассерженный, угрюмый и смущенный, он подошел к жене, обнял ее и поцеловал довольно, впрочем, небрежно и равнодушно. Жена его была прехорошенькая женщина, лет двадцати, с детски-чистым выражением лица и стройным, прекрасно развитым телом. Поцелуй мужа ободрил ее. Она вся собралась, сжала губы и проговорила: — Готово! — Пошли! — скомандовал Коллинз. Четыре лошади, понукаемые возницами, двинулись с места. — Дайте-ка им кнута, — отрывисто крикнул Коллинз, не сводя глаз с женщины, чтобы убедиться в правильном положении аппарата. Под ударами кнута лошади стали рваться, скакать, бить громадными, как тарелки, копытами, вздымая тучи опилок. И Билликенс утратил все свое спокойствие. Нескрываемый страх за жену овладел им при виде этой страшной картины. А на лице женщины отразился целый калейдоскоп чувств. Напряжение и страх вначале сделали его похожим на лицо христианской мученицы, брошенной на растерзание львам, или преступницы, попавшей в расставленную ей ловушку. Но эти чувства сменились удивлением и радостью, когда первый момент прошел благополучно. Затем в глазах ее промелькнула гордость, на губах заиграла торжествующая улыбка. Казалось, этой улыбкой она хотела выразить Билликенсу свою любовь и нежную преданность. У него стало легко на душе, и он так же горделиво и любовно улыбнулся ей в ответ. Но Коллинз грубо крикнул: — Нечего тут улыбаться! Уберите улыбки. Публика должна думать, что вы едва сдерживаете лошадей. Убеждайте ее в этом, стисните зубы. Решительность и сила воли! Изобразите огромное напряжение мускулов. Ноги расставьте шире. Мускулы должны играть так, точно вы совершаете большое физическое усилие. Сделайте вид, что лошади чуть-чуть потащили вас в одну сторону, потом в другую. Еще шире ноги! Вот так! Пусть публика думает, что вам очень страшно, что они разрывают вас на части и вы держитесь на ногах только отчаянным усилием воли… Вот-вот, так уже лучше. Ваш номер будет настоящем гвоздем сезона, Билли! Самым настоящим! Огрейте-ка их кнутом! Пусть взовьются еще выше. Пусть изматывают друг друга! Бичи хлестнули по коням, огромные звери стали бешено рваться, стремясь избегнуть боли. Поистине такое зрелище должно было привести публику в восторг. Каждый из этих коней весил тысячу восемьсот фунтов. У зрителей создавалось впечатление, что семь тысяч двести фунтов живого, бьющегося лошадиного мяса разрывают на куски стройную, хрупкую молодую женщину в изящном английском костюме. От такого зрелища женщины в цирке вскрикивают, охваченные ужасом, и закрывают лицо руками. — Отпустите вожжи! — скомандовал Коллинз возницам. — Леди победила, — объявил он на манер шталмейстера. — Билл, это настоящий гвоздь сезона! Отцепляйте крючки, сударыня, отцепляйте скорей! Мари повиновалась и с крючками, свисающими из рукавов, бросилась в объятия Билликенса; руки ее обвились вокруг его шеи; целуя мужа, она восклицала: — О Билликенс, я всегда знала, что справлюсь с этим номером! Я ведь вела себя молодцом. Правда, Билл? — Вы себя выдаете, — прервал ее восторги холодный голос Коллинза. — Публика видит ваши крючки. Они должны уйти в рукава в ту же секунду, как вы кончаете номер. Попробуем еще раз. И запомните: нельзя себя разоблачать. Нельзя показывать, что номер легко дался вам; сделайте вид, что это была адская работа, что вы изнурены до потери сознания. Колени у вас подгибаются, плечи никнут. Вы теряете сознание, и шталмейстер подбегает, чтобы подхватить вас. Но вы отвергаете его помощь. Вы берете себя в руки и усилием воли выпрямляетесь, сила воли — основное содержание вашего номера. Затем со слабой, возбуждающей жалость улыбкой вы посылаете воздушный поцелуй публике; ей должно казаться, что у вас сердце выскакивает из груди, что вас нужно немедля везти в больницу, а вы вот собрались с силами и еще посылаете ей воздушные поцелуи. Публика будет вскакивать с мест, не зная уж, как выразить вам свое восхищение. Вы меня поняли, сударыня? А вы, Билл? Последите, чтобы она точно выполняла мои указания. Готово? Вы с трепетом взглядываете на лошадей… Так, хорошо! Никто не догадается о крючках. Стойте прямо!.. Начали! И снова три тысячи шестьсот фунтов с одной стороны, казалось, перетягивали три тысячи шестьсот фунтов с другой, разрывая Мари на части. Номер был прорепетирован в третий и затем в четвертый раз, а в промежутке Коллинз послал служителя к себе в кабинет за телеграммой Дель Мара. — Теперь дело пойдет на лад, Билл, — объявил он мужу Мари. В руках Коллинз уже держал телеграмму, и мысли его вернулись к Майклу. — Заставьте ее еще прорепетировать раз пять-шесть и имейте в виду: если какой-нибудь дурень-фермер вообразит, что его запряжка одолеет вашу, немедленно заключайте с ним пари. Придется, конечно, заранее об этом объявлять и тратиться на рекламу, но игра стоит свеч. Шталмейстер подыграет вам, и ваша запряжка, несомненно, окажется лучшей. Будь я помоложе и посвободнее, я почел бы себя счастливым выступить с таким номером. В перерывах между репетициями Коллинз, то и дело поглядывая на Майкла, еще раз перечитал телеграмму Дель Мара: «Продайте моих собак. Вы знаете, что они умеют делать и сколько за них можно взять. Мне они больше не нужны. Удержите что следует за их содержание. Остаток вручите мне при встрече. Моя новая собака — верх совершенства, а все мои прежние номера ничто. Небывалый успех обеспечен. Скоро убедитесь сами».
Коллинз, отойдя в сторону, продолжал рассматривать Майкла. — В нашем деле Дель Map и сам был верхом совершенства, — обратился он к Джонни, державшему Майкла на цепочке. — Раз он телеграфировал: «продайте собак» — значит, у него был заготовлен лучший номер, а здесь налицо одна-единственная собака, да и то, черт бы ее побрал, самых чистых кровей. Он утверждает, что она верх совершенства. Так оно, наверно, и есть, Но что, спрашивается, она умеет делать? Ясно, что она никогда в жизни не делала сальто-мортале, тем более двойного. Как ты полагаешь, Джонни? Поразмысли-ка хорошенько. Хоть бы ты меня надоумил. — Может, она умеет считать, — предположил Джонни. — Считающие собаки в наши дни не товар. Впрочем, попробуем. Но Майкл, отлично умевший считать, отказался продемонстрировать свои способности. — Если это обученная собака, она должна ходить на задних лапах, — вдруг осенило Коллинза. — А ну-ка, попытаемся! И Майкл прошел через унизительное испытание: Джонни вздергивал его вверх и ставил на задние лапы, а Коллинз ударял хлыстом под нижнюю челюсть и по коленям. В ярости Майкл стремился укусить главного бога, но цепочка не пускала его. Когда же он попытался сорвать свою злобу на Джонни, этот невозмутимый юноша вытянул руку и так дернул Майкла кверху, что его чуть не задушил ошейник. — Нет, не то, — устало заметил Коллинз. — Раз он не умеет стоять на задних лапах, значит, и в бочонок не сумеет прыгнуть. Ты, верно, слышал о Руфи, Джонни? Вот это была собака! Она по восемь раз кряду прыгала из одного утыканного гвоздями бочонка в другой, ни разу не становясь на все четыре лапы. Я помню, как она у нас тут репетировала. Это была поистине золотоносная жила, да только Карсон не умел обходиться с ней, и она у него околела от воспаления легких. — Может, он жонглирует тарелками на носу? — продолжал вслух размышлять Джонни. — Куда уж там, раз он даже на задних лапах стоять не умеет, — прервал его Коллинз. — А кроме того, этот трюк никого уже удивить не может. Он, безусловно, умеет делать что-то из ряда вон выходящее, и наша задача доискаться, что именно. Надо же было Гарри так внезапно отправиться на тот свет, оставив мне в наследство эту загадку! Придется-таки поломать себе голову. Уведи его, Джонни. В восемнадцатый номер. Со временем мы переведем его в отдельное помещение.
Глава двадцать шестая
Под номером восемнадцать числилось большое помещение, вернее, клетка в так называемом «собачьем ряду», достаточно обширная для дюжины ирландских терьеров, так как в заведении Коллинза все было поставлено на строго научную основу и приспособлено для того, чтобы временно находившиеся там собаки могли отдохнуть от тягот и мучений более чем полугодового бродяжничества из цирка в цирк. Поэтому-то дрессировщики, уезжавшие на отдых или временно оставшиеся без ангажемента, так охотно и помещали сюда своих животных. Здесь они находились в чистоте, в полной безопасности от инфекций и пользовались отличным уходом. Короче говоря, Гаррис Коллинз умел восстанавливать их силы для новых странствий и представлений. Слева от Майкла, в номере семнадцатом, сидели пять забавно остриженных французских пуделей. Правда, Майкл видел их, только когда его вели на прогулку мимо этой клетки, но слышал их, чуял их запах и от скуки даже затеял нечто вроде перебранки с Педро, самым рослым из пуделей, исполнявшим в этой собачьей труппе роль клоуна. Пудели являлись аристократами среди дрессированных животных, и самая свара Майкла с Педро была скорее игрой. Если бы их свели вместе, они немедленно стали бы друзьями. Они рычали и скалились друг на друга, чтобы скоротать томительно тянущееся время, отлично понимая, что никакой вражды между ними нет. Справа, в номере девятнадцатом, помещалась унылая, более того, трагическая компания. Это были дворняжки, содержавшиеся в безукоризненной чистоте, но еще незнакомые с дрессировкой. Они служили как бы запасным сырьем: если из уже сформированной труппы выбывала какая-нибудь собака, сырье немедленно отправлялось в переработку для замены выбывшей. А это значило: ад на арене в часы дрессировки. Кроме того, когда у Коллинза выбиралось свободное время, он со своими ассистентами испытывал способности этих собак к тем или иным трюкам. Так, например, одну собачонку, похожую на кокер-спаниеля, в течение многих дней обучали держаться на спине мчащегося по арене пони, прыгать на скаку через обручи и снова возвращаться ему на спину. После многократных падений и увечий она была признана негодной; ее стали испытывать в другом амплуа, а именно в качестве жонглера тарелками. Поскольку она и в этом не преуспела, собачонку заставили качаться ка доске, то есть отвели ей самую ничтожную роль в труппе из двадцати собак. Обитатели девятнадцатого номера были истинными страдальцами и к тому же постоянно грызлись между собой. Собаки, покалеченные во время тренировки, зализывали раны, скулили, выли и по малейшему поводу начинали драку. Как только взамен отправленной в какую-нибудь труппу собаки к ним вводили новую (а это случалось сплошь и рядом), в клетке поднималась свалка, продолжавшаяся до тех пор, покуда несчастная пленница силой не завоевывала себе место или же покорно не довольствовалась тем, которое ей предоставляли сильнейшие. Майкл не обращал никакого внимания на обитателей девятнадцатого номера. Они могли сколько угодно рычать и задирать его при встрече, он интересовался только разыгрыванием свар и потасовок с Педро. Кроме того, Майклу приходилось проводить на арене куда больше времени, чем кому-либо из его соседей. — Не может быть, чтобы Гарри ошибся в оценке этого пса, — объявил Коллинз, решив во что бы то ни стало выяснить, за какие именно таланты Майклу «обеспечен небывалый успех». С этой целью Майкла подвергли немыслимым унижениям. Его принуждали прыгать через препятствия, ходить на передних лапах, ездить верхом на пони, кувыркаться и изображать клоуна. Пробовали установить, не танцует ли он вальс, для чего ему на все четыре лапы накидывали веревочные петли и помощники Коллинза дергали и подтаскивали его кверху за веревки. Для некоторых трюков на него надевали парфорсный ошейник, чтобы не дать ему отклониться в сторону или упасть. Его били по носу хлыстом и тростниковой тростью. Пробовали заставить его изображать голкипера в футбольном матче между двумя «командами» забитых и замученных дворняг. Его гоняли по лестнице на вышку, откуда он должен был прыгать в бассейн с холодной водой. Наконец, Майкла заставили проделывать «мертвую петлю». Подгоняемый ударами хлыста, он должен был взбежать вверх по внутренней стороне вертикально поставленного обода, по инерции пробежать верхнюю его часть вниз головой, как муха на потолке, и, спустившись по противоположной стороне, выбежать из него. Пожелай этого Майкл, и ему бы ничего не стоило справиться с такой задачей, но он не хотел ни за что и, едва ступив на обод, всякий раз старался спрыгнуть с него, а если это не удавалось, то грузно вываливался на арену и больно ушибался. — Нет, бедняга Гарри явно имел в виду другие номера, — говорил Коллинз, всегда старавшийся на практике обучать своих ассистентов. — Но таким путем я все же надеюсь дознаться, в чем секрет этой собаки. Из любви к своему обожаемому стюарду и повинуясь его желанию, Майкл безусловно постиг бы все эти фокусы и отлично справился бы с ними. Но здесь, в Сидеруайльде, ни о какой любви не могло быть и речи, а натура Майкла, натура чистопородного пса, заставляла его упорно отказываться от насильственного выполнения того, что он охотно сделал бы из любви. Поэтому между ним и Коллинзом, безусловно не чистопородным человеком, поначалу происходили яростные стычки. Из этих стычек Майкл быстро понял, что ему не одержать верх над Коллинзом и что его удел — покорность. Согласно законам дрессировки, поражение Майкла было предопределено еще до начала боя. Ни разу ему не удалось вцепиться зубами в ногу Коллинза или Джонни. У него было достаточно здравого смысла, чтобы не продолжать борьбу, которая неминуемо сломила бы его душевные и физические силы. Он замкнулся в себе, стал угрюмым, вялым и хотя, даже и побежденный, никогда не трусил и в любую минуту готов был ощетиниться и зарычать — свидетельство того, что он остался самим собой и что внутренне он не был сломлен, — но приступы ярости на него больше не находили. В скором времени Джонни был отставлен, а Коллинз хотя больше и не испытывал Майкла в новых трюках, но почти все время держал его подле себя на арене. На горьком опыте Майкл понял, что должен всюду следовать за Коллинзом, и он выполнял свой долг, ненавидя Коллинза и постепенно, медленно отравляя свой организм выделениями желез, отказывавшихся нормально работать из-за ненависти, душившей его. Впрочем, у Майкла был достаточно крепкий организм, и на его физическом состоянии это существенно не отражалось. Зато тем горше была эта отрава для его ума, или души, или натуры, или мозга, или сознания — как угодно. Майкл все больше и больше замыкался в себе, мрачнел, ходил как в воду опущенный. И это, конечно, не способствовало его душевному здоровью. Майкл, такой веселый и задорный, еще более веселый и задорный, чем его брат Джерри, становился все более угрюмым, брюзгливым и озлобленным. Ему уже не хотелось играть, возиться и прыгать. Тело его стало малоподвижным и скованным, как и его мозг. Такое состояние овладевает узниками в тюрьме. Усталый и бесконечно равнодушный, он мог часами простаивать рядом с Коллинзом, покуда тот мучил какую-нибудь дворняжку, обучая ее новому трюку. Как часто видел Майкл эти пытки! При нем борзых обучали прыгать в высоту и в длину. Они старались изо всех сил, но Коллинз и его ассистенты стремились добиться от них чуда, — если чудом можно назвать то, что превосходит силы живого существа. Все, что они делали в меру своих сил, было естественно. Большее было противоестественно, а потому многих из них убивало или сокращало им жизнь. Высоко прыгнувшую с трамплина собаку еще в воздухе настигал страшный удар длинного бича, который, подстерегая этот момент, держал в руках помощник Коллинза. И собака старалась прыгнуть с трамплина выше, чем это было в ее силах, лишь бы избежать удара, настигавшего ее в воздухе и, словно жало скорпиона, впивавшегося в натянутое, как струна, тело. — Собака никогда как следует не прыгнет, если ее не заставить, — говорил Коллинз своим ассистентам. — А заставить ее — ваше дело. Потому-то собаки-прыгуны, выпущенные из моей школы, и отличаются от собак, проходивших дрессировку у какого-нибудь любителя, — эти проваливаются даже в самых захолустных городишках. Коллинз заботливо обучал своих ассистентов. Молодой человек, окончивший школу в Сидеруайльде и получивший рекомендательное письмо от Коллинза, очень высоко котировался в цирковом мире. — Ни одна собака не умеет от рождения ходить на задних лапах, а тем более на передних, — любил говорить Коллинз. — Они для этого не созданы, их надо заставить — вот и все. Заставить — в этом весь секрет дрессировки. Их долг — повиноваться. Ваш — принуждать их к повиновению. Это ваша профессия. Заставьте их повиноваться. Тому, кто этого не сумеет, здесь не место. Раз навсегда зарубите себе это на носу и принимайтесь за дело. Майкл видел, хотя толком и не понимал, что тут происходит, как дрессировали мула при помощи утыканного гвоздями седла. В первый день на арену вышел раскормленный и добродушный мул. До того, как острый глаз Коллинза приметил его, он был баловнем целой семьи, смешившим детей своим нелепым упорством, и не знал в жизни ничего, кроме добра и ласки. Но Коллинз сразу понял, какое это здоровое, сильное и выносливое животное и сколь комический эффект произведет появление на арене эдакого длинноухого благодушного создания. В день трагического перелома в его жизни мул получил новую кличку — Барней Барнато. Он нимало не подозревал о гвоздях в седле, — покуда на нем никто не сидел, они не давали себя чувствовать. Но едва только негр-акробат Сэмюэль Бэкон вскочил в седло, как колючки впились в спину мула. Негр знал об этом и был наготове. Но Барней, пораженный неожиданностью и болью, впервые в жизни вскинул задом, и притом так высоко, что глаза Коллинза блеснули удовлетворением. Сэм же отлетел вперед футов на двенадцать и шлепнулся в опилки. — Здорово, — одобрительно заметил Коллинз. — Когда я продам мула, вы тоже получите ангажемент, или я ничего не смыслю в своем деле. Это будет первоклассный номер. Надо найти и натренировать еще двух опытных наездников, которые сумеют хорошо падать. А ну, еще раз! И для Барнея начались муки дрессировки. (Впоследствии человеку, купившему его, предлагали больше ангажементов, чем он в состоянии был принять.) Каждый день Барней был обречен на невыносимые страдания. Правда, седла, утыканного гвоздями, да и вообще седла, на него больше не надевали, негр вскакивал ему прямо на спину, а брыкался и вздыбивался мул потому, что колючки были теперь прикреплены ремнями к ладоням наездника. В конце концов Барней стал так чувствителен, что достаточно было кому-нибудь взглянуть на его спину, как он уже приходил в неистовое волнение и, едва наездник приближался к нему, начинал брыкаться, вскидываться и вертеться на месте в предчувствии мучительной боли. К концу четвертой недели пребывания Барнея в Сидеруайльде, при участии еще двух, уже белых, акробатов был устроен просмотр номера для наметившегося покупателя- стройного французика с нафабренными усами. В результате он, не торгуясь, отдал за Барнея запрошенную сумму и предложил ангажемент не только Сэму, но и обоим белым, Коллинз сумел «подать» номер покупателю со всеми атрибутами настоящего циркового представления и даже сам выступил в роли шталмейстера. Жирного, лоснящегося, добродушного с виду Барнея ввели в огороженное стальными тросами пространство и сняли с него недоуздок. Почувствовав себя свободным, он забеспокоился, прижал уши: словом, повел себя, как норовистое животное. — Запомните, — обратился Коллинз к покупателю, — что, если вы его купите, вам придется взять на себя обязанности шталмейстера, и вы сами никогда не должны причинять ему боли. Когда он это поймет, вы получите полную власть над ним и сможете в любую минуту его успокоить. Он самый добродушный и благодарный мул из всех, какие мне когда-либо попадались. Он будет любить вас и ненавидеть тех троих. Но на всякий случай предупреждаю: если он озлобится и начнет кусаться — вырвите ему зубы и кормите его только отрубями и дробленой распаренной крупой. Я дам вам рецепт питательных веществ, которые следует добавлять в его пойло. А теперь — внимание! Коллинз спустился на арену и погладил Барнея; мул стал ласкаться к нему, заодно пытаясь выбраться из загородки и спастись от того, что — он это знал погорькому опыту — неизбежно должно было воспоследовать. — Видите, — пояснил Коллинз, — он мне доверяет. Он знает, что я не только никогда не обижаю его, но в конце номера всякий раз являюсь в качестве спасителя. Я для него — добрый самаритянин, и вам придется взять на себя ту же роль. Ну, а сейчас мы вам покажем этот номер. Впоследствии вы, разумеется, сможете изменить или дополнить его по своему усмотрению. Великий дрессировщик вышел за канаты, шагнул к воображаемой публике, затем как бы окинул взглядом оркестр, весь амфитеатр в целом и раек в отдельности. — Леди и джентльмены, — бросил он в зияющую пустоту так, словно обращался к битком набитому цирку, — разрешите представить вам Барнея Барнато, весельчака мула. Он ласков, как щенок-ньюфаундленд, и… прошу убедиться! Коллинз отступил к канатам и, протянув над ними руку, позвал: — Поди сюда, Барней, и покажи публике, кого ты любишь больше всех на свете. Барней рысцой подбежал к нему, перебирая своими маленькими копытцами, ткнулся носом в его ладонь, в локоть, затем слегка подтолкнул его в плечо и, привстав на дыбы, попытался перебраться через канат. И обнять его. На самом деле он упрашивал, умолял Коллинза увести его с арены, избавить от предстоящих ему мучений. — Вот что значит никогда не причинять ему боли, — обернулся Коллинз к господинчику с нафабренными усами и снова окинул взглядом воображаемый цирк, воображаемый оркестр и воображаемую публику. — Леди и джентльмены! Барней Барнато — великий шутник. Каждая из его четырех ног может выкинуть штук сорок таких фокусов, что ни одному человеку не удастся продержаться у него на спине и шестидесяти секунд. Честно предупреждаю вас об этом, прежде чем сделать вам следующее предложение. На первый взгляд кажется: что тут особенного — одну минуту, то есть шестидесятую долю часа, или, еще точнее, шестьдесят секунд, продержаться на спине такого ласкового и веселого животного, как наш мул Барней? Ну что ж, выходите-ка сюда, ребята, лихие наездники! Тому, кто усидит на Барнее одну минуту, я немедленно плачу пятьдесят долларов; а за две минуты, точно отсчитанные по часам, — все пятьсот. Это была условная реплика, после которой Сэмюэль Бэкон с конфузливой улыбкой, спотыкаясь и боясь поднять глаза на публику, вышел на арену и с помощью Коллинза, услужливо протягивавшего ему руку, перебрался через канаты. — Скажите, ваша жизнь застрахована? — деловито спросил Коллинз. Сэм отрицательно покачал головой и ухмыльнулся. — Тогда зачем вам понадобилось рисковать ею? — Из-за денег, — отвечал Сэм, — мне нужны деньги для моего дела. — А какое у вас дело? Разрешите узнать? — А это не ваше дело, мистер. — Тут Сэм расплылся в улыбке, как бы прося прощения за свою дерзость, и стал переминаться с ноги на ногу. — Может, я скупаю лотерейные билеты, вы почем знаете. А деньги-то я с вас получу? Это ведь уж будет наше общее дело. — Получите, получите, — заверил его Коллинз, — конечно, если заработаете. Станьте-ка здесь, в сторонке и повремените немножко. Леди и джентльмены, простите меня за задержку, но я бы хотел, чтоб вызвались еще охотники. Кто желает? Пятьдесят долларов за шестьдесят секунд. Почти доллар в секунду… Если вы справитесь с задачей. Да что там, даю по доллару за секунду… Шестьдесят долларов мальчику, мужчине, девушке или женщине, усидевшим минуту на Барнее. В первую очередь приглашаю дам! Сегодня у нас. полное равноправие. Вам предоставляется возможность заткнуть за пояс мужей, братьев, сыновей, отцов и дедов. Возраст значения не имеет… Кажется, вы изъявили желание, бабушка? — Он как будто и впрямь обращался к старушке в одном из первых рядов. — Вот видите (последнее уже относилось к французу-покупателю). У меня для вас даже заготовлено антре. Вам потребуется не больше двух репетиций. Можете, если хотите, провести их здесь совершенно бесплатно. На арене появились два других участника. Коллинз опять протянул руку, как бы помогая непривычным людям перебраться через барьер. — Вы можете изменять текст антре в зависимости от города, в котором будете находиться, — обратился он к французу. — Надо только сразу же узнать названия самых захолустных пригородов и деревень и изобразить, будто добровольцы явились именно оттуда. Продолжая разговор с воображаемой публикой, Коллинз подал знак к началу представления. Первая попытка Сэма немедленно потерпела неудачу. Он не успел даже толком взобраться на мула, как уже шлепнулся на арену. Три-четыре новых попытки, предпринятых одна за другой, оказались не более успешными; в последний раз ему, правда, удалось продержаться на спине Барнея около десяти секунд, но потом он кувырком перелетел через его голову. Сэм удалился с арены, в огорчении покачивая головой и потирая будто бы ушибленный бок. Ему на смену явились два других «наездника». Отличные акробаты, они падали, проделывая уморительнейшее сальто в воздухе. За это время Сэм успел оправиться и явился снова. Теперь они уже втроем предприняли комбинированную атаку на Барнея и одновременно с разных сторон пытались вскочить на него. Барней становился на дыбы, они то разлетались в разные стороны, то валились в кучу, как мешки с мукой. А один раз Сэм, падая, даже свалил с ног белых наездников, отошедших в сторонку, чтобы перевести дыхание. — Вот что это за мул! — обратился Коллинз к господину с нафабренными усами. — А если какие-нибудь оболтусы из публики и вправду польстятся на деньги — что ж, тем лучше! Они живо свое получат. Не родился еще человек, который целую минуту продержался бы на этом муле, если, конечно, вы и впредь будете репетировать с колючками. Он должен жить в постоянном страхе. Не позволяйте ему забывать о колючках. Если у вас окажется вынужденный перерыв, то порепетируйте с ним разок-другой, а не то он забудет о них и рысцой прокатит по арене какого-нибудь деревенского дурня, так что весь номер пойдет насмарку. Наконец, представьте себе, что сыщется ловкач, который удержится на нем, а минута уже будет на исходе, тогда пусть Сэм или другой участник номера подойдет и незаметно кольнет мула, Тут уж деревенщине несдобровать. А вы и при своих деньгах останетесь и публику насмешите до упаду. Ну, а теперь посмотрим финальный трюк! Внимание! Сейчас публика будет просто умирать со смеху. Приготовиться первым двум! Сэм, на место! Начали! Покуда белые пытались с обеих сторон вскарабкаться на Барнея и таким образом отвлекали его внимание, Сэм во «внезапном» приступе ярости и отчаяния перемахнул через канаты, вскочил на шею мула и, схватив ее руками и ногами, прижался лицом к его голове. Барней, памятуя свой горький опыт, немедленно взвился на дыбы. — Это же гвоздь программы! — воскликнул Коллинз, глядя, как Барней мечется по арене и, то и дело становясь на дыбы передними ногами, пытается сбросить седока. — Опасности нет никакой. На спину он не бросится. Мулы для этого слишком умные животные. А если б это даже случилось, то Сэм уж сумеет упасть, как надо. Номер окончился, и Барнея, охотно давшего надеть на себя недоуздок, подвели к французу. — Это — долговечное, здоровое животное, вы только посмотрите на него, — расхваливал свой товар Коллинз. — У вас будет прекрасный, законченный номер. Кроме вас, в нем участвуют еще трое, не считая самого мула и дураков из публики. С этим номером вы можете хоть завтра начинать выступления, так что пять тысяч, которые я за него прошу, еще очень недорогая цена. Француз поморщился, услышав о такой сумме. — Арифметика здесь простая, — продолжал Коллинз. — Вы подпишете ангажемент не меньше чем на тысячу двести долларов в неделю. На руках у вас еженедельно будет оставаться не менее восьмисот долларов чистыми. За шесть недель вы оправдаете покупку. А ангажемент вы подпишете не на шесть, а на сто недель, да и то вас еще будут упрашивать продлить его. Будь я помоложе и посвободнее, я бы сам поехал в турне с таким номером и сколотил бы себе порядочное состояние. Итак, Барней был продан в вечное рабство, для того чтобы мучения его вызывали смех у праздных зрителей всевозможных увеселительных заведений.
Глава двадцать седьмая
— Дело в том, Джонни, что любовью и лаской ты не заставишь собак выполнять все нужные тебе трюки, в этом существенное различие между собакой и женщиной, — говорил Коллинз своему помощнику. — Ты же знаешь, как бывает с собаками. Ты любя обучаешь ее ложиться, кататься по полу, «умирать» и прочему вздору. А затем хочешь похвалиться ею перед друзьями, но оказывается, что окружающая обстановка изменилась, собака возбуждена, растерянна, и ты не можешь выжать из нее ни одного фокуса. Собаки как дети. На людях они теряют голову, забывают все, чему их учили, и ставят тебя в неловкое положение. Надо помнить, что на арене им приходится проделывать трудные трюки, и к тому же трюки, которые они ненавидят. Кроме того, может, например, случиться, что собака нездорова — простужена, запаршивела или просто не в духе. Что ж тогда прикажете делать? Приносить извинения публике? Далее учти, что программа распределена точно по часам. Спектакль начинается по звонку, и один и тот же номер иногда исполняется раз по семь в сутки, в зависимости от условий контракта. Самое важное, чтобы собаки всегда были наготове и, что называется, в «форме». Не следует ни ласкать, ни уговаривать их, ни нянчиться с ними. Существует только один способ обращения: они должны знать, что мы всегда добьемся от них того, что нам нужно. — Да, собаки отнюдь не глупы, — заметил Джонни. — Они отлично понимают, когда вы всерьез хотите чего-то от них добиться. — Безусловно, — согласился Коллинз. — Стоит только чуть-чуть распустить их, и они уже работают из рук вон плохо. Попробуйте ласково обходиться с ними, и они отблагодарят вас бесконечными накладками. Страх божий — прежде всего! Если собаки не будут вас бояться, то в скором времени вы будете, высунув язык, бегать в поисках ангажемента, хотя бы самого завалящего. Полчаса спустя Майкл опять слушал, ни слова, впрочем, не понимая, как великий дрессировщик преподавал другому ассистенту основы своего ремесла. — Работать, Чарльз, надо только с дворняжками. Из десятка чистопородных собак вы не подберете себе ни одной, разве только вам посчастливится напасть на особо трусливую; но ведь храбрость-то главным образом и отличает чистокровную собаку от дворняжки. У них такая же горячая кровь, как у породистых лошадей. Они обидчивы и горды. В этой гордости вся и беда. Я родился в семье дрессировщика и всю жизнь отдал этому делу. Я преуспел в нем. И преуспел по одной только причине: у меня есть профессиональное знание. Запомни это. Знание. Второе преимущество дворняг — они дешевы. Нам не страшно, если такая собака околеет или обессилеет. Можно сейчас же по дешевке приобрести другую. Они легко поддаются обучению и понимают, что такое страх божий. А чистокровной собаке никакими силами не внушить этого страха. Попробуй отстегать дворняжку. Что произойдет? Она будет лизать вам руки, ползать на брюхе и сделает все, чего вы от нее потребуете. Дворняжки — это собаки-рабы. Правда, они трусливы, но дрессированной собаке храбрость ни к чему. Мы хотим, чтобы она нас боялась. Ну, а если вы изобьете чистопородного пса, что из этого выйдет? Случается, что они околевают от оскорбленной гордости. А если не околевают, то становятся упрямы или злы, или то и другое вместе. Иногда они с пеной у рта бросаются на вас. Их можно убить, но нельзя утихомирить, они до последней минуты будут стараться вас укусить. А не то замкнутся в своем упорстве. И ничего с ними не поделаешь. Я называю это пассивным сопротивлением. Они не будут сражаться. Вы можете забить их до смерти, но толку не добьетесь. Они, как первые христиане, лучше позволят сжечь себя на костре или сварить в кипящем масле, но своими убеждениями не поступятся… Они предпочитают смерть. И умирают. Я видел таких. Я их изучал и… научился оставлять в покое. Они душу из вас вымотают, но не уступят. Уступите вы. И мало того, что они отнимают у вас кучу времени и портят вам нервы, они еще и дорого стоят. Возьмем хоть этого терьера. — Коллинз показал глазами на Майкла, который стоял несколько поодаль, мрачно созерцая сутолоку на арене. — Это чистокровнейший пес, и потому он ни на что не пригоден. Я ни разу не бил его по-настоящему и не буду бить. Это была бы неразумная трата времени. Если обойтись с ним очень круто, он затеет борьбу. И так и сдохнет в борьбе. Впрочем, с человеком, который не слишком жесток с ним, он бороться на станет. Для этого он слишком благоразумен. Но если не быть жестоким, он вот такой и останется — его уже ничему не обучишь. Я бы давно его сплавил, если бы не был уверен, что Дель Map не мог ошибиться. Бедняга Гарри знал о каком-то необыкновенном таланте этого пса, и я во что бы то ни стало должен доискаться, что это за талант. — Может быть, он работает со львами? — предположил Чарльз. — Да, такая собака не должна бояться львов, — согласился Коллинз. — Но в чем состоит эта его работа? Кладет голову в пасть льва? В жизни не слыхивал о такой собаке, хотя, честное слово, это идея! Надо испытать его. Все остальное мы, кажется, уже перепробовали. — У нас ведь есть старик Ганнибал, — заметил Чэрльз. — В труппе Сэйл-Синкера он проделывал этот номер с укротительницей. — Да, но старик Ганнибал последнее время совсем свихнулся, — отвечал Коллинз. — Я уже давно наблюдаю за ним и стараюсь сбыть его. У всякого животного может в конце концов помутиться разум, особенно у хищника. Ведь жизнь-то они ведут противоестественную. А хищник, если свихнется, — пиши пропало. Опытному дрессировщику это грозит потерей больших денег, а неопытному — возможно, и гибелью. Майкла, несомненно, попробовали бы на работе со львами, и его голова осталась бы в чудовищной пасти царя зверей, если бы за него не вступился всесильный бог — случай. Едва Коллинз проговорил последние слова, как к нему торопливо подошел смотритель, на попечении которого в Сидеруайльде находились хищники, и начал что-то докладывать. Это был человек лет сорока, но выглядевший чуть ли не вдвое старше. Глубокие вертикальные морщины, бороздившие его лицо, походили скорее на рубцы от когтей дикого зверя, чем на печать, наложенную его собственной звероподобной натурой. Старик Ганнибал взбесился — вот, собственно, к чему вкратце сводился его доклад. — Вздор, — отвечал Коллинз. — Не он взбесился, а вы постарели и уже не справляетесь с ним. Я вам это докажу. Идите за мной. Сделаем на четверть часа перерыв в работе, и я покажу вам номер, какого еще ни одна арена не видывала. За такой номер любой антрепренер даст десять тысяч в неделю, да только его не повторишь. Старик Ганнибал сдохнет от оскорбленной гордости. Идите все за мной, все до одного. Объявляю перерыв на пятнадцать минут. И Майкл поплелся следом за своим нынешним господином, самым грозным из всех, кто когда-либо властвовал над ним. За ними двинулись остальные — служащие Сидеруайльда и профессиональные дрессировщики. Все они знали, что Коллинз показывает свое искусство лишь в редких случаях и только избранному кругу профессионалов. Смотритель, чье лицо хранило следы не когтей зверя, а его собственной звериной сущности, попытался протестовать, увидев, что Коллинз собирается войти в клетку, вооруженный только палкой от метлы. Ганнибал, правда, уже старик, считался крупнейшим экземпляром укрощенного льва, и вдобавок у него были целы все зубы. Тяжело ступая и слегка раскачиваясь, как все хищники в неволе, он расхаживал взад и вперед по своей клетке, когда возле нее вдруг оказалась целая толпа людей. Не обратив на них ни малейшего внимания, он продолжал, тряся головой, мерить шагами тесное пространство; дойдя до конца клетки, Ганнибал легко повертывал свое огромное тело и шагал обратно с видом, говорившим о непоколебимости принятого им решения. — Вот так он ходит уже два дня, — плаксивым голосом объявил смотритель. — А только сунешься к клетке, сейчас бросается. Глядите, что со мной сделал. — Смотритель поднял правую руку, показывая разорванные в клочья рукава верхней и нижней рубашки и параллельные полосы на теле — следы львиных когтей. — А я к нему вовсе и не входил. Я стал снаружи чистить клетку, а он просунул лапу сквозь прутья да как хватит меня! Если бы хоть зарычал. Нет, ведь звука не издает, только все ходит и ходит. — Где ключ? — спросил Коллинз. — Хорошо! Теперь впустите меня. Когда я войду, заприте дверцу и выньте ключ. Забросьте его куда-нибудь подальше и забудьте о нем. Спешить мне некуда, я подожду, пока вы его найдете и выпустите меня. И Гаррис Коллинз, этот щуплый, низкорослый человек «в весе пера», живущий в постоянном страхе, как бы супруга не швырнула в него за обедом тарелку горячего супа, вооруженный всего-навсего палкой от метлы, на глазах у самой взыскательной публики — служащих его заведения и профессиональных дрессировщиков — вошел в клетку льва. Дверца тотчас захлопнулась за ним; не сводя глаз с шагающего из стороны в сторону Ганнибала, он повторил свое приказание: вынуть ключ из замка. Несколько раз лев прошел мимо, не удостаивая вниманием незваного гостя. Выждав мгновение, когда Ганнибал повернулся к нему спиной, Коллинз неожиданно шагнул вперед и заступил ему дорогу. Повернувшись и увидев помеху на своем пути, лев не зарычал, только мускулы его напряглись, заиграли под гладкой шкурой, и он прямо двинулся на неожиданно возникшее препятствие. Но Коллинз, раньше льва знавший, что тот собирается сделать, опередил его. Он ударил льва по носу палкой от метлы. С грозным рыком Ганнибал попятился и уже занес могучую лапу для удара. Но Коллинз снова опередил его: еще один удар по носу принудил льва вторично отступить. — Заставьте его наклонить голову, и вы в безопасности, — тихим, напряженным голосом говорил великий дрессировщик. — А, ты так! Ну, получай же! Разъяренный Ганнибал изготовился к прыжку и поднял голову, но, получив новый удар, опустил ее; ткнувшись носом в пол клетки, царь зверей попятился, рыча и издавая какие-то странные клокочущие звуки. — Внимание! — проговорил Коллинз, снова ударив льва и принуждая его к скорейшему отступлению. — Человек — господин над зверем, потому что у него мыслящий ум, — назидательно продолжал Коллинз, — а ум, господствуя над телом, предвосхищает мысль животного и тем самым предвосхищает его действия — вот вам и весь секрет. Сейчас вы увидите, как я его усмирю. Лев совсем не так грозен, как он воображает. Мы собьем с него спесь. Собьем при помощи вот этой метлы. Смотрите! Под градом ударов лев все ниже и ниже склонял голову и отходил дальше в глубь клетки. — Сейчас я загоню его в самый угол. И Ганнибал, ворча, фыркая, стараясь отвернуть голову от сыплющихся на нее ударов, отмахиваясь передними лапами от назойливой метлы, послушно отступил в угол и присел на задние лапы, весь съежившись от мучительного и тщетного усилия занять как можно меньше места своим огромным телом. Морду он все время держал книзу, отчего его туловище находилось в неудобном для прыжка положении. Внезапно он поднял голову и зевнул. Но движения его были медленны, и Коллинз, предвосхищавший любое намерение Ганнибала, предвосхитил и зевок, — на этот раз лев не получил удара по носу. — Вот он и капитулировал, — объявил Коллинз, и голос его впервые зазвучал свободно и непринужденно. — Когда лев начинает зевать в разгаре боя, можете быть уверены, что он не бешеный. Он вполне разумен, вернее, ему пришлось образумиться, в противном случае он бы не зевал, а бросался на меня. Но он понимает, что побежден, и этим зевком как бы говорит нам: «Я сдаюсь! Ради всего святого, оставьте меня в покое! Нос у меня болит. Я бы охотно расправился с вами, да не могу! Я сделаю все, что мне прикажут, я буду тих и смирен, только не колотите меня больше по моему бедному больному носу». Но человек — господин и малым не удовлетворится. Внушайте зверю, что вы господин. Вдалбливайте это ему в башку. Не обманывайтесь его смирением. Не золотите ему пилюлю. Заставьте его лизать ноги, втаптывающие его в грязь, целовать палку, которая его бьет. Внимание! И Ганнибал, царь зверей, крупнейший из подневольных хищников, уже взрослым привезенный из джунглей и еще сохранивший все зубы, из страха перед тонкой палочкой в руках тщедушного человека еще больше сжался в своем углу. Согнув спину — одно это уже исключало возможность прыжка, — в беспредельном унижении склонив на грудь некогда гордую голову и всей тяжестью тела опираясь на локтевые суставы, он защищал свой разбитый нос тяжелыми лапами, один удар которых мгновенно вышиб бы дух из тщедушного Коллинза. — Не исключено, что это — притворство, — заявил Коллинз, — но все равно ему придется поцеловать мою ногу и палку, которой я его бил. Внимание! Он быстро поднял левую ногу и без малейшего колебания поставил ее на шею Ганнибала. Палку Коллинз держал наготове, для того чтобы предвосхитить возможное действие льва, а мысль его уже опережала возможную мысль царя зверей. И Ганнибал сделал то, что было предсказано и предугадано Коллинзом. Он поднял голову и раскрыл гигантскую пасть с блеснувшими клыками, чтобы вонзить их в тонкую, обтянутую шелковым носком лодыжку человека. Но клыки не вонзились в нее. Они не успели и на пятую долю пути приблизиться к ноге Коллинза, как палка, больно ударившая льва по носу, принудила его еще ниже склониться, лапами защищаясь от ударов. — Он в полном уме, — объявил Коллинз, — и теперь знает — насколько ему вообще дано знать, — что окончательно побежден. Окажись он бешеным, он бы этого не знал, а я не мог бы предугадать его намерений, и сейчас в клетке уже валялись бы мои внутренности. Он принялся тыкать Ганнибала концом своей палки, держа ее так, чтобы она каждую секунду могла нанести новый болезненный удар. И огромный лев только рычал в жалкой своей беспомощности да после каждого прикосновения палки все выше поднимал морду и, наконец, разинул пасть и, высунув красный язык, лизнул ногу, покоившуюся на его шее, а затем и палку, причинившую ему столько боли и унижений. — Ну, теперь будешь умником? — спросил Коллинз, пнув его ногой в шею. Не в силах больше подавлять свою ненависть, Ганнибал грозно зарычал. — Так будешь умником? — повторил свой вопрос Коллинз. Лев поднял морду и снова лизнул кожаную туфлю и тонкую лодыжку человека, перегрызть которую мог бы в мгновение ока.
Глава двадцать восьмая
С одним только существом из всех многочисленных обитателей Сидеруайльда подружился Майкл, но это была странная и печальная дружба. Сара — его новая подружка, маленькая зеленая обезьянка из Южной Америки — казалось, так и родилась на свет истеричной, негодующей и начисто лишенной чувства юмора. Случалось, что Майкл, плетясь за Коллинзом по арене, встречал ее среди зверей, ожидающих очередного занятия с дрессировщиком. Несмотря на ее полную неспособность или нежелание, Сару все-таки упорно пытались обучить хоть каким-нибудь трюкам или заставляли выступать в качестве статистки. Впрочем, из этого обычно ничего, кроме суеты и путаницы, не получалось; Сара либо болтала без умолку, либо визжала от страха, либо затевала драку с другими животными. Когда от нее требовали выполнения какого-нибудь трюка, она яростно протестовала, а если к ней применяли силу, поднимала такой крик и визг, что другие звери начинали волноваться, и вся работа на арене приостанавливалась. — Не стоит с ней возиться, — в конце концов решил Коллинз, — мы ее потом используем в обезьяньем оркестре. Страшнее приговора нельзя было вынести цирковой обезьяне: участвовать в оркестре значило быть беспомощной марионеткой, которую спрятанные за ширмами люди дергают за невидимые публике веревочки. Но Майкл познакомился с Сарой еще до ее превращения в марионетку. При первой встрече она внезапно налетела на него — визгливый, суматошный, сердито оскалившийся чертенок с выпущенными коготками. Майкл, как всегда теперь, угрюмо безразличный, даже ухом не повел; скользнув по ней невидящим взглядом, он тотчас же отвернулся от этого разъяренного, суетливого создания. Если бы он попытался укусить ее, зарычал, — словом, выказал гнев или недовольство, она подняла бы невообразимый крик и шум, умоляя о помощи и визгливо призывая всех окружающих в свидетели несправедливого, неспровоцированного нападения. Но спокойствие Майкла явно поразило ее. Она еще раз неуверенно приблизилась к нему. Мальчик, ходивший за ней, ослабил цепочку, подумав при этом: хорошо бы пес перегрыз ей спину. Мальчик всей душой ненавидел сварливую, неугомонную обезьянью самочку и мечтал, чтобы его приставили ко львам или слонам. Поскольку Майкл никакого внимания на Сару не обратил, она живо заинтересовалась им: потрогала его лапками, обвила руками его шею и прильнула головкой к его голове. И с этого момента началась нескончаемая болтовня. Каждую свободную минуту она ловила Майкла на арене и, тесно прижавшись к нему, тихим голосом, не переводя дыхания, рассказывала, без конца рассказывала ему что-то — по-видимому, историю своей жизни. Во всяком случае, звучал этот рассказ как перечень горестей, обид и несправедливостей, причиненных ей. Среди этих жалоб слышалась и жалоба на здоровье — ее мучили простуда и кашель, — у обезьянки, видно, болела грудь, так как она жалобным жестом то и дело прикладывала к ней ладонь. Но иногда сетования Сары вдруг прерывались, она ласкала и нежила Майкла, издавая какие-то монотонные, баюкающие звуки. Сара была единственным существом в Сидеруайльде, приласкавшим Майкла; всегда матерински нежная, она ни разу не ущипнула его, не дернула за ухо. Впрочем, и он был ее единственным другом. В часы утренних занятий с дрессировщиками Майкл всегда старался встретить ее — и это несмотря на то, что каждая встреча кончалась тяжелой сценой: Сара всеми силами противилась уводившему ее мальчику, ее крики и возгласы протеста переходили в рыдания и всхлипы, а люди вокруг хохотали над комической любовью обезьяны и ирландского терьера. Однако Гаррис Коллинз охотно терпел и даже поощрял их дружбу. — Эти два кисляя очень подходящая парочка, — говорил он. — Им полезно дружить, по крайней мере у обоих есть теперь смысл жизни, а это оздоровляюще действует на организм. Но только, помяните мое слово, в один прекрасный день она устроит какую-нибудь каверзу, и вся их дружба кончится трагедией. Он сказал это пророческим тоном, и пророчество его сбылось. Хотя Сара никакой каверзы Майклу не устроила, но дружба их в один злосчастный день и вправду кончилась трагедией. — Возьмем, к примеру, тюленей, — пояснял Коллинз в одной из импровизированных лекций, которые он любил читать своим помощникам. — Во время представления их постоянно приходится подкармливать рыбой. Попробуйте обойтись без этого, они откажутся работать, и ничего вы с ними не поделаете. Собаку нельзя заставить работать даже при помощи самых лакомых кусочков. А поросенок, например, выполнит все, что ему прикажут, если у дрессировщика в рукаве спрятан обыкновенный детский рожок с молоком. Все это вам надо запомнить и хорошенько обдумать. Ну можно ли предположить, что вон те борзые станут выбиваться из сил ради куска мяса? Работать их заставляет только кнут. Посмотрите, как действует Билли Грин. Иначе ему свою собачонку этому фокусу в жизнь не научить. Лаской вы с ней ничего не поделаете. Подкупить собаку нельзя. Остается только одно — принудить ее. Билли Грин в это время как раз работал с маленькой лохматой собачонкой неизвестной породы. На арене он производил фурор, когда, вытащив из кармана собаку, заставлял ее проделывать оригинальный трюк. Последняя его собачонка сломала себе хребет, и сейчас он готовил ей заместительницу. Схватив это крохотное создание за задние лапки, он подбрасывал ее кверху, и собачонка должна была, перевернувшись в воздухе, вниз головой опуститься к нему на ладонь и замереть, стоя на передних лапках. Он раз за разом наклонялся, хватал ее за задние лапки и подбрасывал в воздух. Собачонка, замирая от страха, тщетно старалась выполнить то, что от нее требовалось. Ей никак не удавалось удержать равновесие. Она падала, сжавшись в комочек, ему на ладонь и несколько раз едва-едва не свалилась на пол, а под конец шлепнулась боком, да так, что у нее перехватило дыхание. Билли Грин воспользовался этим моментом, чтобы утереть пот, катившийся по его лицу, затем пнул ее носком сапога, и дрожащая собачонка с трудом поднялась на ноги. — Нет на свете собаки, которая проделала бы эдакую штуку за кусок мяса, — продолжал Коллинз, — или пробежалась бы на передних лапах, прежде чем ее тысячу раз не хлестнут по задним. Возьмем, к примеру, хоть этот номер. Он имеет неизменный успех, особенно у женщин, — ведь это же прелесть что такое, сплошное умиление! Хозяин вытаскивает из кармана малюсенькую собачку, которая так его любит, так ему доверяется, что позволяет швырять себя высоко в воздух. Доверие и любовь — черта с два! Страх божий сумел он ей внушить, вот и все. И так же вот публике нравится, когда вы во время исполнения номера вынимаете из кармана какое-нибудь лакомство и потчуете им животное. Это, понятно, тоже только профессиональный прием. Публике приятно думать, что животные с удовольствием выступают на арене, что их нежат и холят, как балованных детей, а они, в свою очередь, обожают хозяина. Если публика, избави боже, увидит, что творится у нас за кулисами, — горе нам и нашим карманам! Номера с дрессированными животными будут немедленно запрещены, и нам с вами придется подыскивать себе какую-нибудь другую работенку. Конечно, к жестоким мерам приходится иногда прибегать на глазах у зрителей. Никто не умел дурачить публику лучше, чем Лотти. Она выступала с дрессированными кошками, в которых души не чаяла, — на публике, конечно. Что же, спрашивается, она делала, когда не удавался какой-нибудь номер? А вот что: брала кошку на руку и целовала ее. После этого поцелуя кошка отлично справлялась со своим номером, а дура-публика устраивала Лотти овацию за ее доброту и гуманность. Целовать кошку! Как бы не так! Она ее кусала в нос. Элинор Павало переняла этот прием Лотти и стала применять его на своих собачонках. Не забудьте также, что многие собаки работают в парфорсных ошейниках; кроме того, опытный дрессировщик всегда сумеет ущипнуть собаку за нос так, что ни один человек из публики этого не заметит. Но главное — страх, страх перед тем, что ждет ее по окончании спектакля, вот что заставляет собаку работать безупречно. Вспомните капитана Робертса и его датских догов, правда нечистопородных. У него их было двенадцать штук, я отродясь не видывал такой свирепой своры. Он дважды оставлял их здесь у меня. Мимо них нельзя было пройти без палки. Я приставил к ним одного мексиканского мальчонку, тоже не из добреньких. Но они напали на него и едва не загрызли. Врач наложил ему больше сорока швов и до отказа накачал его пастеровской вакциной. И все-таки он остался хромым на правую ногу. Повторяю, что злее собак я в жизни не видывал. И тем не менее капитан Роберте уже одним своим появлением с этой сворой приводил публику в неистовый восторг. Псы прыгали вокруг него, точно не зная, как лучше выразить ему свою любовь. Только не воображайте, что они и вправду его любили. Они его ненавидели. Здесь, в Сидеруайльде, он заходил к ним в клетку не иначе как с палкой в руках и раздавал удары направо и налево. Какая уж тут любовь! Дело в том, что он применял старый трюк с анисом. Набивал себе полные карманы мяса, смоченного анисовым маслом. Но такой фокус эффектен только с громадными псами. Будь на их месте обыкновенные собаки, все это имело бы просто глупый вид. А кроме того, они работали не ради мяса, а из страха перед палкой капитана Робертса. Этот капитан и сам был зверюгой. Он вечно твердил, что дрессировать животных — значит внушать им страх. Один из его ассистентов рассказал мне о нем довольно-таки грязную историю. В Лос-Анжелосе они однажды просидели целый месяц без ангажемента, и капитану Робертсу втемяшилось научить собаку балансировать серебряным долларом на горлышке бутылки из-под шампанского. Вдумайтесь-ка в эту штуку: ну можно ли научить этому собаку методами гуманной дрессировки? Ассистент уверял меня, что Роберте обломал об эту собаку столько же палок, сколько ее предшественниц забил до смерти, а забил он шесть штук. Он покупал собак за бесценок, и когда одна околевала, другая уже была наготове и ждала своей очереди. С седьмой собакой он своего добился. Она научилась балансировать серебряным долларом на горлышке бутылки! И околела от последствий своего обучения через неделю после первого показа этого номера, — абсцессы в легких в результате побоев. Я был еще совсем мальчишкой, когда к нам приезжал один англичанин со смешанной труппой пони, собак и обезьян. Он так кусал обезьянам уши, что на арене ему стоило только нагнуться к уху обезьяны, и та немедленно выполняла все, что от нее требовалось. Гвоздем его программы был шимпанзе — он делал раз за разом четыре кульбита на спине пущенного галопом пони; и вот этого-то шимпанзе англичанин регулярно порол два раза в неделю. После порки шимпанзе иногда не в силах был выступать даже на следующий день. Но дрессировщик и тут вышел из положения: перед каждым выходом на арену он не то чтобы избивал его, а так — давал попробовать палки. И он своего добивался, хотя у другого обезьяна со злости, пожалуй, и вовсе бы отказалась работать. В этот же самый день Коллинз преподал весьма ценные сведения одному дрессировщику львов. Человек этот в то время не имел ангажемента и поместил своих трех зверей в Сидеруайльде. Номер его и пугал публику и приводил ее в восторг: львы с рыканьем бросались на маленькую, тоненькую женщину, выступавшую с ними, и казалось, вот-вот разорвут ее; но эта особа с хлыстиком в руках, видимо, смиряла их своей необыкновенной храбростью. — Беда, что они очень уж привыкли к Айседоре, — жаловался дрессировщик. — Ей теперь не удается как следует раздразнить их. И настоящего спектакля не получается. — Я знаю этих львов, — заметил Коллинз. — Они очень стары, и дух у них сломлен. Возьмем, к примеру, хоть Сарка. Ему столько палили в уши холостыми зарядами, что он теперь глух как пень. А Селим — вместе с зубами он утратил все свое величие. Это — дело рук португальца, дрессировавшего его для Барнума и Бэйли. Вы, наверное, слыхали об этой истории. — Да, я не раз о ней думал. Воображаю, что это было! — Страшная штука. Португалец пустил в ход железный прут. Селим был зол в этот день, он наподдал его лапой и только открыл пасть, чтобы зарычать, как тот сунул ему в зубы этот самый прут. Он сам мне рассказывал. Зубы Селима посыпались на пол, точно домино из коробки. Португалец не должен был этого делать. Лев представлял собой большую ценность и являлся чужой собственностью. Португальца после этого случая выгнали, и поделом. — Да, и теперь всем трем моим львам — грош цена, — сказал дрессировщик. — Они уже не рычат на Айседору и не бросаются на нее. А в этом была вся соль номера. Такой финал всегда имел большой успех. Посоветуйте, как мне быть? Отставить этот номер? Или обзавестись молодыми львами? — Айседоре безопаснее работать со старыми, — отвечал Коллинз. — Слишком уж безопасно, — возразил ее супруг. — Конечно, на молодых львов мне придется положить немало труда, да и ответственность моя возрастет. Но жить-то нам надо, а этот номер уже сходит на нет. Гаррис Коллинз покачал головой. — Что вы хотите сказать? Что вам пришло на ум? — живо заинтересовался дрессировщик. — Ваши львы свыклись с неволей и еще долго протянут, — начал Коллинз, — а если вы потратитесь на молодых львов, они могут подвести вас — не выдержат такой жизни и околеют. Нет, старые львы вам еще послужат, надо только воспользоваться моим советом… Великий дрессировщик запнулся, его младший собрат открыл было рот, собираясь что-то возразить, но Коллинз неторопливо закончил: — …который обойдется вам в три сотни долларов. — Три сотни долларов только за совет? — быстро переспросил тот. — Да, за безусловно ценный совет. Подумайте, сколько вам пришлось бы уплатить за трех новых львов? А тут триста долларов дадут вам возможность огрести целую кучу денег. Хотя совет мой простейший. Он состоит всего из двух слов, но каждое это слово обойдется вам в полторы сотни долларов. — Мне это не по карману, — возразил дрессировщик. — Я ведь и так едва-едва свожу концы с концами. — Я тоже, — заверил его Коллинз. — Потому-то я и беседую здесь с вами. Я специалист, и вы платите гонорар специалисту. Вы только диву дадитесь, до чего прост выход, который я подскажу вам; и, честное слово, я не понимаю, как это вам самому не пришло в голову. — А если ваше средство не поможет? — подозрительно осведомился дрессировщик. — Тогда ваши деньги останутся при вас. — Хорошо! Говорите же! — Электризуйте клетку, — сказал Коллинз. Сначала дрессировщик опешил; затем смысл этих слов, по-видимому, начал уясняться ему. — Вы хотите сказать… — Да! — кивнул Коллинз. — И никто ни о чем не догадается. Несколько сухих батарей под полом клетки — и ваше дело в шляпе. Айседоре останется только нажать ногой выключатель; а когда электрический ток пройдет по лапам львов, можете быть уверены, что они начнут прыгать, бесноваться и рычать. Если этого не произойдет, я не только верну вам ваши триста долларов, но и приплачу еще столько же. Я знаю, что говорю. Я видел, как это делается, — тут эффект обеспечен. Звери ведут себя так, словно у них под ногами раскаленная печь. Они взвиваются в воздух, а стоит им коснуться пола, ток снова бьет их по лапам. Но помните, что ток надо давать постепенно, — предупреждал Коллинз. — Я научу вас, как сделать проводку. Сначала совсем слабый ток, а к концу номера все сильней и сильней. К такой штуке они никогда не привыкнут и до конца своих дней будут отплясывать так же бодро, как и в первый раз. Ну, что вы на это скажете? — Да, трехсот долларов такой совет, пожалуй, стоит, — признался дрессировщик. — Хотел бы и я с такой, же легкостью зарабатывать деньги.
Глава двадцать девятая
— Придется, видно, на ней поставить крест, — заметил Коллинз в разговоре с Джонни. — Я уверен, что Дель Map не ошибался, считая эту собаку бесценной. Но ключа у меня нет как нет. Это признание было сделано после отчаянной схватки Коллинза с Майклом. Все более ожесточавшийся Майкл стал болезненно раздражителен и почти без всякого повода набросился на ненавистного ему человека. Вцепиться в него зубами Майклу, как всегда, не удалось; дело кончилось тем, что он сам заработал несколько сокрушительных ударов ногой под нижнюю челюсть. — Пусть это не пес, а золотоносная жила, — вслух размышлял Коллинз, — но, черт возьми, я не знаю, с какой стороны к этой жиле подступиться, а он с каждым днем становится все несноснее. Ну чего он на меня накинулся? Я ему ничего не сделал. Скоро он так озлобится, что на полисменов начнет бросаться. Через несколько минут к Коллинзу подошел один из его клиентов — пышноволосый молодой человек, занимавшийся в Сидеруайльде подготовкой номера с тремя леопардами, и попросил у Коллинза замены своему эрдельтерьеру. — У меня осталась только одна собака, — пояснил он, — а мне для безопасности необходимы две. — Что же стряслось с вашей второй собакой? — поинтересовался Коллинз. — Альфонзо, самый крупный из моих леопардов, сегодня утром освирепел и расправился с ней. Мне пришлось добить беднягу. Альфонзо выпустил ей внутренности, так что арена выглядела, как после боя быков. Но меня эта собака спасла. Если бы не она — не знаю, что бы со мною было. На Альфонзо все чаще стали находить такие приступы. Он уж вторую собаку убивает. Коллинз покачал головой. — У меня нет эрделя, — сказал он, и тут взгляд его упал на Майкла. — Впрочем, попробуйте этого ирландского терьера, нрав у них схожий с эрделями, да и не удивительно, это ведь родственные породы. — Я полагаюсь только на эрделей, никакой другой собаке с хищниками не совладать, — нерешительно отвечал дрессировщик. — Ирландский терьер будет работать не хуже. Посмотрите хотя бы на этого и обратите внимание на его вес и размеры. Будьте уверены, это храбрый пес, его не запугаешь. Устройте ему испытание, сейчас я ничего за него не возьму, а если он подойдет вам, — уступлю по дешевке. Ирландский терьер среди леопардов — это будет сенсация. — Если он сцепится с этими кошками, ему конец, — проговорил Джонни, глядя вслед Майклу и уводившему его дрессировщику. — Да, и арена, может быть, лишится звезды, — пожав плечами, отвечал Коллинз. — Но я по крайней мере сбыл его с рук. Когда собака впадает в меланхолию, с ней уже ничего не поделаешь. Я это знаю по опыту.
Итак, Майкл познакомился с эрделем Джеком, пока уцелевшим от когтей леопарда, и приступил к выполнению своих новых обязанностей. В гигантской пятнистой кошке он немедленно учуял исконного врага всего собачьего племени и, прежде даже чем его втолкнули в клетку, весь ощетинился. Появление новой собаки в клетке дикого зверя — напряженный момент для всех участников будущего номера. Пышноволосый укротитель, именуемый на афишах Раулем Кастлемоном, а среди друзей известный просто как Ральф, уже находился в клетке. Эрдель Джек был подле него, а снаружи возле клетки стояло несколько человек, вооруженных железными прутьями и длинными стальными вилами. Эти орудия, просунутые сквозь прутья клетки, ежесекундно угрожали леопардам, которым предстояло репетировать ненавистный номер. Возмущенные вторжением Майкла, они зафыркали, забарабанили по полу своими длинными хвостами и изготовились к прыжку. В то же самое мгновение укротитель властным голосом заговорил с ними и поднял хлыст, а служители еще глубже продвинули свои орудия в клетку. Леопарды, за время неволи уже не раз изведавшие вкус железа, замерли, и только хвосты их продолжали яростно колотить об пол. Майкл не был трусом. Он не спрятался за человека, не стал искать у него защиты. Но, с другой стороны, он был слишком благоразумен, чтобы первому напасть на этих гигантских кошек. Ощетинившись, он медленно, на негнущихся ногах прошелся по клетке, глядя прямо в лицо опасности, затем повернул обратно и остановился возле Джека, который приветствовал его добродушным ворчанием. — Да, этот пес молодчина, — пробормотал дрессировщик странно сдавленным голосом, — он им так просто не дастся. Положение создалосьнапряженное, и Ральф повел себя крайне осмотрительно. Стараясь не делать ни одного резкого движения, он умудрялся, не спуская глаз с обеих собак и леопардов, в то же время настороженно следить и за служителями по ту сторону клетки. Ему удалось заставить леопардов переменить положение и дальше отойти друг от друга. Затем послышалась отрывистая команда, и Джек прошелся между хищниками. Майкл добровольно последовал за ним. Он, как и Джек, ступал с большой осторожностью, точно деревянный. Один из леопардов, Альфонзо, вдруг фыркнул на него. Майкл не остановился, только шерсть его поднялась еще выше и клыки обнажились. В ту же самую секунду вилы угрожающе пододвинулись к Альфонзо, взгляд его желтых глаз переметнулся на грозное оружие, потом вновь обратился к Майклу, но враждебных действий он уже более не предпринимал. Самым трудным был первый день. Позднее леопарды привыкли к Майклу так же, как привыкли к Джеку. Разумеется, привязанности или дружелюбия ни с той, ни с другой стороны не проявлялось. Майкл скоро смекнул, что леопарды враги как человека, так и собак и что поэтому человек и собаки должны стоять друг за друга. Каждый день, пока шла репетиция, он час или два проводил в клетке; делать ему, как и Джеку, там было нечего, роль собак сводилась к бдительному наблюдению: как бы хищники не бросились на человека. Когда леопарды были настроены менее злобно, Ральф даже разрешал обоим псам ложиться на пол клетки. В иные дни он зорко следил за тем, чтобы они были начеку, готовые в любую секунду прыгнуть между ним и леопардом. Все остальное время Майкл проводил с Джеком в обширном помещении, предоставленном им. Они пользовались хорошим уходом, как и все животные в Сидеруайльде: их мыли, скребли, избавляя от блох. Для своих трех лет Джек был весьма положительным псом. Возможно, впрочем, что он никогда не умел играть, а возможно, что и разучился. С другой стороны, у него был ровный, покладистый нрав, и он не обижался на раздражительные выходки Майкла. Но Майкл вскоре поборол свою раздражительность и наслаждался спокойной дружбой с Джеком. Они не играли, не возились, но часами лежали рядом, радуясь близости друг друга. Временами до Майкла доносился возглас Сары, впавшей в очередную истерику, или ее крики — он это твердо знал, — призывавшие его. Однажды она исхитрилась удрать от служителя и настигла Майкла, когда он выходил из клетки леопарда. Пронзительно взвизгнув от радости, она вскочила на него, прильнула к нему головкой и, истерически всхлипывая, завела рассказ о горестях, постигших ее за время их разлуки. Укротитель леопардов отнесся к ней снисходительно и не отгонял ее, но служитель в конце концов потащил ее за собой; обезьянка, цепляясь за Майкла, непрестанно и злобно визжала, как маленькая ведьма. Когда ее силой от него оторвали, она, разъярясь, бросилась на служителя, не успевшего схватить ее за ошейник, и впилась зубами ему в руку. Вся эта сцена немало рассмешила зрителей, но стоны и крики Сары так встревожили леопардов, что они стали фыркать и биться о прутья клетки. Когда ее уносили, она плакала жалобно, как обиженный ребенок.
Хотя Майкл отлично справлялся со своими обязанностями при укротителе леопардов, Рауль Кастлемон так и не купил его у Коллинза. Однажды утром, через несколько дней после описанной выше сцены, рев и шум в клетках хищников подняли на ноги весь Сидеруайльд. Волнение, вызванное раздавшимися где-то револьверными выстрелами, распространилось повсюду. Львы грозно рычали, собаки лаяли, словно одержимые. Работа на арене тотчас же прекратилась, так как животных уже нельзя было заставить сосредоточиться. Несколько человек, в том числе и Коллинз, ринулись к клеткам хищников. Служитель, приставленный к Саре, бросил цепочку и побежал за ними. — Бьюсь об заклад, что это Альфонзо, — крикнул Коллинз догонявшему его ассистенту. — Ральфу теперь плохо придется. Когда подоспел Коллинз, дело уже близилось к развязке. Кастлемона вытащили из клетки, и Коллинз, подбегая, увидел, что его кладут на пол, в сторонке от уже захлопнутой дверцы. Внутри клетки, свившись в клубок, так что с первого взгляда даже нельзя было понять, из каких зверей этот клубок состоит, яростно бились Альфонзо, Джек и Майкл. Служители метались как угорелые, стараясь поглубже просунуть в клетку железные прутья и разнять зверей. В дальнем углу клетки два леопарда поменьше зализывали раны, рычали и время от времени неистово бросались на железные палки, мешавшие им снова ввязаться в драку. Появление Сары и все, что за этим последовало, было делом нескольких секунд. Волоча за собой цепочку, маленькая зеленая обезьянка, хвостатая истеричная самочка, познавшая любовь и сердцем своим ставшая сродни женщине, стремглав бросилась к клетке и протиснулась сквозь ее частые прутья. В это самое мгновение клубок вдруг распался. Майкла со страшной силой отбросило в угол, он стукнулся об пол, попытался было вскочить на ноги, но весь как-то обмяк и снова упал, кровь ручьем лилась из его правого плеча, разодранного и сломанного. Сара подскочила к Майклу, обвила его передними лапками и с материнской нежностью прижала к своей плоской мохнатой груди. Она непрерывно издавала тревожные крики, а когда Майкл с огромным усилием попытался подняться, опираясь на свою растерзанную переднюю лапу, начала ласково распекать его, стараясь увести подальше от места свалки. Изредка отрывая взор от Майкла, Сара с ненавистью устремляла его на Альфонзо и пронзительным голосом выкрикивала проклятья по его адресу. От этой пары внимание леопарда отвлекла железная палка, упершаяся ему в бок. Он ударил по ней лапой, а когда палка снова коснулась его, прыгнул и яростно вонзился зубами в железо. За первым прыжком почти мгновенно последовал второй, и леопард в клочья разодрал руку человека, державшего палку. Человек отпрянул и выронил оружие. Альфонзо попятился и ринулся на Джека, врага к этому времени уже поверженного и корчившегося в предсмертных судорогах. Майкл, умудрившийся подняться на трех лапах, вырывался из цепких объятий Сары, чтобы снова кинуться в бой. Взбесившийся леопард уже готов был прыгнуть на них, но его остановил железный прут, просунутый в клетку другим служителем. На этот раз он прямо бросился на человека, с такой свирепой силой сотрясая прутья клетки, что казалось, они вот-вот поддадутся его натиску. Подбежали еще люди с железными палками и вилами, но Альфонзо был неукротим. Сара первой заметила его приближение и дико, пронзительно завизжала. Коллинз выхватил револьвер у одного из служителей. — Не убивайте его! — крикнул Кастлемон, хватая за руки Коллинза. Укротитель леопардов и сам был в тяжелом состоянии. Одна рука у него беспомощно висела вдоль туловища, а глаза его заливала кровь, хлеставшая из раны на голове; он вытер глаза о плечо Коллинза, чтобы хоть что-нибудь увидеть. — Альфонзо моя собственность, — пробормотал он, — и стоит больше, чем сотня таких дохлых обезьян или паршивых терьеров. А кроме того, мы извлечем их из клетки. Сейчас я попробую… Кто-нибудь вытрите мне глаза. Я ничего не вижу. И я уже истратил все свои холостые патроны. Не найдется ли у кого-нибудь запасных? Сара то пыталась заслонить собою Майкла от леопарда, которого все еще удерживали на месте направленные на него острия железных прутьев, то визжала перед самой оскаленной пастью гигантской кошки так пронзительно, словно крикливое проявление ее ненависти могло удержать чудовище от нападения. Майкл, весь ощетинившийся, рыча от ярости и таща Сару за собой, проковылял несколько шагов на трех лапах, но раненое плечо подвело его, и он рухнул наземь. И тогда Сара совершила свой подвиг. С истошным криком, задыхаясь от ярости, она ринулась прямо на огромную кошку, царапая, раздирая ей морду передними и задними лапками, а зубами вцепившись ей в ухо. Оторопевший было леопард взвился на дыбы, стараясь передними лапами сбросить, сорвать с себя этого чертенка. Борьба и жизнь зеленой обезьянки не продлилась и десяти секунд. Но Коллинзу этого времени достало на то, чтобы приоткрыть дверцу клетки и за ногу выволочь оттуда Майкла.
Глава тридцатая
Если бы в Сидеруайльде Майклу оказали хирургическую помощь так поспешно и грубо, как это в свое время сделал Дель Map, он бы не выжил. Но на этот раз за него взялся опытный, искусный и к тому же смелый хирург. Правда, операция, которую он сделал Майклу, являлась скорее вивисекцией, ибо тот же хирург никогда бы не осмелился произвести ее на человеке, но Майклу она спасла жизнь. — Он навсегда останется хромым, — объявил хирург, вытирая руки и глядя на недвижно распростертого Майкла, у которого только голова и хвост торчали из гипсовых повязок. — Все зависит от того, как пойдет заживление. Если у него поднимется температура, беднягу придется пристрелить. Сколько он стоит? — Он ничему не обучен, — отвечал Коллинз, — возможно, долларов пятьдесят, а теперь и того меньше. Обучать хромых собак смысла не имеет. Время доказало, что оба они были неправы. Во-первых, Майкл не остался хромым на всю жизнь, хотя его плечо надолго сохранило чувствительность и при сырой погоде он слегка прихрамывал — так ему было легче. Во-вторых, его стоимость очень возросла, и среди собак он стал звездой первой величины, как то и предсказывал Гарри Дель Мар. А пока что он долгие, томительные дни проводил, лежа в полной неподвижности, и температура у него почти не повышалась. Уход за ним был превосходный. Но не любовь или привязанность заставляли людей так за ним ухаживать. Заботливое отношение к больному животному вошло в систему сидеруайльдского заведения и немало способствовало его популярности. Когда с Майкла сняли гипс, ему не дано было испытать того инстинктивного наслаждения, которое чувствуют животные, зализывая свои раны, так как на них были искусно наложены тугие повязки. А когда повязки наконец сняли, то уж и зализывать было нечего: раны зажили, и только где-то глубоко в плече чувствовалась боль, которая утихла лишь через много месяцев. Коллинз больше не донимал его дрессировкой и однажды одолжил в качестве статиста некоей супружеской чете, которая только что потеряла трех артистов из своей собачьей труппы, околевших от воспаления легких. — Если выяснится, что он вам подходит, я вам его продам за двадцать долларов, — сказал Коллинз владельцу труппы Уилтону Дэвису. — А если он околеет? — полюбопытствовал Дэвис. Коллинз пожал плечами: — Слез я по нем проливать не стану. Он не поддается обучению. И когда Майкла, опять посаженного в клетку, увезли в фургоне из Сидеруайльда, у него не оставалось ни единого шанса вернуться туда, так как Уилтон Дэвис был известен в цирковом мире своим жестоким обращением с собаками. О хорошо дрессированной собаке он еще как-то заботился, но статисты, по его мнению, этого не стоили, слишком они были дешевы — от трех до пяти долларов за штуку. А Майкл, на свою беду, достался ему и вовсе задаром. Околей он — Дэвису пришлось бы подыскать взамен новую собаку, и только. Первый этап новой жизни не был особенно труден для Майкла, хотя он не мог как следует распрямиться в тесной клетке, а дорожная тряска вызывала острые приступы боли в его раненом плече. Но путь он проделал не длинный — только до Бруклина, где его водворили во второразрядный театрик. Уилтон Дэвис считался очень средним дрессировщиком и не работал в первоклассных предприятиях. Настоящие страдания тесная клетка стала причинять Майклу, когда ее внесли в большое помещение над сценой и поставили среди других таких же клеток с собаками. Несчастные это были существа — все без исключения дворняжки, заморенные и по большей части совсем павшие духом. У многих на голове были болячки от палки Дэвиса. Болячки эти не лечили, а мазь, которой их замазывали на время представлений, только вредила собакам. Некоторые из них вдруг начинали жалобно выть, и все они время от времени разражались лаем, словно это было единственное утешение, оставшееся им в их тесных клетках. Только Майкл никогда не присоединялся к этому хору. Он давно уже перестал лаять, в чем тоже проявлялась его благоприобретенная угрюмость. Он стал слишком необщителен, чтобы выказывать свое настроение, и отнюдь не собирался следовать примеру своих злобных соседей, которые только и знали, что огрызаться и рычать друг на друга сквозь прутья клеток. Майкл находился в столь подавленном состоянии, что ему было не до ссор. Он хотел только одного — покоя и вдосталь насладился им в течение первых сорока восьми часов на новом месте. Уилтон Дэвис привез сюда свою труппу за пять дней до назначенного выступления. Воспользовавшись свободным временем для поездки к родным жены в Нью-Джерси, он за известную плату поручил одному из служителей театра кормить и поить собак. Служитель, несомненно, выполнил бы взятые им на себя обязательства, если бы, на свою беду, не затеял драки с владельцем бара, после которой его с проломленным черепом отвезли в больницу в карете скорой помощи. Вдобавок театрик закрыли на три дня, так как пожарная охрана потребовала кое-какого срочного ремонта. Никто не наведывался в помещение, где находились собаки, и через несколько часов Майкл ощутил голод и жажду. Время шло, и муки жажды заглушили чувство голода. С наступлением темноты лай и визг в собачнике уже не прекращались, постепенно переходя в жалобный вой и слабое тявканье. Только Майкл не издал ни звука и безмолвно страдал в этом аду. Занялось утро следующего дня; затем день стал клониться к ночи, и тьма на этот раз окутала картину столь страшную, что ее одной было бы достаточно для запрещения всех представлений с дрессированными животными во всех балаганах всего мира. Трудно сказать, дремал ли Майкл или находился в забытьи, но, так или иначе, в эти часы он вновь пережил всю свою прошлую жизнь. Опять он маленьким щенком носился по обширным верандам бунгало мистера Хаггина в Мериндже; вместе с Джерри крался по опушке джунглей к берегу реки — выслеживать крокодилов; проходил обучение у мистера Хаггина и Боба и, в подражание Бидди и Теренсу, считал всех чернокожих богами низшего разряда, которым нечего разгуливать где попало. Он плыл на шхуне «Евгении» с капитаном Келларом, своим вторым хозяином; на песчаном берегу в Тулаги он вновь всей душой предавался стюарду, обладателю магических пальцев, и уходил в открытое море вместе с ним и Квэком на пароходе «Макамбо». Стюард чаще других возникал в его видениях, среди сутолоки каких-то судов и различных людей вроде Старого моряка, Симона Нишиканты, Гримшоу, капитана Доуна и старичка А Моя. В этих видениях частенько мелькали Скрэпс и Кокки, крохотный комочек жизни с отважным сердцем, достойно проживший свой земной срок. Временами Майклу чудилось, будто Кокки, прильнув к его уху, лепечет что-то, а с другой стороны к нему прижимается Сара и быстро-быстро рассказывает свою нескончаемую бессвязную повесть. А затем он вдруг опять чувствовал за ушами магическое прикосновение ласкающих пальцев стюарда, возлюбленного стюарда! — И не везет же мне! — воскликнул Уилтон Дэвис, горестно оглядывая своих собак; воздух еще, казалось, сотрясался от проклятий, которые он только что изрыгал. — Не надо было доверяться какому-то пропойце, — спокойно отвечала ему жена. — Ничего не будет удивительного, если половина из них передохнет. — Ну, теперь не время языком чесать, — рявкнул Дэвис, скидывая пиджак. — Берись, душенька, за дело. Мы должны быть готовы к худшему. Прежде всего надо их напоить. Я сейчас налью воды в лоханку. — Он открыл кран в углу комнаты и ведрами натаскал воды в большую оцинкованную лохань. Услышав звук льющейся воды, собаки принялись скулить, выть, визжать. Некоторые пытались распухшим языком лизать руки Дэвиса, когда он грубо выволакивал их из клеток. Наиболее слабые на брюхе ползли к лохани, их отталкивали те, что были посильнее. Всем места не хватило, и первыми напились сильные собаки. Среди них был Майкл. Толкая других, сам отталкиваемый и оттираемый от живительной влаги, он все же одним из первых припал к ней. Дэвис суетился среди собак, раздавая пинки направо и налево и стараясь, чтобы все получили возможность напиться. Жена помогала ему, разгоняя собак шваброй. Это был ад кромешный, ибо несчастные собаки, едва промочив горло, снова начинали визжать и скулить, жалуясь на свое несчастье и боль. Несколько собак были уже так слабы, что не могли добраться до воды, поэтому Дэвису пришлось вливать воду им в глотки. Казалось, собаки никогда не напьются. Многие в полной прострации лежали на полу, но, очнувшись, вновь ползли к лохани. Тем временем Дэвис развел огонь и поставил на него котел с картошкой. — Здесь воняет, как в скунсовой норе, — заметила миссис Дэвис, кончив пудрить нос пуховкой. — Придется нам их выкупать, мой мальчик. — Хорошо, душенька, — согласился ее супруг. — И чем скорее, тем лучше. Мы управимся с ними, пока картофель сварится и остынет. Я буду их мыть, а ты вытирай. Только вытирай хорошенько, а то еще и эти околеют от воспаления легких. Купание было произведено быстро и без церемоний. Хватая первую попавшуюся собаку, Дэвис окунал ее в лоханку, из которой эти несчастные только что пили. Если испуганная собака противилась ему, он колотил ее по голове щеткой или здоровенным бруском мыла. Минута-другая — и купание считалось законченным. — Пей, черт тебя возьми, пей, коли не напилась, — приговаривал Дэвис, окуная собаку с головой в грязную мыльную воду. Казалось, он считал собак ответственными за то ужасное состояние, в котором он их нашел, а запущенный, грязный вид своих артистов воспринимал как личную обиду. Майкл покорно полез в лохань. Он знал, что купание — это обязательная повинность, хотя в Сидеруайльде оно было обставлено куда лучше, а Квэк и стюард, купая его, чуть ли не священнодействовали. Итак, Майкл терпеливо сносил то, что Дэвис скреб его, и все сошло бы благополучно, если бы тот не вздумал окунуть его с головой. Майкл немедленно высунул голову из воды и угрожающе зарычал. Рука с тяжелой щеткой, занесенная для удара, остановилась на полдороге, а сам Дэвис даже свистнул от удивления. — Вот так так! — проговорил он. — Посмотри-ка, душенька, знаешь, кто это? Ирландский терьер от Коллинза. Он ни на что не пригоден. Коллинз этого не скрывает. Статист — не больше того. А ну, вылезай, — скомандовал он Майклу. — На первый раз, наглец ты эдакий, хватит. Но скоро ты у меня завертишься так, что у тебя в глазах потемнеет. Покуда остывала картошка, миссис Дэвис резкими окриками отгоняла голодных собак от котелка. Майкл угрюмо лежал в сторонке и не принял участия в свалке, которая началась возле кормушки, когда, наконец, последовало разрешение приступить к еде. Дэвис опять метался среди собак, ногами отбрасывая более сильных и не в меру жадных. — Если они будут артачиться после всего, что мы для них сделали, надавай им хороших тумаков, душенька. — Велел он жене. — Вот тебе, вот! Будешь еще, будешь? — тут же крикнул он большой черной собаке, сопровождая свои слова зверским пинком в бок. Собака взвизгнула от боли и, отлетев в сторону, стала издали с тоской смотреть на дымящуюся пищу. — Ну, теперь уж никто не посмеет сказать, что я никогда не купаю своих собак, — заметил Дэвис, споласкивая руки под краном. — На сегодня, пожалуй, хватит: мы с тобой, душенька, немало потрудились. — Миссис Дэвис кивнула в знак согласия. — Репетиции мы успеем провести завтра и послезавтра. Времени у нас еще уйма. Я загляну сюда вечерком и сварю им отрубей. После двухдневного поста надо их хорошенько подкормить. Когда картошка была съедена, собак до следующего дня снова посадили в заточение. В миски им налили воды, а вечером Дэвис, не выпуская своих узников из клеток, досыта накормил их похлебкой из отрубей и «собачьими галетами». Для Майкла это была первая пища после долгой голодовки: к картофелю он так и не притронулся. Репетиции происходили на сцене, и огорчения Майкла начались немедленно. При поднятии занавеса двадцать собак должны были сидеть на расставленных полукругом стульях. Покуда их рассаживали по местам, на авансцене перед занавесом исполнялся другой номер, поэтому требовалось, чтобы собаки соблюдали полную тишину. Зато после поднятия занавеса им полагалось всем сразу залаять. Майклу, как статисту, делать было совершенно нечего, — вся его роль сводилась к сидению на стуле. Но прежде всего надо было взобраться на стул, и Дэвис, отдав ему такое приказание, подкрепил свои слова колотушкой. Майкл угрожающе зарычал. — Ишь ты, — усмехнулся дрессировщик, — наглец, видно, хочешь заработать неприятность. Придется тебе от этих штук отказаться и стать умником. Душенька, последи-ка за остальными, покуда я преподам этому псу урок номер первый. Чем меньше будет сказано о расправе, которая засим последовала, тем лучше. Майкл затеял борьбу заведомо безнадежную и был жестоко избит. Весь в кровоподтеках, он сидел на стуле, не принимая участия в представлении, и тосковал, тосковал так горько и страстно, как никогда в жизни. Молчать до поднятия занавеса ему было нетрудно, но он и потом не присоединился к хору неистово лающих и тявкающих собак. Собаки то поодиночке, то парами или группами по трое и больше, повинуясь приказу дрессировщика, соскакивали со стульев и проделывали все те штуки, которые обычно проделывают дрессированные собаки, — ходили на задних лапах, прыгали, изображали хромого, вальсировали и кувыркались. У Уилтона Дэвиса характер был крутой и рука тяжелая, о чем на репетициях свидетельствовали непрестанные взвизгивания наиболее бестолковых и неповоротливых собак. За один день и следующее утро были проведены три репетиции. Дела Майкла шли сносно. По команде он быстро взбирался на стул и молча сидел на нем. — Вот видишь, душенька, что делает палка, — похвалился Дэвис, обращаясь к жене. Почтенной чете и не снилось, какой конфуз учинит им Майкл на первом же представлении. На сцене, за спущенным занавесом, все уже было готово. Понурые, забитые собаки неподвижно сидели на стульях. Дэвис и его супруга с угрожающим видом расхаживали возле них, следя за соблюдением тишины, а в это время на просцениуме Дик и Дэзи Белл развлекали собравшуюся на утреннее представление публику пением и танцами. Все шло как по маслу, и никто из зрителей никогда бы не заподозрил, что за занавесом находится целая свора собак, если бы Дик и Дэзи в сопровождении оркестра не запели «Свези меня в Рио». Майкл ничего не мог с собой поделать. Как Квэк в давно прошедшие времена покорил его своим варганчиком, стюард любовью и Гарри Дель Map губной гармошкой, так теперь он был покорен звуками оркестра и этими двумя голосами, певшими давно знакомую песенку, которой его обучил стюард, — «Свези меня в Рио». Вопреки всему, вопреки даже нынешней подавленности Майкла какая-то неведомая сила заставила его разжать челюсти и запеть. На сцену донеслось хихиканье женщин и детей, быстро перешедшее в громовой хохот всего зала, совершенно заглушивший голоса Дика и Дэзи. Уилтон Дэвис, ругаясь что было мочи, через всю сцену бросился к Майклу. Но Майкл продолжал выть, а публика покатываться со смеху. Он еще не замолк, когда Дэвис изо всех сил огрел его палкой. Этот неожиданный удар заставил Майкла прекратить пение и невольно взвизгнуть от боли. — Сверни ему башку, милый, — посоветовала миссис Дэвис. И тут разыгралось генеральное сражение. Дэвис лупил Майкла, и в зрительном зале эти удары были слышны так же отчетливо, как рычание и визг собаки. Публика больше не обращала ни малейшего внимания на Дика и Дэзи. Их номер был сорван. Номер Дэвиса, по его выражению, тоже «пролетел». На теле Майкла не оставалось живого места. А публика по ту сторону занавеса веселилась напропалую. Дик и Дэзи вынуждены были прекратить свое выступление. Публика желала видеть то, что происходило за занавесом, а не перед ним. Один из служителей за шиворот выволок избитого Майкла со сцены, и занавес подняли. Глазам зрителей представилась вся собачья труппа, рассаженная по местам, и один пустующий стул. Мальчишки в зале первыми сопоставили эти два явления — незанятый стул и только что происшедшую свалку — и стали шумно требовать, чтобы им показали отсутствующую собаку; остальные зрители поддержали их. Собаки заливались неистовым лаем; всеобщее веселье минут на пять задержало номер, когда же он наконец начался, собаки работали рассеянно и бестолково, а Дэвис нервничал и злился. — Не беда, дружок, — сценическим шепотом успокаивала его невозмутимая супруга. — Мы избавимся от этого пса и подыщем другого, потолковее. Во всяком случае, мы насолили этой Дэзи Белл. Я ведь тебе еще не рассказывала, что она на прошлой неделе говорила обо мне одной моей приятельнице. Через несколько минут ее супруг, улучив момент, зашептал: — Все этот проклятый пес натворил. Ну, уж я до него доберусь. Мокрого места от него не останется. — Хорошо, дружок, — согласилась миссис Дэвис. Когда занавес наконец опустился перед глазами хохочущей публики и собак снова загнали в помещение над сценой, Уилтон Дэвис пошел разыскивать Майкла. Вместо того чтобы забиться в какой-нибудь дальний угол, Майкл стоял между колен одного из служителей, все еще дрожа от обиды, но готовый, в случае нового оскорбления, опять немедленно вступить в бой. По пути Дэвис столкнулся с четой Белл. Жена обливалась слезами ярости, муж находился в состоянии злобного раздражения. — Дрессировщик первый сорт, что и говорить, — задиристо обратился он к Дэвису. — Ну, ничего, скоро вы получите по заслугам. — Отвяжитесь от меня, или я вас так отделаю, что вы своих не узнаете! — рявкнул Дэвис, размахивая короткой железной палкой, которую он держал в руках. — Впрочем, можно и повременить, я еще успею расправиться с вами. Но прежде всего я отделаю этого пса. Ступайте за мной, тогда сами увидите! Ну мог ли я думать, что он устроит такую штуку? Он у меня выступал первый раз, а на репетициях вел себя тихо. Откуда я мог знать, что он завоет, когда вы работали на авансцене? — Черт знает что вы тут учинили, — вместо приветствия крикнул Дэвису директор театра, когда тот в сопровождении Дика Белла двинулся на Майкла, ощетинившегося, но по-прежнему стоявшего между колен служителя. — Сейчас я еще и не то учиню, — проговорил Дэвис, занося руку с крепко зажатой в ней железной палкой. — Я его убью. Запорю до смерти. Можете полюбоваться. Майкл зарычал, поняв угрозу, и, не спуская глаз с железной палки, изготовился к прыжку. — Ничего подобного вы не сделаете, — заверил Дэвиса служитель. — Он моя собственность, — гордо и с убеждением возразил Дэвис. — Ну, это уж вы сущую чепуху несете, — отвечал ему заступник Майкла. — Попробуйте только его стукнуть — и увидите, что из этого получится. Собака — это собака, человек — человек, а вот что вы такое — я, черт вас возьми, даже сказать затрудняюсь. Вы не смеете бить этого пса. Он первый раз в жизни очутился на сцене, да еще после того как ему двое суток ни есть, ни пить не давали. О, я это отлично знаю, господин директор. — Если вы убьете собаку, вам придется заплатить доллар мусорщику за уборку трупа, — напомнил директор. — Заплачу с удовольствием, — отвечал Дэвис, снова поднимая палку. — А свое все-таки с него возьму. — От этих дрессировщиков меня уже с души воротит! — воскликнул служитель. — Лучше не выводите меня из терпения и зарубите себе на носу: если вы дотронетесь до него этой железной штукой, я так вас отделаю, что придется вызывать скорую помощь. Даже если меня за это с места сгонят! — Потише, потише, Джексон, — с угрозой в голосе начал директор. — Вы меня не запугаете, — отвечал тот. — Я твердо решил: если этот мерзавец хоть пальцем тронет собаку, можете отказать мне от места. Сил моих больше нет смотреть, как эти подлецы издеваются над животными. Хватит, я сыт по горло. Директор посмотрел на Дэвиса и недоуменно пожал плечами. — По-моему, не стоит затевать скандала, — посоветовал он. — Мне не хочется расставаться с Джексоном, а он обязательно изувечит вас, если вы будете упорствовать. Отошлите собаку туда, откуда вы ее взяли. Ваша жена рассказала мне ее историю. Посадите этого пса в клетку и отправьте наложенным платежом, Коллинз не будет на вас в претензии. Он отучит его петь и приспособит к чему-нибудь дельному. Дэвис, покосившись на свирепого Джексона, заколебался. — И знаете что, — предложил директор, — пусть Джексон возьмет на себя его отправку. Он посадит его в клетку, погрузит и все прочее. Идет, Джексон? Служитель угрюмо кивнул, наклонился и ласково погладил окровавленную голову Майкла. — Я не возражаю, — бросил Дэвис, направляясь к двери. — Пусть строит из себя дурака и носится с собакой, если ему так хочется. Повозился бы он с этими тварями столько лет, сколько я…
Глава тридцать первая
В открытке, посланной Коллинзу, Дэвис объяснил причину отправки Майкла: «Мне такая «певчая» собака ни к чему», — и тем самым бессознательно дал Коллинзу в руки искомый ключ, который тот так же бессознательно упустил. — Запоешь от таких побоев, — обратился он к Джонни. — Беда наших дрессировщиков в том, что они не умеют беречь свое добро. Смотри, чуть не размозжил ему голову, и еще удивляется, что собака не ведет себя кротко, как ангел. Возьми его, Джонни, вымой и как следует перевяжи ему раны. Мне он тоже ни к чему, но я его пристрою со временем в какую-нибудь собачью труппу. Через две недели Коллинз совершенно случайно открыл наконец талант Майкла. В перерыве между занятиями на арене он велел привести его, чтобы показать дрессировщику, подыскивавшему себе собак-статистов. Майкл по команде вставал, ложился, подходил, уходил, но это и все. Он отказывался усвоить даже самые элементарные трюки, известные любой дрессированной собаке, и Коллинз, оставив его в покое, отошел на другую сторону арены, где сейчас должна была начаться репетиция с обезьяньим оркестром. Для того чтобы заставить испуганных и отчаянно сопротивляющихся обезьян изображать оркестр, их привязывали не только к стульям, но и к инструментам, на которых им надлежало играть; кроме того, тонкие проволочки, прикрепленные к конечностям обезьян, тянулись за кулисы. Дирижер оркестра, старый сердитый самец, был накрепко привязан к вращающейся табуретке. Из-за кулис его то и дело тыкали длинными шестами, и он с ума сходил от ярости. В это время табуретка под ним начинала вращаться в бешеном темпе благодаря протянутому за кулисы шнуру. Публике же должно было казаться, что дирижер злится на фальшивую игру оркестрантов; а от столь нелепого зрелища она, конечно, покатывалась со смеху. — Обезьяний оркестр — это номер беспроигрышный, — говорил Коллинз. — Публика смеется, а за смех все охотно платят деньги. Мы смеемся над обезьянами, потому что они так похожи на нас, и в то же время чувствуем свое бесконечное превосходство над ними. Представьте себе, что мы с вами идем по улице; вы поскользнулись и упали. Я, конечно, смеюсь. И смеюсь потому, что чувствую свое превосходство. Ведь я-то не растянулся на тротуаре. Или, допустим, ветер унес вашу шляпу. Я хохочу, покуда вы гоняетесь за ней, ибо чувствую свое превосходство: моя-то крепко сидит на голове. То же самое и с обезьяньим оркестром. Глупейший его вид позволяет нам чувствовать свое превосходство. Мы себя глупыми не считаем и охотно платим деньги, чтобы полюбоваться дурацким поведением обезьян. Репетиции устраивались не столько для тренировки обезьян, сколько людей, управляющих ими из-за кулис. Людьми главным образом и занимался Коллинз. — Почему бы вам, друзья мои, не заставить обезьян играть по-настоящему? Ничего невозможного в этом нет. Все зависит от того, как вы будете управлять проволочками. Давайте попробуем. Тут стоит потрудиться. Начните с какой-нибудь всем вам знакомой мелодии. Помните, что настоящий оркестр в любую минуту выручит вас. Чтобы нам такое выбрать легкое и знакомое публике? Коллинз очень увлекся разработкой своей идеи и даже призвал на помощь циркового наездника, который играл на скрипке, стоя на крупе галопирующей лошади; не переставая играть, он делал сальто-мортале в воздухе и снова возвращался на свою подвижную площадку. Коллинз попросил этого человека медленно сыграть какую-нибудь простенькую мелодию, так, чтобы люди, держащие проволочки, могли дергать их в такт аккомпанементу. — Если вы уж очень грубо наврете, — внушал им Коллинз, — тогда дергайте за проволочки все разом, тыкайте палками дирижера и изо всех сил вертите его табуретку. Публика будет умирать со смеху: она решит, что у обезьяны прекрасный слух и она беснуется оттого, что оркестранты сфальшивили. В самом разгаре репетиции к Коллинзу подошел Джонни с Майклом. — Этот тип говорит, что он его и даром не возьмет, — доложил Джонни своему патрону. — Ладно, ладно, отведи его обратно, — торопливо распорядился Коллинз. — Ну, ребята, давайте: Родина любимая моя! Начинайте, Фишер! А вы следите за ритмом. Так, хорошо!.. Когда будет настоящий оркестр, вам останется только повторять движения музыкантов. Симонс, побыстрее! Вы все время отстаете. Вот тут-то и открылся талант Майкла. Вместо того чтобы немедленно исполнить приказание Коллинза и отвести Майкла на место, Джонни замешкался, рассчитывая полюбоваться тем, как дирижера будут изо всех сил вертеть на табуретке. Скрипач, в двух шагах от Майкла, присевшего у ног Джонни, громко и отчетливо заиграл: «Родина любимая моя». И Майкл опять не справился с собой. Он не мог не петь, так же как не мог не рычать, когда на него замахивались палкой, он не справился с собой точно так же, как в тот день, когда, потрясенный звуками «Свези меня в Рио», сорвал выступление четы Белл, и как не справлялся с собой Джерри, когда Вилла Кеннан на палубе «Ариеля», окутав его волнами своих волос, пением воскрешала для него первобытную стаю. Майкл воспринимал музыку так же, как Джерри. Для них обоих она была наркотическим средством, вызывавшим блаженные сновидения. Майклу тоже вспоминалась утраченная стая, и он искал ее, искал заснеженные холмы под сверкающими звездами морозной ночи, прислушиваясь к вою других собак, доносившемуся с других холмов, где они собирались в стаю. Стаи не существовало уже давно, очень давно, предки Майкла тысячелетиями грелись у огня, разведенного человеком, — и тем не менее магия звуков, насквозь пронизывая Майкла, всякий раз заставляла его вспоминать утраченную стаю, воскрешала в его подсознании видения иного мира, мира, которого в жизни он не знал. С этими грезами об ином мире для Майкла связывалось и воспоминание о стюарде, о его великой любви к тому, с кем он разучил песни, лившиеся сейчас из-под смычка циркового наездника. И челюсти Майкла разжались, в горле что-то затрепетало, он стал часто-часто перебирать передними лапами, словно бежал куда-то вдаль, — и правда, где-то в глубине своего существа он стремился к стюарду, через тысячелетия порывался обратно к стае и с этой призрачной стаей носился по снежным пустыням и лесным тропам в погоне за добычей, за пищей. Призрачная стая окружала его, когда он пел и, грезя наяву, перебирал лапами. Пораженный скрипач перестал играть, люди из-за кулис тыкали палками дирижера обезьяньего оркестра и в бешеном темпе крутили табурет, на котором он сидел, а Джонни покатывался со смеху. Но Коллинз насторожился. Он явственно расслышал, что Майкл ведет мелодию. Более того, он расслышал, что Майкл не воет, а поет. Наступила тишина. Обезьяна-дирижер перестала крутиться и кричать. Люди, тыкавшие ее палками, опустили свои орудия. Остальные обезьяны дрожали, как в лихорадке, не зная, какие еще издевательства ожидают их. Скрипач застыл в изумлении. Джонни все еще трясся от смеха. Только Коллинз, видимо, что-то обдумывал, почесывал затылок. — По-моему… — нерешительно начал он. — Да что там, я же слышал собственными ушами: собака воспроизводит мелодию. Правда? Я обращаюсь ко всем вам. Разве не так? Проклятый пес поет. Я готов голову прозакладывать. Погодите, ребята, дайте передохнуть обезьянам. Это дело поинтереснее. Попрошу вас, сыграйте еще разок «Родина любимая моя», играйте медленно, громко и отчетливо. Теперь слушайте все… Ну, разве он не поет? Или, может быть, я рехнулся? Вот, вот, слышите? Что вы на это скажете? Ведь это факт! Сомнений быть не могло. После нескольких тактов челюсти Майкла разжались, передние лапы начали свой безостановочный бег на месте. Коллинз подошел к нему поближе и стал подпевать в унисон. — Гарри Дель Мар был прав, утверждая, что эта собака — чудо. Не зря он распродал остальных своих собак. Он-то знал, в чем тут дело. Этот пес — собачий Карузо. Настоящий певец-солист. Это уж вам не свора воющих дворняжек, вроде той, что Кингмен возил по циркам! Не удивительно, что он не поддавался дрессировке. У него свое амплуа. Подумать только! Я ведь уж совсем было отдал его этому живодеру Дэвису. Слава богу, что он отослал его обратно! Смотри за ним хорошенько, Джонни, а вечерком приведи его ко мне. Мы устроим ему настоящий экзамен. Моя дочь играет на скрипке. Она подберет для него какие-нибудь подходящие мотивы. Это золотое дно, а не собака, помяните мое слово.
Так открылся талант Майкла. Испытание сошло довольно удачно. После того как ему проиграли множество различных песен, Коллинз выяснил, что Майкл может петь «Боже, храни короля» и «Спи, малютка, спи». Он провозился с ним немало дней, тщетно стараясь обучить его новым песням. Майкл не выказывал к этому занятию ни малейшего интереса и угрюмо отказывался петь. Но, заслышав мелодию, разученную им со стюардом, вступал немедленно. Это было сильнее его, и он ничего с собой не мог поделать. В конце концов Коллинз открыл пять из шести исполняемых Майклом песен: «Боже, храни короля», «Спи, малютка, спи», «Веди нас, свет благой», «Родина любимая моя» и «Свези меня в Рио». «Шенандоа» Майклу петь больше не довелось, так как ни Коллинз, ни его дочь не знали этой старинной матросской песенки, а следовательно, не могли и сыграть ее для Майкла. — Пяти песен вполне достаточно, даже если он никогда больше не выучит ни одного нового такта, — решил Коллинз. — Он и без того — гвоздь программы. Золотое дно, а не собака. Клянусь честью, будь я помоложе и посвободнее, я ни за что не выпустил бы его из рук!
Глава тридцать вторая
В конце концов Майкл был продан за две тысячи долларов некоему Джекобу Гендерсону. — Я вам его, можно сказать, задаром отдаю, — сказал Коллинз. — Через полгода вы не согласитесь продать его и за пять тысяч, или я ничего не смыслю в цирковом деле. Он живо уложит на обе лопатки вашу знаменитую собаку-математика, а кроме того, учтите, что с ним вам нет надобности работать не покладая рук. И вы будете дурак, если не застрахуете его на пятьдесят тысяч долларов, как только он прославится. Будь я помоложе и посвободнее, я бы почел за счастье отправиться с ним в турне. Гендерсон коренным образом отличался от всех прежних хозяев Майкла. На редкость бледная личность, он не был ни зол, ни добр. Он не пил, не курил и не ругался; никогда не ходил в церковь и не принадлежал к Христианской ассоциации молодежи; будучи вегетарианцем, не доводил свое вегетарианство до фанатизма; любил кино, в особенности фильмы о путешествиях, и большую часть своего досуга посвящал чтению Сведенборга [29]. Характер его никак и ни в чем не проявлялся. Никто никогда не видел его в гневе, и знакомые уверяли, что он обладает долготерпением Иова. Он робел перед полисменами, железнодорожными агентами и кондукторами, хотя и не боялся их. Впрочем, он ничего на свете не боялся, а любил одного только Сведенборга. Натура у него была такая же бесцветная, как костюмы, которые он носил, как его волосы, свисавшие на лоб, и глаза, которыми он глядел на мир. Он не был ни глупцом, ни умным человеком. Но не был и педантом. Он мало давал людям, но мало и спрашивал с них и среди цирковой сутолоки вел жизнь отшельника. Майкл не чувствовал к нему ни любви, ни отвращения, он просто терпел его. Они вдвоем изъездили все Соединенные Штаты и ни разу не повздорили. Гендерсон ни разу не прикрикнул на Майкла, тот ни разу не зарычал на него. Они сжились друг с другом, потому что обстоятельства свели их вместе. Конечно, сердечных уз между ними не существовало. Гендерсон был господином, Майкл — его движимым имуществом. Может быть, он воспринимал Майкла как неодушевленное существо, потому что и сам ничем не умел одушевиться. При всем том Джекоб Гендерсон был честен, деловит и методичен. Каждый день, если только они не были в пути, он купал и потом тщательно вытирал Майкла. Проделывал он это спокойно и неторопливо. Майкл теперь и сам не знал, приятно ему купание или неприятно. Оно стало неотъемлемой частью его жизненного уклада, так же как частью жизненного уклада Гендерсона стало обязательное купание Майкла. Обязанности Майкла были не обременительны, но однообразны. Не считая постоянных странствий, нескончаемых переездов из города в город, ему приходилось ежевечерне выступать на сцене, а дважды в неделю еще и на утренних представлениях. Когда занавес подымали, Майкл находился на сцене в полном одиночестве, как то и подобало прославленному солисту. Гендерсон, скрытый кулисами от глаз публики, внимательно следил за ним. Оркестр исполнял четыре песни из тех, которым его когда-то обучил стюард, и Майкл пел их, — да и, правда, звуки, им издаваемые, куда больше походили на пение, чем на вой. На «бис» он всегда исполнял только одну песню: «Родина любимая моя». Публика устраивала овацию собаке-Карузо, и тут из-за кулис выходил Джекоб Гендерсон, чтобы поклонами и стереотипно радостной улыбкой выразить свою благодарность публике; затем он с наигранным дружелюбием клал руку на голову Майкла, они вместе кланялись еще раз, и занавес наконец опускался. И все-таки Майкл был узником, приговоренным к пожизненному заключению. Его хорошо кормили, заботливо купали, водили на прогулки, но он ни на минуту не чувствовал себя свободным. Во время переездов он дни и ночи проводил в клетке, хотя и достаточно просторной, чтобы стоять в ней во весь рост или лежать, не скорчившись в три погибели. В гостиницах небольших провинциальных городов ему случалось спать вне клетки, в одной комнате с Гендерсоном. Случалось ему, если в программе не было других дрессировщиков, и в полном одиночестве находиться в специальном помещении для зверей при театре и в течение трех дней, самое большее — недели,наслаждаться там относительной свободой. Но ни разу, ни на одно мгновение не случилось ему побегать на воле, забыв о клетке, о четырех стенах комнаты, о цепочке и ошейнике. Днем, в хорошую погоду, Гендерсон часто водил его гулять, но всегда на сворке. Обычно они отправлялись в какой-нибудь парк, где Гендерсон усаживался на скамью, привязывал к ней Майкла и немедленно углублялся в Сведенборга. Майкл шагу не мог сделать свободно. Другие собаки бегали, играли друг с другом или затевали драку. Но стоило им приблизиться к Майклу на предмет более близкого знакомства, как Гендерсон отрывался от книги, — ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы их отогнать. Узник, приговоренный к пожизненному заключению и охраняемый бездушным тюремщиком, Майкл утратил всякий вкус к жизни. Мрачность его сменилась полнейшей апатией. Жизнь и воля перестали интересовать его. И не то, чтобы он с завистью смотрел на пеструю сутолоку жизни, — нет, просто его глаза перестали ее видеть. Отрешенный от жизни, он к ней и не рвался. Он сам превратил себя в покорную марионетку — ел, позволял себя купать, переезжал с места на место в своей клетке, пел на эстраде и очень много спал. Но гордость у него все же осталась — гордость породистого существа, гордость североамериканских индейцев, порабощенных, но не сломленных и безропотно умирающих на плантациях Вест-Индии. Так вот и Майкл смирился перед клеткой и цепью, потому что его мускулы и клыки все равно не могли справиться с железом. Он выполнял свой рабский труд на сцене и повиновался Джекобу Гендерсону, но он не любил своего хозяина, хотя не боялся его, и потому всецело ушел в себя. Он много спал, был мрачен и безропотно сносил свое страшное одиночество. Попытайся Гендерсон завладеть его сердцем, Майкл, безусловно, откликнулся бы на эту попытку; но Гендерсон любил лишь фантастические бредни Сведенборга, а Майкл был для него только источником существования. Временами Майклу приходилось переносить немалые тяготы, но он и с ними мирился. Особенно тяжки были железнодорожные переезды зимой, когда его прямо из театра привозили на вокзал и он на платформе часами дожидался поезда, который должен был увезти его в другой город, в другой театр. Однажды ночью в Миннесоте две собаки на соседней тележке замерзли насмерть. Майкл тогда тоже продрог до костей, и у него мучительно ныло плечо, некогда изорванное леопардом, но он выжил благодаря более крепкому организму и хорошему уходу, которым пользовался все последнее время. По сравнению с другими дрессированными животными Майклу жилось хорошо. Он даже не подозревал и не догадывался, каково приходилось многим его собратьям. Так, например, один номер, стоявший в той же программе, что и номер Майкла, вызывал бурное возмущение даже в среде цирковых артистов. Самые бывалые из них всем сердцем ненавидели некоего Дэкворта, хотя у публики номер «Дрессированные кошки и крысы Дэкворта» пользовался неизменным успехом. — Дрессированные кошки, — фыркала хорошенькая велосипедистка Перл Ла Перл. — Дохлые кошки, а не дрессированные, их доколотили до того, что они сами превратились в крыс. Это же ясно как день! — Дрессированные крысы! — вспылил Мануэль Фонсека, «человек-змея», отказываясь распить с Дэквортом бутылку вина в баре гостиницы «Аннандэйл». — Опоенные крысы! Так будет вернее! Почему они не спрыгивают с каната, а ползут по нему, да еще между двумя кошками? Потому что у них нет сил спрыгнуть. Он их ловит, поит каким-то зельем, а потом морит голодом, чтобы сэкономить деньги на покупку этого зелья. Дэкворт никогда их не кормит. Уж я-то знаю! Иначе куда он девает от сорока до пятидесяти крыс в неделю? Когда ему в городе крыс уже не добыть, ему их присылают откуда-нибудь еще целыми партиями, это факт. — Ей-богу, не понимаю, — говорила мисс Мерль Мерриуэзер, аккордеонистка, та самая, которой на сцене можно было дать лет шестнадцать, но которая в жизни любила хвалиться своими внуками и не скрывала, что ей уже сорок восемь. — Просто злость берет, как это публика ловится на такую удочку. Вчера утром я своими глазами видела: семь крыс из тридцати околели, околели с голоду. Он никогда их не кормит. Они ползут по канату уже полудохлые. Потому и ползут. Если б к ним в желудок попал хоть кусочек хлеба с сыром, они мигом бы удрали от кошек. Они подыхают голодной смертью на глазах у публики, а ползут по канату, потому что и умирающий человек пытался бы уползти от тигра, который вот-вот растерзает его. Бог ты мой! А тупоголовые зрители еще аплодируют этому поучительному зрелищу! Но что знает публика?! — Чего-чего только не сделаешь с животными добротой, — говорил один из зрителей, банкир и церковный староста. — Доброта способна и животным внушить человеческие чувства. Крыса и кошка враждовали с сотворения мира. А нынче вечером мы стали свидетелями их общего участия в сложной игре, и, подумать только, кошки не выказывали ни малейшей враждебности к крысам, а крысы нисколько не боялись кошек. Вот что значит человеческая доброта и какова ее сила! — Лев и ягненок! — восклицал другой. — Говорят, что в золотом веке лев и ягненок будут мирно лежать бок о бок. Ты только представь себе, милочка: бок о бок! А этот Дэкворт умудрился предвосхитить золотой век! Кошки и крысы! Вдумайтесь хорошенько, что это значит. Какое бесспорное доказательство всемогущества доброты! Я сейчас же приобрету разных зверюшек для наших малышей. Надо, чтобы они с детства приучались быть добрыми с собаками, кошками, даже с крысами, а уж с милыми птичками в клетках и подавно. — Так-то оно так, — заметила его благоверная, — но ведь говорит же Блэйк [30], что даже «Птичку в клетку заточить значит бога прогневить». — Нет, милочка, это не так, если по-хорошему обходиться с ней. Я немедленно приобрету парочку-другую кроликов и кенаря с канарейкой. А ты обдумай, какую собачку нам лучше подарить детишкам. «Милочка» взглянула на своего супруга, до мозга костей проникнутого величественным сознанием собственной доброты, и увидела себя самое молоденькой сельской учительницей, приехавшей в Топика-Таун с заветными томиками Эллы Уилер Уилкокс [31] и лорда Байрона [32] — ее кумиров, с мечтою тоже написать «Поэмы страсти». Там-то она и вышла замуж за этого солидного, положительного дельца, что сидел теперь рядом с ней, восторгаясь мирным единением ползущих по канату кошек и крыс, и ни на мгновение не подозревал о том, что это про него и его жену сказано: «Птичку в клетку заточить значит бога прогневить». — Ну, крысы хоть противные животные, — продолжала мисс Мерль Мерриуэзер, — но как он обращается с кошками! Я наверняка знаю, что за последние две недели он уморил уже трех. Пускай это уличные кошки, но ведь они все равно живые существа. Он их со свету сживает этим своим «боксом». Кошачьим боксом, имевшим большой успех у публики, неизменно заканчивался номер Дэкворта. Двух кошек в маленьких боксерских перчатках на лапках ставили на стол. Само собой разумеется, что для такого «дружеского матча» кошки, работавшие с крысами, были непригодны. В этой сценке дрессировщик выпускал новых кошек-, еще не окончательно утративших пылкость и энергию. Они работали на Дэкворта, покуда пылкость и энергия в них не иссякали или же покуда они не подыхали от болезней и истощения. Для публики это был забавный спектакль, комическая борьба четвероногих существ, сделанных до смешного похожими на верховное двуногое существо — человека. Но для кошек ничего комического в этой борьбе не было. Их злили и натравливали друг на друга за кулисами и уже в разъяренном состоянии выпускали на сцену. В ударах, которые они наносили друг другу, чувствовались злоба и боль, ярость и страх. Перчатки быстро соскакивали с их лапок, они, точно фурии, налетали друг на друга, царапались, кусались, так что к моменту закрытия занавеса шерсть клочьями летала по сцене. Публика умирала со смеху, глядя на «неожиданный» финал этой схватки; под громкие аплодисменты занавес снова поднимался, открывая Дэкворта и одного из служителей, обмахивавших кошек полотенцами, точно заправских боксеров. Поскольку номер этот исполнялся ежедневно, раны и царапины у кошек не успевали подживать, загрязнялись, и тела их почти сплошь покрывались болячками. Многие кошки подыхали, другие, обессилев до того, что не могли напасть даже на крысу, уже не боксировали, но работали на канате вместе с одурманенными, изголодавшимися крысами, в свою очередь, не имевшими сил удрать от них. А тупоголовая публика, по справедливому замечанию мисс Мерль Мерриуэзер, аплодировала дрессированным кошкам и крысам как поучительному зрелищу. Большой шимпанзе, выступавший как-то в одном цирке с Майклом, ненавидел одеваться. Как лошадь, не дающая надеть на себя узду, а потом, когда узда уже надета, начисто забывающая о ней, шимпанзе оказывал яростное сопротивление людям, надевавшим на него костюм. Но уже одетый, он спокойно выходил на арену и исполнял свой номер. Вся загвоздка была в том, чтобы его одеть. Проделывали это хозяин и двое служителей, предварительно привязав его к кольцу, вбитому в стену, да еще держа за горло, — и все это несмотря на то, что хозяин давно уже вышиб ему передние зубы. Не испытывая на себе жестокости, Майкл чуял ее и принимал, считая, что таков порядок вещей, — так же как дневной свет и ночной мрак, как колючий мороз на не защищенных от ветра вокзальных платформах, как таинственное царство «иного», открывавшееся ему в сновидениях и песнях, и не менее таинственное небытие, поглотившее плантацию Мериндж, корабли, моря, знакомых ему людей и стюарда.
Глава тридцать третья
Два года пел Майкл свои песни по городам Соединенных Штатов, зарабатывая себе славу, а Джекобу Гендерсону богатство. Без ангажемента они никогда не оставались. Успех Майкла был настолько велик, что Гендерсон даже отклонил ряд лестных предложений выступить за океаном, в Европе. Передышка для Майкла наступила, только когда Гендерсон заболел брюшным тифом в Чикаго. Эти трехмесячные каникулы Майкл, заботливо опекаемый, но все же не покидавший своей клетки, провел в дрессировочном заведении некоего Мулькачи. Мулькачи, один из наиболее преуспевших учеников Коллинза, по примеру своего учителя открыл в Чикаго школу дрессировки, в основу которой были положены те же принципы идеальной чистоты, неукоснительного соблюдения всех санитарно-гигиенических правил и научно обоснованной жестокости. Майкл получал превосходную пищу и содержался в безупречной чистоте; но, сидя в своей клетке, одинокий и тоскующий, он чуял вокруг себя атмосферу страданий и страха, в которой жили животные, терзаемые на потеху человека. Мулькачи любил повторять афоризмы собственного сочинения, среди которых были и такие: «Если животное не сломишь болью, его вообще не сломишь. Боль — единственный учитель»; «Отучаем же мы лошадь бить задом, значит, и льва можно отучить кусаться»; «Метелочкой из перьев вы себе зверя не подчините»; «Чем толще череп, тем толще палка»; «Звери — мастера разрушать все ваши планы, поэтому первым делом выбейте из них дух противоречия»; «Сердечные узы между дрессировщиками и животными? Это, голубчик мой, чушь, пригодная разве что для газетных репортеров. Из всех сердечных уз я признаю только палку, да еще с железным наконечником»; «Конечно, вы можете приучить их есть у вас из рук, но тут надо глядеть в оба, чтобы они заодно не отъели вам пальцев. А для этого самое лучшее средство — холостой заряд в нос во время кормежки». В заведении Мулькачи бывали дни, когда, казалось, даже воздух содрогался от злобного рычания и страдальческого визга зверей на арене, так что в клетках начиналось неистовое волнение. Мулькачи вечно похвалялся, что может укротить самого неукротимого зверя, поэтому к нему то и дело доставляли наиболее «трудных» животных. Считалось, что он справится там, где у других дрессировщиков опускались руки. Смелый, бессердечный, хитрый, Мулькачи оправдывал эту репутацию. Он не останавливался ни перед какими мерами и если уж отказывался, значит, дело было безнадежное. Тогда животное было обречено на пожизненное одиночное заключение в клетке, и ему оставалось только до конца своих дней ходить взад и вперед по ее ограниченному пространству да горестно и гневно рычать на устрашение и потеху досужих зрителей. За те три месяца, что Майкл пробыл у Мулькачи, два случая особенно выделились своей жестокостью. В часы работы школа и без того оглашалась воем и воплями «благонравных» медведей, львов и тигров, которым преподавали науку подчинения человеку, или слонов, обучаемых с помощью подъемных кранов и уколов копьями играть на барабане и стоять на голове. Но эти два случая даже тут были исключением и повергли в страх и отчаяние остальных животных. Так должен чувствовать себя человек, войдя в преддверие ада и слыша крики своих собратьев, с которых живьем сдирают кожу. Первый случай произошел с большим бенгальским тигром. Рожденный в джунглях, выросший на свободе, благодаря своей силе и доблести господин над всеми встречавшимися ему живыми существами, в том числе и над другими тиграми, он все же попал в западню; высвобожденный из нее, он в тесной клетке, то на спине слона, то в вагоне железной дороги, то в трюме парохода проехал по морям и континентам и попал в заведение Мулькачи. Покупатели смотрели его, но купить не решались. Однако Мулькачи был непоколебим. Вся его кровь загоралась при одном взгляде на эту величественную полосатую кошку. Присущее ему звериное начало жаждало поединка для утверждения своего превосходства. И вот после двух недель ада для тигра и всех других животных Мулькачи решил, что огромному зверю преподан первый урок. Бен-Болт, как его нарекли люди, прибыл к Мулькачи озлобленный, неукротимый, но почти парализованный после двухмесячного пребывания в тесной клетке, не позволявшей ему как следует расправить члены. Мулькачи следовало бы немедленно заняться тигром, но он упустил две недели, так как только что женился и наслаждался медовым месяцем. За это время Бен-Болт в просторной железной клетке с цементным полом успел оправиться, мускулы его снова обрели былую силу, а ненависть к двуногим созданиям, таким жалким и тщедушным по сравнению с ним, но тем не менее сумевшим хитростью и коварством заточить его в клетку, еще возросла в его сердце. В тот роковой день он нетерпеливо ждал встречи с человеком. И люди пришли, вооруженные веревочными арканами и железными вилами, с заранее обдуманным стратегическим планом. Пятеро из них забросили арканы в клетку. Тигр зарычал и ринулся на извивающиеся по полу веревки; не менее десяти минут бушевал и метался по клетке этот злобный величественный зверь, которому, увы, не хватало изворотливости и терпения, отличавших его жалких двуногих врагов. Затем веревки ему наскучили, он оставил их в покое и зарычал на людей, но правая задняя лапа его уже запуталась в петле. В то же мгновение железные вилы, быстро поддев петлю, рванули ее вверх, и веревки впились в тело тигра, мучительно уязвив его гордое сердце. Он рассвирепел, прыгнул, и грозный рык потряс стены. Бен-Болт так метался по клетке, что веревки обдирали ладони державших их людей. Но они упорно вытаскивали петли из клетки и снова забрасывали, покуда — тигр не успел даже опомниться — петля не затянула и его переднюю лапу. Все, что он делал до сих пор, было ничто по сравнению с неистовством, в которое его повергла эта новая беда. Но он был глуп и нетерпелив. Люди же были умны и терпеливы, и мало-помалу им удалось заарканить третью, а потом и четвертую лапу; они стали тянуть за веревки, и вот он оказался постыдно лежащим на боку у решетки, а лапы его — самое грозное оружие тигра после могучих клыков — вытянутыми наружу между прутьев клетки. А затем тщедушное двуногое создание Мулькачи решительно и нагло вошел в клетку и приблизился к Бен-Болту. Тигр весь напрягся, готовясь прыгнуть на него, но прыгнуть он не мог: его заарканенные лапы торчали из клетки, и никакими силами он не мог втянуть их обратно. А Мулькачи опустился на колени рядом с ним — дерзнул опуститься рядом с ним — и набросил пятую петлю на шею Бен-Болта. И вот голова тигра уже подтянута к прутьям клетки и находится в том же беспомощном положении, что и все четыре лапы. Мулькачи кладет руки ему на голову, треплет его за уши, трогает ему нос — на расстоянии какого-нибудь дюйма от грозных клыков, — а тигр только рычит, храпит и задыхается от стянувшей ему горло петли. Весь дрожа не от страха, а от бешеной ярости, Бен-Болт волей-неволей дает надеть себе на шею широкий кожаный ошейник с длинной и толстой веревкой. Когда Мулькачи выходит из клетки, люди искусно сбрасывают петли с его лап и шеи. После всех страшных унижений он опять свободен — в пределах клетки. Бен-Болт взвивается в воздух. Дыхание вернулось к нему, и он оглашает стены неистовым ревом, дубасит лапами волочащуюся за ним веревку, которая его безмерно раздражает, когтями пытается разорвать ошейник, стягивающий ему шею, падает наземь, катается с боку на бок, запутывается еще больше в веревке, тем самым раздражая свои до предела натянутые нервы, и добрых полчаса проводит в изнурительной борьбе с неодушевленным предметом. Так укрощают тигров! В конце концов, изнемогши от непосильного нервного напряжения и собственной ярости, он ложится посреди клетки и бьет хвостом, глаза его пылают ненавистью, но он уже не пытается сорвать с себя ошейник, на опыте убедившись, что это невозможно. К величайшему его удивлению — если допустить, что тигр способен удивляться — кто-то открывает заднюю дверцу клетки, и она так и остается открытой. Бен-Болт смотрит на нее со злобной подозрительностью. Но никто оттуда не появляется, никакая опасность, видимо, не угрожает ему с той стороны. Тем не менее подозрительность его возрастает: никогда не знаешь, что сделают эти двуногие существа, чего можно ждать от них. Он предпочел бы остаться на месте, но у решетки раздаются крики, щелканье бичей, а главное — его опять колют железными вилами. Волоча за собой веревку и нисколько не помышляя о бегстве, а только в надежде наконец расправиться со своими мучителями он выскакивает в коридор, тянущийся позади клетки. В коридоре темно и пусто, только в конце его брезжит свет. Громко рыча, Бен-Болт огромными прыжками мчится по коридору под вой, визг и рев других животных.


Выскочив на свет, он остановился, ослепленный, потом вдруг припал к земле, забил своим длинным хвостом и стал осматриваться. Но оказалось, что он снова в клетке, только не такой тесной, — это была арена, залитая светом и обнесенная решеткой. Арена была пуста, хотя вверху, на блоке, висели семь громоздких железных стульев, мгновенно показавшихся ему подозрительными; он даже зарычал на них. С полчаса Бен-Болт бродил по арене, — за два с половиной месяца, прошедших со дня его пленения, он впервые передвигался по относительно свободному пространству. Вдруг длинный железный шест с крюком на конце зацепил его за веревку, и какие-то люди, стоявшие по ту сторону прутьев, потянули ее к себе. Десять человек мгновенно ухватились за конец веревки, и Бен-Болт ринулся бы на них, если б в это самое мгновение через заднюю дверцу на арену не вошел Мулькачи. Ничто теперь не разделяло человека и тигра. И Бен-Болт двинулся на Мулькачи, хотя ему все время чудилось что-то неладное: этот тщедушный человек не пятился от него, не пригибался к земле от страха, но спокойно ждал его приближения. Бен-Болт так и не бросился на Мулькачи. Сначала он из хитрости и осмотрительности помедлил с атакой, — распластавшись и колотя хвостом по песку арены, он изучал человека, который вот-вот станет его добычей. В руках Мулькачи держал хлыст и остро отточенные железные вилы, за поясом у него торчал револьвер, заряженный холостыми патронами. Еще ниже припав к земле, Бен-Болт медленно подкрадывался к нему, точно кошка к мыши. На расстоянии прыжка от Мулькачи он совсем распластался, изготовился и бросил взгляд на людей, столпившихся позади него, по ту сторону решетки. О веревке, прикрепленной к его ошейнику, конец которой эти люди держали в руках, Бен-Болт позабыл. — Ну, теперь, старина, придется тебе быть умником, — мягко и даже ласково заговорил с ним Мулькачи, делая шаг вперед и вытягивая руку, держащую вилы. Этот жест разъярил гигантского величественного зверя. Он зарычал громко и страшно, прижал уши и прыгнул, напружинив лапы с грозно выпущенными когтями; хвост его, прямой, как прут, вытянулся в воздухе вровень со спиной. Человек не пригнулся, не обратился в бегство, но и зверь не тронул его: когда тигр взвился в воздух, веревка на его шее натянулась, он перекувырнулся в воздухе и рухнул на бок. Прежде чем он успел снова вскочить, Мулькачи очутился подле него, крича своим помощникам и служителям: «Я выколочу из него дух противоречия!» И он стал колотить его по носу рукояткой бича и колоть вилами под ребра. Ураган ударов и уколов обрушился на самые чувствительные места зверя. Любая его попытка рассчитаться со своим мучителем мгновенно пресекалась десятью людьми, натягивавшими веревку, и всякий раз, когда Бен-Болт валился на бок, Мулькачи беспощадно колол его вилами и хлестал по носу. Боль он испытывал нестерпимую, особенно от ударов по чувствительному носу. А существо, причинявшее эту боль, не уступало ему, Бен-Болту, в неудержимой свирепости, более того, превосходило его в силу своего разума. Через несколько минут, ошеломленный болью, смертельно испуганный своей беспомощностью, Бен-Болт пал духом. Он униженно отступил перед мелким двуногим созданием, оказавшимся свирепее его — огромного бенгальского тигра. Он подпрыгнул, в ужасе заметался из стороны в сторону, низко пригибая голову, чтобы защитить ее от градом сыпавшихся ударов. Он бросился на решетки, окружавшие арену, и подскакивал, тщетно пытаясь вскарабкаться вверх по скользким отвесным прутьям. Мулькачи, точно ангел мщения, повсюду настигал его, бил, колол вилами и шипел сквозь зубы: — Будешь артачиться, будешь? Я тебе покажу, как сопротивляться! На, получай! Получай! Мало? Вот тебе еще! — Ну, теперь я запугал его, остальное уже будет легче, — тяжело дыша, объявил Мулькачи, в то время как огромный тигр, съежившись и дрожа всем телом, отползал к решетке. — Давайте, ребята, передохнем минут пять, чтобы собраться с силами. Спустив на арену один из висевших на блоке железных стульев, Мулькачи стал готовиться к первому сеансу дрессировки. Бен-Болт, тигр, рожденный и выросший в джунглях, теперь должен был сидеть в кресле: трагическая и нелепая карикатура на человека. Но Мулькачи считал, что сначала надо повторить урок страха, еще глубже внедрить это чувство в сердце животного. Подойдя к Бен-Болту на расстояние, большее, чем его возможный прыжок, он полоснул тигра хлыстом по носу, полоснул еще раз, и еще, и еще — несметное множество раз. Бен-Болт отворачивал голову то в одну, то в другую сторону, но бич всякий раз хлестал его по израненному, окровавленному носу; Мулькачи владел бичом не хуже циркового наездника и без промаха стегал Бен-Болта, сколько бы тот ни вертел головой. Обезумев от нестерпимой боли, тигр взвился в воздух, но тут же был брошен наземь десятью сильными мужчинами, державшими конец веревки. Ярость, жажда крови и разрушения были выбиты из его воспаленного мозга, — отныне он знал только страх, бесконечный унизительный страх, страх перед этим маленьким существом, так жестоко его истязавшим. Затем начался первый сеанс дрессировки. Чтобы привлечь внимание зверя к железному стулу, Мулькачи стукнул по нему рукояткой бича и тотчас же хлестнул этим бичом по носу Бен-Болта. В то же самое мгновение один из служителей ткнул его под ребра железными вилами, заставляя отойти от решетки и приблизиться к стулу. Тигр пополз было по направлению к Мулькачи, но тотчас же отпрянул. Мулькачи опять ударил по стулу, бич свистнул в воздухе, опускаясь на морду Бен-Болта, вилы снова вонзились ему под ребра — и боль заставила его приблизиться к середине арены. И так беспрерывно — четверть часа, полчаса, час; человек обладал терпением бога, а Бен-Болт был только бессловесной тварью. Так была сломлена — сломлена в точном смысле этого слова — природа тигра. Ибо дрессированное животное — это навеки сломленное существо, беспрекословно выделывающее всевозможные штуки на потеху публике, оплачивающей из своего кошелька это жалкое зрелище. Мулькачи приказал одному из служителей выйти на арену. Если нельзя просто заставить тигра усесться на стул, значит, надо прибегнуть к особым мерам. Веревку, прикрепленную к ошейнику Бен-Болта, подтянули кверху сквозь решетчатую крышу клетки и пропустили через блок. По знаку Мулькачи все десять человек разом натянули ее. Храпя, давясь, отбиваясь, обезумев от страха перед этим новым видом насилия, Бен-Болт, подтягиваемый за шею, стал медленно отрываться от земли и повис в воздухе. Он извивался, корчился, задыхался, как человек на виселице и, наконец, захрипел. Огромное тело тигра изгибалось в воздухе, скручивалось в клубок, чуть ли не завязывалось узлом — так гибки были его великолепные мускулы. Служители ухватили Бен-Болта за хвост и при помощи блока, передвигавшегося на роликах по верхней решетке, подтащили к тому месту, где стоял железный стул. Тут они сразу ослабили веревку, и Бен-Болт, у которого уже все плыло перед глазами — Мулькачи успел за это время несколько раз пырнуть его вилами, — оказался сидящим в кресле. Правда, он в то же мгновение соскочил, но тут же получил удар рукояткой по носу и холостой заряд прямо в ноздри. Ужас и боль повергли его в настоящее бешенство. Он прыгнул, надеясь спастись бегством, но Мулькачи крикнул: «Поднять его!» И тигр, хрипя и задыхаясь, вновь стал медленно отрываться от земли. И опять его потащили за хвост, опять ткнули вилами в грудь и спустили вниз так внезапно, что он, рванувшись, угодил брюхом прямо на железный стул. Полузадушенный веревкой, на которой его поднимали в воздух, после этого падения он лежал, казалось, вовсе бездыханный, его потускневшие глаза приняли бессмысленное выражение, голова болталась из стороны в сторону, из пасти стекала пена, кровь ручьем лилась по разбитому носу. — Поднимай! — заорал Мулькачи. И Бен-Болта, опять начавшего бешено отбиваться от душившего его ошейника, стали медленно подтягивать кверху на блоке. Он противился своим мучителям так яростно, что, как только его задние лапы оторвались от пола, стал раскачиваться, точно гигантский маятник. Когда его снова одним броском швырнули на стул, он на мгновение и вправду принял позу сидящего человека; потом вдруг взревел и молниеносно вскочил. «Взревел», собственно говоря, не то слово. Это не было ревом, так же как не было рыком или ворчанием, — это был страшный вопль потерявшего себя живого существа. Зверь бросился на Мулькачи, но тот уклонился и выстрелил холостым зарядом ему в другую ноздрю. На этот раз, когда его опустили, он повалился на стул, как неполный мешок с мукой, и тотчас же стал медленно сползать с него весь обмякший, поникнув огромной рыжей готовой, покуда не очутился на полу без памяти; черный распухший язык вывалился из его пасти. Когда Бен-Болта стали отливать водой, он испустил тяжелый вздох и застонал. На этом кончился первый урок. — Все в порядке, — говорил Мулькачи после ежедневных занятий с Бен-Болтом. — Терпение и труд все перетрут! Я поработил его, он меня боится. Мне нужно только время, а время, затраченное на такого зверя, неизбежно повышает его ценность. Но ни в первый, ни во второй, ни в третий день Бен-Болт еще не был достаточно укрощен. Лишь через две недели настал день, когда Мулькачи ударил по стулу рукояткой бича, служитель ткнул Бен-Болта вилами под ребра, и тигр, давно утративший всю свою царственность, пресмыкаясь, точно побитая кошка, и всем телом трепеща от страха, влез на стул и, как человек, уселся на нем. Теперь это был в полном смысле слова «благовоспитанный» тигр. И подумать только, что тигр, сидящий на стуле, эта жалкая, трагическая пародия на человека, многими воспринимается как весьма «поучительное» зрелище! Второй случай, с Сент-Элиасом, оказался еще более тяжким, но главное — в этом случае потерпел поражение обычно непобедимый Мулькачи. Впрочем, все вокруг утверждали, что иначе и быть не могло. Сент-Элиас, огромный аляскинский медведь, был существом скорее добродушным и даже веселым — конечно, на свой медвежий лад, — но при этом он отличался своеволием и упорством, пропорциональными его гигантским размерам. Его можно было уговорить выполнить тот или иной урок, но не заставить. А в цирковом мире, где программа слаженна, как часовой механизм, на уговоры не остается времени. Дрессированное животное должно исполнять свой номер и исполнять проворно. Публика не станет дожидаться, покуда дрессировщик уговорит сердитого или проказливого зверя выполнить то, что ей обязаны показать за ее деньги. Итак, Сент-Элиасу был насильно преподан первый урок, оказавшийся, впрочем, и последним, — на арене Сент-Элиас так никогда и не появился, ибо этот урок происходил в клетке. Прежде всего медведю сделали «маникюр». Для этого все четыре его лапы, стянутые веревками, были насильно просунуты сквозь прутья клетки, голова же с накинутой на шею тугой петлей, так называемым «душителем», накрепко прикручена к тем же прутьям. Самый «маникюр» заключался в том, что ему вырезали все когти до самого мяса. Производили эту операцию служители, стоявшие за решеткой. Едва они успели ее окончить, как Мулькачи, находившийся в клетке, проткнул ему в носу отверстие для кольца. Операция тоже отнюдь не из легких. Засунув инструмент в ноздрю медведя, Мулькачи вырезал из нее кружок живого мяса. Он-то знал, как обращаться с медведями: для того чтобы заставить дикого зверя повиноваться, надо причинить ему боль. Самые чувствительные места у него — уши, нос и глаза; глаза трогать, конечно, нельзя, значит, остаются нос и уши. Проткнув отверстие в носу медведя, Мулькачи немедленно продел в него металлическое кольцо, а к кольцу привязал веревку. Отныне медведь уже не мог своевольничать. Человек, держащий веревку, получал полную власть над ним, и Сент-Элиас до конца дней своих, до самого последнего вздоха, был обречен рабски покорствовать этой веревке. Петли, опутывавшие его лапы и шею, были сняты; теперь Сент-Элиасу предстояло освоиться с продетым ему в нос кольцом. Рыча и поднявшись на дыбы, он стал ощупывать кольцо своими могучими передними лапами. Но это было нелегкое дело. Нос пылал огнем, а он рвал, дергал, тер его, как рвал, дергал и тер, когда его жалили пчелы, вылетевшие из развороченной им колоды. В конце концов он вырвал кольцо вместе с клочьями живого мяса, превратив небольшое круглое отверстие в страшную рваную рану. Мулькачи разразился проклятиями: «С ним сам черт ногу сломит!» Медведя опять заарканили, повалили на бок и подтащили к решеткам, чтобы вторично подвергнуть той же операции. Ему продырявили другую ноздрю. И черт вправду сломил себе ногу. Как только Сент-Элиасу освободили лапы, он опять вырвал кольцо вместе с мясом. Мулькачи был вне себя. — Да образумься же ты, дурак! — укоризненно восклицал он. Образумиться, по мнению Мулькачи, значило дать продеть себе кольцо через обе ноздри, а для этого надо было предварительно пробить отверстие в носовой перегородке. Но Сент-Элиас не образумился. Он не сломился, подобно Бен-Болту, ибо не был так нервозен, так возбудим и внутренне слаб. Как только его развязали, он мгновенно вырвал кольцо вместе с половиной носа. Мулькачи продырявил ему правое ухо. Сент-Элиас в клочья разорвал его. Продырявил левое — Сент-Элиас разорвал и левое. Мулькачи сдался. Ничего другого ему, впрочем, не оставалось. — Мы потерпели поражение. Продеть ему кольцо мы уже не можем, а значит, он нам не подвластен, — огорченно заявил Мулькачи, Итак, Сент-Элиас до конца своих дней был обречен сидеть в зверинце, а Мулькачи, вспоминая его, всякий раз недовольно бормотал: — В жизни не видывал такого неразумного существа. Я ничего не мог с ним поделать. Не к чему было прицепить кольцо.
Глава тридцать четвертая
Это произошло в Калифорнии, в оклендском театре «Орфеум». Гарлей Кеннан уже наклонился, чтобы достать из-под кресла свою шляпу, но жена остановила его: — Да ведь это не антракт. Смотри, в программе стоит еще один номер. — Дрессированная собака, — коротко отвечал Гарлей, но этим было все сказано; он неизменно выходил из зала во время выступления дрессированных собак. Вилла Кеннан заглянула в программу. — Правда, — сказала она и, помолчав, добавила: — Но это поющая собака. Собака-Карузо. И тут сказано, что на сцене никого, кроме этой собаки, не будет. Давай разок останемся, сравним его с Джерри. — Какая-нибудь несчастная тварь, взвывшая от побоев, — пробурчал Гарлей. — Да, но ведь он один на сцене, — настаивала Вилла. — А потом, если зрелище окажется тяжелым, мы поднимемся и уйдем. И я уйду с тобой. Очень уж мне хочется знать, насколько Джерри поет лучше этой собаки. Смотри, в программе помечено, что это тоже ирландский терьер. Гарлей Кеннан остался. Два клоуна, вымазанных жженой пробкой, закончили свой номер на просцениуме, потом три раза бисировали его, и, наконец, занавес взвился, открыв совершенно пустую сцену. Из-за кулис размеренным шагом вышел жесткошерстный ирландский терьер, спокойно приблизился к рампе и стал напротив дирижера. Как и указывалось в программе, на сцене никого, кроме него, не было. Оркестр сыграл первые такты «Спи, малютка, спи». Пес зевнул и уселся. Оркестр точно следовал инструкции — повторять первые такты до тех пор, пока собака не вступит, а затем уже играть все до конца. После третьего повторения собака открыла пасть и запела. Воем эти звуки никак нельзя было назвать, настолько они были приятны и прочувствованны. Это не было и простым воспроизведением ритма, — собака точно и правильно выводила мелодию. Но Вилла Кеннан почти не слушала ее. — Ну, он совсем забил нашего Джерри, — шепнул ей Кеннан. — Скажи, — взволнованным шепотом отвечала Вилла, — ты никогда раньше не видел этой собаки? Гарлей отрицательно покачал головой. — Нет, ты видел ее, — настаивала Вилла. — Взгляни на это сморщенное ухо. Вспомни! Постарайся вспомнить! Прошу тебя! В ответ ее муж опять только покачал головой. — Вспомни Соломоновы острова, — требовала она. — Вспомни «Ариеля». Вспомни, когда мы вернулись с Малаиты в Тулаги, уже вместе с Джерри, у него там на какой-то шхуне оказался брат, охотник за неграми. — По кличке Майкл. Ну и что же дальше? — У него было вот такое же сморщенное ухо, — торопливо шептала Вилла, — и жесткая шерсть. Он был родной брат Джерри. А родители их — Терренс и Бидди — жили в Мериндже. И потом — наш Джерри ведь «певчий песик-дурачок». И эта собака тоже поет. И у нее сморщенное ухо. И ее зовут Майкл. — Ну, это что-то уж слишком неправдоподобно, — возразил Гарлей. — Когда неправдоподобное становится правдой, тогда и радуешься жизни, — отвечала она. — А это как раз и есть неправдоподобная правда. Я уверена. Как мужчина, Гарлей не мог поверить в невероятное, Вилла, как женщина, чувствовала, знала, что невероятное обернулось вероятным. В это время собака на сцене запела «Боже, храни короля». — Вот видишь, я права, — торжествовала Вилла. — Ни одному американцу, да еще живущему в Америке, не взбрело бы на ум учить собаку английскому гимну. Собака принадлежала раньше англичанину. А Соломоновы острова — английское владение. — Ну, это — сомнительное доказательство, — усмехнулся Гарлей. — А вот ухо больше убеждает меня. Я вспомнил теперь, ясно вспомнил, как мы с Джерри сидели у моря в Тулаги и его брата привезли на шлюпке с «Евгении». У того пса было точь-в-точь такое же куцее, сморщенное ухо. — А потом, — не унималась Вилла, — много ли мы с тобой видели поющих собак? Одного Джерри. Значит, они не часто встречаются. Это, видимо, семейная особенность. У Терренса и Бидди родился Джерри. А это его брат Майкл. — Это был жесткошерстный пес со сморщенным ухом, — вспоминал Гарлей. — Я как сейчас вижу его на носу шлюпки, а потом он бегал по берегу голова в голову с Джерри. — Если бы ты завтра увидел, как он бежит голова в голову с Джерри, ты бы перестал сомневаться? — допытывалась Вилла. — Да, это была их любимая забава и любимая забава Терренса и Бидди тоже. Но очень уж далеки Соломоновы острова от Соединенных Штатов. — Джерри из тех же краев, — отвечала она. — А вот оказался в Калифорнии; что ж удивительного, если судьба занесла сюда и Майкла?.. Слушай, слушай! Собака запела на бис «Родина любимая моя». Когда по окончании песни раздался взрыв аплодисментов, из-за кулис вышел Джекоб Гендерсон и стал раскланиваться. Вилла и Гарлей некоторое время молчали. Затем Вилла вдруг сказала: — Вот я сижу здесь и благодарю судьбу за одно обстоятельство… Он ждал, что последует дальше. — За то, что мы так бессовестно богаты. — Другими словами, ты хочешь получить эту собаку и знаешь, что получишь ее, так как я могу доставить тебе это удовольствие, — поддразнил ее Гарлей. — Потому что ты не можешь отказать мне в этом, — ответила Вилла. — Не забудь, что это брат Джерри. Ведь и ты в этом уже почти не сомневаешься… — Да, ты права. Невозможное иногда сбывается, и не исключено, что сейчас именно сбылось невозможное. Вряд ли это Майкл, но, с другой стороны, почему бы этому псу и не оказаться Майклом? Пойдем за кулисы и постараемся все выяснить.
«Опять агенты Общества покровительства животным», — решил Джекоб Гендерсон, когда двое незнакомых людей, сопровождаемые директором театра, вошли в его тесную уборную. Майкл дремал на стуле и не обратил на них никакого внимания. Покуда Гарлей говорил с Гендерсоном, Вилла внимательно рассматривала Майкла; под ее взглядом он приоткрыл глаза, но тотчас же снова закрыл их. Обиженный на людей, всегда угрюмый и раздражительный, Майкл не был склонен ласково и приветливо относиться к людям, которые приходили невесть откуда, гладили его по голове, несли какую-то чепуху и тут же навсегда исчезали из его жизни. Вилла Кеннан, несколько уязвленная своей неудачей, отошла от него и прислушалась к тому, что говорил Джекоб Гендерсон. «Гарри Дель Map, опытный дрессировщик, подобрал эту собаку где-то на побережье Тихого океана, кажется, в Сан-Франциско, — услышала она. — Он увез собаку с собой на восток, но погиб от несчастного случая, не успев никому ничего о ней сообщить». Вот и весь рассказ Гендерсона, к нему он добавил только, что заплатил за нее две тысячи долларов некоему Коллинзу и считает, что это самая выгодная сделка в его жизни. Вилла снова подошла к собаке. — Майкл, — ласково окликнула она его, понизив голос почти до шепота. На этот раз Майкл шире открыл глаза и навострил уши, по телу его пробежала дрожь. — Майкл! — повторила она. Теперь уши Майкла приняли вертикальное положение; он поднял голову, широко раскрыл глаза и взглянул на Виллу. Со времени Тулаги никто не называл его Майклом. Через моря и годы донеслось до него это слово. Точно электрический ток пробежал по его телу, и в мгновение ока все прошлое, связанное с кличкой «Майкл», заполнило его сознание. Он увидел перед собой капитана «Евгении» Келлара, который последним так называл его, и мистера Хаггина, и Дерби, и Боба из Меринджа, и Бидди, и Терренса, и всего ярче среди теней былых времен — своего брата Джерри. Но разве это былое? Ведь имя, исчезнувшее на годы, вернулось снова. Оно вошло в комнату вместе с этими людьми. Конечно, Майкл всего этого не думал, но по тому, что он сделал, именно таков должен был быть ход его мыслей. Он соскочил со стула и одним прыжком очутился возле этой женщины. Обнюхал ее руку, обнюхал всю ее, покуда она его ласкала. Затем он узнал ее — и обезумел. Он отбежал от нее и начал кружить по комнате, сунул нос под умывальник, обнюхал все углы, опять, как одержимый, кинулся к ней и жалобно заскулил, когда она протянула руку, чтобы погладить его. В ту же секунду он отпрянул от нее и в неистовстве стал носиться по комнате, все так же жалобно скуля. Джекоб Гендесон поглядывал на него удивленно и неодобрительно. — Никогда не видел его в таком волнении, — заметил он. — Это очень спокойная собака. Может быть, у него припадок? Но почему бы вдруг? Никто ничего не понимал, даже Вилла Кеннан. Понимал только Майкл. Он бросился на поиски исчезнувшего мира, который вдруг снова открылся ему при звуке его прежнего имени. Если из небытия могло вернуться это имя и эта женщина, когда-то виденная им в Тулаги, значит, может вернуться и все остальное, что осталось в Тулаги или кануло в небытие. Если она во плоти стоит здесь, перед ним, и кличет его по имени, то возможно, что капитан Келлар, и мистер Хаггин, и Джерри тоже здесь, в этой комнате, или за дверью, в коридоре. Он подбежал к двери и с визгом стал царапать ее. — Наверно, он думает, что там кто-нибудь стоит, — сказал Гендерсон и распахнул дверь. Майкл и вправду так думал. Более того, он ждал, что в открытую дверь хлынет Тихий океан, неся на гребнях своих волн шхуны и корабли, острова и рифы, и вместе с ним наполнят эту комнату все люди, и звери, и вещи, которые он знал когда-то и помнил поныне. Но прошлое не хлынуло в дверь. За ней не было ничего, кроме обычного настоящего. Он понуро возвратился к женщине, которая ласкала его и называла Майклом. Она-то, как-никак, была из плоти и крови. Затем он тщательно обнюхал ее спутника. Да, этого человека он тоже видел в Тулаги и на палубе «Ариеля». Майкл опять пришел в возбуждение. — О Гарлей, я знаю, что это он! — воскликнула Вилла. — Проверь его на чем-нибудь, испытай его! — Но как? — недоуменно спросил Гарлей. — Похоже, что он узнал свое имя. Это и привело его в такое волнение. И хотя он никогда близко не знал нас с тобой, он, видимо, нас все-таки вспомнил, и это еще больше взволновало его. Если бы он умел говорить… — Ну, заговори же, милый, заговори, — умоляла Вилла, обеими руками держа голову Майкла и раскачивая ее взад и вперед. — Осторожнее, сударыня, — предостерег ее Гендерсон. — У этого пса угрюмый нрав, и никаких вольностей он с собой не позволяет. — Ну мне-то он позволит, — нервно смеясь, отвечала Вилла. — Ведь он меня вспомнил… Гарлей! — вскрикнула она, так как ее внезапно осенилаблестящая мысль. — Я знаю, что делать! Слушай! Ведь Джерри был охотником за неграми, до того как попал к нам. И Майкл тоже. Скажи что-нибудь на жаргоне Южных морей. Притворись, что ты сердишься на какого-нибудь негра, и посмотрим, что он сделает. — Да я, пожалуй, уж ничего не припомню, — сокрушенно заметил Гарлей, одобривший ее затею. — А я постараюсь отвлечь его, — быстро сказала Вилла. Она села, наклонилась к Майклу, спрятала его голову у себя на груди и, раскачивая ее, принялась мурлыкать какую-то песенку; так они частенько сидели с Джерри. Майкл не обиделся на такую вольность и, в точности как Джерри, начал тихонько подвывать ей. Она сделала Гарлею знак глазами. — Убей, не понимаю, — начал он злым голосом. — За каким чертом твоя прилезла это место? Вот я сейчас твоя покажу… И Майкл вдруг ощетинился, высвободился из объятий Виллы и, рыча, забегал по комнате в поисках черного человека, своим вторжением, видимо, прогневившего белого бога. Но черного человека здесь не было. Майкл стал смотреть на дверь. Гарлей тоже перевел взгляд на дверь, и Майкл уже не сомневался, что по ту сторону стоит чернокожий с Соломоновых островов. — Эй, Майкл! — во весь голос крикнул Гарлей. — Возьми его, живо! Свирепо рыча, Майкл бросился к двери. В ярости он так сильно ударился об нее, что щеколда соскочила и дверь распахнулась. Неожиданная пустота в коридоре испугала Майкла, он отпрянул, потом весь как-то сник, ошеломленный и сбитый с толку этим призрачным и ускользающим прошлым. — Ну, а теперь, — обратился Гарлей к Джекобу Гендерсону, — перейдем к деловому разговору.
Глава тридцать пятая
Когда поезд остановился на станции Глен Эллен, в Лунной долине, Гарлей Кеннан подошел к двери багажного вагона, сам принял на руки Майкла и опустил его на землю. Майкл впервые совершил переезд по железной дороге без клетки. На этот раз в Окленде ему надели только ошейник и цепочку. Вилла Кеннан уже сидела в автомобиле; с Майкла сняли цепочку, и он уселся между ней и Гарлеем. Машина поднималась по склону Сономы, но Майкл едва замечал лес и уходящие вдаль просеки. Три года в Соединенных Штатах он был узником, отрешенным от мира. Он знал только клетку, цепь, тесные помещения, багажные вагоны и станционные платформы. Природу он видел разве что в городских парках, Да и то издали, так как сидел привязанной к скамейке, покуда Гендерсон изучал Сведенборга. Поэтому деревья, холмы и поля перестали что-либо значить для него. Они были недоступны, как синева небес или медленно проплывающие облака. Итак, он равнодушно смотрел на деревья, холмы и поля, если можно назвать равнодушием то, что он вовсе не замечал их. — Ну, Майкл, ты, как видно, от здешних мест не в восторге, — заметил Гарлей. Майкл поднял глаза, услыхав свое старое имя, в знак понимания прижал уши и ткнулся носом в плечо Гарлея. — Просто он очень необщителен, — высказала свое мнение Вилла. — Прямая противоположность Джерри. — Погоди говорить до их встречи, — сказал Гарлей, заранее улыбаясь. — Джерри устроит шум за двоих. — Навряд ли они узнают друг друга после стольких лет, — отвечала Вилла. — Мне что-то не верится. — Узнали же они друг друга в Тулаги, — напомнил ей муж. — Ведь они расстались щенятами, а встретились уже взрослыми псами. Вспомни, как они лаяли и гонялись друг за другом по берегу моря. Майкл был тогда суматошнее Джерри и шуму производил вдвое больше. — Но сейчас он стал ужасно солидным и сдержанным. — Три года — немалый срок, чтоб научиться сдержанности, — стоял на своем Гарлей. Вилла в ответ только покачала головой. Когда машина затормозила у подъезда и Кеннан первым выскочил из нее, из дома послышался заливистый лай с радостными взвизгиваниями, показавшийся Майклу знакомым. Приветственный лай перешел в подозрительное ревнивое рычание, как только Джерри почуял запах другой собаки, исходивший от ласкающей его рука Гарлея. Почти в то же мгновение он заметил в автомобиле самого обладателя этого запаха и немедленно подскочил к нему. Майкл зарычал, прыгнул, на полпути столкнулся с рычащим Джерри и был отброшен назад в машину. Ирландский терьер — такая уж это порода — в любых обстоятельствах повинуется голосу своего хозяина. И окрик Кеннана немедленно отрезвил Майкла и Джерри. Они разлетелись в разные стороны и, хотя какие-то глухие звуки все еще перекатывались в их глотках, воздерживались от взаимного нападения, покуда не очутились на земле. Стычка эта, длившаяся лишь какую-то долю секунды, все же помешала им узнать друг друга. Теперь оба пса стояли, все еще ощетинившись, до смешного крепко упираясь лапами в землю, но уже усиленно втягивали воздух ноздрями. — Они узнали друг друга! — воскликнула Вилла. — Подожди, подожди, посмотрим, что будет дальше. Что касается Майкла, то его не удивлял тот несомненный факт, что Джерри возвратился из небытия. Последнее время такие случаи участились, и поражали его не они, а их таинственная связь. Если мужчина и женщина, которых он в последний раз видел в Тулаги, а теперь вот еще и Джерри вернулись из небытия, значит, в любую минуту мог вернуться и, видимо, вернется его обожаемый стюард. Не отзываясь на приветствие Джерри, Майкл нюхал воздух и оглядывался в поисках стюарда. Первый порыв дружелюбных чувств у Джерри принял форму непременного желания бегать. Он залаял, приглашая брата следовать за собой, сделал несколько прыжков, прискакал обратно, игриво шлепнул Майкла передней лапой и снова умчался. Майкл столько лет не бегал на свободе с другой собакой, что поначалу даже не понял, чего хочет от него Джерри. Но таково уж собачье обыкновение — изливать свою радость в прыжках и беготне, а Майкл унаследовал это от Бидди и Терренса, признанных чемпионов бега на Соломоновых островах. Поэтому, когда Джерри, вторично шлепнув его лапой, еще раз призывно залаял и помчался прочь, описывая на бегу соблазнительный полукруг, Майкл невольно последовал за ним, правда, довольно медленно. Но в отличие от Джерри он не лаял и после десятка-другого прыжков остановился и поглядел на Виллу и Гарлея, как бы испрашивая у них позволения. — Валяй, Майкл, валяй, — добродушно крикнул Гарлей и тут же повернулся к нему спиной, чтобы помочь Вилле выйти из машины. Майкл скакнул и понесся прочь; давно не испытанная смутная радость обуяла его, когда он догнал Джерри и помчался рядом с ним. Но Джерри радовался куда больше, — он летел стремглав, бесновался, толкал Майкла, на лету извивался всем телом, прядал ушами, взвизгивал. Кроме того, Джерри лаял, а Майкл нет. — Раньше он тоже лаял, — заметила Вилла. — И больше, чем Джерри, — добавил Гарлей. — Они отучили его лаять, — сказала она. — Видно, этот пес прошел через страшные испытания, раз он больше не лает. Зеленая калифорнийская весна уже перешла в бурое лето, когда Джерри, вечно бегавший по лугам и долам, познакомил Майкла с самыми глухими уголками и самыми высокими горами ранчо в Лунной долине. Пышный ковер полевых цветов поблек на обожженных солнцем склонах, маки из оранжевых стали светло-золотистыми, и стройные марипозы склонялись на ветру среди иссохшей травы, сверкая, как яркокрылые бабочки, опустившиеся на мгновение, перед тем как снова взлететь. А Майкл, постоянный спутник неутомимого Джерри, все время кого-то искал и не находил. — Он что-то ищет, упорно ищет, — говорил Гарлей Вилле. — Что-то, чего здесь нет. Хотел бы я знать, что это такое. Майкл искал и не находил стюарда, которого небытие скрыло и не отпускало. Но если бы Майкл мог совершить десятидневное путешествие по Тихому океану до Маркизских островов, он сыскал бы своего стюарда, а заодно еще Квэка и Старого моряка. Все трое беззаботно жили в земном раю на острове Тайохаэ. Поблизости от их тростниковой хижины, приютившейся под высокими авокадо, Майкл нашел бы множество разных домашних баловней: кошек с котятами, свиней, осликов, пони, парочку попугаев-неразлучек и даже несколько озорных обезьянок; только собак и какаду не было среди этого зверья. Дэг Доутри в самых энергичных выражениях объявил, что собаками он больше обзаводиться не намерен, ибо ни одна собака на свете не сравнится с Киллени-боем. А Квэк, со своей стороны, не вдаваясь ни в какие объяснения, наотрез отказывался покупать какаду, привозимых в Тайохаэ матросами торговых шхун. Майкл упорно не оставлял своих поисков, взбегая по горным тропинкам или скатываясь в глубокие каньоны, он всегда ждал стюарда, ежеминутно готов был к встрече с ним или к тому, что вот-вот почует неповторимый запах, который и приведет его к обожаемому богу. — Все что-то ищет, ищет, — с любопытством говорил Гарлей Кеннан, скача верхом рядом с Виллой и наблюдая за нескончаемыми поисками Майкла. — Ну Джерри, тот, я понимаю, выслеживает зайцев и лисьи тропы, но Майкла ведь это все нисколько не интересует. Он за зверем не гонится, а ведет себя так, словно потерял бесценное сокровище и сам не знает, где теперь его искать. Благодаря Джерри Майкл узнал многообразную жизнь полей и лесов. Носиться на воле вместе с Джерри, казалось, было единственным его удовольствием, ибо он никогда не играл. Игры для него более не существовало. Не то, чтобы он был мрачен или подавлен годами, проведенными на арене и в школе страданий Коллинза, нет, но теперь его отличительными чертами стали спокойствие и покорность. Он окончательно утратил былую веселую непосредственность. Старая рана, нанесенная ему леопардом, ныла в сырую и холодную погоду. Так и душа Майкла ныла от перенесенных обид. Он любил Джерри, любил носиться с ним по горам и долам, но вожаком оставался Джерри. Джерри с шумом поднимал зверя, Джерри, дрожа от нетерпения, заливался негодующим лаем при виде белки, скачущей по деревьям на высоте сорока футов. Майкл в таких случаях тоже задирал голову и прислушивался, но в неистовство не приходил. Так же спокойно наблюдал он за уморительными стычками между Джерри и Вождем Норманнов — громадным першероном. Это, конечно, была игра, так как на самом деле Джерри и Вождь Норманнов были закадычными друзьями; гигантский жеребец, прядая ушами и раскрыв пасть, как бешеный, кружился по загону вслед за Джерри, отнюдь не злоумышляя против него, а просто так — для игры. Но Майкл, несмотря на все призывы брата, участия в этих забавах не принимал. Он довольствовался тем, что смирно сидел по ту сторону забора и наблюдал за обоими друзьями. «Зачем все это?» — казалось, спрашивал Майкл, давно уже отученный от игры. Но когда дело доходило до серьезной работы, он оказывался впереди Джерри. По случаю эпидемии ящура чужим собакам был строго-настрого воспрещен доступ на территорию кеннановского ранчо. Майкл быстро это смекнул и стал беспощадно расправляться с бродячими псами. Он не лаял, не рычал, — в зловещем молчании налетал он на непрошеных гостей, сбивал их с ног, кусал и, предварительно вываляв в пыли, выпроваживал за пределы ранчо. Это напоминало ему его расправы с неграми; так он служил богам, которым был привержен и которые именно этой службы и ждали от него. Вилла и Гарлей не внушали ему той всепоглощающей страсти, которую он испытывал к стюарду, но он полюбил их преданной, спокойной любовью. Он не считал нужным извиваться всем телом, корчиться и визжать от восторга, выражая им свои чувства, — это предоставлялось Джерри. Но он всегда с удовольствием находился возле них и радовался, когда они, приласкав Джерри, ласкали и его. Счастливейшими минутами его жизни были теперь минуты, когда он сидел у камина подле Виллы или Гарлея, положив голову на колени кому-нибудь из них и ожидая, что ласковая рука вот-вот опустится на его лоб и потреплет сморщенное ухо. Джерри обожал играть с детьми, бывавшими у Кеннанов. Майкл терпел детей, лишь покуда они оставляли его в покое. Но стоило им начать фамильярничать с ним, как шерсть у него на спине становилась дыбом, он издавал глухое рычание и надменно удалялся. — Ничего не понимаю, — говорила Вилла, — ведь не было собаки игривее, веселей, задорнее Майкла. Он был куда глупее Джерри, легче возбуждался и производил несравненно больше шума. Если бы он мог говорить, он, наверно, рассказал бы нам страшные подробности о своей жизни со времен Тулаги и до того дня, когда мы нашли его в «Орфеуме». — По этим отметинам можно о многом догадываться, — отвечал Гарлей, указывая на плечо Майкла, разодранное леопардом в день гибели эрделя Джека и маленькой зеленой обезьянки Сары. — И он лаял, я отлично помню, что он часто лаял, — продолжала Вилла. — Почему же он теперь не лает? Гарлей, показав глазами на плечо Майкла, заметил: — Вот тебе ответ. И не исключено, что он испытал еще множество страданий, не оставивших заметных следов. Но вскоре настало время, когда они услыхали лай Майкла, и не один раз, а дважды. И все это было пустяком по сравнению с тем случаем, когда Майкл без лая сумел на деле доказать свою любовь и приверженность людям, которые спасли его от клетки и рампы для привольной жизни в Лунной долине. Еще до этого события Майкл, бегая с утра до ночи вместе с Джерри по ранчо, изучил его вдоль и поперек — от птичьего двора и утиных прудов до самой вершины горы Сонома. Теперь он знал, где в пору любви укрываются олени, в какое время года они совершают набеги на виноградники и фруктовые сады, когда уходят в глубокие, недоступные каньоны или носятся по лесным просекам на склонах холмов и самцы в жестоких боевых схватках сшибают и обламывают рога друг другу. Под водительством Джерри, в качестве сопровождающего неотступно следуя за ним по узким тропинкам, Майкл изучил все повадки лис, енотов, ласок и кошачьих хорьков, соединяющих в себе особенности и свойства кошек, енотов и ласок. Он узнал о существовании птиц, гнездящихся на земле, и до тонкости изучил разницу в нравах луговой и горной перепелки и фазанов. Он проник во все хитрости одичавших домашних кошек и разведал их логовища, а также узнал о любви между собаками с горных ферм и койотами. Он прознал о появлении кугуара, забредшего на земли ранчо из округа Мендосино, еще до того, как тот зарезал первого теленка, и вернулся домой после этой встречи израненный и окровавленный, так что на следующий день Гарлей Кеннан, прихватив винтовку, поехал по следам зверя. Майкл знал и то, чего не знал Кеннан и во что он бы никогда не поверил, а именно, что в чаще горного леса, в расселине среди камней, гнездились гремучие змеи, зимой уходившие в нору, а летом выползавшие из нее, чтобы погреться на солнышке.
Глава тридцать шестая
Прелестная мягкая зима установилась в Лунной долине. Последние марипозы исчезли с выжженных солнцем лугов, и позднее калифорнийское лето растворилось в безветрии красноватого марева. Потом заладили тихие дожди, и снег лег на вершину горы Сонома. Утренний воздух был теперь прозрачным и колючим, но в полдень все обитатели ранчо искали тени; в саду же под лучами зимнего солнца цвели розы и золотистой желтизной наливались апельсины, грейпфруты и лимоны. А на тысячу футов ниже, в самой глубине долины, трава и деревья по утрам покрывались инеем. Итак, Майкл залаял дважды. В первый раз, когда Гарлей Кеннан во время верховой прогулки пытался заставить своего горячего гнедого жеребца перепрыгнуть узкий горный ручей. Вилла была на другом берегу и, сдерживая свою лошадь, спокойно наблюдала за тем, как Гарлей школит жеребца. Майкл находился подле Гарлея и тоже выжидал. Запыхавшись от стремительного бега, он было прилег на берегу ручья. Но недоверие к лошадям и страх за Гарлея заставили его быстро вскочить на ноги. Гарлей терпеливо, хотя в то же время и настойчиво, понуждал жеребца перепрыгнуть ручей. Он не очень натягивал поводья, и голос его звучал мягко, но горячий чистокровный конь упорно уклонялся от прыжка и весь покрылся потом и пеной. Бархатистая трава на берегу была уже вытоптана его копытами, но страх его перед ручьем был так силен, что, пущенный галопом, он вдруг круто остановился и взвился на дыбы. Этого Майкл уже не стерпел. Едва передние ноги жеребца коснулись земли, как Майкл подскочил к нему и… залаял. В этом лае слышалось порицание и угроза, и, когда конь вторично поднялся на дыбы, Майкл подпрыгнул вслед за ним и лязгнул зубами у самой его морды. Вилла подскакала к берегу с противоположной стороны и крикнула: — Бог мой! Ты только послушай! Ведь он лает! — Он боится, как бы жеребец не сбросил меня, — отвечал Гарлей, — и выражает свой гнев. Он отнюдь не разучился лаять. Этот лай — настоящая нотация жеребцу. — Ну, если он вцепится ему в нос, это будет уже нечто большее, чем нотация, — заметила Вилла. — Осторожней, Гарлей, а то он непременно это сделает. — Спокойно, Майкл! Ложись, — приказал Гарлей. — Все в порядке. Говорят тебе, все в порядке! Ложись! Майкл повиновался, но очень неохотно; мускулы его трепетали, он не спускал глаз с жеребца, готовый к прыжку, в случае если Гарлею будет угрожать опасность. — Если я уступлю ему сейчас, он никогда не выучится брать препятствия, — сказал Гарлей жене, пуская коня галопом, чтобы отъехать от берега на необходимую для прыжка дистанцию. — Я либо заставлю его прыгнуть, либо полечу с седла вниз головой! Он подскакал к берегу во весь опор, и жеребец, не в состоянии остановиться, но все же стремясь избежать пугавшего его ручья, прыгнул и неожиданно для самого себя очутился на другой стороне, на расстоянии добрых двух ярдов от воды. Второй раз Майкл залаял, когда Гарлей, верхом на том же норовистом жеребце, пытался закрыть калитку на отвесной горной тропе. Видя опасность, грозящую его богу и господину, Майкл из последних сил старался удержаться, но не стерпел и, подлетев к самой морде коня, залился неистовым лаем. — Так или иначе, но его лай помог мне, — заметил Гарлей, справившись наконец с неподатливой калиткой. — Видно, Майкл пригрозил жеребцу хорошенько расправиться с ним за неповиновение. — Во всяком случае, теперь мы знаем, что он не молчальник, хотя и не отличается разговорчивостью, — заметила Вилла. Разговорчивее Майкл со временем не стал. Он залаял всего два раза, когда его бог и господин был, по его мнению, в опасности. Он никогда не лаял на луну, не отвечал лаем на горное эхо и таинственные шорохи в кустах. Зато Джерри непрерывно перекликался с эхом, долетавшим до дома Кеннанов. Слушая эту перекличку, Майкл со скучающим видом, лежа в сторонке, дожидался, покуда она кончится. Не лаял он и нападая на бродячих собак, осмелившихся появиться в границах ранчо. — Он бьется, как бывалый солдат, — сказал однажды Гарлей, наблюдавший за такой схваткой, — хладнокровно и не утрачивая самообладания. — Он постарел раньше времени, — отвечала Вилла, — и утратил вкус к игре и разговору. Но я все равно знаю, что нас с тобой он любит… — Хотя и не очень-то выказывает свою любовь, — закончил за нее муж. — Эта любовь светится в его спокойных глазах, — добавила Вилла. — Майкл напоминает мне одного участника экспедиции, лейтенанта Грили [33], которого я знавал, — заговорил Гарлей. — Это был рядовой солдат и один из немногих, кто вернулся домой. Ему столько пришлось испытать в жизни, что он стал угрюмым, как Майкл, и таким же неразговорчивым. Большинству людей, не понимавших его, он казался скучным. На деле же имело место обратное. Они были скучны ему, так как до смешного мало знали о жизни, которую он-то досконально изведал. Из него, бывало, слова не вытянешь. И не потому, что он разучился говорить, а потому, что говорить с людьми непонимающими не имеет смысла. Умудренный жизненным опытом, он замкнулся в себе. Но достаточно было взглянуть на него, чтобы понять — этот человек прошел через все круги ада и познал тысячи ледяных смертей. Глаза у него были такие же спокойные, как у Майкла. И такие же мудрые. Чего бы я только не отдал, чтобы узнать, откуда у Майкла этот шрам на плече. По-моему, это работа тигра или льва. Человек, подобно кугуару, встреченному Майклом в горах, явился из округа Мендосино и брел глухими горными тропами, заходя в населенные долины лишь по ночам из боязни встретиться с людьми. Подобно кугуару, человек этот был враг людям, и люди были врагами ему. Люди хотели отнять у него жизнь, ибо этой жизнью он причинил им больше зла, чем может причинить кугуар, убивающий телят, чтобы утолить свой голод. Подобно кугуару, человек этот был убийцей, с той только разницей, что его приметы и описания совершенных им преступлений были помещены во всех газетах, и люди интересовались им куда больше, чем кугуаром. Кугуар резал телят на горных пастбищах. Человек этот, чтобы ограбить почту, зарезал целую семью — почтмейстера, его жену и троих детей, живших в квартирке над почтовой конторой горной деревушки Чисхольм. Уже две недели преступник скрывался от преследователей. Последний переход, с гор Русской реки через плодородную и густо населенную долину Санта-Роса, привел его к горе Сонома. Два дня, забившись в дикий и неприступный уголок ранчо Кеннанов, человек отдыхал и отсыпался. У него был с собой пакетик кофе, захваченный в последнем из ограбленных им домов. На мясо ему пошла одна из ангорских коз Гарлея Кеннана. Обессиленный, он проспал сорок восемь часов кряду, просыпаясь только затем, чтобы с жадностью наброситься на козлятину, выпить кофе, все равно, холодного или горячего, и вновь погрузиться в тяжелый сон, полный кошмарных видений. Тем временем цивилизация, пользуясь всеми доступными ей средствами и хитроумными изобретениями, включая электричество, напала на его след. Электричество сплошным кольцом окружило его. Телефон сообщил о его местонахождении в далеком каньоне горы Сонома; и окрестные горы тотчас же были оцеплены отрядами полиции и вооруженных фермеров. Человек, который мог убить любого из здешних жителей, заблудившегося в горах, страшил их больше, чем кугуар. По телефону на ранчо Кенианов и на других ранчо в окрестностях Сонома то и дело велись взволнованные разговоры или передавались распоряжения, касающиеся поимки убийцы. Случилось так, что, когда вооруженные отряды начали прочесывать горную чащу и человек среди бела дня ринулся в Лунную долину, чтобы, миновав ее, сыскать себе убежище в горах, отделявших ее от долины Напа, Гарлей Кеннан отправился в путь на прекрасно объезженном чистокровном жеребце. Гарлей не искал следов человека, убившего семью почтмейстера в Чисхольме. Он знал, что горы и без него кишат добровольными преследователями, так как целый отряд их накануне ночевал у него на ранчо. Итак, встреча Гарлея Кеннана с тем человеком была случайной и непредвиденной. Для убийцы же это была уже не первая встреча с жителем здешних мест. Прошлой ночью он заметил костры преследователей. На рассвете, спускаясь по юго-западному склону в направлении Петалумы, он столкнулся с пятью отрядами фермеров, вооруженных винчестерами и дробовиками. Спасаясь от их преследования, убийца напоролся на толпу мальчишек из Глен Эллена и Калиенте. Мальчишкам не удалось подстрелить его, так как их ружья годились только для охоты На белок и ланей, но они изрешетили ему всю спину дробью; дробинки, застрявшие под кожей, до безумия раздражали человека. Спасаясь бегством по крутому склону, он угодил прямо в стадо короткорогих быков, которые, испугавшись куда сильнее, чем он, сбили его с ног и, перескакивая через него в паническом страхе, копытами растоптали его винтовку. Безоружный, отчаявшийся, страдающий от бесчисленных ранений и ушибов, он долго кружил по оленьим тропам, перебрался через два каньона и начал спускаться в третий. В то время как он спускался, по той же тропинке подымался вверх репортер. Репортер этот — что про него сказать? — был обыкновенным горожанином, знал только городскую жизнь и никогда до сих пор не принимал участия в охоте на человека. Кобылка, которую он взял напрокат в долине, едва передвигавшая ноги от старости, давным-давно утратила повадки норовистой лошади и теперь стояла совершенно спокойно, пока какой-то человек со страшным и свирепым лицом, выскочивший из-за крутого поворота, стаскивал с седла сидевшего на ней репортера. Репортер огрел злоумышленника хлыстом. И тут ему задали такую трепку, какие, судя по его ранним репортерским заметкам, он нередко наблюдал в матросских кабачках и какую ему впервые пришлось испытать на собственной шкуре. К великому разочарованию злоумышленника, единственным оружием его жертвы оказались карандаш и блокнот. Задав по этому случаю еще дополнительную трепку репортеру и предоставив ему оплакивать среди папоротников свою незадачу, злоумышленник вскочил на лошаденку, подбодрил ее репортерским хлыстом и стал спускаться дальше. Джерри, гораздо более страстный охотник, чем Майкл, убежал далеко вперед в то утро, когда оба пса сопровождали Гарлея Кеннана, выехавшего верхом на прогулку. Майкл, по пятам следовавший за лошадью Гарлея, не заметил и не понял, с чего все началось. И совершенно так же не понял этого Гарлей. Там, где крутой откос футов в восемь вышиной нависал над тропинкой, Гарлей и его гнедой жеребец сквозь заросли мансаниты заметили нечто непонятное. Всмотревшись попристальнее, Гарлей увидел упирающуюся лошадь и всадника, казалось, повисшего в воздухе над ним. Гарлей пришпорил своего жеребца, чтобы отскочить в сторону, так как успел заметить расцарапанные руки, изодранную одежду, дико горящие глаза и ввалившиеся, обросшие щеки человека, преследуемого своими собратьями. Лошаденка под злоумышленником упиралась изо всех сил, не желая прыгать с крутого откоса. Она слишком хорошо знала, как отзовется такой прыжок на ее разбитых ногах и ревматических суставах, и упорно зарывалась копытами в мягкий мох, но под конец все-таки прыгнула, испугавшись падения, ударила плечом бесновавшегося жеребца и сбила его с ног. Гарлей Кеннан сломал ногу, — ее прижало к земле всей тяжестью коня, а у судорожно дергавшегося на земле жеребца был сломан хребет. Новое разочарование ждало человека, преследуемого целым вооруженным краем: последняя его жертва, так же как и репортер, была безоружна. Рыча от злобы, он спешился и изо всей силы пнул беспомощного Кеннана в бок. Он поднял было ногу и для второго удара, но тут вмешался, вернее, вцепился Майкл, прокусив чуть ли не до кости занесенную для удара ногу. Человек с проклятием отдернул ногу, в клочья разорвав штанину. — Молодец пес! — похвалил Майкла Гарлей, неподвижно лежавший под тушей жеребца. — Эй ты, Майкл, — продолжал он, переходя на жаргон Южных мерей, — гони в шею этого парня! — Я тебе сейчас башку расшибу, — сквозь зубы прорычал злоумышленник. Беспощадный и злобный дикарь, он теперь готов был разрыдаться. Долгое преследование, злоба и борьба в одиночку против всего человечества надломили силы убийцы. Он был окружен врагами. Даже дети возмутились против него и изрешетили ему спину дробью, молодые бычки потоптали его копытами и сломали его ружье. Все, все было в заговоре против него. А теперь еще собака вцепилась ему в ногу. Видно, это уже конец. Впервые он почувствовал приближение смерти. Все против него. Истерическая потребность разрыдаться овладела им, а отчаявшегося человека истерия может подвигнуть на самые дикие и страшные поступки. Без всяких на то причин он приготовился выполнить свою угрозу — прикончить Кеннана. Неважно, что Гарлей Кеннан ему ничего худого не сделал. Неважно, что, напротив, это он напал на Кеннана, что по его вине тот свалился с лошади и сломал себе ногу. Гарлей Кеннан был человек, а ему внушал ненависть весь род человеческий. И сейчас ему почему-то казалось, что, убив Кеннана, он хоть отчасти отомстит за себя человечеству. Умирая, он хотел потащить с собой всех, кого только возможно. Но прежде чем он успел ударить распростертого на земле Кеннана, Майкл снова налетел на него. Вторая нога и вторая штанина в мгновение ока были разорваны в клочья. Отчаянным ударом в грудь ему удалось высоко подбросить собаку, и Майкл покатился вниз с крутого откоса. Падая, он, на беду, не достиг земли, а повис в воздухе, зажатый, как рогаткой, ветвями мансаниты. — Ну, теперь, — угрюмо заявил человек, — я сдержу свое слово и расшибу тебе башку. — А я ведь вам ничего худого не сделал. — Гарлей попытался вступить с ним в переговоры. — Убивайте меня, если вам это нужно, но я хотел бы все-таки узнать, за что меня убивают. — За то, что все вы охотитесь за мной, — зарычал человек, приближаясь к нему. — Я вашу породу знаю. Вы все травите меня; а что я могу один против всех? Ну вот теперь хоть с тобой сквитаюсь. Кеннан прекрасно отдавал себе отчет в серьезности положения. Он был совершенно беспомощен, а безумный человекоубийца собирался прикончить его, прикончить зверски и беспощадно. Майкл, не менее беспомощный, чем он, висел головой вниз в кустах, зажатый поперек туловища, и хотя он отчаянно бился и извивался, но подоспеть к нему на помощь, конечно, не мог. Человек замахнулся, чтобы ударить Гарлея в лицо, но тот закрылся руками; и прежде чем убийца успел нанести ему второй удар, на поле битвы появился Джерри. Он не стал дожидаться поощрения или приказаний своего господина. Он накинулся на убийцу, вонзился зубами ему в пояс и повис на нем всей своей тяжестью, едва не свалив его на землю. Вне себя от ярости человек бросился на Джерри. И правда, весь мир ополчился на него. Вот уж и собаки сыплются прямо с неба. И тут же его слух уловил шум голосов, перекликавшихся на склонах Сономы, — обстоятельство, которое заставило его изменить свое намерение. Это те люди угрожали ему смертью, и от них он должен был спасаться. Пинком отшвырнув Джерри, человек вскочил на репортерскую лошаденку, которая продолжала меланхолически стоять на том же месте, где он слез с нее. Она неохотно заковыляла на своих негнущихся ногах, а ощеренный Джерри, рыча, бросился за ней; ярость его была так велика, что рычание временами переходило в громкий визг. — Ничего, ничего, Майкл, — успокаивал собаку Гарлей. — Не волнуйся. Не растрачивай понапрасну силы. Беда миновала. Кто-нибудь обязательно проедет здесь и выручит нас обоих. Но не успел он это сказать, как более слабая из двух образовавших рогатку веток обломилась, и Майкл полетел наземь, от растерянности — даже вниз головой. В следующую же секунду он вскочил на ноги и помчался по направлению, откуда слышался неистовый лай Джерри. Внезапно этот лай перешел в пронзительный болезненный визг; Майкл уже не бежал, а летел. Через несколько мгновений он увидел Джерри, распростертого на земле. Злополучная лошаденка на скаку оступилась, чуть не упала и, пытаясь удержаться на ногах, нечаянно раздробила переднюю лапу Джерри. Человек оглянулся и, увидев Майкла, решил, что это уже третья собака, невесть откуда взявшаяся. Но собаки его не страшили. Гибель ему несли не собаки, а люди, вооруженные дробовиками и карабинами. Однако боль в окровавленных ногах, искусанных Майклом и Джерри, сейчас заставляла его так же остро ненавидеть собак. «Еще один пес», — с горечью подумал он и вытянул Майкла хлыстом поперек морды. К величайшему его удивлению, эта собака не вздрогнула от удара. Боль не заставила ее ни взвизгнуть, ни взвыть. Она не залаяла, не зарычала, не огрызнулась, но подлетела к всаднику так, словно он и не ударил ее, словно хлыст просвистел в воздухе, не коснувшись ее головы. Когда Майкл подскочил к его правой ноге, он снова ударил его между глаз. Оглушенный ударом, Майкл опустился на землю, но тут же пришел в себя и длинными прыжками помчался вслед за всадником. Между тем тот отметил поразительное явление. Наклоняясь с седла, чтобы полоснуть Майкла хлыстом, он увидел, что пес не закрыл глаза, ожидая удара. Более того, он не вздрогнул, не моргнул, когда хлыст засвистел над его головой. Это было уже просто страшно. Таких собак он не видывал. Майкл опять взвился, человек ударил его хлыстом — зловещее молчание! Собака, не дрогнув и не сморгнув, снесла удар. Новый, доселе неведомый ему страх охватил человека. Неужели это конец, конец после всего, что он пережил? Неужели этот зловеще молчащий пес уничтожит его, довершит то, что не удалось людям? Он даже потерял уверенность в том, что это живая, реальная собака. Может быть, это страшный мститель из потустороннего мира, посланный на землю затем, чтобы прикончить его на этой тропе, которую он считал теперь тропою смерти? Нет, это не живая собака! Безусловно, нет! Не может быть на свете собаки, которая снесла бы жестокий удар кнутом, не вздрогнув, не отпрянув назад. Собака еще дважды бросалась на него, дважды он наносил ей жестокие, меткие удары — и всякий раз собака молча и уверенно повторяла нападение. Охваченный необоримым страхом, человек так бил каблуками впалые бока своей лошаденки, так отчаянно колотил ее по голове, что она пустилась в галоп, каким не ходила уже много лет. Страх охватил даже эту полуживую клячу. Конечно, это был не страх перед собакой, — она-то отлично понимала, что за ними гонится самый обыкновенный пес, — но страх перед всадником. Ноги ее давно были разбиты, суставы одеревенели по милости пьяных ездоков, бравших ее напрокат из конюшни. И вот теперь она опять несет на себе пьяного и безумного ездока, и он изо всех сил вонзает каблуки в ее бока и нещадно колотит ее по морде, по носу, по ушам. Лошадь выбивалась из сил, но все же бежала не настолько быстро, чтобы оставить позади Майкла, хотя ему только изредка удавалось подскочить к ноге ездока. На каждый прыжок Майкла человек отвечал полновесным ударом хлыста, настигавшим его еще в воздухе. И хотя челюсти Майкла сжимались почти у самой ноги человека, но он всякий раз бывал отброшен назад и снова должен был собираться с силами и мчаться вслед за скачущей лошадью и обезумевшим от страха ездоком. Энрико Пикколомини видел эту гонку, более того — сам присутствовал при ее финише; она явилась величайшим событием в его жизни, которое не только сделало его зажиточным человеком, но и дало ему пищу для нескончаемых рассказов. Энрико Пикколомини был лесорубом на ранчо Кеннанов. Стоя на холме, откуда открывался вид на дорогу, он сначала услышал топот копыт и свист хлыста, затем увидел бешеную гонку и борьбу, в которой участвовали человек, лошадь и собака. Когда все они очутились у подножия холма на расстоянии каких-нибудь двадцати футов от него, он заметил, как собака прямо прыгнула под удар кнута и вцепилась в ногу человека, сидевшего на лошади. И тут же своими глазами увидел, что собака, падая на землю, тяжестью своего тела наполовину стащила человека с седла. Человек, пытаясь удержаться, изо всех сил уцепился за поводья. Лошадь взвилась на дыбы, зашаталась, споткнулась, и всадник, окончательно потеряв равновесие, полетел на землю вслед за собакой. — И тут они оба, словно два пса, катились по земле, — рассказывал Пикколомини много лет спустя, сидя за стаканом вина в своей маленькой гостинице в Глен Эллене. — Собака выпустила ногу человека и вцепилась ему в глотку. А человек подмял ее под себя и тоже сдавил ей горло обеими руками — вот так. Собака не издавала ни звука. За все время — ни звука. А когда он стал душить ее — и подавно. Такая уж это собака. Что ты с ней ни делай — молчит. Ну, а лошадь стоит рядом, смотрит и еле дышит. Очень, очень странно все это выглядело. А человек-то, видно, спятил, думаю я. Только сумасшедший может сделать такое: оскалился, как пес, и давай кусать собаку в лапы, в нос, в брюхо. Он кусает собаку в нос, а она его в щеку. Они дрались, как черти, а пес даже царапался задними лапами, точно кошка. Он, как кошка, разодрал рубаху на человеке, разодрал и кожу у него на груди, так что вся грудь пошла красными полосами. Человек то воет, то рычит, как кугуар. И все время знай душит собаку. Да, чертовская была, потасовка. Смотрю, собака-то мистера Кеннана. Мистер Кеннан хороший человек, я у него тогда уж два года работал. Что ж, прикажете мне стоять и смотреть, как какой-то бродяга, точно кугуар, разрывает на части собаку мистера Кеннана? Я опрометью кинулся с холма, да второпях позабыл свой топор. Так вот, значит, сбежал я с холма — расстояние было, как от этой двери до той, — футов двадцать или тридцать от силы. А собаке-то уж, можно сказать, конец приходит. Язык болтается, глаза мутные, а все дерет грудь этого бродяги когтями, а он рычит — ну точь-в- точь кугуар. Что тут делать? Топор остался наверху. Человек вот-вот прикончит пса. Смотрю, нет ли где хорошего камня. Как назло, ни единого камешка. Может, хоть палка найдется? И палки нет. А собака уж при последнем издыхании. Ну, тут я не будь дурак — как стукну этого парня. Сапоги у меня тогда были тяжеленные, не то что вот эти, а как положено лесорубу, на толстой кожаной подметке да еще с железными гвоздями. Я как дам этому малому по шее возле правого уха. Один только разок. Но уж больно здорово. Я ведь место знаю — как раз под правое ухо. Ну, он и выпустил пса. А сам закрыл глаза, открыл рот и лежит, не шелохнется. Гляжу — пес уж маленько отдышался, поднабрался сил и опять хочет кинуться на парня. Но я говорю: «Нельзя», — хоть сам до смерти боюсь этой собаки. Человек тоже начал оживать, открыл глаза и глядит на меня, как кугуар. И носом так же сопит. Я уж не знаю, кого больше бояться, человека или пса. Что же мне делать? Топор-то я позабыл. Сейчас скажу, что я удумал. Дал парню еще раз в ухо, потом снял с себя ремень, достал из кармана носовой платок, пестрый такой, и скрутил ему руки и ноги. И все время я говорил собаке «нельзя», чтобы она не бросалась на парня. Собака сидит и смотрит на меня, — понимает ведь, что я ей друг, раз связываю этого бродягу. И не кусается, хотя я боюсь ее до смерти. Очень уж страшный пес. Ведь я-то видел, как он стащил с седла эдакого здоровенного парня, сильного, точно кугуар. А тут и люди подоспели, с ружьями, револьверами, карабинами. Ну, я сначала подумал, что больно уж скор суд в Соединенных Штатах: не успел я треснуть этого малого по башке, как меня уже собираются тащить в тюрьму. Поначалу я ровно ничего не понял. Все на меня злятся, как только не обзывают меня, ругаются, а не арестовывают. Ага! Я начал соображать, в чем дело. Слышу, что-то они все говорят о трех тысячах. Я, мол, украл у них три тысячи долларов. Ну, я и говорю, что это неправда. Я сроду цента ни у кого не украл. А они как расхохочутся! Тут у меня от сердца отлегло, и я понял, что эти три тысячи долларов — награда, ее правительство назначило за поимку человека, которого я связал своим ремнем и носовым платком, пестрым таким. И эти три тысячи долларов мои, потому что я дал ему в ухо и связал его по рукам и ногам. Так вот я и перестал работать у мистера Кеннана. Теперь я богатый человек. Три тысячи долларов достались мне, и мистер Кеннан позаботился, чтобы я их получил и чтобы те люди с ружьями их не присвоили. И все за то, что я дал по башке человеку, похожему на кугуара… Вот это судьба! Вот это по-американски! Как я теперь рад, что уехал из Италии и нанялся в лесорубы к мистеру Кеннану. На эти три тысячи я и открыл здесь свою гостиницу. Я знал, что гостиница — прибыльное дело. У моего отца была гостиница в Неаполе, когда я был мальчишкой. Теперь у меня две дочки учатся в средней школе. И автомобиль я себе тоже завел. — Господи ты боже мой, да у нас теперь не ранчо, а лазарет! — воскликнула Вилла Кеннан, выходя на широкую террасу, где лежали Гарлей и Джерри; у Гарлея нога в лубках, а у Джерри лапа в гипсе. — А посмотрели бы вы на Майкла, — продолжала она. — Не у вас одних переломаны кости. Я сейчас осматривала его и поняла, что если нос у него не сломан от удара, который он получил, то это просто чудо. Я целый час прикладывала ему горячие компрессы. Покажись-ка, Майкл! Майкл не замедлил последовать ее приглашению. Он обнюхал Джерри своим распухшим носом и в знак приветствия помахал хвостом Гарлею, за что тот ласково погладил его по голове. — Он пострадал в битве, — заметил Гарлей. — Пикколомини рассказывает, что этот малый нещадно бил его хлыстом, а раз Майкл прыгал на него, то удары, конечно, приходились ему по носу. — И тот же Пикколомини говорит, что он ни разу не взвизгнул, а продолжал гнаться за ним, — восторженно подхватила Вилла. — Ты только подумай, такая собачонка, как Майкл, стаскивает с седла убийцу, которого не могли изловить целые отряды вооруженных людей. — Для нас он сделал много больше, — спокойно заметил Гарлей. — Если бы не Майкл и Джерри, я не сомневаюсь, что этот безумец проломил бы мне голову, как он грозился. — Сам бог послал нам этих собак! — воскликнула Вилла. Глаза ее заблестели, и она тепло пожала руку Гарлея. — Люди все еще не понимают, какое это чудо — собаки, — добавила она и заморгала глазами, чтобы стряхнуть с ресниц непрошеные слезы. — И никогда не поймут, — сказал Гарлей, отвечая ей таким же сердечным рукопожатием. — Ну, а теперь мы споем тебе, — улыбнулась Вилла. — Я и наши два пса репетировали потихоньку от тебя. Лежи и слушай. Это псалом. Да, да, не смейся. Я не собиралась каламбурить. Она нагнулась, притянула к себе Майкла, зажала его между колен, обхватив его голову обеими руками, так что нос его уткнулся ей в волосы. — Приготовиться, Джерри! — крикнула она, как заправский учитель пения, требующий внимания от ученика. Джерри повернул голову, понимающе улыбнулся ей глазами и стал ждать. Вилла запела псалом, и почти тотчас же вступили собаки. Они выли так музыкально, так мягко, что воем это даже нельзя было назвать. И все, что ушло в небытие, воскресало в памяти собак по мере того, как лилась песня. Пройдя через страну небытия, они вернулись в долины иного мира и вот уже мчались куда-то вместе с утраченной стаей, не забывая в то же время и о божестве из плоти и крови, которое было здесь, с ними, пело, любило их и звалось Виллой. — А почему бы нам, собственно, не составить квартет? — спросил Гарлей Кеннан и присоединился к поющим.
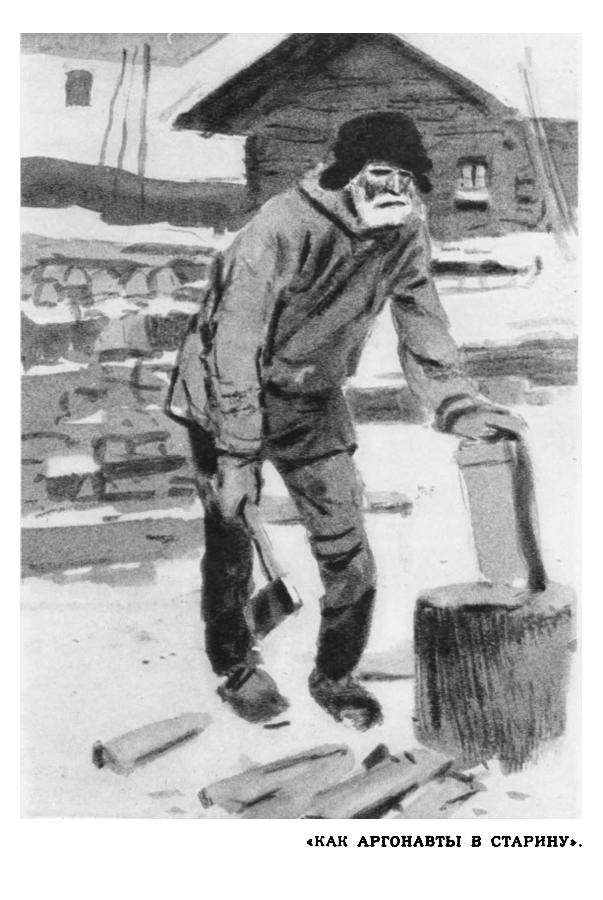

 КPACНOE БОЖЕСТВО
КPACНOE БОЖЕСТВО
Принцесса
В зарослях, непринужденно развалясь около весело горевшего костра, сидел человек. В нем было что-то беззаботное и вместе с тем ужасное. Эта полоса редкого леса между железнодорожной насыпью и речным берегом — излюбленное пристанище бродяг. Но человека, сидевшего у костра, нельзя было назвать бродягой. Он так опустился, что ни один уважающий себя бродяга не сел бы с ним рядом у одного костра. «Кот», только вышедший на «дорогу», — еще присел бы, пожалуй, но и он тотчас ушел бы, раскусив, с кем имеет дело. Даже самые ничтожные подонки и попрошайки, смерив его беглымвзглядом, прошли бы мимо. Закоренелый бродяга, пара мелких воришек или малолетняя шпана с «дороги», может быть, и не погнушались бы переворошить его лохмотья, чтобы посмотреть, не завалялся ли там какой-нибудь случайный пенни или цент, и затем, дав хорошего пинка, толкнули бы его в темноту. Даже последний пьянчужка счел бы себя стоящим неизмеримо выше его. Этот опустившийся бродяга и пропойца настолько утратил уважение к себе, что не мог рассердиться на Кого-нибудь, он настолько потерял чувство собственного достоинства, что довольствовался объедками с помойки. Выглядел он действительно ужасно. Ему могло быть и шестьдесят лет и девяносто. На его одежду не польстился бы и старьевщик. Рядом с ним лежал развязанный узел, представлявший собой рваную куртку, из которой виднелась почерневшая от дыма банка из-под томатного сока, пустая искореженная жестянка из-под сгущенного молока, обрезки мяса в коричневой оберточной бумаге — вероятно, подачка какого-нибудь мясника — морковка, раздавленная колесом фургона, три заплесневелых, гнилых картофелины и, наконец, надкусанная с одного края сдобная булочка, покрытая комками грязи и добытая, очевидно, из канавы. Лицо этого человека покрывала большая борода, грязно-серая и годами не подстригавшаяся. Вообще-то она, вероятно, была белой, но стояло лето и давно не было дождей, которые могли бы смыть с нее грязь. Можно было подумать, что лицо его в свое время искалечила ручная граната. Нос, деформированный после перелома, был лишен переносицы, одна ноздря, размером с горошину, смотрела вниз, другая — с яйцо воробья, подымалась кверху, Один глаз, нормальной величины, тусклый и мутный, был так сильно навыкате, что, казалось, сейчас выскочит; он слезился обильно и непрерывно, как у старика, другой — чуть побольше, чем глаз белки, — поблескивал, кося в волосатом рубце под обезображенной бровью. К тому же у него не было одной руки. И все же он не унывал. Единственной рукой бродяга почесывал бок, и на лице его было написано чувственное удовольствие. Он поковырял в объедках, задумался и вытащил из внутреннего кармана куртки двенадцатиунцевую аптечную склянку. В ней находилась бесцветная жидкость, при виде которой его маленький глаз загорелся и стал бегать быстрее. Бродяга взял банку из-под томата, спустился по тропинке к реке и принес в ней мутноватую воду. В жестянке из-под сгущенного молока он приготовил смесь, состоявшую на две трети из жидкости, находившейся в склянке, и на одну треть — из воды. Бесцветная жидкость была аптечным спиртом, который на жаргоне бродяг называется «алки». Но бродяга не успел выпить свою смесь: его встревожили чьи-то неторопливые шаги со стороны железнодорожной насыпи. Он осторожно поставил банку на землю между ног, накрыл ее шляпой и стал напряженно ждать. Из мрака появился такой же грязный оборванец, как и он. Ему можно было дать лет пятьдесят, а то и шестьдесят. Он был карикатурно толст. Его буквально распирало во все стороны. Весь од состоял из одних выпуклостей. Шишковатый нос величиной и формой напоминал турнепс. У него были набухшие веки, а голубые глаза таращились, словно собирались выскочить. Одежда на нем трещала во многих местах, не выдерживая толщины его тела. Резинки гетр лопнули под напором жира; ноги от самых икр колонной переходили прямо в ступни. Он тоже был однорукий. На плече у бродяги висел потертый узелок, заскорузлый от грязи последнего ночлега. Толстяк приближался с осторожностью, но, увидев, что человек у костра не представляет опасности, подошел к нему. — Здорово, дед! — приветливо сказал Толстяк, но внезапно осекся и внимательно посмотрел на зияющую ноздрю старого бродяги. — Скажи-ка, Бородач, как ты защищаешь свою ноздрю от ночной росы? Бородач пробурчал что-то несвязное и плюнул в огонь, давая понять, что этот вопрос не доставил ему особого удовольствия. — В самом деле, — хихикнул Толстяк, — ведь так и утонуть можно, если выйдешь в дождь без зонтика! — Хватит, Толстяк, хватит, — устало пробормотал Бородач, — все равно нового ничего не придумаешь. Даже «быки» угощают меня этим. — Но выпить, я надеюсь, ты можешь? — Толстяк смягчился и, приглашая Бородача, стал проворно развязывать единственной рукой свой потрепанный заплечный мешок. Он извлек оттуда двенадцатиунцевую склянку с «алки». Но тут его встревожили чьи-то шаги, послышавшиеся на железнодорожной насыпи. Толстяк поставил склянку на землю между ног и накрыл ее шляпой. Вновь подошедший кое-чем отличался от них, но был тоже однорук. Отталкивающе мрачный, он вместо приветствия лишь пробурчал что-то невнятное. Костлявый, тощий, с землистым лицом мертвеца, он напоминал одного из кошмарных стариков, рожденных воображением Гюстава Доре [34], и вызывал чувство неприязни. Его тонкогубый, беззубый рот походил на шрам, а крупный изогнутый нос смыкался почти вплотную с подбородком и напоминал крючковатый клюв хищной птицы. Его единственная тощая и искривленная рука загибалась наподобие когтя. Серые бусинки-глаза, тусклые и немигающие, были пусты и безжалостны, как сама смерть. В нем чудилось что-то зловещее, может быть, поэтому Бородач и Толстяк инстинктивно подвинулись ближе друг к другу, как бы объединяясь против возможной угрозы, которую они почувствовали в пришельце. Улучив подходящий момент, Бородач украдкой придвинул увесистый камень на случай защиты и прикрыл его рукой. Толстяк сделал то же самое. Теперь оба они сидели, облизывая пересохшие губы и испытывая неловкость и смущение: страшный пришелец сверлил их своими тусклыми глазами и смотрел то на одного, то на другого, то на приготовленные камни. — Ха! — усмехаясь, процедил он так зловеще и угрожающе, что Бородач и Толстяк невольно взяли свое первобытное оружие. — Ха! — повторил он, проворно засунув свой птичий коготь в боковой карман куртки. — Куда вам, дешевым пройдохам, тягаться со мной? Коготь вынырнул из кармана, зажав шестифунтовый железный кастет. — Да мы и не собираемся ссориться с тобой, Тощий, — пробормотал Толстяк. — А как ты смеешь, черт возьми, называть меня Тощим? — прорычал он. — Я? Поскольку я Толстяк… И раз мне никогда в жизни не приходилось тебя встречать… — А вон тот, наверное, Бородач? Ну и фонарь же ему зажгли над бровью, а нос-то, прости господи, на морде так и гуляет! — Полно, полно, — пробормотал примирительно Бородач, — всякая рожа годится, особенно в наши годы. Все говорят мне одно и то же и что я в зонтике нуждаюсь, чтобы в дождь не утонуть, и все тому подобное. Я ведь наизусть это знаю. — Я не люблю компании, не привык к ней, — угрюмо пробурчал Тощий, — а потому, если вы собираетесь здесь околачиваться, то будьте поосторожнее. Он извлек из кармана сигарный окурок, который, вероятно, нашел на улице, и собрался было взять его в рот, но передумал, грозно посмотрел на соседей и развязал свой узел. Он достал из него аптечную склянку с «алки». — Ладно уж, — пробормотал Тощий, — придется и вам дать, хоть мне и самому не хватает, чтобы выпить как следует. Что-то напоминающее довольную улыбку пробежало по его сухому лицу, когда те двое с достоинством приподняли с земли свои шляпы, демонстрируя собственное богатство. — Вот, разбавь, — сказал Бородач, протягивая ему банку из-под томата с мутной речной водой. — Правда, выше по течению находится сток, — прибавил он виновато, — но они говорят… — Чепуха, — огрызнулся Тощий, приготовляя смесь, — мне в свое время еще и не такое приходилось пить. Однако, когда напиток был готов и каждый единственной рукой поднял свою жестянку, три существа, бывшие когда-то людьми, вдруг замерли в нерешительности, и это внезапное смущение явственно показало, что некогда у них были иные привычки. Бородач первым дерзнул нарушить молчание. — В былые времена я пил и потоньше напитки, — похвастался он. — Из оловянной кружки? — усмехнулся Тощий. — Из серебряного бокала, — поправил Бородач. Тощий испытующе посмотрел на Толстяка, тот кивнул головой. — Ты сидел ниже солонки [35], — сказал Тощий. — Нет, выше, — ответил Толстяк. — Я родился аристократом и никогда не путешествовал вторым классом. Или уж первым, или на палубе: не люблю середины. — А ты? — спросил Бородач Тощего. — Я разбивал бокал в честь королевы, да хранит господь ее величество, — произнес Тощий с пафосом, без обычного ворчания. — В буфетной? — съехидничал Толстяк. Тощий сжал свой кастет, Бородач и Толстяк взялись за камни. — Ну, не стоит горячиться, — сказал Толстяк, кладя свое оружие. — Мы не какая-нибудь шантрапа. Мы джентльмены. Так выпьем, как подобает джентльменам. — По-настоящему, — одобрил Бородач. — До потери сознания, — подхватил Тощий. — Да, немало воды утекло с тех пор, как мы были джентльменами, но забудем лучше длинную дорогу, которая осталась позади, и выпьем на сон грядущий, как истинные джентльмены, вспомним юность! — Мой отец так и грохал, то есть… пил, — поправился Толстяк; старые воспоминания вытеснили из его речи налет жаргона. Двое остальных кивком головы подтвердили, что их отцы также были достойными людьми, и поднесли к губам свои жестянки с «алки». Допив содержимое этих склянок, они отыскали в своем тряпье новые. Бродяги заметно обмякли и разгорячились, но не настолько, чтобы разоткровенничаться и назвать свои настоящие имена. Их язык стал чище, жаргонные словечки перестали слетать с их губ. — Уж таков мой организм, — пояснил Бородач. — Не многие люди могли бы перенести то, что выдержал я, остаться в живых и спокойно рассказывать об этом. Я никогда не берег себя. Если бы моралисты и физиологи говорили правду, я давно лежал бы в земле. Да и вы оба такие же. Достаточно одного взгляда, чтобы в этом убедиться! В наши преклонные годы мы пьем так, что не уступаем молодым, спим на земле, не боимся ни мороза, ни бури, а между тем не страдаем ревматизмом или воспалением легких, которые и молодых укладывают на больничную койку. Он стал готовить вторую порцию смеси, а Толстяк, кивнув головой, продолжал: — Ив веселье мы знали толк, и «нежные слова шептали», — вспомнил он строки Киплинга [36], — и пожили в свое удовольствие, и свет посмотрели… — В свое время, — закончил Тощий. — Это правда, сущая правда, — подхватил Толстяк, — и принцессы дарили нам свою любовь, по крайней мере мне… — Поделись-ка с нами этим, — предложил Бородач. — Ночь еще только начинается, почему бы нам не вспомнить королевские дворцы. Толстяк не стал возражать, он откашлялся, думая, как лучше начать. — Вы должны узнать, что я родом из приличной семьи… Персивал Делани… да, да. Персивала Делани в свое время нельзя было не знать в Оксфорде. Правда, он славился не успехами в науках, что греха таить, но любой гуляка, проведший там молодые годы, помнит его, если, конечно, жив сейчас. — Мои предки явились вместе с Вильгельмом Завоевателем [37], — перебил его Бородач и протянул Толстяку руку в знак симпатии. — А как тебя зовут? — спросил Толстяк. — Я что-то не расслышал. — Деларауз, Чонси Деларауз, скажем приблизительно так… Они обменялись рукопожатиями и посмотрели на Тощего. — Брюс Кэдогэн Кэвендиш, — угрюмо пробормотал Тощий. — Ну, Персивал, повествуй о своей принцессе и королевских дворцах. — Да, в юности я был сущим дьяволом, — сказал Персивал. — Я растранжирил состояние, продал дома, объездил весь свет. У меня была хорошая фигура, пока я не растолстел, — поло, участие в различных состязаниях, бокс, борьба, плавание… В Австралии я получал призы за охоту на ланей, ставил рекорды по плаванию на короткие дистанции. Женщины заглядывались на меня, когда я проходил мимо. Женщины! Дай бог им счастья! И Толстяк, он же Персивал Делани, этот шарж на мужчину, прикоснулся своей мясистой ладонью к толстым губам и послал звездам воздушный поцелуй. — А принцесса… — продолжал он, послав звездам еще один поцелуй, — принцесса была таким же идеалом женщины, как я — мужчины, — пылкая, смелая и безрассудная. Бог мой! В воде она казалась наядой, богиней моря! А если говорить о ее роде, то в сравнении с ней я был, конечно, «парвеню». Ее королевское родословное дерево уходило своими корнями в туманную древность. Она не принадлежала к белой расе. Она вся была смугло-золотая, с золотисто-карими глазами, ее иссиня-черные волосы падали до колен, прямые, они на концах слегка вились, — это придает такое очарование волосам женщины! О, в ее роду никто не имел курчавых волос! Она была дочерью Полинезии — горячая, золотистая, женственная королева Полинезии! Он замолк и в память о ней поцеловал кончики пальцев, а Тощий, он же Брюс Кэдогэн Кэвендиш, воспользовавшись паузой, не преминул заметить: — Хоть ты и не преуспел в науках, но все же приобрел в Оксфорде недурное красноречие! — Я пополнил свой лексикон в Южных морях, там я узнал язык любви, — подхватил Персивал. — Это случилось на острове Талофа, — продолжал он, — что означает остров Любви, это был ее остров. Ее отец, старый король, разбитый параличом, не подымался с циновок и пил чистый джин; день и ночь, день и ночь он пил с горя. Она, моя принцесса, осталась единственным отпрыском, ее братья погибли во время шторма, возвращаясь на своем сдвоенном каноэ [38] из Самоа. В Полинезии принцессы равноправны с наследниками-мужчинами. Это сущая правда, у них в генеалогическом дереве всегда преобладала женская линия. При этих словах Чонси Деларауз и Брюс Кэдогэн Кэвендиш утвердительно закивали головами. — А вы, — сказал Персивал, — я вижу, знаете, что такое Южные моря, а поэтому, мне не нужно много говорить для того, чтобы вы оценили всю прелесть моей принцессы, принцессы Туи-Нуи с острова Любви. Он еще раз поцеловал в знак памяти о ней кончики пальцев, как следует глотнул из своей жестянки спирта и вновь послал звездам воздушный поцелуй. — Но она была застенчива и, кружась около меня, никогда не подходила слишком близко. Только я, бывало, соберусь обнять ее, а принцессы уже и след простыл. Она подарила мне множество восхитительных и дорогих сердцу мук любви, которых мне ни разу не довелось испытать ни до, ни после, — томительное, вечно манящее желание, отвергнутое, но не угасшее по воле богини любви. — Каково красноречие, — пробурчал Брюс Кэдогэн Кэвендиш, обращаясь к Чонси Делараузу. Но Персивал не обратил на эти слова внимания и, послав звездам новый воздушный поцелуй, продолжал: — О, сколько сладких страданий она мне доставила! Она была воплощением пленительного, близкого, недостижимого блаженства. С ней я узнал упоительный ад любви, который не снился и Данте [39]! О, эти опьяняющие тропические ночи под сенью пальм, томный шепот отдаленного прибоя, в котором чудится смутная тайна! Она, моя принцесса, казалось, готова была раствориться в моем желании, но вдруг я слышал ее смех, словно ветка цветущего дерева ударяла по серебряной струне, и моя страсть переходила в безумие. Мое состязание с чемпионами острова Талофа явилось первым событием, заинтересовавшим ее. Своим отличным плаванием я вызвал симпатию принцессы. Это было нечто более определенное, чем кокетливая улыбка и застенчивое притворство. В тот день мы занимались ловлей осьминогов в коралловых рифах, — не вам объяснять, как это делается. Ныряешь со скалы на пять — десять саженей [40], словом, на достаточную глубину, и палкой заталкиваешь осьминога в его нору, которую он обычно устраивает в расщелинах рифа. Тут вся трудность состоит в том, чтобы заостренной с обоих концов палкой раздразнить осьминога и заставить его обхватить щупальцами палку и руку. И тогда всплываешь с ним на поверхность и бьешь осьминога по голове, которая находится посередине его тела, а потом бросаешь его в каноэ. И подумать только, что я проделывал! Персивал Делани замолк на минуту, его жирное лицо выражало благоговение, в то время как он вспоминал славные дни своей молодости. — Как-то раз я выудил осьминога со щупальцами в восемь футов длиной, а нашел я его на глубине пятидесяти футов. Я мог оставаться под водой четыре минуты. Я спускался, привязав для тяжести коралловую глыбу, на глубину в сто десять футов и доставал оттуда зацепившийся якорь. Я мог нырять ногами вперед, мог прыгать в воду с высоты восьмидесяти футов. — Хватит, перестань! — сердито проговорил Чонси Деларауз. — Рассказывай нам о принцессе. Вот что волнует старую кровь. Я так ясно представляю ее. Она и впрямь была так хороша? Персивал снова поцеловал кончики пальцев, не находя нужных слов. — Ведь я сказал вам, что она была истинной дочерью моря, наядой. Как-то раз шхуна принцессы разбилась во время шторма, и она плыла в течение тридцати шести часов, пока ее не подобрали. Я своими глазами видел, как она ныряла на глубину в девяносто футов и возвращалась, держа в каждой руке по жемчужине. Это была необыкновенная женщина! Восхитительная, великолепная! О, я знаю, что если бы Фидий [41] или Пракситель запечатлели дивную красоту ее тела, то получился бы великолепный шедевр. В тот же день после ловли осьминогов в рифах я чуть было не заболел от любви к ней. Я впал в безумие. Мы прыгали с большого каноэ и плыли бок о бок в прохладных ослепительных волнах, а она смотрела на меня, и ее взгляд причинял мне танталовы муки. И наконец там, в океане, я почувствовал, что уже не властен над собой, и обнял ее. Она ускользнула из моих рук, как сирена, и я видел, как она смеется, удаляясь от меня. Я нырнул вслед за принцессой, но, достигнув дна, она стала ворошить палкой коралловый песок и мутить воду. Это известный трюк, когда надо уйти от акулы. Она пустила в ход этот прием против меня и подняла такой водоворот, что я потерял ее из виду. Принцесса обогнала меня, и, когда я всплыл на поверхность, она, смеясь, забиралась в каноэ. Но все-таки это не был отказ. Принцесса есть принцесса. Она взяла меня за руку и попросила выслушать ее. «Давай состязаться, кто поймает больше осьминогов и кто достанет самого крупного и самого маленького», — сказала принцесса. В качестве приза она обещала мне свой поцелуй. И я, разумеется, тут же очертя голову бросился в волны. Но я не добыл ни одного осьминога и с тех пор никогда уже больше не занимался их ловлей. Это случилось, когда мы, по всей вероятности, опустились на глубину пяти саженей и, приблизившись к рифам, притаились в своей засаде, карауля добычу. Я как раз отыскал подходящую расщелину и убедился в том, что она пуста, когда почувствовал близость чего-то враждебного. Я повернулся. Рядом со мной находилась гигантская акула длиной футов в двенадцать. Ее глаза горели, как у кошки, и зловеще мерцали, словно падающие звезды. Я понял, что это тигровая акула. Не более как в десяти футах справа от меня принцесса нащупывала своей палкой коралловую ветвь; акула стремительно кинулась к ней. Все во мне подчинилось только одному — отвлечь внимание хищника от принцессы. Ведь я, как всякий безумно влюбленный, с радостью готов был сражаться и умереть, а еще лучше — страдать и жить за свою возлюбленную. Вспомните, какой необыкновенной женщиной она была и как я боготворил ее. Отчетливо сознавая весь риск этого шага, я дотронулся до бока акулы острым концом своей палки, — так иной раз слегка касаются рукой проходящего мимо знакомого, чтобы обратить на себя внимание. Страшный хищник повернулся ко мне. Вы знаете, что такое Южные моря, и вам, конечно, известно, что тигровая акула так же, как и гризли [42] с Аляски, никогда не отступает. В глубинах океана начался бой, если можно назвать сражением такую неравную борьбу. Принцесса, ни о чем не догадываясь, схватила осьминога и поднялась на поверхность. Акула бросилась на меня. Я ударил ее обеими руками по носу над зубастым провалом пасти, а она прижала меня к острому краю кораллового рифа. Шрамы на моем теле остались и по сей день. Как только я пытался встать, она бросалась на меня. Я не мог так долго оставаться под водой без воздуха. Акула бросалась на меня, и я бил ее кулаками по носу. Скорее всего, я вышел бы из борьбы невредимым, если бы моя правая рука не соскользнула прямо в открытую пасть акулы. Она сомкнула челюсти у самого моего локтя. Вы знаете, что такое хватка акулы. Раз сомкнувшись, ее зубы не разжимаются, пока не кончат свое дело. Зубы акулы не могут прокусить большой кости, но она содрала все мясо с моей руки от локтя до самого запястья, и здесь ее зубы сомкнулись. Моя правая рука разожгла ее аппетит. Пока она ела правую руку, я глубоко воткнул большой палец левой руки в глазное отверстие акулы и выдавил ей глаз. Но это не остановило ее. Человеческое мясо возбудило аппетит акулы. Она захватила в свою пасть уже и мое окровавленное запястье. Раз шесть я пытался отразить ее нападение при помощи неповрежденной руки. Затем акула схватила мою бедную, искалеченную руку и ободрала мясо от плеча до локтя, где ее зубы сомкнулись вторично. Но в то же время я левой рукой выдавил ее второй глаз. Персивал Делани содрогнулся и продолжал: — С каноэ видели все случившееся и громко восторгались мной. На острове и сейчас поют обо мне песни и рассказывают легенды. А принцесса… — Пауза была короткой, но многозначительной. — Принцесса вышла за меня замуж… О, дни радости и невзгод! О, карусель времени и изменчивости счастья, превратности судьбы, деревянные башмаки, карабкающиеся в гору, и лакированные каблуки, спускающиеся вниз!.. Французский линкор и покоренное королевство Океания, где сейчас командует грубый солдафон из колониальной жандармерии… Толстяк кончил свой рассказ и склонился над жестянкой из-под сгущенного молока; едкая жидкость, которую он жадно проглотил, забулькала у него в горле. После некоторого молчания начал свое повествование Чонси Деларауз, он же Бородач: — Не все ли равно, где я родился, раз уж я сижу здесь, у этого костра, с кем попало? Скажу только одно: в свое время я тоже был в некотором роде известен. Добавлю лишь, что любовь к лошадям и потворство родителей моим прихотям заставили меня исколесить свет. И я вправе спросить: «Белеют ли еще берега Дувра?» — Ха, ха! — усмехнулся Брюс Кэдогэн Кэвендиш. — Ты еще, может быть, спросишь, как здоровье тюремного начальника? — Я вытворял все, что вздумается, без всякого ущерба для своего железного организма, — торопливо добавил Бородач. — Мне уже семьдесят, а сколько их, таких же безрассудных и смелых, но более молодых друзей, я похоронил на этой длинной дороге; они не выдержали бродячей жизни. Я испытал в юности много невзгод, я испытываю их и сейчас, когда стал стариком. Но была пора, правда, очень мимолетная, когда я знал лучшую жизнь. И сейчас я тоже шлю воздушный поцелуй принцессе моего сердца. Она действительно была полинезийской принцессой и жила в тысяче миль на юго-восток от острова Любви Делани. Остров Веселья — так называют этот остров туземцы Южных морей. Но сами жители именуют его островом Тихого смеха. На карте вы встретите старое его наименование, данное мореплавателями в былые времена — Манатомана. Бывалые моряки, избороздившие океан, называли его «Раем без Адама», а миссионеры того времени — «Божьим Свидетелем», так как туземцы легко переходили в лоно христианской церкви. Что касается меня, то этот остров всегда был и останется моим раем. Это был воистину мой рай, потому что там жила моя принцесса. На острове правил Джон Азибели Танги. Король был коренным туземцем, происходившим от самой древней и аристократической королевской ветви, которая начиналась от Ману, легендарного предка этого народа. Короля именовали Джоном Вероотступником. Он прожил долгую жизнь и много раз менял религию. Сначала он стал католиком и, нарушив табу, закопал в землю языческих идолов, прогнал жрецов, предал смерти наиболее непокорных из них и повелел своему народу посещать церковь. Потом, под давлением купцов-протестантов, потакавших его любви к шампанскому, он выселил католических священников на Новую Зеландию. Большинство его подданных всегда следовало за королем, не исповедуя никакой религии, что вело к распущенности нравов, и миссионеры Южных морей стали отзываться в своих проповедях об острове короля Джона, как о новом Вавилоне. Но шампанское купцов оказало пагубное действие на желудок старого короля, и он через некоторое время переметнулся к методистам, снова повелел своим подданным ходить в церковь, очистил побережье от толпы одетых с иголочки торговцев, не позволял купцам курить по воскресеньям трубку на воздухе и как-то оштрафовал одного из крупнейших торговцев на сто соверенов за то, что у него на шхуне собирались в субботу утром мыть палубу. Это был период пуританских законов, ставших со временем в тягость и самому королю Джону. Однажды он покончил с методистами, выслал несколько сот своих приближенных в Самоа за приверженность к методизму и, наконец, изобрел свою собственную религию, провозгласив себя богом, требующим поклонения. Он нашел себе помощника в лице одного ренегата с Фиджи. Это тянулось пять лет. Но затем, может быть, потому, что королю надоело изображать божество, или оттого, что его фаворит бесследно исчез, прикарманив шесть тысяч фунтов из королевской казны, но в конце концов он вторично перешел к методизму, и все его подданные последовали примеру короля, Миссионера-методиста он назначил на пост премьер-министра, что явилось предупреждением для торговой братии. Это восстановило торговцев против короля Джона, они занесли остров в черный список и стали бойкотировать его, что свело доходы королевства к нулю. Народ обнищал, и король не мог занять ни у кого из своих приближенных даже шиллинга. К этому времени король начал стареть. Теперь он все чаще философствовал, и в конце концов в нем заговорил голос предков. Король покончил с методизмом, разрешил изгнанникам вернуться с Самоа, вновь призвал купцов, отпустил вожжи в отношении религии, провозгласил всеобщий мир, братство, любовь и высокий тариф, сам же вернулся к вере предков, выкопал из земли идолов, приблизил к себе жрецов и стал соблюдать табу. Все это было на руку купцам — воцарилось благоденствие. Разумеется, большинство подданных последовало примеру короля и возвратилось к язычеству. Но некоторые все же исповедовали католичество, протестантство или методизм, — они собирались в своих убогих церковках. Король Джон смотрел на все это сквозь пальцы, так же как и на процветание купцов на побережье. Он со всем мирился, только бы получать налоги. Король не сказал ни слова даже тогда, когда его жене, королеве Мамаре, вздумалось стать баптисткой и она призвала к себе тщедушного, хромого баптистского проповедника. Но король настоял на том, чтобы странствующие миссионеры жили не за счет казны, а существовали на собственные доходы. Ну вот, теперь все нити повествования сплетаются в прекрасный, утонченный узор, именуемый моей принцессой. Бородач умолк, бережно поставил на землю до половины наполненную жестянку из-под сгущенного молока, которую машинально вертел в руках во время рассказа, и звучно поцеловал кончики пальцев своей единственной руки. — Ее матерью была королева Мамара. Принцесса была изумительной женщиной, не столько полинезийкой Дианой [43], сколько каким-то небесным существом, вершиной целомудрия. Принцесса напоминала застенчивую фиалку, хрупкую, стройную лилию. Ее глаза излучали тонкий, прозрачный свет, словно нарциссы на неясных полях. Свежая, как высокогорная роза, ласковая, как голубка, она была цветок, утренняя влага на траве, пламень. В ней сливались воедино добро и красота. Религиозная, так же как ее мать, она следовала учению баптистского проповедника Эбенезера Нэйсмита. Но не думайте, что она была бесплотным ангелом. О нет! Она была вершиной женственности, женщиной до мельчайшей частицы своего трепетного существа. А я? Я был самым отпетым на побережье, самым отчаянным среди всей этой бесшабашной торговой братии. Считалось, что никто лучше меня не играет в покер. Я единственный из всех — белых, мулатов и черных — не боялся переплыть в темноте пролив Куни-Куни. И однажды я перебрался через него глубокой ночью, в бурю. У меня была самая дурная слава на берегу, где вообще не знали, что такое хорошая репутация. Буйный, бесстрашный и грозный, я не знал удержу ни в драке, ни в веселом разгуле. Капитаны торговых шхун имели обыкновение приводить ко мне разных типов с лужеными глотками из самых мерзких дыр Тихого океана. Эта шайка пыталась напоить меня так, чтобы я свалился под стол. Я помню одного сожженного спиртом шотландца с Ново-Гебридских островов. Ну и пьянка же была! Она доконала беднягу. Мы запаковали его в бочку из-под рома и, погрузив на шхуну, отправили домой. Вот сак мы забавлялись на берегу Манатоманы! И из всех невероятных вещей что, вы думаете, было самым ошеломляющим? Однажды я посмотрел на принцессу, увидел, как она хороша, и влюбился в нее. Ко мне пришла настоящая любовь. Я стал беспокойным, как заяц в марте, а после совсем обезумел. Подумать только, что может сделать маленькая женщина с таким здоровенным бродягой. Клянусь чертом, это правда! Я стал ходить в церковь. Я очистил свою душу перед богом и не подымал рук — у меня их было тогда две — на береговых гуляк, которые смеялись над моим последним «фокусом» и недоумевали, какого черта я все это затеял. Но, верьте мне, я действительно проникся новой верой, страстно и искренно отдавшись религиозному чувству; с той поры я отношусь терпимо к любому вероисповеданию. Я рассчитал своего самого лучшего капитана за безнравственность, а также своего повара, лучшего из всех поваров, когда-либо кипятивших воду на Манатомане. По той же причине я уволил моего старшего клерка. И в первый раз за всю историю колониальной торговли мои шхуны вместе с другим грузом везли на Запад библии. За чертой города, среди манговых деревьев, я выстроил уединенный бунгало, расположившийся по соседству с домиком Эбенезера Нэйсмита. Я сделал миссионера своим близким другом, открыв, что его душа — сосуд, наполненный добротой и мудростью, подобно тому, как пчелиные соты наполнены медом. И вместе с тем он был мужчиной, истинным мужчиной и умер много лет спустя, как подобает мужчине, и я с удовольствием рассказал бы вам об этом, если бы история не была столь длинной. Но то, что я совершал благочестивые поступки, в частности построил новую церковь — нашу церковь, церковь королевы-матери, — было скорее заслугой принцессы, а не миссионера. «Наша бедная церковь, — сказала мне принцесса однажды вечером, после молитвенного собрания (прошло только две недели со времени моего обращения), — такая маленькая, что число прихожан не может увеличиться. И крыша течет. А король Джон, мой жестокосердный отец, не желает пожертвовать нам ни одного пенни, А средств в казне не хватает. Манатомана не бедная страна. Здесь наживают и тратят много денег. Мне это известно. Я слышала о разгуле на берегу. Всего месяц назад вы в одну ночь оставили на карточном столе больше, чем стоит годовое содержание нашей бедной церкви». Я не возражал ей, но заметил, что все это было раньше, до того, как у меня открылись глаза. Я сказал ей, что с тех пор ни разу не пил вина и не брал в руки карт, сказал, что она сейчас же может позвать плотников из числа членов нашей общины, чтобы они поправили крышу. Но принцесса — эта милая святая — мечтала о возрождении веры в новой просторной церкви, где Эбенезер Нэйсмит мог бы читать проповеди. «Вы богаты, — сказала она мне, — вы владеете многими кораблями и торгуете с далекими островами, мне сказали, что вы заключили большой контракт на поставку рабочих для немецких плантаций в Уполу. Говорят, что вы здесь самый состоятельный купец после Швейцера. Я бы так хотела, чтобы часть ваших доходов пошла во славу божью. Это было бы благородно, и я гордилась бы, что знакома с вами, с человеком, поступившим так». Я обещал построить новую церковь, где преподобный Эбенезер Нэйсмит прочтет свою проповедь возрождения, которую смогут услышать все желающие. «Такую же большую, как католическая?» — спросила принцесса. Это был огромный разрушенный собор, построенный в то время, когда весь народ исповедовал католичество. Принцесса хотела от меня очень многого, но я, пламенея от любви, сказал, что воздвигнутая мной церковь будет больше собора. «Но она будет стоить много денег, — мне потребуется время, чтобы скопить нужную сумму». «Вы так богаты, — возразила принцесса, — говорят, что у вас больше денег, чем у моего отца-короля». «Да, но это преимущественно кредит, — сказал я. — Вы не знаете, что это такое. Чтобы рассчитывать на кредит, нужно иметь деньги. С теми деньгами и кредитом, которыми я располагаю, я буду работать, чтобы умножить и то и другое, и тогда я построю церковь». Работать! Я дивился самому себе! Поразительно, какая уйма времени освобождается, когда человек бросает попойки, азартные игры и тому подобные развлечения. Я стал дорожить каждой свободной минутой. Я научился их продлевать и ни одной секунды из этого освободившегося времени не растратил попусту. Я мог работать в десять раз больше, чем раньше. Мои доходы стали расти, мои шхуны курсировали быстрее, чем раньше, я следил за тем, чтобы надсмотрщики выполняли свои обязанности на совесть; в результате всего этого прибыль увеличилась. А что касается нравственности, то я сделался сверхнравственным, клянусь чертом! Моя совесть стала такой щепетильной и заняла так много места, что лопатки ныли под ее тяжестью. Я даже занялся своими старыми счетами и вернул Швейцеру пятьдесят фунтов, которые недоплатил ему в Фиджи три года назад. Да еще заплатил проценты! Да, я работал! Я стал выращивать сахарный тростник, — это были первые сахарные плантации на острове, созданные с коммерческой целью. Я вывез с Малаиты (один из Соломоновых островов) курчавых дикарей, и скоро на моей плантации было уже более тысячи чернокожих. Потом я послал шхуну на Гавайи за оборудованием для сахарного завода и за немцем-специалистом, знакомым с сахароварением. Приехав, он потребовал месячное жалованье в триста долларов. Я собственноручно построил завод с помощью нескольких механиков, которых привез из Квинсленда. Как водится, у меня появился соперник. Его звали Мотомо. Он происходил из самого знатного рода после королевского. Это был красивый, рослый мужчина, чистокровный туземец, необузданный в выражении своих антипатий. Понятно, что он стал зло поглядывать на меня, когда я начал околачиваться около дворца. Он заинтересовался моим прошлым и стал распускать обо мне самые мерзкие слухи. К сожалению, в них было очень много правды. Мотомо побывал даже в Апии, чтобы там выкопать еще что-нибудь скверное обо мне, словно ему не хватало пищи для сплетен здесь, на побережье. Он издевался над тем, что я ударился в религию, над тем, что я посещаю молитвенные собрания, а главное — над моими сахарными плантациями. Он вызывал меня на драку, но я держался от него подальше. Посыпались угрозы, и я вовремя узнал, как он жаждет, чтобы мне проломили череп. Он тоже хотел получить принцессу, но я желал этого более пылко. Принцесса часто играла на фортепьяно. Я тоже играл в свое время. Но, услыхав в первый раз ее игру, решил никогда не говорить принцессе об этом. А она-то считала, что играет прекрасно, милая, нежная девочка! Знаете это ученическое трынканье — раз-два-три, там-там-там! Но я вам скажу сейчас нечто очень смешное: ее игра мне казалась восхитительной, словно райские ворота открывались, когда она играла. Я и сейчас вижу, как я, измотанный, усталый, как собака, после забот трудового дня, лежу, растянувшись на циновках на веранде дворца, и, пребывая в каком-то идиотском блаженстве, смотрю на нее, сидящую за роялем. Ее заблуждение — высокое мнение о собственной игре — было, пожалуй, единственным недостатком совершенного создания. Но я любил ее за это еще больше. Маленькая слабость делала ее как-то человечнее, ближе. И когда принцесса бренчала свое «раз-два-три, там-там-там», я был на седьмом небе от счастья. Мою усталость как рукой снимало. Я любил ее, и мое чувство к ней было чисто, как пламя, искренно, как моя любовь к господу богу. И представляете, моему помутненному любовью сознанию казалось, что всевышний, должно быть, во многом похож на нее… Да, это так, смейтесь, Брюс Кэдогэн Кэвендиш, смейтесь, сколько душе угодно, но моя любовь была именно такой, как я говорю, вот и все. Это самое возвышенное и чистое, что выпадает на долю человека. Я знаю, о чем говорю, ибо я испытал это. Бородач сверкнул своим острым беличьим глазом из-под разбитой брови — глазом горячим, как раскаленный уголек костра на их привале в зарослях. Затем он прервал повествование, чтобы допить содержимое своей жестянки и налить новую порцию спирта. — Сахарный тростник, — продолжал Бородач, вытирая густую спутанную бороду тыльной стороной ладони, — созревает в тех краях за шестнадцать месяцев, и мой завод был достроен как раз к тому времени, когда пришла пора этот тростник обрабатывать. Он созревал не весь сразу, но я посадил его с таким расчетом, чтобы время от времени подсаживать новый и чтобы завод мог работать беспрерывно в течение девяти месяцев. Первые дни у меня была масса забот. То и дело что-нибудь не ладилось на заводе. На четвертый день Фергюссон, мой инженер, остановил его на несколько часов, чтобы исправить неполадки. Меня беспокоил питательный привод. После того, как негры смазали вальцы, я отослал их на плантацию резать тростник и был там совсем один, когда Фергюссон запустил машину, и я выяснил, что случилось с питательными вальцами. И вот как раз тогда ко мне подошел Мотомо. Он стоял одетый по моде, что называется, с иголочки в норфолькском пиджаке и крагах из свиной кожи, и, ухмыляясь, рассматривал меня, с ног до головы покрытого грязью и жиром, подобно чернорабочему. Наблюдая работу вальцов, я понял, в чем заключалась неполадка: было нарушено равновесие — одна сторона забирала тростник правильно, другая была немного приподнята. Я вложил туда руку. Острые зубцы колес на вальцах не касались моих пальцев. Но вдруг как будто десять тысяч дьяволов схватили мои пальцы, втянули их, сдавили и сделали из них кашу. Меня затягивало, как тростниковый стебель, меня ничто не могло спасти, это оказалось бы не под силу сделать даже десяти тысячам лошадей. Рука, плечо, голова, грудь — весь я, с головы до ног, должен был подвергнуться обработке машиной. Боль стала такой адской, что я уже не чувствовал ее. Словно посторонний наблюдатель, смотрел я, как машина втягивала пальцы, затем кисть, запястье, предплечье плавно и неудержимо. О инженер, попавший в собственную ловушку! О плантатор, измолотый собственной молотилкой! Мотомо невольно бросился ко мне, ехидная улыбка на его лице сменилась выражением озабоченности. Потом до него дошла вся прелесть ситуации, он хихикнул и осклабился. Нет, мне нечего было рассчитывать на его помощь. Разве он не жаждал проломить мне череп? Да и что он мог сделать? Ведь он ничего не смыслил в машинах. Я, надрываясь, заорал Фергюссону, чтобы он выключил мотор, но мой голос потонул в грохоте колес. Машина уже втянула мою руку до локтя и продолжала тащить меня дальше. Да, было здорово больно, особенно, когда рвались и выдергивались с корнем нервы, но помню, меня удивляло, что боль все же не так нестерпима. Мотомо сделал движение, которое привлекло мое внимание. При этом он громко и сердито сказал, словно злясь на себя: «Ну и дурак же я!» Он схватил нож, которым срезают тростник, — знаете, такой большой и тяжелый, вроде мачете. Я заранее говорил Мотомо спасибо за то, что он сейчас прекратит мои страдания. Какой смысл было ждать, когда машина медленно втянет меня и сделает из моей головы лепешку, — моя рука от локтя до плеча уже превратилась в кровавое месиво, а машина все продолжала тащить меня. Поэтому я с чувством благодарности склонил голову для удара. «Убери голову, идиот!» — рявкнул Мотомо. Я понял и послушался. Я был крупным детиной, и поэтому ему пришлось сделать два удара ножом, прежде чем он смог отсечь мне руку. Он отсек ее чуть пониже плеча, оттащил меня в сторону и опустил на тростник. Да, сахар принес огромную прибыль! Я выстроил принцессе церковь, предмет ее святых помыслов, и она… вышла за меня замуж. Он отпил из жестянки и сказал в заключение: — Да! Такова уж жизнь, вот чем все кончается; мы становимся твердыми, внутренности наши настолько лужеными, что с ними ничего не может сделать даже спирт и только он один приносит радость. Но я все же пожил и сейчас шлю воздушный поцелуй памяти моей принцессы. Она давно уже спит вечным сном в большом мавзолее короля Джона, а напротив, по ту сторону долины Маноны, стоит дом губернатора с развевающимся на крыше чужеземным британским флагом… Толстяк сочувственно предложил тост за здоровье Бородача и выпил из своей маленькой жестянки. Брюс Кэдогэн Кэвендиш с непримиримой горечью смотрел на огонь. Он предпочитал пить в одиночку. Толстяк увидел, как что-то вроде усмешки пробежало по его жестоким тонким губам. Удостоверившись, что камень недалеко, Толстяк спросил вызывающе: — Ну, теперь очередь за тобой, Брюс Кэдогэн Кэвендиш? Тот поднял свои бесцветные глаза и впился ими в Толстяка так, что он беспокойно поежился. — У меня была нелегкая жизнь, — проскрипел Тощий, — что я знаю о любовных похождениях? — Я не поверю, чтобы их не было у мужчины с такой внешностью и фигурой, — польстил ему Толстяк. — Ну и что? — огрызнулся Тощий. — Хвастаться своими победами не занятие для джентльмена. — Ну, ладно, не упрямься, расскажи, — настаивал Толстяк, — до утра еще далеко, и выпить есть что. Мы с Делараузом уже выложили все. Не часто трое настоящих людей могут встретиться и поговорить по душам. Ну хотя бы одно любовное приключение, о котором не стыдно рассказать, у тебя, конечно, было? Брюс Кэдогэн Кэвендиш достал свой кастет и, казалось, раздумывал, не хватить ли ему Толстяка по черепу, потом он вздохнул и сунул кастет обратно. — Ну, если вам так хочется, я расскажу, — с явной неохотой согласился он. — Как и у вас, у меня было прекрасное здоровье. И даже такой, каким я стал сейчас, — раз уж вы говорите о луженых внутренностях, — я мог бы шутя перепить вас в дни вашей молодости. Начало моей жизни, так же как и у вас, отличалось от ее конца. То, что я родился джентльменом, разумеется, не подлежит сомнению, хотя, может быть,кто-нибудь из вас сомневается в этом?.. Он засунул руку в карман и сжал свой кастет. Никто не выразил недоверия. — Это произошло в тысяче миль к востоку от Матоманы, на острове Тагалаг, — продолжал он отрывисто, и в его тоне почувствовалось угрюмое разочарование, словно он был недоволен, что никто не захотел с ним спорить. — Но сначала я, пожалуй, объясню вам, как я очутился на этом острове. По причинам, которые я не считаю нужным излагать, постепенно спускаясь вниз по дорогам, рассказывать о которых я не буду, я, в самом расцвете своей распутной молодости, прожженный настолько, что рядом со мной недоучившиеся юнцы из Оксфорда и великосветские шалопаи показались бы младенцами, оказался владельцем некоей шхуны, снискавшей такую славу, что не стоит называть ее имени. Я набирал негров-рабочих на юго-западе Тихого океана и в Коралловом море и отвозил их на плантации Гавайских островов и в рудники Чили, где добывают селитру. — Значит, это ты вывез оттуда все население? — не сдержавшись, выпалил Толстяк. Единственная рука Брюса Кэдогэна Кэвендиша мелькнула в воздухе, скользнула в карман и вынырнула оттуда уже с кастетом. — Продолжай, — вздохнул Толстяк, — я… не помню, что хотел сказать. — Чертовски забавная там страна… — небрежно процедил Тощий. — Вам приходилось читать о Морском Волке? — Ты никогда не был Морским Волком, — с уверенностью заявил Бородач. — Нет, сэр, — злобно ответил Тощий. — Морской Волк умер, не правда ли? А я ведь жив, а? — Да, да, — согласился Бородач, — он захлебнулся в грязи на верфи в Виктории года два назад. — Как я уже говорил, — и я не люблю, когда меня перебивают, чертовски забавная была эта страна, — продолжал Брюс Кэдогэн Кэвендиш. — Я попал на Таки-Тики, равнинный остров, который относится к Соломоновым, но геологически не имеет с ними ничего общего, ведь Соломоновы острова гористые. Если говорить о его населении, то этнографически он примыкает к Полинезии, Меланезии и Микронезии, потому что представители всех тихоокеанских племен постепенно перебрались туда на каноэ и там вырождались, так что весь осадок, поднятый со дна людского моря, говоря языком биологии, осел на Таки-Тики. Мне известно это дно, и я знаю, о чем говорю. Это была чертовски занятная пора: я добывал ракушки, ловил трепангов, менял железные обручи и топорики на копру и орехи, вербовал черномазых и т. д. На Фиджи жизнь, прямо сказать, не баловала, местные царьки все еще употребляли в пищу человеческое мясо, а потешные, кудлатые, низкорослые чернокожие, жившие западнее, все поголовно были людоедами. Они охотились за головами, за человеческую голову давали изрядный куш. — Куш? — спросил удивленно Толстяк и, заметив нетерпеливое движение Тощего, добавил: — Видите ли, мне никогда не приходилось забираться на запад так далека, как вам с Делараузом. — Головы ценились очень высоко, — продолжал Тощий, — особенно головы белых. Дикари украшают ими сараи для каноэ и священные хижины. В любой деревне есть «общий котел», в который каждый вносит известную долю. Тот, кто приносит голову белого, получает все содержимое котла. Если долгое время запасы не трогали, то котел переполнялся через край, — чертовски смешно, не так ли? Я сам удостоился такого богатства. Случилось это вот как. У меня на судне умер от тропической лихорадки голландец — помощник капитана. Я об этом не заявил и договорился обо всем с моим рулевым Джонни, туземцем из Порт-Мересби. Мы были тогда в Ланго-Луи. Джонни отрубил покойнику голову и отправился с ней ночью на берег, а я стрелял в него из ружья, делая вид, что хочу его догнать. Он и в самом деле получил содержимое котла за голову штурмана. Разумеется, на следующий день я послал за ним своих под прикрытием двух шлюпок, и он вернулся на шхуну вместе с добычей. — А какая цена была этим запасам? — спросил Бородач. — Я слышал, что на Орле содержимое одного котла стоило восемьдесят соверенов. — Во-первых, — сказал Тощий, — там находилось сорок откормленных свиней. Каждая из них стоила два ярда туземных монет-ракушек, то есть один соверен. Вот уже двести долларов, и еще двести ярдов этих монет-ракушек, то есть почти пятьсот долларов, а потом еще двадцать два золотых. Я разделил все это на четыре части: четверть — Джонни, четверть — команде, четверть взял себе, как хозяин шхуны, и еще четверть, как ее шкипер. Джонни не протестовал. Он ни разу в жизни не держал в руках такой суммы сразу. Кроме того, я дал ему пару старых рубашек покойного штурмана, а голова бедняги, наверное, и по сей день украшает туземный сарай для каноэ. — Не совсем достойное погребение для христианина, — заметил Бородач. — Зато выгодное, — отпарировал Тощий. — Мне пришлось бесплатно отдать акулам его обезглавленный труп. Не хватало еще угостить их бесплатной головой, которая стоила восемьсот долларов. Это было бы преступной расточительностью и полным кретинизмом. Да, в тех краях было много чертовски смешных вещей! Не стоит рассказывать историю, которая случилась со мной на Таки-Тики. Скажу одно, я выбрался оттуда с двумя сотнями негров-чернорабочих, которых вез в Квинсленд. За то время, что я вербовал их, два британских военных судна рыскали за мной по Тихому океану, так что мне пришлось переменить курс и направиться на запад, в надежде сбыть их всех на испанских плантациях в Бангаре. Началось как раз время тайфунов. А шхуна моя называлась «Веселая мгла». До тех пор, пока нас не застиг тайфун, я считал ее на совесть сделанной посудиной. Но таких волн я в жизни не видел. Они превратили шхуну в щепки, буквально в щепки. Они вывернули мачты, разнесли шканцы, сорвали железные решетки, а потом, когда самое худшее было позади, начала сдавать обшивка. Нам едва удалось починить единственную шлюпку и кое-как поддерживать на воде шхуну, пока море слегка успокоилось и мы смогли вырваться оттуда. Мы с корабельным плотником спрыгнули в эту наскоро заштопанную шлюпку последними, когда шхуна стала тонуть. В живых нас осталось только четверо. — Вы потеряли всех негров? — спросил Бородач. — Некоторые из них какое-то время держались на воде, но я не думаю, что они достигли берега. Мы на это затратили десять дней, а нас подгонял ветер. И как вы думаете, что успели мы захватить с тонущей шхуны? Джин и динамит. Забавно, не правда ли? Потом стало еще смешнее. У нас был маленький бочонок пресной воды, кусок солонины и подмоченные сухари, то есть самое необходимое, чтобы как-то добраться до острова Тагалаг. Это самый мрачный остров из всех, какие я видел. Он выступает из моря и виден за двадцать миль. Это вулкан, выброшенный морем, с глубоко вырезанным кратером. Море входит в кратер, поэтому остров может служить хорошо защищенной гаванью. И это все. Остров необитаем, и внешняя и внутренняя стороны кратера слишком отвесны. На острове небольшая роща — около тысячи кокосовых пальм. Вот и все, если не считать кое-каких насекомых. Нет ни одного четвероногого, даже крысы. И как будто на смех: столько кокосовых орехов и хоть бы один краб! Из рыбы там водились только мулеты, плававшие косяками в бухте, это были самые великолепные, самые жирные, самые крупные мулеты, каких я когда-либо видел. И вот мы вчетвером появляемся на этом берегу и разбираем под пальмами свои пожитки, а они состоят из джина и динамита. Что же вы не смеетесь? Ведь это смешно. Сядьте на такой рацион — голландский джин и кокосовые орехи, и это все. С тех пор я не могу смотреть на витрины кондитерских. Я не такой дока в религии, как Чонси Деларауз, но кое-какие примитивные понятия все же имею. И ад мне представляется в виде бескрайней кокосовой плантации с ящиками джина и потерпевшими крушение моряками. Смешно? Сам дьявол хохотал бы до истерики. Кокосовый орех недаром считается пищей, не дающей равновесия, — и действительно, он испортил наши желудки. А поэтому, когда голод особенно сильно кусал нас, мы пили джин. Через две недели в голове нашего скандинава, матроса Олафа, блеснула одна идея. Эта мысль осенила его башку, когда она до краев была наполнена джином. И мы, тоже изрядно пьяные, видели, как он взял фитиль и динамитный патрон и пошел к шлюпке. Я догадался, что Олаф отправился глушить рыбу. Была дикая жара, я улегся поудобнее и пожелал ему удачи. Через полчаса мы услышали взрыв, но Олаф не приходил. Мы дождались вечерней прохлады и пошли на берег. Там мы все поняли. Шлюпка, прибитая ветром к берегу, была невредима, но Олаф исчез. Мы поняли, что ему не придется больше есть кокосовые орехи. Мы вернулись еще более подавленными и напились как следует. А назавтра кок сказал нам, что он предпочитает рискнуть с динамитом, чем продолжать питаться кокосовыми орехами. Пусть он толком не знаком с динамитом, но зато действие кокосовых орехов знает слишком хорошо. Мы достали патрон, сунули туда фитиль, дали ему хорошую головешку, а он тем временем накачивался джином. Все было так же, как и накануне. Спустя некоторое время мы услышали взрыв, а в сумерки спустились к шлюпке и кое-как выгребли останки кока, чтобы предать их земле. Мы с плотником держались еще два дня. Затем кинули жребий — идти выпало ему. Простились мы с руганью, так как он хотел забрать флягу с джином для бодрости, чтобы пить по дороге, а я не мог согласиться с таким идиотским мотовством. Он и так уже хватил больше, чем требовалось, и шел зигзагами, изрядно шатаясь. Произошло то же самое, с той лишь разницей, что на сей раз труп не был искромсан на части, потому что плотник использовал лишь половину патрона. Я терпел сутки. А потому, подкрепившись как надо, расхрабрился и приготовил динамит. Я взял только треть патрона, совсем короткую трубку с расщеплением на конце, куда можно было вставить безопасную спичку. Так я усовершенствовал метод моих предшественников. Они употребляли слишком длинные фитили, и им приходилось держать патрон в руках, пока огонь не доходил почти до самого динамита. Если они бросали патрон преждевременно, то он не взрывался, падая в воду, и лишь распугивал мулетов. Да, смешная штука динамит! Как бы то ни было, я утверждаю, что мой метод самый безопасный. Через пять минут я наткнулся на косяк мулетов, они были крупные, жирные, и я уже мысленно вдыхал аромат жареной рыбы. Когда я поднялся, зажав спичку в одной руке, а динамитный патрон в другой, то почувствовал, что у меня дрожат колени. Возможно, это действовал джин, может быть, я нервничал, может быть, давали себя знать слабость и голод, но я чувствовал, что весь трясусь. Дважды я пытался зажечь спичку и не мог. Наконец мне это удалось, я услышал треск вспыхнувшей спички и бросил… Не берусь судить, как это было у других, но помню, что произошло со мной. Я растерялся. Может быть, вам случалось, сорвав землянику, бросить ягоду, а стебелек машинально взять в рот. Так было и со мной. Спичку я бросил в воду, а патрон продолжал держать в руке, и он отлетел вместе с моей рукой… Тощий заглянул в банку из-под томата, в которой раньше находилась вода для приготовления смеси, но она была пуста. — Охо-хо, — зевнул он и направился к речке. Через несколько минут он вернулся, смешал мутную воду со спиртом и, неторопливо выпив эту смесь, с мрачной тоской уставился на огонь. — Да… но… — сказал Толстяк, — а что же случилось потом? — Ну, — сказал Тощий, — принцесса, разумеется, вышла за меня замуж. — Но ведь ты же остался там один, никакой принцессы не было, — отрывисто проговорил Бородач, но тут же спохватился и смущенно замолчал. Тощий немигающим взглядом смотрел на огонь. Персивал Делани и Чонси Деларауз переглянулись. В торжественной тишине каждый своей единственной рукой помог другому завязать узел. И, молча взяв свои пожитки, оба вышли из освещенного круга. Они шли молча, пока не поднялись на железнодорожную насыпь. — Ни один джентльмен не поступил бы так, — сказал Бородач. — Ни один джентльмен не поступил бы так, — согласился Толстяк. Глен Эллен, Калифорния. 26 сентября 1916 года.
Красное божество
Опять этот рвущийся ввысь звук! Отмечая по часам время, в течение которого слышался этот звук, Бэссет сравнивал его с трубой архангела. Он подумал о том, что стены городов, наверное, не выдержав, рухнули бы под напором этого могучего, властного призыва. Уже в тысячный раз Бэссет пытался определить характер мощного гула, который царил над землей и разносился далеко кругом, достигая укрепленных селений дикарей. Горное ущелье, откуда он исходил, содрогалось от громовых раскатов, они все нарастали и, хлынув через край, заполняли собой землю, небо и воздух. Больному воображению Бэссета чудился в этом звуке страшный вопль мифического гиганта, полный отчаяния и гнева. Бездонный голос, взывающий и требовательный, устремлялся ввысь, словно обращаясь к иным мирам. В нем звучал протест против того, что никто не может услышать его и понять. Так казалось больному. Он снова попытался определить природу странного звука. В нем сливались воедино и гром, и мягкое звучание золотого колокола, и сладостный звон туго натянутой серебряной струны. Но это не был ни один из этих звуков и не смешение их. Ни словарь больного, ни его опыт не могли найти слова или сравнения, чтобы передать все многообразие этого звука. Время шло. Минуты перерастали в часы, а звук все слышался, он только изменил свою тональность, постепенно затухая и тускнея. Звук исчезал так же величественно, как ранее нарастал. Он перешел в беспокойное бормотание, в громкий шепот. Звук медленно угасал в огромной груди, породившей его, пока не преобразился в жуткий ропот гнева и в пленительный шепот восторга. Все еще желая быть услышанным, он как будто пытался передать некую космическую тайну, сообщить нечто бесконечно важное и ценное. Теперь это был лишь отзвук, в нем не чувствовалось ни угрозы, ни обещания, он таял. Да, звук умер, но в течение нескольких минут он еще продолжал напряженно пульсировать в сознании больного. Перестав ощущать последнее биение звука, Бэссет снова взглянул на часы. Прошел час, прежде чем этот трубный глас архангела растворился в небытии. «Так это его темная башня?» — мысленно спросил Бэссет, вспоминая свой браунинг и глядя на иссушенные лихорадкой, худые, как у скелета, руки. И он улыбнулся возникшему в его воображении образу Чайльд-Роланда, рукой, такой же слабой, как у него, подносящего к губам охотничий рог. Месяцы или годы, спрашивал он себя, прошли с того дня, как он впервые услышал этот таинственный призывный голос на берегу Рингману? Бэссет не смог бы ответить на этот вопрос, даже если бы от этого зависела его жизнь. Болезнь длилась очень долго. Бэссет судил об этом по тем промежуткам, когда находился в сознании. Но он не мог сказать, насколько длительными были периоды кошмаров и беспамятства. А как дела у Бэтмена, капитана шхуны «Нари», занимавшегося вербовкой чернокожих? Умер ли наконец от белой горячки пьяница — помощник капитана? Бэссет отогнал от себя эти пустые размышления и попытался не спеша вспомнить все события, происшедшие с ним с того самого дня, когда он на берегу Рингману впервые услышал таинственный зов из глубины джунглей и пошел ему навстречу. Сагава противился. Бэссет отчетливо вспомнил его странное обезьянье личико, на котором застыл ужас, его спину, согнутую под грузом футляров для коллекций, свое ружье и сачок естествоиспытателя у него в руках. Сагава испуганно бормотал на исковерканном английском языке: «Мой боится в чаще, много плохой человек сидит в кустах». Бэссет грустно улыбнулся, вспоминая это. Несмотря на страх, мальчик из Нового Ганновера Новый [44] остался ему верен и без колебаний последовал за ним в чащу, в поисках источника этого удивительного звука. Нет, такой звук не может издавать древесный ствол с выжженной сердцевиной, несущий в глубь джунглей весть о войне, как сначала подумал Бэссет. И он еще раз ошибся, решив, что источник звука находится не далее как на расстоянии часа ходьбы и что к обеду он непременно вернется на шхуну. — Там большой шум, это нехорошо, там злой дух, — говорил Сагава. И он оказался прав. Разве ему не отрубили в тот же день голову? Бэссет содрогнулся при этом воспоминании. Сагаву наверняка съели те «плохой человек, которые сидят в кустах». Бэссет представил мальчика таким, каким он запомнился ему в последний раз — без ружья и без клади, — распростертым на узкой тропинке и обезглавленным. Да, это случилось за одну минуту. Еще минуту назад Бэссет видел, как Сагава терпеливо идет за ним, согнувшись под своей ношей. А вскоре и самому Бэссету пришлось туго. Он посмотрел на безобразные обрубки пальцев на левой руке, потом осторожно дотронулся до шрама на затылке… Взмах томагавка был мгновенен, но Бэссет успел отдернуть голову и отвести удар рукой. Он заплатил за свою жизнь обрубками пальцев и неприятной раной на черепе. Одним выстрелом Бэссет убил наповал дикаря, который едва не прикончил его, затем задал жару туземцам, столпившимся у тела Сагавы, и с удовлетворением убедился, что основной заряд попал в того, кто удирал с головой мальчика в руках. Все это случилось в какое-нибудь мгновение. На узкой тропе, протоптанной дикими свиньями, остались только он, убитый туземец и тело Сагавы. Из темных джунглей, обступивших тропу с обеих сторон, не доносилось ни шороха, ни каких-либо признаков жизни. Впервые в жизни Бэссет убил человека, и, видя результаты своего выстрела, он испытал приступ тошноты. Потом началась погоня. Бэссет бежал по тропинке от своих преследователей, которые оказались между ним и берегом. Он не знал, сколько человек гонятся за ним, потому что не видел их. Может быть, это был один туземец, может быть, сотня. Некоторые из дикарей, Бэссет был уверен в том, перебирались по ветвям, но он лишь изредка видел бесшумно скользящие тени. Звона тетивы лука тоже не было слышно, но неведомо откуда в его сторону то и дело устремлялся поток коротких стрел, — они со свистом вонзались в стволы деревьев, падали на землю. Наконечники их были сделаны из кости, пестрые перья колибри, украшавшие стрелы, переливались многоцветной радугой… Однажды — это воспоминание и сейчас, когда прошло столько времени, вызывало у него довольный смех — Бэссет увидел над головой чью-то тень, которая притаилась, едва он посмотрел вверх. Он ничего не мог разобрать, но тем не менее рискнул и выстрелил наугад крупной дробью. Визжа, как разъяренная дикая кошка, тень рухнула сквозь зелень ветвей и с глухим шумом свалилась к его ногам. Продолжая дико вопить от бешенства и боли, дикарь вонзился зубами в твердую кожу сапога Бэссета. Но тот, не теряя времени, ударом сапога в голову заставил его замолкнуть навсегда. С той поры Бэссет так свыкся с жестокостью, что теперь, вспоминая это происшествие, усмехнулся. Какая жуткая ночь последовала за этим! Нет ничего удивительного в том, что всевозможные разновидности злокачественной лихорадки прочно поселились в нем, думал Бэссет, вспоминая ту мучительную бессонную ночь, когда боль от ран казалась ерундой в сравнении с мукой, которую доставляли ему полчища москитов. От них не было спасения, а зажечь костер он не решался. Москиты до такой степени начинили тело Бэссета ядом, что к утру его глаза заплыли. Он брел, как слепой, в каком-то тупом оцепенении, и ему было почти безразлично, скоро ли ему отрубят голову и зажарят, так же, как Сагаву. За одни сутки он стал развалиной и физически и морально. Бэссет едва не потерял рассудок из-за огромной дозы москитного яда, который разлился в его крови. Время от времени он стрелял в тени, следовавшие за ним по пятам. В течение дня комары продолжали мучить его, а омерзительные мухи целыми стаями липли к кровоточащим ранам, их приходилось стряхивать и давить. В тот день до Бэссета снова донесся удивительный звук, который заглушил барабаны дикарей, но слышался уже дальше. Тут-то Бэссет и допустил роковую ошибку. Думая, что он сделал круг и что источник звука находится между ним и берегом Рингману, Бэссет двинулся назад, полагая, что идет к побережью. На самом же деле он все больше углублялся в таинственные дебри этого неисследованного острова. Этой ночью, спрятавшись между переплетенными корнями смоковницы, он в изнеможении заснул, отдав себя в полную власть москитам. Смутным кошмаром запечатлелись в его памяти последующие ночи и дни. Одно видение запомнилось ему. Внезапно он обнаружил, что находится в поселке дикарей, и увидел, как старики и дети в страхе устремляются в джунгли. Бежали все, кроме одного существа. Где-то совсем рядом над собой Бэссет услышал подвывание, словно издаваемое раненым животным, и ужас охватил его. Он взглянул вверх и увидел девушку, или, скорее, молодую женщину, которая висела на дереве под лучами безжалостно палящего солнца, привязанная за руку. Вероятно, она висела так не один день. Об этом свидетельствовал ее вывалившийся, распухший язык. Все еще живая, женщина с ужасом смотрела на него. Оказать ей помощь уже нельзя, подумал он, глядя на ее опухшие, видимо, переломанные в нескольких местах ноги, и решил, что будет лучше, если он ее застрелит. На этом воспоминание обрывалось. Бэссет не знал, выстрелил он в женщину или нет, так же как не мог представить, как он попал в эту деревню и как ему удалось выбраться из нее. Много неясных видений сменялось в голове Бэссета, вспоминавшего эти ужасные странствия; картины исчезали так же быстро, как появлялись. Он увидел, как вторгся в другую деревню, насчитывавшую десяток хижин, и своим дробовиком загнал всех ее обитателей в джунгли. В деревне остался лишь один дряхлый старик, у которого не было сил бежать; он плевался в белого, причитал и злобно рычал в то время, как Бэссет доставал из земляной жаровни восхитительно пахнувшего жареного поросенка, завернутого в листья. Тут, в этом поселке, Бэссета охватила бессмысленная жестокость. Окончив есть, он взял окорок с собой и, уходя, поджег крышу хижины зажигательным стеклом. Но еще более неизгладимый след оставила в душе Бэссета зловонная сырость джунглей. Сам воздух их был насыщен злом, там всегда царил полумрак. Солнечный луч с трудом пробивался сквозь плотную зелень листьев, образовавших своего рода крышу на высоте ста футов от земли. Под этим навесом было чудовищное гнилое царство растений-паразитов, рождавшихся из тлена и процветавших во мраке смерти. И Бэссет пробирался сквозь эти сумрачные дебри, преследуемый скользящими тенями людоедов — духов зла, которые не решались вступить с ним в бой, но твердо знали, что рано или поздно они его съедят. Бэссет вспоминал, что в минуты прояснения он казался сам себе раненым буйволом, за которым гонится по степи стая койотов, слишком трусливых для того, чтобы напасть на него, но уверенных в том, что конец его неизбежен, и тогда они наедятся вволю. И подобно тому, как рога и твердые копыта буйвола защищают его от койотов, дробовик Бэссета удерживал на почтительном расстоянии эти расплывчатые тени дикарей Соломоновых островов. Но вот настал день, когда Бэссет вышел на равнину, покрытую травой. Джунгли сразу кончились, словно отрубленные божественным мечом. Зловещая черная стена леса подымалась до высоты ста футов, и сразу же у ее подножия росла мягкая, нежная трава, которая радовала глаз и простиралась на много километров. Равнина кончалась у горного кряжа, вздыбленного, наверное, еще в древние времена каким-нибудь землетрясением и размытого тропическими дождями. Бэссет упивался видом этой травы. Он полз, вдыхая ее запах, с наслаждением опуская в нее свое лицо, и наконец разрыдался. И в это время снова послышался удивительный мощный звук, если словом «мощный», как часто впоследствии думал Бэссет, можно было определить беспредельность и в то же время нежность его. Он был нежен, как никакой другой звук на свете. Он был титанически могуч, словно его издавала металлическая глотка какого-то неведомого чудовища. Голос как бы звал Бэссета через бескрайние просторы саванны, благословляя его многострадальную, изболевшуюся душу. Бэссет вспомнил, как он неподвижно лежал, погрузив мокрое от слез лицо в траву, и, перестав плакать, прислушиваясь к удивительному голосу, недоумевал, как мог услышать его на берегу Рингману. Видимо, какая-то прихоть воздушных течений позволила звуку залететь так далеко. Это могло не повториться через тысячу, а может быть, и через десять тысяч дней. Но случилось так, что благоприятные условия сложились как раз в тот самый день, когда он сошел со шхуны «Нари» на несколько часов для того, чтобы пополнить свою коллекцию. Бэссет искал знаменитую гигантскую тропическую бабочку с размахом крыльев в один фут — они такие же бархатные и темные, как сумрак джунглей. Бабочка обычно садилась на вершины деревьев, и только выстрелом можно было ее сбить. Для этого Сагава и нес за Бэссетом ружье, заряженное дробью. Два дня и две ночи Бэссет ползком двигался по равнине. Ему пришлось нелегко, но зато его преследователи остались в джунглях. Бэссет умер бы от жажды, если бы тропический ливень, прошедший на второй день, не напоил его. А потом появилась Балатта. В тени первых же деревьев, там, где саванна сменялась густыми нагорными джунглями, он свалился, думая, что сейчас умрет. Сначала Балатта, увидев его беспомощность, дико завизжала от радости, собираясь раскроить ему череп толстым суком. Но, быть может, именно эта полная беспомощность привлекла ее, а возможно, она не прикончила его из любопытства. Во всяком случае, она его не ударила. Открыв глаза и мысленно приготовившись к удару, Бэссет увидел, что женщина внимательно его разглядывает. Ее особенно поразили его голубые глаза и белая кожа. Она спокойно опустилась на корточки, плюнула ему на руку и стала соскабливать с нее многодневную вязкую грязь джунглей, от которой его кожа потеряла природную белизну. Все в этой женщине поражало Бэссета. Он усмехнулся при этом воспоминании, потому что по части одежды она была наивна, как Ева до происшествия с фиговым листком. Приземистая и в то же время худая, с непропорционально развитыми конечностями и мускулами, напоминавшими пеньковые канаты, видимо, с раннего детства покрытая грязью, смываемой лишь случайными дождями, она представляла собой самую непривлекательную разновидность женщин диких племен, которую ему, как ученому, приходилось видеть. Ее грудь говорила одновременно и о юности и о зрелости. И если даже отбросить все остальное, то о ее принадлежности к женскому полу можно было судить по ее единственному украшению — свиному хвостику, болтавшемуся в ее левом ухе. Он был отрублен так недавно, что еще сочился; капли крови падали на плечо женщины и застывали, как расплавленный стеарин, стекающий со свечи. А ее лицо! Сморщенная кожа, монгольский нос с вывороченными ноздрями, рот с нависшей огромной верхней губой, срезанный подбородок и, наконец, острые, злые глаза, мигающие, как у обезьяны в клетке. Даже вода, которую она принесла ему в древесном листе, и кусок тухлой свинины не смогли искупить в глазах Бэссета ее вопиющего безобразия. Поев немного, Бэссет закрыл глаза, чтобы не видеть ее. Но Балатта то и дело насильно открывала ему веки, чтобы полюбоваться голубизной глаз. И тогда снова раздался этот звук. Казалось, теперь его источник ближе, но Бэссет знал, что еще много часов утомительного пути отделяют его от неведомого голоса. На Балатту звук произвел чрезвычайно сильное впечатление. Она съежилась и, отвернув лицо, застонала, ее зубы судорожно стучали от страха. Голос звенел в течение целого часа, после чего Бэссет закрыл глаза и уснул, а Балатта отгоняла от него мух. Он проснулся уже ночью, Балатта исчезла. Бэссет почувствовал прилив новых сил, — он был так искусан москитами, что уже не ощущал их яда, — и, сомкнув веки, проспал до утра. Некоторое время спустя Балатта вернулась с несколькими другими женщинами. Отнюдь не красавицы, они были все же менее уродливы, чем она. По тому, как держалась Балатта, было очевидно, что она считает Бэссета своей добычей, своей собственностью. Она так гордилась своей находкой, что это могло бы показаться комичным, если бы положение, в какое попал Бэссет, не было таким отчаянным. Позже, когда после перехода, показавшегося ему необыкновенно длительным и тяжелым, Бэссет свалился под хлебным деревом, у входа в священную хижину, Балатта энергично отстаивала свое право на него. Нгурн, с которым Бэссету пришлось впоследствии познакомиться, как с главным колдуном, жрецом и лекарем деревни, хотел заполучить его голову. Остальные окружавшие их люди, хихикавшие и верещавшие, как обезьяны, не менее обнаженные и не менее безобразные, чем Балатта, жаждали заполучить его тело, чтобы зажарить и съесть. Тогда Бэссет еще не понимал их языка, если можно называть языком те грубые звуки, при помощи которых дикари изъяснялись, но он вполне понял суть их спора, особенно когда эти обезьяноподобные люди стали бесцеремонно щупать его, словно он был тушей в мясной лавке. Балатте, вероятно, пришлось бы уступить свою добычу, если бы не произошло следующее событие: один из мужчин, с интересом разглядывавший заряженное ружье Бэссета, ухитрился взвести и нажать курок. При отдаче дикарь получил удар прикладом в живот, и в то же время заряд дроби разнес вдребезги голову одного из участников прений. Даже Балатта бросилась бежать вместе с остальными. Бэссет успел забрать ружье раньше, чем они вернулись, хотя его сознание уже подернулось пеленой наступившего приступа лихорадки. Когда дикари снова столпились около Бэссета, несмотря на то, что его трясло от озноба, а глаза слезились, он напряг волю и сумел внушить им страх при помощи простых чудес — часов, компаса, зажигательного стекла и спичек. В заключение Бэссет торжественно и внушительно застрелил из ружья бегущего поросенка и тотчас потерял сознание. Бэссет напряг мускулы рук, проверяя, сколько осталось у него сил, и медленно, с трудом поднялся на ноги. Он был необычайно истощен, но все же ни разу за долгие месяцы болезни он не чувствовал себя таким крепким, как сейчас. Бэссет боялся рецидивов, уже не раз повторявшихся. Без всяких медикаментов, даже без хины, он до сих пор выдерживал натиск самой страшной тропической лихорадки. Но насколько у него хватит сил, чтобы и дальше бороться с ней? Этот вопрос все время терзал его. Бэссет, как истинный ученый, не мог разрешить себе умереть, так и не узнав тайны странного звука. Опираясь на палку, он побрел к священной хижине, где во мраке царили Нгурн и Смерть. Эта хижина была для Бэссета такой же темной и зловещей, как и сами джунгли. Но там сидел словоохотливый старый Нгурн, его приятель и собеседник, который с удовольствием спорил и разглагольствовал среди пепла смерти. В дыму и копоти он неторопливо поворачивал человеческие головы, подвешенные к черным балкам. В те часы своей болезни, когда сознание не покидало Бэссета, он усвоил примитивный по мысли, но трудный по форме язык племени Балатты, Нгурна и Гнгна — глуповатого молодого вождя с яйцевидной головой, который подчинялся старику (ходил слух, что юноша был его сыном). — Будет ли Красное Божество говорить сегодня? — спросил Бэссет. К этому времени он так привык к жуткому занятию Нгурна, что даже проникся интересом к процессу копчения голов. Взглядом знатока Нгурн посмотрел на голову, которую обрабатывал. — Не раньше чем через десять дней я смогу сказать что она готова, — проговорил он, — никто еще не коптил таких голов. Бэссет мысленно усмехнулся, поняв, что старик избегает разговора о таинственном Божестве. Это повторялось изо дня в день. Ни сам Нгурн, ни люди его племени ни разу не обмолвились ни единым словом о физической природе Красного Божества, а божество непременно должно было обладать физической оболочкой, чтобы издавать такой удивительный звук. Дикари называли божество Красным, но Бэссет не думал, что этот эпитет характеризовал лишь его окраску. Кроваво-красными были его деяния, как понял Бэссет из неясных намеков. Нгурн сообщил ему, что Красный — не только более могущественный, чем боги их соседей, и неутолимо жаждет алой человеческой крови, но что даже эти боги подвергались истязаниям и приносились ему в жертву. Божество царствовало над двенадцатью селениями, а в деревне Нгурна располагался своего рода центральный орган власти этой местности. Во имя Красного Божества многие окрестные деревни были сожжены и стерты с лица земли, а их жители принесены в жертву. Таково было положение вещей в настоящее время, и так велось из поколения в поколение. Нгурн был еще юношей, когда жившие за саванной племена напали на его селение. Совершив ответный набег, Нгурн и его воинственные сородичи захватили много пленников. Из них, еще живых выпустили всю кровь перед Красным Божеством, одних лишь детей было принесено в жертву более ста, а взрослых пленников даже не считали. Иногда старики называли таинственное божество Громоподобным, а иногда Сладкоголосым, Поющим Солнцем, а также Рожденным Звездой. Но почему — Рожденный Звездой? — тщетно задавал Бэссет этот вопрос Нгурну. Как утверждал старик, Красное Божество всегда находилось там же, где и сейчас, и во все времена громоподобным пением изъявляло свою волю людям. Но отец жреца, чья прокопченная голова, завернутая в благовонные травы, раскачивалась между черных балок, считал иначе. Этот мудрец полагал, что Красный прилетел сюда с неба, иначе почему же еще их предки называли его Рожденным Звездой. Бэссет не мог не согласиться отчасти с этим предположением. Но Нгурн возражал ему. Старик говорил, что видел немало звездных ночей, но никогда он не находил ни в джунглях, ни на равнине ни одной звезды, хотя искал их. Правда, он видел, как падают звезды (это был ответ на возражение Бэссета), но он наблюдал также, как светятся гнилые коряги, грибы и тухлое мясо, он видел сияние плодов воскового дерева, и огоньки светляков, и лесные пожары. Но во что превращается это горение после того, как все угасает? В воспоминания. В воспоминания о том, чего уже нет, — о минувших любовных утехах, трапезах и несбывшихся желаниях, об этих отзвуках прошлого, не воплотившихся в реальность. Но где мясо кабана, не убитого охотником, где девушка, умершая, до того, как юноша познал ее? — Нет, воспоминание не может быть звездой, — утверждал Нгурн. — Как оно может быть ею? Я много лет всматриваюсь в ночное небо и ни разу еще не замечал, чтобы хоть одной звезды не хватало. К тому же звезды состоят из огня, а Красный — не огонь, он — свет, — невольно проговорился Нгурн. Но эта обмолвка ничего не сказала Бэссету. — Заговорит ли Красный завтра? — снова спросил он старика. Нгурн лишь пожал плечами. — А послезавтра? А через два дня? — настаивал Бэссет. — Мне бы хотелось заняться копчением твоей головы, — перевел Нгурн разговор на другую тему. — Она иная, чем другие головы. Еще ни один жрец не имел такой головы. Я хорошо прокопчу ее. Я не стану спешить, я буду заниматься ею много месяцев. Луны будут нарастать и убывать, дым будет лениво клубиться, я сам соберу травы для обкуривания. Кожа на твоем лице не сморщится, она останется такой же гладкой, как сейчас. Он поднялся и снял тростниковый мешок, висевший на одной из балок, черневших в полумраке хижины. — Вот голова, напоминающая твою, но она плохо прокопчена, — сказал Нгурн. Бэссет насторожился при этих словах и подумал, что это, возможно, голова белого. Он считал, что туземцы, жившие в глубине джунглей, в самом сердце большого острова, никогда не сталкивались с белыми. Дикари не имели ни малейшего представления о том ломаном английском языке, на котором говорят почти все коренные жители юго-западной части Тихого океана. Им было неведомо, что такое табак и порох, а немногие высоко ценившиеся ножи, сделанные из железного обруча, и еще более редкие томагавки, изготовленные из дешевых топориков, достались им, по мнению Бэссета, как военная добыча от побежденных племен, живших за лугами и получивших их таким же образом от дикарей, обитавших на коралловых островах у побережья, изредка общавшихся с белыми. — Люди, которые живут далеко-далеко, не умеют коптить головы, — пояснил Нгурн, передавая Бэссету то, что, безусловно, являлось древней головой европейца, — светлые волосы подтверждали это. Бэссет готов был поклясться, что это голова англичанина, и притом англичанина другого столетия, доказательством этого служили массивные золотые серьги, сохранившиеся в высохших мочках ушей. — А вот твоя голова… — вернулся жрец к излюбленной теме. — Знаешь, что, — прервал его Бэссет, которого осенила новая мысль, — ты можешь распоряжаться моей головой, когда я умру, если дашь мне увидеть Красное Божество. — Твоя голова мне все равно достанется, когда ты умрешь, — отверг Нгурн его предложение и добавил с жестокой откровенностью дикаря: — Твои дни сочтены, ты уже и сейчас почти труп. Ты все слабеешь. Пройдет немного месяцев — и твоя голова будет коптиться здесь, у меня. Ты знаешь, приятно в течение долгих дней поворачивать в дыму голову человека, которого знал так хорошо, как я знаю тебя. Я стану беседовать с тобой и открою тебе много тайн, это не будет опасно нам, ведь ты будешь мертв. — Нгурн, — с внезапным гневом сказал Бэссет, — тебе знаком мой Маленький Гром в железе? (Так дикари называли его всесильный дробовик). Я могу убить тебя в любой момент, тогда тебе не видать моей головы. — Ну так что же, — невозмутимо проговорил Нгурн, — все равно твоя голова достанется нам, она будет висеть здесь, в этой хижине. Твою голову получит Гнгн или кто-нибудь другой из людей моего племени. И знай, чем скорее ты убьешь меня, тем раньше твоя голова будет поворачиваться здесь, в дыму. Бэссет понял, что из этого спора старик вышел победителем. Но что же представляет собой Красное Божество? Этот вопрос Бэссет в тысячный раз задавал себе в течение следующей недели, когда, как ему казалось, силы начали возвращаться к нему. Что же являлось источником чудесного звука? Кто он, этот Певец Солнца, Рожденный Звездой? Кто — это таинственное божество, такое же свирепое, как те дикие чернокожие племена, которые ему поклонялись, и чей властный серебряный голос не раз слышал Бэссет? Попытка соблазнить старого жреца своей головой окончилась неудачей. Нельзя было рассчитывать и на вождя племени Гнгна: этот кретин фактически во всем подчинялся Нгурну. Оставалась одна Балатта. Она обожала Бэссета с того самого дня, как впервые увидела его синие глаза. Балатта была женщиной, и он знал: единственное, что может заставить дикарку изменить своему племени, — это ее сердце. Но Бэссет был брезглив. Он не мог оправиться от того чувства ужаса, которое с самого начала внушило ему безобразие Балатты. Даже в Англии женщины никогда особенно не увлекали его. Но сейчас, поступая, как человек, готовый на любую жертву во имя науки, он начал усиленно ухаживать за отвратительной дикаркой, совершая насилие над своей утонченной натурой. Он с содроганием, пряча гримасу и преодолевая отвращение, обнимал ее покрытые коркой грязи плечи и чувствовал, как ее курчавые, пахнущие прогорклым маслом, волосы касались его шеи и подбородка. Но он едва не закричал, когда она сразу же отдалась этой ласке, выражая свой восторг ужимками, невнятным бормотанием и поросячьими взвизгиваниями. Это было уж слишком. И следующим шагом в этом ухаживании явилось то, что Бэссет повел Балатту к ручью и как следует вымыл ее. Как верный поклонник, Бэссет с этого дня не отходил от нее ни на шаг. Он уделял Балатте столько времени, на сколько у него хватало воли сдерживать свое отвращение. Но все же Бэссет уклонился от бракосочетания с соблюдением обычаев племени, на котором настаивала Балатта. К счастью, у этих дикарей строго соблюдались определенные табу. Например, Нгурн не имел права прикасаться к скелету, мясу или коже крокодила. Это было твердо определено. Гнгну, также от рождения, запрещалось прикосновение к женщине. Если бы какая-нибудь женщина коснулась его, то она только своей смертью могла бы смыть осквернение вождя. Как-то раз Бэссет видел, как девятилетняя девочка, играя, споткнулась и налетела на священного вождя. С тех пор она исчезла. Балатта поведала ему по секрету, что в течение трех дней и ночей девочка умирала перед Красным Божеством. Балатте были запрещены плоды хлебного дерева. Это радовало Бэссета: что бы он стал делать, если бы ей запретили воду! Для себя Бэссет тоже выдумал запрет. Он заявил, что имеет право жениться только тогда, когда созвездие Южного Креста достигнет зенита. Бэссет разбирался в астрономии и знал, что таким образом получил отсрочку почти в девять месяцев. Бэссет считал, что за это время он или умрет, или сумеет бежать к побережью, узнав тайну Красного Божества и источник удивительного звука. Сначала он думал, что Красное Божество представляет собой гигантскую статую, наподобие колосса Мемнона, поющую при определенной температуре под действием солнечных лучей. Но потом Бэссет отказался от своей гипотезы: однажды, после военного набега, партия пленных была принесена в жертву Божеству ночью, во время дождя, и Красный Дух пел еще громче, хотя солнце в данном случае не могло играть никакой роли. С Балаттой или в обществе других дикарей Бэссет мог свободно бродить в джунглях, но ему было запрещено ходить в том направлении, где обитало Красное Божество. Он стал еще более внимательным к Балатте, не забывая при этом следить за тем, чтобы она чаще купалась в ручье. Как всякая истинная женщина, Балатта была способна на любое предательство ради любви. И хотя вид ее вызывал отвращение, а ласки приводили его в отчаяние, хотя ее страшное лицо преследовало Бэссета в ночных кошмарах, все же, несмотря ни на что, он чувствовал в ней ту первозданную силу пола, воодушевлявшую Балатту и делавшую для нее собственную жизнь менее ценной, чем счастье возлюбленного, женой которого она надеялась стать. Джульетта или Балатта? Чем они отличались друг от друга? Нежный и утонченный продукт высокоразвитой цивилизации и его звероподобный прообраз, отставший на сто тысяч лет, но существенной разницы между ними он не видел. Бэссет был прежде всего ученым, а потом уже гуманистом. В самой глубине джунглей Гвадалканара он ставил опыт так же, как он проверял бы любую химическую реакцию в своей лаборатории. Он усиленно притворялся влюбленным, в то же время все настоятельнее требуя, чтобы Балатта свела его к Красному Божеству. История, старая, как мир, думал он: женщина всегда расплачивается. Это случилось однажды, когда они сидели на берегу ручья и ловили неизвестную Бэссету черную рыбешку с золотистой икрой (она часто заплывала в пресные воды и во всех видах — живая ипротухшая — считалась лакомством). Услышав его требование, Балатта бросилась ничком в грязь, обвила руками его ноги и стала целовать их, всхлипывая так, что у него мурашки бегали по телу. Балатта умоляла убить ее, но не требовать невозможного. Она рассказала ему, что нарушителя табу Красного Божества ждет страшное наказание — неделя пыток. Бэссет слушал ее и убеждался в том, что он еще плохо знает, как человек может истязать человека. И все-таки Бэссет настаивал на том, что его мужская воля должна быть выполнена, хотя бы с риском для ее жизни. Он должен проникнуть в тайну Красного Божества, пусть даже ей пришлось бы заплатить за это медленной, мучительной смертью. Балатта была только женщиной, и она уступила. Она повела его в запретную область джунглей. Крутой горный кряж, тянувшийся с севера, встречался здесь с таким же хребтом, идущим с юга, образуя глубокое черное ущелье, где протекал поток, в котором Балатта и Бэссет ловили рыбу. Дорога около мили шла по краю ущелья, а затем резко поднималась в гору. Они прошли мимо известковых отложений, которые привлекли внимание Бэссета как геолога. То и дело останавливаясь из-за слабости Бэссета, они карабкались по поросшим лесом вершинам, пока не вышли на голое плоскогорье. Бэссет увидел, что оно покрыто темным песком вулканического происхождения. Он подумал, что карманный магнит легко мог бы притянуть несколько черных блестящих зерен. Держа Балатту за руку и побуждая ее идти вперед, Бэссет оказался наконец у цели своего путешествия — в центре плато находилась огромная яма, имевшая, несомненно, искусственное происхождение. Он тут же вспомнил все, что знал из истории путешествий по Южным морям, в его голове замелькали отдельные даты, обрывки событий. Эти острова открыл в свое время Мендана. Он назвал их Соломоновыми, думая, что нашел легендарные копи царя Соломона. Многие смеялись над ребяческой доверчивостью старого моряка, а теперь сам Бэссет стоял на краю котлована, напомнившего ему алмазные разработки Южной Африки. Но то, что он увидел внизу, скорее напоминало жемчужину, переливающуюся всеми цветами радуги. Это была жемчужина-гигант; жемчуг всей земли, слитый воедино, не составил бы ее величины, а окраска ее не походила ни на цвет жемчуга, ни на что-либо другое. Увидев неповторимый цвет Красного Божества, Бэссет сразу понял, что перед ним именно оно. Это был идеальной формы шар около двухсот футов в диаметре, его верхняя часть на сто футов выступала из котлована. Казалось, что поверхность шара покрыта каким-то лаком. Изумительная полировка могла быть сделана и человеком, но, разумеется, не руками дикарей. Лак был красивейшего ярко-вишневого оттенка, казалось, что один слой наложен на другой. Шар сверкал на солнце и переливался многоцветным сиянием. Тщетно Балатта умоляла Бэссета не спускаться вниз. Она валялась в грязи, прося его остаться, но когда он все же начал спускаться по тропинке, петлявшей по стенам гигантского оврага, Балатта поплелась за ним, съежившись и хныкая. Красный шар извлекли из земли как большую ценность, — это не вызывало сомнений. Дикарей, живших в окрестных двенадцати деревнях, было слишком мало, их орудия отличались крайней примитивностью, поэтому Бэссет решил, что только благодаря труду множества поколений мог быть вырыт этот гигантский котлован. Дно обширной ямы было усеяно высохшими скелетами, среди которых валялись также деревянные и каменные изображения идолов, изувеченные и разбитые. Некоторые из них были вырезаны из крепких древесных стволов сорока — пятидесяти футов в длину и украшены непристойными тотемическими рисунками. Он отметил отсутствие изображений акулы и черепахи, которые так часто повторялись на предметах культа туземцев, живших на побережье. Его поразило постоянно повторяющееся изображение шлема. Что могли знать о шлемах эти дикари из дебрей Гвадалканара? Быть может, воины Менданы носили шлемы и проникли сюда несколько веков назад? А если нет, то откуда пришло к ним это изображение? Пробираясь по кучам искалеченных божков и костей в сопровождении плачущей Балатты, Бэссет подошел вплотную к Красному Божеству и слегка дотронулся до него кончиками пальцев. Нет, то не мог быть лак. Лакированная поверхность была бы гладкой, а эту избороздили морщины и выбоины, всюду виднелись следы плавки. Шар мог быть только металлическим, но Бэссет знал, что на земле нет ни одного металла или сплава, напоминающего этот. Его цвет был естественным и, по-видимому, принадлежал самому металлу. Бэссет тихо провел пальцами по поверхности шара, и вдруг гигантская сфера вздрогнула, ожила и запела. Это было невероятно! От такого, почти неощутимого прикосновения гудит огромная масса! Шар словно отвечал на ласку его пальцев ритмическими вибрациями, которые переходили в шепот, в шелест и бормотание. Звуки поражали своим разнообразием: в них слышались тонкий, едва уловимый в своих переливах свист и дурманяще сладостный голос волшебной трубы. Бэссет решил, что так бы звучал колокол богов, летящих к земле из просторов космоса. Бэссет бросил вопросительный взгляд на Балатту, но она, услыхав пение Красного Божества, со стоном пала ниц среди костей. Ученый стал внимательно рассматривать чудесный шар. Он полый и сделан из неизвестного нам металла, решил Бэссет. Да, кто-то еще в древние времена справедливо назвал его Рожденным Звездой. Только звезды могли послать его на Землю. В нем воплотились знания и искусство иных миров. Его идеальная форма не может быть результатом случайности. Бесспорно, шар был творением высокого ума, проникшего в тайны металла. Бэссет с изумлением смотрел на него, в его мозгу мелькали сотни гипотез, объясняющих появление этого странника, который отважился пересечь звездное небо и сейчас лежал перед ним, извлеченный из земли благодаря упорному труду людоедов. Может быть, его окраска — результат нагрева какого-нибудь известного металла? Бэссет вонзил кончик перочинного ножа в поверхность гиганта, пытаясь установить природу материала. Шар рокотом протеста ответил на это прикосновение. Он зазвенел прозрачным золотым звоном. Звук опускался и поднимался, он ширился и готов был перерасти в тот поглощавший все вокруг себя гром, который так часто слышал Бэссет. Забыв об опасности и о собственной жизни, пораженный невероятным и необъяснимым явлением, он занес нож, чтобы ударить им по шару со всей силой, но Балатта удержала его. В ужасе она обхватила его ноги, умоляла Бэссета не делать этого. В своем неистовом желании остановить его она прокусила себе руку до кости. Он едва ли заметил это, хотя машинально поддался инстинктивному чувству и удержался от удара. Человеческая жизнь представилась ему чем-то бесконечно ничтожным перед этим величественным знамением недоступного бытия звездных миров. Словно собаку, он пнул ногой маленькую уродливую дикарку и заставил ее подняться. Она пошла за ним вокруг шара. Пройдя немного, Бэссет увидел страшное зрелище. Он узнал высохший на солнце труп девятилетней девочки, нечаянно нарушившей священное табу вождя. Не случайно дикари назвали свое божество Красным, видя в нем собственный образ и стараясь задобрить его кровавыми жертвоприношениями. Среди мертвецов Бэссет увидел человека, который был еще жив. Он продолжал свой путь, ступая по костям, усеивавшим этот древний склеп для жертвоприношений. Скоро Бэссет увидел сооружение, которое заставляло Красное Божество устремлять свой зов сквозь дикие леса до далекого берега Рингману. Простота этого сооружения особенно бросалась в глаза рядом с совершенством чудесного шара. Это была массивная балка, около пятидесяти футов в длину, охраняемая с древних времен священной традицией. Ее украшало множество изображений богов в шлемах, сидящих в открытой пасти крокодила один над другим. Балка была подвешена на веревках, сплетенных из лиан, на огромном треножнике из древесных стволов, также покрытых резьбой. С балки свисали веревки, при помощи которых можно было раскачивать ее и ударять в искрящуюся разноцветными переливами поверхность шара. Здесь старый Нгурн и совершал нечто похожее на богослужение. Бэссет громко, почти истерически, расхохотался при мысли о том, что этот чудесный вестник иных миров попал к обезьяноподобным людоедам, охотящимся за человеческими головами… Это было все равно, как если бы слово божье упало в грязную бездну, лежащую под адом, или скрижали [45] с заповедями Иеговы отдали бы обезьянам в зоологическом саду, а нагорная проповедь была произнесена в доме для умалишенных. Недели тянулись медленно. Бэссет спал в хижине жреца, на усыпанном пеплом полу, а над ним мерно покачивались коптящиеся головы. Бэссет ночевал там не случайно: женщины не имели права входить в священную хижину, а следовательно, он был недоступен для Балатты, которая становилась все навязчивее по мере того, как Южный Крест подымался на небе, приближая день свадьбы. Дни Бэссет проводил в плетеном гамаке, в тени хлебного дерева, росшего возле хижины. Этот распорядок жизни нарушали частые приступы изнурительной лихорадки, во время которых Бэссет сутками лежал ничком в хижине Нгурна. Он пытался побороть болезнь, потому что страстно хотел выжить. Ему надо было окрепнуть для того, чтобы совершить побег, чтобы пройти через равнину и джунгли и достигнуть побережья. Там он мог на какой-нибудь вербовочной шхуне вернуться в цивилизованный мир и поведать людям о посланце других миров, покоящемся в сердце мрачного Гвадалканара, у звероподобных дикарей, поклоняющихся ему. Иногда, по ночам, лежа под хлебным деревом, Бэссет в течение многих часов смотрел, как звезды постепенно уходят за черную стену джунглей, теснимую деревней. Бэссет был неплохо знаком с астрономией, и, больной, он находил горькое удовольствие в размышлениях о жителях отдаленных солнечных систем, куда робко приходит жизнь из темных тайников материи. Для него не существовало границ времени и пространства. Его твердое убеждение в том, что энергия неисчерпаема, а материя вечна, не поколебали никакие теории радиоактивного распада. Звезды всегда были и будут. Конечно, в этом космическом круговороте все сравнительно похоже и, за редким исключением, должно иметь примерно одну и ту же субстанцию. Все подчиняется тем же самым законам, которые были нерушимы за всю историю человечества. А потому жизнь возможна во всех солнечных системах. Лежа под хлебным деревом, он думал о том, что, быть может, бесчисленное множество глаз непрерывно и так же пытливо смотрит на небо, стремясь проникнуть в загадки вселенной. И он ощущал себя частицей незримой цепи, связывающей человеческие существа в различных частях мироздания, существа, которые так же, как и он, мысленно устремлены в бесконечность. Каков он, этот неведомый высший разум, пославший из глубин вселенной сияющего пурпурного вестника с его небесным голосом? Вероятно, давным-давно он шел по той же тропе научных исканий, на которую по календарю космоса люди Земли вступили так недавно. Ведь для того, чтобы послать сквозь черную бездну вселенной своего гонца, этот разум должен был достигнуть тех высот, к которым человек, ощупью бредущий во мраке неведения, так медленно пробивает путь ценой своего пота и крови. Каковы же эти высшие существа? Достигли ли они великого братства? Или они признали, что закон любви ведет к слабости и упадку? Или жизнь — это борьба? Был ли беспощадный закон естественного отбора распространен на всю вселенную? И что важнее всего? Не была ли их мудрость и сейчас заключена в металлическом сердце Красного Шара в ожидании того часа, когда первый человек Земли сможет разгадать ее? Одно не вызывало у Бэссета сомнений: поющий вестник не был каплей красной росы, нечаянно упавшей с львиной гривы какого-нибудь далекого солнца. Красное Божество послали преднамеренно, в его пении звучал мудрый язык звезд. Сколько стихий укротили сыны космоса, сколько тайн они познали? Несомненно, этот огромный шар должен содержать в себе не только историю величайших открытий, намного обогнавших человеческую фантазию, которые, если ими овладеть, подымут общественную и личную жизнь человека на недосягаемые высоты чистоты и могущества. Красное Божество — это великий дар слепому, ненасытному, рвущемуся в небо человечеству. И ему, Бэссету, выпала великая честь первому получить послание Звездных Собратьев человека. Ни один белый, ни один туземец, не принадлежавший к племени Нгурна, никогда не смел посмотреть на Красное Божество под страхом смерти. Таков был древний закон, о котором жрец поведал Бэссету. Только сын их племени мог лицезреть Красного и остаться в живых. Но теперь положение изменилось. Преступную тайну Бэссета знала только Балатта, которая его не выдаст из страха быть умерщвленной во имя Красного Божества. Сейчас перед Бэссетом стояла только одна цель: побороть изнуряющую лихорадку и вернуться в цивилизованный мир. Он бы организовал экспедицию и вырвал из сердца Красного Божества послание других миров, пусть даже для этого пришлось бы уничтожить всех туземцев острова. Но приступы болезни стали повторяться все чаще и чаще. Теперь значительную часть времени он находился в беспамятстве. И наконец Бэссет, несмотря на свойственный его крепкой натуре оптимизм, понял, что никогда не одолеет джунглей и не пройдет к морю. Южный Крест поднимался все выше, в то время как жизнь медленно уходила из Бэссета. Даже Балатта теперь понимала, что ему не дожить до дня свадьбы. Нгурн собственноручно собирал травы для обкуривания его головы и гордо хвастался, как искусно он ее обработает. Что касается Бэссета, то это его не возмущало. Жизнь покидала его так медленно и упорно, что ученого уже не страшила мысль об уходе в небытие. Он продолжал существовать. Периоды беспамятства чередовались с промежутками полубессознательного состояния, смутного и нереального, когда он лениво спрашивал себя, наяву ли он видел Красное Божество, или дивный шар явился ему в бредовом кошмаре. Но вот наступил день, когда сумрачный туман рассеялся, и Бэссет почувствовал, что ум его ясен, как колокольный звон, а тело так слабо, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Физическая оболочка стала невесомой, и в краткую минуту прояснения он почувствовал, что смерть рядом. Он понял, что конец неизбежен. Но теперь Бэссет не сомневался в том, что он действительно видел своими глазами Красное Божество, посланца иных миров. И он сознавал, что умрет, так и не поведав миру о поющем вестнике, который здесь, в сердце Гвадалканара, может быть, ждал тысячелетия, чтобы о нем узнали люди. Бэссет принял решение, вызвал к себе под тень хлебного дерева Нгурна и обсудил со старым колдуном условия осуществления последнего дела своей жизни. — Я знаю закон, Нгурн, — заключил он, — только сын вашего племени может лицезреть Красное Божество и остаться в живых; мне известно, что чужим это запрещено, но ведь я все равно умру. Пусть юноши твоего племени отнесут меня к Красному, я только раз посмотрю на него, услышу, как он поет, и потом умру от твоей руки, Нгурн. Тогда все будут довольны: исполнится мое последнее желание, ты получишь мою голову, которой ждешь с таким нетерпением, и закон не будет нарушен. Нгурн согласился с этим и сказал: — Да, ты прав, так будет лучше. Ты все равно не поправишься, так зачем же цепляться за какие-то немногие часы, это неразумно. И для нас, здоровых, ты стал бременем. Правда, ты умен, и мне было приятно с тобой беседовать, но прошло уже много лун, а мы с тобой почти не говорим. Между тем ты занимаешь место в моей хижине, неприятно хрипишь, как умирающая свинья, громко и утомительно болтаешь на своем языке, которого я не понимаю. Ты смущаешь покой моей души, а я, когда копчу головы, люблю размышлять о вечности, о свете и мраке. Ты тяготишь меня, ты нарушаешь ход моих мыслей и не даешь мне достигнуть высшей мудрости, которую я должен познать, прежде чем угасну. Над тобой уже нависла тьма, и поэтому тебе лучше скорее умереть. Я обещаю, что в те долгие дни, когда я буду коптить твою голову, ни один человек не помешает нам. И тогда я открою тебе много тайн… ибо я стар и много знаю, и я буду нанизывать мудрость на мудрость, поворачивая твою голову в дыму. Сделали носилки, и Бэссета понесли навстречу его последнему маленькому приключению, которое должно было завершить большое приключение, именуемое жизнью. Он почти не ощущал своего тела, не чувствовал даже боли, но его сознание прояснилось, мысли просветлели. Наблюдая угасание уходящего мира, он в состоянии тихого экстаза прощался с жизнью. Лежа на носилках, Бэссет в последний раз видел сумерки под сводом джунглей, хлебное дерево возле священной хижины, мрачное горное ущелье и плоскогорье, покрытое черным вулканическим песком. Его несли вниз, в обитель Красного Божества. Гигантский сияющий шар, казалось, вот-вот зазвучит. По истлевшим останкам, по деревянным идолам ступали туземные юноши, несшие Бэссета к Красному Божеству, мимо живых еще жертв, внушавших ужас. И вот они подошли к треножнику с висячим тараном. Там Бэссет при помощи Нгурна и Балатты с трудом сел на носилках, слегка раскачиваясь от слабости, и ясным, всевидящим взглядом внимательно посмотрел на Красное Божество. — О, только раз, Нгурн, — сказал Бэссет, впиваясь глазами в сверкающую, вибрирующую поверхность, которая переливалась алыми бликами, готовыми в любую минуту преобразиться в звук, в нежный шорох шелка, в серебристый шепот, в бархатное пение волшебного рожка, в золотой рокот струн, в глухие раскаты лесного грома. — Я жду, — напомнил жрец после долгой паузы, держа наготове томагавк с длинной рукояткой. — О, только раз, Нгурн, — повторил Бэссет, — пусть Красное Божество заговорит, чтобы я мог видеть и слышать, как оно звучит, а потом я, склонив голову, подыму руку, и тогда ты нанесешь свой удар. Но, уходя в вечную ночь, я хочу, Нгурн, услышать дивный голос Красного. — Я обещаю тебе, что твоя голова будет прокопчена так хорошо, как еще ни одна до сих пор, — уверил его Нгурн, делая знак стоящим у треножника юношам раскачать бревно. — Твоя голова будет величайшим произведением моего искусства. Бэссет тихо улыбнулся тщеславию старика. В это самое мгновение массивное бревно привели в движение. Бэссет погрузился в экстаз внезапного громоподобного освобождения звука. Что это был за гром! В нем слышалось звучание всех ценнейших металлов, в нем чудился глас архангелов. То был не только чудеснейший из звуков — то был мудрый голос иных миров. О, чудо звездного металла! Бэссет явственно видел, как поверхность гигантского шара вздрагивает, вспыхивает яркими огнями и переливается не то оттенками, не то звуками. Время шло, наконец Бэссета вернуло к действительности нетерпеливое движение Нгурна. Он совсем было забыл о старике. В голове Бэссета мелькнула мысль, которая заставила его усмехнуться. Ружье лежало рядом с ним на носилках, достаточно было нажать курок, и он раздробил бы свою голову. Но к чему этот обман? Нгурн был людоедом, охотником за черепами, звероподобным существом, но он был по-своему человечен и этичен, он поступил с Бэссетом честно. — Нет, решил он, это подлость — обмануть старика в последнюю минуту, моя голова — собственность Нгурна, и он ее получит. И тогда Бэссет поднял руку и склонил голову; в эту минуту он совсем забыл о Балатте, которая была всего лишь женщиной и притом нелюбимой. Бэссет, не глядя, почувствовал, как над ним взвился остро наточенный томагавк. На него опустилась тень неведомого. И пока падал топор, пока еще были живы его нервы и мышцы, Бэссету показалось, что он взглянул в ясное лицо Медузы-Правды. А когда он почувствовал прикосновение стали и мрак хлынул на него, в последней вспышке сознания он увидел свою голову, которая медленно покачивается в густом дыму в священной хижине под хлебным деревом. Вайкики, Гонолулу. 22 мая 1916 г.
Как аргонавты в старину…
Летом 1897 года семейство Таруотеров не на шутку всполошилось. Дедушка Таруотер, который, казалось, окончательно покорился своей судьбе и сидел смирнехонько почти полных десять лет, вдруг снова будто с цепи сорвался. На сей раз это была клондайкская горячка. Первым и неизменным симптомом таких припадков было у него то, что он начинал петь. И пел он всегда одну песню, хотя помнил из нее только первую строфу, да и то всего три строчки. Стоило ему хриплым басом, превратившимся с годами в надтреснутый фальцет, затянуть:
Как аргонавты [46] в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым Руном, —
На следующее утро дедушка Таруотер, засветив фонарь, покормил и запряг лошадей, сам позавтракал при свете лампы и, когда все еще в доме спали, уже трясся вдоль речки Таруотер по дороге в Кельтервил. Два обстоятельства были необычны в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу сорок раз с тех пор, как подрядился возить почту. Первое то, что, выехав на шоссе, старик повернул не к Кельтервилу, а на юг, к Сантa-Роса. А второе — что уже и вовсе странно — у него был зажат между коленями бумажный сверток. В свертке находилась его единственная еще приличная черная пара, которую Мери давно уже не приказывала ему надевать, не оттого, как догадывался он, что сюртук очень обносился, а потому, что дочь считала одежду достаточно еще приличной, чтобы отца в ней похоронить. В Санта-Роса, в третьеразрядной лавке подержанного платья, он, не торгуясь, продал пару за два с половиной доллара. Тот же услужливый лавочник дал ему четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади и шарабан пошли за семьдесят пять долларов; правда, наличными он получил всего двадцать пять. Встретив на улице Алтона Грэнджера, которому он никогда не поминал раньше про взятые им еще в семьдесят четвертом году десять долларов, Таруотер теперь напомнил ему о долге и тотчас получил деньги. Старик перехватил доллар даже у известного всему городу горького пьяницы, который, как это не удивительно, оказался при деньгах и с радостью ссудил человека, не раз угощавшего его виски в дни своего благоденствия, — после чего с вечерним поездом Таруотер отбыл в Сан-Франциско. Две недели спустя с тощим вещевым мешком за плечами, где лежали одеяла и кое-какая теплая одежонка, старик высадился на берег Дайи в самый разгар клондайкской горячки. На берегу стоял сущий содом. Тут было сложено в кучи и разбросано прямо на песке не меньше десяти тысяч тонн всяких припасов и снаряжения, вокруг которых металось два десятка тысяч пререкавшихся и оравших во всю глотку людей. Цена за доставку груза через Чилкутский перевал к озеру Линдерман сразу подскочила: вместо шестнадцати центов за фунт индейцы запрашивали теперь тридцать, что составляло шестьсот долларов за тонну. А полярная зима была уже не за горами. Все это знали, и каждый прекрасно понимал, что из двадцати тысяч приезжих лишь очень немногие переберутся через перевалы, остальным же предстоит зазимовать в ожидании нескорой весенней оттепели. Вот на этот-то берег и ступил старый Джон, миновал его, мурлыча под нос свою, песенку, с ходу направил стопы прямо вверх по тропе к перевалу, как древний аргонавт, не заботясь о снаряжении, потому что снаряжения у него никакого и не было. Ночь он провел на косе в пяти милях вверх по течению Дайи; выше этого места уже нельзя было плыть даже на каноэ. Река, бравшая свое начало от высокогорных ледников, вырывалась здесь из мрачного ущелья и превращалась в бурный поток. И здесь рано утром он был свидетелем того, как щупленький человек, не более ста футов весом, шатаясь под тяжестью привязанного за плечами стофунтового мешка с мукой, опасливо переправлялся по бревну. Видел он и то, как человечек сорвался с бревна, упал вниз лицом в тихую протоку, где не было и двух футов глубины, и преспокойно стал тонуть. Ему вовсе не хотелось так легко расстаться с белым светом; просто мешок, весивший столько же, сколько и он сам, не давал ему подняться. — Спасибо, старина, — сказал он Таруотеру, когда тот помог ему встать на ноги и выкарабкаться на берег. Расшнуровывая башмаки и выливая из них воду, незнакомец разговорился, затем вытащил золотой и протянул его своему спасителю. Но старик Таруотер, у которого зуб на зуб не попадал после ледяной ванны, отрицательно покачал головой: — Вот по-приятельски с тобой перекусить, пожалуй, не откажусь. — Ты что, еще не завтракал? — с явным любопытством оглядывая Таруотера, спросил человечек, который назвался Энсоном и которому на вид было лет сорок. — Маковой росинки во рту не было, — признался Джон Таруотер. — А где ж твои припасы, отец? Впереди? — Нету у меня никаких припасов. — Думаешь купить продовольствие на месте? — Не на что покупать, дружище, денег нету ни цента. Да это неважно, мне бы сейчас вот перехватить чего-нибудь горяченького.
В лагере Энсона — примерно в четверти мили дальше — Таруотер увидел долговязого рыжебородого мужчину лет тридцати; он, чертыхаясь, тщетно пытался разжечь костер из сырого тальника. Представленный как Чарльз, молодой человек всю свою злость перенес на старика и сердито посмотрел на него исподлобья, но Таруотер, делая вид, что ничего не заметил, занялся костром: рыжебородый умудрился наложить камней с подветренной стороны. Таруотер откинул их, утренний ветерок усилил тягу, и вскоре вместо валившего от тальника дыма заполыхал огонь. Тут подоспел и третий их компаньон, Билл Уилсон, или Большой Билл, как прозвали его товарищи с тюком в сто сорок фунтов весом, и Чарльз подал весьма скверный, по мнению Таруотера, завтрак. Каша сверху не проварилась, а снизу подгорела, бекон обуглился, кофе больше походил на помои. Наспех проглотив завтрак, трое компаньонов забрали лямки и отправились назад по тропе примерно за милю, к месту последней стоянки, чтобы перетащить остатки своего добра. Но и старик Таруотер тоже не сидел сложа руки. Он почистил котел, вымыл миски, натаскал валежника, зашил порванную лямку, наточил кухонный нож и лагерный топорик и по-новому увязал кирки и лопаты, чтобы ловчее было нести. За завтраком старика поразило, что Энсон и Большой Билл почему-то с особым почтением относятся к Чарльзу. И когда Энсон, принеся очередной стофунтовый тюк, сел передохнуть, Таруотер издалека завел об этом разговор. — Видишь ли, — ответил Энсон — мы поделили между собой обязанности. У нас у каждого своя специальность. Я вот, к примеру, плотник. Когда мы доберемся до озера Линдерман, навалим лесу и распилим на доски, постройкой лодки распоряжаться буду я. Большой Билл — шахтер и лесоруб. Так что он будет ведать разделкой леса и всем, что касается добычи. Больше половины нашего груза уже на перевале. Мы все деньги спустили индейцам, чтобы подтащить хоть эту часть на Чилкут. Наш четвертый компаньон сейчас там и пока один перетаскивает снаряжение вниз. Его зовут Ливерпул. Он — моряк. Так вот, когда построим лодку, всем переходом по озерам и рекам до самого Клондайка командовать будет он. — А Чарльз? Этот мистер Крейтон, по какой он части? — Он у нас за коммерсанта и распорядителя. Когда до этого дойдет, он будет заправлять всеми делами. — Н-да… — задумчиво протянул Таруотер. — Вам повезло! Компания подобралась всех мастей! — Еще как повезло-то, — простодушно согласился с ним Энсон. — И ведь все, понимаешь, вышло случайно. Отправлялись каждый сам по себе, в одиночку. А на пароходе, когда шли из Сан-Франциско, познакомились и решили ехать артелью… Ну, мне пора, не то Чарльз, чего доброго, начнет меня шпынять, что я не управляюсь со своей долей груза. А как мне, мозгляку, который весит всего-то сто фунтов, сравняться с детиной в сто шестьдесят! Притащив в лагерь еще один тюк и заметив, как ловко старик все там прибрал и устроил, Чарльз сказал Таруотеру: — Хочешь, оставайся, приготовишь нам чего-нибудь к обеду. И Таруотер состряпал обед на славу, перемыл всю посуду, а к ужину подал великолепную свинину с бобами и испек в сковороде такой восхитительный хлеб, что трое компаньонов объелись и чуть не полегли костьми. Вымыв посуду после ужина, он нащепал лучины, чтобы утром не канителиться с костром и побыстрее приготовить завтрак, показал Энсону, как нужно обуваться, чтобы не стирались ноги, спел «Аргонавты в старину» и рассказал им о великом переходе через прерии в сорок девятом году. — Убей меня бог, это первый порядочный привал с тех пор, как мы высадились, — сказал Большой Билл, выбивая трубку и принимаясь стаскивать башмаки на ночь. — Так-то вроде лучше будет, ребята, а? — добродушно спросил Таруотер. Все утвердительно кивнули. — Тогда, ребятки, у меня к вам есть предложение. Хотите — принимайте его, хотите — нет, а уж выслушать извольте. Вам нужно торопиться попасть на место до ледостава. А один из вас половину времени тратит на стряпню, вместо того чтобы таскать груз. Если я буду на вас стряпать, дело у вас пойдет веселее. И едва будет получше, а с хорошей еды работа спорится. Между делом и я подсоблю с переноской, и побольше, чем вы думаете; не смотрите, что старик, — силенка еще есть. Большой Билл и Энсон одобрительно было закивали головой, но Чарльз их опередил. — А что ты за это хочешь? — осведомился он у старика. — Это уж как все решат. — Так дела не делаются, твое предложение, тебе и условия ставить, — отчитал его Чарльз. — Я вот как думал… — Небось, хочешь, чтобы мы тебя всю зиму кормили? — перебил Чарльз. — Какое там! Мне бы только добраться до Клондайка на вашей лодке, и на том великое спасибо. — Да ведь у тебя нет никаких припасов, старик. Ты с голоду там помрешь. — Кормился же я как-то до сих пор, — отвечал Таруотер, и в глазах его зажглись лукавые огоньки. — Вон уж семьдесят стукнуло, а с голоду не помер. — А подпишешь бумагу, что по прибытии в Доусон обязуешься сам заботиться о своем пропитании? — деловито осведомился Чарльз. — Почему не подписать, подпишу, — отвечал старик, Но Чарльз опять не дал товарищам выразить свое удовлетворение состоявшейся сделкой. — И вот что еще, старик. Нас ведь четверо компаньонов, такие вопросы мы обязаны решать сообща. Впереди с главным грузом Ливерпул, он хоть и молодой, но согласие его тоже требуется, раз его сейчас здесь нет. — А что он за человек? — полюбопытствовал Таруотер. — Моряк. Сорвиголова и буян. Характер у него неважный. — Да, горяченек, — подтвердил Энсон. — А уж сквернослов и богохульник, страсть какой! — удостоверил Большой Билл. Однако тут же добавил: — Но справедлив, этого у него не отнимешь. Энсон одобрительно закивал, присоединяясь к похвале. — Ну что ж, ребята, — сказал Таруотер. — В свое время я отправился в Калифорнию и добрался до нее. Доберусь и до Клондайка. Сказал, доберусь — и доберусь. И свои триста тысяч из земли добуду, это тоже верно. Как сказал, так оно и будет, потому деньги мне позарез нужны. А дурного характера я не боюсь, лишь бы парень был честный да справедливый. Попытаю счастья, пойду с вами, пока его не нагоним. А уж если он откажет, что ж, в накладе останусь я один. Только мне не верится, чтобы он отказал. До ледостава остались считанные дни, да и поздно мне искать другой оказии. А уж раз я до Клондайка непременно доберусь, значит нипочем он мне не откажет. Старый Джон Таруотер вскоре стал одной из самых примечательных фигур на Клондайкской тропе, где путникам никак нельзя было отказать в своеобразии и красочности. Тысячи людей, которым приходилось отмерять каждую милю пути раз по двадцать, чтобы на своем горбу доставить до места полтонны груза, уже знали его в лицо и, встретив, дружески называли «Дедом Морозом». И всегда старик дребезжащим от старости фальцетом пел за работой свой гимн. Три спутника Таруотера не могли не него пожаловаться. Пусть суставы его плохо гнулись — он не отрицал, что у него небольшой ревматизм, — пусть двигался он медленно, с хрустом и треском, зато он был неустанно в движении. Спать он укладывался последним и вставал раньше всех, чтобы еще до завтрака напоить товарищей кружкой горячего кофе, прежде чем они с первым тюком отправятся к новой стоянке. А между завтраком и обедом и обедом и ужином он всегда ухитрялся и сам перетащить тюк-другой груза. Однако не больше чем в шестьдесят фунтов весом. Это был его предел. Он мог взвалить на себя и семьдесят пять фунтов, но тогда очень скоро сдавал. А один раз, попытавшись дотащить тюк в девяносто фунтов, свалился на тропе и потом несколько дней чувствовал противную дрожь и слабость в ногах. Труд, неустанный труд! На тропе, где даже привычные к тяжелой работе мужчины впервые узнавали, что такое труд, никто соразмерно со своими силами не трудился больше, чем старик Таруотер. Подгоняемые страхом перед близостью зимы, подхлестываемые страстной жаждой золота, люди работали из последних сил и падали у дороги. Одни, когда неудача становилась явной, пускали себе пулю в лоб. Другие сходили с ума. Третьи, не выдержав нечеловеческого напряжения, порывали с компаньонами и ссорились насмерть с друзьями детства, которые были ничем их не хуже, а только так же измучены и озлоблены, как и они. Труд, неустанный труд! Старик Таруотер мог посрамить их всех, несмотря на треск и хруст в суставах и мучивший его сухой кашель. С раннего утра и до позднего вечера, на тропе и в лагере, он всегда был на виду, всегда что-то делал и всегда по первому зову «Дед Мороз» с готовностью откликался. Как часто усталые путники, прислонив к сваленному дереву или выступу скалы рядом с его тюком и свои, просили: — А ну-ка, дед, спой нам песенку о сорок девятом годе. И когда Таруотер, тяжело дыша, исполнял их просьбу, снова взваливали на себя поклажу, говорили, что ничто так не подымает дух, и шли дальше. — Если кто честно заработал свой проезд, — сказал как-то Большой Билл компаньонам, — так это наш старикан. — Что верно, то верно, — подтвердил Энсон. — Для нас он просто находка, и я лично не прочь бы принять его в нашу артель на полных правах… — Еще чего? — вмешался Чарльз Крейтон. — Приедем в Доусон — и до свидания, как уговорились. Какой смысл тащить с собой старика, чтобы его там похоронить. А кроме всего прочего, здесь ждут голода, и каждый сухарь будет на счету. Не забывайте, что нам придется всю дорогу кормить его из своих запасов. Так что если в будущем году нам нечего будет кусать, пеняйте на себя. Пароходы доставляют продовольствие в Доусон к середине июня, а до этого еще девять месяцев. — Что ж, ты вложил в дело не меньше денег и снаряжения, чем мы все, и имеешь такоеже право голоса, — признал Большой Билл. — И я этим правом воспользуюсь, — заявил Чарльз со все возрастающим раздражением. — Ваше счастье, что хоть кто-то из вас думает, не то с вашей идиотской жалостью вы все с голоду передохнете. Говорят вам, что будет голод. Здешние порядки мне уже достаточно известны. Мука дойдет до двух долларов за фунт, если не до десяти, да еще ее не достанешь. Вот помяните мое слово. По осыпям, вверх по мрачному ущелью к Овечьему Лагерю, мимо грозно нависших ледников к Весам и от Весов по крутым уступам отшлифованных ледниками скал, где приходилось карабкаться чуть ли не на четвереньках, старый Таруотер носил тюки, стряпал и пел. Через лежащий высоко над границей леса Чилкут он перевалил вместе с первой осенней метелью. Те, кто уже спустились до неприютного берега озера Кратер и мерзли там, не имея даже хворостинки на костер, услышали из надвигавшейся сверху тьмы призрачный голос, который пел:
Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом.
Плывем тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым Руном.
В двух милях от озера Кратер расположен Счастливый Лагерь, прозванный так потому, что здесь проходит верхняя граница леса и путники могут наконец обогреться у костра. Впрочем, растущие здесь карликовые горные ели лишь с большой натяжкой могут быть названы лесом, ибо даже самые могучие их экземпляры подымают свою крону всего лишь на фут выше мха, а стволы наподобие портулака скручиваются и вьются подо мхом. Здесь, на тропе, ведущей в Счастливый Лагерь, в первый за всю неделю солнечный день, старый Таруотер, прислонив мешок к огромному валуну, остановился перевести дух. Тропа огибала валун, и мимо старика в одну сторону медленно шагали люди, нагруженные кладью, а обратно спешили другие, налегке, за новым грузом. Дважды пытался Таруотер взвалить мешок на спину и тронуться в путь, и оба раза дрожь в ногах заставляла его прислоняться к камню и ждать, пока не прибудет сил. За валуном раздались приветственные возгласы. Он услышал голос Чарльза Крейтона и понял, что наконец-то они встретились с Ливерпулом. Чарльз сразу же заговорил о деле, и Таруотер от слова до слова слышал, как Чарльз нелестно отозвался о нем и о его, Таруотера, предложении довезти его до Доусона. — Дурацкое предложение, — заключил Ливерпул, выслушав Чарльза. — Везти к черту на рога дряхлого семидесятилетнего деда! Если он еле ноги таскает, какого дьявола вы с ним связались? А как же голод? Ведь к тому идет. Тогда каждая щепотка муки самим нужна будет. Запасались-то мы на четверых, а не на пятерых. — Да ты не волнуйся. Все это очень просто уладить, — услышал Таруотер, как Чарльз успокаивал компаньона. — Старый чудак согласился подождать, пока мы тебя не нагоним, и за тобой остается последнее слово. Так что тебе нужно только упереться и сказать «не хочу». — Выходит, ты предлагаешь мне отказать старику после того, как вы его обнадежили и пользовались его услугами от самой Дайни? — Путь тяжелый, и надо быть мужчиной, если хочешь дойти, — оправдывался Чарльз. — А я, значит, из-за вас подлость делай? — проворчал Ливерпул. У Таруотера упало сердце. — Ничего не попишешь, — сказал Чарльз. — Тебе решать. Но тут старый Таруотер опять воспрянул духом, ибо воздух потряс неистовый циклон брани, среди которой можно было разобрать такие фразы: — Ах, подлецы… Сперва я вас самих к дьяволу упеку… Я принял решение. Линек вам поперек!.. Старик пойдет с нами по Юкону, заруби себе на носу, голубчик… Мужчина? Я тебе покажу, что значит быть мужчиной!.. Я ни на что не посмотрю, если вы вздумаете отделаться от старика… Только попробуйте, я такое тут светопреставление устрою, что вам небо с овчинку покажется. И такова была живительная сила этого словоизвержения Ливерпула, что старик, даже не сознавая того, что делает, легко взвалил на плечи свою ношу и бодро зашагал к Счастливому Лагерю. Весь путь от Счастливого Лагеря к Долгому озеру, от Долгого озера к Глубокому и от Глубокого вверх, через крутой горный хребет, и вниз к Линдерману продолжалась гонка не на жизнь, а на смерть с наступающей зимой. Здоровые мужчины, выбившись из сил, падали в изнеможении и плакали у обочины тропы. Но зима, которой не требовалось ни отдыха, ни передышки, неуклонно надвигалась. Задули пронизывающие осенние ветры, и под проливными дождями и все более частыми снегопадами партия, к которой примкнул Таруотер, свалила наконец последние тюки на берегу озера. Но отдыхать не пришлось. Со склона горы на противоположной стороне озера с ревом сбегал поток; пройдя с милю вверх по течению, они нашли несколько елей и вырыли яму для пилки леса. Здесь вручную, с помощью продольной пилы, они распиливали бревна на доски. Работали круглые сутки. В ночную смену, работая внизу в яме, старый Таруотер раза три терял сознание, а днем он еще и стряпал и между делом помогал Энсону собирать лодку, по мере того как им подбрасывали сырые доски. Дни становились все короче. Ветер переменился и дул теперь с севера, нагоняя непогоду. По утрам изнуренные путники с трудом выползали из-под одеял и, сидя в одних носках, согревали затвердевшие от мороза башмаки у костра, который Таруотер, встав раньше всех, для них разводил. Слухи о голоде становились все упорнее. Последние суда с продовольствием из Берингова моря застряли из-за мелководья у первых же отмелей Юкона, больше чем на сотню миль севернее Доусона. Они стояли на приколе возле старой фактории Компании Гудзонова залива, в Форте Юкон, по существу, за Полярным кругом. Мука в Доусоне дошла до двух долларов за фунт, но и за эту цену ее нельзя было достать. Короли Бонанзы и Эльдорадо, не знавшие счета деньгам, уезжали в Штаты, потому что не могли купить продуктов. Комитеты золотоискателей конфисковали продовольствие и посадили все население на жесткий паек. Того, кто утаивал хотя бы горстку бобов, пристреливали, как собаку. Десятка два людей уже постигла такая участь. Между тем нечеловеческое напряжение, сломившее даже более молодых и крепких мужчин, чем Таруотер, начало сказываться на старике. Он все сильнее кашлял, и если бы его измученные товарищи не спали мертвым сном, не дал бы им глаз сомкнуть всю ночь. Его трясло от озноба, и, укладываясь спать, он старался теперь одеться потеплее. Когда бедняга забирался наконец под одеяло, в его вещевом мешке не оставалось даже рваного носка. Всю свою жалкую одежонку, все до последней тряпки, он напяливал на себя или обматывал вокруг своего старого, тощего тела. — Плохи дела! — заметил Большой Билл. — Если старикан в двадцать градусов выше нуля [48] надевает на себя все тряпки, что же он станет делать потом — при минус пятидесяти или шестидесяти? Они спустили грубо сколоченную лодку вниз по горному потоку, десятки раз рискуя ее разбить, и в снежную бурю переправились через южную оконечность озера Линдерман. На следующее утро им предстояло погрузиться и плыть прямо на север, совершить опаснейший переход в пятьсот миль по озерам, бурным потокам и рекам. Вечером, прежде чем лечь спать, Ливерпул куда-то отлучился из лагеря. Вернулся он, когда все уже спали. Разбудив Таруотера, Ливерпул долго вполголоса с ним беседовал. — Вот что, отец, — сказал он. — Проезд тебе в нашей лодке обеспечен, и если кто заслужил свое место, так это ты. Но сам понимаешь, годы твои уже не те и здоровьишко твое тоже не ахти какое. Если поедешь с нами, того и гляди концы отдашь. Постой, отец, не перебивай, дай досказать. За проезд теперь платят по пятьсот долларов. Я тут походил и нашел одного пассажира. Он служащий Аляскинского коммерческого банка и должен во что бы то ни стало попасть в Доусон. Он дает шестьсот долларов, чтобы я его взял в своей посудине. Продай ему свое место, ты его честно заработал, забирай эти шестьсот долларов и сыпь к себе на юг, в Калифорнию, пока еще можно умотать. За два дня доберешься до Дайи, а через неделю будешь в Калифорнии. Что ты на это скажешь? Таруотер долго кашлял и дрожал, прежде чем мог выговорить слово. — А вот что я тебе скажу, сыночек, — ответил он. — В сорок девятом я гнал свои четыре упряжки волов через прерии, и хоть бы один у меня издох. Я пригнал их целехонькими в Калифорнию и потом возил на них грузы из Форта Суттера в Америкен Бар. Теперь я еду в Клондайк. Как сказал, так оно и будет. Я поеду в лодке, которую ты поведешь, прямиком до Клондайка и вытрясу там из мха свои триста тысяч долларов. А раз так, то какой же мне смысл продавать мое место? Но большое тебе спасибо, сынок, за заботу, большое спасибо! Молодой матрос горячо потряс руку старика. — Ну и молодчина же ты! Ей-ей, отец, поедешь с нами! — воскликнул он и, с откровенным презрением взглянув в сторону храпевшего в рыжую бороду Чарльза Крейтона, добавил: — Такие, как ты, видно, больше не родятся, отец! Пятерка золотоискателей упорно пробивалась на север, хотя встречавшиеся им старожилы качали головами и предвещали, что они на озерах неминуемо вмерзнут в лед. Ледостава и в самом деле надо было ждать со дня на день, и, дорожа каждой минутой, они перестали считаться с опасностью. Так Ливерпул решил проскочить порожистую протоку, соединяющую озеро Линдерман с озером Беннет, не разгружая лодки. Обычно лодки здесь перегоняли порожняком, а груз перетаскивали на себе. Впрочем, немало и пустых лодок разбивалось в щепы. Но теперь прошло время для таких предосторожностей. — Вылезай, папаша, — приказал Ливерпул перед тем, как оттолкнуться от берега и ринуться вниз по протоке. Но старый Таруотер покачал белой как лунь головой. — Ну нет, сынок, я остаюсь с вами, — заявил он. — Тогда наверняка проскочим. Видишь ли, я в Клондайк доберусь. И если буду сидеть в лодке — значит, и она дойдет. А вылезу, так, чего доброго, и лодку потеряем. — Но и перегружать ее не к чему, — ввернул Чарльз и в ту минуту, когда она отчаливала, выпрыгнул на берег. — В другой раз без команды не вылезать! — крикнул ему вдогонку Ливерпул, в то время как лодку подхватило течение. — Еще чего выдумал, пешком обходить пороги, а мы жди его, теряй время! И правда, то, что по воде отняло всего каких-нибудь десять минут, заняло у Чарльза целых полчаса. Поджидая его у впадения протоки в озеро Беннет, путники разговорились с кучкой оборванных старожилов, спешивших выбраться отсюда подобру-поздорову. Слухи о голоде не только подтверждались, но становились все тревожнее. Отряд северо-западной конной полиции, стоявший у южной оконечности озера Марш, где золотоискатели переходят на канадскую территорию, пропускал только тех, кто имел с собой не меньше семисот фунтов продовольствия. В Доусоне больше тысячи человек с собачьими упряжками ждали лишь ледостава, чтобы выехать по первопутку. Торговые фирмы не могли выполнять договоров на поставку продовольствия, и компаньоны тянули жребий, кому уезжать, а кому оставаться разрабатывать участки. — Значит, и толковать больше не о чем, — заявил Чарльз, узнав о действиях пограничной полиции. — Можешь, старик, с тем же успехом сейчас же поворачивать оглобли. — Полезай в лодку! — скомандовал Ливерпул. — Мы идем в Клондайк, и дедушка идет с нами. Северный ветер сменился попутным южным, и по озеру Беннет они шли курсом фордевинд [49], под огромным парусом, который смастерил Ливерпул. Тюки со снаряжением и продовольствием служили хорошим балластом, и он выжимал из паруса все, что мог, как и подобает отважному моряку, когда дорога каждая минута. На Оленьей переправе ветер опять как нельзя более кстати отклонился на четыре румба [50] к юго-востоку, погнав их по протоке к озерам Тагиш и Марш. Опасный рукав Уинди-Арм они пересекли на закате, и уже в сумерках, при сильном ветре, тут, на их глазах, опрокинулись и пошли ко дну две другие лодки с золотоискателями. Чарльз предлагал провести ночь на берегу, но Ливерпул, даже не сбавив хода, повел лодку по Тагишу, определяя направление по шуму прибоя на отмелях и горевшим кое-где вдоль берега кострам менее смелых или потерпевших крушение аргонавтов. Часа в четыре утра он разбудил Чарльза. Окоченевший от холода Таруотер никак не мог уснуть; он заметил, как Ливерпул подозвал к рулю Крейтона, и слышал весь разговор, в котором рыжебородому едва удавалось вставить словечко. — Вот что, приятель, послушай, что я тебе скажу, а сам попридержи язык, — начал Ливерпул. — Я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу: у деда на заставе не должно быть заминки. Понятно? Никакой заминки. Когда полиция начнет досматривать тюки с продовольствием — пятая часть деда, ясно? На каждого из нас получится меньше, чем положено, но как-нибудь вывернемся. Так вот запомни хорошенько: все должно сойти гладко. — Если ты думаешь, что я могу донести на старого чудака… — возмущенно начал Чарльз. — Я ничего подобного не говорил, а вот ты, видать, это думал, — оборвал его Ливерпул. — Но вот что я хочу сказать тебе: что ты думал — мне наплевать, важно то, что ты теперь надумаешь. Сегодня во второй половине дня мы будем у заставы. И надо сделать так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Ну, хватит, надеюсь, ты меня понял. — Если ты думаешь, что у меня на уме… — начал было Чарльз. — Послушай, — перебил его Ливерпул. — Что у тебя на уме, я не знаю, да и знать не хочу. Я хочу, чтобы ты наконец понял, что у меня на уме. Если дело сорвется, если полиция отправит деда обратно, я выберу какой-нибудь уголок поживописней, свезу тебя на берег и там так отлуплю, что ты своих не узнаешь. И не мечтай легко отделаться. Поколочу тебя как полагается, как мужчина мужчину, а у меня, сам знаешь, рука тяжелая. Убить не убью, а до полусмерти исколочу, будь уверен. — Но что я могу сделать? — заскулил Чарльз. — Только одно. Молить бога! Так горячо молить бога, чтобы полиция пропустила дедушку, что она его пропустит. Больше ничего, — закончил Ливерпул. — А теперь ступай спать.
Они еще не достигли озера Ле-Барж, как земля покрылась пеленой снега, который не сойдет раньше полугода. Труднее стало приставать к берегу, уже обросшему кромкой льда. В устье реки, при впадении ее в озеро Ле-Барж, укрылось не менее сотни судов аргонавтов, задержанных бурей. Уже который день из конца в конец большого озера дул свирепый норд со снегом. Три утра кряду Ливерпул и его спутники вступали, в борьбу с ветром и гонимыми к берегу пенящимися валами, которые захлестывали лодку, покрывая ее ледяной корой. Четверка золотоискателей надрывалась на веслах, а закоченевший Таруотер потому только и остался жив, что непрерывно скалывал лед и выбрасывал его за борт. И все три дня, доведенные до отчаяния, они вынуждены были бесславно отступать с поля боя и искать прибежища в устье реки. На четвертый день там уже скопилось более трехсот лодок, и все две тысячи аргонавтов хорошо понимали, что, лишь только утихнет шторм, озеро замерзнет. По ту сторону Ле-Баржа быстрые реки еще долго не остановят свой бег, но если лодки сейчас же, не теряя времени, не переправятся на ту сторону, им предстоит на целые полгода вмерзнуть в лед. — Сегодня пробьемся, — объявил Ливерпул. — Ни за что не повернем обратно. Хоть сдохнем за веслами а грести будем. И пробились. К наступлению темноты они дошли до середины озера и гребли всю ночь напролет; ветер понемногу стих, а они все продолжали грести, засыпая за веслами; тогда Ливерпул расталкивал их, и они снова налегали на весла, будто в бесконечном кошмаре. Меж тем в вышине одна за другой высыпали звезды, волнение улеглось, и гладкое, словно лист бумаги, озеро постепенно стало затягиваться ледяной корочкой, которая под ударами весел похрустывала, как битое стекло. А когда забрезжило ясное и холодное утро и они вошли в реку, позади расстилалось сплошное море льда. Ливерпул посмотрел на своего престарелого пассажира: по всему было видно, что старик обессилел и едва жив. Но только моряк повернул лодку к кромке прибрежного льда, чтобы обогреть Таруотера у костра и напоить его чем-нибудь горячим, как Чарльз накинулся на него, — нечего, мол, зря тратить время. — Это тебе не коммерция, — оборвал его Ливерпул, — так что прошу не в свое дело носа не совать. На воде я командир. Вылезай быстрей да топай за валежником, только не вздумай отделаться одной охапкой, чтобы хватило, слышишь! Я займусь дедушкой. Ты, Энсон, разведешь костер. А ты, Билл, пристрой-ка на носу лодки юконскую печурку. Дедушка немного постарше нашего, пусть сидит у печки и греется до самого Доусона. Так и сделали, и увлекаемая течением лодка, дымя, как заправский речной пароход, своей двурогой печурочной трубой, проскакивала клокочущие пороги, крутилась в водоворотах, мчалась по быстринам и горным потокам, все глубже забираясь на север. Притоки Большой и Малый Лосось несли в реку сало, а за порогами всплыл сверкавший, как хрусталь, донный лед. С каждым часом росла кромка льда у берега; там, где течение замедлялось, она достигала уже более ста ярдов ширины. А старик, закутанный во все свое тряпье, сидел у печки и поддерживал огонь. Смело устремляясь вперед, они, боясь ледостава, не могли остановиться ни на минуту, а вслед за кормой лодки двигался и все уплотнялся лед. — Эй, там, на баке! — время от времени окликал моряк Таруотера. — Есть на баке! — научился отвечать старик. — Как же мне, сынок, тебя отблагодарить? — говорил иногда Таруотер, помешивая в печурке и глядя на Ливерпула, который сидел на заледеневшей корме у руля и, похлопывая о колено, отогревал то одну, то другую руку. — А ты грянь-ка свою геройскую, про сорок девятый год, — был неизменный ответ. И Таруотер срывающимся по-петушиному голосом запевал свою песнь, как запел ее, достигнув цели, когда лодка сквозь теснящиеся льдины повернула к доусонскому причалу и весь прибрежный Доусон навострил уши, внимая его победному пеану:
Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым Руном.
Не прошло и недели, как Таруотер уже снова был на ногах и, ковыляя по хижине, стряпал, мыл посуду и хозяйничал у пятерых обитателей ущелья. Настоящие старожилы-пионеры, люди мужественные и привыкшие к лишениям, они так далеко забрались за Полярный круг, что ничего не слыхали о золоте, найденном в Клондайке. Таруотер первый принес им эту весть. Питались они мясом лосей, олениной, копченой рыбой, дополняя этот почти исключительно мясной стол ягодами и сочными кореньями каких-то диких растений, которые заготовляли еще с лета. Они забыли вкус кофе, зажигали огонь с помощью увеличительного стекла, в дорогу брали с собой трут и палочки, как индейцы, курили в трубках засушенные листья, от которых першило в горле и шел невыносимый смрад. Три года назад они вели разведку к северу от верховьев Коюкука и до самого устья Маккензи на побережье Северного Ледовитого океана. Здесь, на китобойных судах, они в последний раз видели белых людей и в последний раз пополнили свои запасы товарами белого человека, главным образом солью и курительным табаком. Направившись на юго-запад в длительный переход к слиянию Юкона и Поркьюпайна у Форта Юкон, они наткнулись в русле пересохшего ручья на золото и остались тут его добывать. Появление Таруотера обрадовало золотоискателей, они без устали слушали его рассказы о сорок девятом годе и окрестили его Старым Героем. Отваром из ивовой коры, кислыми и горькими корешками и клубнями, хвойным настоем они излечили старика от цинги, так что он перестал хромать и даже заметно поправился. Не видели они причин и к тому, чтобы лишить старика его доли в богатой добыче. — Насчет трехсот тысяч поручиться не можем, — сказали они ему как-то утром, за завтраком, перед тем как идти на работу. — Ну, а как насчет ста тысяч, Старый Герой? Заявка тут примерно того стоит, россыпь, что ни говори, богатая, а участок тебе уже застолбили. — Спасибо, ребята, большое вам спасибо, — отвечал старик, — могу сказать одно — сто тысяч для начала неплохо, даже совсем неплохо. Конечно, я на этом не остановлюсь и свои триста тысяч добуду. Ведь я затем сюда и ехал. Ребята посмеялись, похвалили его упорство, говоря, что, видно, им придется сыскать старику местечко побогаче. А Старый Герой ответил, что, как наступит весна и он станет бодрей, видно, ему самому придется тут полазить и пошарить. — Почем знать, может, вон под той горкой, — сказал он, указывая на заснеженный склон холма по другую сторону ущелья, — мох растет прямо на самородках. Больше он ничего не сказал, но, по мере того как солнце подымалось все выше и дни становились длиннее и теплее, все чаще поглядывал через ручей на характерный сброс посредине склона. И однажды, когда снег почти всюду стаял, Таруотер перебрался через ручей и поднялся к сбросу. Там, где солнце припекало сильней, земля уже оттаяла на целый дюйм. И вот в одном таком месте Таруотер стал на колено, большой заскорузлой рукой ухватил пучок мха и вырвал его с корнями. Что-то блеснуло и загорелось в ярких лучах весеннего солнца. Он тряхнул мох, и с корней, будто гравий, на землю посыпались крупные самородки — золотое руно, которое оставалось теперь только стричь! У аляскинских старожилов еще свежа в памяти золотая горячка лета 1898 года, когда из Форта Юкон на новооткрытые прииски Таруотера хлынули толпы народа. И когда старый Таруотер, продав свои акции компании Боуди за чистые полмиллиона, отправился в Калифорнию, он до самой пароходной пристани Форта Юкон ехал на муле по великолепной новой тропе с удобными трактирами для проезжих. На борту океанского парохода, вышедшего из Сент-Майкла, Таруотер за первым же завтраком обратил внимание на скрюченного цингой седоватого официанта с испитым лицом, который, морщась от боли, подавал ему на стол. Но только еще раз пристально оглядев его с головы до ног, он удостоверился, что это и в самом деле Чарльз Крейтон. — Что, плохо пришлось, сынок? — посочувствовал Таруотер. — Уж такое мое счастье, — пожаловался тот, когда узнал Таруотера и они поздоровались. — Из всей нашей компании ко мне одному прицепилась цинга. Чего только я не натерпелся! А те трое живы-здоровы и работают, собираются зимой отправиться на разведку вверх по Белой. Энсон плотничает, зарабатывает двадцать пять долларов в день. Ливерпул валит лес и получает двадцать. Большой Билл, тот работает старшим пильщиком на лесопилке, выгоняет больше сорока в день. Я старался, как мог, да вот цинга… — Старался-то ты старался, сынок, только можешь ты мало, уж очень коммерция тебе характер испортила, больно ты мужчина черствый да раздражительный. Так вот что я тебе скажу. Хворый — ты не работник. За то, что вы взяли меня с собой в лодку, я уж заплачу капитану за твой проезд, отлеживайся и отдыхай, пока едем. А что думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско? Чарльз Крейтон пожал плечами. — Так вот что, — продолжал Таруотер, — пока не наладишь свою коммерцию, для тебя найдется работенка у меня на ферме. — Возьмите меня к себе управляющим… — сразу оживился Чарльз. — Ну нет, голубчик, — наотрез отказал Таруотер. — Но другая работа всегда найдется: ямы рыть для столбов, колоть дрова, а климат у нас превосходный… К возвращению блудного дедушки домашние не преминули заколоть и зажарить откормленного тельца. Но прежде чем сесть за стол, Таруотер пожелал пройтись и оглядеться. Тут, разумеется, все единокровные и богоданные дщери и сыновья непременно пожелали его сопровождать и подобострастно поддакивали каждому слову дедушки, у которого было полмиллиона. Он шествовал впереди, нарочно говорил самые нелепые и несообразные вещи, однако ничто не вызывало возражений у его свиты. Остановившись у разрушенной мельницы, которую он когда-то построил из мачтового леса, он с сияющим лицом глядел на простиравшуюся перед ним долину Таруотер и на дальние холмы, за которыми возвышалась гора Таруотер — все это он мог теперь снова назвать своим. Тут его осенила мысль, и, чтобы скрыть веселые огоньки в глазах, он поспешил отвернуться, делая вид, что сморкается. По-прежнему сопровождаемый всем семейством, дедушка Таруотер прошел к ветхому сараю. Здесь он поднял с земли почерневший от времени валек. — Уильям, — сказал он, — помнишь наш разговор перед тем, как я отправился в Клондайк? Не может быть, чтобы не помнил. Ты мне тогда сказал, что я рехнулся. А я тебе ответил, что если бы я посмел так разговаривать с твоим дедушкой, он бы мне все кости переломал вальком. — Я только пошутил, — старался вывернуться Уильям. Уильям был сорокапятилетний мужчина с заметной проседью. Его жена и взрослые сыновья стояли тут же и с недоумением смотрели на дедушку Таруотера, который зачем-то снял пиджак и дал его Мери подержать. — Подойди ко мне, Уильям, — приказал он. Уильям скрепя сердце подошел. — Надо и тебе, сынок, хоть раз попробовать, чем меня частенько потчевал твой дед, — приговаривал Таруотер, прохаживаясь вальком по спине и плечам сына. — Заметь, я тебя хоть по голове не бью! А вот у моего почтенного родителя нрав был горячий, бил по чему попало… Да не дергай ты локтями! А то по локтю огрею. А теперь скажи, любезный сыночек, в своем я уме или нет? — В своем! — заорал Уильям благим матом, приплясывая на месте от боли. — В своем, отец. Конечно, в своем! — Ну то-то же! — наставительно заметил старик и, отбросив валек, стал натягивать куртку. — А теперь пора и за стол. Глен Эллен, Калифорния. 14 сентября 1916 г.
Бесстыжая
Есть рассказы, которым безусловно веришь, — они не состряпаны по готовому рецепту. И точно так же есть люди, чьи рассказы не вызывают сомнения. Таким человеком был Джулиан Джонс, хотя, быть может, не всякий читатель поверит тому, что я от него услышал. Но я ему верю. Я так глубоко убежден в правдивости этой истории, что не перестаю носиться с мыслью войти участником в задуманное им предприятие и хоть сейчас готов пуститься в далекий путь. Встретился я с ним в австралийском павильоне панамской Тихоокеанской выставки. Я стоял у витрины редчайших самородков, найденных на золотых приисках у антиподов. С трудом верилось, что эти шишковатые, бесформенные, массивные глыбы всего лишь макеты, и так же трудно было поверить в приведенные данные об их весе и стоимости. — И чего только эти охотники на кенгуру не называют самородком! — прогудело у меня за спиной, когда я стоял перед самым большим образцом. Я обернулся и посмотрел снизу вверх в тусклые голубые глаза Джулиана Джонса. Посмотрел вверх, потому что ростом он был не менее шести футов четырех дюймов. Песочно-желтая копна его волос была такой же выцветшей и тусклой, как и глаза. Видимо, солнце смыло с него все краски; лицо его во всяком случае хранило следы давнего, очень сильного загара, который, впрочем, уже стал желтым. Когда он отвел взгляд от витрины и посмотрел на меня, я обратил внимание на странное выражение его глаз — такие глаза бывают у человека, который тщетно силится вспомнить что-то необычайно важное. — Чем вам не нравится этот самородок? — спросил я. Его рассеянный, словно отсутствующий взгляд стал осмысленным, и он прогудел: — Чем? Конечно, своими размерами. — Да, он действительно очень велик. И таков он, наверно, на самом деле. Вряд ли австралийское правительство решилось бы… — Очень велик! — прервал он меня, презрительно фыркнув. — Самый большой из когда-либо найденных… — начал я. — Когда-либо найденных! — В его тусклых глазах вспыхнул огонек. — Уж не думаете ли вы, что о всяком когда-либо найденном куске золота пишут газеты и энциклопедии? — Ну что ж, — сказал я примирительно, — раз не пишут, значит, мы ничего о нем и не знаем. А если редкий по размерам самородок, или, вернее, тот, кто его нашел, предпочитает стыдливо краснеть и пребывать в неизвестности… — Да нет же, — перебил он. — Я видел его своими глазами, а покраснеть не могу, даже если б и захотел: загар мешает. Я железнодорожник по профессии и долго жил в тропиках. Поверите ли, кожа у меня была цвета красного дерева — старого красного дерева, и меня частенько принимали за голубоглазого испанца… — А разве тот самородок был больше вот этих, мистер… э… — прервал я его. — Джонс, меня зовут Джулиан Джонс. Он порылся во внутреннем кармане и извлек конверт, адресованный этому человеку в Сан-Франциско до востребования, а я вручил ему свою визитную карточку. — Рад познакомиться с вами, сэр, — сказал он, протягивая руку, и голос его прогудел, как у человека, привыкшего к оглушительному шуму или к широким просторам. — Я, конечно, слышал о вас и видел в газетах ваш портрет, но хотя и не следовало бы этого говорить, все-таки скажу, что ваши статьи о Мексике, на мой взгляд, гроша ломаного не стоят. Вздор! Сущий вздор! Считая мексиканца белым, вы делаете ту же ошибку, что и все гринго. Они не белые. Никто из них не белый — что португальцы, что испанцы, латиноамериканцы и тому подобный сброд. Да, сэр, они и думают не так, как мы с вами, и не так рассуждают, и поступают не так. Даже таблица умножения и та у них какая-то своя. По-нашему семью семь — сорок девять, а по-ихнему совсем не то, и считают они по-своему. Белое у них называется черным. Вот, например, вы покупаете кофе для хозяйства — допустим, фунтовый или десятифунтовый пакет… — Какой величины, вы сказали, был тот самородок? — настойчиво спросил я. — Как самый большой из этих? — Больше, — спокойно ответил он. — Больше всех, месте взятых, на этой дурацкой выставке, куда больше. Он замолчал и пристально посмотрел на меня. — Не вижу причины, почему бы не потолковать с вами об этом. У вас репутация человека, которому можно довериться, вы и сами, я читал, видали виды и побывали во всяких богом забытых местах. Я все глаза проглядел, высматривая кого-нибудь, кто взялся бы вместе со мной за это дело. — Да, вы можете мне довериться, — сказал я. И вот я для общего сведения оглашаю от слова до слова то, что он рассказал мне, сидя на скамье у Дворца изящных искусств, под крики чаек, носившихся над лагуной. Мы тогда же условились с ним встретиться. Однако я забегаю вперед. Когда мы вышли из павильона в поисках местечка. где бы посидеть, к нему по-птичьи суетливо, как суетливо сновали у нас над головой чайки, подбежала маленькая женщина лет тридцати с тем поблекшим лицом, какие бывают у фермерских жен, — и уцепилась за его руку с точностью и быстротой какого-нибудь механизма. — Уходишь! — взвизгнула она. — Пустился рысью. а обо мне забыл! Я был ей представлен. Мое имя, разумеется, ничего ей не говорило, и она недружелюбно посмотрела на меня близко сидящими, черными, хитрыми глазками, такими же блестящими и беспокойными, как у птицы. — Уж не думаешь ли ты рассказать ему про эту бесстыжую? — заныла она. — Погоди-ка, Сара, у нас ведь деловой разговор, сама знаешь, — жалобно возразил он. — Я давно ищу подходящего человека, и вот он мне встретился, так почему бы не рассказать ему все, как было? Маленькая женщина промолчала, но ее губы вытянулись шнурочком. Она смотрела прямо перед собой на Башню драгоценных камней с таким мрачным видом, что, казалось, самый яркий луч солнца не мог бы смягчить ее взгляд. Мы не спеша подошли к лагуне и присели на свободную скамейку, с облегчением вытянув натруженные беготней ноги. — Только устаешь от всего этого, — заявила женщина вызывающим тоном. Два лебедя, покинув зеркальную гладь воды, уставились на нас. А когда они окончательно удостоверились в нашей скупости или в том, что у нас нет с собой фисташек, Джонс чуть ли не спиной повернулся к своей подруге жизни и поведал мнеследующее: — Вы бывали когда-нибудь в Эквадоре? Так вот вам мой совет — не ездите туда. А впрочем, беру свои слова обратно, может, мы еще махнем в те края вместе, если вы решитесь мне довериться и если у вас хватит пороху на такое путешествие. Да, как подумаешь, что всего несколько лет назад я притащился туда из Австралии на дырявом угольщике, после сорока трех дней пути… Он делал семь узлов при самых благоприятных условиях, а мы севернее Новой Зеландии перенесли двухнедельный шторм и к тому же двое суток чинили машины у острова Питкерн. Я не служил на этом судне. Я машинист. В Ньюкасле я подружился со шкипером и ехал до Гваякиля как его гость. До меня, видите ли, дошли слухи, что оттуда и дальше, через Анды, до самого Кито [51] на американских железных дорогах хорошо платят. Так вот, Гваякиль… — Дыра, где свирепствует лихорадка, — вставил я. Джулиан Джонс кивнул. — Томас Нэст умер от лихорадки, прожив там месяц… Это был знаменитый американский карикатурист, — добавил я в пояснение. — Не знал такого, — небрежно бросил Джулиан Джонс. — Но не его первого она так быстро скрутила. И вот как я впервые об этом услышал. Порт там в шестидесяти милях от устья реки. «Как у вас насчет лихорадки?» — спросил я лоцмана, который рано утром явился к нам на борт. «Видишь вон то гамбургское судно, — сказал он, показывая на довольно большой корабль, стоявший на якоре. — Капитан и четырнадцать человек экипажа приказали долго жить, а кок и еще двое при смерти. Ну, а больше там никого и не осталось». И, право же, он не врал. Тогда от желтой лихорадки умирало в Гваякиле по сорок человек в день. Но потом я узнал, что это еще пустяки. Там свирепствовали бубонная чума и оспа, людей косили дизентерия и воспаление легких, но страшнее всего была железная дорога. Я не шучу. Для тех, кто решался по ней ездить, она была опаснее всех болезней, какие только есть на свете. Не успели мы отдать якорь в Гваякиле, как к нам на борт явилось несколько шкиперов с других судов предупредить нашего, чтобы он никого из экипажа не пускал на берег, разве что тех, от кого не прочь избавиться. За мной пришла лодка с другого берега, из Дюрана — конечной станции железной дороги. Прибывшему ней человеку так не терпелось попасть на борт, что он в три прыжка перемахнул к нам по трапу. Очутившись на палубе, он, не сказав никому ни слова, перегнулся через поручни, погрозил кулаком в сторону Дюрана и закричал: «А все-таки я с тобой разделался! Все-таки разделался!» «С кем это ты разделался, дружище?» — спросил я. «С железной дорогой, — сказал он, расстегивая ремень и доставая большой кольт, который висел у него на левом боку под пальто. — Три месяца — вой срок по договору — отбыл и целехонек остался. Я служил кондуктором». Так вот на какой железной дороге мне предстояло работать! Но и это пустяки по сравнению с тем, что он рассказал мне в следующие пять минут. От Дюрана дорога поднимается вверх на двенадцать тысяч футов над уровнем моря по склону Чимборасо [52] и спускается на десять тысяч футов в Кито — по другую сторону горного хребта. Здесь так опасно, что поезда ночью не ходят. Пассажиры, едущие на далекое расстояние, слезают где-нибудь в пути и ночуют в ближайшем городе, а поезд дожидается рассвета. В каждом поезде едет для охраны отряд эквадорских солдат, а это и есть самое страшное. Им полагается защищать поездную прислугу, но всякий раз, как вспыхнет драка, они хватают ружья и присоединяются к толпе. А в случае крушения испанцы первым делом орут: «Бей гринго!» Это уж у них так заведено: они убивают поездную прислугу и уцелевших при катастрофе пассажиров-гринго. Я уже говорил вам, что у них своя арифметика, не та, что у нас. Вот чертовщина! В тот же день я убедился, что бывший кондуктор не врал. Случилось это в Дюране. Я должен был водить поезда на первом участке, а единственный поезд прямого сообщения на Кито, куда мне надо было отправиться на следующее утро, отходил раз в сутки. В день моего приезда, часа в четыре, взорвались котлы на «Губернаторе Хэнкоке», и он затонул у самых доков на глубине шестидесяти футов. Это был паром, перевозивший пассажиров железной дороги в Гваякиль. Тяжелая авария, но еще более тяжелыми были последствия. К половине пятого начали прибывать переполненные поезда. День был праздничный, и экскурсанты из Гваякиля, ездившие в горы, возвращались домой. Толпа — тысяч в пять — требовала, чтобы ее переправили на другую сторону, но не наша была вина, что паром лежал на дне реки. А по испанской арифметике, виноваты были мы. «Бей гринго!» — крикнул кто-то в толпе. И началась потасовка. Мы едва унесли ноги. Я мчался вслед за главным механиком с одним из его ребят на руках, мчался к паровозам, которые стояли под парами. Там, знаете ли, во время беспорядков прежде всего спасают паровозы, потому что дорога без них не. может работать. Когда мы тронулись, пять-шесть жен американцев и столько же детей лежали вместе с нами, скрючившись на полу паровозных будок. И вот солдаты-эквадорцы, которым полагалось охранять нашу жизнь и имущество, выпустили нам вслед не меньше тысячи зарядов, прежде чем мы отъехали на безопасное расстояние. Мы переночевали в горах и только на следующий день вернулись, чтобы навести порядок. Но навести порядок было не так-то просто. Платформы, товарные и пассажирские вагоны, старые маневренные паровозы — все, вплоть до ручных дрезин, было сброшено с доков на паром «Губернатор Хэнкок», затонувший на глубине шестидесяти футов. Толпа сожгла паровозное депо, подожгла угольные бункера, разгромила ремонтные мастерские. Кроме того, нам надо было немедля похоронить трех наших парней, убитых в свалке. Ведь там такая жара! Джулиан Джонс замолчал и покосился на свирепое лицо жены, хмуро смотревшей прямо перед собой. — Я не забыл про самородок, — успокоил он меня. — И про бесстыжую, — огрызнулась маленькая женина, видимо, обращаясь к болотным курочкам, плескавшимся в лагуне. — Я как раз подхожу к рассказу о самородке… — Нечего было тебе делать там, в этой ужасной стране, — огрызнулась жена, теперь уже в его сторону. — Полно, Сара, — умоляюще сказал он. — Ради кого работал, как не ради тебя. — И он пояснил мне: — Риск был огромный, зато и платили хорошо. В иные месяцы я зарабатывал до пятисот долларов. А в Небраске ждала меня Сара… — Мы уже два года как были обручены, — пожаловалась она Башне драгоценных камней. — …Не забывай, что в Австралии была забастовка, попал в черные списки, схватил брюшной тиф и мало ли что еще, — продолжал он. — Но на той железной дороге мне везло. Да, я знавал парней, которые умерли, только что приехав из Штатов, поработав какую-нибудь неделю. Если болезнь или железная дорога их не скрутят, так прикончат испанцы. Ну, а мне, видно, не судьба была, даже когда я пустил поезд под откос с высоты сорока футов. Мой кочегар погиб; кондуктору и инспектору Компании — он ехал в Дюран встречать свою невесту — испанцы отрубили головы и насадили их на колья. Я лежал, зарывшись, как жук, в кучу каменного угля, лежал весь день и всю ночь, пока они не утихомирились, а они думали, что я скрылся в лесу… Да, мне действительно везло. Самое худшее, что со мной приключилось, — это простуда, которую я схватил как-то, а в другой раз — карбункул. Да, но что было с другими! Они мерли, как мухи, — от желтой лихорадки, воспаления легких, от рук испанцев, от железной дороги. Мне так и не пришлось приобрести себе друзей. Только познакомишься с кем поближе, глядь, а он возьми да помри, и так все, кроме кочегара Эндруса, да и тот с ума спятил. Работа у меня ладилась с самого начала; жил я в Кито снимал там глинобитный домик, крытый испанской черепицей. С испанцами у меня хлопот не было. Почему не разрешить им прокатиться бесплатно на тендере или на щите перед паровозом! Чтобы я стал их сбрасывать? Да никогда! Я хорошо запомнил, что, после того как Джек Гаррис спихнул двоих-троих, я muy pronto [53] попал на его похороны… — Говори по-английски, — резко оборвала его сидевшая рядом маленькая женщина. — Сара терпеть не может, когда я говорю по-испански, — извинился он. — Это ей так действует на нервы, что я обещал не говорить. Так вот, как видите, я не прогадал — все шло как по маслу, я копил деньги, чтобы, вернувшись в Небраску, жениться на Саре, но тут-то и получилась эта история с Ваной… — С этой бесстыжей! — зашипела Сара. — Перестань, Сара, — умоляюще сказал ее великан муж. — Должен же я упомянуть о ней, а не то как я расскажу про самородок? Как-то ночью ехали мы на паровозе — не на поезде — в Амато, милях в тридцати от Кито. Кочегаром был у меня Сэт Менерс. Я готовил его в машинисты и потому разрешил ему вести паровоз, а сам сел на его место и стал думать о Саре. Я только что получил от нее письмо. Она, как всегда, просила меня вернуться и, как всегда, намекала на опасности, подстерегающие холостого человека, который болтается в стране, где на каждом шагу синьориты и фанданго. Господи, если б только она их видела! Настоящие пугала! Лица от белил, как у мертвецов, а губы красные, ровно… те жертвы крушения, которых я помогал убирать. Была чудная апрельская ночь, ни малейшего ветерка, и над самой вершиной Чимборасо разливался свет луны… Ну и гора! Полотно железной дороги опоясывает ее на высоте двенадцати тысяч футов над уровнем моря, а выше, до гребня, еще десять тысяч. Пока Сэт вел паровоз, я, видно, задремал, и вдруг он как затормозит — я чуть в окно не вылетел. «Какого чер…» — закричал было я, а Сэт сказал: «Ну и дьявольщина», — когда мы увидели то, что было на полотне. И я вполне с ним согласился. Там стояла индианка… Поверьте мне, индейцы — это не испанцы, нет. Сэт ухитрился затормозить футах в двадцати от нее, а ведь мы неслись с горы как бешеные! Но девушка… Она… Я заметил, что миссис Джулиан Джонс насторожилась, хотя взор ее по-прежнему был злобно устремлен на двух болотных курочек, плескавшихся внизу, в лагуне. «Бесстыжая», — свирепо прошипела она. При звуке ее голоса Джонс осекся, но тут же продолжал: — Девушка была высокого роста, тоненькая, стройная — вы знаете этот тип, — удивительно длинные черные волосы, распущенные по спине… Она стояла, такая смелая, раскинув руки, чтобы остановить паровоз. На ней была какая-то легкая одежда, запахнутая спереди, — не из материи, а из пятнистой, мягкой, шелковистой шкуры оцелота. И ничего больше. — Бесстыжая, — прошипела миссис Джонс. Но мистер Джонс продолжал, словно не заметил, то его прервали. — «Нечего сказать, хорош способ останавливать паровозы», — пожаловался я Сэту, соскакивая на полотно. Я обошел паровоз и подошел к девушке. И подумайте только! Глаза у нее были плотно закрыты. Она так дрожала, что вы бы это заметили даже при лунном свете. И она была босая. «Что стряслось?» — спросил я не очень-то ласково. Она вздрогнула, видно, пришла в себя и открыла глаза. Ну и ну! Такие большие, черные, красивые. Девушка, скажу я вам, заглядение… «Бесстыжая!» Услыхав это шипение, болотные курочки вспорхнули и отлетели на несколько футов. Но теперь Джонс взял себя в руки, он и бровью не повел. — «Для чего ты остановила паровоз?» — спросил я по-испански. Никакого ответа. Она посмотрела на меня, потом на пыхтящий паровоз и залилась слезами, а это, согласитесь, совсем не в характере индианок. «Если ты вздумала прокатиться, — сказал я ей на местном испанском (который, говорят, отличается от настоящего испанского), — то тебя так подмяло бы под фонарь и щит, что моему кочегару пришлось бы отдирать тебя лопатой». Моим испанским хвастать не приходится, но я видел, что она меня поняла, хотя только покачала головой и ничего не сказала. Да, девушка, скажу я вам, заглядение… Я с опаской посмотрел на миссис Джонс, но она, видимо, искоса следила за мной и теперь пробормотала: — Разве он взял бы ее к себе в дом, будь она дурнушкой, как вы думаете? — Помолчи, Сара, — запротестовал он. — Ты не права. Не мешай мне рассказывать… Потом Сэт говорит: «Что же, мы тут всю ночь стоять будем?» «Идем, — сказал я девушке, — полезай на паровоз. Но только в другой раз, если захочешь прокатиться, не сигнализируй, когда поезд на полном ходу». Она пошла за мной, но только я стал на подножку и обернулся, чтобы помочь ей подняться, как ее уже не было. Я опять соскочил на землю. Ее и след простыл. Вверху и внизу отвесные скалы, а железнодорожное полотно тянется вперед на сотни ярдов, и нигде ни души. И вдруг я увидел ее — она сжалась комочком у самого щита, так близко, что я чуть не наступил на нее. Если бы мы тронулись, мы тут же раздавили бы ее. Все это было так бессмысленно, что я никак не мог уразуметь, чего она хочет. Может, она задумала покончить с собой. Я схватил ее руку не очень-то нежно и заставил подняться. Она покорно пошла за мною. Женщина понимает, когда мужчина не намерен шутить. Я перевел взгляд с этого Голиафа на его маленькую супругу с птичьими глазками и спросил себя, пробовал ли он когда-нибудь показать этой женщине, что не намерен шутить. — Сэт было заартачился, но я втолкнул ее в будку и посадил с собой рядом… — Сэт в это время был, конечно, занят паровозом, — заметила миссис Джонс. — Ведь я обучал его, сама знаешь! — возразил мистер Джонс. — Мы доехали до Амато. Всю дорогу она рта не открыла, и только паровоз остановился, спрыгнула на землю и исчезла. Да, вот оно как. Даже не поблагодарила. Ничего не сказала. А наутро, когда мы собирались возвращаться в Кито с десятками платформ, груженных рельсами, она уже поджидала нас в паровозной будке; и при дневном свете я увидел, что она еще лучше, чем казалось ночью. «Ага! Видно, ты ей по вкусу пришелся», — усмехнулся Сэт. И похоже, что так оно и было. Она стояла и смотрела на меня… на нас… как верный пес, которого любят, — его поймали, когда он ел колбасу, но он знает, что вы его не ударите. «Убирайся! — сказал я ей. — Pronto». (Миссис Джонс дала о себе знать, вздрогнув, когда было произнесено испанское слово.) Разумеется, Сара, мне с самого начала не было до нее никакого дела. Миссис Джонс выпрямилась. Губы ее шевелились беззвучно, но я знал, какое слово она произнесла. — А больше всего досаждали мне насмешки Сэта. «Теперь ты от нее не избавишься, — говорил он. — Ты ведь спас ей жизнь…» — «Не я, — отвечал я резко, — а ты». — «Но она думает, что ты, а стало быть, так оно и есть, — стоял он на своем. — И теперь она твоя. Такой здесь обычай, сам знаешь». — Варварский, — вставила миссис Джонс. И хотя она не сводила глаз с Башни драгоценных камней, я понимал, что ее замечание относилось не к архитектурному стилю башни. — «Она будет у тебя хозяйкой», — ухмыльнулся Сэт. Я не мешал ему болтать, зато потом заставил его так усердно подбрасывать уголь в топку, что ему некогда было заниматься разговорами. А когда я доехал до места, где подобрал ее, и остановил поезд, чтобы ее ссадить, она грохнулась на колени, обхватила мои ноги обеими руками, и слезы ручьем полились на мои башмаки. Что тут было делать! Миссис Джонс каким-то неуловимым образом дала понять, что ей хорошо известно, что сделала бы она на его месте. — Но только мы приехали в Кито, она, как и в прошлый раз, исчезла. Сара не верит, когда я говорю, что вздохнул с облегчением, избавившись от девушки. Но не тут-то было. Я пришел в свой глинобитный дом и съел превосходный обед, приготовленный моей кухаркой. Старуха была наполовину испанка, наполовину индианка, и звали ее Палома. Ну вот, Сара, не говорил ли я тебе, что она была старая-престарая и больше походила на сарыча, чем на голубку? Кусок не шел мне в горло, если она вертелась перед глазами. Но она держала дом в порядке и, бывало, лишнего гроша не истратит на хозяйство. В тот день я выспался хорошенько, а потом, как вы думаете, кого я застал на кухне? Да эту проклятую индианку. И как будто она у себя дома! Старуха Палома сидит перед ней на корточках и растирает ей ноги; можно было подумать, что у девушки ревматизм, а ведь какое там — видел я, как она ходит. При этом Палома напевала как-то чудно, непонятно. Я, конечно, задал ей трепку. Сара знает, что я не терплю у себя в доме женщин — разумеется, молодых, незамужних. Да что толку! Старуха стала заступаться за индианку и заявила, что если девчонка уйдет, она тоже уйдет. А меня обозвала дурачиной и такими словами, каких и нет на английском языке. Тебе, Сара, понравился бы испанский, очень уж ругаться на нем способно, да и Палома понравилась бы тебе. Она была добрая женщина, хотя у нее не осталось ни одного зуба и ее физиономия могла отбить аппетит даже у человека ко всему привычного. Я сдался. Мне пришлось сдаться. Палома так и не объяснила, почему она стоит за девушку; сказала только, что нуждается в помощи Ваны (хотя она вовсе не нуждалась). Так или иначе, а Вана была девушка тихая и никому не мешала. Вечно она сидела дома и болтала с Паломой или помогала ей по хозяйству. Но вскорости я стал примечать, что она боится чего-то. Всякий раз, когда заходил какой-нибудь приятель распить бутылочку или сыграть партию в педро, она так пугалась, что жалко было на нее смотреть. Я пробовал выпытать у Паломы, что тревожит девушку, но старуха только головой качала, и вид у нее при этом был такой торжественный, будто она ждала к нам в гости всех чертей из пекла. И вот однажды к Ване пожаловал гость. Я только возвратился с поездом и проводил время с Ваной — не мог же я обижать девушку, даже если она мне навязалась и сама поселилась у меня в доме, — как вдруг вижу, глаза у нее стали какие-то испуганные. На пороге стоял мальчик-индеец. Он был похож на нее, но моложе и тоньше. Вана повела его на кухню, и у них там, наверно, был серьезный разговор, потому что индеец ушел, когда уже стемнело. Потом он заходил опять, только я его не видел. Когда я вернулся домой, Палома сунула мне в руку крупный самородок, за которым Вана посылала мальчика. Эта чертова штука весила не меньше двух фунтов, а цена ей была долларов пятьсот с лишним. Палома сказала, что Вана просит меня взять его в уплату за ее содержание. И чтобы сохранить в доме мир, я должен был его взять. А немного погодя пришел еще один гость. Мы сидели у печки… — Он и бесстыжая, — промолвила миссис Джонс. — И Палома, — поспешно добавил он. — Он, его хозяйка и его кухарка сидели у печки, — внесла она поправку. — Да, я и не отрицаю, что Вана ко мне крепко привязалась, — храбро сказал он, а потом с опаской поправился: — Куда крепче, чем следовало бы, потому что я был к ней равнодушен. Так вот, говорю, явился к нам еще один гость. Высокий, худой, седовласый старик индеец, с крючковатым, как орлиный клюв, носом. Он вошел, не постучав. Вана тихо вскрикнула — не то приглушенный визг, не то стон, потом упала передо мной на колени и смотрит на меня умоляющими глазами лани, а на него, как лань, которую вот-вот убьют, а она не хочет, чтобы ее убивали. Потом с минуту, показавшуюся мне вечностью, она и старик смотрели друг на друга. Первой заговорила Палома, должно быть, на его языке, потому что старик ей ответил. И, клянусь всеми святыми, вид у него был гордый и величественный! У Паломы дрожали колени, и она виляла перед ним, как собачонка. И это в моем доме! Я вышвырнул бы его вон, не будь он такой старый. Слова его были, наверно, так же страшны, как и взгляд. Он будто плевал в нее словами! А Палома все хныкала и перебивала, потом сказала что-то такое, что подействовало, так как лицо его смягчилось. Он удостоил меня беглым взглядом и быстро задал Ване какой-то вопрос. Она опустила голову и покраснела, и вид у нее был смущенный, а потом ответила одним словом и отрицательно покачала головой. Тогда он повернулся и исчез за дверью. Должно быть, она сказала «нет». После этого стоило Ване меня увидеть, как она начинала дрожать. Она теперь все время торчала на кухне. Потом смотрю — опять стала появляться в большой комнате. Она все еще дичилась, но ее огромные глаза неотступно следили за мной… — Бесстыжая! — отчетливо услышал я. Но и Джулиан Джонс и я уже успели к этому привыкнуть. — Признаться, и я почувствовал к ней какой-то интерес — о, не в том смысле, как думает и постоянно твердит мне Сара. — Двухфунтовый самородок — вот что не давало мне покоя. Если бы Вана навела меня на след, я мог бы сказать прощай железной дороге и двинуться в Небраску, к Саре. Но потом все полетело вверх тормашками… Неожиданно… Я получил письмо из Висконсина. Умерла моя тетка Элиза и оставила мне свою большую ферму. Я вскрикнул от радости, когда прочитал об этом; напрасно я радовался, потому что вскорости суды и адвокаты все из меня выкачали — ни одного цента мне не оставили, и я до сих пор плачу по долговым обязательствам. Но тогда я этого не знал и собрался ехать домой, в обетованную страну. Палома расхворалась, а Вана лила слезы. «Не уезжай! Не уезжай!» — завела она песню! Но я объявил на службе о своем уходе и отправил письмо Саре — ведь, правда, Сара? В тот вечер у Ваны, сидевшей с убитым видом у печки, впервые развязался язык. «Не уезжай!» — твердит она мне, а Палома ей поддакивает. «Если ты останешься, я покажу тебе место, где брат нашел самородок». — «Слишком поздно», — сказал я. И объяснил, почему. — А ты говорил ей, что я жду тебя в Небраске? — заметила миссис Джонс холодным, бесстрастным тоном. — Что ты, Сара, зачем бы я стал огорчать бедную индейскую девушку! Конечно, не говорил. Ладно. Она и Палома перекинулись несколькими словами по-индейски, а потом Вана говорит: «Если ты останешься, я покажу тебе самый большой самородок, отца всех самородков». — «Какой величины, — спрашиваю, — с меня будет?» Она засмеялась. «Больше, чем ты. Куда больше». — «Ну, таких не бывает», — говорю я. Но она сказала, что сама видела, и Палома подтвердила. Послушать их, так этот самородок стоил миллионы. Сама Палома никогда его не видела, но она о нем слыхала. Ей не могли доверить тайну племени, потому что она была полукровка. Джулиан Джонс умолк и вздохнул. — И они уговаривали меня до тех пор, пока я не соблазнился… — Бесстыжей, — выпалила миссис Джонс с бесцеремонностью птицы. — Нет, самородком. Ферма тетки Элизы сделала меня достаточно богатым, чтобы я мог бросить работу на железной дороге, но не таким богатым, чтобы отказаться от больших денег… а этим женщинам я не мог не поверить. Ого, я мог бы сделаться вторым Вандербильтом или Морганом! Вот какие у меня были мысли; и я принялся выпытывать у Ваны ее секрет. Но она не поддавалась. «Пойдем вместе, — сказала она. — Мы вернемся через две-три недели и принесем столько золота, сколько дотащим». — «Возьмем с собой осла или даже несколько ослов», — предложил я. «Нет, нет, это невозможно». И Палома согласилась с ней. Нас захватили бы индейцы. В полнолуние мы вдвоем отправились в путь. Мы шли только ночью, а днем отлеживались. Вана не позволяла мне зажигать костер, и мне адски недоставало кофе. Мы взбирались на высочайшие вершины Анд, и на одном из перевалов нас застал снегопад; хотя девушке были известны все тропы и хотя мы зря не теряли времени, однако шли целую неделю. Я знаю направление, потому что у меня был с собой карманный компас; а направление — это все, что мне нужно, чтобы добраться туда, потому что я запомнил вершину. Ее нельзя не узнать. Другой такой нет во всем мире. Теперь я вам не скажу, какой она формы, но когда мы с вами направимся туда из Кито, я приведу вас прямо к ней. Нелегкое это дело — взобраться на нее, и не родился еще тот человек, который взобрался бы ночью. Пришлось идти при дневном свете, а вершины мы достигли только после заката солнца. Да, об этом последнем подъеме я мог бы рассказывать вам долгие часы, но не стоит. Вершина горы была ровная, как бильярд, площадью с четверть акра, и на ней почти не было снега. Вана сказала мне, что здесь постоянно дуют сильные ветры и сметают снег. Мы выбились из сил, а у меня началось такое головокружение, что я должен был прилечь. Потом, когда поднялась луна, я обошел все вокруг. Это не заняло много времени; но здесь как будто и не пахло золотом. Когда я спросил Вану, она только засмеялась и захлопала в ладоши. Но тут горная болезнь меня вконец скрутила, и я присел на большой камень, выжидая, пока мне полегчает. «Полно, — сказал я, когда почувствовал себя лучше, — Брось дурачиться, скажи, где самородок». «Сейчас он ближе к тебе, чем буду когда-нибудь я, — ответила она, и ее большие глаза затуманились. — Все вы, гринго, одинаковы! Только золото любо вашему сердцу, а женщина для вас ничего не значит». Я промолчал. Сейчас не к месту было говорить ей о Саре, Но тут Вана как будто повеселела и опять принялась смеяться и дразнить меня. «Ну, как он тебе нравится?» — спросила она. «Кто?» «Самородок, на котором ты сидишь?». Я вскочил, как с раскаленной плиты. Но подо мной была обыкновенная каменная глыба. Сердце у меня упало. То ли сна совсем свихнулась, то ли вздумала таким манером подшутить надо мной. От этого мне было не легче. Она дала мне топорик и велела ударить по глыбе: я так и сделал, раз и еще раз, и при каждом ударе отлетали желтые осколки. Клянусь всеми святыми, то было золото! Вся эта чертова глыба! Джонс неожиданно поднялся во весь рост и, обратив лицо к югу, простер длинные руки. Этот жест вселил ужас в лебедя, который приблизился к нам с миролюбивыми, хотя и корыстными намерениями. Отступая, он наскочил на полную старую леди, которая взвизгнула и уронила мешочек с фисташками. Джонс сел и продолжал рассказ: — Золото, поверьте мне, сплошное золото, такое чистое и мягкое, что я откалывал от него кусок за куском. Оно было покрыто какой-то водонепроницаемой краской или лаком, сделанным из смолы, или чем-то в этом роде. Не удивительно, что я принял самородок за простую каменную глыбу. Он был футов десять в длину и пять в вышину, а по обе стороны суживался, как яйцо. Вот взгляните-ка. Он достал из кармана кожаный футляр, открыл и вытащил оттуда какой-то предмет, завернутый в промасленную папиросную бумагу. Развернув его, он бросил мне на ладонь кусочек чистого золота величиною с десятидолларовую монету. На одной стороне я мог разглядеть сероватое вещество, которым он был окрашен. — Я отколол его от края той штуки, — продолжал Джонс, заворачивая золото в бумагу и пряча в футляр. — И хорошо, что я сунул его в карман. Прямо за моей спиной раздался громкий окрик — по-моему, он больше походил на карканье, чем на человеческий голос. И я увидел того сухопарого старика с орлиным клювом, который однажды вечером ввалился к нам в дом. А с ним человек тридцать индейцев — все молодые, крепкие парни, Вана бросилась на землю и давай реветь, но я сказал ей: «Вставай и помирись с ними ради меня». «Нет, нет, — закричала она. — Это смерть! Прощай, amigo» [54]. Тут миссис Джонс вздрогнула, и ее муж резко сократил это место в своем повествовании. — «Тогда вставай и дерись вместе со мной», — сказал я. И она стала драться с ними. Там, на макушке земного шара, она царапалась и кусалась с каким-то остервенением, как бешеная кошка. Я тоже не терял времени, хотя у меня был только топорик да мои длинные руки. Но врагов было слишком много, и я не видел ничего такого, к чему можно было прислониться спиной. А потом, когда я очнулся после того, как они треснули меня по голове, — вот пощупайте-ка… Сняв шляпу, Джулиан Джонс провел по своей копне желтых волос кончиками моих пальцев, и они погрузились во вмятину. Она была не меньше трех дюймов в длину и уходила в самую черепную коробку. — Очнувшись, я увидел Вану, распростертую на самородке, и старика с орлиным клювом, торжественно бормочущего над ней, будто он совершал какой-то религиозный обряд. В руке он держал каменный нож, вы знаете — тонкий, острый осколок какого-то минерала вроде обсидиана, того самого, из которого они делают наконечники для стрел. Я не мог пошевельнуться — меня держали, к тому же я был слишком слаб. Ну что тут говорить… каменный нож прикончил ее, а меня они даже не удостоили чести убить здесь, на макушке их священной горы. Они спихнули меня с нее, как падаль. Но и сарычам я тоже не достался. Как сейчас вижу лунный свет, озарявший снежные пики, когда я летел вниз. Да, сэр, я упал бы с высоты пятисот футов, однако этого не случилось. Я очутился в огромном сугробе снега в расщелине скалы. И когда я очнулся (верно, через много часов, потому что был яркий день, когда я снова увидел солнце), я лежал в сугробе или пещере, промытой талым снегом, стекавшим по уступу. Скала наверху нависла как раз над тем местом, куда я упал. Несколько футов в ту или в другую сторону — и был бы мне конец. Я уцелел только чудом! Но я дорого заплатил за это. Больше двух лет прошло, прежде чем я узнал, что со мною было. Я помнил только, что меня зовут Джулиан Джонс, что во время забастовки я был занесен в черный список и что, приехав домой, я женился на Саре. Вот и все. А что произошло в промежутке, я начисто забыл, и когда Сара заводила об этом речь, у меня начинала болеть голова. Да, с головой у меня творилось что-то неладное, и я это понимал. И вот как-то на ферме ее отца в Небраске, когда я сидел лунным вечером на крыльце, Сара подошла и сунула мне в руку этот обломок золота. Должно быть, она только что нашла его под прорванной подкладкой в чемодане, который я привез из Эквадора, а ведь я-то целых два года не помнил, что был в Эквадоре или в Австралии, ничего не помнил! Глядя при лунном свете на обломок камня, я вертел его так и этак и старался вспомнить, что бы это могло быть и откуда, как вдруг в голове у меня будто что-то треснуло, будто там что-то разбилось, и тогда я увидел Вану, распростертую на том огромном самородке, и старика с орлиным клювом, занесшего над нею нож, и… все остальное. Я хочу сказать — все, что случилось с той поры, как я уехал из Небраски, и до того дня, когда я выполз на солнечный свет из снежной ямы, куда они меня сбросили с вершины горы. Все, что было потом, я начисто забыл. Когда Сара говорила мне, что я ее муж, я и слушать не хотел. Чтобы убедить меня, пришлось созвать всю ее родню и священника, который нас венчал. А потом я написал Сэту Менерсу. Тогда еще железная дорога не прикончила его, и он мне помог кое в чем разобраться. Я покажу вам его письма. Они у меня в гостинице. Он писал, что однажды, это было в его очередной рейс, я выполз на железнодорожное полотно. Я на ногах не держался и только полз. Сначала он принял меня за теленка или большую собаку. Во мне не было ничего человеческого, писал он, и я не узнавал его и никого не узнавал. По моим расчетам, Сэт подобрал меня дней через десять после того происшествия на вершине горы. Не знаю, что я ел. Может, я и вовсе не ел. А потом в Кито доктора и Палома выхаживали меня (это она, наверно, и положила тот кусок золота в мой чемодан), пока они не обнаружили, что я потерял память — и тогда железнодорожная компания отправила меня домой в Небраску. Так по крайней мере писал мне Сэт. Сам-то ничего не помню. Но Сара знает. Она переписывалась с Компанией, прежде чем меня посадили на пароход. Миссис Джонс подтвердила его слова кивком головы, вздохнула и всем своим видом дала понять, что ей не терпится уйти. — С тех пор я не могу работать, — продолжал ее муж. — Я все думаю, как бы мне вернуться туда за этим огромным самородком. У Сары есть деньги, но она не дает мне ни одного пенни… — Больше он в эту страну не поедет, — отрезала она. — Но, послушай, Сара, ведь Вана умерла… ты же знаешь, — возразил Джулиан Джонс. — Ничего я не знаю и знать не хочу, — сказала она решительно. — Знаю только, что эта страна не место для женатого человека. Губы ее плотно сжались, и она рассеянно посмотрела туда, где рдело предзакатное солнце. Я бросил взгляд на ее лицо, белое, пухлое и неумолимое, с мелкими чертами, и понял, что уломать ее невозможно. — Чем вы объясняете, что там оказалась такая масса золота? — спросил я Джулиана Джонса. — Золотой метеор свалился с неба, что ли? — Ничего подобного. — Он покачал головой. — Его притащили туда индейцы. — На такую высоту… такой огромный, тяжелый! — возразил я. — Очень просто, — улыбнулся он. — Я и сам не раз ломал над этим голову, когда ко мне вернулась память. «Как, черт побери, могла эта глыба…» — начинал я, а затем часами прикидывал и так и этак. А когда нашел ответ, я почувствовал себя круглым идиотом — ведь это так просто. Он подумал немного и сказал: — Они его не притащили. — Но ведь вы сами только что сказали, что притащили. — И да и нет, — ответил он загадочно. — Конечно, они и не думали тащить туда эту чудовищную глыбу. Они принесли ее по частям. Он подождал, пока не увидел по моему лицу, что я понял. — А потом, конечно, расплавили все золото, или сварили, или сплавили в один слиток. Вы знаете, наверно, что первые испанцы, пришедшие туда под предводительством некоего Писарро [55], были грабителями и насильниками. Они прошли по стране, как чума, и резали индейцев, что твой скот. У индейцев, видите ли, была пропасть золота. И вот из того, что испанцы у них не отобрали, уцелевшие индейцы отлили единый слиток, который хранится на вершине горы. И это золото ждет там меня… и вас, если вы надумаете отправиться за ним. Но здесь, у лагуны перед Дворцом изящных искусств, мое знакомство с Джулианом Джонсом и оборвалось. Заручившись моим согласием финансировать его предприятие, он обещал прийти на следующее утро ко мне в гостиницу с письмами Сэта Менерса и Железнодорожной компании, чтобы договориться обо всем. Но он не пришел. В тот же вечер я позвонил в его гостиницу, и клерк сообщил мне, что мистер Джулиан Джонс с супругой выехали днем, захватив весь свой багаж. Неужели миссис Джонс увезла его насильно и запрятала в Небраске? Помнится, когда мы прощались, в ее улыбке было что-то напоминающее коварное самодовольство мудрой Монны Лизы.
ПРИМЕЧАНИЯ
ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН
Роман «Джерри-островитянин» впервые опубликован в журнале «Космополитен мэгэзин» в январе — апреле 1917 года и в том же году вышел отдельным изданием (Нью-Йорк, Макмиллан).
Стр. 5. «Рассказы Южного Моря» — сборник рассказов Дж. Лондона, вышедший в 1911 году (см. т. 9 настоящего собрания). Шкипер — старое судоводительское звание, капитал небольшого судна, обычно парусного. Британские Соломоновы острова — эта часть Океании в начале XX века была разделена между несколькими империалистическими державами, в том числе Британией и Германией. Отсюда «британские» и «германские» Соломоновы острова. Стр. 6. Кеч — небольшое парусное судно с двумя мачтами: передней — гротом — большего размера и задней — бизанью — меньшего размера, — имеющее не один, а несколько парусов на грот-мачте и косые паруса между мачтами. Негры. — Имеются в виду коренные обитатели Соломоновых островов, меланезийцы, которые по внешним признакам напоминают некоторые африканские народности. В этнографии меланезийцы иногда называются негроидами; белые завоеватели Меланезии называли их неграми. На самом деле этнический состав народностей Африки резко отличается от меланезийцев. Стр. 8. Вельбот — быстроходная шлюпка с заостренными носом и кормой. Стр. 13. Фут — старинная мера длины, принятая и в настоящее время в США и Англии. 1 фут равен 12 дюймам, или 30,48 сантиметра. Стр. 15. Дюйм — мера длины, равная 25,4 миллиметра. Палуба — сплошное горизонтальное перекрытие на судне, а также пол в каюте. Палуба рубки — верхнее перекрытие, крыша рубки. Яхта — судно, служащее для морских прогулок и спорта. Киль — продольный брус в нижней части судна, простирающийся от носа до кормы и служащий основанием, к которому крепятся остальные детали набора судна — корабельного скелета. Стр. 16. Надстройки — закрытые помещения на верхней палубе, простирающиеся от борта до борта во всю ширину судна. Бимсы — поперечные связи судна, на которые сверху настилается палуба. Бак — носовая часть верхней палубы. Стр. 17. Карнеги, Эндрью — один из американских мультимиллионеров XIX–XX веков, автор книги, в которой он беззастенчиво рекламирует американский образ жизни. Стр. 19. Нью-Йорк был… Новым Амстердамом. — Территория, на которой расположен нынешний Нью-Йорк, была еще до английской колонизации этой части Америки заселена голландскими колонистами. Захватив ее в конце XVII века, англичане назвали Новый Амстердам Нью-Йорком. Грот — главный парус на грот-мачте, здесь, то есть на судне с парусным вооружением типа кеча, самый нижний и большой косой парус на первой мачте от носа судна. Контр-бизань (контра-бизань) — здесь косой парус, поднимаемый на задней мачте судна. Карузо, Энрико (1873–1921) — известный итальянский певец, популярный в США после своих гастролей в Нью-Йорке. Стр. 21. Пассаты, пассатные ветры — постоянные и довольно сильные ветры, дующие в океанах к северу от экватора преимущественно в северо-восточном, а к югу от экватора — в юго-восточном направлении. Бизань-мачта — задняя мачта на трех- и более мачтовых судах, а также на так называемых «полутора-мачтовых» судах типа кеча и йола, у которых задняя мачта значительно меньшего размера, чем передняя. Прямо по носу — точно впереди по направлению движения судна. Рифы — здесь гряда коралловых образований, скрытых под водой или едва выступающих над ее поверхностью. Рифами называют также завязки на парусах, расположенные в несколько рядов и служащие для уменьшения в случае необходимости их площади. Под ветер (руль) — то есть в ту сторону, куда дует ветер. Штурвал — рулевое колесо с ручками, с помощью которого поворачивают через специальную передачу — привод — руль судна. Шкоты — снасти для управления нижними свободными углами парусов. Название шкота зависит от названия паруса, для управления которым он служит. Например, грота-шкот, служит для управления паруса гротом. Бугель — железное кольцо или обруч из полосового железа, здесь надетое на бревно — гик, по которому растягивается нижняя кромка — шкаторина паруса грота, — и служащее для крепления к нему верхнего блока грота-шкота. Стр. 22. Галсы — снасти, которыми растягиваются наветренные углы парусов. Поэтому если ветер дует справа, то говорят, что судно идет правым галсом, а если слева, то левым галсом. Переменить галс, лечь на другой галс — повернуть так, чтобы ветер дул в паруса с другой стороны. Для этого при повороте на парусном судне перекидывают косые паруса с одного борта на другой. Стр. 26. Тpaп — всякая лестница на судне. Стр. 28. Штирборт — правый борт судна. Ватервейс — желоб для стока воды, идущий вдоль борта судна. Стр. 29. Полубак — возвышенный, уступ (надстройка) в носовой части судна. Под полубаком обычно располагались жилые помещения для матросов. Склянки, бить склянки — отмечать время ударами в судовой колокол (рынду). Один удар соответствует получасу, двойной удар — часу. Через каждые четыре часа, начиная с полуночи, счет склянок возобновлялся снова, поэтому максимальное количество склянок — восемь. Отсюда образное выражение выбить из человека семь склянок, избить до семи склянок, то есть чуть не до смерти. Стр. 35. Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением. Стр. 43. Гарлем — одно из голландских поселений поблизости от Нью-Йорка, затем часть Нью-Йорка, в конце XIX века заселенная по преимуществу беднотой. Стр. 46. Узел — здесь единица скорости на море, равная одной миле (1 852 м) в час. Фалы — снасти для подъема и удержания парусов в требуемом положении. Концы фалов обычно проводятся вдоль мачты и крепятся у ее основания, причем излишек троса сворачивается в аккуратные связки — бухты — и также подвешивается к мачте. Стр. 47. Ванты — снасти, удерживающие с боков мачты и их верхние продолжения — стеньги. Грота-фалы — снасти для подъема паруса грота. Концы — различные снасти, веревки на судне. Это слово обычно употребляется применительно к сравнительно коротким снастям либо снастям, укрепленным одним концом к чему-либо. Стр. 48. Тали — приспособление для получения выигрыша в силе, состоящее из двух блоков — подвижного и неподвижного, — соединенных между собой тросом. Отдать — отвязать, отпустить ранее закрепленную снасть или конец, здесь фалы для того, чтобы спустить парус. Отдать якорь — освободить якорь от удерживающих его креплений, чтобы он упал за борт. Стр. 50. Ликтрос — мягкий трос, которым обшиваются кромки парусов. Стр. 51. Кливер — косой треугольный парус, обычно второй спереди, поднимаемый под носом судна. Вынести кливер на ветер — оттянуть его задний угол навстречу ветру так, чтобы он надул кливер в обратную сторону. Стр. 52. Нактоуз — привинченная к палубе тумба с, надетым сверху колпаком, под которым устанавливается компас. Снабжается приспособлением для освещения компаса. Норд-ост — северо-восток. Дрейф — снос судна ветром. Дрейфовать — перемещаться по ветру, не имея собственного хода вперед. Лечь в дрейф — не становясь на якорь, убрать паруса или так их расположить, чтобы они не сообщали судну движения. Фалинь — трос для привязывания шлюпок и других мелких судов. Якорный огонь — белый огонь, поднимаемый под носом судна (а на больших судах и над коркой) при его стоянке на якоре. Здесь Дж. Лондон неправильно употребляет этот термин по отношению к судну, лежащему в дрейфе, то есть не стоящему на якоре. Ост-норд-ост — направление, среднее между востоком и северо-востоком. Сушить весла — вынуть весла из воды и развернуть их поперек продольной плоскости шлюпки. Стр. 58. Рубка — закрытое помещение, выступающее над, верхней палубой и не доходящее до бортов судна. Комингс — вертикальное ограждение, предохраняющее вырезы в палубы от заливания их водой, здесь высокий порог, предохраняющий рубку от попадания в нее воды через дверь. Стр. 61. «Песнь песней» — собрание древнееврейских любовных песен, включенное в так называемый «Ветхий завет» — древнюю часть библии, сложившуюся до н. э. Стр. 63. Фор-марсель — второй снизу прямой трапециевидный парус на передней мачте двух- и более мачтового судна. Стр. 70. Ярд — английская мера длины, равная 3 футам, или 91,4 сантиметра. Квинсленд — штат в Австралии. Шхуна — двух- и более мачтовое судно с косым парусным вооружением. Дж. Лондон часто имеет в виду так называемые марсельные шхуны, которые на передней мачте наряду с косыми парусами несут также и прямые паруса. Стр. 71. Буксир — здесь трос, на котором судно что-либо тянет —буксирует за собой. Слово «буксир» употребляется также в смысле «буксирное судно». Табанить — грести в обратную сторону. Стр. 72. Снайдеровские ружья — винтовки, устаревшие к концу XIX века. Поэтому белые колонизаторы я сбывали их населению меланезийских островов. Стр. 74. …три муссона тому назад — то есть примерно полтора года тому назад, так как муссоны меняются два раза в год. Муссоны — ветры тропического пояса, дующие зимой с материков на океаны, а летом — в обратном направлении. В западной части Тихого океана зимой дуют северо-западные, а летом — юго-восточные муссоны. Стр. 79. Миля морская — основная единица расстояния на море, равная одной минуте (1') дуги земного меридиана, или 1852 метрам. В США длина морской мили принимается равной 1 853,2 метра. Для измерения расстояний на суше в США и Англии принята статутная миля, равная 1 609 метрам. Стр. 84. Лагуна — узкий и длинный залив, параллельный берегу и образованный песчаной или галечной косой, идущей от берега. Лагуной также называют сравнительно мелководное озеро внутри кольцеобразного кораллового острова — атолла. Приборка — уборка на судне. Стр. 86. Куттер (тендер) — определенный тип небольшого (водоизмещением 50—100 тонн), но быстроходного одномачтового судна с развитым парусным вооружением. В военном флоте использовались как дозорные и посыльные суда, откуда и произошло современное слово «катер». Стр. 95. Шканцы — самая верхняя палуба, или помост, на корме судна, где находился основной пост управления, то есть штурвал и компас. Стр. 99. «Круглоголовые» — насмешливое прозвище сторонников парламента в эпоху буржуазной революции и гражданской войны в Англии (1642–1660); Оливер Кромвель — талантливый полководец эпохи английской буржуазной революции, впоследствии — лорд-протектор Англии (1599–1658). Кирос, Педро Фернандес — капитан, спутник Альварро де Мендана в его втором плавании по Тихоокеанским архипелагам (1595 г.). После смерти Мендана возглавил экспедицию и довел ее до конца. Островитяне оказали испанцам смелое сопротивление. Лаперуз, Жан Франсуа (1741–1788) — французский мореплаватель, исследователь Тихого океана. Погиб при кораблекрушении в районе Соломоновых островов. Стр. 101. Так называемые «мужские дома» занимали важное место в жизни меланезийских племен. В них допускались только мужчины; в «мужских домах» обсуждались вопросы, важнее для всего племени или деревни. «Мужские дома» сохранились, очевидно, от той эпохи, когда в меланезийской общине был окончательно побежден матриархат. Стр. 122. Фрегаты — во времена парусного флота трехмачтовые военные корабли, имевшие до 60 пушек, расположенных на двух палубах — верхней, открытой, и нижней, закрытой. Альварро де Мендана — испанский мореплаватель XVII века, видимо, первый из европейских моряков, посетивший Соломоновы острова. Мендана и дал им это название, полагая, что он нашел путь к сказочным островам, где, по преданию, хранились сокровища библейского царя Соломона. При попытке высадки Мендана подвергся нападению меланезийцев. Стр. 157. Булинь — снасть, служащая для оттягивания вперед нижних углов прямых трапециевидных парусов с той стороны, откуда дует ветер, здесь, то есть на марсельной шхуне, булинь фор-марселя. Камбуз — кухня на судне. Стр. 159. Лоцман — человек, хорошо знакомый с условиями плавания в определенном, чаще всего прибрежном районе. Обязанность лоцмана — давать советы капитану при проводке судна и опасных и трудных местах. Стр. 161. Баталер — лицо, ведающее на судне припасами, главным образом продовольственными. Стр. 165. Немврод — в древневосточной мифологии сказочный охотник; в ряде стран Древнего Востока существовал культ Немврода — покровителя охоты. Стр. 171. Баркас (барказ) — большая многовесельная шлюпка либо небольшое парусно-гребное беспалубное рыбачье судно. Стр. 179. Атоллы — кольцеобразные коралловые острова, представляющие собой узкую полоску суши, окружающую внутреннее, относительно мелководное озеро — лагуну. Рейд — водное пространство в пределах порта или в непосредственной близости от него, удобное для якорной стоянки, здесь — открытый рейд, то есть рейд, не защищенный берегом либо оградительными гидротехническими сооружениями. Стр. 183. Планшир (планширь) — брус скругленного сечения, окаймляющий на мелких судах борт судна, а на более крупных судах верхнее продолжение борта — фальшборт — или металлические трубчатые поручни.
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ
Роман «Майкл, брат Джерри» впервые опубликован в журнале «Космополитен мэгэзин» в мае — октябре 1917 года и в том же году вышел отдельным изданием (Нью-Йорк Макмиллан).
Стр. 187. Кубрик — общее жилое помещение для команды на судне. Стр. 190. Сходни — переходные мостки с судна на берег, состоящие из досок с набитыми на них брусками — ступеньками. Иллюминаторы — круглые окна на судне. Стюард — буфетчик на судне. Кварта — мера жидких и сыпучих грузов, равная около 1,13 литра, то есть одна четверть галлона, который составляет 4,54 литра. Стр. 198. Мафусаил — по библейской легенде, старец, проживший около тысячи лет. Стр. 216. Кочегарка — помещение, в которое выходят толки судовых котлов и где работают обслуживающие их кочегары. Стр. 217. Трап — здесь забортный, то есть убирающаяся наружная лестница, прилегающая к борту, по которой люди спускаются и поднимаются на судно с берега или шлюпок. Стр. 222. Боцман — старшина так называемой палубной (в отличие от машинной) команды на судне, то есть непосредственный начальник всех матросов. Стр. 233. Ранг — здесь класс корабля. Пр сравнению с крейсерами 1-го ранга крейсеры 2-го ранга имели меньшие размеры, броню и вооружение. Стр, 234. Старый моряк — герой одноименной поэмы английского поэта-романтика С. Кольриджа (1772–1834), в которой с большой образной силой повествуется об испытаниях, выпавших на долю мореплавателя. Герой поэмы — «Старый моряк» — осужден на вечные мучения за то, что убил альбатроса (по старинным поверьям моряков, это приносило несчастье). Кают-компания — помещение для приема пищи и отдыха начальствующего состава судна. Стр. 236. Фрахт — плата за перевозку грузов или наем судна. Здесь в значении «аренда». Иногда слово «фрахт» употребляется также в смысле «груз». Стр. 237. Пеленг — направление по компасу с судна на какой-либо предмет. Прокладывая на карте пеленги двух или более ориентиров, определенные одновременно, получают в их пересечении место судна. Крюйс-пеленг — способ определения места судна по двум разновременным пеленгам одного и того же предмета, курсу и расстоянию, пройденному за время между наблюдениями. Стр. 240. Курс — направление, по которому идет судно. Различают курс по компасу, то есть в какую сторону направлен нос судна относительно частей света (север, юг, запад, восток), и курс относительно ветра, то есть какой угол составляет продольная плоскость судна с линией ветра. Стр. 243. Обводы — очертания корпуса судна. Полуют — возвышенный уступ (надстройка) в кормовой части судна. Под полуютом обычно располагались каюты капитана и его помощников. Стр. 246. Вахтенный (судовой) журнал — книга, в которую в хронологическом порядке из вахты в вахту записываются все обстоятельства плавания судна и в том числе его местонахождение и курс. Стр. 247. Банка — здесь сиденье в шлюпке. Стр. 248. Румпель — рычаг, насаженный на верхнюю часть (голову) руля, с помощью которого руль поворачивают. Стр. 251. В лоне Авраамовом — библейское выражение, обозначающее награду за праведную жизнь. Стр. 254. Папуас — одно из названий меланезийцев. Стр. 256. Девиация (магнитного компаса) — отклонение магнитной стрелки компаса на судне от положения, которое она занимает на земле (магнитный меридиан), под воздействием судового железа. Склонение (компаса) — отклонение магнитной стрелки компаса от истинного меридиана вследствие того, что магнитные силовые линии Земли не совпадают с ними по направлению. Склонение компаса не одинаково в разных местах земного шара и изменяется со временем. Марс (марсовая площадка) — на парусных судах площадка, устраиваемая в месте соединения мачты с ее верхним продолжением — стеньгой — и служащая для разноса в сторону бортов судна вант (стень-вант), удерживающих последнюю с боков. Салинг (салинговая площадка) — на парусных судах площадка в виде рамы, устраиваемая в месте соединения стеньги с ее верхним продолжением — брам-стеньгой — и служащая для разноса в сторону бортов судна вант (брам-стень-вант), удерживающих последнюю с боков. Фок-мачта — передняя мачта на двух- и более мачтовом судне (за исключением так называемых «полуторамачтовых» судов типа кеча и йола, на которых передняя, то есть большая, мачта называется грот-мачтой). Реи — длинные горизонтальные поперечины, подвешенные за середину к мачтам и служащие для крепления верхнего края прямых трапециевидных парусов. Фор-марса-рей — рей второго снизу, а здесь, то есть на марсельной шхуне, — первого снизу прямого паруса — марселя на фок-мачте. Выбленки — веревочные (иногда деревянные или из металлических прутков) поперечины, соединяющие рядом стоящие тросы-вантины, образующие ванты, и служащие ступеньками для подъема на мачты и их верхние продолжения — стеньги. Стр. 257. Триангулировать — определять высоты предметов или расстояния на земной поверхности путем построения треугольников по их известным, то есть поддающимся измерению, элементам. Навигация — здесь в широком смысле этого слова, то есть штурманская наука о вождении судов. В узком смысле этого слова раздел этой науки, излагающий методы вождения и определения на карте места судна по береговым предметам и путем расчета пройденного расстояния и направления. Прокладка курса — нанесение на карту пути корабля и пройденного расстояния и направления. Счисление — расчет местонахождения — корабля по его курсу и пройденному расстоянию. Хронометр — пружинные часы тщательной выделки с особой точностью и равномерностью хода, являющиеся на судне хранителем гринвичского времени, знание которого необходимо для определения долготы места. Стр. 259. Левиафан — по библейскому преданию, морское чудовище. Лоцманское судно — судно, обычно небольшое, служащее для доставки лоцманов на прибывающие с моря суда и снятия их с уходящих в море судов после того, как их лоцманская проводка закончена. Золотые ворота — пролив, соединяющий бухту Сан-Франциско с Тихим океаном. Стр. 260. Гарпунер (гарпунщик) — специалист по бою китов и другого крупного морского зверя гарпуном, то есть тяжелой острогой, имеющей острый наконечник с отогнутыми назад зубьями, которые, попадая в тело животного, увязают в нем. Уравнение времени — разность между временем, определенным по условному «среднему» Солнцу (по которому идут наши часы) и истинному, то есть действительному Солнцу, в связи с тем, что оно меняет свое положение на небе неравномерно, вследствие эллипсовидности земной орбиты. Аберрация — кажущееся смещение звезд вследствие того, что за время, пока свет от них доходит до Земли, она успевает сделать несколько оборотов по своей орбите и находится уже в другой ее точке, с которой звезды усматриваются в каком-то отличном от первоначального положении. Сомнеровы линии — линии положения, в пересечении которых должно находиться судно, согласно наблюдениям светил и расчетам, выполненным по так называемому способу равных высот. Этот способ, основанный на том, что с определенных мест на земной поверхности, имеющих форму кругов, светила наблюдаются на одной высоте над горизонтом, был случайно открыт в 1837 году американским капитаном Сомнером, а затем доработан и усовершенствован рядом русских и иностранных мореплавателей. Стр. 262. Пайол — дощатый настил, покрывающий дно судна. Стр. 266. Бауэри, Ист-Сайд — районы Нью-Йорка, заселенные беднотой. Стр. 267. Шпангоуты — поперечные ребра корабельного скелета — набора. Стр. 272. Иштар — характерное для Лондона вольное обращение с историческими реалиями: это одно из имен богини плодородия и любви у древних вавилонян и ассирийцев, которое никак не могло принадлежать египетской девушке. Стр. 274. Суперкарго — лицо, ведающее на судне приемом и сдачей перевозимых грузов. Стр. 279. Кормовой подзор — нависающая над водой часть кормы судна. Фок-ванты — ванты передней мачты (фок-мачты). Стр. 280. Дредноут — английский броненосец, явившийся прототипом класса самых больших и мощных военных кораблей — линкоров. Здесь образное сравнение кита с этим кораблем. Шкафут — средняя часть верхней палубы. Стеньги — верхние продолжения мачт. Названия стеньг зависят от названия мачт: например, стеньга фок-мачты называется фор-стеньгой, стеньга грот-мачты — грота-стеньгой, однако стеньга бизань-мачты называется крюйс-стеньгой. Бизань-ванты — ванты задней мачты (бизань-мачты). Стр. 282. Фальшборт — продолжение борта, возвышающееся по краям открытых палуб для защиты от воды и предохранения людей от падения за борт. Форштевень — вертикальный или слегка наклонный брус, образующий острие носа судна и соединенный внизу с килем. Мартин-штаг — снасть, удерживающая снизу переднее продолжение бушприта — утлегарь — и доходящая до имеющейся в нижней части бушприта вертикальной распорки — мартин-гика. Стр. 283. Бушприт — наклонный или горизонтальный стержень, торчащий с носа судна и служащий для крепления тросов — штагов, удерживающих мачту спереди, и вынесения вперед косых треугольных парусов — кливеров и стакселей. Бакштаги бушприта — (ватер-бакштаги и утлегарь-бакштаги) — снасти, удерживающие с боков бушприт и его переднее продолжение — утлегарь. Фор-стень-штаг — снасть, удерживающая спереди верхнее продолжение фок-мачты — фор-стеньгу. Стр. 284. Вывалить шлюпку — развернуть поворотные балки, на которых висит шлюпка — шлюпбалки, таким образом, чтобы шлюпка оказалась висящей не над палубой, а за бортом над водой. Найтовы — тросовые и цепные крепления. Шпигаты — отверстия в фальшборте или палубном настиле для стока за борт воды, попавшей на палубу. Подобрать — подтянуть. Травить — ослаблять, отпускать, выпускать. Завернуть — здесь закрепить ходовые, то есть свободные, концы талей, завернув их восьмерками за специальные приспособления — утки, нагели или кнехты. Буртик — полукруглая рейка, окаймляющая снаружи борт шлюпки для предохранения ее от случайных ударов. Стр. 285. Рундук — сундук. Стр. 286. Рулевой привод — тросовая, цепная или другая механическая передача, посредством, которой вращение штурвала передается рулю. Стр. 288. Отваливать — отходить от причала или от борта другого судна. Стр. 290. Вант-путенсы — вертикальные металлические полосы, цепи или прутья, укрепленные с наружной стороны борта судна и служащие для крепления к ним нижних концов вант. Норд-норд-ост четверть к осту — направление по компасу, означающее северо-северо-восток и еще четверть румба к востоку (1 румб равен 1/32 части окружности горизонта или углу в 11 1/4°). Бейдевинд — курс судна, при котором ветер дует ему несколько спереди. Различают полный бейдевинд, когда ветер почти боковой, и крутой бейдевинд, когда судно идет под более острым (порядка 45°) углом к линии ветра. Стр. 292. Загребной — гребец, сидящий на загребных веслах, то есть на первой паре весел, считая от кормы шлюпки. По этому гребцу равняются все остальные. Штаги — снасти, расположенные в продольной осевой (диаметральной) плоскости судна и удерживающие спереди одну из деталей его рангоута: мачты, стеньги, бушприт и т. п. Стр. 294. Ноев ковчег — по библейскому преданию, праведник Ной спасся от потопа в закрытом корабле-ковчеге, который пристал у вершины Арарата, когда вода стала спадать. Стр. 296. Паровая шхуна — шхуна, оснащенная, кроме парусов, также паровым двигателем. Ошвартоваться — подойти вплотную и закрепиться тросами к причалу, берегу или другому судну. Здесь в переносном смысле, то есть подъехать на машине к подъезду отеля. Стр. 298. Каботажное плавание — прибрежное плавание, сообщение между портами одной и той же страны. Стр. 299. Водоизмещение — вес судна, равный, согласно закону Архимеда, весу вытесненной им воды. Стр. 314. Пиоррея — гнойное воспаление десен. Стр. 331. …барбадосский негр — потомок африканских рабов, которых в XVII–XVIII веках в большом количестве ввозили на остров Барбадос, принадлежавший тогда Англии. Стр. 347. «Титаник» — океанский пассажирский пароход, погибший в 1912 году в Северной Атлантике, вблизи о-ва Ньюфаундленд, в результате столкновения с плавучей ледяной горой-айсбергом. Стр. 406. Сведенборг, Эммануил (1688–1772) — шведский богослов-мистик. На рубеже XIX–XX веков его мистическое учение привлекло интерес писателей-декадентов. Стр. 410. Блэйк. — Лондон имеет в виду английского поэта Уильяма Блэйка (1757–1827). Стр. 411. Элла Уилер Уилкокс (1850–1919) — американская писательница, автор сентиментальных стихов и романов. Байрон, Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) — великий английский поэт. Стр. 438. Экспедиция… Грили. — Адольф Вашингтон Грили (1844–1911) — начальник американской полярной экспедиции (1881–1883 гг.).
КРАСНОЕ БОЖЕСТВО
Сборник «Красное божество» впервые вышел в 1918 году (Нью-Йорк, изд. Макмиллан). Рассказ «Принцесса» впервые опубликован в журнале «Космополитен мэгэзин» в июне 1918 года. «Красное божество» — в журнале «Космополитен мэгэзин» в декабре 1916 года. «Как аргонавты в старину» — в журнале «Херст мэгэзин» в марте 1917 года. «Бесстыжая» — в журнале «Космополитен мэгэзин» в декабре 1916 года.
Стр: 453. Гюстав Доре (1833–1883) — замечательный французский рисовальщик. Стр. 455. Сидел ниже солонки. — В средневековой Англии на рыцарских пирах посередине стола ставилась солонка; хозяин замка и наиболее почетные гости сидели выше солонки, остальные — ниже. Здесь сказано аллегорически. Стр. 456. Киплинг, Редиард (1865–1936) — английский поэт и писатель, которого высоко ценил Дж. Лондон. Стр. 457. Вильгельм Завоеватель — герцог Нормандский, который в 1066 году нанес решительное поражение королю англосаксов Гарольду. После этого Вильгельм завершил завоевание Англии и положил начало англо-нормандскому государству. Стр. 458. Каноэ — лодка, сделанная из целого дерева. Сдвоенные каноэ — (катамараны) — двухкорпусные туземные лодки, распространенные среди жителей юго-западной части Тихого океана. Стр. 459. Данте Алигьери (1265–1321) — великий итальянский поэт. Имеется в виду его юношеская поэма «Новая жизнь», в которой Данте воспел свою любовь к Беатриче Портинари. Сажень (морская или английская) — равна 6 футам, или 1,83 метра. Сажень семифутовая (сухопутная) равна соответственно 7 футам, или 2,14 метра. Стр. 460. Фидий (V в. до н. э.) и Пракситель (IV в. до н. э.) — великие скульпторы Древней Греции, которым приписываются многие произведения античного искусства, сохранившиеся до нашего времени. Стр. 461. Гризли — исполинский серый медведь, обитающий в некоторых районах Северной Америки. Стр. 462. Линкор — линейный корабль. Стр. 465. Диана — в римской мифологии богиня покровительница охоты, воплощение девственной чистоты; культ Дианы связан также с культом Луны. Иногда изображалась в виде девушки с луком и стрелами, окруженной гончими. Стр. 481. Новый Ганновер — один из островов Меланезии. Стр. 498. Скрижали — по библейской легенде, заповеди бога, начертанные на каменных таблицах и переданные иудейскому народу его вождем — Моисеем. Стр. 504. Аргонавты — греческие герои, совершившие на сказочном корабле «Арго» плавание в Колхиду за Золотым Руном. В основе этого предания лежат исторические факты. Патагонская… горячка. — В конце XIX века возникли ложные слухи о богатых залежах золота в Патагонии (Южная Америка), которые стали причиной искусственного оживления на американской бирже. В Патагонию хлынули тысячи золотоискателей. Стр. 521. Фордевинд — здесь курс, при котором ветер совершенно попутный, то есть дует прямо в корму судна. Словом фордевинд называют также поворот на парусном судне, при котором оно переходит линию ветра кормой. Румб — деление окружности горизонта, принятое в старых морских компасах. 1 румб равен 1/2 части окружности, или углу в одиннадцать с четвертью градуса. Это деление сохранилось и в современных морских компасах наряду с делением окружности на градусы, так как удобно для приближенной оценки направления. Стр. 537. Кито — главный город Эквадора. Стр. 538. Чимборасо — вершина в Андах Южной Америки. Стр. 553. Писарро, Франсиско (1471–1541) — испанский конкистадор, завоевавший древнее государство инков в Перу и некоторые другие области Южной Америки. Писарро отличался жестокостью и коварством. Солдаты Писарро разрушили и погубили большое количество памятников древней перуанской культуры. Индейцы оказали испанцам отчаянное и длительное сопротивление. Многие предметы религиозных культов, изготовленные из золота и серебра, индейцы прятали от завоевателей. Предания об этих индейских кладах были причиной безуспешных попыток разыскать их. Одно из этих преданий пересказывает Дж. Лондон.
СОДЕРЖАНИЕ
ДЖЕРРИ-ОСТРОВИТЯНИН. Перевод А. Кривцовой...5
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ. Перевод Н. Ман...187
КРАСНОЕ БОЖЕСТВО Принцесса. Перевод М. Тарасовой...451 Красное божество. Перевод М. Тарасовой...479 Как аргонавты в старину. Перевод В. Курелла...504 Бесстыжая. Перевод Э. Березиной...534
П р и м е ч а н и я...554
Последние комментарии
16 минут 10 секунд назад
16 часов 20 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 11 часов назад