Кирилл Веселаго Призрак оперы N-ска
 [1]
[1]
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В СОРТИРЕ
(предисловие издателя)
Многие наши уважаемые горожане, интересующиеся историей родного N-ска, конечно же, обращали внимание на руины здания, отдаленно напоминающие старинный театр, что находятся на одной из исторических площадей в самом центре нашего города. Но, наверное, совсем немногим известно, что в здании этом действительно когда-то располагался N-ский государственный театр оперы и балета имени Дзержинского, в еще более отдаленные времена именовавшийся Императорским и к моменту падения имевший более чем двухсотлетнюю историю. Точно причины разрушения театра историкам выяснить так и не удалось; одни утверждали, что это было делом рук так называемой мафии (подобные названия носили в то время организованные группы преступников, распространенные повсеместно); другие уверяли, что западногерманский летчик-шпион, пролетая на сверхнизкой высоте, врезался в театр — после чего самолет взорвался вместе со всем боезапасом; третьи же склоняются к мнению, что сам дух театра, чем-то прогневавшись, однажды оставил храм искусства — и оказавшись в распоряжении торговцев, тот вскоре и рухнул. Последняя версия, на взгляд издателя, имеет под собой больше реальных оснований — ибо в пользу подобного происшествия, считавшегося в те далекие от нас годы чуть ли не мистическим, свидетельствуют скупые хроники сохранившихся газет. Так или иначе, но к единому мнению в этом вопросе исследователям прийти так и не удалось — и посему издатель решился на публикацию данного документа — который, вне всякого сомнения, является историческим свидетельством современника, пусть и не всегда объективным. Происхождение самого источника достаточно туманно: рассказывают, что по настоянию художественного руководства театра, использовавшего свои связи в правительстве города и страны, книга была запрещена, а автор был вынужден скрыться за границей. Несколько копий, продолжавших, тем не менее, ходить по рукам, практически не сохранились: сейчас они находятся в барокамерах спецхрана N-ской публичной библиотеки, зачитанные до дыр. И лишь одна копия — также в плачевном состоянии, но с полностью сохранившимся текстом — была чудом найдена энтузиастами-археологами, проводившими раскопки в руинах на площади Бесноватого. Книга находилась за писсуаром туалета, располагавшегося в оркестровом фойе: как удалось установить ученым, заходивший в туалет музыкант, подойдя к писсуару, оказывался спиной к телекамерам службы наблюдения и охраны художественного порядка Дзержинского театра; таким образом, чтобы не вызвать подозрений, за один визит музыкантам удавалось прочитывать лишь по нескольку фраз: после того, как посетивший туалет негромко рассказывал о прочитанном коллегам, за информацией к писсуару отправлялся следующий. Конечно, времена с тех пор изменились очень сильно; тем не менее, издатель видит и свою скромную заслугу в том, что Вы, уважаемый читатель, сможете сегодня ознакомиться с трудом неизвестного автора в условиях куда более комфортабельных, чем, в свое время, работники N-ского театра имени Дзержинского.издатель.
УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

Автор считает необходимым заявить, что все персонажи, события и места событий в данном произведении являются вымышленными. Всякое сходство с реальными фактами, лицами, именами и т. п. является случайным и вызвано лишь прихотью художественного образа, но не умыслом автора. Ответственность за всевозможные ассоциации с реальными людьми, оперными труппами, певцами или дирижерами, возникающие во время чтения, целиком и полностью ложится на лицо, в воображении которого помянутые ассоциации и возникают.Вообще говоря, «театральный дом» — это ни что иное, как страшное в своем убожестве произведение безвестного советского архитектора (или, что более вероятно — «авторского коллектива»), возникшее в начале восьмидесятых на месте добротного старого дома на углу Парковой и Ипполитова-Иванова. Так случилось, что заселили дом работниками Дзержинского и Малого оперного театров — музыкантами, солистами, хористами и так далее. Живут там, конечно, и филармонические музыканты, и рабочие сцены, и люди, вообще искусства чуждые и к прекрасному равнодушные. Но городской фольклор — вещь серьезная; и если окрестили дом в молве народной театральным — ничего уж не поделаешь. Поэтому когда таксист, подъехавший по заказу, благоговейно спросил меня: «Правда ли, что в этом доме живут только артисты Дзержинского театра?» — я, ни секунды не раздумывая, ответствовал: «Чистая правда»… Известно, что «природа отдыхает на детях великих людей» — но мало кто знает, что на детях артистов даже невеликих она просто «оттягивается». Так, благодаря жизнедеятельности этих «цветов жизни» подъезд наш смахивал на служебные ворота зоопарка; лифт также был испакощен и изгажен, а стены его исписаны похлеще любой кабинки в общественном туалете — детишки, знаете… Но однажды, войдя в лифт, я решил было, что просто ошибся домом: кабина сияла чистотой, стены, двери и пол были отдраены до невообразимого блеска. Прошел день, второй — грязи не было. Войдя же в лифт на третий день и обнаружив его таким же кристально чистым, я нажал кнопку своего этажа, поднял голову… и обомлел. Над дверьми красовалась строгая и нарядная табличка с большим православным крестом:Афвтор.
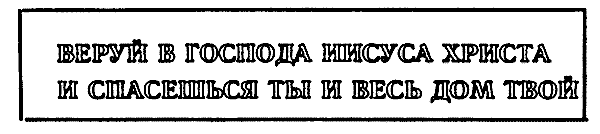
ВЕРУЙ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА И СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ВЕСЬ ДОМ ТВОЙИ вот тогда-то я и решил записать некоторые истории, предания и были, которых порою и самому доводилось бывать свидетелем или участником: просто на тот случай, если все-таки ни дому моему, ни мне спастись не суждено. Надеюсь, что читатель вполне благосклонно отнесется к тому, что действие моих рассказов будет, в основном, происходить за пределами нашего театрального дома и двора: ведь для актера театр — это его жизнь; кроме того, вся наша жизнь, как всем хорошо известно — это театр.
Кстати, тайна внезапного «очищения» лифта выяснилась очень скоро: наш сосед по лестничной площадке, тенор Мычалов (хороший парень, которому Всевышний, помимо прекрасного драматического тенора, даровал, увы, еще и одну пагубную страсть: чрезмерную любовь к выпивке… Но не будем о грустном). Так вот, Мычалов, возвращаясь домой (в подпитии, заметим, весьма умеренном), поймал в лифте «молодого бойца», увлеченно орудовавшего «перманент-маркером». Надо отдать тенору должное: он не стал читать мальчику нудных моралей, но, пребольно и крепко схватив его за ухо, отвел подростка в соседнюю парадную к родителям, где сообщил примерно следующее: если завтра утром он, Мычалов, по дороге на репетицию не обнаружит лифт в первозданной чистоте, то родителям юного любителя наскальных рисунков не придется далеко ездить, чтобы возложить цветы на могилку любимого чада, поскольку похоронен тот будет прямо на газончике во дворе — уж это он, Мычалов, может им твердо пообещать… Непедагогично? Может быть. Но, как выяснилось, очень действенно.
* * *
Наверное, совсем немного найдется людей, которые на безыскусно и прямо поставленный вопрос: любите ли вы итальянские песни? — ответили бы отрицательно. Жителям же нашего театрального дома ничего иного, как крепко полюбить итальянские песни и арии, просто не оставалось — в противном случае жизнь их превратилась бы в пытку. Судите сами: душная летняя ночь. Все окна широко открыты. Вдруг… Что это?! «Su-u-l mа-а-а-rе lucica, l'astro-o-o d’arge-e-ento…» — тишину разрывает истошное, надрывное пение. Воистину: «Этот стон у нас песней зовется»… Случайный прохожий вздрагивает и ускоряет шаг. В доме же нашем никто и бровью не ведет: все знают, что у Севы Трахеева, обладателя сказочной красоты и мощи баритона, нынче просто очередной запой. Надо сказать, что петь он любит несказанно; пламенную страсть к вокалу он пронес с детских лет через всю жизнь, и отбить эту потребность к пению не смогли даже долгие годы работы в советских оперных театрах. Человек дарования стихийного и нрава неукротимого, он познал в жизни немало невзгод и терпел множество лишений; неспособный к пресмыкательству и интригам (то есть основам выживания в оперной труппе), все беды он топил в вине… Алкоголь утешал и — в силу, видимо, прихотливого побочного воздействия на организм — обострял любовь к песне. Богатырское здоровье позволяло Севе пить (и, соответственно, петь) неделями. Обитатели нашего двора привыкли к его пению и никак на него не реагировали: так человек, долгие годы живущий около железной дороги, не замечает грохота многотонных составов, проносящихся в десятке метров от окон, но может проснуться ночью оттого, что в положенное время за окном не прошумел курьерский… Однажды белой ночью, где-то в начале четвертого, когда над домом привычно неслось «Пою тебе, Бог Гименей», на весь двор вдруг гулко прогремел пистолетный выстрел — и Севино пение прервалось на полуслове, полуноте… «Севу убили-и-и!!!» — раздался истошный вопль из какого-то окна. Торопливо вооружаясь — кто палкой, кто топором — и спуская с поводков собак (коих в нашем доме было великое множество), полуодетые артисты высыпали во двор. Слава Богу, все оказалось не так трагично: просто тенор Стакакки Драчулос (по природе своей человек весьма прижимистый), хорошо знавший широкую натуру Трахеева и посему частенько заходивший к Севе выпить на халяву, изрядно окосев после четырех рюмок, пальнул в окно из недавно купленной игрушки — газового пистолета «Вальтер». Игрушка нравилась Стакакки; он казался себе мужественным с пистолетом, и поэтому таскал его везде с собой, засунув в штаны. Сева же, певший вдохновенно и беспечно, как глухарь, просто поперхнулся воздухом от неожиданности… Шок вскоре прошел, Сева выпил еще, запел вновь — и встревожившийся было театральный дом вновь погрузился в сон.* * *
Но наступает утро, и жизнь в доме слегка утихает: все разбредаются по делам или уходят в театр. Кстати, почему бы и нам туда не пойти? И пусть дилетанты и театралы считают, что театр начинается с вешалки — мы-то с вами знаем, что в театре практически все начинается (а порой и заканчивается) в закулисном буфете… В артистическом буфете нашего N-ского оперного театра накурено и немноголюдно — днем, когда репетиции и индивидуальные уроки в самом разгаре, здесь не увидишь такой толпы, как, скажем, вечером в антракте «Аиды», когда за чашечкой кофе и тарелкой полуразложившегося салата в очередь выстраиваются, как в чистилище, люди всех театральных сословий: оркестр, рабочие и машинисты сцены, хор, рота миманса, солисты… Их костюмы и грим только подчеркивают сходство с Судным днем… Тем не менее, жизнь в буфете не угасает даже и во вполне заурядные дни: народ приходит, уходит, курит, попивает кофе и другие напитки — общается, одним словом. Так и сейчас — за столом, что в углу под окном, сидят художник Вано Джапаридзе и тенор Армен Матевосян. Вот в дверях появился значительный силуэт баса Овлура Бишкекова; обозрев горизонт, он валко направляется к стойке. Маленький и тучный Матевосян приветствует его взмахом короткой руки и возглашает с сильным армянским акцентом: — Пиривет, Овлур-джян! Вазми мне малэнький двойной! — И, продолжая, видимо, только что начатый разговор, вновь обращается к Джапаридзе: — Ну, так как сыездил, Вано? Вано отвечает не торопясь, через паузу. Говорит медленно и важно, изредка затягиваясь сигаретой: — Харашо съездил. Нармально. — (Вновь через паузу). — Остров вот в Монте-Карло купил… Подошедший с двумя кофе Овлур, услышав последнюю фразу, как-то неторопливо (бас все-таки!) удивляется: — Как — остров? Большой?! — Да нэт. Нэ очэнь… Ну, гора там, панимаешь… Гавань, конечно… — (Помолчав, значительно): — Хароший, в общем, остров такой… Овлур (с уважением): Дом будешь строить? Матевосян (утвердительно): Виллу! Вано (помолчав): Да… Замок… Сам проектирую. Внезапно плавное течение беседы прерывается: баритон Рыгалов, (за минуту до этого, пробираясь к столику, шумно и весело приветствовавший буфетную публику), бурно врывается в разговор: — Здорово, мужики! Привет, Овлурчик; привет, Арменчик! Ха, здорово, Вано! Тыщу лет тя не видел! Ты чо, правда, я слышал, остров купил?! Ну, блин, ты дал! — (Хохочет радостно и громко). — Блин, молодец ваще — знай наших! А где остров-то, Вано? За Вано — значительно и скорбно, как бы намекая, что чрезмерное веселье и панибратство здесь вовсе неуместны, отвечает Матевосян: — В Манты-Карьло. Рыгалов: — Вот это да! (Восхищенно). — Эт, блин, я понимаю! В городе, сучье вымя, миллионеров… Блин! Как денег-то хватило? Неужто, Вано, ты уже и взаправду миллионером заделался?! А? — Ну, нэ совсем ешо полный миллионер… — (Верный себе, Вано отвечает веско и медленно). — Ну так, нармално… Всэ бабки сразу нэ отдал — в крэдит взял. — (Помолчав): — Надо ж и на страитэльство аставить — остров, сам пайми: баржи, краны, буксиры… (Затянувшись сигаретой и выдержав еще одну паузу): — вот, мырамор сечас заказал. Из Италии. Каррарский. Пирихожую, гараж и сауну атыделать хачу. Матевосян горячо замечает: — Паравильно, Вано-джян! Толка там и нада — а то в жылых памищеньях мырамор нихарашо; халадить, эле, будит… — Да, канэшно… — (Задумчиво и веско): — В кабинэте будэт малахыт. Малахыт и дуб. Рэзной. (Помолчав). Мареный. На некоторое время воцаряется благоговейная тишина. Вдруг Рыгалов, как будто что-то вспомнив, пучит глаза, поперхнувшись кофе, бурно кашляет, и, как следует не прокашлявшись, с сипом и хрипами чуть ли не кричит возбужденно: — Ой, слушай, Вано! Как же так? Ведь этот Монте-Карло — это ж, блин, город-государство! Маленький город! Там же, блин, островов-то нету! — И ошарашенно хлопая глазами, обводит взглядом компанию. На некоторое время повисает неопределенное молчание. Затем Вано, невозмутимо закурив очередную сигарету: — Дыля каво малэнький город, а дыля каво и нэт… Сам сказал — «город миллионеров»; а если ты с дэньгами, дыля тэбя все найдут… Рыгалов (неуверенно): — Да, конечно… Но я и карту смотрел, помню — кроме Корсики, нет там островов поблизости! — Эле, слющай, ара! — взрывается Матевосян. — Так тэбе там все так на карте и нарысуют! Если чилавек владэл сэбе островом, а потом пиродать захотел — зачем ему эти карты-шмарты высякие?! Вано: — Асобинно савецкий карта… Ни к чему! Долго молчавший Бишкеков решил, наконец, вставить и свое слово в беседу: — Они, это… Еще и деньги платят, чтоб на картах не рисовали — на случай атомной войны! Нету на карте острова — кто тогда на пустое место бомбу бросит?! Тем более, атомную — штука дорогая…* * *
А вот у входа в кофейню возникает еще один персонаж: знаменитый тенор, обрусевший грузинский грек Стакакки Драчулос. Он сразу привлекает к себе внимание громкой, как овация, отрыжкой, что слегка шокирует даже видавших виды оперных зубров. Затем, крайне удовлетворенный результатом, обведя буфетную публику взглядом мелких и близко посаженных свинцовых глазок, Стакакки присаживается к столику, за которым сидят пианистка Марина Барсук, баритон Павел Бурело и безымянная студентка Консерватории. Солист театра Бурело, молодой и, как принято говорить, «подающий надежды», подобострастно и суетливо запричитал: — О-о-о! Ста-канушка! Стакакки Виссарионыч, дорогой! Садись, садись, родной! Честь-то какая! Я щас кофейку принесу. Или, может, пивка? Однако Драчулос, совершенно не обращая внимания на Бурело, адресуется исключительно к Марине: — Ну что, Машенька? Пойдем, поучим? — И, швыряя на стол пухлую папку нот: — Надо завтра десять этих сраных романсов на радио записать… Воспользовавшись секундной паузой в разговоре, Бурело вновь пытается овладеть вниманием соседей по столику. Говорит он с ярким малороссийским акцентом, нараспев и изо всех сил стараясь казаться веским, значительным, многоопытным и авторитетным: — Мариночка, еще кофе? А бутербродик? А пирожное? А чего — свежие, знаешь, таки-и-ие… Я сегодня брал, перед репетицией — такие, знаешь, гарные, да… А чево тебе худеть-то? Брось! Я возьму! А вам, Стакакки Виссарионыч? Пивка? Кофе? — Да принеси ты пива, только не тренди здесь! — и Драчулос бросил, не считая, на стол горстку мятых денег. Не взяв денег, Бурело поспешно направился к стойке. — Стаканчик, зачем тебе эту макулатуру петь понадобилось? — спросила Барсук. — Да, понимаешь, композитор этот, Дурков, просит меня уже полгода… Друг все-таки — неудобно отказать… Ты ведь, Маша, знаешь: я для друга всегда сделаю все, что только могу…* * *
На самом деле Стакакки Драчулос несколько кривил душой, рассказывая концертмейстеру Барсук о глубине своих дружеских чувств. Просто приятель его, композитор Дурков, работал старшим редактором в музыкальном издательстве «Сумбур». Лавры же исследователя отечественной музыки не давали Драчулосу покоя — и его книжка «Я вам спою романс чудесный», написанная слогом несколько нудным (но с огромным воодушевлением), готовилась к печати в помянутом издательстве как бы в порядке негласного обмена на фондовую запись романсов другого незаметного творца. Творчество вообще составляло стержень существования Стакакки. В его представлении творчеством являлось все то, что как-то касалось искусства и приносило творцу хорошие деньги. Так, немало сил он потратил на достижение почетных званий, лауреатских регалий и разнообразных наград. Надо сказать, что не всегда труды его на этой ниве радовали тучными плодами — и неудачи больно ранили чуткую душу художника. Интриги всякого толка отнимали столько времени, что на работу в театре Стакакки выкраивал время каким-то непостижимым чудом; сам он в связи с этим считал себя (разумеется, небезосновательно) настоящим подвижником русского вокального искусства. Благодаря многоходовым интригам, анализ которых мог бы на несколько месяцев стать источником тихой радости для любителя шахматных задач, Стакакки удалось-таки заполучить степень профессора в N-ской консерватории. Но то ли педагогический дар мастера оказался неизмеримо выше уровня убогого российского студента, то ли (как талдычат злые языки-завистники) дара этого просто в наличии не оказалось — но на поприще учителя сольного пения лавров Драчулос не снискал. В лучшем случае ученики из его класса попадали в хор, в худшем — в тюрьму. Но подлинный художник (а Стакакки — разумеется! — относил себя именно к ним) никогда не пребывает в унынии. Воспользовавшись «добрыми знакомствами», Драчулос (успев ухватить те годы, когда огромные тиражи пластинок, равно как и преизрядный гонорар исполнителю обеспечивало советское государство) записал пару десятков дисков — сплошь из русских романсов. Романсы были спеты, как говорится, «с листа»; множество записей, кроме поверхностного и неряшливого исполнительского подхода, были еще и откровенно фальшивы. Стакакки «вернул к жизни», как указывалось на конвертах пластинок, «многие забытые шедевры русской музыки». (Как мог легко убедиться любой слушатель, забытые вполне заслуженно)… Кроме того, тенор нашел где-то в подвалах Публички неизданные рукописи Танеева — и, вкупе с многими опусами Козловского, Аренского, Алябьева и Римского-Корсакова, исполнением своим похоронил их вновь. И теперь уже, видимо, навсегда.* * *
Впрочем, оставим на время буфет и пройдемся по театру. Из зрительного зала доносятся какие-то звуки: это идут последние репетиции перед премьерой спектакля «Кащей Бессмертный». Режиссер-постановщик Арык Забитов носится по сцене, кричит и машет руками. «Кащей» — его дебют в качестве постановщика на N-ской сцене; вообще-то Забитов закончил консерваторию города Люксомухинска по классу большого барабана — но, к сожалению, играть на нем так и не научился. Тогда, после непрерывного (в течение трех месяцев) просмотра видеокассеты с записью дзеффиреллиевской «Тоски», он решился выступить в качестве режиссера в театре имени Абая (благо, что кунак дядюшки Забитова из райкома все устроил). Постановка имела успех; в местной газете «Слово Абая» маститый критик Агу-Акбар Алим-Заде поместил даже благосклонную рецензию; он особо отметил режиссерский подтекст в сцене, когда бесстыжая оперная дива Тоска поднимает чадру в кабинете Скарпиа — таким образом, близкая смерть распутницы уже предначертана судьбой… Прочтение «Тоски» молодым дарованием не прошло незамеченным в тесном оперном мире — и главный дирижер N-ского театра Абдулла Урюкович Бесноватый, жадный до всего подлинно талантливого, пригласил его для работы. Конечно, принимая во внимание все вышеизложенное, не понять слегка нервничающего Забитова никак нельзя. Хотя, по многим признакам, новая работа должна была принести удачу: тут и интересный дизайн Станислава Плотвички (молодой художник был также замечен в свое время Бесноватым; дирижер буквально переманил Плотвичку из музыкального театра Детских Радостей), участие в спектакле двух молодых звезд N-ска — сопрано Алины Непотребко и меццо-сопрано Полины Хабибулиной; и, наконец, одухотворяющее присутствие за пультом самого Абдуллы Урюковича. Но Забитов все-таки нервничал: во-первых, вызывала некоторые осложнения его блестящая находка в сцене с Буря-богатырем. Согласно замыслу режиссера, одеждам богатыря, бесформенным и рваным, приятное для глаза колыхание должен был сообщить сжатый воздух, с силою исходящий из нескольких труб, удерживаемых сценическими рабочими в кулисах. Но сначала компрессоры заработали почему-то не в ту сторону и втянули в трубы костюм сопрано Непотребко, лишив также последнюю части волос и причинив некоторые легкие увечья на лице. (Можете себе представить, какой скандал устроила примадонна, которая, как назло, в тот момент была дежурной фавориткой Бесноватого)! Затем все басы, исполнявшие партию Бури-богатыря, слегли с простудой, поскольку кто-то из инженеров ошибся при выполнении театрального заказа, и воздух из труб поступал охлажденным до нуля градусов. Добавила хлопот и меццо-сопрано Хабибулина (исключительно, надо заметить, здоровая и роскошная особа), которая во время исполнения арии «Меч мой булатный» так шарахнула жестяным мечом по картонной наковальне, что та разлетелась вдребезги… В довершение всех бед тенор Драчулос (для которого художник Плотвичка придумал оригинальный, очень длинный плащ в виде паутины), зацепившись разок этим плащом за скалу из папье-маше и с грохотом растянувшись на сцене, в выражениях резких и нелицеприятных обрисовал свое отношение как к этому плащу, так и ко всему оформлению спектакля в целом и заявил, что «срань эту» больше не наденет. Когда же художник Плотвичка попытался объяснить певцу художественную идею и свою концепцию дизайна оперы, Драчулос (ну что за человек, ей-Богу!) громогласно, на весь зал, объявил, что из-за гомосексуальной ориентации художника Плотвички все его идеи сводятся, простите, к заднице. Конфуз только увеличился после того, как покрасневший Плотвичка так и не смог объяснить, что же символизирует висящий над сценой огромный и весело раскрашенный круг, яркой линией в центре симметрично поделенный надвое… Мы не будем досаждать творцам праздным шатанием в зале; пусть творческий процесс идет своим чередом. Давайте-ка лучше, смело уподобившись Мусоргскому, продолжим свой променад и заглянем сейчас во-о-он в ту дверь, что светится в глубине боковой ложи, расположенной прямо над оркестровой ямой.
* * *
Как хорошо все-таки быть дилетантом! В противном случае, будь мы работниками прославленного N-ского театра, у нас бы сразу перехватило дыхание, в горле бы возникла неприятная сухость, а в коленях — предательская дрожь. И немудрено: ведь дверь, в которую мы влетели так легкомысленно, прямиком ведет в святая святых N-ской оперы: кабинет главного дирижера Абдуллы Урюковича Бесноватого. Что же, не будем останавливаться. В просторном кабинете непривычно много народу: Бесноватый проводит пресс-конференцию, посвященную началу широко известного и за пределами N-ска фестиваля «Ох ты, ноченька», председателем которого он является вот уже без малого три года. Поэтому неудивительно, что помещение стало тесным от наплыва журналистов и музыкальных критиков. Самого маэстро еще, конечно же, нет — сознание собственных значимости и величия не позволяет ему являться куда бы то ни было, будь то начало спектакля или рейс авиакомпании «Кавказиан Эйрлайнз» — менее, чем с пятнадцатиминутным опозданием. Поэтому давайте-ка пока осмотримся. В плюгавом человечке, согнувшемся под тяжестью огромных, как будто бы «на вырост» сделанных очков в массивной роговой оправе мы без труда узнаем знаменитого критика Шкалика; вот, ближе всех к рабочему столу дирижера, угнездилась известная обозревательница искусств Стика Нижак; скромненько, в углу, сидит молодящаяся оперная критикесса Лора Кацапова, источающая кокетливые улыбки в сторону остальных серьезных критиков, сбившихся у дальней оконечности стола стайкой сальных пиджачков… Кроме них и журналистов из всяческих изданий, нескольким критикам несерьезным, невзирая на строжайшую конспирацию, также удалось просочиться на пресс-конференцию. …За шушуканьем да разговорами время летит быстро — и вот Бесноватый, окруженный стайкой «придворных» (впрочем, за глаза работники N-ской оперы куда более буднично именуют тех «шестерками»), уже как раз входит в кабинет. Бывший тромбонист Позор Залупилов, который ныне, благодаря необычайно гибкой спине и знанию шести предложений по-английски, пребывает в должности менеджера N-ской оперы, суетливо бросается отодвигать кресло, усаживая благодетеля; Арык Забитов несется к вешалке с мятым пиджаком Абдуллы Урюковича; дирижер Кошмар стремится из смежной комнатки к столу со стаканом минералки в руках. Наконец, все успокаивается; Бесноватый, отпив минералки из запотевшего стакана и утерев прыщавый лоб несвежим, мятым платком, начинает пресс-конференцию. — Ну, вы все, вощем-то, знаете, почему мы здесь собрались, — (и Бесноватый, собрав в складки небритые прыщавые щеки, обратил в сторону журналистов одну из специально припасаемых к такому случаю улыбок: обаяние с примесью скромности). — Я много говорить не буду: огромность вклада нашей N-ской оперы в мировую музыкальную культуру с тех пор, как я возглавил труппу, неоспорима и признана на всех континентах. Вы знаете, что тысячи музыкантов, и не только оперных звезд, но и мировой известности исполнителей — таких, как Ицхак Перельман, Маурицио Поллини, Глен Гульд, и так далее, (Бесноватого в его речах часто заносило) — буквально обрывают телефон у моего секретаря, добиваясь чести выступить в рамках наших «шашлык-концертов»… На столе Абдуллы Урюковича вдруг громко затрезвонил телефон. Извинившись, он снял трубку: «Ес, ес, итс ми»… — и собравшаяся в кабинете публика застыла в благоговейном молчании, опасаясь шелохнуться. Дирижер же продолжал разговор. — Ноу, ноу! Ю промизд пэй фор тикет фор май систер ас велл! Вай нот?.. Ху?.. Бат шиз май ассистант… Окэй, тэйк ит фром май гонорар… Вот?.. Вай!?.. Бат артдиректор толд ми эбаут биггер фи, вай ю оффер лесс нау? …Вот? Вэлл, ай эгрид ту плэй ван мор концерт… Окэй, сри мор — итс аб ту ю, бат айм нот гоинг ту луз ивен э цент, ю ноу… Гуд!.. Велл… Окэй! — и Бесноватый положил трубку. — Вот видите! Звонил импресарио Кабалье — она тоже очень хочет спеть «Огненный ангел» в нашем театре… Просто отбою от них нет! — и дирижер вновь утерся платком. — Ну, задавайте вопросы, наверное — а то что я все говорю. Что вас интересует? Все расскажем! — («шестерки», рядком стоявшие вдоль стены, почтительно захихикали). — Скажите, Абдулла Урюкович, — взяла слово обозреватель газеты «У речки» Кадя Ножевникова. — Вот вы говорили, что все западные исполнители буквально рвутся музицировать вместе с вами (Бесноватый в очередной раз собрал прыщи в улыбку из разряда «скромных»). — Но помянутый вами Глен Гульд ведь умер, и уже довольно давно? — Да, разумеется, вы это очень правильно, точно подметили! — горячо заговорил Бесноватый. — Но дело в том, что он… э-э-э… делился этой мечтой в одном из своих интервью… незадолго до смерти! — Однако и широко разрекламированный вами приезд знаменитого Дранко Фирелли, который должен был ставить «Африканку», не состоялся? — не унималась Кадежда. Сальные пиджачки в уголке серьезных критиков укоризненно зашебуршали. — Э-э-э… Видите ли, кандидатуру Фирелли мы отвергли… Да, разговаривали мы тут все долго с коллективом, сомневались… Но пришлось отказать, хотя, конечно, и жаль старика… Несовременен он уже… Я вот вам так скажу, что мы, то есть N-ская опера, уже, так сказать, я прямо скажу, э-э-э… диктуем моду в мире оперном; то есть те хорошие режиссеры, кто у нас ставит, а не наоборот! Вот «Африканку», например, которую вы сказали, будет ставить Арык Забитов — молодой, талантливый, я считаю; ему давно пора… Забитов, все это время стоявший у стеночки и изображавший лицом пристальное внимание, при последних словах Бесноватого встрепенулся, глубоко посаженные глазки его увлажнились, и в безотчетном порыве он метнулся было к дирижеру с явным намерением пасть тому в ноги — но в последний момент все-таки сдержался и лишь строго, по-мужски, поцеловал благодетелю руку. — И последний вопрос от газеты «У речки», — вновь подала голос Ножевникова. — Ведь знаменитый Прочида Фламинго тоже, как выяснилось, проигнорировал ваш фестиваль? («Уймись же, сука!» — простонал мысленно Бесноватый). Но вслух, стараясь казаться невозмутимым, продолжил, криво улыбнувшись: — Это была, так сказать, наша тайна… Но, уж коли вы спросили, я вам, так и быть, расскажу… Дело в том, что Фламинго сейчас безобразно постарел… и поет он очень плохо, да… Голос у него маленький совсем уже, наш оркестр покрыть он не может… И мы, вот тут посовещались все (Бесноватый бросил взгляд на выстроившихся вдоль стенки «шестерок», и те дружно, как по команде, торопливо и согласно закивали головами). — И, в общем, мы кандидатуру его отвергли… Надо уже дать отдохнуть товарищу, одним словом. («Шестерки» захихикали). — Однако, насколько мне известно, Фламинго сейчас успешно поет «Отелло» в Вене и в Ковент-Гарден, — раздался голос одиозного критика Мефодия Шульженко. — И рецензии у него прекрасные! А от участия в вашем фестивале он отказался просто потому, что в это время его ждет новая постановка в «Метрополитен»?.. Из кружочка серьезных критиков послышалось робкое шикание. Кто-то из них, самый отважный (похоже, это был профессор Шкалик), даже пискнул: «Доколе!?» — но тут же, убоявшись собственной храбрости, постарался — благо рост его легко это позволял — затеряться среди засаленных пиджачков коллег. — А чего — Метрополитен? — притворно удивился Бесноватый, — я вообще-то критику никогда не читаю, но могу показать вам статью из очень авторитетной газеты «Гарлем тунайт», где написано, что самое интересное событие в Мет за последние десять… нет, двадцать лет — это выступление N-ской оперы под моим руководством. Да и вообще, я вам так скажу: хватит нам уже преклонения перед Западом! Мы — русский театр, и столько сейчас у нас новых русских имен восходит! Я вам только для примера назову: бас Бишкеков, тенор Мартиросян, молодой певец Дукаев, сопрано Пулавердян, обладатель почетного звания «Лучший актер Вселенной» Коко Мандулов; а Мугамедова! А Тулегилова! А Рахмон-Али-Заде!.. Просто звездный дождь какой-то! Конечно, без меня они ничего не значат и вряд ли чего добьются, но мы должны это учитывать!.. Вот, говорят, что Советский Союз развалился (Бесноватого вновь понесло), но у нас тут он весь — я имею, что все певцы у нас здесь лучшие, я собрал… И потом Советский Союз вновь объединится, но уже в новом, так сказать, виде… И я не хочу ничего такого чтобы очень сказать, говорить тут сейчас — но N-ская опера тут везде будет не последнюю роль сыграть!.. Поток красноречия Бесноватого неожиданно натолкнулся на фигуру дирижера Кошмара, отделившуюся от стены и тут же принявшую очертание вопросительного знака. — Абдулла Урюкович! — пролепетал Кошмар, заикаясь. — У вас сейчас оркестровая на верхней сцене… — И давно? — поинтересовался дирижер. — Сорок минут… — прошептал Кошмар. — А что я дирижирую? — озадаченно наморщил прыщавый лоб Бесноватый. — «Силу судьбы»?.. А, помню, помню! Это где «Паче, паче»?! Так, хорошо… — И Бесноватый обратился к собравшимся: — Как видите, я очень занят; нагрузки у меня такие, что нормальный человек не выдержит; но я выдерживаю. Так что пойду я, надо репетировать. Спасибо, что пришли. — И вдруг, неожиданно громким голосом, закончил: — Пресс-конференция закончена! Аллах акбар! — Аллах акбар! — раздался тихий, нестройный хор шестерок и серьезных критиков. Абдулла направился к выходу; следом за ним устремились: дирижер Кошмар с пиджаком маэстро, дирижер Полуяичкин с партитурой Бесноватого, Арык Забитов с пачкой сигарет и Позор Залупилов с зажигалкой наготове; замыкал процессию секретарь Бесноватого Гиви с ватным тампоном в одной руке и жидкостью от прыщей — в другой. — Фира Николаевна! — послышался голос Бесноватого уже с лестницы. — Раздайте журналистам по бутерброду. С икрой сами знаете, кому давать! — И несший дирижерскую палочку начальник отдела художественной безопасности, потомственный певец Лапоть Юрьев, уходивший из кабинета последним, затворил за собой дверь.* * *
Как мы уже убедились, фигура Бесноватого в N-ском театре наводит ужас почти повсеместно. Возможно, что кое-кто из читателей заинтересовался: откуда же он такой взялся, и каким образом удалось ему воцариться на посту главного дирижера N-ской оперы? А история его проста и в чем-то даже заурядна. Впрочем, судите сами. Родившийся в далеком кавказском ауле, юный Абдулла с детства был очарован волшебными звуками зурны и домбры. Женственный мальчик, с детства окруженный плотной опекой матери, бабушки и старших сестер, он не любил шумные игры грубых сверстников — и в то время, как аульские мальчишки гоняли в футбол или играли в лапту, юношу можно было часто видеть на холме у окраины села: глядя на седые, утопавшие в облаках вершины, он вдохновенно импровизировал на дудуке. Страсть к музыке не осталась незамеченной родителями, и вскоре семья переехала в райцентр — специально для того, чтобы маленький Абдулла мог учиться музыке в местной музыкальной школе. Начались первые трудности: учительница по фортепиано (которую он вскоре люто возненавидел), казалось, принципиально не хотела замечать его таланта. Всякий раз, когда он так вдохновенно, так темпераментно исполнял заданный ему музыкальный отрывок, она лишь морщилась и говорила: «Боже мой!.. Ну нельзя же так колошматить по клавишам! Ведь там же написано: „dolce“!» И несла какую-то чепуху про «туше», «полупедаль» и прочие штучки. Но маленький джигит твердо держался знания, дарованного Аллахом: подлинные ценности в музыке — это натиск и темперамент. …Однажды, когда Абдулла, решительно не обращая внимания на полное страдания лицо учительницы, старался выбить из старенького фортепиано все возможные обертоны, демонстрируя только что разученный этюд Черни, в класс вошел профессор местной консерватории Абуталиб-ага. Выслушав игру юноши, старик не смог скрыть своего удовольствия: «Малчик дирижером должен быть, аднак!» — веско сказал Абуталиб, повертев на голове свою знаменитую баранью шапку. Абдулла, сразу взмокший от счастья, тем не менее, даже не представлял, что визит старого Абуталиб-ага стал переломным моментом его жизни. И вот, с триумфом продирижировав в шестнадцатилетнем возрасте школьным оркестром, он отправляется продолжать обучение в N-ск, где попадает в класс знаменитого профессора Писина. Вскоре на международном конкурсе молодых дирижеров Бесноватый получает поощрительный приз «За молодость и волю к победе». С первых же дней пребывания в консерватории Абдулла избрал определенный стиль поведения, которому никогда не изменял: улыбчивый, скромный и влюбленный в музыку молодой человек, который может говорить только о музыке, слушать только музыку и ради музыки способный на все. Впрочем, он действительно был способен на все — но о подлинных его целях никто даже не догадывался: воспитанный в суровых кавказских традициях, Бесноватый не спешил открывать душу кому бы то ни было. Он с удовольствием бегал за водкой для старших товарищей: сердце его радовалось, когда он видел, как зеленый змий пожирает дух и развязывает язык… Наконец, мудрая его политика дала всходы: возглавлявший в то время N-ский театр дирижер Чингисханов (которого Бесноватый тайно презирал за любовь к выпивке и употребление свинины) приветил молодой талант и зачислил того в труппу стажером. До цели оставалось совсем немного, и долго ждать Абдулле не пришлось: Чингисханов получил назначение в знаменитый симфонический оркестр «Былое величие», которого долго добивался; в N-ской опере, таким образом, открывалась вакансия художественного руководителя. Вот тут-то молодой дирижер и проявил все свое старание, чтобы занять желанный пост. Он помогал носить портфель председателю профкома; он бегал за водкой для заведующего оркестром; он ставил коньяк секретарю партийной организации… Бесноватый, воспылав вдруг бесконечной любовью к певцам, был готов заниматься с ними денно и нощно. Оставшись же с кем-нибудь в классе наедине, молодой дирижер рассказывал солисту, каким дивным голосом и незаурядным талантом наградил того Бог — и сколько прекрасных опер он, Бесноватый, поставил бы специально для певца, если бы судьбе было угодно видеть его на посту руководителя N-ской оперы… Конечно, недостатка в кандидатурах на должность главного дирижера N-ского театра оперы и балета имени Дзержинского не наблюдалось; но против одного восстал весь оркестр; другой не так давно предал родину и вот уже год успешно работал на Западе; назначение третьего грозило тем, что тот приволок бы из N-ского Малого театра главного режиссера Бульдозеринского, которого одни считали бездарным самодуром, другие — выскочкой; но все дружно сходились на том, что муж певицы Бедняковой был еще вдобавок и полным идиотом. Вот так; незначительные, казалось бы, на первый взгляд обстоятельства и привели к тому, что стало ярчайшим событием в жизни Абдуллы Бесноватого и одной из самых печальных глав в истории известного и прославленного российского театра.
* * *
…Смотрите, смотрите, что за личность! Прямо гоголевский персонаж какой-то, ей-Богу: грязные, зачесанные назад волосы открывают низкий лоб с резко очерченными надбровными дугами; бесцветные глаза настолько выкачены из орбит, что, кажется, вот-вот упадут под ноги сутулому их обладателю, облаченному в засаленный и драный пиджак неопределенного цвета с горками перхоти на плечах. «Беглец из клиники для душевнобольных», — сочувственно подумаете вы, взглянув на беднягу. Конечно! Если вы не работаете в нашем N-ском театре, вы ни в жизнь не догадаетесь, что это не кто иной, как Феликс Данилович Кретинов — известный критик, который вот уже два года является главным редактором театральной многотиражки «Музыкальный боец» и приложения к ней «Замочная скважина». Кретинов — человек непростой; он музыкален и мыслит абзацами. Много времени он провел в Москве, где — в силу тяжелого материального положения — такса его была невелика: Феликс Данилович брал маленький кофе и два бутерброда с тех, кого воспевал, и пол супа и биточки один раз с тех, кто заказывал ему уничижительную статейку про кого-нибудь из коллег. Таким образом Кретинов обеспечивал себе трехразовое горячее питание, снимая угол у полусумасшедшей бабушки почти даром: в его обязанности входило лишь мытье мест общего пользования да щекотание бабушкиных пяток веточкой жимолости до того, как она отойдет ко сну. Так продолжалось до тех пор, пока его бойкое перо не было замечено Бесноватым: проэкзаменовав Кретинова двумя рецензиями в журнале «Звук» и найдя выполнение задания безупречным, Абдулла Урюкович взял Кретинова в штат театра и даже пожаловал тому каморку под лестницей в театральном общежитии на улице строителя Русакова. Кретинов и в самом деле был способен и талантлив: в частности, он виртуозно владел иностранными языками, буквально «с листа» делая сложные переводы. К примеру, английская фраза из рецензии в «Нью-Йорк Таймс», — «Above all was Serge Vernovkus — brilliant baritone, who has certain talent both as an actor and as skillful opera singer»[2] — в переводе Кретинова, помещенном в «Музыкальном бойце», имела следующий вид: «Самым большим разочарованием вечера стало выступление Сергея Верновкуса — безголосого баритона, крайне беспомощного в актерском отношении». Вот за этот талант и полюбил Кретинова Бесноватый. Кроме того, редактор обладал многими иными бесценными служебными качествами: он замечал, кто с кем приходит и уходит из театра; всегда, как бы невзначай, прислушивался к разговорам подвыпивших в буфете солистов — в общем, в окружении Бесноватого он был фигурой совершенно необходимой. Немаловажно, что в отличие от многих других работников, хлопот с ним было даже меньше, чем с любым домашним животным — недаром своими обвисшими усами, в которых порой застревали остатки скудной трапезы, и вездесущим присутствием во всех потаенных уголках театра Кретинов напоминал таракана. Сейчас же Феликс Данилович направлялся к себе в кабинет, чтобы поразмыслить над только что подслушанным возле сауны (где между дверей, за вешалкой, находился маленький, темный и необычайно удобный для него, Кретинова, закуточек) диалогом, происходившим между Стакакки Драчулосом и Севой Трахеевым. В частности, Кретинову было слышно, как Драчулос ласково увещевал: — Севочка, значит, если шеф тебя спросит насчет спектакля, ты так ему и скажи: мол, фальшиво пел Дазулин, да еще и хрипел всевремя… Ну ведь правда, Сева — разве это голос? Вот у тебя голос, так это дай боже каждому — раз в сто лет такие бывают! Разве он сможет так когда-нибудь, а?! — и Драчулос ловко подлил водки в пустую стопку Севы. Трахеев, падкий на комплименты, зарычал: — Да Стакакки, о чем ты говоришь! Они сейчас все, безголосые, лезут! Вот и англосакс этот мне опять дорогу перебежал: с поездки в Японию я «слетел»! — («Англосаксом», неизвестно почему, Трахеев называл баритона Верновкуса). — Севочка, поверь мне: англосакса я беру на себя; это уж моя забота. Мы же с тобой друзья, верно? Тем временем в коридорчике, ведущем к сауне, послышался голос Бесноватого; раздались приближающиеся шаги. Эти звуки немедленно возымели свое действие: Кретинов еще глубже вжался в свое укрытие, а Стакакки, ловко подхватив стопки, нехитрую закусь и сунув недопитую бутылку в карман, прямо в долгополом своем плаще и нелепом вязаном берете торопливо юркнул в парилку. Дверь растворилась, и в предбаннике появился Бесноватый. — Что, Сева, никак выпиваешь опять? — с ласковой, чуть укоризненной улыбкой обратился он к Трахееву. — Да нет, маэстро, что вы! — горячо заговорил Сева. — Вчера, после спектакля, было чуть-чуть, чего греха таить… Но самую малость! А сегодня — нет; побегал с утра, теперь вот попариться решил… — Ну ладно, ладно… Как, кстати, вчера спектакль прошел? — Да как… Нормально все… — Сева, я тебе доверяю! Что значит «все нормально»?! Я должен все знать, ты же понимаешь! — Ну знаете, Абдулла Урюкович, если честно — то конечно, с вашим спектаклем не сравнить — небо и земля! Этот Полуяичкин, ей-Богу! Три раза мне в дуэте так насрал!!! Я уж смотрю на него — а он весь в оркестре, лажает все подряд: хору ни одного вступления не дал!.. Надо заметить, что дирижер Полуяичкин, о котором сейчас зашла речь, звезд с неба, действительно, не хватал; чего уж там! Но он — также, скажем, как и другой серьезный музыкант, дирижер Кошмар — был тем необходимым фоном, который выгодно оттенял буйные краски таланта самого Бесноватого. Кроме того (мы уже упомянули, что музыкантами оба были серьезными) — Полуяичкин и Кошмар сознавали как масштабы дарования Абдуллы Урюковича, так и степень его гениальности — а это само по себе было уже приятно; еще же более отрадным фактом было то, что о таланте и успехах Бесноватого они не стеснялись говорить открыто; порой прямо в лицо главному дирижеру. — Ну ладно, ладно! — Бесноватый вспотел скромной улыбкой и, похлопав по плечу, прервал Трахеева, который тем временем, воспевая талант шефа, пошел уже на четвертый куплет. — Ты скажи лучше, как Дазулин спел? — Дазулин? Спел? — Трахеев картинно пожал плечами. — Ну, если он спел… Я, маэстро, честно скажу: кроме хрипа, ничего слышно и не было. Нет, он, конечно, старается — но голосочек-то у него маленький, в зал не летит; он форсирует — и мало того, что хрипеть начинает, еще и фальшиво все орет… Я после его куска даже к оркестру подошел поближе, чтобы тон-то поймать… — Увидев по помрачневшему лицу Бесноватого, что дело сделано, Сева закончил: — Нет, парень-то он, конечно, способный! Он вот в характерных партиях мог бы театру большую пользу принесть… — Ну ладно, Севочка, спасибо тебе… — рассеянно заспешил дирижер. — Смотри, не пей эту неделю: «Хованщина» для вьетнамского телевидения на носу! — И с этим напутствием Бесноватый вышел из предбанника. Как только за Абдуллой закрылась дверь, из парилки, изрыгая нецензурную брань фейерверками, выскочил обливающийся потом, красный, как вареный рак и окосевший от жары Драчулос. Содранным со взлохмаченной головы беретом он пытался утереть лицо и шею; глаза его вращались в разные стороны. Некоторое время он продолжал материться; затем потихоньку успокоился. — Уф! Ах ты, черт!.. Ну ладно, Севочка, спасибо тебе — побегу я, надо еще кой-куда успеть… Молодец, все сказал, как надо! — И Стакакки устремился к двери. — Дело знаем! — ухмыльнулся простодушный Трахеев. — Эй, Стакакки! Водку-то оставь!..* * *
В задумчивости, близкой к клиническому ступору, Феликс Кретинов дошел до своего кабинета. Однако войдя в редакционную комнатку «Музыкального бойца», он обнаружил, что поразмыслить в одиночестве ему сейчас не удастся: в предназначенном для гостей большом и напрочь изодранном кресле, занимая не более трети и несколько не хватая ножками до полу, поместился похожий на карлика критик Шкалик. Моисей Геронтович был ростом невелик и невзрачен до крайности; заметным его делали выдающийся нос ятаганом и укрепленные на этой же части тела массивные очки несуразных размеров. За притемненными стеклами очков пытливый наблюдатель смог бы различить парочку маленьких и красных, как у белого мышонка, глаз; апоплексическую плешку местами прикрывал седенький пух, а в разрезе засаленного пиджачка виднелся бордовый галстук с зелеными цветами, обстоятельно и на века завязанный много лет назад. Основную часть своей жизни Моисей Шкалик провел в качестве придворного воспевателя N-ского союза советских композиторов; он писал оды в честь бессменного председателя союза, известного композитора Акакия Пустова (прославившегося благодаря сочинению кадрили к фильму «Не стой под стрелой»); он пел дифирамбы Вячеславу Тайманскому, известному мастеру ораториальных жанров (его оратория «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» счастливо обрела второе рождение после перестройки, когда, немножко переделав текст, Тайманский вновь издал ее под названием «Христос воскресе!»). В оперу же Шкалика, как и многих его коллег, привела любовь к бутербродам и дармовому шампанскому; вскоре после прихода к власти Абдуллы Бесноватого Моисей Геронтович был дирижером замечен, и многострунная лира его забряцала в полном согласии с экспрессивным жестом молодого маэстро. Но сегодня в кабинет Кретинова Шкалика привела беда. Уже в который раз гадкий, гадкий (другого слова воспитанный Моисей Геронтович подобрать не мог) критик Мефодий Шульженко опубликовал в газете рецензию на очередную премьеру N-ского театра, где говорил о невозможных вещах: о том, как во втором акте, окончательно потеряв контакт с непонятными жестами дирижера, остановился оркестр (а дирижировал сам Абдулла Урюкович!); о том, что N-ская звезда, меццо-сопрано Хельга Буренкина, пела фальшиво и «завалила» ансамбль с тенором Матевосяном — который, кстати, был сильно пьян… Самое отвратительное, что все это было чистой правдой — и как можно было бороться с критиком Шульженко, Шкалик не знал. Справедливости ради надо заметить, что тяжко приходилось не только Шкалику, но и всей неблаговидной части нашего общества, за которой, с подачи безвестного шутника, закрепилось наименование «музыкальная общественность города N-ска». Поначалу, когда Шульженко позволил себе покритиковать дирижера Чингисханова, пресловутая музобщественность дружно решила, что Мефодий Шульженко входит в «клан» Бесноватого. Однако, после весьма жесткой рецензии в адрес последнего и ряда похвал в адрес Чингисханова присяжная критика и околомузыкальный народец склонились к мысли, что молодой критик все-таки представляет другой клан. И наконец, после выхода в свет нелицеприятной статьи с разбором творчества обоих дирижеров, цеховые комитеты «лабухов» и критиков в один голос решили, что Мефодий Шульженко — «просто сволочь»… «Ну нельзя же так писать!» — укоризненно пищал критик Шкалик Мефодию Шульженко при встрече. Тот, нагло усмехаясь и сочувственно похлопывая Моисея Геронтовича по плечу, отвечал: «Но ведь я-то пишу — значит, можно?» Затем дезавуировать «неправильного» критика попытался сам маэстро Бесноватый. Через тенора Стакакки Драчулоса (который состоял при Бесноватом кем-то вроде великого визиря и поддерживал с Шульженко приятельские отношения) он предложил критику возглавить театральную газету «Музыкальный боец» — дело было еще до прихода в театр Кретинова. При этом Абдулла, подобно Кончаку, рассыпал завидные обещания касаемо вояжей с труппой за границу и прочих великих благ, кои сулит работа на Бесноватого. Однако наглый Мефодий Шульженко предложение отверг. Более того: он нашел в себе дерзость жениться на певице Елене Эворд, которая, по замыслу Абдуллы Урюковича, должна была денно и нощно трудиться в оперной труппе, приумножая славу ее руководителя. Эворд, словно заразившись наглостью от супруга, подала заявление об уходе и стала в качестве «свободного художника» трудиться в Ковент-Гарденах, Колонах и прочих захолустьях; а Шульженко, как ни в чем ни бывало, принялся вновь писать нечестивые свои статьи. Это было уже слишком, и построив свой отрядец присяжных критиков во фрунт, неистовый борец с партитурами, раздувая некрасивые ноздри, выдохнул лишь одно слово: «Вендетта»! И, послушно расхватав зеленые флажки Шориата, отрядик критиков отправился на священную войну. Критик Шавккель, друг Шкалика, выпустил филиппику в газете «У речки», где, в частности, говорил: «Сегодня ведь неважно, как кто сыграл или спел, фальшиво или нет… Важна ведь толща культуры того, кто пишет…» Когда же, при встрече в буфете союза композиторов, один из профессоров N-ской консерватории спросил, для чего же он (как, кстати, и многие другие мастера музыкального исполнительства) всю свою жизнь говорил студентам о безусловной важности чистоты интонации — и попутно поинтересовался, где же у Шавккеля находится та пресловутая «толща культуры» и нельзя ли его за эту толщу потрогать — Шавккель, горько расплакавшись, уехал в дом творчества в Кустодиево, где еще неделю слушал Пятую Чайковского и плакал. Приехавший с двумя бутылками «Смирновки» Шкалик насилу того успокоил. Тем не менее, как-то бороться с критиком Шульженко было необходимо: цели и задачи цеха критиков были очерчены Абдуллой Урюковичем достаточно ясно; и, по боевито распушенному хохолку над багровой более, чем обычно, Шкаликовской плешкой, Кретинов понял: предстоит экстренный военный совет. Застыв на мгновение в благоговейной позе, Феликс Данилович, совершив рукой в направлении ото лба к земле витиеватое движение, с выражением решимости на безумном лице присел к столу. «Аллах акбар!» — мрачно произнес Кретинов. «Аллах акбар!» — немощным эхом пискнул Шкалик.
* * *
Вы вправе спросить, друзья мои: за что же горстка сальных пиджаков «серьезной» критики так ненавидела несерьезного критика Шульженко? Я мог бы с пафосом заявить вам: так вода не любит пламень; или, более приземленно, ответить вопросом на вопрос: а почему собака не любит кошку? Кстати, последнее сравнение находится к истине ближе, чем вы думаете, ибо классовая ненависть серьезных критиков к несерьезным — далеко не последняя из сил, действующих в этой драме. Поэтому давайте теперь поподробнее поговорим о критиках несерьезных. Общеизвестно: артисты обидчивы. Впрочем, само по себе это обстоятельство не так страшно, как кажется: так, прочитавший нелестную рецензию баритон, обрывавший в театре кулисы и рычавший: «Я убью его!» — при встрече с критиком будет лишь заботливо подливать коньячок в рюмку последнему и жалобно иногда приговаривать: «Что же ты, дружок, так написал-то про меня, а? Ошибся, верно, ты: я вот уже и в Израиле на гастролях пел, и в Голландии; и первую премию на вокальном конкурсе в Буркина-Фасо взял»… Критик в ответ напоминает историю про одного русского адмирала: когда того упрекнули, что молодого гардемарина, который уже в два вояжа на адмиральском судне сходил, все никак в чине не повысят, адмирал возразил, пнув ногою сундук, что стоял у него под столом: «Этот вот сундук уже трижды вокруг света со мною обошел — да так сундуком и остался!».. Баритон хохочет: он не понял… Несерьезность критика проявляется, прежде всего, в его отношении к избранной профессии: безрассудно заявляя с самого начала, что он не является чрезвычайным и полномочным представителем Высокого Искусства на земле, он тем самым заставляет задуматься меломанов и серьезных критиков (скромным умолчанием и раздуванием щек эти полномочия за собой признающих): а кто же он, собственно, такой? Непризнание несерьезным критиком ни одного из существующих музыкальных кланов томит «музыкальную общественность» еще больше: никто не знает, как лучше строить с ним отношения (которые — неизвестно, почему — принято именовать «дружескими»). Кроме того, подобный критик приводит в бешенство «серьезных» попранием богоизбранности и эзотеричности их ремесла: тут и внешность подводит, и возраст несерьезных критиков как правило, никуда не годится; а круг общения у них просто, знаете ли, зачастую весьма сомнителен… Даже исходя из опыта собственной жизни вы наверняка знаете, что с кем-то еще можно спорить, а с кем-то это совершенно бесполезно. Вот с несерьезным критиком например, спорить можно — но зачастую это, увы, совершенно бесполезно, и фразы типа «Так же нельзя!» или «Ну зачем же в газете?!» на него совершенно не действуют. Несерьезный критик всегда субъективен, макси мал истичен, и редко когда снисходителен. Рецензии его выражают лишь собственные импрессии, порой весьма сиюминутные (и здесь он сильно проигрывает любому «серьезному» критику, за веским словом которого угадывается если не партийная направленность, то уж нацеленность определенного «кружка по интересам» как минимум). Кроме того, есть у несерьезного критика и еще одно свойство, (в самом деле, весьма некрасивого свойства), вызывающее вполне справедливый гнев критики присяжной: на слог, стиль и эмоциональный настрой его статьи частенько влияет количество выпитого. «Подумаешь!» — скажете вы, и поспешите. Ибо — что в самом деле отвратительно! — на содержание и смысл написанного абсолютно не влияет то, с кем было выпито. Поэтому музыкантов, с которыми несерьезный критик периодически выпивает, довольно много. Но тех, с которыми ему довелось выпить один лишь раз, куда как больше!.. Несерьезный критик не стесняется в выражениях, оценивая очередное появление на эстраде дирижера-недоучки, выучивающего «новинки» своего репертуара, размахивая руками перед зеркалом под аккомпанемент записей старых мастеров; он глумится над пианистом, бренчащим в концерте одну из трех навечно заученных в консерватории бетховенских сонат. Разумеется, это не может не вызывать ненависть серьезных критиков, которые всегда восторженно отмечают «новое прочтение хорошо знакомых, казалось бы, произведений»… Каждой своей статьей несерьезный критик дает выход накопившемуся раздражению и отчаянию тех немногих, кто хочет видеть в опере — Театр и бельканто, а в концертном зале — Музыку. Он не хочет знать, чьим племянником является бездарный пианист N или почему дирижер X согласился исполнить Первую (и последнюю) симфонию председателя N-ского союза композиторов Пустова — сочинение беспомощное, как слеза ребенка… Все это, надо признать, сильно смахивает на борьбу с ветряными мельницами, то есть по сути своей является занятием довольно бессмысленным — а посему мы должны согласиться, что такого критика серьезным назвать ну никак нельзя…* * *
Баритон Сева Трахеев обожал сауну. Он очень любил попариться в сауне. Выпить Сева тоже очень любил. А уж выпить в сауне — это было для него наслаждением просто божественным. Когда же Трахеев выпивал, то, как мы уже отмечали, природная любовь к пению возрастала в нем стократ. Сева парился и пил. Выпивал и парился, благодаря Бога, который заботливо прислал к нему тенора Драчулоса с бутылкой — и радовался, что Стакакки выпил только две стопки. Добрые чувства распирали Севу; он запел. Здесь, видимо, нелишне будет заметить, что N-ский театр — здание историческое; он был построен очень давно, и при последующих модернизациях место для сауны нашли только в конце коридорчика за гримуборными солистов на «мужской» стороне, а другой конец этого коридорчика прямиком вел на сцену. Тем вечером в театре шел гала-концерт молодых солистов, и буквально только что объявили выступление звезды N-ска, меццо-сопрано Хельги Буренкиной. Отшумели приветственные аплодисменты, пианистка Азиза Бесноватая (родственница главного дирижера, выигрывавшая звание «лучший по профессии» в театре шесть раз подряд), содрогнувшись огромным туловищем, бросила тучные руки на клавиатуру (при этом ей удалось задеть часть нужных клавиш), Буренкина, приготовившись запеть, заморгала длиннющими ресницами со сгустками непросохшего клея и согнала с лица остатки интеллекта… Каково же было удивление публики, когда откуда-то из-за сцены, но явственно, ярко и мощно полился богатырский голос, вещавший с грустью и укором: «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной»… Похолодев от ужаса и злобы, Хельга Буренкина, несмотря ни на что, решила уверить собравшихся, что любовь имеет точно такие же крылья, как и всякая заурядная птица. Публика, судя по всему, была уже готова поверить певице, как вдруг из-за кулис раздался пронизывающий душу вопль: «Ко мне ве-ерни-ись! Ве-е-ернись ко мне-е-е! Мой сын ро-о-о-одной!..» Азиза Бесноватая, желая хоть чем-то спасти положение, утроила свои усилия по добыче звука из инструмента; рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали — банкетка же под фундаментальным и содрогающимся корпусом Бесноватой отчаянно стонала и ходила ходуном… Обретавшийся за кулисами театральный народ, мгновенно смекнувший, в чем дело, помчался в сауну; кое-как, с большим трудом — но Севу, наконец, урезонили. Однако вошедшую в пианистический раж Азизу Бесноватую унять было решительно некому: она топтала педаль, как Айртон Сенна на трассе Монте-Карло; она обрушивала на клавиши камнепады своих могучих пальцев, шутя ломавших костяшки домино… Старушке в пятой ложе бенуара стало нехорошо; где-то вдруг горько заплакал ребенок. Хельга Буренкина, силой голоса вообще никогда и не отличавшаяся, выглядела артисткой немого кино: скрюченные руки поднимались в каких-то неясных жестах; на искаженном злобой лице беззвучно открывался выкрашенный яркой помадой рот — и все это происходило под яростный аккомпанемент сумасшедшего тапера… К счастью, ноты вскоре кончились. Музыканты покинули сцену под жидкие аплодисменты. Оказавшись за кулисами, Бесноватая немедленно начала возмущаться: «Да что же это, в конце концов, такое?!» — но Буренкина ее мгновенно оборвала: «Заткнись, тварь. Трахеев — козел. А ты — сука!» — и размашистой мужской походкой направилась к себе в гримуборную.* * *
Это случалось невероятно редко, но сейчас Абдулла Урюкович Бесноватый находился в своем кабинете в полном одиночестве. Он ужасно этого не любил: самому с собой ему было говорить решительно не о чем — даже простейшие решения Бесноватый должен был принимать если не с подсказки, то просто на глазах у кого-то. Но стоило лишь ему остаться в одиночестве, как противная, страшная, черная пустота поднималась внутри; мысли его принимали клочковатые очертания. «Эворд — гадина… Верновкус — сволочь… послушать в Восьмой у Мравинского фаготы там… Позвонить Бустосу…» — машинально бормотал он себе под нос. Бесцельно шатаясь по комнате, он оказался перед зеркалом — и тут же отшатнулся: Абдулла не любил зеркал. В них все время возникало что-то такое очень гадкое, чему он даже и названия подобрать не мог; кроме того, после спектакля или концерта он почему-то на какое-то время вообще переставал отражаться в зеркале. С некоторых пор Бесноватый почти не брился: в процессе бритья совсем избежать встречи в зеркале со своими глазами (а собственный взгляд иногда очень пугал его) никак не удавалось; он много резался. Молодой дирижер, не лишенный таланта, свою карьеру Абдулла начал просто блестяще — многие вещи он и теперь вспоминал с удовольствием; но тревожное ощущение, что нынче с ним далеко не все в порядке, в последние год-два лишь усиливалось. Абдулла бойко соображал, но страх как не любил задумываться; жизнь свою он организовывал так, чтобы почти ни на минуту не оставаться одному; не засиживаться на месте. Новые партитуры, с наушниками от плейера в ушах, Абдулла учил обычно в машине или самолете. Он не помнил, когда в последний раз открывал какую-либо книгу; он работал жадно, не останавливаясь… Абдулла Урюкович вновь ощутил внутри некую пустоту — и он знал, что избавиться от этого ощущения можно только внешней видимостью бурной деятельности… Как-то было нехорошо; что-то было не так. «Что же это не идет никто?» — тоскливо и связно подумал он. Бесноватый все больше и больше начинал бояться своего окружения — достойнейших людей, которых театральный сброд совершенно незаслуженно окрестил «шестерками». Абдулле иногда казалось, что пользующиеся его особым доверием коллеги лишь ждут подходящего момента, чтобы вцепиться в горло хозяину. Кроме них, поговорить в театре Абдулле было уже почти не с кем. Многие солисты, заключив контракты на Западе, надолго исчезали из театра: и если раньше это были только такие известные певцы, как Верновкус или Белов, то вслед за ними потянулись и Эворд, и Александров; тенор Дазулин стал разъезжать по собственным контрактам и перестал толкаться в толпе просителей у кабинета — а разве мало он, Абдулла, унижал того? Разве не старался он всячески испортить Дазулину репутацию? Но стоит этим мерзавцам разинуть рот и издать несколько нот, как придурковатые западные импресарио забывают о всех мудрых словах Бесноватого и пачками волокут певцам контракты! Даже тенор Бражников нашел себе двухгодичный контракт в Германии. «Сколько же вам там платят?» — насмешливо спросил его Бесноватый при встрече. — «Всяко больше, чем вы! — дерзко ответил Бражников, всю свою жизнь ходивший по театру тише воды, ниже травы. — По крайней мере, меня там уважают и не орут каждый день, что я пою в театре только благодаря их доброте!».. «Вот и люби их, гадов, после этого!» — тоскливо подумал Абдулла. Да что Бражников — даже тенор Дудиков, уже, в общем-то, заканчивающий свою певческую карьеру и никаких западных ангажементов вообще не имеющий, на недавней репетиции позволил себе вообще нечто неслыханное! А дело было так: после того, как Абдулла (совершенно, между прочим, справедливо) «осадил» тенора, позволившего себе некстати спросить дирижера, долго ли ему еще здесь сидеть (он торчал без дела на довольно-таки бестолковой репетиции Бесноватого — бестолковой из-за ошибок певцов и оркестра, разумеется! — уже третий час), Дудиков, при всем честном народе, заявил, чтобы Бесноватый, падла кавказская (он так и сказал!), убирался к себе в аул и поднимал там музыкальную культуру; в русском же театре никто подобных кишлачных порядков терпеть не станет. Каково? Абдулла Урюкович от неожиданности даже растерялся и заорал: «Да я тебя, пес неверный, шакал позорный, уволю ко всем шайтанам!!!» — «Это мы еще посмотрим!» — нагло заявил Дудиков — и вот уже почти неделю благополучно сидел на больничном. Бесноватый любил производить впечатление экспрессивного человека; он допускал даже, что особенности воспитания порой не всегда давали ему точно провести границу между порывистостью и банальной грубостью; но неужели это такой уж великий грех?.. Однако, как ни крути, чтобы стать великим дирижером, одной экспрессии все-таки маловато — Абдулла понимал это, поскольку был умен. Он мучительно страдал оттого, что жалкие эти писаки и музыкантишки не торопились называть его имя рядом с именами Направника, Самосуда, Симеонова, Мравинского или Мелик-Пашаева — не говоря уже о Караяне или Тосканини. А чем, собственно говоря, Абдулла был их хуже?! Кроме всякой ереси о «интерпретации», никто ведь толком даже объяснить ничего не может, идиоты! Решив все же как-то дело поправить, Бесноватый для начала строго-настрого наказал критикам создавать в писаниях своих образ «театра одного дирижера» (что было абсолютно справедливо!); главным героем мог быть отныне только он сам. Несшие какой-то бред о «сценической культуре» и отсутствии якобы «самого духа театра» во вверенном Абдулле помещении, профессиональные режиссеры постепенно оставили Дзержинскую оперу. Трагедии в этом, конечно же, особой и не было, что бы там не писали всякие «независимые» критики (Бесноватый досадливо поморщился) и театроведишки; хочешь театра — дуй в драму! Власть же должна быть одна. Удовлетворившись результатом и стремясь к порядку еще большему, Абдулла постепенно разогнал и выжил из театра всех паяцев, кто только мог претендовать на так называемое «собственное мнение» — или, еще хуже — «достоинство». Незаменимых личностей у нас, как известно, нет и быть не может — и многочисленные земляки и родственники Бесноватого («Богаты горы талантами!» — не без понятной гордости думал он), пополнившие труппу, стали постоянно ездить с театром за границу, где получали по особым, лишь Бесноватому ведомым контрактам деньги, превосходившие гонорары ведущих солистов в несколько раз — видит Аллах, Абдулла Урюкович не был жадным человеком. Напротив, когда однажды перед гастролями в Израиле на одного из кунаков Абуталиб-аги не хватало в самолете места, из аэропорта домой был отправлен концертмейстер альтовой группы Шишкин. Абдулла быстро понял, что для делового человека Дзержинская опера — место далеко не самое пропащее; надо только уметь развернуться. Слава Аллаху, даже в таком гнилом месте, как музыкальный театр, он не остался без единомышленников: до поры до времени вяло изображавший игру на тромбоне Позор Залупилов оказался дельным помощником, бдительно следившим за тем, чтобы никто из музыкантов оркестра не почувствовал ядовитого дыхания больших денег. И в один прекрасный день Бесноватый заключил контракт со звукозаписывающей фирмой «Примус», получившей эксклюзивное право на все записи театра. Труппа работала в неурочное время, записывая «Жизнь за царя», «Демон», «Вражью силу», другие русские оперы и симфонические программы, приумножая тем самым славу Дзержинской оперы и ее художественного руководителя. И пускай злые языки постоянно муссировали сплетни о его, Бесноватого, «черном бизнесе» (денежки текли прямиком на счет Абдуллы Урюковича в уругвайском банке «Негрокопилка») — чего бы они все стоили без его сметки и разворотливости?! Абдулла Урюкович даже порой сожалел — и небезосновательно! — что в опере без певцов вообще обойтись все-таки никак нельзя. Как видите, работал Абдулла действительно много — но чувство беспокойства и какие-то нехорошие предчувствия не оставляли его. Подойдя к столу, он увидел бумажку: то был подготовленный Юрьевым и Залупиловым приказ об увольнении зарвавшихся певцов, возомнивших себя хозяевами собственной судьбы — Верновкуса и Белова — мировой известности баритонов, чей авторитет в интернациональном оперном мире был (наверное, в результате какого-то заговора) совершенно незаслуженно вознесен чуть ли не выше самого Абдуллы. Надо все-таки отдать должное широте души Абдуллы Урюковича: взяв перо, он надолго задумался. Внезапно из-за тумбы стола высунулся симпатичный мохнатый черт и озорно подмигнул Бесноватому, отчего настроение того сразу улучшилось, тревоги все разом куда-то исчезли; он повеселел. «Че там, подписывай!» — хохотнул черт и весело подмигнул снова. Абдулла радостно, по-детски засмеялся в ответ — и подписал.* * *
«Ненаглядная сторона! Только здесь я дома…» — мурлыкал, выходя из театра, Стакакки Драчулос. Он пребывал в превосходном настроении: сегодня, при посредстве этого дурачка Трахеева, он подкинул еще один увесистый камень в огород тенора Дазулина. Кроме того, Залупилов и Юрьев изготовили приказ на увольнение баритонов — и Верновкуса в том числе! Драчулосу нравилось чувствовать себя великим интриганом. Дазулину он пакостил хотя бы потому, что тот был тенором — и несмотря на то, что сходящему со сцены «по возрасту» Стакакки не было особого смысла портить жизнь более молодому, голосистому и одаренному коллеге — приобретенная за долгие годы работы в театре привычка осталась, и он не спешил с ней расставаться. Верновкусу же — баритону, который в начале своей карьеры экстраординарным голосом не отличался, но благодаря настойчивому труду, выдающимся профессиональным качествам и актерскому таланту добившемуся прекрасных успехов и сделавшего великолепную международную карьеру, Стакакки пакостил просто потому, что его ненавидел. За что? — трудно сказать. Драчулос ненавидел многих: жену, с которой он не разговаривал годами, коллег, студентов; он ненавидел Бесноватого, с которым дружил по необходимости; и своего друга Флакона Бухалыча Оттепелева — бывшего секретаря парторганизации Дзержинского театра — Стакакки ненавидел тоже. С Бухалычем они постоянно, за глаза и в глаза, говорили гадости друг про друга — но это нисколько им не мешало мирно собираться в студии Драчулоса и напиваться раза эдак два в неделю. А ведь Драчулос вовсе не был бесталанным человеком! Но, впав когда-то в цинизм — детскую болезнь многих начинающих актеров — он так и не смог от него избавиться, отчего и сам бывал иногда сильно несчастлив. Он говорил гадости там, где можно было их не говорить, и даже более того: говорил их там, где делать это уж совсем не следовало бы. Стакакки пакостил людям, от которых видел только хорошее — и гадил тем, кто мог бы принести ему немало добра. В силу собственного цинизма он, вскоре после блестящих дебютов, стал терпеть вокальные фиаско в партиях лирических героев: а какой же тенор без Ленского или Вертера? …Подобная жизнь поневоле сделала из Драчулоса философа: исповедуя цинизм, в компании он любил поразглагольствовать о «белых червячках» и тлене, которые неминуемо ожидают каждого из нас в конце пути земного — но подобное сознание не служило для Драчулоса хоть сколько-нибудь серьезным препятствием в старании урвать от бренного нашего существования как можно больше благостей земных; и тем же цинизмом, видимо, руководствуясь, едва ли не высшим счастьем и долгом своим он почитал вредительство буквально во всем каждому ближнему своему. В общем, что там говорить — тяжела и скупа на радости была жизнь Стакакки Драчулоса. …Однако сегодня, как мы уже успели отметить, Стакакки вышел из театра в превосходнейшем настроении. Незадолго до того, как оставить театр, Драчулос навестил дирижерскую комнату Бесноватого — где, при закрытых дверях, у них состоялся разговор исключительной важности. Посетовав на «сволочь Фирелли», который так и не приехал для постановки «Африканки» (справедливости ради надо заметить, что этот проект в планы всемирно известного режиссера никогда и не входил), они перемыли кости тенору Прочиде Фламинго, который тоже имел дерзость не явиться для участия в фестивале Бесноватого. «Нет, ну какая сука!» — шумно возмущался Драчулос; у Абдуллы Урюковича же, при мысли, что ни лишить премии, ни снять с зарубежной поездки — одним словом, ну никак, никак наказать зарвавшуюся знаменитость он не сможет, начинали ныть разом все зубы. Вообще, как известно, беда не приходит одна: и узнав, что Дранко Фирелли к N-ской постановке «Африканки» никакого отношения не имеет, фирма «Пи-Си-Пи», собиравшаяся транслировать премьеру по Евровидению на тридцать стран, в самый последний момент расторгла контракт с театром. Как только Абдулла Урюкович вспоминал об утраченных суммах, на лице у него красивым багровым цветом немедленно наливался очередной прыщ. Впрочем, Стакакки с Абдуллой горевали недолго, поскольку было у них дело и поважнее — ради которого они, собственно, и собрались: это обсуждение очередного, смелого и блестящего проекта Бесноватого, который — абсолютно точно! — должен был принести театру почет, известность и славу, а дирижеру Бесноватому и нескольким особо приближенным к нему лицам, помимо всего вышеуказанного, еще и деньги, причем очень немалые. О чем шла между ними речь, точно сказать нельзя, ибо даже критик Кретинов почему-то беседу эту подслушать не успел. Но обсуждение удовлетворило и Стакакки, и Бесноватого; все пока шло по плану. До поры, до времени почти никто из солистов даже не подозревал о сути и масштабах задуманного; и поэтому, вспоминая оболганного тенора Дазулина и уволенных из театра баритонов, Стакакки радовался вдвойне. «Наверно, только дельтаплан помо-о-ожет мне»… — напевал он себе под нос, лузгая семечки и поплевывая на мостовую в то время, как ноги не спеша несли его по улице Мазохистов в сторону Силосной башни.* * *
В театре, между прочим, всегда так: не успеешь оглянуться, как уже и вечер наступил. Сегодня Дзержинская опера дает «Тоску» — и хоть артистам и музыкантам, всецело поглощенным предстоящими гастролями в Италии и Франции, решительно не до искусства (скоро отъезд!) — профессиональный долг, тем не менее, превыше всего: отмены спектакля не было; show, как говорится, must go on… Зал в опере сегодня заполнен даже более, чем наполовину: Тоску поет знаменитая N-ская звезда Валя Лошакова, широко известная, как «сибирское сопрано», даже за пределами России. Партию Каварадосси исполняет Фраер Дермантава — не так давно принятый в театр певец с изрядно потертым голосом неопределенного тембра — что, впрочем, не помешало ему очень быстро стать еще одной восходящей звездой Дзержинки. Завистники (ну куда от них денешься?) говорили, что своими стремительными успехами Дермантава был обязан одной незначительной, казалось бы, детали своей биографии: он являлся мужем пианистки Азизы Бесноватой — но оставим это утверждение на совести сплетников! Ну а в роли Скарпиа сегодня выступает дебютант N-ской оперы Арчибальд Сопель. До недавнего времени преподававший эстетику в СпецПТУ города Зауральска, все свободное от основной деятельности время он отдавал единственной пламенной страсти своей — пению в хоре старых большевиков. Там, в хоре, во время одного из шефских концертов, Сопель и повстречал судьбу свою — очаровательную и голосистую сопрано Лошакову. Это была довольно романтическая история, которую они до сих пор вспоминают с трепетом и восторгом: лишь только Арчи услышал первые звуки, исторгнутые могучим сибирским организмом Валентины, вдруг враз позабыл он, где находится; ком подкатил к горлу — голоса подобной красоты и мощи слышать ему еще не доводилось. И когда Сопелю, вместе со всем хоровым братством, надо было подхватить припев: «Малая земля, геройская земля! Братство презиравших смерть…» — он вдруг хрюкнул пузыристо тяжелыми всхлипами, а товарищи по хору с удивлением и страхом заметили скупую мужскую слезу, впервые скатившуюся по округлой щеке Арчибальда… Подойдя к певице после концерта, Сопель, переполненный чувствами настолько, что говорить уже не мог, вымолвил лишь: «Будь моею!» — и хлопнул богиню свою земную тяжелой рукой по крутому и крепкому бедру. «Буду!» — коротко ответила Лошакова: она любила мужество. «Заметано?» — не веря своему счастью, с замирающим сердцем спросил Арчи. «Я ж, блин, сказала уже!» — отозвалась Валя, не любившая телячьих нежностей. А вскоре и свадьбу сыграли. Арчибальд оставил родной хор и полностью посвятил себя вокальному совершенствованию Вали. Он был прирожденным педагогом, и Лошакова вскоре стала петь еще громче. Злые языки, правда, талдычили о какой-то «чистоте интонации» и мифических «полтона», на которых якобы ниже, чем нужно, пела Валя. Но супруги жили дружно и во всякие эти интеллигентские штучки не вникали. А вскоре зычный голос Лошаковой был услышан аж в N-ске самим Бесноватым: Абдулла Урюкович, как мы уже не раз отмечали, был ох как чуток до всего талантливого, да сохранит Аллах здоровье и разум его. Он любил, когда громко: ведь известно, что хорошая музыка — громкая музыка, а хороший певец — громкий певец. Вместе с N-ской оперой, под чутким руководством Бесноватого и началась большая Валина карьера в большом искусстве. Достигшая международного признания, а с этим — и некоторого влияния на Абдуллу Урюковича, она — своенравная сибирячка, ужас как не любившая кичиться хорошими манерами — поставила ему вполне определенное условие: «Хотите, чтобы я записывала „Валькирию“ для вашего сраного „Примуса“ — дайте Арчибальду спектакль!» (А бедный Арчи, хоть и любил педагогику — но ох, как стосковался уже по пению!) Делать было нечего: ни Непотребко, ни Тулегилова такую драматическую партию вытянуть бы не смогли; Бараку лова была ленива и не имела громкого имени… Как было уже не раз замечено на этих страницах, Абдулла Урюкович был умен — и именно поэтому нынешним вечером баритон Сопель дебютировал на N-ской сцене. Понятно, что подобное обстоятельство еще более нервировало и без того всегда нервного дирижера Аарона Полуяичкина. Он вышел за пульт, собранный и сосредоточенный даже более, чем обычно. Взяв в руки палочку, он внимательно (на кого — чуть более требовательно, на кого — помягче) посмотрел на музыкантов. Выдержав подобающую паузу и прикрыв глаза, Аарон глубоко вздохнул, вдохновенно взмахнул руками и начал дирижировать. Оркестр, заметивший это не сразу, но довольно скоро, приступил, наконец, к исполнению. Спектакль начался…
* * *
Как только заиграла музыка, в расположенной прямо над оркестром ложе появился невысокий толстенький человечек в этаком видавшем виды «номенклатурном» костюмчике, при галстуке неопределенного цвета, седой шевелюре и физиономией, которая ничем, кроме большого красного носа, запомниться не могла. Это был директор театра — Антон Флаконыч Огурцов. Антон Флаконыч, начинавший свой служебный путь в органах государственной безопасности, был вскорости оттуда уволен (как поговаривают, за чрезмерное увлечение спиртным) и, выражаясь языком его коллег, «брошен на грязь» — то бишь назначен в N-ское городское управление культуры. Однако досадное происшествие и там нарушило его служебный покой — а ведь именно покой, в совокупности с «солидной» должностью и приличным окладом, был главной жизненной целью товарища Огурцова. Но… А дело было так: однажды придя на службу, Огурцов обнаружил у себя на столе письменное распоряжение товарища Доберманова, бывшего о ту пору городским головой: в связи с приездом межправительственной делегации Общеевропейского культурного союза необходимо было, как говорили сухие строки распоряжения, подготовить обширную культурную программу, которая бы дала возможность высоким гостям увидеть и оценить полную картину всеобъемлющего и важнейшего значения города N-ска в культурной жизни современной Европы… — ну, и так далее. Ознакомившись с бумажкой, Антон Флаконыч заметно повеселел: дело в том, что согласно принятому его коллегами по предыдущему месту службы конспиративному языку, под «обширной культурной программой» подразумевалась совершенно определенная форма проведения досуга… …Шикарно накрытый стол в стриптиз-кабаре «Подвязка», приготовленный товарищем Огурцовым наутро первого дня рабочего визита делегации, казалось, пришелся интернациональной культурной братии не совсем по вкусу: «Абсолют» и «Посольская» так и остались почти нетронутыми в заиндевевших серебряных ведерках, если не считать тех пяти бутылочек, которыми слегка «размялись» сам товарищ Огурцов и его референт; а на неистово танцевавших, почти в чем мать родила, дивно сложенных наяд иностранцы практически вообще внимания не обратили. Наконец, один из членов делегации сумел добиться от переводчика (который, надо сказать, тоже воздал должное ледяному «Абсолюту»), чтобы тот сообщил товарищу Огурцову, что в первый день визита они планировали посетить знаменитый N-ский художественный музей «Монплезир» и пообщаться с персоналом на предмет возможных инвестиций для поддержания исторического здания, которому уже грозило разрушение, в должном порядке. Сумевший выхватить суть из не вполне уже четкой речи переводчика, изрядно к тому моменту повеселевший Огурцов расхохотался: «Это Монплезир-то разрушается?! Нет уж, дудки: поддерживаем, как можем! Не допустим!» И, бровью подозвав водителя автобуса, шепнул тому: «В „Монплезир“! Да звякни, чтобы все было готово!..» Здесь необходимо пояснить, что в силу поистине рокового стечения обстоятельств, крохотный коттеджный городок, расположенный на девственном берегу лесного пруда в живописнейшем пригороде N-ска и надежно укрытый от случайного взора не только буйной растительностью, но и высоким забором с бдительной охраной, где в великолепно отделанных помещениях роскошные голубые бассейны соседствовали с маленькими барами, уютными саунами, массажными комнатами, улыбчивыми девочками и отдельными кабинетами, был известен всей номенклатурной братии города N-ска под названием «Монплезир». Нет, конечно, очень многие борцы за идеалы социальной справедливости еще со школьной скамьи смутно помнили, что их родной N-ск по праву гордится уникальной коллекцией русской и западноевропейской живописи, а также шедеврами античного и прикладного искусства; были даже и те, кому довелось однажды в музее побывать. Но все-таки у лиц, поставивших свои интересы на службу народу, слово «Монплезир» ассоциировалось, прежде всего, с ласковыми филиппинками (для работы в Государственном Спецсанатории выходного дня их специально набирали в Бурятии и Казахстане), негромкой музыкой, новинками видео и так далее. Что же касается товарища Огурцова, то он был счастлив безмерно: в силу незначительности своего поста он не имел права пользоваться отдыхом в «Монплезире»; однако визит высокой делегации, хоть ненадолго, но открывал ему доступ в рай… Всю дорогу он радовался, как ребенок, не замечая растущего недоумения иностранных делегатов; предвкушая скорые восторги, Антон Флаконыч «придавил» по пути, пополам с референтом, бутылочку мартини и фляжку «Бифитера». Когда же суровый автоматчик на въезде, проверив что-то по телефону, начал растворять перед делегацией ворота номенклатурного Эдема, товарищ Огурцов, повизгивая от нетерпения и счастья, прямо в автобусе начал стаскивать носки и галстук… Все, что произошло дальше, можно описать лишь с изрядной долей приблизительности: к переводчику, который еще в дороге, допив прихваченную из ресторана бутылку водки, вдруг, намотав на голову содранное с кого-то из иностранцев кашне, начал изображать Аятоллу Хомейни и бойко лопотать по-тюркски, доверия, конечно же, нет. Кроме того, после визита к нему двух корректных молодых людей в серых костюмах переводчик вообще как-то потерял к теме всякий интерес и начал вздрагивать при одном слове «Монплезир»… Рассказывают, что когда перед делегацией, недоуменно толпившейся в дубовой гостиной с мраморным фонтаном в центре, появился совершенно голыйтоварищ Огурцов в окружении голых же девиц, державших серебряные подносы с запотевшими хрустальными бокалами искристого «Абрау-Дюрсо», один западный делегат начал громко и возмущенно высказывать свое недоумение всем происходящим. Тогда ничуть не смутившийся Антон Флаконыч, в девственной наготе своей обнаруживший изрядное сходство с этаким перезревшим, пухленьким купидоном, хитро сощурившись, молвил: «Знаем, знаем, что вам нужно!.. Люди искусства… Музы…» — а затем, вытаращив глаза и громко хлопнув в ладоши, заорал: «Опаньки!!!» — и гостиная в мгновение ока вдруг наполнилась холеными гладкокожими юношами, невесть откуда взявшимися. Юноши тут же принялись весьма недвусмысленно ухаживать за делегатами, решительно стаскивая с них одежду и с игривым хохотом сталкивая носителей интернациональной культуры в фонтан… Еще говорят, что не найдя ни переводчика, ни водителя автобуса, ни самого товарища Огурцова, расползшихся по разным домикам и кабинетам, отчаявшиеся визитеры, обуреваемые страстным желанием положить конец кошмару, самостоятельно загрузившись в автобус и выбрав водителя, таранили ворота чудного заповедника. Мирно дремавшая до той поры охрана, жутким грохотом пробужденная к действительности, с перепугу открыла по автобусу с делегатами беглый огонь… От гораздо более серьезных последствий праведного гнева городского головы Антон Флаконыча спасло только то, что Доберманов в тот момент был всецело поглощен борьбой с муниципальным советом за принятие справедливого закона, в результате которого вся выручка от сделок с недвижимостью города N-ска полностью поступала бы в фонд городского головы, а не в N-ский муниципальный бюджет, как было раньше. Таким образом, товарищ Огурцов был «всего лишь» разжалован в директора N-ского государственного театра оперы и балета имени Дзержинского — страшное в своей безжалостности назначение, ибо для номенклатурного работника N-ска и области более низкой степени падения уже просто не существовало.* * *
…Мы, кстати, уже однажды задавались этим вопросом: каким образом гадкий критик Шульженко умудрился нажить себе столько врагов в среде критиков и музыковедов — людей, как известно, в основной своей массе тучных (то есть склонных к доброте) и спокойных? Трудный вопрос: мерзавцу этому, кажется, известны тысячи способов достижения подобной цели. Но, если вам угодно — я могу привести еще одну иллюстрацию; извольте. Одним из самых нерушимых доказательств непрофессионализма Шульженко и принадлежности последнего (это в лучшем случае!) к когорте критиков несерьезных был его возраст: Мефодий был неприлично, безобразно молод! И причудливый симбиоз младости его с этакой старческой профессией нередко дарил ему не только симпатию зрелых, мудрых родителей — но, вместе с тем, и младых их чад, оделявших Мефодия искренней приязнью. Например, жила в N-ске музыковед Грядкина. Ее обычный, рутинный способ зарабатывания денег состоял в проведении повсеместных, где только возможно, «лекций-концертов», где она продолжительно солировала в первой части. Композиционно Грядкина всегда сводила свои лекции к нехитрой вопросно-ответной форме: «…Ну что же, разве так уж все плохо в современной молодежной музыке?» — И тут же сама отвечала: «Нет, в современной молодежной музыке все не так уж и плохо!.. Разве уж так плох, скажем, Гребенщиков? — (по поводу Гребенщикова она имела долгие, до хрипоты, диспуты с дочерью — и, кичась своей широтою взглядов, сдалась). — …Нет, Гребенщиков вовсе не так плох…» Грядкина всегда поддерживала хорошие отношения с Шульженко: женщине горячей и крикливой, ей нравилось приглашать его на чай и спорить с ним, отрабатывая в беседах пассажи для будущих лекций; кроме того, она очень любила крутиться в молодых компаниях — груз плохоосмысленно прожитых лет как бы падал с плеч… Супруг ее, музыковед Грабельштейн, был тихим и приветливым человеком, больше любившим обсудить вопросы приобретения запчастей к «Жигулям» по наиболее доступным ценам… Так или иначе, но с дочерью их, юной пианисткой Фаиной и мужем ее Вовкой, жившими (что для молодежи N-ска было мечтой практически недостижимой) в отдельной квартире, критика связывали добрые приятельские отношения. Квартирка эта была своеобразным клубом: там можно было услышать Гребенщикова и Моцарта, Высоцкого и Шопена; обсудить множество серьезных вещей (сдобрив их марочным портвейном) или обменяться последними анекдотами… Частенько, засидевшись далеко за полночь, Мефодий оставался на ночлег в уютной старой квартирке на Старгородской стороне. Сколько бывало выпито; сколько рассказано… Однако неисповедимы пути Господни — и собрались Фаина с Вовкой «отвалить» в Израиль. Что же, дело известное: не они первые, не они (хочется надеяться) и последние. Но родители Фаи уж очень хотели отправить дочь свою в столь дальний путь, что называется, с максимальным багажом: мама покрутилась, посуетилась — и устроила ей сольный концерт, где смогла — в Липовом зале N-ского дома композиторов. После чего звонит Грядкина Мефодию Шульженко (а тот как раз музыкальным обозревателем в газете «Измена» служил) и говорит: то да се, мол, сам понимаешь — валит девчонка за бугор, хорошая пресса на сольный концертик ох как нужна… Ты бы не поленился, на концертик-то сходил — да и написал что-нибудь размером побольше да содержанием попристойнее. Мефодий же, по зрелому размышлению, телефонирует заботливой маме обратно и излагает: мол, понимаете, не вправе я — половина города знает о дружбе нашей; а честь, как известно, смолоду беречь нужно… Мама обиделась; трубку положила. А Шульженко, черт возьми, неудобно: быть может, последнюю услугу друзьям оказать бы мог — и отказывается. Не по-товарищески как-то получается… Критик решается на компромисс — звонит Грядкиной вновь и говорит: у вас же друзей-музыковедов — хоть пруд пруди; пускай кто-нибудь из них напишет, а я, уж будьте уверены, опубликую. А музыковед Грядкина холодно так ему и говорит: «Не надо! Мы с критиком Сазоном Сосновским уже обо всем договорились! Он сам в твою газету все и напишет, как надо!» — «Ну и ладно!» — умиротворенно подумал Шульженко. …Концерт юной Фаины прошел так себе: несомненно одаренная пианистка сильно волновалась, к тому же — «необыгранная» программа, предотъездные хлопоты, багажно-таможенные проблемы… — «Интересно, что же написал Сазон Сосновский?!.» — подумал Мефодий, разворачивая через несколько дней газету (статья проходила через завотделом искусства Наума Наумова, и до публикации Шульженко материал не видел). «Сентиментальный вальс „на бис!“» — бросалось в глаза со вкусом выбранное название, а предваряла огромную, на полполосы статью многозначительная вводка: «Не так часто появляются у нас новые имена на музыкальном небосклоне. А потому приятно назвать одно из них — молодой пианистки Фаины Грядкиной». Затем автор продолжает, задавая нам иезуитский до непристойности вопрос: «Чем же руководствовались работники Дома композитора, предоставляя свою эстраду студентке Консерватории, едва успевшей закончить второй курс и не имеющей пока конкурсных регалий? Неужели только тем, что она — дочь видных N-ских музыковедов Грядкиной и Грабельштейна?» — Конечно же, Сосновский опровергает это нелепейшее объяснение — и далее, следуя славной традиции N-ской критики, дарит читателю несколько перлов (которые в журналистской среде часто именуются «чайком без заварки», если не похлеще) типа: «Естественность исполнения, отсутствие вычурности и надуманных эффектов — пожалуй, наиболее сильная черта ее дарования, проявившаяся и в неожиданно исполненном „на бис“ Сентиментальном вальсе Чайковского. Главное же — пианистка умеет ненавязчиво заставить слушателей внимательно следить за всеми поворотами музыкальной мысли и чувств автора. А это — особенно в сочетании с чистотой помыслов и душевным теплом — как известно, дорого стоит». Как видим, душевного тепла не занимать и самому Сазону Сосновскому, столь горячо и многословно откликнувшемуся на просьбу родителей юной Фаины. Правда, упрек в «чистоте помыслов» автору было бы предъявить уже труднее — превосходно зная предназначение своей статейки и все цели, для которых был организован концерт в Липовой гостиной, свою гимническую песнь во славу юной эмигрантки Сосновский заканчивает с небывалым пафосом: «…Как отрадно, что в стенах наших музыкальных ВУЗов, невзирая на все превратности окружающей нас жизни, подрастает тонко чувствующая, талантливая смена многим уехавшим музыкантам». Столь откровенное вранье не осталось в городе незамеченным; и как-то во время очередной редакционной попойки редактор вдруг заинтересовалась: почему-де Сосновский в кругу газетчиков пользуется такой дурной славой? — Тогда-то она и узнала всю подноготную в истории сей примечательной публикации. Редактор «Измены», женщина поведения часто странного и поступков всегда непредсказуемых, на сей раз почему-то отнеслась к рассказу Ивана Гагарина и Мефодия Шульженко с большим вниманием. Так газета «Измена» потеряла одного из своих нештатных авторов, вдохновенного Сазона Сосновского. А Шульженко — тот приобрел еще трех непримиримых врагов в лице родителей Фаины и самого Сосновского. Спустя две недели музыковед Грядкина вдруг выпустала одну из нечастых своих статей, посвятив ее воспеванию неизмеримых талантов вдохновеннейшего дирижера Абдуллы Бесноватого, где не отказала себе в удовольствии, вскользь упомянув Шульженко, назвать того «одиозным критиком». Кстати, статья была опубликована в недавно учрежденном N-ском театрально-музыкальном вестнике «Буфет», директором и главным редактором которого являлся Сазон Сосновский…* * *
…Проведением общедоступных концертно-симфонических вечеров, ставших широко известными благодаря центральному российскому телевидению, Дзержинская опера гордилась по праву. Однако мало кто знает, что не только блистательным исполнением, но и даже самой идеей подобных концертов N-ск был обязан, конечно же, художественному руководителю и духовному вождю Дзержинки — Абдулле Урюковичу Бесноватому. Надо сказать, что трудному рождению блестящей этой идеи предшествовала целая серия долгих и бесплодных совещаний. Помощники маэстро в этот раз ничего путного предложить так и не смогли: Арык Забитов тупо канючил что-то о шоу «Дирижер века» на стадионе имени Берии; дирижер Кошмар лепетал какую-то полную ахинею о «пересмотре вечных ценностей в искусстве интерпретации»; Позор Залупилов предлагал провести концерт оркестра тромбонистов из трехсот человек, причем для воплощения этой идеи он даже вызывался сам за восемь дней обучить искусству игры на тромбоне хор, миманс и рабочих сцены — но тенор Стакакки Драчулос тут же язвительно заметил, что Залупилову для начала самому бы неплохо взять у какой-нибудь уборщицы пару уроков… Кончилось все тем, что вконец осерчавший на тупых своих приближенных, Бесноватый гневно выставил из кабинета всех, вплоть до угодившего под горячую руку секретаря Гиви, (подошедшего невовремя, чтобы выдавить маэстро очередной прыщ). Оставшись в одиночестве, Абдулла сам задумался о том, как в просветительской деятельности своей, отойти, наконец, от заскорузлой и скучной формы оперного спектакля. Ведь все эти дурацкие занавесы, декорации, костюмы и грим только рассеивают внимание слушателя, отвлекая его на самую незначительную составляющую музыкального театра, низшее его звено — оперного солиста. К тому же дирижер в опере упрятан в оркестровую яму — а это лишает (и лишает несправедливо, как с горечью отмечал про себя Абдулла) многих зрителей главного удовольствия, которое только может им дать опера: постоянно смотреть на дирижера… Конечно, готовых рецептов было много: это и известные своей демократичностью «Променад-концерты» в лондонском Альберт-холле, и «Хэмлин уик» в Ковент-Гарден — но кого-то копировать, идти однажды уже проторенным путем Абдулла не собирался: во-первых, — как мы замечали уже не раз! — он был достаточно оригинален и умен для этого, а во-вторых (и здесь Бесноватый отчетливо представлял себя перед камерой, обращающимся к многомиллионной аудитории телезрителей) Дзержинская опера — театр русский, а посему надо было избрать что-то особенное, проникнутое богатым опытом национальных культурных традиций. (И Абдулла вновь живо представил себя перед объективом телекамеры, но уже международной телекомпании «Пи-Си-Пи»). …Долго маялся Абдулла Урюкович, терзая разум свой — но все было тщетно; решение не приходило. Постепенно нить его размышлений куда-то исчезла; мысли скомкались, уступив место бессвязным обрывкам слов. В душе вновь возникла сосущая, страшная пустота; сердце сжалось от невесть откуда взявшейся тоски. Вскочив с места в каком-то безотчетном порыве, Бесноватый, схватив тяжелое пресс-папье, внезапно кинулся к зеркалу (почему-то враз почерневшему и абсолютно ничего не отражавшему) — но, уже занеся руку, остановился: гнетущий ледяной страх, также неожиданно, как и появился, вдруг оставил его. Переведя дух, он вернулся к столу — на котором, запихнув хвост в старинную чернильницу, сидел маленький мохнатый черт. Абдулла счастливо засмеялся. «Донт тач юселф!» — почему-то по-английски пискнул бесенок и заговорщицки подмигнул Абдулле зеленым глазом. Абдулла Урюкович заулыбался новой игре и присел к столу; он был счастлив, как в детстве. Странно, но его как-то вовсе не заботило, откуда появлялось это славное создание — может быть, потому, что возникало оно всегда именно в тот момент, когда Бесноватому было трудно, тяжко, плохо — и не было случая, чтобы после неожиданного визита этого доброго гения Абдулла оставался без помощи. Так и сейчас: стоило Бесноватому лишь сесть за стол, как дивная концепция грядущей серии концертов тут же возникла в его голове — стройная и ясная до мельчайших деталей. Настроение Абдуллы Урюковича изменилось необычайно: радость, густая и темная, как марочный портвейн изрядной выдержки, овладела всем его существом. «…Я то-от, которому внимала…» — замурлыкал Бесноватый себе под нос, и вновь засмеялся: он только сейчас заметил, что второй глаз славного зверька был закрыт казавшимся вовсе непрозрачным моноклем темно-синего стекла; конец же бордовой с золотом ленточки, шедшей от монокля, был завязан на голове волшебника за небольшой рог — совсем маленький и симпатичный, как у молодого барашка. Гостю, казалось, тоже нравилось сидеть у Абдуллы: по крайней мере, он продолжил свою серию веселых трюков, так поднимавших настроение хозяина кабинета, достав вдруг, неведомо откуда, пачку бумаг и положив ее на стол перед Бесноватым вместе с красивой золотой самопиской (тоже возникшей, словно из воздуха). «Ноу квестченс. Джаст сайн ит!» — пропищал он, продолжая игру. «Бат вот из ит?» — просто так, для разговора, (уже заметив знакомую виньетку фирмы «Примус» на верхнем листе) спросил Абдулла, подписывая первый документ. «Дазнт мэттер!» — ответил визитер вдруг низким голосом работавшей в театре певицы Тетькиной, чем вновь развеселил дирижера. Смеясь и покачивая головой от удовольствия, он заметил на последней подписанной им бумаге очень красивую эмблему, прежде им не виданную: помещенную в окружность пятиконечную звезду украшали со всех сторон какие-то непонятные символы; сам же текст был, похоже, написан от руки на языке, Абдулле неведомом. «Олл зэ пэйперс ар контракте фром „Примус“»? — вновь спросил он пришельца. «Примус, примус! — как будто слегка поддразнивая, ответил простуженным голосом баса Кравцова пришелец, успевший уже вынуть хвост из чернильницы, раза этак в два прибавить ростом и сейчас примерявший перед абсолютно черным зеркалом красивый бархатный плащ, невесть откуда взявшийся. — Примус интер парес! Форевер бай нау! Ю вилл онли прауд оф ит, билив ми!» Заинтересовавшийся последним контрактом, Абдулла только собрался расспросить симпатягу поподробнее, как в комнату постучали. Подойдя к двери, Абдулла Урюкович обернулся, чтобы проститься с гостем — но в кабинете уже никого не было. Повернув ключ, Бесноватый недовольно впустил Позора Залупилова и Феликса Кретинова, которые, непрерывно кланяясь, лепетали срывающимися голосами: «Мы, Абдулла Урюкович, с новыми идеями насчет концертов…» — «Да разве могут ваши шакальи мозги родить хоть одну приличную идею?!» — грозно, но вместе с тем, в силу прекрасного после визита козлоногого доброжелателя настроения, весело вопросил Бесноватый, отходя вглубь кабинета. Он нисколько не удивился, когда увидел на столе несколько листов, где убористым и ясным почерком — его собственным — была уже изложена идея предстоящего цикла «Шашлык-концертов» с подробными и четкими указаниями для всех служб театра.* * *
…А идея действительно оказалась дивно как хороша!.. Концерты проходили следующим образом: на авансцене, перед наглухо закрытым занавесом, выстраивался хор; затем, на полностью поднятой оркестровой яме, широко и вольготно располагались самые горячо любимые Абдуллой Урюковичем оркестровые группы: медные духовые и целая батарея ударных инструментов. В партере, из которого были предварительно удалены все кресла, садился остальной оркестр — а буквально под самой царской ложей, на неправдоподобно огромном подиуме, высотой своей едва ли этой ложи не достигающем, находилось место для самого маэстро. Первый ярус был уставлен телевизионными камерами — а, кроме того, несколько камер располагались в гуще оркестра, прямо напротив дирижера — с тем, чтобы все телезрители имели счастье видеть вдохновенное лицо музыканта крупным планом. Конечно, и на сей раз не обошлось без злопыхателей, которые твердили, что-де кресла из партера выносил еще и Чингисханов во время новогоднего бала в Дзержинке, не говоря уже о лондонских «Променад-концертах» — так на то они, завистники, и есть, чтобы не видеть самой сути новой идеи! Действительно, для зрителей в театре почти совсем не оставалось места, поскольку в бельэтаже сидела избранная публика, старейшины и кунаки; второй же и третий ярусы занимали работники труппы (для них посещение концертов было обязательным) и студенты N-ской консерватории, страстно мечтавшие в труппу попасть. Но ведь ставшие законной гордостью N-ска знаменитые телевизионные «Шашлык-концерты с Бесноватым» именно для телевидения, в основном-то, и предназначались! Давайте, положа руку на сердце, рассудим: ну какая в том беда, что для меломанов в Дзержинке места почти не оставалось? Те времена, когда они штурмом брали подступы к театру, все равно стали легендой — а овации при каждом выходе Бесноватого уже долгое время бушевали в театре с помощью великолепной компьютерной псевдоквадрафонической акустической системы, поставленной Дзержинской опере фирмой «Примус». Нет! — подлинная новизна, настоящий демократизм «Шашлык-концертов» состояли совсем в другом: и, поскольку сегодня как раз идет видеозапись очередного «Шашлык-концерта», я предлагаю вам пройтись по театру и убедиться в этом самим. Сначала вам сразу бросится в глаза, помимо множества телевизионных кабелей, необычно большое количество пожарных охранников: удивительного в этом ничего нет, ведь каждый счастливый обладатель билета в этот день получает по шашлыку — а готовятся они прямо на расставленных в фойе мангалах, распространяющих по всему театру ароматный и терпкий дымок — один запах которого уже ассоциируется у тонкого ценителя музыки с новыми высотами в исполнении Шостаковича, Прокофьева, Вагнера и других мастеров. Кроме того, старушки-билетерши, облаченные по случаю шашлык-концерта в чадры и шальвары, по нескольку раз обносят слушателей бельэтажа свежим шашлычком и следят, чтобы рог с вином никогда не оставался пустым. …И вот, когда хор и оркестр займет свои места, все зрители уже расселись, а благоговейную тишину нарушает только сосредоточенное почавкивание меломанов да негромкий мат телевизионных служб, под взрыв аплодисментов акустической системы «Примус» появляется, наконец, сам маэстро. Выходит он не в партер и даже не на сцену — но неожиданно возникнув в глубине ярко освещенной царской ложи, улыбаясь и раскланиваясь на ходу, по специальному подвесному трапу Абдулла Урюкович Бесноватый прямо оттуда легко сбегает на свой подиум. Вышедшие ранее через какую-то боковую дверь партера под несколько жидких хлопков (руки публики заняты шашлыками, а солистам фонограмма «Примуса» не полагается) певцы, окружившие постамент, на фоне маэстро выглядят какими-то пигмеями — и как это, черт возьми, справедливо!.. Честь открыть концерт выпала сегодня главному пигмею — тенору Стакакки Драчулосу. Вдохновенно отбросив левой рукой со лба волосы, сияющие в свете прожекторов свежей импортной краской для мужчин «The Perfect Playboy — deep black», он морщит нос и, придав лицу выражение вечного ко всему отвращения, гнусаво заводит: «In fernem Land…» — в то время, как Абдулла Урюкович широко взмахивает разведенными в стороны руками: очередной «шашлык-концерт» начался. Дирижер Бесноватый, да хранит Аллах здоровье и разум его, превосходно знал, что такое crescendo и пользовался этой краской охотно и много. Горе же пигмеев-солистов заключалось в том, что мужественный маэстро считал piano или, еще того хуже, pianissimo глупостью и сказкой для бабья. Вот и сейчас: в стремлении добиться от оркестра максимально выразительного (следовательно — громкого) звучания, он надувал щеки, делал «пух-пух-пух» губами и вращал глазами, причем проделывал это совершенно неистово. Вдруг, заметив что на нацеленной на него телекамере нежным оранжевым светом зажглась лампочка, Абдулла Урюкович мгновенно преобразился: телезритель не должен подозревать, скольких усилий стоит полноценный художественный результат, когда ты вынужден работать с этой стаей неверных шакалов! Неопрятно выбритое лицо дирижера собралось улыбкой «доброй и доброжелательной № 2 для оркестра и хора». Когда лампочка на камере погасла, Бесноватый вновь судорожно затряс головой и сделал страшные глаза; сквозь толстый слой пудры ярче засветились прыщи. Выжимая из оркестра максимум красок, Абдулла Урюкович использовал еще один тонкий прием, только ему свойственный: своеобразное, довольно громкое всхрапывание-взрыкивание, наводившее на оркестрантов панический ужас. Визжали валторны; тромбоны издавали страшный треск — такой громкий, как будто рвали на части сразу несколько двухдюймовых досок; тучный и краснолицый концертмейстер первых скрипок Подворотнюк, преданно таращившийся на маэстро, отшвыривал в сторону уже третий смычок с вхлам изодранным волосом… Хуже всех, наверное, приходилось в этот момент стареющему Драчулосу. Обуреваемый нелепейшей, заведомо обреченной на провал идеей хоть как-то перекричать оркестр, он демонстрировал всем желающим богатую коллекцию разнообразнейших жил, вен и артерий на напряженной шее — которая, как и лицо Драчулоса, приняла глубокий малиновый цвет. Стакакки, старавшийся четко произносить омерзительные сердцу немецкие слова, отчаянно брызгал слюной — и расположенная ближе к тенору одна из позолоченных колонн, поддерживавших царскую ложу, была вся уже покрыта мелкой водяной пылью. С небольшого острого носа Стакакки капали мелкие капельки пота; его просторный, как хлеборезка, рот, широко открывался — но крики певца почти не пробивались сквозь плотную звуковую стену оркестра. Наконец, сипло проорав кульминационные слова: «…mein Vater Parzifal tragt seine Krone, — sein Ritter ich, bin Lohengrin genannt!» — измотанный до предела Драчулос плюхнулся на стул, заранее для него приготовленный. Его хриплая ругань осталась никем не услышана: камера крупно показывала усталого, но счастливого Абдуллу Урюковича, и слабый матюжок тенора утонул в грохоте оваций, исторгнутых чудной акустической установкой — подарком фирмы «Примус». Однако почти никто из непосвященных и не догадывался, что основное действо «шашлык-концерта» начинается позже — когда отзвучит музыка и немногочисленная публика оставит, наконец, храм искусства.* * *
Вы вправе спросить меня: ах, в чем же, в чем же заключалось то действо, которое дает нам право считать «Шашлык-концерты» не просто заурядными общедоступными музыкальными вечерами (хотя заурядными их не назовешь уже в силу того, что ими вдохновенно дирижировал сам Абдулла Урюкович!) — но настоящей мистерией высокого искусства? Впрочем, если бы вы даже и не спросили, я все равно об этом расскажу. …Когда концерт лишь только начинался, на сцене, за наглухо закрытым пожарным занавесом, уже заканчивались последние приготовления к необычной трапезе — своеобразному традиционному ужину, на котором, в силу установленных Абдуллой Урюковичем порядков, проходило собрание работников труппы, обсуждались успехи и неудачи артистов — естественно, что сам маэстро Бесноватый тоже выступал перед коллегами с жестким и беспристрастным по отношению к себе самоотчетом. Разумеется, далеко не все рядовые сотрудники оперной труппы бывали приглашены на шашлык-совет; ленивым, не выказывающим должной самоотдачи в работе на благо Дзержинской оперы, ставящим свои интересы выше (или даже на один уровень) с интересами ведущего европейского коллектива, надеяться на приглашение не приходилось. Но если накануне очередного шашлык-концерта к солисту подходил заведующий отделом художественной безопасности театра, потомственный певец Лапоть Юрьев, и вручал тому маленькую красную бумажку, украшенную изящной литографией работы известного художника Мориса Пигаля (изображавшей крохотного винторогого агнца) — артист, зная, что отныне он по праву может гордиться принадлежностью своей к высочайшей художественной элите, бывал по-настоящему счастлив. Согласно традиции, на сцене устанавливался небольшой жертвенник, украшенный барельефами Вагнера, Римского-Корсакова, Прокофьева и Мусоргского; всеми приготовлениями здесь командовала Суламифь Бесноватая — тетка Абдуллы Урюковича. Для очередного шашлык-совета все уже было готово. Мясистый баран со связанными копытами, терзаемый страшными предчувствиями, ожидал своего смертного часа неподалеку от режиссерского пульта. И вот, по окончании концерта, как только счастливый и взмокший Абдулла Урюкович, отделавшись наконец от просителей, почитателей и журналистов, под аплодисменты собравшихся уже присяжных критиков, верных людей, допущенных к таинству артистов и родственников появлялся на сцене — баран, возложенный на жертвенник, приносился в жертву жрецам Аполлона. Сегодня высокой чести прикончить барана был удостоен молодой и горящий желанием оправдать самые несбыточные надежды баритон Павел Бурело. Овлур Бишкеков и Арык Забитов уже приволокли барана на алтарь и сейчас сдерживали его конвульсии; Коко Мандулов и Фраер Дермантава, подчиняясь четким командам Суламифь Бесноватой, сновали вокруг источавших ароматный дым мангалов и барбекью, расставленных по левую и правую руку от дирижерского кресла (обычно использовали трон из «Спящей»); Лапоть Юрьев и баритон Барабанов наполняли стаканы вином. Сегодняшний неофит Павел Бурело, однако, преподнес всем собравшимся изрядный сюрприз, внезапно появившись на шашлык-совете полностью задрапированным в жовто-блакытний прапор: он страстно желал обратить всеобщее внимание на объявленную Украиной государственную независимость. В правой руке Бурело сжимал внушительных размеров державний трэзубець; стремительно разбежавшись, с криком: «Хай живэ ридна Украина!», низкорослый певец своим трезубцем нанес барану страшный удар. Удар, как сказал бы комментатор Николай Озеров, был страшный, но не точный; бедное животное закричало и утроило конвульсии — и быть бы конфузу, но дело спас режиссер Арык Забитов: оскалив меленькие зубки и часто моргая, маленьким перочинным ножичком он перерезал барану горло. «Недостает еще опыта молодежи!» — заметила Азиза Бесноватая, но праздник уже начался. Овлур Бишкеков, вырезав у барана печень, с поклоном поднес ее Суламифь Бесноватой; на разделке тушки уже работали и Юрьев, и Арчибальд Сопель — и аромат шипящих на угольях капелек жира наполнил сцену. Абдулла Урюкович, на правах мудрейшего отведав по кусочку печени и сердца, воздавал должное бараньим мозгам; его многочисленное семейство налегало на окорочка; Арык Забитов, Лапоть Юрьев, а также Бишкеков и Барабанов глодали ребрышки; Стаккаки Драчулос неопрятно вгрызался в лопатку… Все знали, что как только Абдулла Урюкович, утолив первый голод, возьмет слово, то продолжать трапезу уже никому дозволено не будет — поэтому некоторое время на сцене были слышны лишь потрескивание и похрустывание косточек, почавкивание, невнятные междометия и специфические глотательные звуки — да в уголке у левой кулисы неожиданно раздался тихий отчаянный писк: это критик Шкалик вдруг подавился торопливо заглатываемыми бараньими кишочками.
* * *
Невзирая на относительно малые, в масштабах всей России, размеры города N-ска, он был буквально перенаселен композиторами. Вы могли спокойно встретить композитора и в новостройках, и в недалеком пригороде; снующие по своим беспокойным делам (а дела у N-ских композиторов почему-то всегда были беспокойными), они переполняли электрички, трамваи и автобусы; составляя нездоровую конкуренцию честному труженику, бесстыдно вставали в очереди за булкой и сардельками. Но особенно много композиторов попадалось навстречу рядовому горожанину в центре города, поскольку в свое время, пополнив список своих преступных деяний перед человечеством, советская власть отдала в распоряжение Союза советских композиторов города N-ска небольшой особняк, расположенный в историческом центре городка. Перестройка, охватившая, как известно, все слои нашего населения, в этом вопросе никак на события повлиять не смогла: когда наконец, по настоянию городских властей, с фасада домика исчезла огромная бронзовая доска с надписью: «Союз Советских композиторов СССР. N-ское отделение» — то на ее месте немедленно возникла другая, не менее роскошная, выполненная с применением лазерной обработки резанием и сверхточного литья. На этом фундаментальном образце станкового искусства красовались слова: «N-ский Свободный Союз Христианских Творцов Консонансов». В полном согласии с веяниями новых экономических условий, в подвальчике особняка смышленые композиторы (а по негласной традиции, в правление ССХТК избирались мудрейшие из умнейших и хитрейшие из сметливейших) открыли валютный ресторан «Си-бекар»; на подступах же к уютнейшим кабинетам в верхних этажах возникла пара охранников в десантной форме безо всяких знаков различия, но вооруженных дубинками и автоматами. …Если бы праздному прохожему сейчас вдруг вздумалось проникнуть сквозь охранный кордон и заглянуть в кабинет председателя СХТК, то взору его открылась бы следующая картина. Кабинет представлял собой уютное помещение, обшитое дубовыми панелями; стену напротив окна украшал портрет композитора Цезаря Кюи; справа от входа красовался портрет композитора Лядова, а над массивным старинным столом помещался огромный, заключенный в роскошную бронзовую раму портрет председателя союза товарища Пустова; за столом же, непосредственно под портретом, сидел сам творец бессмертной кадрили из кинофильма «Не стой под стрелой» — Акакий Мокеевич Пустов собственной персоной. Кроме него, в кожаных креслах возле низенького журнального столика в кабинете сидели критик Шавккель и музыковед Вореквицкая; по торчащим из подушек другого кресла седенькому хохолку, очкам и ботиночкам фирмы «Скороход» угадывался критик Шкалик. Композитор Тайманский фамильярно угнездился на одном из углов стола Пустова; а на стульчике возле двери сидела молодая и талантливая критикесса Зарема Поддых-Заде. Зарема потела от счастья: в городе проходил знаменитый фестиваль «N-ская Музыкальная распутица», и рецензия ее на один из концертов фестиваля, помещенная в утреннем выпуске газеты «У речки», только что была зачитана вслух и заслужила высокую похвалу собравшихся. В этой рецензии Поддых-Заде освещала концерт, в котором силами симфонического оркестра N-ской школы № 2 для детей с врожденными дефектами слуха и сводного хора «Феникс» N-ского Главного управления пожарной охраны исполнялись симфоническая фреска товарища Пустова «Ликуй, Исайя!» и оратория композитора Тайманского «На смерть Иуды Маккавея» (переработка его же собственного опуса, исполнявшегося ранее под названием «Ленин в сердце моем»). Несмотря на молодость (Поддых-Заде не было еще и пятидесяти), обозревательнице удалось услышать все несметные богатства многокрасочных партитур, дилетанту или плохо подготовленному слушателю абсолютно неразличимые. Непредвзятое ее перо также отметило, как «взволнованная и потрясенная услышанным духовным богатством, публика, в едином порыве вскочившая с мест, наградила исполнителей и творцов нескончаемой овацией». Говоря честно, заурядный обыватель-меломан овацией те жидкие хлопки никак назвать бы не решился (хотя у критика Шкалика до сих пор побаливали ладошки). Да и немногочисленная публика, подчиняясь единому порыву, покинула зал, как только раздались первые октавы и мажорные трезвучия симфонической фрески товарища Пустова. Но где же им понять прихотливый полет мысли музыкального гения членов Свободного Союза Христианских Творцов?! Зареме, однако, сей счастливый дар понимания серьезной музыки был дарован Всевышним сполна; и сейчас, благодаря этому, она вкушала скромные плоды признания. Акакий Мокеевич снял трубку одного из восьми телефонных аппаратов, сгрудившихся на столе, и тихо молвил несколько слов. Тут же в двери возник талантливый молодой композитор Шинкар (широко известный в N-ске благодаря возглавляемому им семинару молодых композиторов «Музыкальные тупички»), который с изящным полупоклоном протянул запунцовевшей от гордости Поддых-Заде нежно-розовый листочек с изображением лиры — то была двухдневная путевка в Кустодиево, где располагался дом творчества ССХТК. «Дайте-ка на минутку!» — с доброй улыбкой сказал Акакий Мокеевич, протянув руку за путевкой. Овладев бумажкой, он размашисто, по диагонали, написал: «Двойной компот за обедом и завтраком» — и поставив свой внушительный автограф, вернул путевку Зареме, тихо застонавшей от счастья. Неслышно появившаяся Сара Бернардовна, секретарша Пустова, принесла крепкий чай; творцы, рассевшись поудобнее, сделали каждый по шумному глотку; композитор Тайманский плеснул себе что-то в чашку из маленькой походной фляжки и прихлебнул дважды. Затем на столе товарища Пустова возникла мятая газета, перекочевавшая туда из кармана Акакия Мокеевича. Все посерьезнели. «Теперь, товарищи, к делу!» — мягко, но решительно произнес Пустов.* * *
Однако прежде чем мы продолжим наше незримое присутствие в кабинете товарища Пустова, я расскажу вам, что отвлекало от сочинения поэм и фантазий Си-минор цвет советской и постсоветской музыкальной мысли; что портило праздничное, в общем-то, настроение N-ских творцов консонансов; что же, лишая потомков множества страниц ненаписанной музыки, так занимало служителей муз в этот дивный погожий день. А занимало их все то же: газетное, так сказать, творчество критика-самозванца Мефодия Шульженко. Именно печатное слово несерьезного критика нагоняло тучи на безоблачное существование композиторской элиты; именно его нечестивое глумление над вечными ценностями работы признанных N-ских сочинителей и не давало им покоя. Почему? — спросите вы. Вариантов ответа может быть несколько; впрочем, давайте-ка пока прислушаемся к тому, что происходит в кабинете товарища Пустова. — Но ведь мы можем выступить, в конце концов, авторитетно — коллективная статья, как образец сплоченности людей духа… — приподняв неровный нос, горячо заговорила Зарема. — Бесполезно, душенька! — плаксиво, в нос возразил Шавккель. — Этот негодяй цепляется к каждому слову и пишет ответные статьи, которые только унижают наше достоинство в глазах широкой общественности… — Да, перо у него бойкое! — вздохнул Шкалик. — Да что: «перо бойкое!» — неприязненно передразнил коллегу Шавккель, — культуры-то нету! Где толща? Ну покажите мне хоть одно место, где у этого негодяя из-под написанного выглядывает толща культуры!.. — Да где уж там культура, твою мать, если он не может понять красоты моей музыки — такой, блин, близкой народу! — заявил Тайманский, не совсем ловко подавив отрыжку. — Может быть, все-таки попробовать поговорить? — мягко, но веско полувопросил Акакий Мокеевич. — Я очень уважаю вашу, Савонарола Аркадьевич, позицию, — (и Пустов благосклонно посмотрел на Шавккеля), — но на, так сказать, определенном фронте мы могли бы взять его, так сказать, в союзники… — Союзничка нашел! — иронично заметил Тайманский, в очередной раз доливая к себе в чашку содержимого карманной фляжки. — Нет, нет: разговаривать с ним невозможно, он дерзкий! — обиженно пищал Шкалик. — Сколько уж раз я пытался по-доброму, по-отцовски… — Ну, я не совсем точно выразился… — спокойно и задумчиво молвил Пустов. — Но как-то его использовать на определенном фронте, тем не менее, мы бы могли… Акакий Мокеевич всегда славился своей осторожностью и способностью никогда не договаривать вслух многих вещей — тем не менее, присутствующие его прекрасно понимали. В данном случае под «определенным фронтом» товарищ Пустов подразумевал Дзержинский оперный театр: Шульженко был единственным критиком в городе, позволявшим себе скептически отзываться о талантах главного дирижера Бесноватого на посту художественного руководителя N-ской оперы; а к Бесноватому у Пустова были давние счеты. Дело в том, что с предшественником Бесноватого, дирижером Чингисхановым, Акакия Мокеевича связывала большая творческая дружба, завязавшаяся еще в коммунистическую эру много лет назад, когда Дзержинская опера стала просто театром Пустова: как следует поднатужившись, он писал оперу (хотя и не любил это дело, предпочитая кадрили, мазурки и вальсы — причем последние Пустов, как смелый новатор советской музыки, писал исключительно в двухдольном размере). Затем, к очередной годовщине или съезду КПСС, эта опера ставилась в Дзержинке — и, как из рога изобилия, на друзей и их друзей сыпались премии, награды и почетные звания: Чингисханову и работникам оперы — «За пропаганду советской музыки», а Пустову — «За серьезный вклад в развитие» той же самой советской музыки. Таким образом, все бывали очень довольны. При всей своей нелюбви к этому жанру Акакий Мокеевич умдрился накатать аж три оперы: разоблачительную фреску «Екатерина Вторая», драматический лубок «Пастернак скончался» и оперу-балет «Оболганный Дантес», после чего приобщил к кормушке и своего друга, композитора Парилкина, который написал поучительную оперу для детей «История Хаима». Но Абдулла Урюкович, придя к власти, довольно быстро вывел из репертуара те оперы, которые не могли принести ему ни славы, ни валюты: там застонали уже Моцарт, Пуччини и Верди — не говоря уже о Пустове или Парилкине. Основной интерес Бесноватого, бесспорно, включал в себя многие опусы русских композиторов, столь популярных и любимых за границей — но, по какому-то ужасному стечению обстоятельств, Акакий Пустов вовсе не был любим буржуазной публикой, да и музыка его была на Западе как-то совсем непопулярна — быть может, просто в силу недостаточной ее изученности. Имея похвальную привычку загребать жар чужими руками, Пустов — до поры, до времени — не спешил спускать с поводка своих серьезных критиков, когда Шульженко, пописывая иногда о фестивалях N-ского Союза Христианских Творцов, отзывался об этих самых творцах довольно-таки некуртуазным образом. «Знаете, свежее, непредвзятое мнение независимого критика дорогого стоит! — очаровательно заикаясь, говорил он на пресс-конференциях и в интервью. — Пусть даже оно не всегда справедливо: ведь у нас нынче демократия…» Но самоуверенный Шульженко никаких полезных выводов из этого не сделал. Вскоре он затеял и вовсе опасную и гнусную игру, начав пропагандировать творчество тех композиторов, которых и замечать-то не нужно было; бесталанных недоучек, лишь по преступной халатности творца Бегемотского (он отвечал в ССХТК за отсев претендентов на звание творца на раннем этапе развития) не вылетевших из Консерватории со второго курса. Дальше-больше: критик-самозванец стал критиковать N-ский Музыкальный театр Детской Радости и его руководителя Петра Сидорова; тогда жена Сидорова, музыковед Черносотенная, заявила, что если Акакий Мокеевич не «примет меры», то она рассыплет набор своей монографии «Истинное воплощение христианства: N-ские творцы», полностью подготовленной к печати и выходившей в издательстве «Сумбур» полуторамиллионным тиражом. Кроме того, сын Акакия Мокеевича, молодой композитор Олег Пустов также стал проявлять признаки неудовольствия: в театре Детской Радости готовилась к постановке его детская опера «Крах Чебурашки»… Музыковеды (а N-ский ССХТК большей частью именно из них и состоял) тоже подняли крик: их, уютно обживших многие N-ские газеты, молодой нахал стал нагло вытеснять с газетных полос… А на позавчерашнем банкете после триумфального концерта (который так великолепно отрецензировала Поддых-Заде), отведя Пустова за рукав в сторонку и непрерывно озираясь по сторонам, Шкалик, понизив писклявый голосок, сообщил Акакию Мокеевичу о том, что сам товарищ председатель — или его сын, или протеже — неважно; но они имеют реальную возможность принять участие в грандиозном проекте, задуманном Абдуллой Урюковичем. Однако, примкнув к ведущей в мире Дзержинской опере… — Тут Шкалик перешел на какой-то птичий, присвистывающий шепот, и больше никому ничего расслышать не удалось. Совсем близко стоявшие композиторы смогли различить только что-то вроде: «Вы понимаете, что мы, со своей стороны, должны…» — и в конце: «Но об этом никто, никто не должен знать!..» В общем, Акакий Мокеевич Пустов пришел к выводу: с Шульженко надо что-то делать; на альянс с ним против Бесноватого в данном случае уже надеяться не приходилось; но консолидация с Абдуллой Урюковичем против строптивого выскочки как раз-таки сулила некоторые выгоды, причем достаточно конкретные. — С прессой надо работать… — неопределенно протянул Акакий Мокеевич. И опять мудрого товарища Пустова окружающие поняли безслов. — Нет статьи — нет проблемы! — слегка заплетающимся языком заявил композитор Тайманский, уже откровенно хлеставший какую-то гадость прямо из горлышка своей фляжки и довольно рискованно, на манер Шалтая-Болтая, раскачивавшийся на столе. — С газетой «Измена» должны поработать коллеги; скажу так: нам обещано; — плаксиво сообщил Шавккель. — А газету «У речки» я беру на себя — но без вашей, коллеги, помощи, гарантии я дать не могу… — Я близка уже к написанию письма! — выпрямив покатую спину, выпалила вдруг все молчавшая Вореквицкая. — Поработаю устно… — пропищал Шкалик. — Я выступлю со статьей, и все увидят, что такое настоящая работа мысли в сравнении с гадкими измышлениями недостойных, которые — и это будет видно, если мы просто противопоставим, поставим рядом… — горячо понесла Поддых-Заде; ее изрытое оспой лицо приняло вдруг фиолетовый оттенок. — Ставить рядом как раз и не требуется… — тихо и как бы задумчиво сказал Пустов. — Аллах акбар! — решительно пискнул из своего кресла Шкалик, требовательно посмотрев на Пустова. — Ох, и не говорите! — с тяжелым вздохом молвил Акакий Мокеевич, сняв очки и потирая переносицу. — Ах, да пусть Аллах хоть нам поможет! — по-бабьи запричитала Вореквицкая. — Акбар, акбар! — согласно забубнили Шавккель с Тайманским. — Аллах акбар! — истерично привизгнула Зарема Поддых-Заде.* * *
…В диспетчерском зале аэропорта Братиславы царил переполох: свалившийся, как снег на голову, какой-то чартерный рейс Аэрофлота просил экстренной посадки и реанимационную машину «Скорой помощи» — у кого-то из пассажиров случился острый приступ сердечной недостаточности. Экипаж, судя по всему, был неопытный, из какой-то глухомани — и сейчас самолет вели сразу три диспетчера, один из которых, к счастью, очень хорошо говорил по-русски. Лишь только ТУ-154 совершил, в конце концов, благополучную посадку, на борт, выскочив из завывающей сиреной санитарной машины, по аварийному складному трапу заспешили врач и два санитара с носилками. В носовой части салона их взорам представился багроволицый тучный мужчина апоплексического телосложения, покоившийся на откинутом кресле без каких-либо признаков жизни — если не считать явственного запаха алкоголя. Несколько человек, без толку крутившиеся вокруг и в без того невеликом пространстве, твердили лишь: «Сердце, сердце!..» — да тыкали себе пальцем в левую сторону груди. Ввиду невообразимой тесноты и духоты (кондиционер в лайнере не работал), словацкие медики, сделав пациенту по внутривенной и подкожной инъекции неких заграничных препаратов, загрузили его тело на носилки — решив, очевидно, не теряя даром времени все необходимые действия продолжить в реанимобиле по пути в госпиталь. — Дас ист куоре? — очень серьезно спросил врачей стриженый под длинным горшок долговязый и невзрачный мужчина в дурно скроенном пиджаке. — Дас ист пиздец! Ха-ха-ха-ха! — послышался пронзительный и громкий хохот из второго ряда кресел. И, поймав на себе недоуменный взгляд врачей, курносенький и широкоротый человек с неопрятными крашеными волосами, одетый в красную майку с надписью «Playboy», как-то гаденько улыбнувшись, любезно пояснил: — Капут. Морто.
* * *
Стаккаки Драчулос (а именно он давал врачам разъяснения о состоянии пострадавшего) был, кстати, недалек от истины — ибо Антон Флаконыч Огурцов, упившись в самолете до какой-то невообразимой, не веданной им ранее стадии, был уже действительно близок к тому, чтобы, как говорится, встретиться с праотцами. Как это случилось, он не знал и сам — в этот злополучный день все, вроде бы, шло как обычно: похмелившись утречком баночкой пива «Хольстен», он отправился на работу — где, в ожидании гостей с местного трактороремонтного завода (там обычно N-ская опера размещала заказы на декорации), «полирнул» утреннее пиво двумя стопочками «Абсолюта». Гости, не обманувшие ожиданий, прибыли с двумя бутылками коньяка «Арарат» — которые как-то незаметно, за разговором, и опустели. Вскоре после ухода заводчан в кабинет товарища Огурцова пожаловала Анита Киви — представительница фирмы «Примус», бойко лопотавшая по-русски (за что ее Антон Флаконыч и привечал). Анита приволокла пачку каких-то контрактов на подпись (Абдулла Урюкович, просматривая все бумаги, сам почти никогда ничего не подписывал, оставляя это право Огурцову — и подобное проявление уважения тоже очень нравилось Антону Флаконычу). Киви, однако, тоже явилась не с пустыми руками: и товарищ Огурцов всласть воздал должное джину «Бифитер», до которого был огромный охотник. Тоник Огурцов не любил («горький он какой-то!») — и потому пил чистый джин. За приятной беседой (товарищ Огурцов все щипал Аниту за попку, а она заливисто хохотала, приговаривая: «Ой, как ви стразтний!» — и это льстило директору) литрушка джина, что называется, «рассосалась» — хотя Анита Киви как раз больше налегала на тоник. Затем он подписал те бумажки, что она принесла: по традиции, заведенной Бесноватым, основное содержание документов было заклеено тонкой бумагой («Я хочу радовать вас неожиданными успехами!» — говорил ему Абдулла) — а в сущности, Огурцову было глубоко наплевать на содержание всяких там контрактов, в которых он все равно ничего не понимал; потомственный, породистый управленец, Антон Флаконыч, после десяти лет работы «в культуре», не знал, чем отличаются опера и балет, и тем необычайно гордился. Ну, а после напряженного трудового дня, пообедав с администратором Есауловым (обедали бутербродиками с семгой и водкой «Жириновский» пополам с вермутом «Торино»), товарищ Огурцов, загрузившись в свою служебную «Волгу», отправился в N-ский аэропорт «Полянки», откуда оперная труппа Дзержинского театра специальным чартерным рейсом отправлялась нынче на гастроли во Францию и Италию. В аэропорту мурыжили долго: у самолета, выделенного для чартера N-ским управлением гражданской авиации, оказались неисправны рули высоты; не без скандалов был найден другой лайнер — но выяснилось, что у того не работает одна турбина. Пока ремонтники, матерясь и с неохотой, чинили какой-то насос, товарищ Огурцов, непонятным образом проникнув в ложу бизнес-класса, дегустировал там халявные виски и коньяки. Когда объявили готовность к посадке, он спустился вниз, но вылет вновь задерживался: сначала к себе на квартиру спешно отправился виолончелист Заливайло, позабывший паспорт на инструмент, без которого таможня наотрез отказалась выпускать его виолончель за границу; затем все бросились искать сопрано Галю Парамонову (испугавшись, что оставила утюг включенным, она решила на всякий случай проверить это и съездила домой); все это время Антон Флаконыч провел у стойки бара, попивая водочку с администратором Колей Поленовым. В общем, предшествовал несчастью вполне заурядный рабочий день, каких в жизни директора было великое множество. Но как только табло «Не курить! Пристегнуть ремни!» погасло и товарищ Огурцов, возгласив тост за удачный взлет, заглотил любезно поднесенную Залупиловым стопку «Московской», в глазах его потемнело — и издав короткий хрип, Антон Флаконыч бесформенно обмяк в кресле.* * *
…В одном из живописнейших мест старого N-ска — саду имени Ноги Мересьева — затерявшись в бурных зарослях тополей и старых каштанов, помещалось небольшое симпатичное строение. Спроектированное и построенное на заре Советской власти, первоначально оно служило помещением N-скому специальному детскому саду-интернату для детей с замедленным интеллектуальным развитием — но дети быстро выросли, и посему уже довольно давно в домике располагалась редакция N-ской молодежной газеты «Измена». Редактор газеты, Глафира Тележная, возглавившая издание на заре перестройки в результате свободных выборов, славилась своей демократичностью, — поэтому дверь в ее кабинет (в прошлом — комнату старшей нянечки) была всегда раскрыта настежь. Миновав без остановки комнату подготовительной группы, где теперь был отдел информации (к глубокому разочарованию кучковавшихся там корреспондентов), морщинистая, но энергичная старушка, минутой раньше подъехавшая к редакции на микроавтобусе с надписью «Телевидение», устремилась именно в эту дверь. Надо сказать, что корреспонденты газеты «Измена» чертовски далеки были от культурной жизни родного N-ска — но если бы дело обстояло иначе, в старушонке этой они бы без труда признали Наталью Замшелую, ведущую знаменитого цикла музыкальных передач «С ноткой по жизни» и приложения к нему «С мира по нотке», регулярно транслировавшихся российским телевидением. Кроме того, в последнее время она организовала еще одну передачу — «За кулисами Дзержинской оперы», пользовавшуюся в городе заслуженной популярностью. «Ах, можно, я дверь прикрою — что-то дует?» — спросила Замшелая у редактора; не дожидаясь ответа, она плотно прикрыла дверь в кабинет — к огромному неудовольствию всего отдела информации, от безделья и скуки уже навострившему уши. Таким образом, содержание их беседы осталось никому неизвестным. В редакции заметили только, что сразу же после ухода телевизионной старушки Тележная вызвала к себе ответственного секретаря и распорядилась: вместо статьи критика Мефодия Шульженко, посвященной обзору западной прессы после гастролей N-ской оперы в Италии и Японии, уже стоявшей на полосе завтрашнего номера, срочно поставить эссе завотделом культуры Наума Наумова «Не критикуй с поспешностью». «Переверстать Шульженко на послезавтра?» — спросила секретарша, выходя. «Нет, нет! — поспешно ответила Глафира Тележная. — Рассыпьте набор вообще». Заместитель редактора Петр Андреев, вошедший к Тележной несколько позже, застал ту в необычайно задумчивом состоянии. «У нас идет в четверг Апельсинов?» — спросил Андреев. «Ах, не знаю…» — томно произнесла Глафира и внезапно спросила сама: «Петр, а вы бывали в Америке?.. — и, не дожидаясь ответа, добавила: — Увидите где-нибудь английский разговорник — возьмите мне, ладно?» …Лихо мчавшийся по улицам N-ска микроавтобус с надписью «Телевидение» направлялся в новый микрорайон Большие Коровники: Наталья Замшелая хотела поинтересоваться у проживавшей там сестры — не нужно ли той привезти что-либо из Америки, куда старушка Замшелая вскоре отправится вместе с N-ской оперой в гастрольное турне для «освещения» поездки: теперь она уже знала это совершенно точно.* * *
Абдулла Урюкович пребывал в хорошем настроении: назло всем этим злопыхателям-критикам, вечно шипящим, что в репертуаре Дзержинки совсем нет Моцарта, в рекордно короткие сроки — за полторы недели! — N-ская опера поставила оперу великого австрийца. Сегодня, благодаря присутствию серьезных критиков и присяжных журналистов, театр заполнен даже больше, чем наполовину: в Дзержинском театре — премьера «Свадьбы Фигаро». За кулисами — празднично-нервная атмосфера: волнуется дебютирующая в партии Сюзанны сопрано Непотребко; мандраж охватил Мыколу Путягу, впервые поющего Фигаро. Впрочем, больше всех, наверное, переживает дирижер Бустос Ганс. …Когда на Западе музыканты узнавали о том, что Бустос Ганс встал за дирижерский пульт, хохот не прекращался часами. Впрочем, музыкантам оркестра N-ской оперы новоявленный маэстро также доставил немало веселых минут. «А кто же это, собственно говоря, такой? — задастся вопросом неподготовленный читатель. — Талантливый клоун или одаренный массовик-затейник?» — и вновь окажется неправ, поскольку Бустос Ганс является главным приглашенным дирижером N-ского оперного театра. Родившийся в Бразилии, в семье выходцев из Германии, Бустос рано обнаружил склонность к музыке: однажды, когда ему было пять лет, вернувшиеся из гостей родители застали мальчугана у старинного рояля, увлеченно и сосредоточенно колотящего по клавишам тяжелым молотком, исключительно точно соблюдая ритм ламбады. Умиленные родители отдали Бустоса учиться в школу фламенко; а вскоре юный Ганс продолжил обучение в Австрии, где впоследствии и обосновался. Однако Бустос вовсе не порывал с родиной: молодой музыкант не вполне традиционной сексуальной ориентации, познавший первые музыкальные успехи благодаря юношеским прелести и обаянию, свою карьеру пианиста Ганс упрочил уже благодаря доброте старого друга и опекуна семьи Дона Жозефа, который был одним из опытнейших и авторитетнейших руководителей наркомафии Бразилии. А вскоре, также не без материальной помощи старины Жозефа, Бустос Ганс организовал и возглавил Шайзебергский фестшпиле — один из крупнейших в Австрии музыкальных фестивалей. Одним из замечательных событий этого фестиваля в последние годы было выступление Дзержинской оперной труппы, приглашенной Бустосом. Конечно, произошло это не совсем случайно: Абдулла Урюкович, будучи еще совсем, можно сказать, отроком, познакомился с Гансом на всемирном слете пионеров и тельмановцев в братской ГДР — где на торжественном концерте юный Абдулла дирижировал пионерским оркестром, аккомпанировавшим такому же очаровательному подростку Бустосу в Ля-минорном концерте Моцарта. Юноши подружились сразу — и не только благодаря тому, что в быстрой части Бустос так наплутал, что оркестр был вынужден большую часть времени «ловить» солиста; и не потому, что в медленной части Абдулла внезапно «влетел» не на ту строчку партитуры, и малоопытный пионерский оркестр вскоре остановился; и даже не потому, что позабыв вдруг каденцию в финале, Ганс решил ее не играть — нет! Молодые люди просто полюбили друг друга, проникнувшись необычайной взаимной симпатией: полюбили за одержимость, за волю к свершениям — поняв, что среди множества роднящих их обстоятельств главным было их отношение к искусству; ведь оба прекрасно сознавали, что в этом мире не им суждено быть слугами музыки, но она сама существует лишь для того, чтобы такие выдающиеся личности, как они, смогли обеспечить себе широкое общественное признание — которое, в свою очередь, неразрывно связано с материальным благополучием. Став гостем Шайзеберга, Бесноватый также вкусил щедрот Дона Жозефа; популярность его еще более выросла, поскольку неутомимый Бустос, помимо прочего, вел серию популярных образовательных передач о музыке для телевидения Гвинеи и Заира. Но даже бездонный кошелек Дона не смог обеспечить Бустосу европейского дирижерского дебюта — спесь кичащихся своими так называемыми «культурными традициями» оперных театров и оркестров оказалась просто непробиваемой; и буквально грезивший дирижированием Бустос Ганс смог помахать дирижерской палочкой только однажды, в каком-то заштатном городке ГДР. Однако после падения «железного занавеса», на заре «perestroyka» популярность N-ской оперы в Европе выросла даже больше, чем авторитет московского Большого — и разумеется, Абдулла (добрейшей души человек!) не смог не помочь милому своему другу утвердиться на дирижерском поприще. Премьера прошла восхитительно! Оркестр N-ской оперы, подтвердив свою репутацию одного из лучших оркестров России, под руководством Бустоса останавливался всего четыре раза. В увертюре первый валторнист Антон Андреев, грубо нарушив цеховую договоренность, перед своим вступлением посмотрел на дирижера — и не вступил. Услышав его сдавленный хохот, виолончелист Васильев, валторнист Зайков, тромбонист Тюлькин и семейная чета альтистов Улыбиных тоже, в свою очередь, подняли глаза на дирижера; и уж только после того, как они прыснули со смеху, захохотал, забыв про ноты, уже весь оркестр. Бустос же, увлеченно и страстно размахивавший руками на манер ветряной мельницы, совершал еще почему-то какие-то замысловатые движения нижней частью тела и громко постанывал: «O-oh, gut!.. O-oh, schön!.. O-oh! O-oh! Sehr schön!..» Затем в арии Керубино, вовсю стараясь помочь друг другу, Бустос и сопрано Флиртова непрерывно меняя темп, «ловили» друг друга до тех пор, пока на тучной Флиртовой вдруг не лопнули штаны (пошитые вообще-то для меццо Панасовой, которая должна была петь премьеру, но серьезно провинилась накануне: сходив по поручению сестры Бесноватого на рынок за мясом, она принесла большой кусок свинины). Как только спавшие с Флиртовой штаны обнажили для всеобщего обозрения вовсе не мальчишеские ее бедра, она утроила темп — в то время, как обескураженный неожиданным зрелищем Ганс опустил руки в растерянности… Не очень хорош был итальянский язык у баритона Путяги, который в арии своей пел: «Нон пендрай, фарфалон аморозный! Не то жирно дынторну в жиранду!» Каков был итальянский у баритона Далилова (взятого на партию Графа из N-ской оперетты), судить было трудно: особенности его вокальной школы не позволяли услышать чудный голос Далилова, если вы находились от певца более, чем в полутора метрах. Но, в общем, даже по самым высоким критериям N-ского театра, премьера прошла очень хорошо; это был несомненный успех. Через два дня музыкальная общественность N-ска, следившая за прессой, смогла прочесть в газете «У речки» рецензию критика Шкалика, озаглавленную «О, Моцарт, Моцарт!» В ней Моисей Геронтович, в частности, писал: «Прошлую пятницу зал N-ской, имени Дзержинского, оперы был переполнен — и немудрено! Ведь премьерами опер Моцарта — этого гения — мы не избалованы! И как приятно было услышать подлинно по-моцартовски звучащий оркестр, в котором все нюансы так были Бустосом Гансом — этим неутомимым культуртрегером, этим просветителем, этим блистательнейшим пианистом, который обернулся еще и чудесным дирижером — отделаны! А как дивно постигли все тайны моцартовской партитуры молодые солисты! Я вот, помню, слушал „Свадьбу Фигаро“ в 1969 году в Дрездене — и сейчас могу честно и бескомпромиссно заявить: у нас теперь ничуть не хуже!» Заканчивалась же рецензия следующим образом: «Благодаря подлинно подвижническому труду нашего мудрейшего и непревзойденно-талантливейшего Абдуллы Урюковича Бесноватого могут теперь N-чане вкушать все прелести подлинного стиля бессмертного Моцарта!»
* * *
…Молодой контрабасист Данила Перловкин, принятый в оркестр N-ской оперы лет пять назад, за время работы в театре интереса к музыке еще потерять не успел. Он охотно осваивал разнообразные духовые; использовал любую возможность, чтобы расширить свой кругозор в области самых экзотических оркестровых (и не только) инструментов. Вот и сейчас, незадолго до очередного симфонического концерта в N-ской опере, Данила стоял в уголке у входа в оркестровую яму и, тихонько постукивая по литаврам, постигал тонкости их настройки. Внезапно в коридоре под сценой (который музыканты Дзержинки издавна окрестили «метро») появился — куда-то, по обыкновению, спешивший — маэстро Бесноватый. Увидев Данилу, он вдруг остановился, смерил того взором как-то странно блестевших глаз — а затем, быстро подойдя, сказал: — Да, кстати!.. Вот вы, литавры, там все время играете: туг-да-та… Бам!.. — Но, Абдулла Урюкович!.. — робко попытался возразить Перловкин. — Я ведь контрабасист, а не ударный… — Не перебивайте! Вы должны слушать, что вам старший говорит!.. — властно пресек возражения Абдулла. — В общем, вы там играете: туг-да-та… бам! — а надо мне, чтоб вы играли: туг-ба-ба… тррах! Жахнуть там надо как следует, понятно?! — Понятно… А это в каком произведении? — поинтересовался Данила. — Э-э-э… Да это… Ну, где скрипки еще: тага-дага-тага-дага… Поняли? — Все понял, Абдулла Урюкович! Сделаем! — бодро отрапортовал Перловкин. — Ну, вот и молодец! — похвалил дирижер и торопливо помчался дальше.* * *
— …Дурацкая ария какая-то; не люблю я ее… Стоишь, как мудак: «Боже, Боже!..» Да, знаешь, там и наверх ход какой-то неудобный… А вниз — так то дыхалку не рассчитать, то ли что… — задумчиво бубнил бас Бишкеков, потягивая кофе. — …Нет: я, конечно, отоварить-то там все могу… — Эле, Овлур-джян! — возражал ему тенор Матевосян; судя по количеству пустых рюмок и чашечек из-под кофе, сидевший в буфете уже довольно давно. — Рюсский музыка дэлать очень просто: тэмп нэмножко падвинул, тэмпэрамэнт дабавил — и дэло в шляпэ! Речь шла о концертном исполнении оперы «Иоланта» на фестивале, организованном Абдуллой Урюковичем в небольшом сицилийском городке Пикколо. Бишкеков, которому предстояло исполнить партию короля Рене, сомневался и, невзирая на увещевания Матевосяна, терзался сомнениями и грустно качал большой головой. Наконец, Матевосян достал из сумки крупную хрустальную бутыль, и, ловко наполнив до краев две рюмки, весело хлопнул Овлура по плечу: — Ну чего ты переживаешь, ара? Ми же с тобой рюсские пэвцы!.. Сидевшая за соседним столиком особа с по-птичьи острым носом и как будто бы навечно приклеенной, ничего не выражавшей улыбкой, жадно ловила обрывки вышеприведенного разговора звезд N-ской оперы. Делать это ей было непросто, поскольку из-за другого стола, где пировала оркестровая братия, постоянно доносились взрывы хохота и обрывки громкого спора: «…Да я клянусь тебе, он голубой!.. Спроси у Марфина: он в Германии пытался того с телкой познакомить…» — далее приглушенным голосом следовала какая-то таинственная история; затем, после очередного залпа смеха, кто-то уверенно объявлял: «Нет, чуваки, если серьезно — то он чистая двустволка! Вот вы, наверное, не знаете…» Девушка с клювом поморщилась: она пришла в буфет не просто так, но по велению долга; пришла за совсем другими историями, которые пригодились бы ей для работы. Увидев вошедшего в буфет оперно-балетного деятеля Прилепу, она вскочила из-за стола и устремилась к нему, явив взорам присутствующих свои высоко открытые, в ажурных колготках ноги, смахивавшие на две красивые бутылочки из-под арманьяка. …Журналистка Нижак считала себя (возможно, не без оснований) особой чрезвычайно утонченной: она картавила, поскольку находила это обаятельным, и свое настоящее имя — Степанида — заменила на более короткое и очаровательное: Стика. Для своих тридцати пяти довольно прилично сохранившаяся, романтичная и возвышенная, она все еще ждала волшебного принца. Принц, однако, пока задерживался; а Стика тем временем жила с человеком незавидной внешности и прозрачными глазами — коммерсантом из бывших комсомольских деятелей, который, если и не всегда удовлетворял запросы ее тонко чувствовавшей души, то хотя бы потребности стикиных косметички, гардероба и желудка обеспечивал сполна. Стика работала в молодежной газете «Измена» и — конечно же! — писала об искусстве, работу свою исполняя с усердием и тонким вкусом. Один из ее материалов о Моцарте начинался, например, так: «Моцарт… Моцарт… Сколько музыки в этом слове! Вслушайтесь: Моцарт… Мо-царт… Хочется написать это слово и поставить точку…» Но обещанную точку журналистка не ставила (платили ей тогда по количеству строк), радуя читателей оборотами типа: «Впервые снова на сцене…» или: «Не в обиду Пушкину будет сказано, но Чайковский…» Посетив как-то могилу Чайковского в Петербурге, Стика подарила читающей публике N-ска лирический очерк — где, в частности, писала: «Осенние листья, кружась, опускаются на аллею… За решеткой сидит Чайковский…» По случаю премьеры в N-ской опере Нижак похвалила Прокофьева, заметив, что тот был «по-своему гениален»… В общем, пописывала себе Стика на вечные темы, с удовольствием и охотой посещая все банкеты по случаю премьер, концертов или вернисажей, отзываясь на них затем заметками и репортажами с обилием слов «волнительный» и «неординарный». Беда, как всегда, пришла неожиданно: замредактора Петр Андреев и секретарь Иван Гагарин приволокли в газету на должность музыкального обозревателя своего приятеля и собутыльника, некоего Мефодия Шульженко. Завотделом искусства Наум Наумов, издавно относившийся к творчеству Нижак без должного пиетета, этим обстоятельством цинично воспользовался: количество стикиных строчек «по искусству» стало в газете стремительно убывать; Шульженко нагло отобрал у нее все, что касалось оперной и филармонической жизни N-ска. Пламенное выступление Стики на редакционной летучке («…Вот вы все вы тут радуетесь, думая что такая критика нам нужна — в то время, как такая критика не только нам, она вообще никому не нужна!») осталось по достоинству не оцененным… Однако мир не без добрых людей: телевизионные старушки Замшелая и Спасская, которых Нижак заблаговременно информировала о всех шульженковских статьях еще до выхода их в свет (а порой ей даже удавалось затерять оригинал или умыкнуть гранки из наборного цеха), отплатили журналистке сторицей: и вскоре Стика, простившись с редакцией «Измены», уже вела на N-ском телевидении свой авторский цикл передач под названием «Кое-как». Одним из первых появлений Нижак в эфире стало интервью с дирижером Бесноватым. Посвятив требуемые пятнадцать-двадцать минут воспеванию многогранного таланта дирижера, Стика, показав в неотразимой улыбке крупные зубы, задала, наконец, давно припасенный вопрос: «Скажите, Абдулла Урюкович, что для вас значит и какое, так сказать, место в вашей жизни занимает… женщина?» На что Бесноватый, засветившись прыщиками и одарив телезрителей улыбкой «обаятельной № 1 для публики и журналистов», после короткой паузы ответил: «Э-э-э… Конечно, конечно! Женщина в нашей жизни это, прежде всего — мать… Ну, любовь… Вот мы все знаем… „Из всех искусств любовь — мелодия… Музыка…“ — как поэт наш Пушкин очень правильно, так сказать, гениально написал… Я так занят, так много работаю, что, конечно, в жизни женщин я значу гораздо больше, чем они — в моей… Но вот музыка — она же женского рода; и вот, если правильно по Фрейду подойти — то, скажем, Вагнер он где-то и женщина тоже — в том смысле, что я вот говорю, я его играю когда — о, какая это замечательная музыка! — то я могу его… это… — то есть, я мог бы его… скажем, представить…» — но как мог бы представить Вагнера Бесноватый и что он собирался с ним сделать, для телезрителя осталось тайной; в этом месте режиссер передачи пустил монтажным «наплывом» фрагмент телевизионного «Шашлык-концерта с Бесноватым».* * *
…Молодая жена уехала, и впервые за несколько последних недель оказавшись в одиночестве, критик Шульженко почувствовал себя тоскливо и неуютно. Вообще, все вышло как-то странно и совсем неожиданно: однажды в Дзержинской опере — на банкете после спектакля, где молодая певица Елена Эворд, впервые спев Виолетту, принимала поздравления, внезапно из-за спины она услышала глуховатый голос, произнесший буквально следующее: «Что ж, последним актом вы себя реабилитировали…» Обернувшись, Елена увидела улыбающегося моложавого субъекта с бокалом в руке и в безобразной клетчатой рубашке. Будучи человеком воспитанным, Эворд на подобную наглость никак не отреагировала. А вскоре в газете «У речки» вышла рецензия, где пресловутый обладатель клетчатой рубашки (один вид которой вызывал изжогу у многих аборигенов Дзержинской оперы) писал, что обладательница прекрасного голоса Елена Эворд может стать звездой мирового класса — но только лишь в том случае, если будет чисто петь верхние ноты… Упрек был достаточно едко сплетен с комплиментом, и Елена посему даже не обиделась насчет всего остального: в самом деле, откуда критику знать, что в соответствии с высочайшим повелением Абдуллы Урюковича, сложнейшая партия была подготовлена всего за восемь дней? И при следующей случайной встрече с Шульженко (которая, если быть точными, произошла в кафе «Форшлаг» при валютном ресторане «Си-бекар» N-ского союза композиторов) Эворд… поздоровалась с Мефодием. Журналист, давно привыкший к тому, что после критики в адрес того или иного артиста те мгновенно перестают его замечать, был ошарашен. Он попросил певицу об интервью. Люди занятые, они долго не могли договориться о встрече — и надо же было тому случиться, что увиделись они как раз в день рождения Елены. По этому случаю они отправились к Шульженко домой, где их ожидала бутылка коньяка «Наполеон», давно им заначенная для форс-мажорных обстоятельств. …Через три дня, совершенно неожиданно для самого себя, Шульженко предложил Эворд руку и сердце. Застигнутая врасплох, она ответила согласием. Не прошло и недели, как брак был зарегистрирован в N-ской городской управе. Оперная общественность города была в шоке: все вышеописанное произошло столь стремительно, что в театре никто даже не успел толком посплетничать; (вы, конечно, понимаете, что официальный брачный союз лишал все разговоры о нем той пряности, которая — будем искренни! — совершенно необходима в данных вопросах)… Разумеется, что женитьбой на одной из ведущих солисток Дзержинки Мефодий Шульженко лишь пополнил список своих злодейских выходок, направленных против величайшего и гениальнейшего дирижера современности Абдуллы Урюковича Бесноватого — да хранит Аллах здоровье и разум его! Эворд же, легкомысленно выйдя замуж за одиозного и опального критика, вбила первый клин в свои отношения с труппой и талантливым ее руководителем, поставив низменные, сугубо личные интересы выше чаяний и нужд всего коллектива… Таким образом, Шульженко вселился в театральный дом, сопровождаемый угрюмыми взорами артистов и хористов Дзержинской оперы, смутно ощущавших себя обкраденными, униженными и оскорбленными. Вскоре Елена поехала в Италию брать уроки у одного известного педагога (после работы с Абдуллой Урюковичем молодой, неокрепший голос нуждался в реабилитации); Мефодий же, чтобы как-то скоротать время, с утроенной энергией принялся отслеживать в своих рецензиях оперно-филармоническую жизнь города N-ска, бездумно пополняя плотные ряды своих недругов.* * *
…Музыковед Вореквицкая страдала. Впрочем, человека, знавшего Сусанну Романовну близко, мы этим сообщением нисколько бы не удивили, поскольку страдание было ее перманентным состоянием. Как любой член N-ского союза композиторов, она периодически делала кому-то гадости, после чего, угрызаясь муками совести, всякий раз долго мучилась. Эта черта ее характера была музыкальной общественности N-ска хорошо известна, и посему Вореквицкая и в консерватории, и в ССХТК пользовалась репутацией человека исключительно порядочного. Но вообще-то страдать Сусанна Романовна начала еще в молодости; с детства мечтавшая о славе женщины-композитора, она, изучив в совершенстве теорию музыки и композицию, вскоре с ужасом убедилась, что прекрасное ее образование не смогло дать ей главного: собственно сочинительского таланта. Обнаружив себя неспособной к созданию даже крохотного мотивчика, Вореквицкая так терзалась, что решила было уже наложить на себя руки и тем положить конец страданиям — но тут, к счастью, она встретила своего давнего школьного друга Шавккеля. С радостью и изумлением узнала тогда Сусанна Романовна, что карьера музыковеда сулит радости не меньшие, чем сочинение музыки: музыковеды входят в союз композиторов точно на таких же правах, как и любой сочинитель; диплом музыковеда также открывает двери и в дом творчества, и на множество курортов, где теоретики обычно проводили свои съезды и семинары. — Ай эм музиколоджист! — радостно щебетала она вскоре на международном конгрессе в Лондоне. С тех пор Вореквицкая полностью посвятила себя музыколожеству; окончательно от страданий это не избавляло, но мириться с жизнью стало как-то полегче. Любившая оригинальничать, объектом своего изучения она выбрала музыку Яначека. К тому было несколько причин: во-первых, Сусанне Романовне очень нравились курорты Чехии; во-вторых, никто не вякнет о вредоносном увлечении буржуазной музыкой, поскольку с социалистической Чехословакией мы дружили — соответственно, и выезд туда оформить было по легче. Кроме того, музыка Леоша Яначека в N-ске, да и в России вообще практически не исполнялась — соответственно, можно было писать о ней любую околесицу безо всякого риска разоблачения. Кандидатская диссертация Вореквицкой называлась «Уменьшенные кварты как символы атеистического начала в „Глаголической мессе“ Яначека» и была защищена успешно; вышедшая затем книга «Целотонные ходы — носители народного юмора в опере Яначека „Катя Кабанова“» получила высокую оценку коллег; книга была вскоре издана на сербском, латышском и удмуртском языках. Так и жила себе музыкологистка Вореквицкая в своей уютной яначековской нише, разъезжая по курортам (то бишь симпозиумам и конгрессам) и почти не участвуя в союзкомпозиторских баталиях: ей и так было хорошо. Она изучала творчество Яначека и тихо страдала. …Однако сейчас Вореквицкая страдала не из-за Яначека… А вернее, как раз-таки из-за него… Она даже не знала, как бы это лучше сказать… В общем, много сил и стараний приложила Сусанна Романовна для того, чтобы в N-ске была впервые исполнена Глаголическая месса Яначека. Был приглашен чешский дирижер Зденек Жапка (в недавнем прошлом — ученик N-ского профессора Писина); участие же в концерте оркестра N-ской филармонии, хора N-ского радио «Трудное детство» и солистов Флянова и Пустяковой оплатил Чешский культурный совет. Естественно, что титанические усилия Вореквицкой по организации концерта также были замечены и хорошо оплачены. И все бы было прекрасно, если бы не этот проклятый Мефодий Шульженко, написавший в своей рецензии на концерт о том, что хор и г-жа Пустякова пели нечисто, дирижер оказался вообще каким-то клоуном, а за весь концерт оркестр раза три, от силы, вступил «вместе» — но ни одну фразу закончить музыкантам вместе уже не удалось. В заключение своей статьи мерзавец еще и пофилософствовал — вот, мол, как жаль, что столь прекрасная музыка была впервые представлена в N-ске таким откровенно халтурным исполнением. Поспешившая на следующий день в Чешский культурный совет Вореквицкая была принята там более чем прохладно; заметочка Заремы Поддых-Заде «Волшебный мир Яначека», предусмотрительно захваченная теоретиком, кардинально улучшить ситуацию не смогла. Именно после всех этих событий и оказалась Сусанна Романовна там, где мы ее заметили впервые — в кабинете товарища Пустова. И сейчас, после беседы с N-ским цветом композиторской мысли, ей было немного не по себе: она вспоминала, как зачитывалась критиками Шульженко, написанными — как говорила она маме по телефону — «ярко, достаточно нетрадиционно»… В общем, Вореквицкая страдала муками совести — для человека порядочного (каким, напомню, она и являлась) состояние вполне обычное. «Что же это за „акбар“ еще какой-то?» — вдруг подумала она и, кряхтя, полезла в книжный шкаф за энциклопедией.* * *
…Когда Антон Флаконыч открыл глаза, он долго не мог понять, где находится и как здесь очутился: тело его, одетое в свежее, больничного покроя белье, покоилось в очень опрятной кровати — несколько, правда, казенного вида; душа же томилась догадками. «Видать, как следует дали вчера — ничегошеньки не помню… Дом отдыха? Санаторий?.. Кисловодск?.. Вот зараза!.. — трудно мыслил он. — А главное, интересно: с кем хоть пили-то?» Тут вялая работа огурцовского разума была прервана появлением пожилой женщины в белом халате. Товарищ Огурцов попытался было скроить приветливую улыбку, но медсестра, сказав в его адрес что-то такое, чего Антон Флаконыч с перепою сразу и не понял, вышла. Вскоре, впрочем, она появилась вновь с огурцовской одеждой. Бросив ее на кровать, недружелюбная сестра сказала лишь: «Но чо, пребрал си са?» — и вышла опять. «Нет, это не Кисловодск! — подумал Огурцов. — Украина, что ли? Или Белоруссия?» Антон Флаконыч оделся, и медсестра молча отвела его в кабинет, где главным был пожилой лысый мужчина в белом халате и массивных очках. «Главврач!» — подумал Огурцов. — «То е просте пиян!» — сказала сестра, когда хозяин кабинета поднял на них глаза. «Точно: я на Украине! — решил Огурцов. — Киев?» — «Ходте преч!» — строго сказал главврач, указав директору N-ской оперы на дверь. «Нет, наверное, это Львов!» — заключил Антон Флаконыч и, придя в смятение еще большее, вышел на улицу. Перед туманным взором его предстал город: опрятный, красивый — но абсолютно незнакомый! Товарищ Огурцов, несколько растерянный, начал шарить по карманам в поисках сигарет. Нащупав в кармане какой-то картонный квиточек, он автоматически извлек его на свет и некоторое время тупо рассматривал, ничего не понимая: это был посадочный талон Аэрофлота. «Так я за границей!!! — осенило товарища Огурцова; он наконец-то вспомнил, что, являясь директором театра, отправился вместе с оперной труппой на гастроли за рубеж. — Но где же все? Где Бесноватый? Где театр?» Бесцельно скитаясь по незнакомым улицам, Огурцов так и не смог восстановить в памяти тех событий, которые произошли с ним после посадки в самолет. Снедаемый страхом и отчаянием, он брел в неизвестном направлении. А в оперной труппе, находившейся тем временем во французском городке Блюдаманже, царила обычная скандальная суета, традиционно сопровождавшая N-скую оперу на любых западных гастролях. Забастовал хор: его разместили в крохотных номерах провинциального отеля барачного типа — само собой разумеется, без обеда, но даже и без завтрака. Обещанные суточные же должны были выплатить в самом конце поездки. Голодные, вынужденные совершать часовые пешие рейды, чтобы добраться до театра на репетицию, артисты зароптали. «Что будем делать?» — почтительно изогнувшись, спросил Лапоть Юрьев у Бесноватого. — А какие суточные у нас выписаны для хора? — поинтересовался Абдулла Урюкович. — Тридцать пять долларов?.. Гм… Хорошо: снимите по пять долларов с каждого и добавьте их оркестру! Что еще? — «Тоску» сегодня петь некому… — робея, пролепетал Юрьев. — Дермантава заболел… — Пусть поет Дазулин! — тут же распорядился Бесноватый. — Да, но он в Голландии, поет по собственному контракту… — Позвоните: пусть приедет!.. Что?!. Так и сказал, что не приедет?.. Гм… Ладно. Тогда скажите Мандулову: я доверяю ему сегодня вечером спеть Каварадосси! Ну и что: партии не знает! До спектакля еще семь часов — выучит! Партия короткая!.. В общем, творческая жизнь в N-ской опере кипела — и про Антона Флаконыча, торопливо высаженного в Братиславе, за полной того никчемностью и ненадобностью, никто и не вспоминал. А с товарищем Огурцовым, который на чужбине, в отсутствие родного коллектива, совсем уже пал духом и пребывал в состоянии отчаяния просто безграничного, приключилось следующее: встав внезапно на месте, как вкопанный, он медленно затем осел на колени и начал истово креститься; на небритом его лице заиграла просветленная улыбка тихого идиота. Однако ошибается тот, кто решил, что Антон Флаконыч тронулся разумом — или, того хуже, вдруг уверовал в Бога; нет! Просто, незаметно для себя, в скитаниях своих товарищ Огурцов вышел на какую-то площадь — и неожиданно увидел… оперный театр. «Спасен!.. Наши!.. — сбивчиво думал он, чуть ли не бегом устремившись к красивому зданию. — Так значит, мы в Одессе? Что за черт!» Как работник культуры с большим стажем, Огурцов знал и помнил прекрасное здание одесской оперы; но о том, что Братислава и Одесса гордятся абсолютно одинаковыми, одним и тем же архитектором выстроенными городскими оперными театрами, именно в силу своей принадлежности к касте культурных управленцев Антон Флаконыч знать, разумеется, не мог. Приняв привычно-горделивую осанку, товарищ Огурцов вошел в театр со служебного входа, игнорируя охрану и лишь бросив на ходу: «Дзержински!.. Дзержински опера! Фром N-ск!» И здесь директору пришлось пережить еще один шок: охранники, выкрикивая что-то на совершенно дурацком, непонятном языке: «Кто сте?!» и «Чо би сте хцел?!»[3], бесцеремонно его задержали. Тщетно кричал и объяснял им Огурцов: «Дзержински опера!.. N-ск!.. Директор!».. Внезапно, через стекло караулки, Огурцов увидел солиста N-ской оперы Егора Яновского. Неистово, на манер огромной скользкой рыбы, забившись в крепких руках охранников, Антон Флаконыч закричал: «Егор!.. Яновский!.. Где наши?!» — но тот шел мимо, как ни в чем не бывало. «Егорушка!» — отчаянно завизжал Огурцов вслед призраку спасения. Певец обернулся. Читателю, возможно, будет небезынтересно знать, что это действительно был тенор Егор Яновский, еще не так давно служивший молодым солистом в N-ской опере. Но в силу, вероятно, недостаточного гражданского сознания и ограниченного интеллекта, он с резкой неприязнью воспринял мудрые и справедливые шаги Абдуллы Урюковича на посту художественного руководителя оперы — и вот уже три года, как работал и жил в Братиславе, разъезжая также по разным контрактам в Швейцарии, Германии, Бельгии и Австрии. — Познаете го?[4] — спросил один из охранников того, кого Огурцов назвал Яновским. — Ту су руси з N-ску, — ответил Егор. — Он е блазонь а опилец. Спойте са с их дивадлом.[5] …Когда к братиславскому театру подъехала машина (ее по дружбе организовал Бустос Ганс) и Антон Флаконыч увидел, наконец, такие родные и дорогие физиономии Позора Залупилова и администратора Дыркина — он целиком и полностью ощутил, что такое настоящее человеческое счастье. — Вы не голодны? — вежливо спросил Дыркин. — Да, в самом деле: хотите чего-нибудь? — засуетился Залупилов. Антон Флаконыч вдруг часто-часто задышал, нижняя губа его запрыгала; затем, громко шмыгнув носом и будучи не в силах бороться с собой, он, задыхаясь и икая, судорожно проблеял сквозь внезапно набежавшие слезы: «Ха-а… а… ха… хачу пи-и… хачу пи-и-ва!!!» И увидев, что Залупилов достал из портфеля заветную, скромно мерцавшую позолотой банку, он пал Позору на грудь, уже не сдерживая рыданий.* * *
В аэропорту Парижа, где ничего не подозревавшие благополучные пассажиры пугались, принимая небритых и осунувшихся артистов хора и оркестра N-ской оперы за беженцев из горячих точек планеты, все автоматы, торговавшие чипсами, шоколадками и пепси-колой, были уже давно опустошены: первые сутки не было чартерного самолета из N-ска; затем вылет откладывался из-за нелетной погоды — потом все ждали Абдуллу Урюковича, по каким-то своим делам надолго запропастившегося… Самые неунывающие — как, например, артист хора Персоль — уже перешли на питание жевательной резинкой: «Зато надолго хватает!» — хохотал он жизнерадостно. Но вот, наконец, объявили готовность — и первым к выходу проследовал Абдулла Урюкович. За ним шли: дирижер Русланов с пиджаком маэстро; режиссер Забитов с пачкойсигарет и бутылкой минеральной воды; кузина Бесноватого Азиза, его тетя Суламифь с товарищем Огурцовым под ручку и брат Абуталиб-Аги с зурной под мышкой; далее следовали Стакакки Драчулос с чемоданом Абдуллы Урюковича и Коко Мандулов с чемоданом Суламифь Бесноватой; чуть поодаль семенил секретарь дирижера Гиви с флаконом жидкости от прыщей «Ланком» в правой руке; замыкал процессию Позор Залупилов, кативший сидевшего на багажной тележке совершенно фиолетового Севу Трахеева — который, воздав должное анисовой местного разлива, так и не спел ни одного гастрольного спектакля. Одет был Сева в спортивный костюм фирмы «Адидас» и кепочку с надписью «Монте-Карло»; из-под неплотно закрытых век его ярким светом горели красные белки. Залупилов злился — и, вдыхая распространяемое Севой амбре, морщился и пьянел.* * *
…Пока артисты N-ской оперы голодали в аэропорту уже почти третьи сутки, Абдулла Урюкович в компании Бустоса Ганса коротал время на очень уютной вилле в Монте-Карло. Вилла эта принадлежала Дону Жозефу и использовалась как для отдыха, так и для проведения деловых встреч и переговоров. Приехавший лишь к полуночи, и уже поднявшийся ни свет, ни заря, неутомимый и жадный до работы Бесноватый согласился на отдых (краткостью своею напоминавший, скорее, передышку в бою) только при условии, что Дон Жозеф подъедет для обсуждения кое-каких насущных дел. Когда Абдулла спустился в мраморную гостиную, старый Жозеф уже сидел в кресле возле небольшого столика, наслаждаясь утренней сигарой. Он поднялся Бесноватому навстречу; его морщинистое темно-коричневое лицо светилось ласковой улыбкой. Первым делом Жозеф расспросил дирижера о неприятностях, что беспокоили Абдуллу раньше. Дело в том, что вокруг N-ской оперы на протяжении долгого времени крутились некие молодые люди, вершившие свой нехитрый промысел: скупая билеты через «своих людей» среди служащих и администрации театра, они затем продавали их иностранным туристам — естественно, за валюту, на чем и имели свою, как говорится, корысть. Но в последнее время бизнес их начал стремительно и резко терять рентабельность: в результате деятельности Абдуллы на посту главного идеолога театра, публика постепенно стала терять всякий интерес к происходящему в N-ской опере; а непомерный подъем цен на билеты, проведенный Бесноватым и Огурцовым (место в партере Дзержинки стало стоить в 10–15 раз дороже, чем в любой другой театр N-ска), привел к тому, что даже те немногие билеты, которые артельщикам удавалось продать, прибыль ныне приносили совершенно ничтожную. И вот однажды, попечалившись и поразмыслив, артельщики пришли в кабинет Бесноватого. Не постучавшись предварительно и бесцеремонно выставив из помещения всех остальных, молодые люди завидного телосложения сообщили Абдулле Урюковичу безо всяких обиняков примерно следующее: мол, если театр в ближайшее время не снизит цены на билеты и не примет на работу в билетный стол «нужного человека», то в этом случае ему, Бесноватому, придется часть своих зарубежных гонораров выплачивать непосредственно им — а все остальное он, по всей вероятности, будет оставлять в аптеке. Надо сказать, что Абдулле Урюковичу все произошедшее очень не понравилось; два сильных удара, произведенные делегатами по печени и по шее, поразили его, более всего на свете ценившего доходчивость и ясность, как-то особенно неприятно. Бесноватый, чтобы разрядиться, тут же распорядился уволить из театра всех суфлеров, а затем позвонил Бустосу пожаловаться. Бустос ахал, ужасался, утешал друга — а затем заверил, что ничего подобного в жизни больше не повторится: Дон Жозеф, по роду своей деятельности, имел несколько филиалов в России, Прибалтике и Средней Азии — хоть и не напрямую, но ему подчиненных. И правда: вскоре в кабинет к Абдулле пожаловало несколько человек, облаченных, как в униформу, в длинные кашемировые пальто. Они сообщили, что с беспокоившей Бесноватого «артелью» уже разобрались; билетному товариществу было позволено остаться при театре — при этом в обязанность им вменялось еще и следить за тишиной, чистотой и порядком на прилегающей к N-ской опере территории. Визитеры в длинных пальто уведомили также дирижера, что они будут делать множество полезных и нужных дел — и даже охрану покоя его и здоровья они отныне берут на себя. Единственным, что не понравилось Абдулле Урюковичу, была фраза, брошенная в конце разговора: «Форму оплаты мы обсудим позже…» Абдулла тут же бросился звонить Бустосу, но тот объяснил, что это лишь дань святой и незыблемой традиции, поскольку в данной сфере услуг труд всегда должен быть оплачен, и ничего страшного здесь нет: ведь те суммы, которые будут израсходованы на сервис из бюджета театра, меценат и любитель изящных искусств Дон Жозеф компенсирует с лихвой — но деньги будут перечислены уже на личный счет Бесноватого в уругвайский банк «Негрокопилка». Абдулла Урюкович тут же успокоился; а вскоре — узнав, что в порядке спонсорской помощи Жозеф оплатил изготовление специальных кофров для перевозки на гастролях контрабасов и ударных — и вовсе воспрял.* * *
…Долго ли, коротко ли — но самолет, благополучно взлетев, набрал высоту; Абдулла Урюкович, покушав немножко плову, заботливо приготовленного тетей Суламифь, вставил в плейер диск «Караян играет Вагнера», вытянул ноги, устроился в кресле поудобнее… и под протяжные аккорды из увертюры к «Тангейзеру» уснул, умаявшись, крепким сном. …И снятся Абдулле Урюковичу родные кавказские горы; он, совсем еще юноша, карабкается вверх, чтобы посмотреть на родной кишлак и соседние аулы сверху, с высоты орлиного полета. Стоптанные башмаки оскальзываются, мелкие камни сыплются из-под ног, но Абдулла, не привыкший отступать перед трудностями, продолжает движение ввысь. И вот — достигнув, наконец, своего излюбленного плоского уступа — молодой талант устраивается там поудобнее: именно здесь, взирая на мир свысока, любил он предаваться дерзким мечтам своим. — Ну, и чего застрял?! — услышал вдруг Абдулла вопрос, заданный довольно-таки язвительным тоном. Вздрогнув от неожиданности, Абдулла резко обернулся… и обомлел. Рядом с ним стоял никто иной, как Рихард Вагнер собственной персоной: Абдулла безошибочно узнал его мятую физиономию и этот манерный бархатный берет: Бесноватый видел изображение композитора дважды, и именно так выглядел портрет Вагнера в музыкальной энциклопедии и на конверте пластинки Мравинского. — Чего встал-то? — продолжил низкорослый гений. — «Через тернии к звездам!» кто сказал? А? Учил, поди, музлитературу in die Schule? Так звезды, парень, там! — (И композитор указал наверх). — Внизу одни долги… — И, коротко хохотнув, Вагнер заскакал наверх по камням и утесам. Абдулла устремился было за ним (он страх как любил знакомиться со значительными персонами), — но тут же убедился, что догнать старика ему никак не удается: с неожиданной для довольно-таки обрюзгшего человека прытью, с легкостью совершенно необыкновенной, автор «Гибели богов» удалялся ввысь — и вскоре совсем скрылся за облаками. Однако не таков был Абдулла, чтобы сразу сдаться без боя. Цепляясь за крохотные уступы и раздирая в кровь колени и пальцы, он карабкался выше и выше. Дышать становилось все труднее, горный воздух обжигал легкие — и через некоторое время Бесноватый все-таки был вынужден сделать небольшую передышку. Каково же было его удивление, когда он увидел, что в сверкающих вечными снегами утесах этих он вовсе не одинок! «О, были б помыслы чисты — а остальное все приложится!» — напевал надтреснутым голосом Булат Окуджава, пристроившийся с гитарой на уступе совершенно отвесной скалы совсем неподалеку от Бесноватого. Чуть в стороне, на блистающей льдом острой вершине, спокойно, как в домашнем кресле, попыхивая «беломориной», сидел Мравинский. Пиджак его был накинут на плечи; на коленях дирижера лежала партитура Пятой Шостаковича. — Ты бы меньше суетился, парнишка!.. — характерно картавя, сказал Абдулле величественный старик, приветливо сверкнув на того очками. — От суеты только шайзе бывает! — согласно закивав совершенно седой головой, заявил вдруг Герберт фон Караян, ранее Абдуллой не замеченный. Небрежно развалившись на подстеленном на камень пиджаке, Караян бросался камешками в орлов, пролетавших в ущелье под его ногами. — Сначала думай — зачем, а уж потом — как… Тем временем Бесноватый стал замечать, что неумолимо сползает все ниже — даже пока он стоял, отдыхая, мелкие камни под его ногами постоянно скользили и катились вниз, увлекая его все дальше от нежданных собеседников. — Послушайте!.. — умоляюще воскликнул руководитель N-ской оперы. — Эх, мудило ты некрещеное! — грозно гаркнул Федор Шаляпин, сидевший в костюме Демона на проплывавшем неподалеку облаке. — Сам бы людей слушать научился сначала, дурень! — Вы?!. — растерянно промямлил Абдулла. — Я из Большого ушел, из Мариинского ушел — а уж от тебя-то, песья голова, и подавно артист разбежится! — рыкнул Шаляпин; облако его качнулось и поплыло куда-то вверх. — «…К тебе я стану прилетать, гостить я буду до денницы…» — донесся до Абдуллы восхитительный голос певца. На мгновение расступившиеся облака, обильно ходившие вокруг скалистой вершины, вновь явили взору Бесноватого Рихарда Вагнера — тот, чудом угнездившись на сверкавшем ледяными гранями пике, держал в руках огромную чашу несказанной красоты, что-то из нее прихлебывая и явно смакуя. — Вот он, Грааль-то! — с хохотом закричал престарелый сочинитель «Тангейзера», поймав на себе взгляд Абдуллы. — Глотнешь «Либфраумильха»? Или тебе больше «Кинзмараули» по вкусу? — Козленочком станет… — буркнул себе под нос Мравинский, ни к кому не обращаясь. Абдулла тем временем скатывался все ниже и ниже; густые облака стали вновь скрывать от него вершину. «Нас обделила с детства иронией природа — есть высшая свобода, и мы идем за ней…» — услышал Бесноватый слабеющий напев Окуджавы. Последним, что видел Абдулла, уже кубарем катясь с горы в направлении родного аула, была явленная из-за мелкого кустарничка, чрезвычайно язвительная физиономия низкорослого и высоколобого человечка с клочковатой рыжей бородкой. Насмешливо сощурив левый глаз и резким, быстрым движением сдвинув кепку на затылок, голосом, срывающимся иногда на дискант и не выговаривая букву «р», человечек протянул: «А мне говогили — талантище… Тгяпка, блядь!» — и в этот момент, под дружный хохот множества мужских голосов Абдулла, вдруг… проснулся. — А вот послушайте еще один! — заходясь гаденькой улыбкой, сипел Огурцов, перегибаясь через проход к Драчулосу и Мандулову. — Приходит к гинекологу старушка… — Почему так шумно? — произнес Бесноватый, шевельнув бровями. — Молчать, скоты!!! — взвизгнула Суламифь Бесноватая. — Вы нарушили отдых маэстро, шакалы!.. — Ничего, ничего, — снисходительно сказал Абдулла. — Полет долгий, людям тяжело… Расскажите-ка лучше и мне что-нибудь! И приближенные к Абдулле артисты, как и лучшие административные работники театра, с преданностью и восторгом облепив шефа-демократа, тут же принялись сыпать сальностями и скабрезностями. Впрочем, некоторые анекдоты действительно были очень смешными: Бесноватый то и дело похохатывал и морщил прыщи в улыбке. Однако мерзкое какое-то настроение, навеянное увиденным сном, не оставляло дирижера еще несколько дней.
* * *
…Рано или поздно, но гастроли (даже и триумфальные) всегда заканчиваются — а на смену им приходят трудовые будни. Впрочем, трудовые будни порой тоже обращаются в праздники: вот сегодня, например, в партере Дзержинки свободных мест куда меньше, чем обычно — дают премьеру «Мадам Баттерфляй». Рослые студентки-вокалистки влекут под руку своих инфантильных сверстников-теоретиков; ложа критиков постепенно заполняется пиджачками производства швейной фабрики «Большевичка»… А ведь за каждой такой премьерой стоит труд, и не легковесный труд какого-нибудь там поющего артиста, но — в первую очередь! — художественного руководства прославленного российского театра. Если бы рядовой зритель Дзержинского театра мог только себе представить, сколько сил уходит у гениального (не побоимся этого слова!) вождя N-ской оперы для расширения кругозора и культурного уровня публики — не всегда благодарной, к тому же!.. Вот декорации для нынешней премьеры, например, неутомимый Абдулла Урюкович получил в лиссабонском театре «Сан-Карло» — столь дорогой подарок стал своеобразным знаком признания и уважения талантливых коллег из далекой северной страны. Бесноватый появился в Португалии всего лишь на два дня — с тем, чтобы с блеском продирижировать концертом Объединенного оркестра Общества португальских инвалидов, данного в спортивном зале студенческого городка в лиссабонском пригороде Эшторил. Но Абдулла Урюкович выкроил-таки время для встречи с доктором Родриго Лопесом — генеральным директором театра «Сан-Карло» — и этим внезапным появлением заезжей знаменитости — или, точнее, результатами ее визита — доктор Лопес, надо прямо сказать, был обрадован несказанно. Дело в том, что декорации «Мадам Баттерфляй», сделанные для премьеры 1949 года по проекту японского художника Хуико Сякупопу, хоть и были выполнены в стиле японского примитивизма, но на поверку оказались столь громоздкими и неповоротливыми, что давать в них спектакли было сущей пыткой. Когда же постановка благополучно «провалилась» и спектакль был с репертуара снят, то выяснилось, что за вывоз столь массивных и материалоемких декораций не берется ни одна свалка, ни одна фирма по вывозу мусора. Нашлось, правда, несколько смельчаков, согласившихся на эту работу — но при этом они беззастенчиво ломили такие деньги, что доктор Родриго Лопес с трудом удерживался в кресле. Так и стояли эти декорации в театре десятилетиями, загромождая пространство за сценой и на декорационном складе, отравляя жизнь и артистам, и персоналу. Поэтому, когда Бесноватый вдруг завел речь об «обмене постановками» (мудрый Абдулла Урюкович в любом обмене подобного рода пунктуально исполнял лишь первую половину контракта) — Лопес просто отказывался верить своим ушам. Отправка злополучного груза в Россию — на российском же судне! — да еще и оформленного «дружеской помощью» через министерство культуры, обходилась «Сан-Карло» так баснословно дешево, что доктор Лопес, все еще не веря собственному счастью, потирал руки и посмеивался тихим, счастливым смехом — незаметно для себя почти прикончив уже полуторалитровую бутыль Порто (разлива, между прочим, 1912 года)! …Итак, благополучно выдержав морской вояж, декорации продолжили свой путь к российскому зрителю на четырех специальных низкопалубных железнодорожных платформах — и, повредив по дороге два автомобильных и три пешеходных моста, сметя четыре ветхих полустанка и произведя множественные обрывы контактной сети, оформление спектакля «Мадам Баттерфляй» благополучно прибыло в N-ск. Здесь выяснилась еще одна неувязочка: в стареньком N-ском театре не только сама сцена, но и так называемые «карманы» в кулисах по левую и правую ее стороны оказались значительно меньше, чем в театре «Сан-Карло». Но дзержинские монтировщики сцены, призвав на помощь рационализаторов с N-ского трактороремонтного гиганта, с честью вышли из положения: дело спасли гидравлические механизмы от многоковшового экскаватора «Заря перестройки» и новый агрегат для точечной сварки, позволившие-таки смонтировать португальскую «Чио-чио-сан» на русской сцене; антракты для смены декораций были доведены до рекордно короткого времени и длились не более часа. Однако здесь талантливых новаторов и неутомимого Абдуллу Урюковича (да хранит Аллах здоровье и разум его!) ждала новая напасть: главный балетмейстер Дзержинки, Падекатр Иваныч Гранбатманов, вдруг устроил скандал: его претензии сводились к тому, что спотыкаясь об изогнувшиеся и изломанные под исполинской тяжестью декораций доски планшета сцены, артисты балета растягивали связки и разбивали носы. Кроме того, гидравлические механизмы «Баттерфляй», так остроумно примененные N-скими рационализаторами, оставляли на сцене огромные лужи масла: и звезды N-ского балета, не успевая порой из положенных тридцати двух фуэтэ прокрутить и семи, оскальзывались на масле и гулко плюхались на пол — после чего тут же, сидя на попе и заливаясь слезами, стремительно улетали за кулисы — на глазах изумленной и ничего не понимающей публики. Гранбатманов пригрозил Бесноватому, что если тот не снимет с репертуара «Баттерфляй», то он разделит валютные счета оперы и балета. Угроза Абдулле Урюковичу не понравилась: ведь не окупая порою своих выступлений за рубежом, опера частенько улетала на родину, пристроившись «на хвост» гастролировавшей там же балетной труппе. Да и вообще: кто он такой, этот Гранбатманов — в жизни своей, поди, никогда вольным воздухом гор не дышавший — чтобы ему, Бесноватому, угрожать? А Падекатр Иванович, между тем, от слов перешел к делу: и первым его шагом стала организация отдельного закулисного буфета для артистов балета. Теперь балетные (и критики в том числе!) сидя в уютном, красивом помещении, кушали себе картофель фри, судака орли и шницель по-гамбургски, запивая все это французскими винами, фруктовыми соками, эспрессо и капучино — в то время как оперный народец по-прежнему довольствовался останками винегрета, старым шашлыком из баранины и кислой капустой, прихлебывая горклый кумыс, компот из сухофруктов или бочковой кофе с песочным колечком. Подобное положение вещей — которое маэстро Бесноватый счел (вполне, разумеется, справедливо!) серьезным ущербом профессиональному оперному престижу — дирижеру не нравилось. Кстати, и преданный Шкалик, несколько раз приостановившись у двери балетного буфета и втянув чуткой ноздрей ароматы, оттуда источавшиеся, вскоре выступил в газете со статьей «Мы впереди планеты всей!», посвященной профессиональным успехам N-ских хореографов. Тогда Абдулла Урюкович решил поделиться своими тягостными раздумьями по этому поводу с людьми в длинных кашемировых пальто — и Падекатр Иванович вскоре, неожиданно для всех, уехал в сиднейскую Академию балета собственного имени, поспешно доверив руководство балетной труппой талантливым представителям молодежи. …Одна всего постановка — а сколько событий! Публика аплодирует гостю N-ской оперы, талантливому молодому американскому дирижеру, сыну выходцев из Армении и Мексики Педрильо Санчосу Пихайдаяну (сыну компаньона Дона Жозефа по Северной Америке); счастливые меломаны во второй раз уже вызывают на поклоны героев вечера — молодых звезд Дзержинки, сопрано Бибигуль Флиртову и тенора Хайруллу Бархан-Оглы — и мало кто из присутствующих сознает в полной мере, что истинный виновник нынешнего праздника музыки сегодня зрителям не виден…* * *
«…А где же признанный гений русской оперы?!. — вправе воскликнуть любознательный читатель. — Дирижирует ли он концертом в отдаленном уголке земного шара или отбивает атаки директоров Метрополитен и Ла Скала, денно и нощно мечтающих переманить гордость русской музыки на службу праздному буржуазному меломану?!» Не беспокойтесь, друзья: гениальный маэстро Бесноватый как раз вот в этот самый момент занят проектом, который должен еще более укрепить и восславить достижения Абдуллы Урюковича — а следовательно, и российских музыкантов — во всем мире. Конечно, многое для этого уже делалось: например, часть сумм, получаемых Бесноватым от Дона Жозефа (а старый Жозеф нарадоваться не мог, когда ценный груз с Ближнего Востока, транзитом через Среднюю Азию, беспрепятственно и благополучно перевозился в Европу в многочисленных тайниках, которыми были оборудованы кофры для музыкальных инструментов N-ской оперы), вручалась Абдулле Урюковичу не тайно и не просто так — но в виде премий «За выдающиеся заслуги» в исполнительстве или общественной деятельности. Кроме того, с легкой руки Бустоса Ганса (светлая голова, чего уж там!) преданные люди в российской прессе с некоторых пор вдруг принялись активно информировать общество, что Бесноватый «признан лучшим дирижером Гвинеи 1987 года» или «назван в числе лучших музыкантов Папуа и Арабских Эмиратов прошлого года»… Благодаря практически тотальной информационной изоляции российского меломана никто не мог установить, насколько все это соответствует действительности, а главное — сама мысль о возможном подлоге даже не приходила никому в голову! В силу необычайной доброты своей, Абдулла Урюкович вскоре даже раздал несколько международных титулов особо преданным певцам: Валя Лошакова стала лучшей певицей Франции, а баритон Павел Бурело — обладателем Гран-при на международном конкурсе вокалистов в Брюсселе, хоть на деле и получил всего лишь поощрительный приз на подобном состязании в Нижневартовске. Но все эти титулы, хоть и были необычайно приятны, все-таки оставались полумерами: западная публика уже не желала в сотый раз смотреть одну и ту же постановку; в западных операх малокультурные буржуа отдавали предпочтение Мути, Шолти, Аббадо и прочим бездарностям вроде Ливайна или Купфера. И тут мудрейшему нашему маэстро (да сохранит Аллах здоровье и разум его!) пришла в голову светлейшая идея: нужна была какая-нибудь новая опера — и не просто новая, но мировая премьера! Опера, полностью соответствующая нескольким условиям: само собой, русская (чай, Россию представляем); во-вторых, современная (в нюансах новой музыки попробуй-ка, разберись сразу!); а в-третьих, в равной степени доступная для публики (чтоб приятно слушать было — да и дураки, чего доброго, не освистали бы); для певцов (чтоб смогли выучить и пели с душой) — и, разумеется, для дирижера. Всякой этой музыковедческой ереси о «трактовках» прижиться будет негде: первое исполнение сравнивать не с чем! …В кабинете Абдуллы Урюковича царил легкий полумрак. За уставленным прохладительными напитками длинным столом, буквой «Т» примыкавшим к столу главного дирижера, кроме уже известных читателю Бустоса Ганса, Стакакки Драчулоса, Позора Залупилова и Аниты Киви, сидели также шефы художественного вещания фирмы «Пи-Си-Пи» Энтони Джастэлитл и Стивен Тумач, знаменитый оперный режиссер из Америки Джордж Фруктман и несколько менее значительных персон. Все организационные вопросы — как то: всемирная трансляция по телевидению, выпуск аудио- и видеозаписей фирмой «Примус»; первое, после N-ска, представление на Шайзебергском фестивале — были уже решены. Дело было за малым: за музыкой. Союз Свободных Христианских Творцов Консонансов во главе с Акакием Мокеевичем Пустовым надежд не оправдал: сам Пустов смог представить лишь «Жизнь за генерального секретаря» — вялую переработку одной из опер некоего предварительного композитора Глинки. Опера Тайманского «Война с тараканами» была неактуальна и немасштабна, а его оратория «Я себя под Ельциным чищу», переделанная из более раннего опуса «Я себя под Лениным чищу», явно не годилась: к моменту постановки, сами понимаете — либо путч, либо сердце, — мы же не временщики какие-нибудь! К Губайдулиной или Шнитке Абдулла Урюкович обратиться не мог, поскольку их пришлось бы просить — Бесноватый же предпочитал, чтобы просили его. Но большой друг и музыкальный консультант N-ской оперы, Борис Мусоргский, к написанию оперы выразил готовность огромную — однако не мог приступить к работе ввиду отсутствия подходящего либретто. Либретто стало главным камнем преткновения гениального проекта, и именно над этой проблемой бились сейчас светлейшие умы в кабинете Абдуллы Урюковича. Знаменитые N-ские драматурги Раскотинов и Поцер в своих фантазиях дальше дешевой социальной сатиры уйти так и не смогли; между тем специфика оперного жанра требовала эпичности и размаха. Пыхтя и краснея, критик Шкалик изъявил желание немедленно взяться за написание — но престарелому этому карапузу нужна была, по его же собственному застенчивому признанию, «хорошая идея»… И вот, наконец, светлая идея осенила старого друга и поклонника Бесноватого, известного художника Мориса Пигаля: сюжет оперы должен быть посвящен жизнеописанию самого Абдуллы Урюковича. Ну конечно! — и как это только сразу не пришло всем в голову?! Разве есть в нашей современной музыкальной жизни фигура значительней и важней? Разве не он, поднявший музыкальное искусство в России на недосягаемую высоту и добившийся исключительного международного признания, должен быть воспет народом в сагах, балладах и народных песнях? Короче говоря, зерно пало в благодарную почву — и зашумев, загомонив, зашуршав бумагами и заскрипев перьями, участники заседания принялись за работу.* * *
Татьяна Егоровна Тараканова была женщиной неглупой, обаяния вовсе не лишенной и к тому же обладала хорошим вкусом. Последнее обстоятельство подтверждалось хотя бы интерьером ее кабинета, больше похожего на будуар: литографиями на стенах, аккуратным убранством ее рабочего стола и прихотливой икебаной на журнальном столике. Единственным предметом в комнате, который смог бы вызвать нарекания эстета, был сейчас черный засаленный пиджак в тонкую белую полоску (которая, впрочем, от долгой и тяжелой жизни была уже практически неразличима). Справедливости ради мы должны заметить, что данный пиджак являлся совершенно инородным в кабинете предметом, ибо внутри этой гордости советских швейников 50-х годов помещался Савонарола Аркадьевич Шавккель — явившийся, по обыкновению, без зова и некстати. «Заведующий отделом искусства» — гласила табличка на дверях уютного кабинета Татьяны Егоровны; сам же кабинет располагался на третьем этаже редакции газеты «У речки». С самого утра Тараканова чувствовала себя неважно: болела голова, ломило суставы — и если бы не дежурство по номеру, то на работу сегодня она, скорее всего, вообще бы не пришла. Сейчас Татьяна Егоровна надеялась злополучным дежурством своим поскорее с кем-нибудь поменяться и, как говорится, по-быстрому из редакции «слинять». Поморщившись от очередного «выстрела» в виске, она заставила себя прислушаться к тому, что говорил Шавккель — его плаксивый голос назойливо звучал в кабинете вот уже около пятнадцати минут. — …Мы же, Танечка Егоровна, культурные люди — а это значит, что за все, на культурном фронте происходящее, на нас ложится определенная ответственность… — гнусил Шавккель. — Скажу так: мы ответственны даже за тех, кого не приручили… И даже вот вы, солнце мое — (здесь Шавккель попытался скроить нечто вроде улыбки, но потерпел неудачу) — вы ведь не просто освещаете явления культуры в газете — но освещая, создаете необходимый, массовый аспект ее… Важность слоя культуры переоценить нельзя — и поэтому очень важно, чтобы в вашей газете писал я, а не всякие там Шульженки… Отсутствие толщи культуры у пишущего о ней ведет к разрушению самое культуры! Татьяна Егоровна вновь поморщилась от острого приступа головной боли. «Господи, ну когда он уберется наконец?!» — устало подумала она. Шавккель же тем временем продолжал с неутомимостью муэдзина: — Сказать ли? Не знаю… Скажу. Я вот, например, всегда плачу, когда слушаю Чайковского; а музыка нашего виртуозного творца Бегемотского постоянно повергает меня в рыдания… А сможет ли ваш Шульженко заплакать при виде убитой птички? Хватит ли его толщи культуры на слезы? Не знаю… — Шульженко настолько же мой, насколько и ваш, — раздраженно заметила Тараканова. — А насчет всего остального… У нас — газета, а не музыковедческий журнал; и нас интересуют все спектры общественного мнения горожан. Тем более, что вы всегда имеете у меня на полосе «зеленую улицу» и ведете собственную рубрику «Вечные ценности». Разумеется, и в эстетическом, и в культурном плане вы стоите неизмеримо выше него — но дайте читающей публике возможность выбора: пускай люди разберутся сами!.. — Голубушка моя! — вкрадчиво загнусавил Шавккель. — Ведь мы же с вами культурные люди! Тяжкий жребий нам выпал: в тяжелые времена должны мы с вами заботиться о толщине слоя бытовой культуры — скажу так: удобрить, унавозить ту почву, на которой… Нет, вообще в отношении культурного подвига нашего я, как музыкант, должен сказать, что по-музыкантски порою наслаждаясь… — Извините, дорогой Савонарола Аркадьевич, об этом в другой раз, — в несвойственной ей резкой манере оборвала Шавккеля Татьяна Егоровна. — А сегодня — извините; я себя неважно чувствую и должна заняться делами… — И с этими словами Тараканова вышла из кабинета, намереваясь скрыться и переждать визит непрошеного гостя в туалете. — Что ж, понимаю… Всего доброго!.. — пробормотал Шавккель, грустно и с укором закивав ей вслед плешивой головой. Однако как только дверь за выходящей Татьяной Егоровной закрылась, критик воровато, бочком приблизился к столу и волосатой цепкой рукой ухватил рукопись, которую заприметил уже давненько. «Колосс на глиняных ногах» — гласил заголовок, а дальше шла вводка: «На прошлой неделе в зале N-ской оперы был дан симфонический концерт, где Абдулла Бесноватый продирижировал (а говоря точнее, попытался это сделать) исполнением Дзержинского оркестра Восьмой Шостаковича и „Фантастической“ Берлиоза…» Не читая дальше, лазутчик заглянул на последнюю страницу материала — и точно! Пасквиль был подписан именем мерзавца Шульженко. Лицо Шавккеля исказилось несказанной мукой; склонившись горестно и опустив руку с конвульсивно скомканными страницами, ладонью другой руки он прикрыл глаза и постоял так с минуту, фальшиво промычав несколько тактов из «Радости страдания» Бетховена. Но вспомнив, что благодарных зрителей в пустом кабинете у него нет, он распрямился, прытко приблизился к корзине для бумаг и быстро запихнул туда ненавистную статейку, для пущей надежности притоптав ее ногой — после чего, одернув видавший виды пиджачок, ретировался за дверь. Глаза шедшего по редакционному коридору Савонаролы Аркадьевича светились счастием и добротою. «Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна…» — замурлыкал он себе под нос — но, тут же спохватившись, немедленно принял строгий вид и, надувая щеки, забубнил: «Обнимитесь, миллионы!..» Тем временем ничего не подозревавшая Татьяна Егоровна, нетерпеливо взглядывая на часы, переминалась с ноги на ногу в туалетной комнате — выжидая время, достаточное, по ее прикидкам, для ухода незваного гостя. Но едва высунувшись за дверь, она увидела в коридоре… критика Шкалика, влекшего, отдуваясь после пологой лестницы, свой пухленький и порядком изодранный портфельчик. Немедленно юркнув обратно, Тараканова — для пущей надежности — забежала в одну из кабинок и закрылась в ней. Через минуту дверь с характерным скрипом приоткрылась. После короткого затишья до слуха Татьяны Егоровны донеслись звуки шажков — робких и нетвердых, как будто ступает младенец. Редактор отдела культуры затаила дыхание. Некоторое время в туалете не было слышно ничего, кроме («пуф, пуф!») чьей-то одышки. Наконец, тишина была нарушена подростковым дискантом Шкалика: — Татьяна Егоровна! — заскулил он. — Я знаю, что вы здесь… Извините великодушно, но дела исключительной важности заставили меня нарушить ваш покой сегодня; я вам не помешаю, я прямо так вам все сейчас расскажу… Воздев глаза к небу, Татьяна Егоровна в изнеможении прислонилась к фанерной стеночке. — Во-первых, — пищал Шкалик, — у нас у всех большое горе: скончалась Барракуда Борисовна Пуквиц… Она была просто душой нашего Союза творцов, и именно Баря Борисовна написала для творца Парилкина либретто замечательной детской оперы «Шарик, служи!» …Вот тут у меня некроложек такой небольшой… Вот, семь страничек… — (послышалось шуршание) — я даже сам, хе-хе, с вашего позволения, и рубричку сочинил: «Прощай, артист!» — здорово, правда?!. А еще я принес статью о потрясающем концерте в Дзержинке тут у нас!.. Абдулла Урюкович, этот светлый гений… Я знаю, Татьяна Егоровна: вам, наверное, Шульженко рецензию уже свою принес — он пишет быстро, перо у него бойкое… Но понять гений Бесноватого ему не дано; он как-то не о том все пишет… У меня-то лучше ведь, хоть и по-стариковски… Да я вам сейчас покажу!.. — закряхтел вдруг Шкалик, и Тараканова увидела под дверцей кабинки его короткопалую ручонку с пачкой листков, вырванных из школьной тетради и аккуратно исписанных большими и округлыми буквами. В следующий момент в туалете произошло нечто не совсем обычное: дверь кабинки стремительно и широко распахнулась, и из-за нее показалась Татьяна Егоровна. Сказать, что она была крайне разгневана, значило бы вообще ничего не сказать: в состоянии почти невменяемом, сжигаемая праведным возмущением редактор Тараканова, казалось, была готова растерзать несчастного Шкалика. Надо заметить, что гнев шел этой женщине: глаза ее блестели, на щеках заиграл легкий румянец… Но оценить красоту Татьяны Егоровны бедный Моисей Геронтович, судя по всему, никак не мог: вспышка гнева редактора Таракановой застала критика абсолютно врасплох — и сейчас, жалобно попискивая, он предпринимал отчаянные и тщетные попытки выбраться из мусорной корзины в углу, куда оказался отброшенным страшным ударом двери. — Послушайте, вы!.. — не сказала, а скорее прорычала Татьяна Егоровна, склонившись над Шкаликом (который, выпав наконец из мусорницы, теперь кротко стоял на четвереньках, боясь шелохнуться). — Я не взяла бы вашу рукопись, даже если бы у меня был понос!.. Это же какую наглость надо иметь!.. И они еще о культуре говорят!.. — С этими словами заведующая отделом культуры порывисто вышла из туалета — а бедный Шкалик, устремившийся вслед за нею, получил еще и входной дверью — на сей раз по лбу. Два молодых сотрудника отдела социальных проблем, стоявших в очереди к редакционному бару, восхищенно прицокнув языками, проводили взволнованную Татьяну Егоровну не вполне скромными взорами. Увидев же, как критик Шкалик, выбежав почему-то из женского туалета, простирая короткие ручонки, засеменил ей вдогонку, журналисты перемигнулись и обменялись нехорошими улыбками.
…Опоздав на все деловые свидания и явившись в редакцию, по обыкновению, часа в два пополудни, корреспондент отдела культуры газеты «У речки» Кадя Ножевникова свою непосредственную начальницу на работе не застала. Полюбопытствовав бумагами на столе Татьяны Егоровны, Кадя с удивлением обнаружила пачку тетрадных листочков, исписанных неприятно знакомым почерком (Моисей Геронтович все-таки решил свои сочинения в редакции оставить). «И вот за пульт наконец вышел, появившись, наш несравненный гений дирижерского ремесла — такой молодой! Такой темпераментный! Как по-особому, как ново звучал Берлиоз под сильной рукой талантливого Абдуллы Урюковича! Я вот помню, как в одном из концертов профессора Бляхера с Усть-Илимским симфоническим…» — Ножевникова поморщилась и перевернула несколько страниц. — «…Вернувшись из поездки, где я сопровождал Дзержинскую оперу, с триумфальных гастролей в итальянском городе Пикколо, в котором гениальнейший дирижер современности Абдулла Бесноватый проводит великолепнейший фестиваль собственного имени, я с недоумением и горечью узнал, что некоторые, с позволения сказать, критики, позволяют себе необоснованно критиковать N-скую оперу и ее архиталантливейшего руководителя…» Кадежда тяжело вздохнула, и скомкав плоды вдохновения Моисея Геронтовича, метким броском отправила бумаги в корзину — туда, где уже лежала статья Шульженко, грубо смятая шавккелевским ботинком производства фабрики «Коммунист».
* * *
…Критик Шульженко сидел на кухне перед телевизором, принимая время от времени дробные дозы коньячку и размышляя: продолжить ли просмотр вялотекущей передачи Сидора Бявзы «Музыка и мы» или отправиться к столу, где из машинки торчал лист с неоконченной рецензией. В телевизоре играл оркестр Плетнева; время от времени Бявза перебивал музыку вставками со снятым заранее интервью, в котором ведущий приставал к музыканту с дурацкими вопросами, неловко пряча шпаргалку за букетом гвоздик. Шульженко неспешно думал. Коньяк потихоньку убывал. Внезапно телефонный звонок нарушил плавное течение вечера. Подойдя к столу, эссеист взглянул на табло телефона с определителем номера, затем нажал кнопку «record» портативного магнитофона, и только после этого, мерзавец, взял трубку. — Ну что, блядь, сожители херовы?! — раздался в трубке милый женский голос с характерной хрипотцой. — Почему же сожители? — слегка удивился Мефодий. — Скорее, молодожены… — Значит, сволочи, расписались уже?! — женщина на другом конце провода не смогла скрыть своего сожаления. — Но ты учти: твоей красавице худо у нас в театре придется! Не будет ей, бля, житья в театре — пусть и не мечтает!.. Надо сказать, что за последнюю неделю Мефодий к подобным звонкам абсолютно привык: легкое разочарование, которое он испытывал по адресу неплохих, в общем-то, артистов скоро сменилось равнодушием. Известные певцы, правда, не спешили называться: но взятый «напрокат» у приятеля телефон с определителем номера вызывающего абонента и позаимствованная у соседей справочная книжечка «Список телефонов N-ского Государственного ордена Ленина театра оперы и балета имени Дзержинского» позволили решить подобный ребус без труда. Подумав, что материал подобных монологов (а в ответах собеседники, как правило, почти не нуждались) может пригодиться в дальнейшем для работы, Шульженко еще и пристыковал к чудо-телефону магнитофон. Сейчас критик как раз мимоходом заглянул в справочник, и его первоначальная догадка подтвердилась: звонила пианист-концертмейстер Дзержинки Ирэн Слизнякова — жена молодого баса-коммуниста Марксена Оттепелева-младшего. — Ты че молчишь-то?! — взвизгнула трубка. — Я говорю: худо твоей… у нас в театре придется! Кислородик ей перекроем, жизни не дадим — пусть и не мечтает!.. — Да вы знаете, она как-то с вами жить и не собирается… — задумчиво протянул Шульженко. — А мечтает она совсем о других театрах… А вообще-то, позвольте полюбопытствовать: почему вы так грубо — можно сказать, по-хамски со мной разговариваете? — А сам-то!!! — заорало в трубке, и Мефодий испуганно убавил уровень записи на магнитофоне. — Чё сам-то херню пишешь неуважительную?!. Здесь необходимо заметить, что Шульженко где-то понимал бедную женщину: после того, как он, рецензируя какой-то спектакль, упомянул вскользь о «комнатном голосе» Оттепелева-младшего (что, положа руку на сердце, было комплиментом — ибо юный бас певческим голосом любого качества вообще не обладал), Ирэн Владленовна здороваться с ним вообще перестала. Критик не удивился, сочтя подобное явление некой семейной чертой, поскольку незадолго до этого инцидента Оттепелев, выиграв шестую премию на международном вокальном конкурсе в Пхеньяне, перестал здороваться со своим педагогом и большинством из театральных коллег. Что же касается самой Слизняковой, то сердиться на нее было нельзя: судьба ее складывалась нелегко — и профессиональных успехов, и простого женского счастья приходилось Ирэн добиваться в страшной, непрекращаемой борьбе со скрытыми и явными врагами. Первым ее врагом, еще в беспечные детские годы, стало фортепиано: черно-белый оскал его, казалось, глумился над коротенькими, с обкусанными ногтями, пальчиками Слизняковой. Затем появился враг номер два: нотоносец с бесчисленными черными значками. Вскоре количество врагов стало стремительно прирастать по мере расширения круга исполняемых композиторов. Долго ли, коротко ли, правдами или неправдами — но Консерваторию Слизнякова окончила; необходимо было дальше устраивать свою судьбу. Тут, как нельзя кстати, подвернулся ей солист Дзержинского театра, престарелый бас Наматрасников. Потрясая выкрашенными хной волосами, юная Ирэн не жалела шарма — и, не устояв под недюжинным обаянием ее, тучный Наматрасников сдался очень скоро. Согласно тонкому умыслу чаровницы Слизняковой, певец должен был стать буксиром, который приведет ее в N-скую труппу. Свое предназначение бас исполнил, но не полностью: в штат Слизнякову все же не зачисляли — и посему не прошло и полугода, как несчастный Наматрасников, размазывая слезы по пухлым щекам, уехал на свою госдачу в Пасмурное, где с утра до вечера пил водку в полном одиночестве, иногда вдруг заводя романс «Забыть так скоро!..» В стажерской группе театра тогда как раз появился новичок: во-первых, худой; во-вторых, молодой; да и вообще: он числился басом, был коммунистом и пришел в театр по направлению той организации, где люди не мужественные не служат. И неизвестно, что послужило тому главной причиной — то ли отборные, желтые и крупные, как у арабского скакуна, зубы Слизняковой; то ли длиннейший нос ее, то ли иранской хною крашеная грива… Так или иначе, но не устоял бас-коммунист пред чарами пианистки Ирэн: попав, наконец, в штат театра, нарожала она ему детей без счету — а вскоре и свадьбу сыграли. Сейчас же златые годы минули, заменить Оттепелева на кого-то другого в силу ряда причин (вполне, увы, объективных) Слизнякова уже вряд ли смогла бы — и потому любая критика в адрес супруга больно ранила чуткую душу пианистки. — …Ну, че замолчал-то?! — донеслось из трубки. — Нет, нет, Ирэн Владленовна, я вас слушаю… — механически пробормотал Шульженко. Словно наткнувшись с размаху на могучую стену, поток сквернословия на другом конце провода прекратился. — А почем ты знаешь, что это я — то есть, она?.. — через паузу как-то вдруг не очень смело поинтересовалась собеседница. — Во-первых, у вас очень узнаваемый голос, — ответил Шульженко. — Во-вторых, у меня стоит аппарат с определителем номера; вот вы сейчас, например, звоните с номера… — и критик назвал ей несколько цифр. На другом конце провода раздалась приглушенная ругань, после чего трубка с грохотом обрушилась на рычаг. «Как нельзя более вовремя!» — отметил про себя Шульженко, ибо вторая сторона 120-тиминутной кассеты, на которую Мефодий записывал монологи артистов Дзержинской оперы, как раз подошла к концу.
* * *
…Совещание в кабинете Абдуллы Урюковича затянулось совсем допоздна, да и не мудрено: легко ли написать, набросать план либретто оперы о живом еще гении, о сокрушительном таланте, о величайшем извеликих — и это в то время, когда он, скромный и простой, позволяет авторскому коллективу сидеть в одной комнате, рядом с ним, почти за одним столом?.. Понятно, что в хорошей опере без партии сопрано не обойтись. Но что делать, когда (весь в творчестве, весь в искусстве) Абдулла Урюкович так и не успел обзавестись, что называется, спутницей жизни? Блестящее решение придумал Бустос Ганс: сопрано должна обозначать в опере Музу, вдохновение Абдуллы Урюковича. Эта мысль тут же подстегнула воображение режиссера Джорджа Фруктмана — он заявил, что муза, как явление не обыденного мира, как символ неких высших сфер, будет появляться на сцене совершенно голой, с чем присутствующие охотно согласились. Циничный Драчулос попытался было поиронизировать над довольно-таки крупными, если не сказать больше, формами Вали Лошаковой (было ясно, что ведущую женскую партию будет петь именно сибирская звезда, и никто другой) — но Залупилов тут же сказал, что Вдохновение Абдуллы Урюковича хилым и тщедушным быть никак не может. Фруктман, мечтательно закатив глаза, заявил тогда, что было бы очень здорово, если и сам Бесноватый тоже предстал в опере голым — но идея была отвергнута, поскольку чудо гения Абдуллы Урюковича в том и состояло, что он был земным и — на первый взгляд — достаточно обычным человеком. Приунывший было Фруктман вновь воспрял, когда (с подачи Шкалика) было решено ввести в оперу хор мальчиков-ангелочков; уж они-то, разумеется, будут голыми точно. После долгих дебатов решили, что вокальную партию Гения (прообраз Бесноватого в будущем произведении) должны петь сразу несколько лучших солистов театра: бас, тенор и баритон, что означит сверхчеловеческие способности Абдуллы Урюковича достаточно ясно. Затем возник вопрос: как же лучше всего представить в опере главного героя? Ходули, предложенные было Морисом Пигалем, по некотором размышлении были отвергнуты, и здесь свою лепту внесли Энтони Джастэлитл и Стивен Тумач: подиум маэстро надлежит исполнить несколько выше обычного, а оркестровая яма во время всего спектакля должна оставаться поднятой на максимальную высоту; подсвеченный сзади ярким прожектором, Бесноватый будет отбрасывать на задник тень огромного размера. Идея Абдулле понравилась; ее утвердили. …Разошлись где-то после двух ночи; уставший и озабоченный, Абдулла, разминая конечности, вышел из кабинета. Театр, давно уже обезлюдевший, скудно освещался лишь тусклыми фонариками, редко развешанными по углам, богато убранным паутиной. Мыча себе под нос что-то неопределенное, дирижер, незаметно для себя, постепенно оказался на сцене. Все декорации давно были убраны, и Абдуллу как-то неприятно поразили размеры сценического пространства. Бесноватый, задумчиво уставившись в еле освещенный дежурной лампочкой зал (пожарный занавес был почему-то не закрыт), представил на мгновение сонный театр до отказа заполненным публикой — и себя… ну, скажем, в роли царя Бориса на этих огромных подмостках; ему вновь стало не по себе. «Как же эти шакалы, в тяжеленных шубах, в гриме, изображают тут всякое?.. — подумалось гению дирижерской палочки. — Да еще ведь и петь надо, чтоб всем слышно было…» Он посмотрел вглубь зала, в направлении верхних ярусов — но ничего в полутьме разглядеть не сумел. «Далеко…» — отметил про себя неистовый борец с партитурами. А дирижерский пульт отсюда вообще выглядел как-то несолидно: чтобы увидеть его, надо было посмотреть куда-то вниз; со сцены он казался чем-то вроде сувенира из царства лилипутов. «Подумаешь, дело большое!.. — вдруг разозлился Абдулла. — В костюме-то, да в гриме — вообще делать нечего!» И, слегка кашлянув, он вдруг несмело затянул надтреснутым голосом горца: «Достиг я высшей власти…» — и тут же замолк: гулкое эхо вымершего театра даже для его слуха отозвалось уж как-то больно похабно. — К сожалению, это единственное, чего ты смог достичь!.. — вдруг с тяжелым вздохом произнес низкий, ясный голос. Бесноватый вздрогнул и обернулся: «Кто здесь?!.» — …Ну чего еще ты добился, скажи — только честно! — продолжил невидимый собеседник. — Что на спектаклях знаменитого театра скоро зал будет выглядеть в точности, как сейчас?.. Что не только «звезды», но даже все мало-мальски стоящие певцы от тебя разбегаются?.. Что в погоне за лишней копейкой оперу в сельскую кинопередвижку обратил?.. — Что это еще за шутки?! Кто здесь? Кто посмел?.. — Абдулла попытался обозначить в голосе металлические нотки хозяина. — Да ты не ори!.. — устало посоветовал голос. — Это ты днем, в кабинетике на шестерок своих поорать можешь… А ночью я здесь хозяин; вот уже двести шестьдесят лет хозяйствую… — А… Это… Ты кто такой? — недоверчиво, опасаясь подвоха, спросил Бесноватый. — Кто, кто… — несколько ворчливо заговорил неизвестный. — Призрак оперы, вот кто!.. Мог бы уж знать, что в каждом оперном театре свой призрак имеется — да впрочем, где тебе это знать… Грамотей! — А я не верю! — злобно выпалил Абдулла. — И вообще: кончай эти шутки, а то уволю к чертовой матери!.. — Ха-ха-ха-ха-ха!.. — раздался оглушительный, раскатистый, леденящий душу хохот, от которого у дирижера Бесноватого вдруг мурашки пошли по коже; ему стало сильно не по себе. — Ты!.. Уволишь!.. — немного успокоившись, голос добавил: — Да-а… Ну и культура у вас нынче, нечего сказать! Не верит он, видите ли… А в бесенят, которые контракты приносят, — (Абдулла вздрогнул) — ты, значит, веришь?.. Мне вообще-то по рангу не пристало таким, как ты, показываться — но уж сделаю исключение: в порядке ликбеза, как говорится… После этих слов воздух перед Абдуллой замерцал, засветился, пошел волнами — и дирижер увидел человека неопределенного возраста, одетого в ладно скроенный сюртук и цилиндр. Необыкновенно изумленный, Бесноватый, тем не менее, принялся пристально вглядываться в лицо незнакомца: мысль о каком-то необыкновенном розыгрыше все не давала ему покоя. Но правильные черты благородного и бледного лица призрака не были похожи ни на кого из работавших в театре. Да и вообще… Словно услышав мысли Абдуллы, призрак чуть усмехнулся: — Вижу, не впечатлил… Ох, джигит ты этакий! — с этими словами Призрак оперы вдруг начал резко увеличиваться в размерах и, в мгновение ока превратившись в хрестоматийного оперного Мефистофеля (правда, исполинских размеров) с плащом и шпагой, вдруг громогласно затянул: «…при шпаге я, и шляпа с пером — не правда ль, во мне все как на-а-адо?!.» — В исполнении странного гостя блистательная верхняя нота прозвенела столь оглушительно, что Абдулла Урюкович невольно закрыл руками уши и зажмурился. Когда же он открыл глаза, Призрак — в том же обличье, в котором и явился поначалу — с небрежным изяществом сидел на краешке суфлерской будки. — Ну, и что же теперь, — глупо хихикнув, Абдулла постарался взять в разговоре этакий развязный тон, но слова его прозвучали довольно-таки заискивающе. — Петь заставишь? — Вот еще! — презрительно фыркнул Призрак. — Не охотник я до собачьего воя; и без того уж такого у вас наслушался… Уязвленный непочтительным упоминанием о собачьем вое, дирижер Бесноватый (взрывной темперамент великого маэстро вновь дал о себе знать) мгновенно рассвирепел: — Да я, если захочу, тебя из своего театра выкурю в два счета!.. Подумаешь — призрак! Вылетишь, как пробка!.. — Ну, ну… — Призрак отреагировал на брызжущий слюной пылкий выпад дирижера без эмоций и как-то даже печально. — Только знай: день, когда Призрак оставляет театр, становится последним днем для этого театра… Кстати, брат мой сегодня уходит из «Лисео»… — Разом вдруг потеряв всякий интерес к Бесноватому, Призрак оперы отвернулся в сторону и тихонько запел: «На воздушном океане без руля и без ветрил…» За спиной Абдуллы Урюковича вдруг послышался громкий, протяжный скрип. Обернувшись, художественный руководитель N-ской оперы увидел в проеме двери ночного сторожа — который, по-видимому, направлялся на сцену, чтобы закрыть железный занавес — и сейчас был весьма ошарашен неожиданной встречей с начальством. — Почему посторонние в театре ночью?!. — злобно заорал Бесноватый на сторожа. — По… помилуйте, Абдулла Урюкович! — забормотал сторож, слегка заикаясь. — Г-где же пос… посторонние? П-поздно ведь уже… — А это кто, по-вашему? — не оборачиваясь, Абдулла указал в сторону суфлерской будки — и, поймав недоумение в глазах охранника, повернулся вслед за своей рукой. Возле рампы не было ровным счетом никого — если не считать огромного, жирного рыжего кота, неспешно умывавшего морду передней лапой. — Пшел! А ну!.. Брысь, кому говорю!.. — заорал сторож, прытко помчавшись за котом. Тот, царапнув когтями пол, рванул по рампе прочь от преследователя, а затем сиганул в оркестровую яму. Здесь Абдулла Урюкович и ночной дежурный стали свидетелями странного явления: все старинное здание театра вдруг содрогнулось, завибрировало мелкой дрожью; жуткий, низкий гул донесся до их слуха как будто бы из самых недр земли… Продолжалось все это, впрочем, совсем недолго — и вскоре дверь, ведущая на сцену, заскрипела вновь. — Э, вот ви гидэ, Абдулла Эддин Урюкович! — в дверях, широко улыбаясь, стоял личный шофер Бесноватого Омар Юсуф. — А я уже вас по всэй тэатре обыскался… Арба готов! («Арбой» Омар называл служебный «Volvo 960» своего начальника). …По дороге домой Абдулла из машины позвонил Бустосу. Заговорили о Берлине, где Ганс недавно успешно продирижировал Пятой симфонией Бетховена. Они посудачили о том, о сем; от приятной беседы с другом настроение Абдуллы Урюковича стало потихоньку улучшаться. «…Да, да — я уже сейчас подъеду… Между прочим, — вдруг, как будто что-то вспомнив, радостно заговорил Абдулла, — я договорился с театром „Лисео“ — там будет сольный концерт Буренкиной, а затем, во время летних гастролей, мы дадим два концертных представления „Хованщины“!» Бустос замолчал, почему-то никак не отреагировав. «Чего ты молчишь?!» — «Ты еще не знаешь… Прости, милый — я не хотел тебя расстраивать…» — «Да что такое?..» — «В последнем выпуске „Новостей“ только что передали: барселонский театр „Лисео“ сгорел. Начисто сгорел! Дотла…»* * *
…«Да на черта мне все это нужно?!.» — вдруг раздраженно подумала Татьяна Егоровна Тараканова, скомкав бумагу и промахнувшись ею мимо корзины. Однако, прежде чем мы с вами спокойно, как данность, примем этот факт, давайте познакомимся с этой замечательной женщиной чуть ближе. В журналистику Танечка пришла, как говорится, в силу традиции: факультет журналистики N-ского государственного университета традиционно служил убежищем всем ленивым девам, в любых других областях знаний категорически не преуспевшим. Мужская же половина факультета состояла из стукачей, определенных на учебу органами КГБ и тихих (а порой и не очень) гуманитарных алкоголиков. Впрочем, небольшая напряженность учебного процесса не мешала кирять и стукачам. Поэтому, не забивая себе голову пустыми романами, но устроившись стажером в N-ский коммунистический листок «Осади назад!», Танечка приносила первые свои робкие опыты («Когда работа — творчество», «Вдохновенной кистью», «Отмечен высокой наградой» и так далее) тете Аглае, работавшей в той же газете корректором, которая, ворчливо бранясь, правила племяннице стиль и исправляла орфографические ошибки. Работа в партийной газете позволила придирчивой Таракановой выбрать суженого осознанно и несуетливо; и после пары не совсем удачных и не вполне удовлетворительных брачных попыток она сыграла свадьбу с Фазаном Уткиным, членом N-ского административного совета и культурным консультантом самого городского головы товарища Доберманова. Кроме того, в одном из крупнейших художественных музеев России — N-ском Славянском Базаре — товарищ Уткин исполнял обязанности завхоза. Таким образом, глубочайшая эрудиция Таракановой в вопросах искусства и культуры ни у кого более сомнений не вызывала, и в открывшейся на заре перестройки газете «У речки» Татьяна Егоровна по праву заняла тот кабинет, который — вместе с критиком Шавккелем — мы с вами недавно посетили. Татьяна Егоровна Тараканова (как мы уже отмечали) была неглупа — и именно поэтому ей хотелось иметь в своем отделе достаточно профессиональных сотрудников; в атмосфере возросшей за последнее время конкуренции среди средств массовой информации она стремилась собрать под свои знамена всех авторов, имевших хороший читательский рейтинг — не потому, чтобы уж так она радела за свою газету, но больше из-за того, что газетный ее пост давал ей, наряду с уютным кабинетом-будуаром, еще и некий (призрачный только разве для нас с вами) в обществе вес. Посему с некоторых пор она необычайно заинтересовалась возможностью привлечения к работе в своей газете Мефодия Шульженко: его фельетоны, выуживаемые из множества газет и журналов, где тому доводилось тиснуть по случаю статейку-вторую, постоянно обсуждались меломанами N-ска и были у всех, что называется, на языке. Тараканова серьезно мучалась: с одной стороны, многие уважаемые люди говорили ей, что Шульженко-де превосходно пишет и был бы для ее отдела просто находкой; но, с другой стороны, люди не менее солидные уверяли, что статьи и рецензии, выходящие из-под пера Мефодия — парад безграмотности и дурновкусия… Что до самой Татьяны Егоровны, то ей публикации Шульженко большей частью нравились — но вот признаваться себе в этом или нет, она решить так и не смогла. Однако стоило лишь Таракановой предложить Шульженко сотрудничество на основе долгосрочного контракта, как на нее тут же посыпались всяческие неприятности, свидетелями коих нам уже довелось побывать. К сожалению, однократным визитом Шавккеля и посещением Шкаликом дамского туалета дело не ограничилось. Музыковед Вореквицкая прислала письмо-статью «Как и почему я ненавижу Шульженко», которое, в обход Таракановой, прошло в печать через отдел писем; критикесса Поддых-Заде выступила с памфлетом «Вижу только хорошее» (где «неким злобным критикам» противопоставлялся светлый образ «критика-отца») — его напечатал отдел социальных проблем… Для газеты «У речки», склонной к тихим внутренним путчам и бархатным революциям, ситуация становилась опасной — заботясь об авторитете своего отдела, Тараканова, естественно, меньше всего хотела лишиться теплого и насиженного места… То тут, то там в N-ских средствах массовой информации пошли публикации, направленные против Мефодия Шульженко: так, в работу активно включилась неистовая старушка Спасская — городская сумасшедшая и жена композитора Тайманского; в силу последнего обстоятельства Спасская курировала на N-ском телевидении редакцию музыкальных программ, и последнюю свою передачу «Катаклизмы музыки» она полностью посвятила компрометации Шульженко. Резонно рассуждая, что к полупьяной старушке в клипсах уже давно никто всерьез не относится, Татьяна Егоровна, тем не менее, опасалась, что тень некоего скандального имиджа Шульженко невольно распостранится и на нее. Внесла свою лепту и Алексисова — другая старушка (по какому-то недоразумению мнившая себя театроведом), уныло обозревавшая жизнь муз в газете N-ского союза журналистов «Пиф-Паф»; выразив почему-то несколько гадостей в адрес Елены Эворд, она возмущалась, что проработав всю жизнь «по искусству», так и осталась неприметной труженицей пера — а вот всяким там Шульженкам посвящают статьи и телепередачи… Однако последней каплей, переполнившей чашу тревоги и беспокойства, для Таракановой стал телефонный звонок Акакия Мокеевича Пустова — ненавязчиво, но довольно настойчиво (хоть и обиняками), тот порекомендовал воздержаться от дальнейших публикаций Шульженко. Нежно заикаясь, он намекнул, что из недавнего скандала в музее Славянский Базар (где в запасниках вместо четырнадцати полотен Левитана, Кустодиева, Шагала и Айвазовского вдруг обнаружилось двадцать холстов Шилова и Налбандяна) лучшему другу Пустова, прокурору Быдловского района города N-ска, кое-что известно вполне достоверно: и, несмотря на горячие просьбы журналистов из «Измены», он пока не торопится делиться материалом с газетчиками. «Ведь всяческие нездоровые сенсации нам, согласитесь, ни к чему?» — прокурлыкал композитор в трубку… Несмотря на твердую уверенность Таракановой в том, что завхоз Уткин никакого отношения к хищениям и валютным скандалам в Славянском Базаре не имеет, она (и здесь — хотя бы из уважения к женщине — мы с вами обязаны ее понять) совершенно не желала, чтобы служебные скандалы отравляли еще и покой семейного очага. «Да на черта мне все это нужно?!.» — раздраженно подумала Татьяна Егоровна и, скомкав лежавшее перед ней заявление о приеме на работу, подписанное Мефодием Шульженко, бросила его в корзину — но промахнулась. «Еще со Шкаликом этим неудобно как-то вышло… Черт!.. Извиниться, наверное, придется!..» Выкурив нервно сигарету, Тараканова уже было решила двигаться домой, когда на столе вновь зазвонил телефон. После некоторого колебания она ответила. «Здравствуйте, Татьяна Егоровна! — раздался в трубке бодрый голос Шульженко. — Наконец-то я вас поймал! Надеюсь, сегодня мы закончим с оформлением, как вы обещали — я ведь послезавтра уезжаю, и снова в N-ске буду уже через год?..» «Э-э-э… Вы знаете, Мефодий… (на какую-то секунду Тараканова замешкалась). — У нас изменились резко обстоятельства: внезапные финансовые проблемы…» — «Ну хорошо, давайте, тем не менее, все обсудим! — не унимался Шульженко. — Ведь сегодня пятница, завтра — выходной…» — «Да, да! Конечно!.. Знаете что: заходите ко мне на работу… э-э-э… скажем, через час — договорились?» — «Конечно!» И, с облегчением положив трубку, Татьяна Егоровна накинула пальто и вышла из кабинета, аккуратно заперев дверь на два оборота.* * *
Как мы уже говорили не раз, работал Абдулла Урюкович действительно очень много и тяжело. Он активно записывался для фирмы «Примус» и для российского телевидения; разъезжая по миру, выступал в качестве гастролирующего дирижера; участвовал в многочисленных фестивалях и праздниках музыки — или сам организовывал всяческие мертворожденные фестивали-однодневки; Бесноватый, не жалея себя (и Дзержинский театр, разумеется, тоже) возил турне по всему свету: с оперой или просто с оркестром N-ской оперы, с концертными исполнениями опер и с симфоническими программами… С огромным удовольствием Абдулла Урюкович принимал участие в благотворительных концертах (где стоимость спонсорских билетов порой достигала нескольких тысяч долларов), организованных в помощь замечательной российской оперной труппе. Оркестранты и солисты театра в подобном случае денег вообще не получали; Абдулла Урюкович объяснял им, что сам факт выступления в подобном концерте — уже для них огромная честь. Все же деньги, как следовало из его объяснений, будут направлены «на нужды театра» — но в чем конкретно выражаются подобные нужды, никто толком не знал… Когда же самому Абдулле кто-либо в России предлагал провести благотворительный спектакль или концерт — в пользу, скажем, его же родного Кавказа, который захлестнула волна братоубийственной войны — то Бесноватый всегда находил благовидный предлог для отказа. Мудрый и дальновидный, он не спешил встревать во всякие политические игры: «Мы будем нужны при любом режиме!» — любил он поговаривать среди своих приближенных. Кроме того, Абдулла Урюкович (да сохранит Аллах здоровье и разум его!), как и подобает настоящему вождю, был всерьез озабочен народными судьбами. Он вполне резонно рассудил, что один или два благотворительных концерта кардинально ситуацию изменить не смогут — и мудрейший дирижер, прочувствовав и поняв, что благосостояние народа основывается, прежде всего, на благосостоянии отдельной семьи (сегодня это уже, кажется, признают даже коммунисты), с недюжинным энтузиазмом работал именно в этом направлении. «Надо как можно скорее стать богатым!» — размышлял музыкант, терзаемый думами о сытости и благополучии своего народа. Впрочем, сколько надо денег, чтобы без тени сомнения объявить себя богатым человеком, Бесноватый точно не знал — и гениальному дирижеру приходилось копить и копить деньги в ожидании того момента, когда пресловутое благополучие придет, наконец, и к народу его. Ну, а банк «Негрокопилка», где Абдулла Урюкович держал несколько своих счетов, тем временем становился самым богатым банком Уругвая… Разумеется, что при таком изматывающем режиме времени на всякие глупости вроде «тщательной выучки» или «осмысления» музыкальных произведений, конечно же, не оставалось. Да и вообще: все эти заграничные пижоны должны быть просто счастливы, что сам вдохновенный Абдулла Урюкович приехал продемонстрировать им свое незаурядное мастерство! Да, мастерство… Не думаете ли вы, друзья, что уже настала, наконец, пора нам хоть немного поговорить о мастерстве выдающегося дирижера?.. О, нет, нет: конечно же, нам не дано постигнуть искусство этого гения в полном объеме — не те масштабы. Но даже тот мизер — который, в силу несовершенство нашего, мы можем постигнуть, должно нам изучать и жадно впитывать душою… Итак, приоткроем дверь в творческую лабораторию Мастера. Дирижер, как известно, это прежде всего — жест. И тут нас ждет первое открытие: сухая, лишенная вдохновения и порыва метрическая сетка была также не нужна гению Бесноватого, как не нужен лифчик прекрасным формам созревшей старшеклассницы. Все пресловутые «шесть восьмых», «девять одиннадцатых» и другие, более заковыристые размеры, вселяющие трепет в молодых и бездарных, Абдулла Урюкович даже в ранней юности своей дирижировал только «на два» и «на три». Но и это было лишь первыми шагами: вскоре Бесноватый отказался в своей практике от всех подсказок для нерадивых оркестрантов, дирижируя любые произведения «на раз» — то есть, показывая музыкантам лишь первую долю такта. Однако, как нам уже приходилось упоминать, работал Абдулла Урюкович не просто много, но очень-очень много. При его стиле жизни он нередко попадал в такую ситуацию, что некую партитуру Шостаковича, Прокофьева — или, скажем, Стравинского — он впервые раскрывал уже прямо на концерте. И порой случалось, что не отдохнув как следует с дороги, во время исполнения особо каверзных опусов бедный Абдулла просто не мог разобрать — где здесь первая доля, а где — третья… Но истинно (хоть и не нами сказано) — нет предела совершенству: Бесноватый отточил свое мастерство до такой степени, что нужда во всяких там ауфтактах или предиктах вскоре совсем отпала: он лишь встряхивал ладонями с растопыренными пальцами и широко разводил руки, совершая пассы на манер физика-экстрасенса Чумака. Присяжная критика и в стране, и за рубежом полюбила эту манеру дирижирования, с восторгом окрестив ее «электризующей» и «магнетизирующей». Правда, порою все-таки не обходилось без осложнений: труднее, например, приходилось с западными музыкантами, нужной критики не читавшими. А в далеком американском городе Сан-Базильо вообще вышел форменный скандал. Бесноватый прибыл в Сан-Базильо, бесконечно утомленный многочасовым перелетом — и посему дневную репетицию отменил, решив вместо нее поспать часика два-три. Но когда Абдулла Урюкович проснулся, он обнаружил себя еще более усталым и обессилевшим, чем до отхода ко сну. «Как же я буду дирижировать?!» — ощутив мерзкое посасывание под ложечкой, подумал маэстро. Дело осложнялось еще и тем, что Абдулле Урюковичу (да хранит Аллах здоровье и разум его!) предстояло дирижировать оперой какого-то композитора начала нашего века, не только партитуру которой он никогда не видел, но и — до принятия предложения Оперы Сан-Базильо — ничего не слышал о ней вообще. Даже запись этой оперы Бустос не смог найти во всей Европе. А главную партию должен был петь признанный тенор — звезда мирового масштаба. Согласно порядку, заведенному Абдуллой Урюковичем в N-ском театре, все спектакли оркестр готовил под руководством дирижера-репетитора, проводившим с музыкантами всю черновую работу. Таким образом, сам маэстро прибывал накануне (а то и в день премьеры), чтобы встряхнуть руками и порычать в адрес солистов и музыкантов на генеральном «прогоне». Но на Западе почему-то подобных порядков предусмотрено не было, и Абдулла вдруг заволновался. Да еще эта слабость и паршивое самочувствие!.. Он потянулся было к пачке сигарет, лежавшей на тумбочке — как вдруг дверца тумбочки стремительно и резко распахнулась, и оттуда выскочил маленький черт, взлохмаченный и веселый. Голову его украшала парочка милых рожек, а один глаз был закрыт моноклем темного стекла… В общем, если вы, читатель, его не узнали, то Абдулла Урюкович признал приятеля сразу. Мохнатый друг Абдуллы протянул тому раскрытый золотой портсигар. Улыбнувшись, дирижер взял предложенную ему длинную сигаретку и прикурил от фиолетового язычка пламени, выскочившего у чертика из пальца. «Ты не волнуйся! — сообщил мохнатый гость Абдулле своим писклявым голосом. — Все будет хорошо… Помни: ты — гений; а они все — дерьмо!» — после чего немедленно исчез, хлопнув дверью тумбочки. «И правда — чего это я? — подумал Абдулла. — Ведь я-то — гений; а они все… И тенор этот… Подумаешь: звезда…» Легкое головокружение, возникшее после первой затяжки, прошло — и теперь с каждым новым глотком дыма дирижер чувствовал, как в него входят сила и уверенность в себе. …Выскочив за пульт с пятнадцатиминутным опозданием, Бесноватый, сверкая как-то по-особенному блестящими глазами, широко взмахнул руками с трясущимися кончиками пальцев: электрошок сработал; музыканты заиграли. Закрыв глаза, Абдулла Урюкович полностью отдался музицированию. Мысли его блуждали далеко: он видел себя на какой-то необыкновенно высокой горе; отобрав у Рихарда Вагнера (причем тот пищал и плакал, как ребенок) красивейшую чашу, он, развернув композитора за шиворот к склону горы, всадил тому пониже спины сильнейший пинок… …От удара ногой о пульт Абдулла пришел в себя; оглядевшись вокруг, он увидел, что оркестр не играет, но сидит с лицами несколько озадаченными. «Увертюра кончилась!» — догадался маэстро и раскрыл партитуру, о которой совершенно позабыл вначале. Быстро пролистав увертюру, он раскрыл ноты на следующем номере — и вдохновенно затряс руками. Оркестр заиграл, как того и следовало ожидать — но вскоре, уже совершенно неожиданно для всех, остановился. Особенно этого не ожидал Абдулла: злобно взглянув на музыкантов, он затряс руками снова. Музыки не было. «Вотс зэ меттер виз ю?!.» — свирепо заорал Бесноватый на музыкантов. «Sorry, maestro, — ответил концертмейстер оркестра, — but we cannot understand your hands. Could you, please, give us more precise gesture — we need the certain beat-up?..»[6] Абдулла хотел уже было гаркнуть на нечестивца как следует, как вдруг ощутил на устах своих мохнатый пальчик. Чертик, невесть откуда возникший на барьере оркестровой ямы, нежно взял Бесноватого за запястье — и выдал великолепный ауфтакт! Оркестр заиграл, с уважением («Ведь может же!») поглядывая на Абдуллу, сиявшего своей «обаятельной № 3» улыбкой. Новая игра очень понравилась дирижеру: одна только мысль, что козлоногого его дружка никто не видит и даже не подозревает о его существовании, приводила маэстро в состояние какого-то ребяческого восторга… Когда на сцене появился знаменитый тенор, Абдула Урюкович, зарычав и засветившись всеми прыщами, затряс руками с утроенной силой, выжимая из оркестра максимальную громкость. «Сейчас мы посмотрим, кто здесь главная звезда!» — подумал он, пуча глаза в сторону медной группы. И правда, результат был достигнут: голос мировой звезды совершенно не был слышен из-за оркестра — под остекленелым взором Бесноватого и под звуки его характерного темпераментного хрюкания совершенно ошалело громыхавшим что есть силы… Даже мохнатый дружок Абдуллы струхнул: «Не увлекайся! Полегче!..» — но пришедший в полнейший экстаз Абдулла Урюкович, вдохновенно музицируя, лишь досадливо отмахивался от нашептывавшего всякую ерунду бесенка.
…Неприятности начались наутро: во-первых, в связи с опозданием Абдуллы (опера началась на восемнадцать минут позже) спектакль затянулся за полночь: и, с учетом жестких правил американских профсоюзов, администрации пришлось выплатить огромные суммы всем многочисленным театральным цехам: монтировщикам и машинистам, гримерам и бутафорам, — хору и оркестру, в конце концов… Кроме того, в этот вечер была организована прямая радиотрансляция на всю Америку — и за «перебор» эфирного времени театр также заплатил астрономические суммы. А мировая звезда-тенор, будь он неладен, возмущенный грохотом оркестра, вообще нагло заявил: «либо — я, либо — он!» И позорное это начальство оперы Сан-Базильо выбрало: пока Абдулла мирно спал в отеле, в театре уже было во всеуслышанье объявлено, что-де срочные дела, увы, призывают маэстро Бесноватого назад в Россию. «У, шакалы позорные!.. — злобно размышлял Абдулла, раскуривая окурок вчерашней длинной белой сигареты у себя в отеле. — Скоты! Я им еще покажу!..» Когда в прикроватной тумбочке послышались какие-то копошение и шорох, после чего с характерным скрипом она стала приоткрываться, Абдулла с такой силой вдарил по тумбочке ногой, что ботинок его застрял в насквозь пробитой дверце. Гневно переведя дух, он подошел к минибару, чтобы чего-нибудь выпить — как вдруг, пребольно и крепко схваченный за ухо, отчаянно заверещал от неожиданности и боли. Кто-то невидимый подтащил Бесноватого к журнальному столику у окна (при этом ноги известного дирижера едва не отрывались от пола) и швырнул его в одно из кресел. Поскуливая и растирая ухо, Абдулла не сразу заметил, что в кресле напротив, невесть откуда взявшись, поместился весьма рослый субъект в черных бархатных плаще и берете. Он сидел, небрежно скрестив ноги, но — (и это было отвратительно и страшно!) — из атласных черных штанин высовывались ужасные мохнатые черные копыта. Левый глаз незнакомца был закрыт непрозрачным моноклем темно-синего стекла; конец бордовой с золотом ленточки, шедшей от монокля, скрывался под бархатным беретом. Правый же его глаз нацеливал на Абдуллу пронзительный и немигающий взгляд. Ведущему музыканту современности стало холодно и неуютно. — Ты, дружок, что-то часто стал забываться… — молвил пришелец. — Не тот здесь случай, чтобы ножкой топать. Ты у себя в театре можешь это делать — и то, до поры, до времени… Абдулла вдруг ощутил, как на него накатила волна липкого, всепоглощающего страха. Нежданный гость улыбался, но улыбка у него была уж больно странная — пустая, холодная… В общем, явно нехорошая какая-то улыбка. — …Тебе необходимо понять: я не всемогущ. Я могу почти все — но не все. Есть еще и другая сила… — Козлоногий джентельмен вдруг резко, отрывисто захохотал — и мороз прошел у Абдуллы по коже. — Но с теми силами ты уже навсегда испортил отношения!.. Так что, друг мой, послушай моего совета: не лезь на рожон; не обнимай необъятного… На Западе — русская музыка, в России — западная. Твой контракт предусматривает взаимные обязательства… — (и во внезапно закачавшемся, замерцавшем воздухе перед Бесноватым возникла красивая бумага с шикарной эмблемой: помещенную в окружность пятиконечную звезду украшали со всех сторон какие-то непонятные символы; сам же текст был, похоже, написан от руки на языке, Абдулле неведомом. Так или иначе, но внизу этого листа стояло размашистое и красивое факсимиле — это была собственноручная подпись Бесноватого). Тем временем в дверь постучали — и таинственная бумага, и сам гость начали быстро растворяться в воздухе. «Твои обязательства по контракту я могу затребовать в любой момент; у меня не театр „Сан-Карло“; не отвертишься!..» — услышал Абдулла уже откуда-то издали, и — охваченный ужасным, насквозь пронизывающим холодом, упал на ковер без чувств.
* * *
…Закулисный буфет Дзержинской оперы был переполнен гомоном и табачным дымом; оркестр, у которого час назад должна была начаться репетиция, почти в полном составе разместился в буфете, оккупировав не только стулья, но и все мало-мальски пригодные для сидения предметы. — …Я не знаю, в больнице он сейчас или нет, но что сердечный приступ у него был, это точно!.. — горячился валторнист Зайков. — Точно, точно! — вторил виолончелист Подчувихин. — Там Зяма, виолончелист с нашего курса сейчас работает, в камерном оркестре; так вот, он как раз звонил сегодня утром — говорит, еле откачали… — …Ну, хорошо! — слышалось из-за другого стола. — А кто другой? Кто вместо него? С этим хоть какие-то бабки на гастролях получаем… — Да я в гробу все это видел! За двести долларов, без душа и без бритвы, неделями в автобусах по прериям трястись; в бараках ночевать… Вон, оркестр Плетнева — и здесь зарплата нормальная, и в поездки, как люди — пореже, да за нормальный гонорар: и с «Деккой» пишутся, и в бордель сходить успевают!.. — горячились молодые оркестранты. Музыканты постарше тихо пили кофе и в спор не вмешивались — тем более, что между столиков, внимательно выгнув кадыкастую шею, толкался туда-сюда редактор «Музыкального бойца» Кретинов. Присев на стул в коридорчике за углом, замначальника отдела художественной безопасности театра, хромой директор оркестра Петров принимал оперативные донесения о скрытой нелояльности от трубача сценического оркестра Подсыкайлика.* * *
…Буквально за секунду до этого трусившая по проходу с вполне индифферентным, казалось бы, выражением на умной морде, собака вдруг встала, как вкопанная — а затем, принюхавшись, уже через мгновение резко потянула в сторону — и вновь остановившись у большого фанерного ящика неправильной формы, громко заскулила. Державший в руках поводок моложавый мужчина в форме капитана милиции вопросительно взглянул на массивного человека в партикулярном платье — судя по всему, старшего. Тот кивнул: «открывайте»! На дворе стояла глубокая ночь, но один из ангаров N-ского международного аэропорта «Полянки», приспособленный под склад для товарно-багажных нужд, был ярко освещен — и именно по нему, невзирая на поздний час, прогуливалось несколько человек в форме и штатском. Предметом, вызвавшим столь пристальное внимание собаки, а вслед за ней — и присутствовавших в ангаре людей, оказался кофр, в котором на гастрольную поездку отправлялся один из инструментов оркестра N-ской оперы. Сноровисто и быстро вскрыв кофр, сыщики аккуратно извлекли зачехленный контрабас и бережно положили его поодаль. Стиль их работы выдавал настоящих профессионалов: не прошло и трех минут, как на свет, из-под двойных стенок и дна, появились плоские пластиковые пакетики, наполненные белым порошком. «Филиппов! — тучный в штатском подозвал рыжего в очках. — Пошлите пробы в лабораторию. Партию пометить. Проверьте все остальные. Бережно закрыть. Понятно?» — «Так точно, товарищ майор! Постараемся не спугнуть птичку… Что указать в ответе на запрос Интерпола?..» — Вот эти шесть еще… — проводник с собакой указал на отставленные чуть в сторону футляры. — Товарищ майор, я могу увести Найду, чтобы она не волновалась? — собака, действительно, нервно поскуливала и сильно тянула поводок. — Конечно, идите… Спасибо, товарищ капитан! — Да ну! — и направившийся к выходу капитан улыбнулся и махнул рукой.* * *
Случался ли у Бесноватого сердечный приступ или нет, оркестрантам так выяснить и не удалось. Кто-то в театре обрадовался, кто-то загрустил — но Абдулла Урюкович, живой и невредимый, на следующий день, как ни в чем не бывало, явился репетировать с оркестром. «Арфы, вы что там играете?! В Японию ехать не хотите?!. …Медь, громче! Контрабасы, маркато!.. Всем смычком, шакалы!..» — неистово орал он во время репетиции, не останавливая оркестр. В это время Антон Флаконыч Огурцов, баритон Барабанов и потомственный певец Лапоть Юрьев, вооружившись большими сачками и растянувшись в цепь, шли по нижнему оркестровому фойе. В рамках работы отдела художественной безопасности театра они выполняли важнейшую директиву Абдуллы Урюковича. Дело в том, что с некоторых пор приподнятую атмосферу высокого искусства, неизменно царившую на спектаклях и концертах маэстро (да хранит Аллах здоровье и разум его!) стала беспардонно и гнусно профанироваться появлением на сцене огромного и наглого рыжего кота. Усаживаясь на рампе, бесстыжая тварь умывалась, позевывала, потягивалась — и только после того, как все внимание публики обращалось на него, котяра неспешно скрывался в кулисах. Баритон-спортсмен Селезень даже написал в отдел художественной безопасности театра рапорт, в котором обвинил паскудного кота в срыве спектакля «Евгений Онегин». В своем донесении певец жаловался, что возникнув на суфлерской будке (и тем самым изрядно оживив публику) как раз в то время, когда баритон запел: «…примите ж исповедь мою…», кот до поры до времени лишь внимательно прислушивался; однако как только Селезень затянул: «мечтам и годам нет возврата», гадкое животное принялось подпевать баритону-спортсмену ужасным гортанным мяуканьем. Правда, артисты оркестра злословили, что кот лишь подправил певцу интонацию — но шквал оваций, раздавшийся после арии, баритон Селезень разделил с мохнатым злодеем, с комической важностью потешно вставшим на задние лапы.
Думаю, нелишним будет сообщить непосвященному читателю, что в подвалах N-ской оперы с незапамятных времен проживали большие кошачьи семьи. Потомственные театралы, они никогда не позволяли себе объявиться на сцене во время спектакля, следя за представлением откуда-нибудь с верхотуры. Впрочем, в последнее время на оперу вообще никто из котов не ходил, предпочитая слушать пожилых, растянувшихся на трубах кошаков, неспешно мурлыкавших о певцах и дирижерах прошлых лет… Беспощадная травля, развернутая особистами театра, застала кошачье сообщество врасплох: многие десятки лет им не приходилось сталкиваться с подлостью и жестокостью. Взрослые коты (из тех, кто уцелел) стали спешно эмигрировать в соседние дворы и подвалы; котята помоложе рассыпались по буфетам и репетиционным классам, где их разбирали по домам сердобольные артисты… Так или иначе, но для кошачьей коммуны в Дзержинке наступили черные дни: Огурцов и Юрьев, отлавливая бедных зверушек удавками и сачками, нещадно душили их; баритон Барабанов сворачивал котам шею, а режиссер Забитов, оскалившись, резал тех маленьким перочинным ножичком. Все тушки затем относились на опознание лично Абдулле Урюковичу, но дирижер лишь морщился и досадливо поводил прыщами: рыжего среди убитых не было.
* * *
…Пожалуй, одним из самых перегруженных работой департаментов Дзержинки был ОХБ — чего-чего, а работы в отделе художественной безопасности театра хватало. Сформировался он (вскоре после прихода к власти Абдуллы) на месте бывшего главного режиссерского управления оперы вполне естественным образом: режиссеров в театре практически вывели всех, а оставшиеся в режуправлении Арык Забитов и потомственный певец Лапоть Юрьев не представляли своей работы без обеспечения внутренней и внешней безопасности искусства: только твердая уверенность в том, что лучшим людям, лучшим творцам Дзержинки ничто не угрожает, могла подвигнуть многих членов творческого коллектива на трудовые подвиги. Еще одна сотрудница отдела, Фира Николаевна, ввиду преклонного возраста лишь готовила и раздавала бутерброды на банкетах, да порой по телефону стращала артистов увольнением — иногда по спецзаданию самого Абдуллы Урюковича, между прочим!.. Проблем у отдела, как мог уже уяснить проницательный читатель, было ох, как немало — а время и жизнь ставили все новые и новые задачи. Конечно, силами только лишь сотрудников отдела с работой было бы не справиться — даже невзирая на то, что директор театра Огурцов, хромой заворкестра (а по совместительству — замзав ОХБ) Петров, менеджер-тромбонист Позор Залупилов и Стакакки Драчулос, пребывавший в чине Личного советника Абдуллы Бесноватого по вопросам художественной безопасности (с перспективой вскоре возглавить ведомство) не щадили, что называется, живота и времени своих, участвуя в оперативных разработках или часами просиживая у мониторов телевизионных камер, скрыто размещенных во многих помещениях и туалетах театра. Слава Богу, мир, как говорится, не без добрых людей: большой вклад в работу отдела вносили общественные инспекторы: хормейстер Барбарисов, баритон Барабанов, редактор Кретинов, пианистка Бесноватая, а также некоторые другие артисты оркестра и хора, рапорты которых проходили в отделе под кодовыми номерами. Одной из острых проблем, уже довольно давно стоявшей на повестке дня, была изоляция прекрасного искусства Дзержинской оперы от критика-самозванца Мефодия Шульженко, который профанировал и осквернял все высокие и чистые творческие достижения коллектива, представляя их словно в кривом зеркале в гнусных и непрофессиональных писаниях своих. Травля Шульженко на его же, так сказать, собственном фронте не привела к ожидаемому успеху: на ту или иную публикацию серьезной критики или статью присяжного журналиста он неизменно отвечал с дерзким и похабным юмором — что, в конечном итоге, только играло на руку его же популярности. Так, письмо педагога-коммуниста Дриськина, пришедшее как-то в редакцию «Измены», гадкий Шульженко взял, да и опубликовал — сохранив все особенности стиля и орфографические ошибки автора; а поступившие туда же письма в защиту маэстро Бесноватого, подписанные большим другом дирижера, членом N-ского союза художников (и нештатным сотрудником ОХБ Дзержинки) Морисом Пигалем, мерзавец также решился предать публикации безо всяких купюр, предпослав им заголовок «Скажи мне, кто твой друг…» — и весь честной народ N-ска смог оценить причудливый язык творца, где слова «говномет», «нагадил» и «охерел» мирно соседствовали с горячим утверждением художника, что-де «ваш музыкальный оборзеватель, простите, е…нулся мозгами на нервной почве!»… Именно тогда мудрейший Абдулла Урюкович (да хранит Аллах здоровье и разум его!) постановил: не пускать мерзавца в театр, и дело с концом! Но простое (как и все гениальное!) решение оказалось не так просто исполнить; впрочем, однажды фортуна все-таки улыбнулась особистам. Дело было так: как-то раз Мефодий Шульженко, проходя мимо Дзержинского театра под руку с молодой женой, сопрано Еленой Эворд (которая к тому времени уже вероломно оставила труппу Абдуллы), заинтересовалсяафишей: давали «Евгений Онегин», где Ленского пел престарелый Драчулос, а в партии Татьяны дебютировала молодая солистка Марфа Пугач (в равной степени отличавшаяся как хорошим голосом, так и огромнейшими габаритами). Онегина, по старой памяти, пел баритон-спортсмен Селезень. Решив полюбопытствовать и поразвлечься, супруги завернули в театр — и, как это всегда водилось, «стрельнули» контрамарку у администратора Бабтраха — к вечеру, по обыкновению, слегка подвыпившего. Лишь только враги высокого искусства заняли свои места в полупустом зале, как потомственный певец Лапоть Юрьев, узрев факт нарушения художественной безопасности в мониторах систем слежения, передал сигнал «опасность!» товарищу Огурцову. Одновременно поступил устный рапорт от администратора Дыркина, и по театру была объявлена художественная тревога номер один. Когда Стакакки Драчулос затянул: «Я-у-у лю-у-ублю-у-у вас, я-у-у лю-у-ублю-у-у вас, Оульга-у-у!..», Нарцисс Отравыч Бабтрах уже пять минут подвергался перекрестному допросу с устрашением — и посему, лишь только Марфа Пугач простонала «Кто ты — мой ангел ли хранитель…», фиолетовый нос Бабтраха возник в ложе, где Шульженко с Эворд восседали в торжественном одиночестве. — Вы что, блин, охерели?! — засвистел администратор пронзительным шепотом. — Уходите!.. Уходите скорее!.. — Да что случилось, Нарцисс Отравыч?! — недоумевали молодые. — Что, что… Я ж не знал, блин, что такое дело!.. Уволить меня, что ли, хотите?! Давайте, уходите… И если кто спросит — я никакой контрамарки вам не давал, понятно?!. Кстати, где она — дайте-ка ее сюда!.. Идите, идите же!.. …Нарушители художественной безопасности, слегка ошалевшие от неожиданности, были изгнаны из театра. Все сотрудники ОХБ, пожимая друг другу руки, праздновали победу. Но торжество, увы, продолжалось недолго: гадкий критик стал вновь, как ни в чем не бывало, посещать представления Дзержинской оперы — но теперь, наученный опытом, он уже не обращался к Бабтраху, а просто покупал билет в кассе, поскольку время аншлагов в N-ской опере давно уже кануло в Лету. Абдулла Урюкович, призвав в помощники Огурцова, тут же мудро распорядился резко повысить цены на билеты. Публики в зале стало еще меньше, а горе-критик Шульженко вдоволь глумился над прекрасным, дерзко сравнивая цену билета с ценою килограмма колбасы, а качество спектакля — с качеством этой самой колбасы: однако сам, мерзавец, продолжал посещать многие спектакли оперы, как примечательные, так и не очень… И продолжал писать свои ревю, сволочь!.. Мириться с этим обстоятельством было трудно, больно — но похоже, что поделать уже ничего было нельзя: даже развешенные в кассах словесные портреты Шульженко не выручали, поскольку некоторые тайно сочувствовавшие негодяю кассиры готовы были бесплатно вручить ему билет — да, кроме всего прочего, Шульженко легко мог купить билет у кого-либо из несчастных, предлагавших «лишний билетик» у входа в театр, или, на последний случай, в одной из театральных касс города N-ска. И, в преддверии новых событий в художественной жизни Дзержинской оперы, ОХБ в полном составе ломал голову: как же все-таки избавиться от настырного критика? История уже, что называется, дышала в спину и наступала на пятки, а решение все еще заставляло себя ждать.* * *
…В строгом соответствии с волею Абдуллы Урюковича, работа над новым проектом N-ской оперы продолжалась вовсю. После долгих споров и тяжких раздумий, коллектив творцов решил назвать создидаемую оперу просто и красиво: «Абдулла». Однако сам Бесноватый предложение не утвердил, заметив, что это будет слишком фамильярно. Таким образом, явив обществу прекрасный пример разумного компромисса, название «Абдулла Урюкович», горячо одобренное художниками абсолютно единогласно, стало окончательным титулом рождающегося музыкально-драматического произведения. …Не успел Абдулла Урюкович вернуться из Буркина-Фасо, где побывал с гастрольной поездкой во главе оркестра N-ской оперы, как тут же вновь с головой ушел в работу: композитор Борис Мусоргский принес Абдулле на показ первые страницы новой оперы. Властным движением прыщей Абдулла удалил лишних из кабинета, и Мусоргский, волнуясь и потея, сел к роялю. Насыщенная мажорными аккордами и секвенциями, торжественная и эпическая музыка увертюры, богатая октавными ходами, дирижеру понравилась. — Что вы думаете насчет оркестровки? — строго спросил творца Абдулла. — М-хэ… Тых-хс… Что ж… — вновь жарко вспотел композитор. — Оркеструем немножечко, так сказать, в шостаковичской традиции… Ну и… кхе… конечно же, нашего, мусорянинского добавим-с!.. — Это правильно! — одобрил Абдулла. — Тромбонов, главное, не жалейте!.. Литаврам спать не давайте!.. Вощем, это — в нашей, в русской традиции валяйте все! Окрыленный похвалой, Борис Мусоргский поспешил домой: в самом центре N-ска, в новой квартире, выделенной композитору городским головою Добермановым (известным покровителем искусств) по личной просьбе дирижера Бесноватого, дышалось легко и сочинялось свободно. Мусоргскому, кстати, втайне завидовали многие участники творческого коллектива: он, действительно, легко отделался — что ни говори, а написать музыку к драме или даже оперу было много легче, чем сочинить собственно сюжет, либретто: над этой задачей бились критик Шкалик, художественные шефы «Пи-Си-Пи» Энтони Джастэлитл и Стивен Тумач — но даже от них проку было маловато, не говоря уже о тупом и неспособном на выдумку Залупилове или гораздом только на всякие скабрезности Драчулосе. Так что бедному Абдулле Урюковичу приходилось буквально за всем следить самому. И действительно: первую картину Шкалик вдруг условно окрестил «Годы учения». «Это какого еще учения-мучения?!» — вскипел Абдулла. Что они себе воображают?! Что какой-то сопливый старикашка-профессор мог действительно его чему-нибудь научить? Это его, Абдуллу! Неужели непонятно, что именно он, Бесноватый, поделился крупицами своего знания, дарованного Аллахом?.. Именно он, как великий пророк, спустившись с высоких и гордых вершин, принес им счастье, одарив подлинным, а не мнимым талантом исполнения музыки, правильного и вдохновенного!.. Посему первая сцена так и называлась: «Схождение с гор»; а Борис Мусоргский как раз отправился домой заканчивать одноименную симфоническую картину. Однако гораздо большую заботу для творческого коллектива сейчас представляла сюжетная линия Вдохновения Абдуллы Урюковича — то есть, партия сопрано: надо ли говорить, что ничтожнейший идеологический «прокол» здесь был совершенно недопустим?! Моисей Геронтович, денек попыхтев над бумажками дома, принес текст для выходной арии Вдохновения. Начинался он так:
Я — муза твоя, вдохновитель ты мой,
В труде не щадишь ты себя, сын Урюка!
Не знаешь ты отдыха в творческих муках,
Искусство несешь ты над всею Землей! —
* * *
«„Пиковая дама“ — это приятно, хорошо и полезно!» — по крайней мере, известный N-ский журналист, собкор журнала «Уголек» Пима Дубин был в этом полностью уверен, поскольку имел соответствующую информацию из источников, заслуживавших абсолютного доверия. Подойдя к своему компьютеру (а с техникой Дубин был на «ты») и вызвав «Лотус-органайзер», Пима ловко открыл файл «культурная жизнь семьи». Поставив в соответствующем окошке текущего месяца «галочку», Пима Дубин с сознанием выполненного долга устремился в Дзержинку. Огромный организм Дзержинской оперы, невзирая на занятость лучших сил предварительными репетициями грядущей, самой важной премьеры, вовсе не был парализован, как этого хотелось бы всяким хулиганам от музыкальной критики: спектакли текущего репертуара шли вовсю, одаряя тех немногих N-чан, которые еще могли себе позволить купить билет, радостью общения с высоким искусством. Сегодня, например (как уже мог догадаться проницательный читатель), N-ская опера давала «Пиковую даму». Охочему до прекрасного журналисту Пиме Дубину крупно повезло, поскольку, через девятнадцать минут после объявленного в афише времени начала спектакля, за дирижерский пульт вышел сам Абдулла Урюкович. Отгремели аплодисменты овационной акустической системы фирмы «Примус»; со скоростью и грохотом скорого поезда «Москва-Владикавказ» прошумела интродукция — и вот уже со сцены звучит знаменитая баллада Томского. То ли от нехватки кадров, то ли в силу личных амбиций певца, которому лавры Александра Батурина все не давали покоя — так или иначе, но на сей раз, тяжело ступая по сцене на длинных негнущихся ногах и выкатывая колесом грудь, Томского пел бас Обалденко. В тех местах, где коварный композитор украсил партию Томского высокими нотами, певец Обалденко широко открывал рот и, поднимая верхнюю губу, демонстрировал немногочисленной публике обширный ряд зубов — длинных и желтоватых, как клавиши хорошего рояля. Звук же, исторгаемый певцом в верхнем регистре, был на удивление тих, навевая ностальгические ассоциации с сипловатым наигрышем баяна послевоенных лет; впрочем, благодаря неустанной заботе Абдуллы Урюковича о своих согражданах, от грустных воспоминаний N-ские меломаны были надежно упрятаны за лавиной звуков громыхавшего оркестра. Партию Лизы исполняла другая звезда Дзержинки — Галя Зытыбова, ранее певшая в оперном театре города Улан-Удэ («Милан-Удэ», как зло шутили недруги). Зытыбова обладала дивным грудным голосом, чарующе раскачивавшимся как-то на восточный манер. Вкупе с ее оригинальной актерской школой (Галя не любила много двигаться по сцене), загадочным взглядом красивых раскосых глаз и эффектной внешностью — правильной формой и мимикой лицо певицы напоминало сковородку с непригораемым покрытием — сопрано Зытыбова производила на охочего до прекрасного в искусстве Пиму Дубина потрясающее впечатление. «Откуда эти слезы? Зачем оне?..» — жарким шепотом спрашивал Пима супругу, уткнувшись к ней в плечо и будучи не в силах сдержать рыданий. «Н-да… Мои девичьи грезы, вы изменили мне!..» — думала жена Пимы, с плохо скрываемым отвращением оглядывая зареванную физиономию своего благоверного. Заходясь слезами, Пима даже не заметил, как в арии Елецкого баритон Мыкола Путяга вместо слов: «Но ясно вижу, чувствую теперь я…» — вдруг понес совершенно неудобоваримую ахинею. Дежуривший на спектакле суфлер, народный артист республики Валерий Далласский просто зашелся от возмущения. «Ты что, совсем охерел?!. В арии Елецкого уже слов запомнить не можешь?!» — оглушительно шипел Далласский, почти по пояс высунувшись из суфлерской будки. «Ты ж совсем заврался уже, козел!.. Твою мать, и это — Дзержинский театр!..» — с пафосом закончил он свой гневный спич, неизвестно к кому обращаясь и вползая обратно в будку. Ошалевший от неожиданной нотации Путяга вдруг сразу вспомнил текст, и его криво распахнутый рот уехал куда-то в район левого уха: во фразе «состражду вам я всей душой» баритон как раз пытался спеть верхнее «соль». Возможно, непосвященному читателю будет интересно знать, что в Дзержинской опере работали два суфлера: помянутый выше амбициозный, но вполне профессиональный Далласский и тихий, лучезарный человечек Сергей Малько. Последний (в прошлом — дирижер), был просто виртуозом своего дела: досконально зная партитуру, он «собирал» спектакли после самых немыслимых, самых криминальных ошибок солистов — когда, казалось, уже ничто не в силах помочь. Обладавший абсолютным слухом Малько давал певцам не только текст, но порою и «мотивчик»; и в самых сложных ансамблях солисты всегда смотрели на четко и ясно дирижировавшего из своей будки суфлера — в то время, как Бесноватый, жестами сеятеля разбрасывая вокруг себя руки, потел и хрипел за пультом. Разумеется, это обстоятельство не смогло укрыться от внимания службы художественной безопасности театра; рапорт ОХБ, в свою очередь, вызвал приступ праведного гнева главного дирижера. За всем сразу, однако, в силу колоссальной занятости своей, Абдулла Урюкович уследить не мог. После сегодняшнего спектакля, когда виновато потупившись и пригнувшись, баритон Путяга вошел в кабинет Бесноватого, Абдулла спросил того недовольно: — Ну, что там у вас в арии случилось?! — Да это… все нормально вроде шло… А потом суфлер этот вдруг ни с того, ни с сего мне подсказывать начал… Да, это… Еще не те слова, главно дело!.. Ну вот, я и… того… — Так!!. — свирепо повел прыщами Абдулла. — Юрьева ко мне! — Я здесь-здесь-здесь… — испуганно залопотал Лапоть Юрьев, отделившись от стены. Усы его, обычно молодецки закрученные, сейчас вяло обвисли концами вниз. — Что за произвол у нас в театре?! — рыкнул Бесноватый. — Что эти суфлеры себе позволяют?!. Один подсказывает невпопад, другой вообще — дирижирует все время… Я ведь уже как-то распорядился: уволить мерзавцев ко всем шайтанам!.. Почему не выполнили?.. — Да ведь это… Абдулла Урюкович… По трудовому законодательству не можем! И потом, кто подсказывать будет — ведь столько людей влетают в партии буквально за три дня… — К шайтанам трудовое законодательство! А насчет подсказывать… Это… Подумаешь, за три дня!.. — Может быть, вы распорядились концертмейстеров занять? — услужливо изогнулся Юрьев. — Ответственного за спектакль — или того, с кем партия готовилась?.. — Ну конечно! — удовлетворенно хмыкнул Бесноватый. — Наконец-то вы уловили мою мысль!..* * *
…Через несколько дней оперная труппа улетала на гастроли в Англию. Среди грузившихся в стоявший у театра автобус выделялся светлый пиджак суфлера Малько, специально купленный им по случаю предстоявшей поездки: впервые в жизни он отправлялся за границу. Однако, только лишь Малько удобно устроился в кресле у окошка, как к нему тут же подбежал Позор Залупилов. — Немедленно выйдите из автобуса!!! — заорал Залупилов, перекосив свое обезображенное нелегкой жизнью лицо, рождавшее ассоциации с ромштексом из оперного буфета. — …Что?!. Вы не то что не едете: вы уже три дня, как уволены!!. …Когда чартерный самолет «Аэрофлота» с ободранным салоном благополучно взлетел с N-ского аэродрома, мигающая разноцветными огнями и завывающая сиреной машина «Скорой помощи» увозила в реанимацию Сергея Малько с обширным инсультом.* * *
После возвращения своего из Перу (где маэстро с триумфальным успехом продирижировал за пять дней семью концертами местного любительского симфонического оркестра «Память предков» и привез оттуда целый ворох восторженных рецензий авторитетнейших критиков страны — Шнитман-Лопеса и Педрильо-Кауфмана), Абдулла Урюкович не на шутку притомился. Поднявшись к себе в кабинет, дирижер особым движением прыщей на лбу дал понять, что просителям лучше покинуть кабинет; в комнате остались лишь самые достойные да представители Отдела художественной безопасности театра. Выступить с отчетом на сей раз доверили баритону Барабанову. «За истекший период мною, вместе с доверенными лицами Пятым и Седьмым, была произведена проверка на лояльность жильцов комнат 425 и 647 театрального общежития на улице строителя Русакова…» — прочистив голос, чуть севший от волнения, приступил певец к делу. Абдулла Урюкович, однако, настолько устал, что едва прислушивался к донесению баритона. «Довольно! — оборвал он Барабанова. — Что еще реально сделано?» — «Благодаря тщательно проведенной работе нештатного сотрудника отдела Шавккеля, в газете „У речки“ была предотвращена очередная публикация известного вам критика…» — с готовностью заговорил Позор Залупилов (некоторые имена в присутствии Абдуллы Урюковича произносить было строжайше запрещено). Внезапно, наткнувшись на взгляд выпученных глазок Лаптя Юрьева, горячее бормотание Позора прервалось на полуслове. Начальник ОХБ таращил свой взор на Абдуллу Урюковича: убаюканный лопотаньем придворных, великий музыкант погрузился в сон. Поднявшись на цыпочки и тихонько шикая друг на друга, шестерки с величайшей осторожностью покинули кабинет, бесшумно притворив за собой дверь.* * *
Волнующий процесс создания оперы «Абдулла Урюкович» шел своим чередом; прекрасные и величественные картины из жизни великого дирижера принимали все более реальные очертания. Часть оркестрованных уже отрывков репетировал с музыкантами дирижер Кошмар; знаменитый художник Псыкин почти закончил макет декораций; N-ский либреттист и оперный переводчик Фурий Мимикрин, также привлеченный к работе (слабеющий разум Шкалика с большими объемами работы быстро справиться не мог), мастеровито и ловко облекал идеи творческого коллектива, утвержденные предварительно Бесноватым, в гладкую стихотворную форму. А на верхней сцене режиссер Фруктман вовсю репетировал отрывки с хором ангелов. Для этой цели был приглашен хор мальчиков N-ской Академии хорового искусства под управлением Дьякова. Сцена получалась довольно долгая, но — по уверениям Фруктмана, Джастэлиттла и Тумача — удивительно, просто необычайно эффектная. Суть ее заключалась в том, что после напевной арии-рассказа Старого Акына, поведавшего окружающем о скором приходе Гения, недоверчивые сельчане поднимают старика на смех и награждают обидными шутками. И вот тут-то как раз из-за облаков и появляется стайка ангелочков, которые не только рассказывают горцам о справедливости прорицаний Старого Акына, но еще и повествуют собравшимся о многих грядущих подвигах Абдуллы, призванного прославить народ свой и даровать новую, хорошую и красивую жизнь многим народам Земли. Либреттист Фурий Мимикрин, надо отметить, не поскупился на стихи, и сцена эта занимала довольно много времени. Борис Мусоргский, в свою очередь, чтобы придать хору ангелочков больший вес и убедительность — и это, заметьте, без потери прозрачности звучания! — написал его в пятиголосной фугированной форме (ляпнув по парочке тем и противосложений у непопулярных нынче Генделя и Палестрины). Бедные же детишки из хора, уже замученные Дьяковым в классах при спешном разучивании новой музыки, на первых в своей жизни театральных репетициях теперь тряслись от страха и холода, поскольку Фруктман настоял, чтобы с первой же репетиции ангелочки выходили на сцену абсолютно голыми. «Всякие эти майки и, особенно, трусы лишают меня вдохновения!» — жаловался он.
«Придет к вам с гор спаситель мира,
Целить вас будет красотой.
Дают нам знаки все светила,
Что человек он непростой…» —
* * *
Закрыв за собой дверь, Бесноватый вдруг приостановился, неожиданно увидев в сумраке едва освещенного кабинета высокую фигуру сидевшего за столом в его (его, Абдуллы!) кресле человека. Вскипев от негодования, дирижер сделал несколько шагов по направлению к столу и вздрогнул: на рабочем месте главного дирижера N-ской оперы восседал мертвец. На лице, разложившемся почти полностью, очки в тонкой металлической оправе выглядели достаточно нелепо и даже забавно (впрочем, Абдулле Урюковичу пока было не до смеха); остатки длинной седой бороды клочьями спускались на полуистлевший старомодный сюртук. — Вот что я вам должен сказать, дорогуша, — внезапно провещалась мумия надтреснутым, хрипловатым голосом. — Сами, наверное, понимаете: прибыл я сюда не по своей воле… Но голубчик мой, что вы себе позволяете — в одном из старейших российских театров, в цитадели, можно сказать, русской оперы — такое вытворяете!.. Вот Направник, например, ставил свои оперы, чего уж там… Но во-первых, оперы заказывались Дирекцией императорских театров, а во-вторых — не о своей же персоне он их писал!.. — Ха! Направника вспомнил! — раздался вдруг насмешливый голос, и Абдулла увидел восседавшего в другом кресле, напротив стола, тучнеющего и нестарого еще человечка с красноватым носом и неровной круглой рыжей бородкой. В руке человечек держал неполный захватанный стакан с прозрачной жидкостью. — А кто на его оперы пакостные рецензии пописывал? А?.. — Я, батенька, ничего подобного не писал! — с достоинством ответил благообразный мертвец. — Конечно! Ведь Направник ваши оперы ставил — зачем же самому рисковать? Можно бездарному Цезарьку поручить поганую статейку написать!.. С музыкой-то у парня роман не сложился… — язвительно заметил кругловатый. — Модя, сколько можно вас учить — нельзя в таком тоне отзываться о коллегах. Господин Кюи — музыкант умный, знающий… «Шайтан меня забери, это же Мусоргский! — ошалело подумал Абдулла. — Ну точно! А этот, в очках — Римский-Корсаков, что ли?!» — И, несмело кашлянув, Бесноватый хрипловато произнес: — А я вот, Николай Андреевич, за ваше творчество серьезно, так сказать, взялся… Фестиваль вашего имени вот затеваю… «Китеж» вот, без всяких купюр, полностью сделал… — Да что толку-то: «без купюр!» — недовольно передразнил композитор Абдуллу. — Музыку метрами, килограммами, как лавочник какой, мерите!.. И не «Китеж» опера названа, а «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»; а имя мое не «Римский», как вы во всех своих высказываниях меня величать изволите, а Римский-Корсаков!.. Бестолково, торопливо все; вот радости-то мне: «без купюр»!.. Суета, все спешка какая-то, как на пожаре; а чтобы даже какая итальянская опера так погано на Императорской сцене была поставлена, я уж и не припомню, право… Думать надо хотя бы иногда, батенька, что делать изволите… Направник, право слово, и тот лучше был: купюры делал, но думал — ду-мал! — Распалившийся от взволнованной речи труп композитора немного помолчал, остывая. — Я бы вообще, если бы сейчас свои оперы ставил, многое бы сделал по-другому… Может быть, и прав был Направник — что-нибудь и стоило бы подсократить… — Вы, душа моя, все опять о себе, — заговорил Мусоргский. — Аль забыли, почто мы здесь пожаловали? Аль вас с того света частенько погулять выпущают? — И автор «Хованщины» сделал большой глоток из своего стакана. — Если б вы поменьше пили, Моденька, — недовольно пробурчал Римский-Корсаков, — глядишь, еще поболе моего на этом-то свете погуляли бы… — Поздно меня учить, Николай Андреевич! — захохотал Мусоргский. — Как видите, меня и могила не исправила! — Довольный шуткой, он еще раз хохотнул и вновь прихлебнул из стакана, занюхав рукавом шелкового шлафрока и поморщившись. — Ух, едрена водчонка-то! От Елисеева, не иначе!.. А вы, батенька, лучше бы извинились за оркестровочку, что мне подсуропили… Преснятина, хуже букваря! Аж противно, ей-Богу!.. — А я все о том и толкую! — заупрямился Римский-Корсаков. — Кабы с зеленым змием не дружили — глядишь, еще и не одну оперу написали бы самостоятельно! — (на последнее слово он нажал особенно). — Зато смотрите, как я хорошо сохранился, проспиртованный-то! — Мусоргский не терял веселого расположения духа. — А на себя взгляните!.. И «Бориску» моего по всему свету дают; не забывают… Полуразложившийся Римский-Корсаков обиделся. — Ладно, довольно, сударь мой… Давайте-ка к делу, — и, повернувшись в сторону Бесноватого, мумия приняла торжественный тон. — Во-первых, все эти глупости с вашей новой оперой надобно немедля — слышите? — немедля прекратить; негоже давать дорогу в императорские театры всяким, простите, посредственностям, единственное и весьма сомнительное достоинство которых состоит в том, что они являются однофамильцами великого композитора прошлого… — Именно: «великого» — это вы хорошо сказали! — довольно крякнул Мусоргский. Допив остаток жидкости из своего стакана, он швырнул его в зеркало — где тот и канул совершенно беззвучно; а на столе подле композитора тут же появился новый, наполненный до краев. — Фу ты, гадость какая! — последнее уже относилось к пластмассовому футлярчику с компакт-диском фирмы «Примус», который Мусоргский взял со стола и вертел сейчас в руках с нескрываемым отвращением. — «Дзер-жин-ски»… — прочел он тисненую золотом надпись на обложке. — Это тот, что ли, который колбасную лавку на Съезжинской в Петербурге держит? «Мусоргский… Римский-Корсаков… Чайковский… Лядов…» — продолжил чтение великий композитор. — Тьфу, зараза! Николай Андреич, полюбуйся, дорогой: это они теперь солянкой из нашей музыки, на манер бочек с солониной, приторговывают, нечестивцы! Эту оперу поганую, что о тебе сейчас валяют, тоже, небось, засолить надумал?! — …Это… Ведь я, того… Современникам дорогу даю… Современную, так сказать, русскую оперу поднимаю… — промямлил Абдулла. — И о русской классике не забываем… — Ой, спасибо, голубчик! — каким-то нехорошим голосом произнес Римский-Корсаков. Он поднял руку, которая в мгновение ока странным образом удлинилась (а из полуистлевшего рукава выглядывали одни кости), и Бесноватый почувствовал на своей прыщавой шее жуткий ледяной охват. — Будешь, значит, и дальше русской оперой с лотка торговать?! — страшно зашипел создатель «Псковитянки» — а точнее говоря, плохо сохранившиеся его останки. — Будешь, значит, свою ничтожную персону паршивенькими оперками славить?!. — Пу… пустите меня!.. — прохрипел жутко посиневший от холода, страха и удушья Абдулла. — Нет, вы слышали: пустите его! — захохотал Мусоргский; его добродушие вдруг разом как-то слетело с него. — А кто нас на весь свет погаными этими пластинками фабрики «Примус» позорит?! У кого паршивые любители из губернских опереток спектакли на императорской сцене ставят? А?! — Пошто все денежки от гастролей и фонографических записей себе присвоил, казнокрад? — угрожающе вопросил Римский-Корсаков. — Зачем «Князя Игоря» писаке какому-то переоркестровать велел? Али моя партитура тебе, басурманская морда, не по вкусу?! — (Хрипящий в неослабевающей руке великого композитора Абдулла тем временем уже наблюдал какие-то фиолетовые круги перед глазами и ничего ответить не мог). — Опять вы о личном, Николай Андреич! — вмешался Мусоргский, прикурив папиросу. — Александр Порфирьевич, кстати, за вашу работку вас чуть в райских фонтанах не утопил… — Ладно!! — крикнул труп Римского-Корсакова. — Что с этой собакой нерусской делать будем? — Да оторвать ему руки, и дело с концом! — выпустив облачко дыма, как-то легкомысленно предложил автор «Хованщины». — Вы опять напились, Моденька! — с досадой произнес главный идеолог «Могучей кучки». — С вами невозможно дело иметь: наше время уже к концу подходит… — Так это вы, голубчик, с вашей либеральностью — вечно церемонитесь… — заметил Модест, сделав очередной глоток водки и затянувшись папиросой. — А вы вообще что-то несусветное предлагаете: это, я вам должен сказать, не наши методы, дорогой мой!.. Вот что: для первого раза ограничимся внушением… Без купюр!!! — и, с необычайной для престарелого покойника силой, ухватив свободной рукой два огромных тома партитуры «Сказания о невидимом граде Китеже», лежавшие на столе Бесноватого, композитор нанес ими по голове Абдуллы страшный удар. Пролетев, как пушинка, через весь кабинет и пребольно стукнувшись затылком о стену, известный дирижер глубоко (наконец-то!) вздохнул и тут же утратил сознание.
* * *
— …Короче так, Позорушка: я уже сказал, живи у меня, сколько хочешь! Квартирка небольшая, но все, что необходимо для нормальной жизни, здесь есть… — приговаривал Стакакки Драчулос, раскладывая только что снятое с электроплитки мясо на тарелки. Стакакки принимал Позора Залупилова в своей конспиративной квартирке без кухни (так называемой «студии»), расположенной прямо в цокольном этаже уже известного читателю театрального дома. Помещение это (спроворенное Драчулосом взятками да «хорошими отношениями» в благодатную коммунистическую эру), по первоначальной задумке архитектора, видимо, предназначалось для использования в качестве дворницкой — или вроде того. Согласно официальной формулировке, «нежилая» площадь, учитывая непомерные заслуги Стакакки перед обществом, была выделена Драчулосу для благостного уединения, так необходимого артисту для тяжелых занятий высоким искусством. На деле же квартирка служила исключительно для пьянок с друзьями в отдалении от занудной супруги, да приема молодых студенток «для приватных консультаций». Кроме ловко зажаренного Стакакки мяска да разложенного по тарелкам болгарского консервированного «охотничьего салата», среди находившихся на столе нескольких стаканов, двух початых бутылок пива и трех бутылочек с напитком «Байкал» главенствующая роль явно принадлежала литровой бутылке водки «Абсолют», от жары уже изрядно взмокшей. Только что коллеги договорились о том, что пока недавно купленная Залупиловым квартира будет капитально ремонтироваться (мраморная плитка и обои австрийской фирмы — подарок Бустоса Ганса — были уже завезены), тот поживет в Стакаккиной студии. Кроме того, тенор пообещал помочь Позору деньгами в долг — с отдачей после поездки оркестра в Америку и Бурунди. За это тут же и выпили; за скорейшее и благополучное завершение ремонта Драчулос немедленно налил по второй. Впрочем, третьей и четвертой тоже долго ждать не пришлось. Но если вы, читатель, легкомысленно решили, что жизнь артистов N-ской оперы состоит лишь из отдыха и приятного времяпровождения — то смею вас заверить: вы ошибаетесь. Разговор товарищей вновь зашел о работе. — …Ты же понимаешь, Позя, что глупо писать партию Старого Акына для низкого голоса! — разогревшись от выпивки, говорил Стакакки. — Во-первых, это не соответствует кавказским традициям. Во-вторых — согласись! — теноровая тесситура звучит напряженней, драматичнее; а я думаю, ты представляешь, как это все я еще и актерски обыграть могу, — это в-третьих! — Да Стаканушка, о чем ты говоришь! Ты же у нас гений! — Ну, не свисти! — закокетничал стареющий Драчулос. — Да я тебе напрямик, по-дружески говорю! — не унимался Залупилов. — Такого певца — и такого актера! — у нас в театре не было и не будет! — Ладно, хорош свистеть! — заскромничал Стакакки. — Наливай, бляха-муха! — Уже наливаю… А насчет Борьки Мусоргского не волнуйся: он у меня вот тут, — и Позор сжал подагрические пальцы в кулак. — Есть еще людишки — тоже, представь, композиторы… — Ну, бля, и развелось этих тварей! — не преминул вставить Стакакки. — Да уж!.. Так вот, они уже вовсю свой вариант оперетки пописывают… Я этим кретинам сказал, что это секретно: конспирация, мол; а Боба сделать, как нефиг делать — компроматик необходимый имеется… — Ты, сука такая, небось уже и на меня компроматик завел? — хихикая, поинтересовался Драчулос. — Обижаешь, Стакакки: мы же друзья! У нас с тобой, сам знаешь… — Да я шучу! Друзья пропустили еще по одной и запили пивком. — Ты знаешь, эта старая идиотка Фира портит нам всю игру! — вдруг вспомнив, заговорил Залупилов. — Когда надо было срочно заменить Тулегилову в «Кащее», она отдала спектакль Мугамедовой и не потрудилась взять то, что всегда причитается! Как тебе это нравится? «Ах, ах, надо было срочно спасать спектакль!» — ну не дура ли? — Сука! — согласился тенор. — Но ты, Позорушка, не волнуйся: Абдулла уже дал согласие, и скоро всей этой шаражкой управлять буду я! Так что все приведем в порядок; «кризиса неплатежей», хе-хе, не будет! — Дружно захохотав, они выпили еще по одной. Стакакки, слазав в холодильник, достал еще парочку пивка, попутно пихнув кассету в видеомагнитофон. Еще разок чокнувшись, коллеги принялись комментировать происходящее на экране. — Ишь! Смотри что выделывает!.. — А эти-то две, как стараются: поди, на гастроли попасть хотят! Хо-хо-хо! — разинув пухлогубый рот, хохотал Залупилов. — Да-а… Скоро мы их всех — также вводить в спектакли будем!.. Ха-ха!.. — Ха-ха! …Отымеем в лучшем виде!.. И оперу, и всех там! — А у тебя, Позорушка, весь оркестр скоро вот точно также трудиться будет! Ха!.. На ромштексоподобной физиономии Залупилова внезапно отразилась озабоченность. — Да с оркестровыми делами как раз-таки хуже стало… Этот теперь вообще все взял под контроль; суточные прижал, все бабки пересчитывает либо сам, либо его тетка или сестрица пересчитывают и сами оркестру выдают — а это еще хуже: они и сами его обсчитать рады… — Но с декорациями-то у нас все в порядке? — озабоченно поинтересовался Драчулос. — С декорациями — порядок; только этим и живем. Слава Богу, этот идиот ни хрена в технике не рубит, а уж Огурцов-то — тем более; подпишет любую херню… Шатунов, завтех, подготовил смету. Абдул, однако, ему не доверяет вести дело с платежными делами… — И правильно делает! — хохотнул тенор. — …Так вот, я смету подкорректировал… Смех один, ей-Богу: Абдул таращится в бумагу — «консоли левого ложерона правых упоров планшета сцены», «гидромеханизмы подъема упоров декорации второго акта»… Огурцов подписал. Уже все лежит в Пасмурном: и вагоночка, и кирпич, и брус… Здесь, возможно, непосвященного читателя необходимо уведомить, что не так давно в курортном пригороде N-ска Пасмурное коллеги купили два дачных участка по соседству, размером в тридцать две сотки каждый — и сейчас, соответственно, подумывали о строительстве уютных «фазенд». — А с наличными как? — деловито спросил Стакакки. — Да тоже порядок… Но этому вонючему старшему экономисту с завода пришлось тридцать процентов отстегнуть — за меньшие обналичивать не соглашался… Драчулос поцокал языком и озабоченно покачал головой. Затем, вновь наполнив рюмки, предложил: — Ну, ладно… Давай хоть за «консоль лонжерона» эту сраную выпьем! — и приятели вновь захихикали. Подождав, пока напиток «приживется» в желудке и закусив остатками охотничьего салата прямо из банки, Стакакки задумчиво произнес: — Но вообще-то, конечно, это не дело!.. Эта сволочь и так сосет свои бабки из «Примуса», будь здоров! — Да… — вздохнул Залупилов. — Но что делать-то? — Слушай сюда! — Драчулос придвинулся ближе. — Эту сраную кавказскую оперу мы сделаем; как-никак, он кучу бабок туда, кретин, вбухивает… Но вечно так продолжаться не может! Мы же с тобой, Позорушка, русские люди! Этот уже на издыхании: гастроли пошли безденежные, он сделал все, что мог — и этот вонючий «Примус» будет работать с театром, как миленький: ведь Бесноватого они раскручивали только из-за того, что он возглавил Дзержинку, а вовсе не наоборот; на его месте легко бы мог быть и кто-нибудь другой… Ты меня понимаешь?!. — Да, но кто — вот в чем вопрос… Стакакки придвинулся еще ближе: — А зачем нам вообще главный дирижер, а? Если я буду художественным руководителем оперы, а ты — главным директором, то зачем нам еще начальники, а? — Хм, звучит неплохо… — пунцово-коричневая физиономия Залупилова приняла еще более бурый оттенок. — Но что с этой мафией, в длинных пальто, делать будем? Как здесь быть?! Ведь… — Позя, — нетерпеливо перебил товарища Драчулос. — Я же сказал: мы русские люди! И у нас, русских, есть свои силы: «Русское единство», «Память», «Славянский союз»… Улавливаешь? — Уловил! А… — Уже все делается, будь спокоен!.. Другое дело — ты, как человек из оркестра, должен ненавязчиво так рассказать: ребята, мол, вы работаете без репетиций; у вас нет времени поиграть там во всяких квартетах-квинтетах; сыграть соло; съездить на конкурс или фестиваль… Многие из вас, мол, обалденно талантливые чуваки: но ведь вы страшно теряете форму; вспомните, как вы играли после Консы… Абдулла уже на излете — а то, как вы с такой жуткой работой деградируете, не позволит нам пригласить очень многих хороших дирижеров, которые были бы рады… — ну, и прочее в том же роде. Не забудь добавить, что бабки даже в БСО сейчас куда как большие платят; а Абдул надувает их… Только упаси тебя Бог все это говорить самому!.. — За мальчика держишь?! — обиделся Залупилов. — Есть люди… Вслух пускать не будем… Надо что-то еще задействовать: пресса там, общественное мнение… Вот, Шульженко, кстати… — Его трогать не будем: он и так сейчас, по сути, на нашу мельницу воду льет! А уж потом привлечем, не то что эта рожа азиатская: маразматиками да козлами всякими себя окружил — и доволен… — Да, это уж точно! — с готовностью согласился Позор. — Развелось дармоедов! Этот сумасшедший Кретинов; Арык Забитов — шакал горный; тоже все тропочки к власти ищет… — Да, эта обезьяна совсем обнаглела! — поддержал коллегу тенор. — Мало того, что уже почти все спектакли ставит, еще и в Италию поехал… — Так главное, туда «Дон Карлос» поставить Мкервалидзе пригласили, — чуть не закричал от возбуждения Залупилов. — Но Забитов уломал Бесноватого, чтобы его ассистентом послали — а денежки для этой цели из гонорара Мкервалидзе изъяли! — Нам такие гниды ни к чему! — заключил Драчулос. — Ты представляешь, Позя, как я могу комическую оперу поставить? Сам, без всяких там вонючих помощников!? — Да я могу представить! Это был бы праздник… Галдеж раскрасневшихся и возбужденных друзей был прерван неожиданно громким звонком телефона, молчавшего весь вечер. Этот номер был известен только узкому кругу «своих» людей, и потому Стакакки без колебаний взял трубку. — Але… Да, привет! Рад тебя слышать, родной мой! Как долетел?.. — («Абдулла!» — зажав рукой трубку и выпучив глаза, шепнул он Залупилову). — Да… Ага… Молодец; рад за тебя… Я-то? Да нормально, спасибо! Вот, уединился от всех, «Хаджи-Мурата» почитываю; хочу поярче, порельефнее образ Старого Акына в нашем детище вылепить, так сказать… Вот, погружаюсь в материал; скоро, как вырвусь, в горы на пару деньков поеду: меня друг один обещал со старейшинами познакомить… Да. Да. Спасибо, Дулик; спасибо, родной; молодец, что позвонил… Еще раз поздравляю — отдыхай, милый… Пока! Пока… — и Драчулос опустил трубку на рычаг. — Ну, че говорил? — поинтересовался Залупилов. — Из Танзании только что прилетел — большой успех, говорит… Жалуется, что устал… сука! — Ничего, скоро отдохнет… Как следует отдохнет! — И, рассмеявшись, друзья выпили еще по одной, откупорив свежую бутыль, которую Стакакки достал из бара во время разговора с Бесноватым. Они заснули далеко за полночь, на одной кровати — не раздевшись и крепко обнявшись.* * *
…Громко вскрикнув, Абдулла Урюкович проснулся. Оглянувшись по сторонам и немного придя в чувство, он обнаружил себя сидящим за столом в своем кресле; больше в кабинете никого не было. Ужасно болела голова; открыв ящик стола, он достал длинную белую сигаретку и закурил. Стало легче, головная боль резко пошла на убыль; но что-то все-таки беспокоило выдающегося музыканта. Он вдруг обратил внимание, что стоявший у противоположной стены телевизор был включен; центральное телевидение транслировало передачу, посвященную баритону Белову, недавно уволенному из Дзержинки по личному распоряжению Бесноватого. «Vendetta!.. Ah vieni, affrettati, rinascerò per te!.. Vendetta!.. Ah vieni, affrettati, rinascerò per te!..» — распевал Белов на какой-то незнакомый мотив, потрясая шпагой с экрана (с дерзким и наглым вызовом, как показалось Бесноватому, глядя прямо ему в глаза). Застонав, Абдулла пошарил вокруг себя в поисках дистанционного управления, но не нашел. «Эта партия, спетая Беловым впервые на сцене „Метрополитен-Опера“, принесла баритону поистине всемирную славу!..» — щебетала тем временем журналистка в телевизоре. Бесноватый тяжело поднялся, едва не споткнувшись о два тома партитуры «Китежа», почему-то валявшихся подле стола, подошел к телевизору и злобно выключил его. За спиной маэстро раздался легкий сардонический смешок; обернувшись, он увидел сидящего на столе огромного рыжего кота, почему-то облаченного в цилиндр и галстук-бабочку. — Па-ашел во-о-о-он!!! — побагровев всеми прыщами, страшно заорал Абдулла. — Дулик, ты чего? Ты же сам просил меня зайти в это время… На звук голоса Бесноватый повернулся к двери, и его взору представился тенор Драчулос, в недоумении и испуге остановившийся на пороге. — Стакакки!.. Ой, друг мой, извини!.. — Увидев, наконец, вполне реальный персонаж, Абдулла почувствовал огромное облегчение и радость. — Это я не на тебя… Тут… это… таракан такой огромный сидел… — (дирижер покосился на стол: кот исчез). — А я, знаешь, просто одного их вида не выношу… Да ты заходи! — А я-то думаю… Не бережешь ты себя! — обеспокоенно заговорил Драчулос, затворяя за собой дверь. — Ты так много работаешь, Дулик: нервничаешь очень — хотя, честно признаться, я и сам тварей этих терпеть не могу! — Драчулос присел возле стола. — Ну, как репетиции идут? — поинтересовался Абдулла. — Хорошо; знаешь — мне нравится!.. — воодушевленно сообщил Стакакки. — Я уже даже волноваться перестал: что-то мне вот внутри подсказывает — получится вещь!.. Ха… — уже другим тоном заговорил Драчулос, — а кто это тут у тебя водку стаканами глушил? — ИАбдулла увидел, как тенор принюхивается к стоявшему на столе стакану с остатками жидкости. — Да… — неопределенно промямлил Бесноватый. — Я же только приехал, знаешь; эти шакалы небось тут без меня пировали. — Ну, так нельзя! — озаботился Стакакки. — Ты уж больно их распустил, Дулик! Вот, кстати, эта старая дура, Фира: тут иду как-то, смотрю — что-то не то в расписании. Пригляделся — так оно и есть: спутала две разные недели, идиотка!.. У людей не те классы, не те уроки, не те часы на сцене выписаны. Я туда-сюда — нет ее; пришлось самому сесть и все быстро переписать… Журналы все у нее в столе закрыты — хорошо, на память все помню!.. — Ты у нас гений, Стакакки! — размякнув, приветливо сказал Бесноватый. — Ты у меня главным будешь… Да ты уже прямо сейчас можешь, как начальник, курировать их! Я всех этих шакалов уволю, только скажи! Всех, к шайтанам!.. — Нет, Дулик: всех увольнять не будем… Например, Юрьев: дело знает, исполнительный; куда не надо, не суется… А что это ты куришь, кстати? — потянув носом воздух, спросил Стакакки, — запах какой-то странный… — Да не знаю… — Абдулла сунул окурок в пепельницу, — Бустос подарил… Сказал, особенные какие-то — шик, в общем… — Бесноватый вдруг заметил, что в пепельнице, куда он пихнул свой чинарик, лежала недокуренная папироса; никогда в жизни он папирос не курил. — Ты, это, Стаканчик… выпить чего-нибудь хочешь? — нерешительно спросил Абдулла. — Хе, почему и нет? Давай, кирнем! — бодро согласился Драчулос. Бесноватый достал из бара бутылку виски и два хрустальных стакана; Стакакки ловко разлил. — Сейчас, Стакакки, — я только переоденусь! А то с дороги, весь мокрый до сих пор… — и Абдулла зашел в маленькую смежную комнату, служившую при кабинете чем-то вроде гардеробной. Как только Бесноватый скрылся за дверью, Стаккаки быстренько рванул первый стакан в одиночестве — как говорится, «для разминки». Когда же он вознамерился налить себе вновь, то обнаружил на столе небольшого и симпатичного чертенка в берете и с моноклем: тот, стоя рядом с бутылкой и обнимая ее, приветливо хихикнул тенору. — А ну, пошел на хер отсюда! — беззлобно сказал Драчулос, ничуть не удивившись. Нашарив левой рукой в разрезе рубашки массивный нательный крест, Стакакки Драчулос правой перекрестил нежданного гостя; бесенок жалобно взвизгнул и исчез. «Ну вот, никаких тебе галлюцинаций; мозги на месте, обычный черт!» — с облегчением подумал Стакакки и снова наполнил свой стакан.
* * *
…Акакий Мокеевич Пустов, Моисей Геронтович Шкалик, композиторы Тайманский, Шинкар и Кошмар, критикесса Поддых-Заде, а также критик Шавккель попивали чаек в кабинете председателя N-ского союза христианских творцов консонансов. Точнее говоря, чай пили лишь Шкалик, Тайманский, Шавккель да сам Пустов — все же остальные при этом почтительно присутствовали — причем, из-за дефицита посадочных мест в кабинете, стоя. Акакий Мокеевич, время от времени поднимая со стола хрустальный стакан в серебряном подстаканнике (украшенном якорем и надписью «Боевая слава Севастополя»), делал обстоятельные, неспешные глотки. Моисей Шкалик, часто и мелко прихлебывая, пил чаек, угнездив на крохотной ручонке несолидное блюдечко подросткового размера; перед каждым глоточком он, зажмурясь, усиленно дул на блюдце. Шавккель, сильно оттопырив мизинец, держал чашку несколько на отлете, отдельно от блюдца; он впивал чай редко, но истово и подолгу, подобно невиданному москиту — а оторвавшись, наконец, от чашки, известный критик скорбно и задумчиво жевал губами. Тайманский же, по обыкновению, все подливал себе в чашку дурно пахнущий коньячный спирт из походной фляжки. — Я, собственно говоря, не буду вас больше задерживать; я, пожалуй, позову вас чуть позже… — ни к кому конкретно не обращаясь, проговорил Пустов, — и не занятые чаепитием Шинкар и Кошмар вдруг исчезли из кабинета, будто и не было их здесь — лишь тихонько скрипнула дверь. Затем Акакий Мокеевич обратил свой ласковый взгляд на Зарему Поддых-Заде, чуть было замешкавшуюся; юная критикесса просияла и села на стульчик возле двери. — Ну-с, расскажите-ка нам про новый шедевр! — мягко изрек Пустов в пространство; взоры присутствующих немедленно обратились на Шкалика, тут же поперхнувшегося чайком и визгливо закашлявшегося. — Думал нас вокруг пальца обвести, гнида! — оживился Тайманский, не любивший эвфемизмов. «Ну что вы, право!» — укоризненно прошептал ему Шавккель. — Это… что… Я, в общем, не понимаю… — запричитал Шкалик, проливая чай себе на штанишки. — А понимать здесь особо и нечего, — вновь заговорил Пустов. — Вы, выступив от лица Бесноватого с неофициальным предложением, обещали нам некоторые услуги… Теперь же выясняется, что оперу пишет далеко не самый блестящий московский композитор — для которого, заметьте, нашлись и ячейка в штатном расписании N-ской оперы, и квартира в N-ске, причем в старом фонде… — Это о ком же речь? — спросил Шавккель. — Да Борька Мусоргский, бездарь! — сообщил Тайманский, икнув. — …Сам же Моисей Геронтович тем временем пишет вдохновенные стишки для либретто! — закончил Пустов. — Неправда! — отчаянно взвизгнул Шкалик. В ответ на это Пустов поднял трубку местного телефона и сказал туда несколько слов. Не успел он положить трубку, как в кабинете уже возник композитор Кошмар (родной брат дирижера Кошмара) и, положив на стол Пустова тоненькую папочку, немедленно исчез. «Кошмар донес, иуда!» — мелькнуло в голове у сразу как-то затосковавшего Шкалика. Акакий Мокеевич тем временем неторопливо извлек из папочки на свет Божий несколько мятых тетрадных листков, исписанных крупным ребяческим почерком, и расправив их у себя на столе, принялся читать с выражением, иногда слегка заикаясь:
«Ты украшаешь жизнь народов,
Как мудро все, что ты творил!
Ты вдохновенно победил
Ничтожных критиков-уродов.
Палимы злобой, шли они
На светлый разум музыканта —
Но тьмы и злобы прошли дни,
И в лету кануло бельканто.
Иные песни люд поет,
Иные оперы слагает:
Во всех аулах аксакалы,
В красивом лайнере пилот —
О Абдулле поют они,
Как вдохновенный сын Урюка
Зажег нам творчества огни,
Поправ талантами науку…»
* * *
…А талант Абдуллы Урюковича вновь поманил ветер дальних странствий — и N-ская опера отбыла на гастроли в Шотландию. Опять начались мелкие проблемы: так, сопрано Лошакова, милостиво объявленная Абдуллой Урюковичем «звездой» чуть ли не на весь мир, вероломно подвела великого мастера. Если по порядку, то дело было так: прибыв для участия в музыкальном фестивале всего на пять дней, N-ская опера, по светлому замыслу Абдуллы Урюковича (да хранит Аллах здоровье и разум его!), должна была с бойкостью сельской кинопередвижки давать спектакли все пять дней, утром и вечером — только тогда сумма выручки достигала приемлемого размера, уже позволявшего Бесноватому выплатить главным солистам по сто двадцать шесть долларов за спектакль. Но вероломная Лошакова, перед отъездом спев три «Аиды» (в театре шла запись для телевидения Уругвая и Сингапура), по приезде в Шотландию отработала утреннюю «Иоланту» в концертном исполнении, а вечером, на «Демоне», нагло потеряла голос и даже не потрудилась допеть спектакль до конца! Я, друзья, не могу даже сказать, что Абдулла Урюкович был возмущен; выдающийся музыкант современности был просто ранен в самое сердце! «Прав был старина Бустос, тысячу раз прав — от женщин можно ждать только всяких гадостей!» — размышлял Бесноватый, угрюмо расхаживая по гостиничному номеру. Музыкант, впрочем, и сам смолоду инстинктивно чувствовал это, всю свою сознательную жизнь стараясь держаться от всех женщин — за исключением сестер, матери и тетки Суламифь — как можно дальше. Таким образом, N-скую оперу можно смело уподобить ломберному столу: беда Лошаковой обернулась счастьем для баса-коммуниста Оттепелева-младшего, которому выпала высокая честь спеть четыре «Бориса», заменивших «Демона», снятого с программы в связи с болезнью певицы. «Скорбит душа…» — весело напевал в гостиничном номере Оттепелев себе под нос, склоняясь поздним вечером над учебником немецкого языка. Помимо трех палок твердокопченой колбасы «Свежесть», двадцати восьми банок «Завтрак туриста. Говядина», шестнадцати банок «Фарш сосисочный „Коррида“», тридцати пяти баночек шпрот, четырех буханок хлеба, четырех бутылок водки «Московская», пяти батонов, пачки чаю «Краснодарский черный ассорти сорт второй», кипятильника, скромного комплектика походной посуды и концертного костюма фабрики «Рот Фронт» (что в совокупности позволяло выдающемуся солисту обогащать западного зрителя радостью общения с собственным творчеством, не тратясь при этом на еду и сберегая валютную копейку), багаж баса-коммуниста был также отягощен учебником немецкого языка для пятого класса вечерней школы, русско-немецким словарем и разговорником. «Ну а это-то дерьмо тебе зачем? — удивился тенор Наядов, сосед Оттепелева по номеру, показав на учебники. — Мы же в Англии!» На что Оттепелев, тяжело вздохнув, снисходительно пояснил: что-де не в Англии мы, а в Шотландии, а это совсем другое дело, потому что подавляющее большинство шотландцев — уж тут-то Наядов может ему поверить! — знает немецкий язык, любит его и с охотой подолгу на нем разговаривает. На все сказанное Наядов лишь хмыкнул, но спорить не стал — а Оттепелев вновь склонился над учебником. И в самом деле: что с тенором-то, с дураком, разговаривать? Бас-коммунист Оттепелев-младший действительно был умен: об этом свидетельствовал хотя бы диплом о высшем образовании. Но кроме того, певец имел огромную в себе уверенность, оценивая себя необыкновенно высоко — что, согласитесь, для человека артистической профессии особенно важно. Однако частенько случалось так, что через эти качества свои терпел Оттепелев различные невзгоды. На следующий день, одев свою любимую кожаную куртку полярника и водрузив на лысеющую голову огромную, размером с тележное колесо, шляпу (Оттепелев нравился себе в шляпе, находя ее необычайно гармонирующей с мужественным обликом своим), он отправился на прогулку по незнакомому городу. Солнышко припекало; привычный к трудностям и порою даже радовавшийся им (кстати, с внутренней стороны крышка оттепелевского чемодана была украшена портретом Хемингуэя), бас-коммунист мужественно потел в кожанке с меховым подбоем, ни на миг не допуская малодушной мысли о разоблачении. Наконец, когда рубашка и свитер певца стали мокрыми абсолютно, а потоки пота из-под твердой шляпы застучали по куртке веселым частым дождем, солист Дзержинской оперы решил-таки утолить жажду в одной из мелких лавочек, встреченных по пути. «Ихь тринген мохтэн!» — мрачно заявил он миловидной продавщице. «Sorry?» — переспросила она, приветливо взглянув на странника. «Совсем еще девчонка! — снисходительно отметил Оттепелев про себя. — Немецкого не знает…» В подобных случаях — когда люди, в силу, видимо, недостаточного интеллектуального развития своего, не могли объясниться с ним на иностранном языке (причем порою — на их же родном наречии), человеколюбивый бас-коммунист, не желая никого лишний раз задеть или обидеть, переходил на язык жестов. Своей традиции не изменил он и теперь: высмотрев в выставленной за спиной продавщицы батарее бутылок и бутылочек самую, на его взгляд, красивую (надо ли говорить, что певец обладал утонченным чувством прекрасного?), он ткнул в нее длинным, как удилище, пальцем. Когда нарядный сосуд с изображением роскошной виноградной кисти, помещенной в золотую каемочку, очутился на прилавке, Оттепелев жестом повелел открыть его. «Do you really want me to open it?!»[7] — пролепетала девушка изумленно; в глазах ее отразилось нечто, похожее на испуг. Снисходительно ухмыльнувшись, но и обозначив при этом легкое нетерпение (как почти у всякого советского человека, оказавшегося в заграничном магазине, потоотделение у него резко усилилось). Оттепелев, втайне собой немножко любуясь, повторил свой безупречный по пластической выразительности жест. Глаза девушки-продавца сильно увеличились, а рот приоткрылся — но поскольку в гнилом мире капитала клиент, как известно, всегда прав, она покорно откупорила бутыль. Дождавшись долгожданного момента, бас-коммунист Оттепелев-младший, сильно откинувшись назад и мужественно обхватив губами горлышко, торопливо совершил несколько больших глотков. После этого произошло следующее: резко распрямившись и выпучив глаза на манер невиданной глубоководной рыбы, сильно округлив щеки и выронив бутылку на пол, певец пробыл в этой позиции какую-то долю секунды — после чего мощное сокращение брюшной диафрагмы (какой вокалист не лелеет эту мышцу?!), мощной струей вышвырнуло из оттепелевского желудка, как из хорошенько взболтанной бутылки «N-ского Игристого», все ранее выпитое; розовая пена, в изобилии выпущенная солистом Дзержинки, украсила экспозицию магазина. Продавщица, близкая к обмороку, неистово кричала кому-то: «Call ambulance!.. Immediately call ambulance! Hurry up!..»; Оттепелев хрипел и хватал воздух широко открытым ртом; глаза его закатывались. В красивой бутылке оказался отменнейший, по крепости близкий к эссенции, импортный винный уксус. Узнав, что за пребывание Оттепелева в больнице придется платить театру, Абдулла Урюкович (добрейшей души человек!) невольно пожалел, что тот не купил бутылочку с соляной кислотой. А партию Бориса с огромным успехом спел Антошкин — совершенно роскошный, этакий «церковный» низкий бас; он коммунистом не был, шляпы не носил и не учил немецкого — так что, в общем, не о чем и говорить.* * *
Ну, а в N-ске местная филармония открыла очередной сезон, и городской голова Доберманов, удостоив первый концерт своим присутствием, в своем кратком спиче эмоционально объявил N-ский филармонический оркестр лучшим музыкальным коллективом страны (а также, не удержавшись, подобно ильфовским пикейным жилетам возгласил, что-де не за горами уже тот светлый миг, когда N-ск действительно получит статус вольного города); посетивший N-ск с большой помпой сын известного писателя-диссидента, объявленный властями «выдающимся молодым дарованием», с прилежностью школьника пятого класса и большим трудом сыграл на рояле две сонаты Бетховена — в общем, невзирая ни на какие гастроли Дзержинской оперы, богатая событиями культурная жизнь города шла своим чередом. И словно подтверждая эту истину, большим концертом в Липовом зале N-ского союза композиторов торжественно и шумно открылся фестиваль «Авангард андеграунда». Дирижер Чингисханов, по старой дружбе, исполнил одночастный клавирный концерт товарища Пустова «Революционный держите шаг» (солировал корейский пианист Сунь-Хо-Вынь); также в первом отделении прозвучала Симфония № 64-в известного N-ского творца Бегемотского — обладавшего завидной плодовитостью старикашки, которого многие коллеги и студенты сильно недолюбливали, считая довольно-таки желчным человеком. После этого номенклатурные долги, так сказать, были розданы, и в Липовом зале действительно зазвучала музыка. Ансамбль солистов исполнил сюиту Мищенко к театральной постановке булгаковского «Собачьего сердца»; затем собравшиеся услышали «Оловянный отзвук» — новый опус композитора Сотникова. …Как-то ровно, незаметно, потихоньку — но музыкальный вечер, оправдывая приподнятое с самого начала настроение всех присутствующих, плавно перешел в богатый и масштабный банкет. Столики для фуршета были накрыты в Зеленой и Красной гостиных, в малом зале заседаний (из которого заранее вынесли все стулья), в просторном предбаннике нотной библиотеки и даже в широком коридоре первого этажа; столы же с выпивкой стояли буквально повсюду. Кого здесь только не было! В солидной стайке, среди композиторов Тайманского, Бегемотского, Разнорожича и самого товарища Пустова, потягивал вино безымянный советник N-ского городского головы по культуре, альпинизму и туризму; заведующая отделом культуры газеты «У речки» Тараканова, одетая в красивый костюм и несущая на себе нешуточное количество бижутерии, вскользь слушая постанывающий монолог влажноглазого Шавккеля, томно прихлебывала шампанское, интригующе поглядывая на композитора Алкатразова. Угнездившись в угловом кресле и высоко вскинув курчавые от буйной растительности ноги, тусовщица из газеты «Вечерний N-ск» Чернявинская (бывшая замужем за шофером попгруппы «Террариум» и, в связи с этим, писавшая в основном о рок-музыке), смешав в бокале водку с шампанским, в одно касание уничтожала бутербродики с семгой и красной икрой, время от времени разражаясь приступами громкого хохота. Мелко и быстро жуя и поминутно обжигаясь, торопливо заглатывал горячий жюльен критик Шкалик, притиснутый к стене широкой спиной драматурга Фурия Мимикрина, неспешно и планомерно уничтожавшего бутерброды с копченой колбасой. «Возможно, я покажусь вам несколько консервативной, — обаятельно картавя, говорила обозревательница Стика Нижак молодому композитору Тихонравову, — но я люблю, когда симфония состоит из двух-трех частей, не более…» Композитор Тихонравов, уписывая эклер, сосредоточенно кивал ей головой. «…Нет; рот крупноват, ноги кривоваты; маловата грудь… Не то!» — подумал он — и, извинившись, устремился вслед за музыковедом Чесноковой. Частый гость N-ска, московский пианист Александр Мисисоль, по обыкновению восторженный и коммуникабельный необычайно, отчаянно кокетничал с редактором музыкальных программ N-ского телевидения, экзальтированной старушкой Спасской; они воздавали должное коньячку. Воспользовавшись светской занятостью супруги, композитор Тайманский поспешно допивал третий фужер водки. Критик Шульженко стоял возле камина, потягивая коньяк в обществе арт-критика Воробьянинова и композитора Сотникова; многие не без интереса посматривали в их сторону — поговаривали, что в Москве музыка Сотникова вошла в моду и стала предметом обязательного восхищения московского бомонда; по крайней мере, модный московский критик Перезрелов писал в столичной газете «Спекулянтъ» о музыке Сотникова с большим сочувствием. Сегодня московской критики здесь не было, однако газета «Спекулянтъ» была представлена своим N-ским корреспондентом и обозревательницей искусств Ниной Вспученко. Ее довольно-таки скверной выделки лицо было украшено похожими на две котлеты по-киевски пухлыми губами — частенько раскрывавшимися для пропуска внутрь очередной порции водки с соком. Рыжий цвет разбросанных в художественном беспорядке волос, помянутые уже крупные губы и наличие относительно длинных ног вселяли в Нину незыблемую уверенность в неодолимой силе своего женского обаяния, которым она как раз испытывала сейчас корреспондента газеты «Слухи» Овсянникова. Необходимо заметить, что журналистка Вспученко, раньше трудившаяся в N-ской молодежной газете «Измена», в творчестве своем мира муз никак не касалась. Но служба в «Спекулянте» позволила ей наконец-то реализовать свою тягу к богемной жизни: Нина, со всею страстью незамужней двадцатидевятилетней девушки, принялась писать о музыке, театре и живописи — благо стиль, принятый в московском издании, необычайно тому благоприятствовал. Газета «Спекулянтъ», как это уже явно видно из названия, по сути своей была серьезным изданием, ориентированным на «новых русских» — молодых и преуспевающих бизнесменов, банкиров и предпринимателей; естественно, что основной уклон в своих обозрениях газета делала на финансовую сторону событий. По различным же узкоспециальным вопросам редакция обращалась к консультантам, в печатных материалах именуя тех «экспертами» и почему-то сохраняя реальные имена их в строгой тайне. Ссылками мифических экспертов, вкупе с принятыми в газете выносками к каждому материалу под рубрикой «Наша справка», Нина Вспученко пользовалась широко и изобретательно. К примеру, не так давно вышедшая рецензия Вспученко на «Мадам Баттерфляй» в Дзержинском театре, выглядела следующим образом.«Вчера в N-ском театре оперы и балета имени Дзержинского прошла премьера оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», поставленной в содружестве с лиссабонским театром Сан-Карло. Как удалось выяснить корреспонденту «Спекулянта», подобная практика переноса постановок из театра в театр широко практикуется на Западе, позволяя сократить расходы на новый спектакль. Со слов директора театра Антона Огурцова, «Баттерфляй» обошлась дзержинцам примерно в $ 170 тыс….»— затем, толково изложив краткое содержание оперы (прилежно переписанное ею из «Музыкальной энциклопедии школьника»), Вспученко продолжала: «Заглавную партию исполнила молодая солистка Дзержинки, сопрано Бибигуль Флиртова. Эксперты «Спекулянта», находя ее голос красивым и полетным, предрекают ей большое будущее…» Кроме собственно рецензии и фотографий, публикации был придан небольшой довесок под названием «Наша справка», гласивший:
«Джакомо Пуччини (1858–1924) — итальянский композитор, яркий представитель особого направления в оперной музыке — так называемого «веризма». Сопрано — высокий женский певческий голос; обычный диапазон С. — две октавы (В одной октаве — семь нот. — примеч. «Спекулянта»). Знатоки оперы особо оценивают возможность исполнения С. крайних верхних нот…»Надо ли говорить, что в Москве Нина Вспученко скоро стала по праву считаться одним из самых интересных молодых критиков города N-ска?.. …А сноровистые официанты (специально приглашенные для банкета из валютного ресторана «Си-бекар»), тем временем без устали разносили все новые горячие и холодные закуски, не забывая при этом как и про десертные блюда, так — само собой! — и про напитки. — Пожалуй, это первый по-настоящему удачный фестиваль! — хмыкнул обозреватель газеты «Вечерний N-ск» Шучук; впервые в его богатой практике он был уже близок к насыщению, а провизия все не кончалась. — По всему видать — хотят ребята добрых отзывов в прессе… Не дождутся!!! — поделился Шучук, в очередной раз чокаясь с журналисткой Кадеждой Кожевниковой. Та, отведав и N-ского шампанского, и азербайджанского коньячку, лишь тихо и непрерывно смеялась. Как бывалый капитан на мостике, стоял товарищ Пустов на площадке резной дубовой лестницы, что вела наверх к кабинетам Правления СХТК. Акакий Мокеевич смотрел на вовсю разгулявшуюся журналистскую братию (а спиртное все не кончалось), и улыбался каким-то своим мыслям тихой и доброй улыбкой.
* * *
…Весьма старомодная мебель в кабинете была сильно обшарпана; на большом столе, помимо нескольких папок казенного вида да двух через край переполненных пепельниц, стояла видавшие виды пишущая машинка «Ятрань» с напрочь забитым шрифтом и истертыми клавишами, да громоздился древний компьютер чешского производства. Как будто под стать всей обстановке, небритый генерал милиции Аксенов, сидевший за столом, вид имел невыспавшийся и несвежий; в герои газетного очерка — по крайней мере, сегодня — он явно не годился. Дверь отворилась без стука. «Можно, товарищ генерал?» — формально поинтересовался массивный человек в штатском — и, не дожидаясь ответа, прошел к столу. «Садись, Илюшин…» — буркнул генерал. — Вы как: ознакомились уже с делом? — спросил тучноватый Илюшин. — Да, в общих чертах; пролистал тут… Да ты расскажи лучше сам все: и толковей, и быстрее будет!.. — В общем, основная масса товара идет с Ближнего Востока, — без лишних предисловий начал Илюшин. — Конкретно занимаются этим трое: рабочие оркестра Дукаев, Сафиев и Кефалиди… — генерал приподнял брови: — Это не тот ли Кефалиди… — Совершенно верно! — перебил Илюшин. — Кефалиди-Мамедов, в блатном мире более известный, как Туфик: два грабежа, кража автомобиля и убийство двух сотрудников милиции в Саратове… Одно время угрозыск считал, что Туфик лег на дно в одной из суверенных теперь стран Кавказа — но, как видите, он неожиданно всплыл в храме, так сказать, искусства… — А по другим что? — Э-э-э… — (Илюшин раскрыл папку). — Дукаев — уличные грабежи, по этому поводу имеет в прошлом две ходки; сейчас в его распоряжении шесть, ларьков у Силосной башни и небольшая доля в антикварном магазине на Речной… Сафиев часто крутится на автомобильном рынке у площади Рационализаторов, пользуется определенным авторитетом среди тамошних «кидал»… Имеет три машины, все — по доверенности. По оперативной проверке, один из доверителей был убит при невыясненных обстоятельствах за пять месяцев до того, как подписал доверенность… Все они, кстати, приняты на работу три года назад по личному распоряжению Бесноватого. Аксенов вновь вскинул брови: — Думаешь?! — Не знаю, но скорее всего — нет. Вероятно, просто кавказские эти дела — знаете, родственнику помочь, земляка пристроить… — Поймав на себе внимательный взгляд генерала, Илюшин поспешил добавить: — Разумеется, ни одну версию до времени мы со счетов не сбрасываем… Похоже, что эти джигиты чувствуют там себя в полнейшей безопасности: по крайней мере, перевалочный склад товара они устроили у себя в шкафчиках прямо в театральной раздевалке… — (Илюшин перевернул несколько страниц). — В настоящее время там, по грубым прикидкам, должно находиться около восьми килограммов героина, — (генерал протяжно присвистнул), — коллеги из Интерпола прислали результат экспертизы: говорят, что товарец тайваньского производства. — А сами они… как с этим? — поинтересовался Аксенов. — Нет; только травку смолят. Траву, кстати, закупают во время западных гастролей оркестра — местной брезгуют… — Неужели больше ничем не прирабатывают? — Кроме уже упомянутого, волокут сюда всякое импортное барахло с багажом оркестра, реализовывают оптом или через киоски; еще… Тем же, видимо, способом завозят большое количество огнестрельного оружия: только при осмотре их шкафчиков было обнаружено четырнадцать стволов западногерманского производства. — Тьфу ты, зараза! Их что, таможня вообще не досматривает?! — Товарищ генерал, эти огромные ящики для арф да контрабасов ни один аппарат не просветит! А главное, ведь никому в голову не приходило — искусство, понимаете ли; театр… Кроме того… — и тучный в штатском сделал свободной рукой выразительный жест, намекая на деньги. — Черт знает, что такое! — Аксенов закурил. — В процессе оперативной разработки… — вновь принялся читать Илюшин, пролистав еще несколько страниц, — так… так… Да! В общем, выяснили еще одну вещь: опять-таки в служебном багаже оркестра они переправляют на Запад запрещенные к вывозу инструменты: есть там некая виолончелистка Фаина Гринштейн, которая с помощью наших джигитов на гастроли в Америку отправилась почему-то со скрипкой, а из поездки в Японию вернулась вообще без инструмента! — Да, да! — откликнулся генерал. — Тут пришел, наконец, ответ от Интерпола: один нью-йоркский скрипач, у которого учится сын этой самой Гринштейн, уже два года играет на числящемся у нас в розыске инструменте Амати — он пропал из Госколлекции восемь лет назад, во время первого тура Всесоюзного конкурса струнных квартетов, проходившего как раз в N-ске… Я уже написал рапорт о выделении этого эпизода в отдельное дело: нам бы свое все расхлебать! — А насчет балетмейстера этого, Гранбатманова? — спросил Илюшин. — Это в отдел по борьбе с экономическими преступлениями… Там все же полегче: взятки, хищения в особо крупных… Нам свою рыбку пасти надо! Сыщики закурили. — А что, работа с тамошним контингентом, дала что-нибудь? — спросил Аксенов. — Практически ничего! — откликнулся Илюшин. — Господа артисты все больше друг на друга батон крошат… Про этого так, по мелочи: трудовое законодательство, деньги на гастролях… — Гастрольными заработками сейчас Тимошенко из Первого отдела занялся. Трудное дело! — куда ни сунься, «коммерческая тайна» — фирма «Примус» просто так карты не раскроет; Бесноватый тоже, как ты понимаешь, свои счета открывать не торопится… Без Интерпола ни шагу! С театрами западными попроще; заработанное там просто сопоставить можно с аналогичными делами: московские театры, филармония… Дзержинка имеет два счета — в Голландии и в Австрии; большая часть денег оттуда переводится куда-то в Латинскую Америку… Еще, по оперативным данным Тимошенко, с недавно уволенных Верновкуса и Белова — еще до их увольнения — под предлогом сохранения им зарплаты и, в будущем — пенсии, Огурцов и Бесноватый вымогали определенные суммы в валюте — а с зарплатой в рублях бесстыдно при этом надували!.. Но, в общем, ты знаешь: сколь веревочке не виться… — Да! — вздохнул Илюшин, придавливая окурок в пепельнице. Помолчав, он спросил: — Так что с нашими-то делать будем? Материалов уже больше чем достаточно… — А что: добро от западных коллег получено; тянуть больше смысла нет… Будем брать! — веско добавил он. Илюшин поднялся, закрывая папку. — Когда, товарищ генерал? — Завтра!.. Завтра, под вечер. Проследи сам, чтобы все предусмотреть: после такой работы прокалываться, сам понимаешь — ни в единой мелочи права не имеем! — Понятное дело… Сделаю все, что нужно, товарищ генерал: возьмем «Гамму»; с командиром договоренность есть… Вы чего, товарищ генерал? — спросил Илюшин, увидев на лице Аксенова улыбку. — Да так… Вспомнил, что завтра как раз с женой должен был на «Князя Игоря» в Дзержинку идти; обещал… Но они сейчас там какую-то новую постановку готовят, и все другие спектакли на этой неделе отменили!.. Черт-те что: теперь уже, наверное, никогда оперу в Дзержинке не послушаю — не расслабиться будет! А такой был отдых прекрасный, такие имена: Верновкус, Марфин; Стеблищев!.. «Мечтам и годам нет возврата, ах, нет возврата — не обновлю души моей!..» — принялся хрипло напевать Аксенов. — «…Я вас люблю любовью брата, любовью брата…» — вдруг подтянул ему Илюшин на удивление приятным тенорком. — «…Иль может быть… Иль мо-о-о-жет быть… еще, еще-е-е-е…» — пропели оперативники нежным дуэтом. Внезапно оборвав недопетую фразу, Аксенов резко поднялся из-за стола. — Ну ладно; Бог с ним! — принял он вновь суровый вид. — До завтра, майор! — До завтра! — задумчиво и серьезно ответил Илюшин. — Посмотрим, кто кого проучит!..
* * *
…А дней до долгожданной премьеры оставалось все меньше и меньше. Все прочие спектакли (как, впрочем, уже известно читателю), были с репертуара сняты: на сцене шел монтаж огромных горных хребтов. Администрация балета вновь подняла по этому поводу шум, но Абдулла Урюкович уже не обращал на них внимания: ни одна премьера, как известно, без нервов и издержек не обходится; а уж такая премьера — тем более… Световая и дымовая аппаратура для спецэффектов (опять-таки, не без помощи добряка Дона Жозефа) заказывалась в Японии, и специальный самолет должен был, с догрузкой комплектующих в Тайване, доставить аппаратуру в N-ск. Однако самолет, уже будучи на Тайване, все что-то задерживался, и это тоже добавляло нервов. Все предусмотреть было невозможно: поначалу, с подачи тенора Драчулоса, для большей художественной убедительности, через Садово-парковое управление N-ской городской управы, заказали четыре грузовика отборного гранитного гравия; но сотрудники фирм «Пи-Си-Пи» и «Примус» тут же буквально встали на дыбы, уверяя, что скрип и скрежетание гравия на сцене будут создавать непреодолимые неудобства для записи и трансляции оперы — и от идеи пришлось отказаться. Кстати, как раз во время дневной технической репетиции караван грузовиков с гравием держал путь в Пасмурное; сам Стакакки Драчулос трясся в головной машине, указывая дорогу к Дзержинскому садоводству — где гравий благополучно и ссыпали (причем как-то так вышло, что на участке Залупилова разгрузили только одну машину, широко раскатав гравий по земле, а на участке Стакакки — три, но при этом очень компактно). Абдулле Урюковичу, разумеется, до всяких мелочей дела не было: в эти дни он работал, как никогда, решая лишь самой первостепенной важности вопросы: во-первых, меццо Буренкина недоучила текст, а в последнюю неделю просто нагло объявила себя больной. Таким образом, ответственнейшую партию Матери Абдуллы Урюковича пришлось поручить певице Хабибулиной. Но та оказалась слишком толстенькой и страшной; посему порешили, что Хабибулина все-таки будет петь, стоя при этом в оркестровой яме — а роль Матери сыграет на сцене какая-нибудь известная артистка театра и кино. Мама Бесноватого, однако, все не могла остановить свой выбор ни на одной актрисе: красавиц, достойных подобной чести, никак не находилось. А сопрано Валю Лошакову Абдулла Урюкович сам, своими собственными руками, снял с партии Вдохновения своего: надо было проучить мерзавку за срыв спектаклей на недавних гастролях в Шотландии. Вдохновение готовилась спеть сопрано Непотребко — но вот беда: она категорически отказывалась выходить на сцену нагишом. Тогда Стакакки Драчулос провел с ней беседу, в которой популярно объяснил, что если Непотребко откажется от условий режиссера, и не выйдет голой на сцену, — что поставит детище долгого труда огромного коллектива под угрозу срыва — то весь остаток жизни своей ей придется просидеть в лохмотьях на паперти N-ского Преображенского Собора. Бедная Непотребко поразмыслила и, скрепя сердце, согласилась — тем более, что режиссер Фруктман пообещал ей кое-какой сценический костюм: корону, красивые туфли и неширокий пояс… В общем, друзья, все шло так, как испокон веков идут на театрах дела перед ответственным событием; мы можем смело заключить: Дзержинскую оперу вовсю охватила предпремьерная лихорадка.* * *
В этой круговерти оркестровых, технических, гримерных, световых и миллиона прочих проблем Абдулла Урюкович, работая с только ему свойственной, беспредельной самоотдачей, ни на минуту не оставался один. Он дремал урывками, сидя в кабинете или в автомашине — и, видимо, вследствие крайней усталости, какие-то нехорошие предчувствия постоянно преследовали его. Еще Бесноватый почувствовал, что отношение к нему прессы с телевидением как-то изменилось: какая-то выскочка в газете «У речки» сравнила его со Сталиным и написала, что Абдулла находится в «угарном экстазе самообожания»; другой какой-то музыковед провещался по поводу музыки Бориса Мусоргского и полностью отказал композитору в способности соблюсти меру и пропорцию в области музыкальной формы… Конечно же, Абдулла Урюкович гнал от себя всякую ерунду: и сейчас, перед первой сидячей оркестровой репетицией (оркестр и солисты уже ждали его), он зашел к себе в гардеробную, чтобы ополоснуть лицо холодной водой и взбодрить себя вкусной длинной сигареткой. Умывшись, он поднял лицо — и в небольшом старом зеркале над умывальником увидел своего рогатенького приятеля. Чертенок, однако, сегодня был невесел: «…Ты слишком далеко зашел! — сказал бесенок грустно. — Бессмертие при жизни — это посмертная тьма на века. Никто на этом свете не обладает абсолютной властью, и в этом — счастье и высшая справедливость Вселенной. Клянусь преисподней, — я хотел помочь тебе…» — Гнида!.. Шакал позорный!!! — неистово завопил Бесноватый; кулак Абдуллы с силой вдарил по зеркалу — осколки, звеня, посыпались в раковину. Тяжело дыша, дирижер прислушался: «Фа-а-а-рандола, мой танец мести — он тебя согнет в дугу!..» — доносилось до его слуха из затерявшейся где-то в углу радиоточки. Узнав ненавистный голос баритона Верновкуса, Абдулла Урюкович, заскрежетав зубами, опрометью выскочил из гардеробной. Открыв бар, он принялся наливать себе виски; горлышко бутылки дробно стучало по краю стакана. В дверь кабинета постучали. «Войдите!..» — поморщившись, хрипло выдавил из себя Абдулла, предварительно залпом выпив полстакана. Дверь скрипнула, и в кабинете появился Стакакки Драчулос. — Привет, Дулик! Слушай, тут к тебе какие-то иностранцы из Голландии приехали, по поводу гастролей очень хотят поговорить: они у меня вчера в студии весь вечер просидели, все трендели — но я им сказал, что только лично с тобой такие дела у нас делаются; сам не стал… — Молодец, Стакакки; спасибо… — Но только видишь, фигня какая: они могут только сейчас, у них самолет через два часа — а у нас как раз перед оркестровой собрание труппы назначено; мы хотели перед премьерой все еще раз обсудить, рассказать; четче задачи очертить… Ты, как: не вырвешься? — и тенор пытливо посмотрел на дирижера. — Ой, Стаканчик… Если честно — я в таком, знаешь, цейтноте сейчас… Еще голландцы эти — а ведь тоже, упускать нельзя!.. А оркестровая… — все уже вчерне готово; пусть там Полуяичкин или Кошмар промашет… — Ну, давай я сам тогда собрание проведу! — предложил Драчулос. — Ничего там особо говорить не буду: я не охотник, ты знаешь… Сделаем читку либретто, еще раз оговорим характеры… А оркестровую попозже куда-нибудь перенесем… — Да, давай, Стакаккушка! — облегченно согласился Бесноватый. — Ты ведь все знаешь, что надо — просто объясни этим шакалам еще раз… Тут дверь внезапно растворилась, и в кабинет ввалились «голландцы» — двое пьяниц из Берлина, дружки Драчулоса — согласившиеся, в обмен на два ящика пива, предложенных Стакакки, принять участие в «небольшой дружеской мистификации», как объяснил им тенор.* * *
…Мы можем смело вывести это просто на основе собственного жизненного опыта, а кое-кто даже умудрился почерпнуть знание сие из хорошей книги — но так или иначе, даже самый последний на нашей грешной земле человек, злодей иль мракобес, порой просто не может жить вполнейшем нравственном одиночестве, никому не доверяя. И убийцы имеют друзей, и маньяки — как это не прискорбно — жен и внуков. Что же тогда говорить про чуткую, ранимую, так по-детски раскрытую ко всему талантливому душу великого (каким, вне всяческого сомнения, является Абдулла Урюкович) музыканта?!. О, почему же мы подчас — так бездумно, так беспечно! — доверяемся совсем не тем людям?!. Нет ответа… И вот, извольте: готова драма, друзья мои!.. В то самое время, когда два драчуловских дружка, бесстыдно дурача Абдуллу Урюковича идиотскими рассказами о якобы организуемом ими в Голландии оперном фестивале, кружили голову музыканта неслыханными суммами гонораров, Стакакки держал речь перед солистами оперной труппы, собравшимися на верхней репетиционной сцене. — Мне приходилось слышать краем уха — и в буфете, и в сауне, но я не буду сейчас называть имен — как будто бы Бесноватый, дескать, раздул свою манию величия до неслыханных размеров; оперу, мол, про себя самого ставит… — Оперный народец притих, ожидая: к чему же он клонит? — Но многие из вас совершенно не знали о главном, — (Стакакки выдержал подобающую случаю паузу). — Этой постановкой Абдулла Бесноватый… прощается с нашим театром! Повисло молчание; переспросить никто не решался. Кто-то был в шоке; другие отказывались верить своим ушам. — Я понимаю: вам трудно в это поверить! — здесь Драчулос несколько возвысил свой голос, — разумеется: лицом к лицу, как говорится, лица не увидать… Но светлый гений Абдуллы Урюковича нужен не только нам: в нем нуждается человечество!.. И потому, — (здесь голос Стакакки вновь опустился до будничных интонаций), — Абдулла Урюкович, номинально оставаясь нашим почетным главным дирижером, уезжает в трехлетнее мировое турне, равных которому в мире по масштабам еще не было! Исполнительным и главным директором по всем организационным вопросам маэстро назначил Позора Залупилова — вашего товарища, которого все вы хорошо знаете… — Драчулос указал рукой на сидевшего рядом Позора, тот встал и, криво улыбнувшись, коряво поклонился собравшимся. — Ну, а артистическим администратором и художественным директором станет, согласно воле маэстро Бесноватого, ваш покорный слуга!.. — и тут уже пришел черед поклониться Драчулосу, что тот и проделал каким-то шутовским манером. — Разумеется, что в наше время это возможно, только если вы — совершенно сознательно и, как говорится, демократично — одобрите наши кандидатуры голосованием, с занесением в протокол… Протоколы здесь есть, и секретаря тоже можем назначить… Народ безмолвствовал. — Будут ли вопросы? — со скрытым под разбитной хамоватостью беспокойством поинтересовался Драчулос. — Э-э-э… Думаю, надо заметить товарищам, что гастрольных поездок у нас вовсе не убавится; планы сверстаны уже на несколько лет вперед, — счел нужным добавить Залупилов. — Кроме того, мы сочли целесообразным ввести принцип ротации, так сказать: если, скажем, в одну поездку поехал баритон А., то в следующую уже обязательно поедет баритон Б, и так далее… — после этих слов в помещении прокатился одобрительный гул. — Поездки по собственным контрактам тоже никакой проблемой не будут! — громко объявил Драчулос. — И вам не надо будет сдавать в театр никаких процентов, кроме жестко фиксированной платы за услуги международного отдела театра: факсы, визы и все такое… И больше ничего!.. — Без оглядки на министерство культуры, по нашей собственной инициативе, мы решили ввести надбавки за выслугу лет, вне зависимости от разряда тарифной сетки! — уже окрепшим голосом продолжил Залупилов. — Также получено устное согласие городского головы на выделение солистам оперы восьмидесяти дачных участков в разрабатываемом сейчас престижном местечке Кривые Опята… — Да че там — Стакакки же наш, оперный солист! — вдруг громко заорал Сева Трахеев, выпуская в воздух почти осязаемые потоки перегара. — Если голосовать, то я за Драчулоса! Кто, как не он, знает наши дела и, это… — Трахеев икнул — проблемы?! — Как вы понимаете, «Почетный главный дирижер», которым будет формально числиться у нас Бесноватый, нечто вроде свадебного генерала. И мы твердо решили: никаких главных дирижеров больше в театре быть не должно: оперы текущего репертуара и гастрольные поездки будут делиться поровну между всеми дирижерами труппы! — Что мнемся, ребята?! — воскликнул дирижер Полуяичкин. — Сменить, наконец, закосневшее руководство театра — требование времени! — Нельзя со старой организацией работы открывать новые горизонты!.. Стакакки — вот человек, знающий театр изнутри и видящий на годы вперед! — срывающимся голоском крикнул дирижер Корягин. — На средства от записи «Лакме» сейчас приобретаются два микроавтобуса «Мицубиси», — вновь заговорил Залупилов. — До и после спектакля от двери до двери будет отвезен каждый солист… — Кстати, мужики! — будто вспомнив, загорланил Драчулос. — Я этих козлов из Комитета по культуре раскрутил: у нас теперь три раза в сезон охота в заказнике Дремучий, на базе «Три ольхи» — там раньше только комуняги, только эта шваль обкомовская пастись могла; им вальдшнепов егеря отстреливали! Теперь сами популять и порыбачить можем: для оперы — без лицензии; я устроил!.. — Да что мы все молчим, в самом деле: будто Стакакки не знаем; будто не свой он нам?! — горячо заговорил баритон-спортсмен Селезень. — Голосуем за него, и дело с концом! В общем, скоро на репетиционной сцене возник бодрый гул голосов: стали избирать счетную комиссию, секретаря и ответственных лиц. Стакакки хохотал, изредка скашивая взор на часы; Залупилов взглянул на нескольких крепких молодых людей, стоявших возле дверей, и послал им успокоительный жест рукой. Однако блестящее воплощение безупречного плана музыкантов-революционеров внезапно нарушило одно странное происшествие. Воздух перед импровизированным, из разношерстных декораций составленным столом счетной комиссии вдруг заколыхался, замерцал, заходил ходуном и поначалу принял причудливые очертания наподобие облака — а затем, спустя какое-то мгновение, из облака этого шагнула величественная фигура очень высокого человека, облаченного в старомодный черный сюртук и цилиндр. Невзирая на абсолютно седые волосы, выглядывавшие из-под цилиндра, определить возраст незнакомца было нелегко. — Господа! — негромким, но звучным голосом обратился он к враз притихшему собранию. — Насколько я понимаю, ставя свои подписи под этими бумагами, вы сейчас избираете директора и художественного руководителя оперной антрепризы города N-ска. Позвольте же мне вас спросить: как вы решаетесь на это, не ознакомившись с собственно художественной программой этих людей, с их творческими планами? Они обещали вам некоторые экономические блага, но никто из вас не поинтересовался: откуда возьмутся деньги? И разве только лишь из-за денег да приватных огородов вступили вы на стезю артиста оперы; о деньгах ли — или о королевской охоте — мечтали вы в полуголодное студенческое свое бытье? Нет! Вы мечтали о профессиональных успехах, о славе и признании. И не деньгами грезили вы, засыпая с урчащим от голода желудком, но ведущими партиями в любимых операх! Что же приключилось с вами теперь? Неужели вы всерьез можете ссылаться на «нелегкое время» — ведь даже семьдесят лет назад, и солисты Императорских театров, и певцы из частных антреприз вели куда как более тяжкий образ жизни, скитаясь по российским просторам в нетопленых поездах и на собственный счет покупая костюмы!.. Первым от шока опомнился Драчулос. — Эй, ты кто вообще такой?! — недовольно спросил он странного незнакомца. — Я — Призрак оперы! — с глубоким достоинством ответил тот. — Ха! Видали его: призрак! — неприязненно хохотнул Драчулос. — Если призрак, то и вали к себе на кладбище, или еще там куда… А у нас здесь нехера тебе делать, морда жидовская! Последние слова Драчулоса в точности произвели ожидаемый им эффект, а именно: крепкие парни в кожанках, все это время скучавшие у дверей, быстро приблизились к Призраку. Славянские лица их, не оскверненные ни малейшим намеком на интеллект, ничего хорошего не предвещали. — В том-то и беда, что сегодня я уйду!.. — грустно усмехнулся Призрак. — …А вам-то и уходить некуда… — последние слова незнакомца прозвучали уже не совсем ясно: воздух вновь заколыхался каким-то маревом, и видение исчезло так же внезапно, как и появилось.
И опять Стакакки оказался на высоте: спустя какое-то время он первым нарушил молчание: — Ну, что скажете — как установочка? Любое привидение, на заказ! Специально для «Пиковой» придумали; сцена в казарме со старухой, а!? Я хочу новую постановку сделать; Михалков и Соловьев мне ассистировать обещали!.. — …Вот это да!.. Видал, блин, примочку?! …Это ж такие штуки теперь на сцене откалывать можно!.. — зашуршали тут и там, расправляясь от смятения, голоса солистов. — …А сама мандула, машинка для эффектов, не больше портфеля!.. — горланил Драчулос, сам еще до конца не опомнившись. — …Мужики из оборонки сделали, я с нашим N-ским ракетным «почтовым ящиком» договорился!.. Нам еще и не такого теперь для театра понаделают; они теперь наши шефы будут — а мы для них только один спектакль в сезоне отдать должны!.. — Молодец, Стакакки!.. Что значит — сам актер!.. — слышались возгласы; голосование бойко пошло своим чередом. — Что это за фигня была? — придвинувшись, вполголоса спросил Залупилов. — Да я почем знаю?! Херня какая-то! — негромко ответил Стакакки. — Пошли; пора ковать железо. — Товарищи, нам надо идти сейчас; увидимся завтра. Сегодня оркестровую и сценическую я отменяю — вы и так славно поработали!.. Лапоть, ты закончил с протоколами? Давай их сюда!
* * *
Нервно посмеиваясь, Драчулос и Залупилов быстро шли по коридору под сценой. Был поздний вечер; под предлогом большой технической репетиции для телевидения и пробы сценических механизмов хор и оркестр были отпущены домой; однако силовой кабель, питавший электричеством все театральные системы, как назло, оказался сегодня почему-то перебит — и работники технических служб тоже разбрелись по домам. «Нет, ему теперь трудновато дернуться будет!», «У самого рыло в пуху; а у нас — сила!» — всячески подбадривая друг друга, стареющий тенор и бывший тромбонист вышли к огромным воротам с тыльной части театра, служившим для загрузки декораций. «Давай!.. Здесь вот, нажми-ка!..» — кряхтя и отдуваясь, они сняли запорную перекладину с ворот; одна из створок с протяжным скрипом отворилась. Выглянув наружу, Стакакки замахал кому-то рукой, и стоявший неподалеку автобус тоже, в свою очередь, открыл двери. Человек двадцать-тридцать здоровых молодых ребят в черных куртках и с повязками на рукавах, вооруженных мощными дубинками, проследовали к воротам театра. — Русский театр надо вернуть русским! Долой позор нации с подмостков!.. Ни одна жидовская морда, ни одна чурка черномазая не должны уйти невредимыми! — заявил Драчулос бригадиру; Стакакки едва доставал своей начавшей исподтишка лысеть макушкой тому до плеча. Здоровяк, ухмыльнувшись, успокаивающим жестом положил на плечо тенора тяжеленную ладонь. — А где остальные? — лихорадочно спросил Залупилов. — Все в порядке; стоят с фронту, ждут сигналов… — ответил бригадир и забубнил что-то в портативную рацию. — А с этими, охранниками в длинных пальто, что там? — поинтересовался Драчулос. Громила в черном деланно изобразил удивление: — Какими такими, в длинных пальто? В морге со всех польта снимают!.. — и несколько боевиков, стоявших поблизости, подхватили жеребиный хохот старшего. — Давай, еще человек пять — и пошли с нами! — распорядился Стакакки, и после недолгой возни импровизированная боевая единица, возглавленная Драчулосом и Залупиловым, направилась в сторону административного крыла театра.* * *
…Да, друзья: все ближе развязка, и все ускоряется время — незыблемый закон любого финала. И если, в безнадежной попытке оттянуть конец, мы просто попробуем вспомнить — отталкиваясь, как говорится, от противного: был ли Абдулла вовсе бездарен? — то нам придется признать: конечно же, нет. И определенное вокальное мастерство, вкупе с ярким актерским талантом, также были свойственны и тенору Стакакки Драчулосу; и даже Позор Залупилов в лучшие годы свои был способен выпискнуть на тромбоне такую высокую ноту, что трубачи не из последних принимали вдруг от зависти бурый оттенок. Но, будто компас под воздействием топора, подложенного под него коварным поваром — как порой причудливо смещаются ориентиры в головах человеческих! и имеющий весьма значительную власть стремится к власти абсолютной, а человек далеко не безбедный неукротим в своем желании урвать от жизни еще и еще!.. И только лишь наивный оперный Мефистофель до сих пор полагает, что Сатана там правит бал — увы, это далеко не так; и падший ангел еще многому и многому смог бы научиться от удивительной, странной популяции, имя которой — советский человек. Советский человек в условиях дикорастущей демократии: не есть ли это новый Франкенштайн? Вопрос, впрочем, достаточно праздный — и я чувствую, как нетерпеливый читатель уже застучал пальцами по столу. Что же; будем играть по правилам и вернемся к нашим героям.Сделали мы это как нельзя более вовремя: Стакакки и Залупилов, прихватив с собой двух бойцов национальной партии «Великая Русь» (и оставив других на всякий случай непосредственно за дверью), как раз вошли в кабинет главного дирижера N-ского Государственного театра оперы и балета имени Дзержинского. Бесноватый, отдыхая после бурного дня, сидел в своем кресле, мирно попивая коньячок с режиссером Забитовым и обсуждая перспективу постановки «Русалки» Даргомыжского. Улыбка, засиявшая поначалу на лице Абдуллы Урюковича при виде Драчулоса, стала быстро угасать, как только дирижер повнимательнее присмотрелся к выражению лица тенора — и мгновенно сошла на нет при виде двух верзил в черном, на манер Сциллы и Харибды остановившихся у двери. — Подпиши это; затем — ключ от сейфа и вали отсюда! — мрачно, не глядя другу в глаза, сказал Драчулос, положив перед Абдуллой на стол лист бумаги. — Что?!. Что это значит?!. — заикаясь от неожиданности, спросил Абдулла. — То и значит! — хрипло буркнул Залупилов. — Вы больше не художественный руководитель и должны немедленно сдать все дела, а после этого тотчас же покинуть театр… — То… то есть как это?.. Позор, Стакакки, как это вы могли… — Мы тебе жизнь и пост главного дирижера оставляем, паскуда! — вдруг визгливо заорал Драчулос; увидев на столе связку ключей, он попутно тут же сгреб ее себе в карман. — Думаешь, никто не догадывается, сколько ты наворовал уже?! Не хочешь делиться — пошел к чертовой матери; другим пожить да приподняться дай! Не хочешь добром — все потеряешь, козел черномазый!!! Ты всерьез что ли думаешь, что каждой чурке оперы о себе ставить дозволено?! — Так это просто бунт!.. — вдруг крикнул Арык Забитов, все это время сидевший молча, как вкопанный. (Кресло его располагалось спиной к двери, и посему легкой кавалерии мятежников он не видел). — …Да ты как смеешь в таком тоне разговаривать с маэстро, шакал?! Или ты не понимаешь, что… — Взять мартышку нерусскую! — гаркнул Залупилов; боевики радостно устремились к Забитову. Лихорадочно обернувшись, Забитов как раз успел увидеть стремительно приближавшийся к его лицу кулак, но увернуться от него уже не успел. Ощутив мощный, резкий удар и разом увидев несколько ярчайших звезд первой величины, Забитов раненой птицей рухнул под стол. — Хватай чурку!.. Научи-ка узкорылого жизни!.. — как будто сквозь туман доносилось до его слуха. Каким-то шестым чувством (которое в данный момент, потеснив все остальные, вылезло на первый план), Арык Забитов почувствовал близость смерти. Возможно, если бы у него в запасе было немного больше времени, он бы даже процитировал Германа: «О, страшный призрак, смерть! Я не хочу тебя!..» Но на подобные отвлечения времени у режиссера не было — и потому, встав на четвереньки, он обходным маневром со скоростью голодного таракана пронесся под обоими столами в сторону выходной двери — и, поднявшись на ноги, рванулся к спасению. — Ребя, держи гада!!. — раздался вопль за его спиной. Выскочив за дверь, Забитов со всего маху налетел на кованый сапог, кем-то заботливо подставленный — и кубарем покатился с лестницы. Услышав дробный топот множества ног, он вновь встал, и опрометью, почти не разбирая дороги, рванул куда-то по узким театральным коридорам. В этот момент Абдулла Урюкович, воспользовавшись всеобщим смятением, бочком подобрался к двери, что вела в гостевую ложу — и, выскользнув в неосвещенную зрительскую часть театра, припустил бегом, что только было духу.
* * *
В черной «Волге» с еле слышно урчавшим мотором, припаркованной в тенистом уголке Театральной площади, приемник был настроен на волну «Классика». «Не счесть алмазов в каменных пещерах…» — доносился из динамика томный голос тенора Матевосяна. Майор уголовного розыска Илюшин, задавив в пепельнице очередную сигарету, с сожалением прикрутил приемник и взял микрофон спецсвязи. «Седьмой… Седьмой… Я — Ленский!.. Как слышите? Прием!» — включился он на передачу. «Ленский, вас слышу! Доложите обстановку! Прием», — несмотря на помехи, оперативник узнал голос генерала Аксенова. — Седьмой, пока все идет по плану… Только одна неувязочка: у двух подходов к объекту были обнаружены вооруженные боевики запрещенной националистической группировки «Великая Русь» в количестве тридцати двух человек. Что?.. Так точно; в настоящий момент все разоружены, нейтрализованы и находятся на базе отряда специального назначения «Гамма»… Есть!.. Так точно!.. Немедленно информировать; понял. До связи!.. — и отключившись, Илюшин прибавил громкость радиоприемника. Спустя какое-то время его внимание привлекла высокая фигура довольно странно одетого человека с цилиндром на голове, который неторопливо — вроде как прогуливаясь — пересекал Театральную площадь. Посреди площади человек вдруг встал, и, обернувшись и сняв цилиндр, задумчиво воззрился на театр. «Интересно, а это что еще за птица? — подумал Илюшин. — Подойти, проверить?» Заглушив мотор, он неловко выронил ключи под ноги — но когда майор выпрямился, площадь уже была совершенно пуста; лишь здоровый рыжий кот трусил через площадь прочь от театра, не оглядываясь. «Черт; в самом деле, пора уже хоть немножко отдохнуть! — подумал Илюшин. — Хоть с Трофименко из РУВД на охоту съездить, что ли…»
* * *
Абдулла Урюкович долго шарил впотьмах по каким-то переходам и лестницам, попадая то в бенуар, то во второй ярус; по иронии судьбы, дирижеру так и не привелось освоиться в зрительской части вверенного ему театра. В темном здании было неспокойно: то и дело прокатывавшийся низкий гул заставлял старинную постройку буквально ходить ходуном. «Землетрясение? — мельком подумал Бесноватый, — или просто нервы шалят?..» Наконец, пробежав еще какую-то лестницу, дирижер очутился в фойе. Чутье подсказывало ему, что возвращаться в закулисные приделы театра явно не стоило: откинув латунную щеколду с одной из дверей главного входа, Абдулла осторожно приотворил ее — и оглядевшись по сторонам, крадучись побежал вокруг здания в сторону служебного входа. Его синий «Вольво», как ни в чем не бывало, стоял на обычном месте; увидев через стекло силуэт шофера, дирижер вздохнул с облегчением. Подбежав к машине, Абдулла, рванув дверцу, плюхнулся на переднее сиденье и… замер от ужаса: верный его водитель Омар Юсуф смотрел на Бесноватого недвижным взором широко раскрытых, остекленевших глаз; по светлой его рубашке расплылось огромное черное пятно, а из груди торчала рукоять солдатского ножа. Раньше, чем он успел что-либо сообразить, Абдулла уже стремглав рванулся к выворачивавшему с улицы Мазохистов такси и отчаянно замахал руками. «В аэропорт… Пожалуйста… Опаздываю…» — срывающимся голосом забормотал дирижер. «Не могу, старик: движок „троит“ — что-то с зажиганием; надо в парк ехать…» — приветливо, как бы предлагая не всем известную игру, сообщил шофер, не торопясь уезжать и испытующе поглядывая на музыканта. Судорожно пошарив по карманам, Абдулла нашел пачку денег; наощупь отделив одну бумажку, он протянул ее водителю — это оказалась стодолларовая купюра. «Падай в тачку, братан; чего на улице мерзнешь?!» — гаркнул таксист и не дожидаясь, пока за Бесноватым захлопнется дверца, машина, взвизгнув колесами по асфальту, резко рванула с места.* * *
Старший лейтенант Климов, боец отряда специального назначения «Гамма», снова растворил дверцы гардеробных шкафчиков, и глазам его представилось множество прозрачных пластиковых мешочков, наполненных белым порошком. «Ну вот, и нашему брату — нет-нет, да и упадет звезда-другая на погон!..» — подумал он весело. Группа захвата, чуть поплутав по театральным подземельям, добралась до цели почти без труда; а пьяные и обкуренные какой-то гадостью горе-контрабандисты были настолько ошарашены, что сопротивления почти не оказали — что, впрочем, не помешало бойцам как следует их отметелить — просто, как говорится, для профилактики. Правда, воспоминание о неожиданной схватке с национал-боевиками, почему-то сгрудившимися у театра — о чем никто «Гамму» не предупреждал, немного портило настроение: спина от удара дубиной какого-то верзилы ныла препротивно. «Сволочи!» — подумал он. Вдруг Климов насторожился: помимо странного гула, от которого уже довольно давно вибрировал весь театр, ему слабо послышались какие-то посторонние звуки. Звуки приближались; теперь стало ясно, что кто-то шел по коридору в его сторону. Боец напрягся и положил руку на рукоять пистолета. Долго ждать ему не пришлось: Арык Забитов, напрочь заблудившийся в театральных лабиринтах в отчаянном стремлении оторваться от погони, появился в раздевалке рабочих оркестра. «Не двигаться! Руки за голову!» — крикнул старший лейтенант Климов. Неожиданный окрик застал Забитова врасплох — и здесь-то он и совершил свою роковую ошибку. Увидев одним глазом (второй, заплывший от кровоподтека, не видел ничего) молодца могучего телосложения в спецобмундировании и черной маске на лице, режиссер ясно почувствовал, что силы его на исходе, и новой погони он уже выдержать не сможет. Хотелось жить. И потому, подняв согнутую в локте правую руку со сжатым кулаком, Забитов истерически, изо всех сил закричал: «Бей жидов! Спасай Россию!» Затем лицо Забитова вдруг приняло испуганно-недоуменное выражение — а тело, нелепо загребая ногами, плавно опустилось на землю, отброшенное к стене двумя пулями, выпущенными из пистолета системы Стечкина.* * *
— Нет, ты посмотри, какая сволочь!.. — воскликнул Стакакки, вчитавшись в очередную бумагу, извлеченную из бесноватовского сейфа. — За поездку в Шотландию на гонорары солистам приглашающей стороной было выделено сто тринадцать тысяч долларов!!! Позорушка! Ты понимаешь, сколько денег загребла эта свинья?! — Да, нам надо будет наверстывать и наверстывать… Но теперь-то труднее будет: чурка ведь все сливки сняла!.. — Я просто офигеваю… — Стакакки, бросив бумаги на стол, подошел к бару. — Давай-ка, Позя, выпьем: сегодня мы сделали великое дело; мы молодцы с тобой… — Стаканчик, это мне просто кажется — или… Ты ничего не чувствуешь?.. — Ты чего? — Да будто трясет как-то театр, как если бы землетрясение какое-то… И гул все время какой-то… А?.. — Так это наши ребята Абдуллу по театру гоняют!.. Ха-ха-ха! — расхохотался Драчулос. Он протянул Залупилову стакан, налитый почти до краев. — Рвани-ка, старик: все землетрясение как рукой снимет!.. — Слушай, а если они его… того? Если замочат Абдуллу — не повесят на нас мокруху? — Позик, мы ж не дети: уже два дня заява в Речном РУВД лежит: терроризировала-де нас «Великая Русь»; деньги вымогали, здоровью близких угрожали… Я ведь наполовину грек, на четверть — грузин… А ты? — А я молдаванин… На все сто! — неуверенно откликнулся Залупилов. — Ну вот! Чего же нам бояться?.. Революционеры подняли стаканы; оглядевшись в кабинете уже как бы на правах хозяина, Залупилов просто по старой привычке вдруг выпалил: «Аллах акбар!» — и осекся, испуганно глядя на Драчулоса. — «Бесмелла рахман рахим!..» — откликнулся тенор, как ни в чем не бывало, и истово прильнул к своему стакану.* * *
Приехав в N-ский международный аэропорт «Большие Полянки», Абдулла Урюкович подошел к кассе. У него в паспорте стояли австрийская, уругвайская, гвинейская, французская и финская визы. — Когда ближайший самолет? — спросил он в кассе. — Что?.. Все равно, куда… Ближайший рейс был на Франкфурт, и отправлялся он через два часа. Пройдя таможенный контроль — вещей у Абдуллы с собой, как вы помните, не было — он принялся нервно расхаживать по залу ожидания. — Наши граждане на Франкфурт есть? — интересовался тем временем таможенный офицер у служащей на регистрации. — Поступил циркуляр Федеральной службы безопасности; четыре фамилии: Бесноватый; Огурцов… Что?! Это точно?.. Немедленно проверьте! Времени до посадки еще достаточно… …Прильнув лбом к холодному стеклу, Абдулла тупо смотрел в темноту. Какой-то маленький частный самолетик, сверкая огнями, лихо подрулил почти к самому зданию аэропорта. Что-то в облике самолета задержало внимание Бесноватого; приглядевшись, он понял, что именно — и волна горячего восторга обдала его с головы до ног: на борту летательного аппарата красовалась эмблема Шайзебергского фестиваля! Дверца самолета открылась, и на ступеньках появился Бустос Ганс. Оглянувшись по сторонам и затаив дыхание, Бесноватый подошел к двери с надписью: «Выход без сопровождения запрещен!» — и опрометью бросился к самолету. — Бустос, родной мой!.. Неужели это ты?! Тут такое случилось… — Я знаю, милый… Я уже все знаю! Ты без багажа? Скорее; забирайся скорее — нельзя нам медлить… И личный самолет Бустоса Ганса, так и не заглушив моторов, бойко покатил ко взлетной полосе.* * *
…Майор Илюшин сидел в своей видавшей виды «Волге», не трогая ее с места. Операция была закончена, но он все покуривал, слушал радио, да задумчиво смотрел на театр. По радио как раз началась спортивная сводка, — когда, чем-то необычайно встревожившись, Илюшин вышел из машины. На Театральной площади, постепенно нарастая, явственно слышался какой-то гул, похожий на подземные взрывы или отдаленную артиллерийскую стрельбу. Вдруг, как раскат грома, окрестности потряс страшный грохот — и криво расчертив фасад, как будто перечеркнув его крест-накрест, на здании театра образовались две огромные трещины. Одна из колонн, украшавших театр, медленно-медленно отделившись верхушкой от аттика, повалилась вниз; упав на крышу автобуса — передвижной телестудии фирмы «Пи-Си-Пи» и приплющив его к асфальту, колонна грузно раскололась надвое. Другая колонна, недолетев до земли, рассыпалась в воздухе огромной кучей камня и штукатурки, похоронив под собой «Мерседес» администратора Есаулова (выпив сегодня больше, чем обычно, он отправился домой на такси). Илюшин потер глаза. Оконные стекла оглушительным градом посыпались на мостовую. Вновь раздавшийся удар грома ознаменовал собой следующее: правая стена, покачнувшись, целиком полетела вниз — а левая часть театра вдруг, на глазах обращаясь в труху, ссыпалась внутрь — туда, куда только что с треском обрушился купол здания. Какое-то время купол еще был виден, но фасад, лопнувший на множество частей, тут же разбил, сплющил его и погреб под грудами битого камня. Скрежетало кровельное железо, гулко взрывались софиты, звонко лопались тросы; балки и трубы, выворачиваемые с веками насиженных мест, отчаянно визжали… Где-то бахнуло; посыпались голубые искры — и вот уже тут и там по развалинам заскакали веселые язычки пламени, с каждым мгновением становясь все больше… Раскаты грома не утихали; вот левое крыло здания, до сих пор почти неповрежденное, вдруг развалилось, как карточный домик — и из какой-то лопнувшей магистрали высоко в небо забил мощный фонтан воды и пара. Среди всего этого светопреставления одна из колонн все еще продолжала стоять, указывая ввысь беспомощным перстом; но вот и она пошатнувшись, повалилась вправо — и административная часть здания, расколовшись надвое, вдруг начала быстро проседать в разверзающийся под ней асфальт. Разбуженные шумом и грохотом, жители близлежащих домов стали высовываться из окон и выходить на улицу, но здание театра (а вернее то, что от него оставалось) полностью скрылось в плотнейшем облаке цементной пыли, дыма, трухи и пара. Поэтому никому не было видно, как откуда-то прямо из развалин, словно из преисподней, выскочил человек. Густой слой грязной пыли и мусора покрывал его с ног до головы; полы длинного плаща обгорели. Под мышкой левой руки неизвестный влачил кое-как свернутый в рулон старинный гобелен из кабинета главного дирижера; правая же его рука была занята огромным портретом Чайковского в бронзовой раме. Часто-часто матерясь и шмыгая носом, Стакакки Драчулос (а это был именно он), поудобнее закинув гобелен себе на спину, быстро доковылял до улицы Мазохистов и, не оглядываясь, скрылся за углом никем не замеченный.…Когда же дым и пыль, наконец, рассеялись, то вместо N-ской оперы имени Дзержинского взорам горожан предстала огромная куча строительного мусора — и, в перспективе, ранее зданием театра наглухо закрытой — купола окруженного тополями Преображенского Собора и спуск к реке. Внизу, у реки, просветлевшее небо уже принимало нежный золотисто-розовый оттенок: приближалось время рассвета.
1994 — 1995 Лондон — Цюрих
КОНЕЦ?

Последние комментарии
46 минут 38 секунд назад
48 минут 38 секунд назад
57 минут 44 секунд назад
1 час 16 минут назад
1 час 57 минут назад
10 часов 26 минут назад