АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ФИРДОУСИ
ШАХНАМЕ
ТОМ ПЕРВЫЙ
ОТ НАЧАЛА ПОЭМЫ ДО СКАЗАНИЯ О СОХРАБЕ
Издание подготовили Ц. Б. Бану, А.Лахути, А А. Стариков
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва
1957
Редакционная коллегия серии «Литературные памятники»:
академик В. П. Волгин (председатель), академик В. В. Виноградов, академик М. Н. Тихомиров, член-корреспондент АН СССР Д. Д. Влагой, член-корреспондент АН СССР Н. И. Конрад (заместитель председателя), член-корреспондент АН СССР Д. С. Лихачев, член-корреспондент АН СССР С. Д. Сказкин, профессор И. И. Анисимов, профессор С. Л. Утченко, кандидат исторических наук Д. В. Ознобишин (ученый секретарь)
Ответственный редактор член-корреспондент АН СССР Е. Э. ВЕРТЕЛЬС
Редактор перевода Л. ЛАХУТИ
От редакции
Поэма Фирдоуси «Шахнаме» — героическая эпопея иранских народов, классическое произведение и национальная гордость литератур: персидской — современного Ирана и таджикской — советского Таджикистана, а также значительной части ираноязычных народов современного Афганистана. Глубоко национальная по содержанию и форме, поэма Фирдоуси была символом единства иранских народов в тяжелые века феодальной раздробленности и иноземного гнета, знаменем борьбы за независимость, за национальные язык и культуру, за освобождение народов от тирании. Гуманизм и народность поэмы Фирдоуси, своеобразно сочетающиеся с естественными для памятников раннего средневековья феодально-аристократическими тенденциями, ее высокие художественные достоинства сделали ее одним из наиболее значительных и широко известных классических произведений мировой литературы. «Шахнаме» в переводах на многие языки мира стала достоянием широких кругов читателей. В России с поэмой Фирдоуси впервые познакомились по вольной обработке В. А. Жуковским эпизода «Рустем и Зораб». На рубеже XIX и XX вв. появились переводы фрагментов «Шахнаме». Значительное число стихотворных антологий было издано в советское время, в 1934—1936 гг., в связи с празднованием тысячелетия со дня рождения Фирдоуси. Несколько эпизодов в стихотворной обработке опубликовано в самые последние годы. Однако полного перевода поэмы на русский язык до сих пор не было. Настоящее издание заполняет этот пробел и дает перевод всей поэмы, сделанный непосредственно с подлинника и сочетающий, насколько возможно, научную точность с художественностью. Первый том содержит: стихотворный перевод «Шахнаме» от начала поэмы до сказания о Ростеме и Сохрабе, сделанный Ц. Б. Бану под редакцией А. Лахути; историко-литературный очерк «Фирдоуси и его поэма „Шахнаме"», написанный А. А. Стариковым; очерк знакомит с основными проблемами изучения жизни и творчества поэта, с содержанием и литературной историей «Шахнаме»; комментарий к стихам перевода, составленный А. А. Стариковым; библиографию основных работ о «Шахнаме», краткое послесловие переводчика, а также именной, географический и предметный указатели. Издание рассчитано на 5—6 томов.[ВСТУПЛЕНИЕ][1]
Во имя создавшего душу и ум[2],
Над кем не подняться парению дум,
Кто место всему и названье дает[3],
Дарует нам блага, ведет нас вперед.
Он правит вселенной, над небом царит,
Он солнце зажег, и Луну, и Нахид[4],
Он выше примет, представлений, имен;
Им в зримые образы мир воплощен.
Ты зрения не утруждай: все равно
10 Глазами узреть нам Творца не дано[5],
К нему даже мысль не отыщет пути;
Превыше всех в мире имен его чти.
Того, Кто над всем вознесен естеством,
Обнять невозможно душой и умом.
Хоть разум порою в суждениях зрел,
Он в силах судить лишь о том, что узрел
Достойной Творца нам хвалы не сложить,
Ему неустанно должны мы служить.
Он дал бытие и душе и уму —
В твореньи своем не вместиться Ему.
20 Не в силах наш разум и дух до конца
Постичь и восславить величье Творца.
В Его бытии убежденным пребудь,
Сомненья и праздные мысли забудь.
Служа Ему, истину должно искать,
В его повеленья душой проникать.
Тот мощи достигнет, кто знанья достиг;
От знанья душой молодеет старик.
Тут слову предел, выше нет ничего;
30 Уму недоступно Творца существо.
[СЛОВО О РАЗУМЕ]
О мудрый, не должно ль в начале пути[6]
Достоинства разума превознести.
[О разуме мысли поведай свои,
Раздумий плоды от людей не таи[7].]
Дар высший из всех, что послал нам Изед[8],—
Наш разум, — достоин быть первым воспет.
Спасение в нем, утешение в нем
В земной нашей жизни, и в мире ином[9].
Лишь в разуме счастье, беда без него,
40 Лишь разум — богатство, нужда без него.
Доколе рассудок во мраке, вовек
Отрады душе не найдет человек.
Так учит мыслитель, что знаньем богат,
Чье слово для жаждущих истины — клад:
Коль разум вожатым не станет тебе,
Дела твои сердце изранят тебе;
Разумный тебя одержимым сочтет,
Родной, как чужого, тебя отметет.
В обоих мирах возвышает он нас;
50 В оковах несчастный, чей разум угас.
Не разум ли око души? Не найти
С незрячей душою благого пути.
Он — первый средь вечных созданий Творца[10],
Он стражей тройной охраняет сердца.
Слух, зренье и речь — трое стражей твоих:
И благо и зло познаешь через них.
Снимок с так называемого Хамаданского барельефа, найденного при раскопках близ Хамадана. Над высеченным изображением Фирдоуси с птицей Симоргом (?) стоит дата — годы Хиджры 955 и 833—, а также приведены стихи из Введения к «Шахнаме»
Как правили гордо они в старину Землею, что ныне у горя в плену, И как доживали со славой они Свои богатырские ратные дни. (стихи 277—280)
Кто разум и душу дерзнул бы воспеть?
Дерзнувшего кто бы услышал, ответь?
Коль внемлющих нет — бесполезны слова.
60 Ты мысль обрати к первым дням естества.
Венец мирозданья, ты создан Творцом,
Ты образ и суть различаешь во всем.
Пусть разум водителем будет тебе,
От зла избавителем будет тебе.
Ты истину в мудрых реченьях найди,
О ней повествуя, весь мир обойди.
Науку все глубже постигнуть стремись,
Познания вечною жаждой томись.
Лишь первых познаний блеснет тебе свет,
70 Узнаешь: предела для знания нет.
[О СОТВОРЕНИИ МИРА]
Сначала, чтоб все ты чредой изучал,
Послушай рассказ о начале начал.
Явил сокровенную силу свою
Создатель: Он быть повелел бытию;
Не зная труда, сотворил естество;
Возникли стихии по воле Его.
Четыре их: пламя, что светит всегда[11].
И воздух, под ними — земля и вода.
Вначале движенье огонь родило,
80 И сушу затем породило тепло;
Наставшим покоем был холод рожден,
И холодом — влага, таков уж закон.
Они, назначенье свершая свое,
Творили на юной земле бытие;
Из пламени с воздухом, суши с водой
Рождаясь, явленья текли чередой.
Возник над землею вертящийся свод,
Являющий диво за дивом с высот.
Он правдой и милостью мир озарил
90 По воле Дарителя знанья и сил.
Все в стройность пришло над простором земли,
И семь над двенадцатью власть обрели[12].
Воздвиглись одно над другим небеса[13],
И круговорот мировой начался.
Возникли моря, и холмы, и поля;
Сияющим светочем стала земля.
Рождение гор, бушевание вод. . .
И вот уж былинка из почвы встает.
Возвыситься время настало земле, —
100 Дотоле она утопала во мгле.
Луч яркий звезды в вышине заблестел,
И светом земной озарился предел.
Вознесся огонь, — воды вниз потекли,
И начало солнце свой бег вкруг земли[14].
Деревья и травы везде разрослись, —
Они зеленеют и тянутся ввысь.
Одно прозябание им суждено,
А двигаться им по земле не дано.
Но вот и ступающий зверь сотворен;
110 И трав, и дерев совершеннее он.
Живет он для пищи, покоя и сна;
Отрада иная ему не дана.
Трава и колючки — вот вся его снедь;
Он мыслью и речью не создан владеть;
Не знает, что к злу, что ко благу ведет;
Творец от него поклоненья не ждет.
Создатель всеведущ, могуч и правдив;
Творил он, всю силу искусства явив.
Таков этот мир, но никто не постиг
120 Всего, что таит его видимый лик.
[О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА]
В цепи человек стал последним звеном,
И лучшее все воплощается в нем.
Как тополь, вознесся он гордой главой,
Умом одаренный и речью благой.
Вместилище духа и разума он,
И мир бессловесных ему подчинен.
Ты разумом вникни поглубже, пойми,
Что значит для нас называться людьми.
Ужель человек столь ничтожен и мал,
130 Что высших ты в нем не приметил начал?
Земное с небесным в тебе сплетено;
Два мира связать не тебе ли дано?
Последний по счету, зато по судьбе
Ты — первый в твореньи, знай цену себе.
Слыхал я про это другие слова[15]. . .
Но кто разгадает пути Божества!
О том поразмысли, что ждет впереди;
Цель выбрав благую, к ней прямо иди.
Себя приучи не страшиться труда:
140 Труд с разумом, с честью в согласьи всегда.
Чтоб зло не расставило сети тебе,
Чтоб мог ты противиться горькой судьбе,
И горя не знал в этом мире и в том,
И чистым предстал перед высшим судом,
Подумай о своде небесном, что нам
Недуг посылает и дарит бальзам.
Не старится он от теченья времен,
Трудами, печалями не изможден;
Не зная покоя, свершает свой бег
150 И тленью, как мы, не подвержен вовек;
Награду нам шлет, судит наши дела;
Не скроешь от неба ни блага ни зла.
[О СОТВОРЕНИИ СОЛНЦА]
Сверкающий яхонт царит в небесах,
Не воздух, не дым, не вода и не прах.
Там светочи яркие вечно блестят, —
Как будто в Новруз разукрасили сад[16].
Там гордо плывет животворный алмаз,
Сиянием дня озаряющий нас.
С востока, в час утра как щит золотой,
160 Он в небе всплывает, слепя красотой.
Тогда озаряется блеском земля,
Мир темный светлеет, сердца веселя.
Но к западу солнце склонилось, и вот
Ночь, полная мрака, с востока плывет.
Вовек им не встретиться в беге времен —
Таков непреложный, извечный закон.
О ты, что, как солнце, блестишь в вышине!
Скажи, отчего не сияешь ты мне?
[О СОТВОРЕНИИ МЕСЯЦА]
Дан ясный светильник полуночной мгле[17].
170 Не сбейся с пути, не погрязни во зле!
Две ночи незрим он в просторе небес,
Как будто, устав от круженья, исчез.
Затем появляется желт, изможден,
Как тот, кто страдать от любви осужден.
Но только его увидали с земли,
Он снова скрывается в темной дали.
Назавтра поярче он светит с высот
И дольше на землю сияние льет.
К концу двух недель станет диском тот серп,
180 Чтоб вновь неуклонно идти на ущерб.
Он с каждою ночью все тоньше на вид,
К лучистому солнцу все ближе скользит.
Всевышним Владыкой он так сотворен;
Вовеки веков не изменится он.
[ВОСХВАЛЕНИЕ ПРОРОКА И ЕГО СПОДВИЖНИКОВ][18]
Лишь вере и знанию дух твой спасти,
К спасенью ищи неустанно пути.
Коль хочешь покоя ты в сердце своем,
Не хочешь терзаться тоской и стыдом, —
В реченья пророка проникни душой,
Росой их живительной сердце омой.
190 Промолвил узревший Божественный свет,
В чьей власти веленье, в чьей власти запрет:
[Мир, после пророков, что Бог ему дал,]
[Достойней Бубекра мужей не видал.]
[Омар, возвестивший народам ислам,]
[Все страны украсил, подобно садам.]
[Осман, что избранником стал им вослед,]
[Был полон смирения, верой согрет.]
[Четвертый — Али был, супруг Фатимы,]
200 [О ком от пророка услышали мы:]
«Я — истины город, врата мне — Али»,—
Пророка благие уста изрекли.
Воистину воля его такова;
Мне слышатся вечно святые слова.
[Чти славное имя Али и других]
[Затем, что упрочилась вера при них.]
[Пророк — словно солнце, как звезды, — они. ]
[Чти всех: нераздельны их судьбы и дни.]
Раб верный, почту я пророка семью;
210 Тот прах, где преемник ступал, воспою.
Воистину, дела мне нет до других;
Других никогда не прославит мой стих..
Представился мудрому мир-океан,
Где, волны вздымая, ревет ураган.
Подняв паруса, по бурливым водам
Суда отплывают — их семьдесят там[19].
Меж ними просторное судно одно;
Фазаньего глаза прекрасней оно.
С родными на нем: Мухаммед и Али, —
220 Пророк и преемник, светила земли.
Мудрец, увидав сей безбрежный простор,
В котором смущенный теряется взор,
Узнал, что валы опрокинут суда,
И всех неизбежно постигнет беда.
Он молвил: «С Неби и Веси потонуть[20], —
Не это ли к небу единственный путь?
Мне руку подаст, избавляя от зол,
Хранящий венец, и хоругвь, и престол,
С ним кравчий, владеющий винным ручьем,
230 И медом, и млеком, и райским ключом. . .»
Коль хочешь в обитель блаженства войти, —
Тебе лишь с Неби и Веси по пути.
Прости, коли этих не взлюбишь ты слов,
Таков уж мой путь и обычай таков.
Рожден и умру, повторяя слова:
«Я — прах под стопою священного льва»[21].
Коль сердце твое — заблуждений очаг,
Знай, сердце такое — заклятый твой враг.
Презрен, кто великому в недруги дан;
240 Огнем да сожжет его тело Йездан!
Питающий душу враждою к Али
Злочастнее, верь, всех злочастных земли.
Ты жизнью своею, смотри, не играй,
Спасительных спутников не отвергай.
Со славными шествуя рядом, и сам
Склонишься ты к славным, великим делам.
Доколе мне это сказанье вести?
Умолкну: предела ему не найти.
[О ПРОИСХОЖДЕНИИ «ШАХНАМЕ»][22]
О чем же запеть? Все пропето давно.
Сказать мне о сказанном только дано.
Преданий неведомых я не найду,
250 Плоды все обобраны в этом саду.
Но если плоды мне сорвать нелегко —
Забраться не мыслю я столь высоко, —
Под древо заманит прохладная тень,
Укроет, спасет благодатная сень.
Быть может, я места добьюсь своего
Под ветвью тенистого древа того, —
Избегнув забвенья, не сгину в пыли,
Пребуду я в книге великих земли.
Не все одинаковы жизни пути:
260 Ты выдумкой повесть мою не сочти;
Согласна в ней с разумом каждая речь,
Хоть мысль доводилось мне в символ облечь.
Старинная книга хранилась, и в ней [23] —
Немало сказаний исчезнувших дней.
В руках у мобедов тот клад уцелел [24],
Но каждый мудрец только частью владел.
Жил рода дехканского витязь-мудрец[25]
270 Из чистых, добром озаренных, сердец.
Любил он в глубины веков проникать,
Забытые были на свет извлекать.
Мобедов из ближних и дальних сторон
Созвал и воссоздал он книгу времен[26].
Расспрашивал старцев о древних царях,
О славных воителях-богатырях, —
Как правили гордо они в старину
Землею, что ныне у горя в плену,
И как доживали со славой они
280 Свои богатырские, ратные дни.
Поведали старцы друг другу вослед
О жизни царей, о течении лет,
И витязь, прилежно внимая речам,
В заветную книгу их вписывал сам. . .
Так памятник вечный себе он воздвиг.
Чтут витязя мудрого мал и велик.
[О ПОЭТЕ ДАКИКИ][27]
Прославился труд достопамятный тот;
Внимая чтецу, собирался народ.
Был каждый в сказания эти влюблен,
290 Кто чистой душой и умом наделен.
Молва разнеслась о певце молодом
С чарующей речью и ясным умом.
«Сказанья, — он молвил, — оправлю я в стих»,
И радость в сердцах поселилась людских.
Но спутником был ему тайный порок,
И в тяжких бореньях певец изнемог.
Нагрянула смерть, навлеченная злом,
Надела на юношу черный шелом.
Пороку пожертвовав жизнью своей,
300 Не знал он беспечных и радостных дней;
Сраженный рукою раба своего,
Погиб: отвернулась судьба от него.
Лишь только воспел он в двух тысячах строк
Гоштаспа с Арджаспом — пришел ему срок[28].
Он умер и сказ не довел до конца:
Погасла звезда молодого певца.
Будь милостив, Боже, прости ему грех,
Его не лишай ты небесных утех!
[О СОЗДАНИИ ПОЭМЫ][29]
От мыслей о юном певце отрешась,
310 К престолу владыки душа унеслась[30].
Задумал той книге я дни посвятить,
Старинные были в стихи воплотить.
Совета у многих просил я не раз,
Превратностей рока невольно страшась.
Быть может, гостить уж недолго мне тут,
Придется другому оставить свой труд.
К тому же я верных достатков лишен,
А труд мой — ценителя сыщет ли он?
В ту пору повсюду пылала война[31];
320 Земля для мыслителей стала тесна.
В сомненьях таких день за днем проходил;
Заветную думу я втайне хранил.
Достойного мужа не видел нигде,
Который бы стал мне опорой в труде. . .
Что краше чем Слова пленительный лад?
Восторженно славят его стар и млад.
[Не создал бы Слова прекрасного Бог —]
[Стезю указать нам не смог бы пророк.]
Я друга имел, — были мы, что двойной
330 Орех, оболочкой укрытый одной.
«Мне, — молвил он, — смелый твой замысел мил;
Ты, друг, на благую дорогу ступил.
Вручу пехлевийскую книгу тебе[32],
За дело возьмись, не противься судьбе.
Свободная речь, юный жар у тебя,
Стиха богатырского дар у тебя.
Ты песнь о владыках искусно сложи
И тем у великих почет заслужи».
Заветную книгу принес он потом,
340 И мрачный мой дух озарился лучом.
[ВОСХВАЛЕНИЕ АБУ-МАНСУРА ИБН-МУХАММЕДА][33]
В ту пору, как труд я задумал начать,
Жил муж, кем гордилась верховная знать;
Из рода воителей князь молодой
С умом прозорливым и светлой душой.
Он был рассудителен, скромен и смел,
Дар слова и ласковый голос имел.
Промолвил он мне: «Все я сделать готов,
Чтоб дух твой направить к созданию слов.
Твои, чем смогу, облегчу я труды,
350 Покойно живи без забот и нужды!»
Как плод охраняют от стужи, берег
Меня покровитель от бед и тревог.
Из праха вознес он меня в небеса,
Тот праведный муж, властелинов краса.
Пристало величие князю тому;
Сокровища прахом казались ему;
Он бренные блага земли не ценил
И в сердце высокую верность хранил.
Но скрылся великий, покинул наш круг,
360 Как тополь, исторгнутый бурею вдруг.
Ударом злодейским сражен роковым,
Ни мертвым не найден он был, ни живым[34].
Не видеть мне царского стана и плеч,
Не слышать его сладкозвучную речь.
Угас покровитель, и сирым я ста,д,
Что ивовый лист, я в тоске трепетал.
Но вспомнил я князя разумный совет,
Он душу заблудшую вывел на свет.
Князь молвил: «Коль сможешь свой труд завершить,
370 Его венценосцу ты должен вручить».
Послушное сердце покой обрело,
Надежда в душе засияла светло.
И я приступил к этой книге из книг,
К поэме во славу владыки владык[35], —
Того, кто счастливой звездою ведом,
Престолом владеет, владеет венцом. . .
С тех пор как Создатель сей мир сотворил,
Он миру такого царя не дарил.
[ВОСХВАЛЕНИЕ СУЛТАНА МАХМУДА][36]
Лишь солнце явило сиянье лучей,
380 Мир сделался кости слоновой светлей.
Кто ж солнцем зовется, дарящим тепло?
От чьих же лучей на земле рассвело?
То царь торжествующий Абулькасим[37],
Престол утвердивший над солнцем самим.
Восход и Закат он дарит красотой[38];
Весь край будто россыпью стал золотой.
И счастье мое пробудилось от сна;
Воскресла душа, вдохновенья полна.
Я понял: певучему слову опять,
390 Как в прежние дни, суждено зазвучать.
Властителя образ лелея в мечтах,
Уснул я однажды с хвалой на устах.
Душа моя, в сумраке ночи ясна,
Покоилась тихо в объятиях сна.
Увидел мой дух, изумления полн:
Горящий светильник вознесся из волн.
Весь мир засиял в непроглядной ночи,
Что яхонт, при свете той дивной свечи.
Одет муравою атласною дол;
400 На той мураве бирюзовый престол,
И царь восседает, — что месяц лицом;
Увенчан владыка алмазным венцом.
Построены цепью бескрайной стрелки,
И сотни слонов воздымают клыки[39].
У трона советник, в ком мудрость живет[40],
Кто к вере и правде дух царский зовет.
Увидя величья того ореол,
Слонов, и несчетную рать, и престол,
Взирая на лик светозарный царя,
410 Вельмож я спросил, любопытством горя:
«То небо с луной иль венец и престол?
То звезды иль войско усеяло дол?»
Ответ был: «И Рума и Хинда он царь[41],
Всех стран от Каннуджа до Синда он царь[42].
Туран, как Иран, перед ним преклонен[43];
Всем воля его — непреложный закон.
Когда возложил он венец на чело,
От правды его на земле рассвело.
В стране, где законы Махмуда царят,
420 Свирепые волки не тронут ягнят.
От башен Кашмира до берега Чин[44]
Его прославляет любой властелин.
Младенец — едва от груди оторвут —
Уже лепетать начинает: «Махмуд».
Воспой это имя в звенящих строках!
Той песней бессмертие сыщешь в веках.
Его повеленьям ослушника нет,
Никто не преступит служенья обет».
И я пробудился, и на ноги встал,
430 И долго во мраке очей не смыкал.
Хвалу я вознес властелину тому;
Не золото — душу я отдал ему.
Подумал я: «Вещий приснился мне сон.
Деяньями шаха весь мир восхищен.
Воистину должен прославить певец
Величье, и перстень его, и венец».
Как сад по весне, оживает земля;
Пестреют луга, заленеют поля,
И облако влагу желанную льет,
440 И край, словно рай лучезарный, цветет.
В Иране от правды его — благодать,
Хвалу ему всякий стремится воздать.
В час пира — он в щедрости непревзойден,
В час битвы — он мечущий пламя дракон;
Слон — телом могучим, душой — Джебраил[45]:
Длань — вешняя туча, а сердце — что Нил.
Врага ниспровергнуть ему нипочем,
Богатства отвергнуть ему нипочем.
Его не пьянят ни венец, ни казна,
450 Его не страшат ни труды, ни война.
Мужи, что владыкою тем взращены,
И те, что подвластны, и те, что вольны,
Все любят безмерно царя своего,
Все рады покорствовать воле его.
Над разными землями власть им дана,
В преданьях прославлены их имена.
И первый из них — брат владыки меньшой[46];
Никто не сравнится с ним чистой душой.
Чти славного Насра: могуч и велик
460 Пребудешь под сенью владыки владык.
Правитель, чей трон над созвездьем Первин[47],
Кому был родителем Насиреддин,
Отвагою, разумом, благостью дел
Сердцами знатнейших мужей овладел.
Правителя Туса еще воспою[48],
Пред кем даже лев затрепещет в бою.
Щедротами свой осыпая народ,
Для доброй лишь славы он в мире живет.
Стезею Йездана ведет он людей,
470 Желая царю нескончаемых дней. . .
Властителя да не лишится земля,
Да здравствует вечно он, дух веселя,
Храня свой престол и венец золотой,
Не ведая бед, под счастливой звездой!
Теперь обращусь я к поэме своей,
К сей книге увенчанных славой царей.
КЕЮМАРС[49] [Царствование длилось тридцать лет]
О чем повествует сказитель-дехкан[50]?
Кто первый величием был осиян?
Кто голову царским украсил венцом?
480 Никто уж не помнит о времени том.
Лишь сказ уцелевший, к отцам и сынам
Дошедший от дедов, поведает нам,
Кто первый властителя званье обрел,
Над высшими выше ступенью взошел.
Мудрец, летописец седой старины,
Кем сказы про витязей сохранены,
Сказал: «Сей престол Кеюмарс нам воздвиг,
И первым он был из венчанных владык».
Вот солнце к созвездью Овна подошло,
490 Неся ликование, свет и тепло,
И так засияло, сердца веселя,
Что юной в лучах его стала земля.
Тогда Кеюмарс повелителем стал;
Высоко в горах он сперва обитал;
Там счастье обрел и державный удел,
Себя и мужей в шкуры барсов одел.
С тех пор стали люди умнеть и умнеть,
И все обновилось — одежда и снедь.
Он царствовал тридцать блистательных лет[51],
500 Прекрасен на троне, как солнечный свет;
С престола сиял двухнедельной луной[52],
Что с тополя светит порою ночной.
Животные, хищники, с разных дорог
Сбегаясь, ложились у царственных ног.
И люди склонялись пред шахом, чей трон
Звездою счастливою был озарен.
Они приближались, поклоны творя,
И всем возвещались законы царя.
Был сын у властителя, светел лицом,
510 Отвагой и мудростью сходен с отцом.
Такого земля не рождала вовек,
А звали блистательного — Сиямек[53].
Прославленный, полный достоинств юнец
Отрадою был Кеюмарсу. Отец
Все думал о сыне в тревоге, в слезах.
Жег душу ему за любимого страх.
Года за годами над миром текли;
Мужала держава владыки земли.
Врагом ему не был никто из людей,
520 Но злобу таил Ахриман-лиходей[54].
Он завистью неистребимой горел,
И замысел черный в лукавом созрел.
Был сын у него, словно волк молодой,
Свершавший набеги с голодной ордой.
Задумал дорогу он к трону искать,
Царя Кеюмарса корону искать.
А тот безмятежно страной управлял,
И злобный соперник покой потерял.
И многим поведал он умысел свой,
530 И мир уже полнился грозной молвой.
А сам Кеюмарс и не ведал о том,
Что против него замышлялось врагом.
Кеюмарс с приближенными. С рукописи Государственной публичном библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.
Явился Соруш, излучающий свет[55],
Под видом пери, в шкуру барса одет.
Царю рассказал он, не скрыв ничего,
О происках беса и сына его.
[СМЕРТЬ СИЯМЕКА ОТ РУКИ ДИВА]
Лишь речь до ушей Сиямека дошла
Про эти бесовские злые дела,
Во гневе он тотчас дружине своей
540 Клич кликнул и уши отверз для вестей;
И в барсовой шкуре, — затем, что брони
Не ведали люди в те давние дни, —
Встречает он дива, к сраженью готов.
Пошла на громаду громада бойцов.
Доспехов лишенный, властителя сын
Схватился с нечистым один на один.
Руками свирепо юнца обхватив,
Согнул его вдвое неистовый див
И наземь поверг, не давая вздохнуть,
550 И когти вонзил ему в белую грудь.
Погиб Сиямек от нечистой руки,
Вождя молодого лишились полки.
Услышав о смерти наследника, шах
В отчаянье впал, потемнело в очах.
С престола сошел он, рыдая, скорбя,
Ногтями жестоко терзая себя.
Лицо безутешного кровь залила,
И сердце в печали, и жизнь не мила.
И каждый воитель с владыкой своим
560 Потерю оплакивал, скорбью томим,
И горестный вопль над равниной повис.
Рядами к престолу бойцы собрались
В одеждах, синеющих, как бирюза[56];
Их лица темны и кровавы глаза.
Дичь разная, птица и зверь издали,
Стеная и воя, на склоны пришли;
Пришли к властелину, кручиной томясь,
И пыль у престола столбом поднялась.
В печали и трауре прожил он год,
570 Вдруг весть правосудный Творец ему шлет.
Соруш ее благословенный принес:
«Утешься, довольно стенаний и слез!
Ты рать собери, внемля воле Моей,
И скопище злое по ветру развей.
Смети ненавистного дива с земли,
И жажду отмщенья в душе утоли».
Кей руки свои к небесам воздевал[57],
Возмездье на лютых врагов призывал;
Создателя славя, повергнувшись ниц,
580 Отер он горючие слезы с ресниц.
С тех пор он не ведал покоя и сна:
В нем жаждою мщенья душа зажжена.
[ПОХОД ХУШЕНГА И КЕЮМАРСА НА ЧЕРНОГО ДИВА]
Единственный был у царевича сын;
В советники взял его дед-властелин.
Блистательный звался Хушенгом; умен
И знаний глубоких исполнен был он.
Дед видел в нем память о славном отце,
Не чаял души в несравненном юнце;
Как сына, лелеял его под крылом
590 И очи покоил на нем лишь одном.
Дух к мести склонив и к жестокой борьбе,
Однажды призвал он Хушенга к себе.
Царевича юного, полного сил,
В сокрытые замыслы он посвятил,
Промолвив: «Я войско собрать поспешу,
Повсюду воинственный клич возглашу.
Ты войско возглавь, за собой поведи:
Мой век на исходе, а твой впереди».
И юноша воинство двинул свое,
В подмогу и дивов он взял, и зверье,
600 Он шествовал, волка и львицу ведя;
Сильней и грозней не знавали вождя.
За ним поспешали и птица, и барс,
И рать замыкал властелин Кеюмарс.
Навстречу привел свои полчища бес,
Пыль черную поднял до самых небес.
От рева зверей, у царя на глазах,
Смутился проклятый, объял его страх.
Бой грянул; раздавлен был дьявольский строй
610 Напором звериным и силой людской.
Хушенг львиной хваткой хватает врага,
Мгновенно во прах повергает врага;
Сорвал с него кожу от шеи до пят;
Снес мерзкую голову острый булат.
Нечистого славный поверг, истоптал;
Конец ненавистному бесу настал.
Когда отомщен был в бою Сиямек,
К концу подошел повелителя век.
Великий из царства ушел своего:
620 Конец неизбежный постиг и его.
Он бренные блага копил и берег,
Ждал прибыли — отнял последнее рок.
Мир — марево, не обольщайся ты им.
И горе и радость исчезнут, как дым.
ХУШЕНГ [Царствование длилось сорок летJ
Властитель Хушенг, справедливый мудрец[58],
От деда в наследие принял венец.
Вращался над ним сорок лет небосвод;
Он — кладезь ума, он — источник щедрот.
Венчаясь на царство, народов глава
630 Промолвил с престола такие слова:
«Я царь-победитель, народ мой, внемли:
Я правлю семью поясами земли[59].
По воле Йездана, подателя сил,
Я к правде и милости душу склонил».
Настал на земле небывалый расцвет,
Сиянием правды наполнился свет.
Сначала, к Познанью направив труды,
Владыка железо исторг из руды;
Основой тогда процветания стал
640 Блестящий, из камня добытый металл.
Царь создал мотыгу, топор и пилу,
Начало кузнечному дал ремеслу[60].
Затем оросил он пустынный простор
Водой животворною рек и озер;
По руслу прорытому воду пустил,
Догадкой народу труды сократил.
Владыка, чтоб людям нужды избежать,
Пахать научил их, и сеять, и жать.
И каждый свой хлеб стал выращивать сам,
650 Не стал кочевать по степям и лесам.
А прежде чем к жизни привыкли такой,
Лесные плоды были пищей людской;
Довольства не знали в те давние дни,
Одеждою листья служили одни. . .
Он веровал так же, как царственный дед,
Владыку миров называя Изед[61].
Из камня извлек он огонь золотой,
Вселенную новой одев красотой.
[УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА СЭДЭ]
Шел горной тропою владыка земли,
660 Немногие с ним приближенные шли.
Вдруг видят: несется к ним издали змей,
Длины небывалой и ночи темней.
Глаза — что кровавые омуты. Тьму
На землю нагнал он: все в черном дыму.
Не дрогнул Хушенг, быстроумный герой;
Он, камень схватив, бурно ринулся в бой;
Взмахнул им во всю богатырскую мочь;
Отпрянуло чудище, кинулось прочь.
Ударился камень о крепкий гранит, —
670 Гранит раскололся и камень разбит.
И брызнул огонь из осколков камней,
Стал темный гранит багряницы красней.
Дракона могучий Хушенг не настиг, —
Но тайну огня разгадал он в тот миг.
Железом в кремень ударяют с тех пор,
Чтоб искра, сверкнув, разгоралась в костер.
Рад дивному свету тому и теплу,
Вознес миродержец Изеду хвалу;
Божественным даром огонь называл,
680 Людей поклоняться ему призывал.
Сказал: «Это благо послал нам Йездан,
Чти свято огонь, коли ум тебе дан».
Горело огромное пламя всю ночь,
Сидел пред огнем он с мужами всю ночь.
За чашей вина веселились они;
Тот праздник зовется Сэдэ искони[62].
Тот праздник, как память Хушенга, мы чтим.
Властителю быть подобает таким!
Он благами землю насытил сполна;
690 За то ему миром хвала воздана. . .
Изедом наставлен, владыка благой
От ланей, онагров и дичи другой
Быков, и ослов, и овец отделил,
И тех, у которых достаточно сил,
Велел приучить подымать целину.
«Впредь, — молвил он, — дань трудовую в казну
Несите из собранной жатвы, а скот
Держите четами, да будет приплод».
Зверей густошерстных велел убивать,
700 И бережно шкуры с убитых снимать.
Пошла на куницу охота в лесу,
На соболя, быструю белку, лису.
И шить одеянья из меха зверей
Людей научил этот царь из царей.
Добыть ему многое было дано,
Сберечь — только доброе имя одно.
В трудах и раздумьи, не ведая нег,
Ища, созидая, провел он свой век.
Когда к благоденствию край он привел —
710 Наследнику отдал он царский престол.
Злой рок ни на миг не отсрочил конца,
Не стало Хушенга — царя-мудреца.
Пощады от рока не жди на земле.
Тебе не узнать, что таится во мгле.
ТАХМУPEC[63] [Царствование длилось тридцать лет]
Достойный был сын у царя — Тахмурес,
Кому подчинился злокозненный бес.
Когда, опоясан на царство, взошел
Наследный властитель на отчий престол —
Явились мобеды в державный чертог[64],
720 И, милости полон, владыка изрек:
«Достоин владеть я престолом, дворцом,
И палицей царской, и царским венцом.
С земли изгоню я насилье и страх,
Свой век проведу я в служеньи, в трудах.
Отрежу везде Ахриману пути;
Под властью моею земле расцвести.
Все силы земные, что благо несут,
На свет извлеку я, избавлю от пут».
Царь новому делу людей стал учить, —
730 Овечье руно остригать и сучить;
Учил превращать в одеянье руно,
Ткать так, чтоб ковром становилось оно;
Учил он, как скот быстроногий пасти,
Соломы, травы и овса запасти.
Повадки пугливых зверей изучив,
Собаку и кошку средь них отличив,
Сумел из пустынь приманить их и с гор;
Служить человеку — удел их с тех пор.
Из мира пернатых, средь лучших пород,
740 Избрал Тахмурес гордых соколов род.
Он стал обучать их, усердьем горя;
Весь мир удивлялся искусству царя.
Он холить велел их и нежно ласкать,
Учил он приветливо их окликать.
Он кур приручил, петуха; с той поры
Чуть свет оглашаются пеньем дворы.
Всему, что страну к процветанью ведет,
Усердно трудясь, обучал он народ.
Он молвил: «Зажгите весельем сердца,
750 Душой благодарной восславьте Творца!
Он власть над зверями нам дал обрести.
Хвала! Это он указал нам пути».
Советника мудрого дал ему рок,
Такого, кому ненавистен порок.
Прославленный звался Шейдаспом[65]; он жил
Для блага, ему неустанно служил.
Уста его пищи не ведали днем,
А ночью молился он в доме своем.
И ближних постам и молитвам ночным
760 Учил он, желанен везде и любим.
Он был повелителю светлой звездой,
А злобному недругу был он уздой.
Владыку он вел по благому пути,
Лишь правдой величье хотел обрести.
Царь сердце очистил от кривды и зла,
И вот благодать на него снизошла.
Герой, Ахримана в борьбе полоня[66],
Вскочил на него и погнал, как коня,
И после не раз, оседлав сатану,
770 На нем объезжал за страною страну.
Увидя, какие вершит он дела,
На шаха восстали исчадия зла;
Сбежались во множестве, злобой горя,
Задумав оставить престол без царя.
Узнал Тахмурес, ярым гневом объят,
Какие намеренья бесы таят,
И палицей тяжкою вооружась,
Помчался, напасть на нечистых решась.
В бой ринулись, бешеной злобы полны,
780 Свирепые дивы и вслед колдуны.
Их вел огнедышащий, яростный бес.
Пронзительный вой поднялся до небес;
Пыль темная землю и высь облегла,
Застлала глаза непроглядная мгла.
Властитель вперед устремился, готов
Разить беспощадно свирепых врагов.
Там — бесы вопящие, пламя и дым;
Здесь — воинство с мощным владыкой своим.
Недолго тянулся губительный бой
790 Царя Тахмуреса с бесовской ордой.
И с третью нечистых расправился он,
А прочих увел победитель в полон.
И пленники, в путах, влекомы в пыли,
Взмолились тогда властелину земли:
«Нам жизнь подари, и тебя мы за то
Научим тому, что не знает никто».
Пощаду владыка дал сонму тому,
Чтоб новые тайны открылись ему.
Как только избавились дивы от уз,
800 Пришлось им вступить с Тахмуресом в союз.
Владыку писать научили они[67],
Зажгли в нем познанья благие огни —
Писать, да по-разному — на тридцати
Наречьях: фарси, пехлеви и согди[68],
Руми, и тази, и китайскую речь —
Все в четкие знаки умел он облечь.
Всего тридцать лет он процарствовать смог;
Кто б столько свершил за недолгий тот срок?
Он умер, но славным потомки горды;
810 Навек сберегли его имя труды.
О рок, не расти нас, коль хочешь скосить;
А если ты косишь, на что и растить?
Сегодня иного возносишь в зенит,
А завтра — взнесенный во прахе лежит.
ДЖЕМШИД [Царствование длилось семьсот лет]
Отважный Джемшид, молодой властелин[69],
Заветам родителя преданный сын,
Надев золотую корону царей,
Воссел на престол по закону царей.
И царский над ним воссиял ореол,
820 И каждый почтить властелина пришел.
Земля отдохнула, раздоры забыв;
Джемшиду и зверь покорился, и див.
И славной людей одарил он судьбой;
Державный престол озарил он собой.
Он молвил: «Изеда со мной благодать[70];
Мне быть и мобедом и шахом подстать.
Я злых обуздаю, их в пепел сотру,
И душу открою навстречу добру».
Он взялся сперва за военную снасть,
830 Мужам дал к источнику славы припасть.
Металл размягчая над жарким огнем,
Доспехи он выковал: щит и шелом,
Кольчугу, броню для бойцов и коней,
В искусстве своем становясь все сильней.
Трудился над этим с полсотни годов;
Труды его дали немало плодов.
Затем он для битв и пиров изобрел
Одежды: еще полстолетья провел
За выделкой шелка, мехов, полотна
840 Из коконов, шкурок и светлого льна.
Прясть нити учил он и, встав за станок,
Вплетать хитроумно в основу уток.
Людей и кроить он и шить научил,
В воде одеяния мыть научил.
Затем он к другим обратился делам
И радовал мир, полон радости сам.
Людей поделил по занятиям он[71],
Полвека заботою той поглощен.
Священников, тех что зовем катузи,
850 Кто в мире избрал благочестья стези,
Джемшид отделил от сословий других,
Обителью горы назначил для них;
И там пребывают они, в небеса
Моленья и вздохи свои вознося.
Второго сословья свершил он отбор;
И вот нисари называют с тех пор
Героев, что львиной отваги полны.
Надежда народа, защита страны,
Краса и опора державы они,
860 Хранители воинской славы они.
Еще несуди отделил от других —
Людей, никому не подвластных, таких,
Что сеют и жнут, а закончив труды,
Попреков не слыша, вкушают плоды;
Одеты в лохмотья — свободны зато;
Осыпать их бранью не смеет никто.
В покое и мире, без тяжб и забот,
Привольно и весело жизнь их течет.
Не прав ли мыслитель, чей разум, как день:
870 В раба обратила свободного — лень.
Сословье четвертое — ахтухоши;
В него ты умельцев усердных впиши,
Чье дело — ремесла, чей ревностный ум
Покоя не знает, исполненный дум.
Так мудрый еще полстолетья царил:
Сам счастье вкушал он и людям дарил.
В те дни для того разделил он людей,
Чтоб каждый, ступая стезею своей,
Познав до конца назначенье свое,
880 Разумное вел на земле бытие.
И дивам нашел он работу подстать:
Заставил их глину с водою мешать,
Лепить кирпичи одного образца,
И не было этой работе конца.
Из камня с известкой див стену воздвиг —
Мир зодчества тайну впервые постиг.
Воздвигнулись бани, громады дворцов,
Дома — человеку спасительный кров.
Царь светочей ясных во мраке искал:
890 Стремился добыть самоцветы из скал;
Он золото, яхонт, алмаз, серебро
Из сердца гранита исторгнул хитро,
И недра горы покорились ему,
Все тайны земные открылись ему.
Еще овладел он искусством, узнав
Ценимых людьми благовоний состав.
И мускус и амбру добыть удалось
И выжать душистое масло из роз.
Где корни здоровья, откуда недуг,
900 Пути исцеленья, лекарства от мук, —
И эти все тайны властитель открыл;
Кто в мире столь щедро людей одарил?
На судне потом он поплыл по воде;
Пошло с той поры мореходство везде.
Еще посвятил он полвека тому;
Не ведал искусств, не доступных уму;
И с гордостью вспомнив свершенное им,
Решил вознестись над величьем земным.
Властитель, кого не бывало сильней,
910 Престол изготовил — весь в блеске камней.
Покорный веленью властителя, бес[72]
Престол небывалый вознес до небес;
И там, словно солнце небесных высот,
Сиял повелитель прославленный тот.
Сходился народ на его торжество,
Дивился величью царя своего.
Джемшида осыпав алмазным дождем,
Назвали тот радостный день Новым днем.
То день был Хормоз, месяц был — Фервердин.
920 Забыв о заботах, не помня кручин,
Под говор струны, за ковшами вина,
Вся знать пировала, веселья полна.
И люди тот праздник святой сберегли,
Как память о древних владыках земли.
Три века так жизнь беспечально текла,
Не знали в ту пору ни смерти, ни зла;
Не ведали душу томящих тревог,
А дивов на рабство властитель обрек.
930 С любовью царю повинуется люд,
Повсюду ликуют, пируют, поют. . .
Так несся за годом безоблачный год,
Земля расцветала от царских щедрот.
Он властвовал, светом добра осиян;
За милостью слал ему милость Йездан.
С ним к людям пришла золотая пора,
Иного не видели, кроме добра.
Все чтили владыку; душою велик,
Всемирной он власти и славы достиг.
Шло время. Свое осознав торжество,
940 Он стал признавать лишь себя одного.
Владыка, что свято Создателя чтил,
В гордыне свой дух от него отвратил.
Мобедов, вельмож, окружавших престол,
Он речью такой в изумленье привел:
«Царить над вселенною — вот мой удел.
Немало свершил я блистательных дел.
Искусства и знанья живительный свет
Я первый зажег, мне подобного нет.
По-новому мир я устроил земной;
950 Таков он, как было начертано мной.
Не я ль вам одежду и злак даровал,
Довольство, обилие благ даровал.
Прославлен я всем человечеством сплошь;
Где в мире второго такого найдешь?
Я тайну целебных бальзамов познал,
Болезни и смерть от людей отогнал.
Пусть в мире немало державцев иных.
Кто, кроме меня, спас от смерти живых?
Дар дивный бессмертия мною вам дан;
960 Служить кто не станет мне — тот Ахриман.
А тот, кто мне предан, мой подвиг ценя, —
Создателем мира признает меня».
Повесили головы, слушая то,
Мобеды; перечить не вздумал никто.
И свет благодати той царственной мгла
Сокрыла, и смута в народе пошла[73].
По свету недобрая слава спешит;
Покинут мужами властитель Джемшид.
В три года и двадцать вся царская рать
970 Рассеялась, трон перестав охранять.
Собой пред всевышним Творцом возгордясь[74],
Навлек на себя он погибель тотчас,
Говаривал красноречивый мудрец:
«Храни благочестье, коль носишь венец.
А в ком от гордыни луч веры померк,
Тот в горесть и страх свое сердце поверг».
Затмился в глазах у властителя день,
Свет благостный скрыла зловещая тень.
Напрасно кровавые слезы он лил,
980 Напрасно Творца о прощеньи молил.
Его разлучил с благодатью Изед,
И царь содрогался в предчувствии бед.
[СКАЗ О ЗОХАКЕ И ЕГО ОТЦЕ] [75]
В ту пору властитель, исполненный сил,
В степи Копьеносных Наездников жил.
Йездана боясь и не делая зла,
Он правил, и совесть в нем чистой была.
Владыку по имени звали — Мердас[76];
О праведном слава далеко неслась.
Богатством властителя дойный был скот,
990 Который плодился и рос, что ни год.
Вручил пастухам добросердый мудрец
Верблюдиц, и коз, и отары овец,
Послушных коров, молоком налитых,
Арабских кровей кобылиц молодых[77];
И каждый нуждавшийся брал молоко,
И голод его утолялся легко.
Наследник мужал у благого отца,
Но не было любящим сердце юнца. Воинственный звался Зохаком; он вел
1000 Беспутную жизнь, безрассуден и зол.
Его Бивереспом прозвали — затем[78],
Что на пехлевийском, как ведомо всем,
Зовется «бивер» то, что мы на своем
Наречьи дэри — десять тысяч — зовем[79].
Арабских коней с золотою уздой
Имел десять тысяч Зохак молодой.
Две трети их были всегда под седлом —
Для пышности, не для сражений с врагом. Приняв проповедника благостный лик,
1010 Див злобный однажды к Зохаку проник,
И душу юнца от добра отвратив,
Словами опутал, коварен и лжив.
Тот слушать был рад излиянья его,
Не зная про злые деянья его;
Доверился бесу и, душу губя,
Лихую накликал беду на себя.
Поняв, что обмана подействовал яд,
Нечистый был радостью злобной объят.
Сладчайшие речи нашептывал он;
1020 А юноша разумом был обделен.
«Я тайной владею, — бес молвил ему, —
Неведомой, кроме меня, никому».
Воскликнул юнец: «Поскорей говори;
Мой ум, добродетельный муж, озари».
«Дай клятву сначала, — был дива ответ,—
Тогда извлеку свою тайну на свет».
И, вняв уговорам его, наконец,
Обет ему дал легковерный юнец:
«Не выдам я тайны твоей никому,
1030 И следовать слову клянусь твоему».
И див говорит: «Именитый герой!
Зачем на престоле не ты, а другой?
Тебе ли склоняться пред властью отца?
Послушайся друга, добейся венца.
Властителю время в могилу сойти;
Он медлит — убрать его надо с пути.
Достойней ты славы и трона царя,
Тебе подобает корона царя.
Доверишься мне, мой исполнишь совет,
1040И власти твоей покорится весь свет».
Царевичу сердце стеснила тоска
При мысли о крови отца-старика.
«Нет, это негоже, — он бесу сказал, —
Ты лучше другой бы мне путь указал».
Тот молвил: «Коль мой ты отвергнешь совет,
Нарушишь ты клятву, нарушишь обет.
И клятвопреступника жалкий конец
Ты встретишь, но в славе пребудет отец».
В силки завлечен обольщеньем его,
1050 Поддался Зохак наущеньям его.
Спросил: «Где же средство? Скажи поскорей.
Готов я последовать воле твоей».
Тот молвил: «Есть средство, спасу я тебя,
До солнца главой вознесу я тебя.
Тебе лишь одно остается — молчать,
Себе на уста налагая печать.
Один все, что нужно, исполню я в срок,
Ты — в ножнах удерживай слова клинок».
Имел при дворце повелитель Мердас
1060 Цветник благовонный, отрадный для глаз.
Вставал до рассвета хозяин дворца.
Готовясь молитвою славить творца,
В цветник совершить омовенье один[80],
Без слуг, без светильника шел властелин.
Чтоб ввергнуть властителя в злую беду,
Див яму глубокую вырыл в саду,
А сам убежал с наступлением дня.
Искусно укрыта травой западня.
Идет к цветнику в установленный час
1070 Властитель арабов, почтенный Мердас.
Приблизился к яме. . . И вот в западне,
Покинутый счастьем, лежит он на дне!
Упал и разбился по злобе врага,
Погиб достославный йезданов слуга.
В дни мирного счастья и в шуме тревог
Он сына растил, от напастей берег,
Готовил его для блистательных дел,
Трудов и даров для него не жалел. . .
А тот, позабыв о заветах творца,
1080 Безжалостно предал родного отца —
В убийстве его соучастником стал.
От мудрого мужа я как-то слыхал,
Что сыну, хоть барсом он яростным будь,
Невмочь на отцовскую кровь посягнуть.
Здесь тайную должно причину искать:
Разгадку поведать могла бы лишь мать...
Свершилось деянье ужасное. Так
Державу отцовскую отнял Зохак,
Венец на себя возложил и взошел
1090 Властителем на аравийский престол.
Тогда, торжествуя, стал дьявол опять
Плести свои сети, юнца соблазнять.
Он молвил Зохаку: «Ты вверился мне,
Зато и блаженствуешь, первый в стране.
Коль снова мне верности дашь ты обет
И, следуя клятве, мой примешь совет, —
Весь мир перейдет во владенье твое, —
И птицы, и рыбы в морях, и зверье».
Зохака словами в силки заманив,
1100 Вновь каверзу хитрую выдумал див.
[ИБЛИС В КАЧЕСТВЕ ПОВАРА]
Обличье иное он принял. Юнец,
Смышленый, речистый, на вид удалец,
Внезапно пред новым владыкой предстал,
Почтил его множеством льстивых похвал
И молвил: «Быть может, царю пригожусь.
Я — повар, искусной стряпнею горжусь».
И вот уже бес у владыки в чести,
И кухню для беса спешат возвести,
И ключ от поварни просторной царя
1110 Вручил ему главный придворный царя.
А люди в еде изобилья в те дни
Не ведали, мяса не ели они.
Лишь злаки да овощи в пищу им шли —
Все то, что родится из щедрой земли.
Впервые животных вести на убой
Надумал нечистый. Доволен собой,
Он птиц и зверей повелел убивать,
Их мясо варить и царю подавать,
Чтоб кровью кормился, как яростный лев,
1120 Чтоб в сердце растил он свирепость и гнев,
Чтоб злу и насилью не ведал преград,
И душу нечистому дал бы в заклад.
Сперва он Зохака желтками кормил,
Дарящими телу обилие сил.
Тот ел и едой нахвалиться не мог,
По вкусу владыке пришелся желток.
Промолвил тогда сатана-лиходей:
«Будь вечно, о царь, вознесен меж людей!
Наутро я новую пищу сварю,
1130 Такую, что будет в усладу царю».
Ушел и до света обдумывал бес,
Каких для Зохака настряпать чудес.
Наутро, когда пробужденный восток
Сияющий яхонт из мрака извлек, —
Принес он на блюде отборную дичь,
Чтоб цели своей затаенной достичь.
И царь восхитился, испробовав снедь.
Так бес его сердце сумел отпереть.
В день третий он вновь отличился, подав
1140 Цыплят и барашка с обильем приправ.
В четвертый же день поварская рука
Искусно зажарила спину быка —
Отменное блюдо; сок розовый в нем
С душистым шафраном и старым вином.
Царь ел, благодарен умельцу тому,
Дивился искусству его и уму.
Сказал он: «Эй, ставший нам верным слугой!
Просить нас о милости можешь любой».
И повар ответил: «О мой властелин,
1150 Да царствуешь вечно, не зная кручин!
Во мне ты зажег восхищенье души,
Тебя лицезреть — насыщенье души.
Хотя недостоин я милости той,
Меня дозволения все ж удостой
К плечам твоим, о повелитель владык,
Лицом и устами прижаться на миг».
Не мог разгадать скудоумный Зохак,
Что втайне готовит злокозненный враг.
Он молвил в ответ: «Дозволенье даю;
1160 Тем долю, быть может, возвышу твою».
И хитрому бесу доверившись, сам
Склонил свои плечи к бесовским устам.
Бес дважды к плечам властелина припал
И тут же — о чудо! — куда-то пропал.
Царь видит: из плеч его змеи ползут,
Спасенья ища, заметался он тут;
Мечом, наконец, их решился отсечь,
Надеясь от тварей себя уберечь.
Но только срубил их испуганный шах, —
1170 Вновь змеи, как ветви, растут на плечах.
Вот лекарей лучших собрался синклит,
И высказать каждый догадку спешит.
Но средство найти, чтобы сладить с бедой,
Не смог ни один врачеватель седой.
К Зохаку, вновь дерзкий затеяв обман,
Пробрался в личине врача Ахриман.
Владыке сказал он: «Знать, так суждено.
Оставить, не трогать — вот средство одно.
Обильными яствами их успокой,
1180 Не вздумай испытывать способ другой.
Лишь мозгом людским ты их потчуй всегда, —
Быть может, убьет их такая еда».
Что дьявол вынашивал в сердце, скажи?
Чего дожидался от козней и лжи?
Иль думал он злою уловкой такой
На свете весь род уничтожить людской?
[ГИБЕЛЬ ДЖЕМШИДА]
Вопль несся над ширью иранской земли;
Меж знатными распри кровавые шли.
Над краем зловещая тьма разлилась,
1190 С Джемшидом расторглась народная связь.
Божественный свет над владыкой померк,
Он кривде предался и правду отверг.
Князья восставали один за другим,
И каждый, враждою к соседу палим,
Войска снарядив, лил в сражениях кровь.
Иссякла в сердцах к властелину любовь.
Отчизну покинув, иранская знать
В Аравию путь порешила держать.
Слух шел, что живет в тех далеких краях
1200 Царь, схожий с драконом, внушающий страх.
Иранцы, мечтая о смене царя,
К Зохаку пришли, нетерпеньем горя;
Его государем иранской земли,
Верховным владыкой владык нарекли.
Драконоподобный, как буря, примчась,
В Иране на царство венчался тотчас.
Иранских он вел и арабских бойцов,
Из всех областей созывал удальцов;
С той ратью дошел до царева дворца, —
1210 Стал мир для Джемшида теснее кольца.
Его беспощадный преследовал рок;
Боролся он тщетно, в борьбе изнемог.
Оставил властитель родную страну,
Величье державное, рать и казну;
Бежал и душой погрузился во мрак;
Престол и венец его отнял Зохак.
Джемшида никто с той поры не видал;
Сто лет он вдали от людей пропадал.
На сотом году где-то на море Чин[81]
1220 Нашелся Ирана былой властелин.
Настиг его злобный Зохак на бегу
И страшную казнь уготовил врагу:
Велел беглеца распилить пополам[82],
Конец положив его дням и делам.
Не спасся Джемшид, в муках кончил свой век,
Хоть пасти драконьей однажды избег.
Был смертью похищен низложенный царь —
Соломинку так похищает янтарь[83].
Кто дольше его на престоле сидел?
1230 И что за труды получил он в удел?
Семь долгих столетий над ним протекли,
Немало и блага и зла принесли. . .
Что пользы прожить долгий век на земле,
Коль мир свою тайну скрывает во мгле?
Судьба приголубит тебя, обоймет,
Твой слух обласкает речами, как мед,
И, мнится, к тебе благосклонна она,
И щедрой любви, и заботы полна,
И счастлив ее благосклонностью ты,
1240 И ей поверяешь ты сердца мечты, —
А то вдруг такую игру заведет,
Что кровью все сердце твое изойдет.
Устал я от этой юдоли скорбей.
Дай, Боже, от мук избавленье скорей!
ЗОХАК [Царствование длилось тысячу лет]
Зохак властелином воссел на престол
И тысячу лет на престоле провел[84].
Все были покорны творившему зло,
И время немалое так протекло.
Обычай правдивых и чистых исчез;
1250 Везде побеждал омерзительный бес.
Куда ни посмотришь, коварство в чести,
Лжи всюду дорога, нет правде пути.
Насилья и злобы настала пора,
Лишь втайне чуть слышался голос добра.
Из дома Джемшида двух дев молодых
Исторгли, дрожащих как лист, чуть живых,
Джемшида сестер, что, достоинств полны[85],
Блистали меж девушек знатных страны.
Красавицу звали одну — Эрневаз,
1260 А имя другой луноликой — Шехрназ.
Обеих сестер повлекли во дворец
К дракону, носящему царский венец,
И он воспитал их в обычае злом,
С дурными делами сдружил, с колдовством.
Он только и знал, что к вражде призывать,
Жечь, грабить и мирных людей убивать.
Терпеть становилось народу невмочь.
Хватали двух юношей каждую ночь,
На царский влекли окровавленный двор
1270 И головы прочь отрубал им топор.
Из мозга их змеям варили еду,
Чтоб тем отвратить от Зохака беду.
Два мужа, в краю обитавшие том[86],
Два праведных, чистых, с высоким умом:
Один — полный веры мудрец Армаил,
Другой — проницательный муж Кармаил[87].
Беседу вели как-то, сидя вдвоем:
Как быть, как мириться им с горьким житьем?
Шла речь о кровавой царевой стряпне,
1280 О шахе, о войске, о мраке в стране.
И молвил один: «Для спасенья страны
Мы в царскую кухню пробраться должны,
Должны поварами искусными стать,
Уловки и хитрости в дело пускать:
Быть может, из двух убиваемых там
Спасать одного посчастливится нам».
Пошли и тотчас же, принявшись за труд,
Немало настряпали лакомых блюд.
В той кухне — обители крови и слез —
1290 Разведать им все тайники удалось.
Как время настало кровь новую лить
И новые жизни людские губить, —
Двух юношей стражи втащили туда;
Погибнуть для них подошла череда.
Повергнуты наземь, простерты в пыли
Безвинные жертвы владыки земли.
Дрожат повара, от тоски почернев;
Льют кровь из очей, в сердце — горе и гнев.
Глядят друг на друга, в мученьях горя
1300 От тех злодеяний дракона-царя.
На гибель из двух одного обрекли,
Иного исхода — увы — не нашли.
Овечьи мозги с мозгом жертвы смешав,
Сварили со множеством разных приправ.
И вместо спасенного ими юнца
Пошла на съеденье гадюкам овца.
Другому сказали: «Спасем тебе жизнь,
Но впредь от селений подальше держись.
И город пускай не прельщает твой взгляд,
1310 Пусть горы и степи тебя приютят».
По тридцать юнцов каждый месяц они
Спасали от смерти в те черные дни.
Когда ж до двухсот набиралось в тайник, —
Их ночью — чтоб в тайну никто не проник —
Наружу вели через спрятанный ход.
Дарили им коз и овец на развод.
От них-то затем племя курдов пошло[88];
Им город не мил и не мило село.
Кочуя, живут они в черных шатрах,
1320 Сердцам их неведом пред Господом страх. . .
Имел еще изверг обычай такой:
Из витязей края, по прихоти злой,
Любого к себе призывал и казнил:
Тебе, мол, бесовский порядок не мил.
А юных красавиц почтенных родов,
С которых срывал беспощадно покров,
В наложницы брал плотоядный дракон,
Отринув кеянский обряд и закон.
[ЗОХАК ВИДИТ ВО СНЕ ФЕРИДУНА]
Смотри, что наслал на Зохака Изед,
1330 Как сорок последних надвинулось лет.
Однажды в чертоге в полуночный час
На ложе покоился царь с Эрневаз.
Приснились Зохаку три брата-бойца,
Из рода властителей три храбреца.
У младшего — взгляд и осанка царей,
А стан — молодого платана стройней.
Сверкающий пояс, в руке булава,
Коровья на той булаве голова.
Взмахнув булавой, беспощаден и яр,
1340 Воитель Зохаку наносит удар,
И с недруга кожу от шеи до пят —
Срывает тот младший, воинственный брат.
И, руки связав ему этим ремнем
И путы на шею надев, за конем
Плененного он волочит по земле,
Предав поношенью, в пыли и в золе,
И с ним к Демавенду несется стрелой,
И следом — бойцов торжествующий строй...
Проснулся он, стоном его сотрясен
1350 Чертог, подпираемый сотней колонн.
Во мраке вскочили красавицы с лож,
Стенаньем Зохака повергнуты в дрожь.
«О царь мой, — сказала ему Эрневаз, —
Какая беда над тобою стряслась?
Ты мирно в покое своем почивал.
Скажи, что случилось? Кто сон твой прервал?
И дивы и звери — охрана тебе,
Покорны все люди Ирана тебе,
Народы земли пред тобой склонены,
1360 От рыбы владеешь ты всем до луны[89].
Какие ж тебя сновиденья могли
Встревожить? Скажи, повелитель земли».
В ответ солнцеликим промолвил Зохак:
«Сон, виденный мною, да канет во мрак.
Ведь если дойдет он до ваших ушей,
Поверите в близость кончины моей».
Зохаку сказала тогда Эрневаз:
«Не должно владыке таиться от нас.
Быть может, несчастье отгоним мы прочь,
1370 Ведь каждому горю возможно помочь».
И царь им поведал зловещий свой сон, —
Как был он могучим врагом сокрушен.
Сказала красавица: «Сном пренебречь
Не должно; ищи, как себя оберечь.
Всевластия символ — твой царственный трон,
Звездою твоею весь свет озарен.
Державный твой перстень весь подданный люд,
И дивы, и звери в лесах признают[90].
Зови же из каждого края жрецов,
1380 Седых звездочетов, святых мудрецов.
Поведай мобедам, что снилось тебе,
Спроси о сокрытой в потемках судьбе.
Кто жизни твоей угрожает, проверь:
Пери или див, человек или зверь[91].
Дознаешься — действовать смело начни,
Утешься, владыка, и страх отгони».
По нраву царю речи девы пришлись,
Чей лик словно месяц, чей стан — кипарис.
Мир темен был, словно воронье крыло, —
1390 Вдруг светочем пламенным солнце взошло.
Сказал бы, из мрака в лазоревый свод
Блестящий топаз горделиво плывет.
Царь отдал приказ, и немедля на зов
К нему поспешила толпа мудрецов,
Стекаясь из ближних и дальних сторон.
Мобедам владыка поведал свой сон,
Велел им, подумав, ответ ему дать,
Велел знаменательный сон разгадать.
Сказал мудрецам: «Жаждет правды мой слух,
1400 Познанья лучом озарите мой дух.
Поведайте мне о сокрытом во мгле,
О роке превратном, о благе и зле.
Когда моей жизни настанет конец?
Чьи будут мой перстень, престол и венец?
Иль эту мне тайну откроете вы,
Иль вам на плечах не сносить головы».
С губами иссохшими, с влагой в очах
Шептались мобеды, повергнуты в страх:
«Коль правду поведать решимся сейчас, —
1410 Мы жизни бесценной лишимся сейчас.
А если дерзнем умолчать обо всем,
Мы смерть все равно на себя навлечем».
Три дня размышляли, не зная, как быть,
Никто не отважился правду открыть.
На утро четвертое вновь их созвал
Властитель и, гневом кипя, приказал:
«Мой сон истолкуйте, не то повелю
Для дерзких немедля готовить петлю!»
Поникли мобеды; дрожат, онемев,
1420 Страшась распалить повелителя гнев.
В премудром и славном собрании том
Был старец правдивый, богатый умом —
Зирек по прозванью: судьбой одарен[92],
Главою был всех прорицателей он.
В нем сердце стеснилось, отвага зажглась,
Шагнул он к Зохаку, и речь полилась.
Сказал он: «Гордыню ты прочь изгони;
Для смерти рождаются все искони.
Немало блистало до жизни твоей
1430 Достойных престола великих царей;
Отрад и печалей немало сочли,
Когда же их время настало — ушли.
На свете хоть башней железною стой,
Сотрет тебя небо всесильной рукой.
Низвергнуто в прах будет счастье твое,
Присвоит другой полновластье твое.
Знай, мать Феридуном его наречет.
И мир увенчает он, как небосвод.
Еще не успела родить его мать,
1440 Не время страшиться еще и вздыхать.
Родится он, радуя матери взгляд,
Дарами, как древо плодами, богат.
Став мужем, главу вознесет до луны,
Захочет венца и престола страны,
Могучим и стройным взрастет, как платан;
Тебя булавою сразит великан
Огромной, с коровьей стальной головой,
И свяжет, и в даль повлечет за собой».
Зохак нечестивый промолвил на то:
1450 «Ко мне он враждой воспылает за что?»
«Коль ты прозорлив, — услыхал властелин, —
Поймешь: не бывает вражды без причин.
Отец его будет тобою убит,
И жаждою мщения сын закипит.
В мир явится чудо — корова; она
В кормилицы витязю будет дана.
Убьешь и ее; враг же мстительный твой
Рогатой тебя поразит булавой[93]».
Едва до Зохака та речь донеслась,
1460 Упал он с престола, сознанья лишась.
Гадатель тем временем выбежал вон,
Боясь, что его покарает дракон.
Тиран венценосный вновь чувства обрел
И, мрачен, воссел на державный престол.
Велел он, страшась предреченной беды,
По свету искать Феридуна следы.
Не ел и покоя не ведал Зохак,
И день для него погрузился во мрак.
[О РОЖДЕНИИ ФЕРИДУНА]
Года за годами неслышно текли,
1470 Драконовой гибели сроки пришли.
Родился на свет Феридун. Край родной
Пришел озарить он судьбою иной.
Он стать обещал украшеньем мужей,
Взрасти кипарисов стройней и свежей.
Джемшида почила на нем благодать,
Небесный дано ему свет излучать.
Что ливень весной, долгожданным он был,
Как знанье для духа, желанным он был.
Родился при знаменьях добрых: с высот
1480 Ему благосклонность явил небосвод.
В то время корова — краса Бермайе [94],
Не знавшая равных себе на земле, —
Павлиньей окраски, — явилась на свет:
Особый у каждой шерстинки был цвет.
Толпясь пред коровой, пленяющей взгляд,
О ней мудрецы в изумленьи твердят:
«В преданьях подобного случая нет,
Созданья такого не видывал свет».
Искал венценосец, исчадие зла,
1490 Корову, чья слава по свету прошла.
Преследовал также дракон-властелин
Отца Феридуна, что звался Атбин[95].
Скитался гонимый в степи, без дорог,
Но пасти драконьей избегнуть не смог.
Примчался; безжалостных стражей отряд,
Когда он пустынею брел наугад.
Увидели, кинулись жертве вдогон,
Был схвачен Атбин и на смерть обречен.
Услышав об этом, разумная мать
1500 Решилась немедля с младенцем бежать.
Скорбя о супруге, ушедшем навек,
Блуждала она. Наконец, Феранек[96]
(Так звали ее), изнемогши от мук,
Пришла, обливаясь слезами, на луг.
И видит страдалица там пред собой
Корову, слепящую взор красотой.
К хранителю луга, надежды полна,
Рыдая, тогда обратилась она.
Сказала: «Младенца сокрой моего,
1510 На время прими под защиту его.
У матери взяв, стань малютке отцом,
Волшебной коровы вскорми молоком.
Душою за это расплатится мать,
В заклад тебе жизнь я готова отдать».
И тот, кто корову чудесную пас,
Жене благородной ответил тотчас:
«Готов охранять я младенца, как раб,
Ты лучше найти пестуна не могла б».
Тут мать поднесла незнакомцу дитя
1520 И, дав наставления, скрылась, грустя.
Пастух прозорливый дитя приютил,
Три года его по-отцовски растил.
Меж тем все искал их владыка-дракон,
О дивной корове молвой устрашен.
И вот, изнемогши от страха и мук,
Страдалица-мать прибежала на луг.
Сказала хранителю луга: «Изед
Мне путь указал к избавленью от бед.
Ведь сына лишиться мне — смерти равно.
1530 Решусь я, и будет дитя спасено.
Покину я злого чудовища стан,
Взяв милого сына, уйду в Хиндустан.
Сыщу для него на Эльборзе приют[97];
Укроюсь от злобы, от вражеских пут».
Мать с сыном, как быстрый гонец на заре,
Как серна, помчалась к высокой горе.
На склоне гранитном громадины той
Жил муж богомольный, отшельник святой.
Беглянка промолвила, слезы струя:
1540 «Отец мой, иранка-изгнанница я.
Благое дитя мне судьбою дано,
Народ свой возглавить ему суждено.
Он срубит зохакову голову с плеч,
Повергнет во прах его пояс и меч,
И канут тяжелые годы во тьму.
Защитою сыну ты будь моему!»
И отрока старец святой приютил,
От бед и печалей его защитил.
Меж тем не дремал обезумевший враг;
1550 Про луг потаенный проведал Зохак.
Туда устремившись, как бешещый слон,
С чудесной коровой расправился он.
И после все стадо злодей сокрушил,
Вокруг все живое он жизни лишил.
К дворцу Феридуна помчался потом,
Но пуст оказался покинутый дом.
И в гневе бессильном он стены поджег,
Во прах он поверг опустевший чертог.
[ФЕРИДУН СПРАШИВАЕТ МАТЬ О СВОЕМ ПРОИСХОЖДЕНИИ]
Шестнадцатый год Феридуну пошел.
1560 Со склонов Эльборза спустился он в дол
И к матери с речью явился такой:
«Пора, сокровенную тайну открой!
Как звали, скажи мне, отца моего?
Какого я племени, рода чьего?
Мне как пред народом себя называть?
Поведай всю правду, разумная мать!»
«О славолюбивый, — сказала она, —
На каждый вопрос я отвечу сполна.
Среди уроженцев иранских равнин
1570 Жил муж именитый, прозваньем Атбин.
Был добр, и отважен, и духом велик
Сей отпрыск достойный иранских владык:
Потомком прямым Тахмуреса был он, —
Вел счет своим предкам с древнейших времен.
Тебе он отец был, мне — милый супруг,
Дней светоч единственный, преданный друг.
Нежданно задумал тебя извести
Зохак, злые козни привыкший плести.
Тебя мне скрывать год за годом пришлось,
1580 Немало лила я в скитаниях слез.
Отца ты лишился, безжалостно он
Был схвачен и с милой душой разлучен.
Растут две змеи у Зохака из плеч,
Спешащие гибель на край наш навлечь.
Им яства сварили, не будь им добра,
Из мозга отца твоего повара.
Я скрылась с тобой. На пути как-то раз
На луг забрели мы, сокрытый от глаз.
Корова предстала там дивная мне,
1590 Невиданных красок, подобна весне.
Сидел рядом с нею пастух, величав;
Те пастбища он охранял от потрав.
Ему я надолго тебя отдала;
Лелея, тебя уберег он от зла.
Волшебной коровой на воле вскормлен,
Ты вырос отважным, могучим, как слон[98].
Но весть уловил повелителя слух
Про дивную эту корову и луг.
Пустились мы в бегство порою ночной,
1600 Оставив отчизну и кров свой родной.
С кормилицею бессловесной твоей
Расправился вскоре свирепый злодей.
Тебя не настигнув, он дом твой поджег;
С землею сравнял твой высокий чертог».
Как только ту речь услыхал Феридун,
Он весь закипел от нахлынувших дум.
Боль сердце терзала, гнев душу сжигал,
В досаде и горе он брови сдвигал.
Промолвил он матери: «Яростный лев
1610 Мужает в сраженьях, душой осмелев.
Что сделал, то сделал слуга сатаны;
Теперь отомстить мои руки должны.
Я бурей помчусь, так велит мне Творец
С землею сравняю зохаков дворец».
«О сын безрассудный! — ответила мать, —
Со всеми тебе ль одному совладать?
Зохак обладает престолом, венцом,
Тирану и войско покорно притом.
Лишь кликнет он клич, сотни тысяч мужей
1620 На зов соберутся из всех областей.
Обычай союзов и войн не таков;
На мир не гляди ты глазами юнцов.
Поверь, кто в тщеславьи собою пленен,
Кто юности буйной вином опьянен,
Тому не снести головы во хмелю,
А я для тебя только счастья молю.
О сын мой, слова материнские чти,
А все остальное тщетою сочти».
[СКАЗ О ЗОХАКЕ И КУЗНЕЦЕ КАВЕ][99]
Страшась Феридуна, Зохак лишь о нем
1630 Твердил непрестанно и ночью и днем;
Боялся с престола державного пасть,
Отдать Феридуну богатство и власть.
В уборе царей, в драгоценном венце,
Воссев на престол в златостенном дворце,
Мобедов сзывает он с разных сторон,
Чтоб свой укрепить пошатнувшийся трон.
Сказал он мобедам державы своей:
«О старцы разумные, гордость мужей!
Есть враг, что меня уничтожить готов,
1640 А кто он — для мудрых понятно без слов.
Нельзя мне и малым врагом пренебречь,
Мне должно себя от беды оберечь.
Созвать я задумал огромную рать,
В ней дивов и воинов вместе собрать.
Вы мне помогите в заботе такой,
Не в силах я дольше терзаться тоской.
Пишите народу скорей обо мне:
Владыка, мол, сеет лишь благо в стране.
Исполнены правдой владыки слова,
1650 И в царстве его справедливость жива».
Страшась властелина, верховная знать
Во всем обещала ему помогать.
И змееву грамоту, полную лжи,
Скрепить поневоле решились мужи.
У двери дворцовой раздался в тот миг
Взывавшего к правде отчаянный крик.
К престолу царя проводили его,
Меж знатных людей усадили его.
И царь вопросил его, мрачен лицом:
1660 «Скажи, кто тебя притесняет и в чем?»
Тот бить себя стал по седой голове:
«О царь, я за правдой пришел, я — Каве.
Искать правосудья бежал я, скорбя;
Стенаю, терзаюсь я из-за тебя.
Будь праведный царь ты, не царь-лиходей, —
Ты славу б умножил свою меж людей.
А ты лишь обиды чинить мне привык,
Нож в сердце вонзаешь ты мне каждый миг.
Коль я не тобою жестоко гоним,
1670 Зачем погибать было детям моим?
Сынов я имел восемнадцать, один
Не взят на съеденье последний мой сын.
Последний — тебя умоляю о нем.
Пойми: мое сердце палимо огнем.
О царь, в чем виновен я, прямо скажи,
А если безвинен, не надобно лжи.
Ты видишь, владыка, в каком я аду.
Смотри, на себя не накличь ты беду!
Согнул меня вдвое безжалостный рок,
1680 Отчаяньем, горестью сердце прожег.
Ушла моя молодость, нет и детей,
А в мире привязанность есть ли сильней?
Бывает предел для гонений любых,
Бывает предлог, оправданье для них.
Но где оправданье, каков твой предлог?
Неслыханной казни меня ты обрек.
Я труженик мирный, кузнец я, за что ж
Меня ты терзаешь, мне голову жжешь?
Ведь ты властелин, хоть обличьем дракон,
1690 Так где ж правосудьетвое, где закон?
Ты всею землею один завладел,
А нам лишь страданья оставил в удел!
Пора отчитаться тебе предо мной,
Да так, чтоб весь мир изумился земной.
Быть может, поведает нам твой отчет
О том, как пришел моим детям черед
И как ты кормил отвратительных змей
Мозгами безвинных моих сыновей».
Внимал ему молча державы глава:
1700 Не ждал, что услышит такие слова.
Он слугам велел ему сына вернуть,
И лаской пытался его обмануть.
Потом властелин кузнецу предложил,
Чтоб руку к посланью и он приложил.
Посланье Каве, лишь успел дочитать,
Как, гневно взглянув на вельможную знать,
Вскричал: «Слуги беса, вам стыд нипочем!
Забыли вы страх пред всесветным Творцом!
Вы к аду лицо обратили свое,
1710 Вы дьявола в сердце впустили свое.
Не мне подписаться под ложью такой,
Не мне трепетать, падишах, пред тобой!»
Тут, весь содрогаясь от гнева, он встал,
Послание, в клочья порвав, истоптал,
И с сыном, ему возвращенным, вдвоем
Стремительно выбежал прочь из хором.
Вельможи Зохаку хвалу вознесли,
Сказали: «О славный владыка земли!
И вихри небес в час грозы боевой
1720 Не смеют дохнуть над твоей головой.
Зачем же Каве, дерзко мелющий вздор,
Как равный, заводит с тобой разговор?
Знак верности нашей — посланье — злодей
Порвал, воспротивился воле твоей;
Пылая враждою, он ринулся прочь,
Должно быть, спеша Феридуну помочь.
Не слыхивал мир о поступке таком;
От выходки наглой в себя не придем».
На это владыка сказал мудрецам:
1730 «Внемлите, о чуде поведаю вам.
Когда я Каве средь дворца моего
Увидел и голос услышал его, —
Вдруг, что-то меж этим пришельцем и мной
Как будто железною встало стеной.
Лишь бить по своей голове стал кузнец,
О диво! — он дух сокрушил мне вконец.
Не знаю, чего от грядущего ждать;
Нам тайны небес не дано разгадать».
Как вышел Каве из дворцовых ворот,
1740 Его обступил на базаре народ.
Он шел все вперед и кричал все сильней,
За правду восстать призывая людей.
Из кожи передник, что в утренний час
Кузнец надевает, за молот берясь,
Срывает Каве, прикрепляет к копью,
И пыль на базаре встает, как в бою.
С воздетым копьем он идет и кричит:
«Внемлите, кто имя йезданово чтит!
Оковы зохаковы сбросит любой,
1750 Кого Феридун поведет за собой.
Мы все, как один, к Феридуну пойдем,
Под царственной сенью его отдохнем.
Вперед, ибо правит у нас Ахриман,
Что злобою против Творца обуян!»
Шагает кузнец, непреклонен, суров;
Немало примкнуло к нему храбрецов.
Передник тот — кожи нестоящей клок —
Друзей и врагов различить им помог.
Разведал, где путь к Феридуну, и вмиг
1760 Туда устремился, идя напрямик;
К владыке пришел он, возглавив народ;
И кликами встречен героя приход.
И кожу, что поднял кузнец на копье,
Царь знаменем сделал, украсив ее
Румийской парчой, ослепляющей взор:
На золоте чистом алмазный узор.
Кузнец Каве поднимает знамя восстания. С рукописи Государственной публичной библиотеки в Ташкенте.
Почтил ее царь, добрый видя в ней знак.
Вознесся, как месяц, сияющий стяг.
Он был золотист, и лазорев, и ал,
1770 Владыка его кавеянским назвал[100].
И каждый, на трон восходивший потом,
Все множил каменья на знамени том.
И молотобойца передник простой
Невиданной в мире блистал красотой.
В парче и в шелках удивительный стяг
Сиял, разгоняя томительный мрак.
Сказал бы, то солнце в глубокой ночи
Взошло, разливая надежды лучи.
И новые дни потекли на земле,
1780 Грядущее пряча в таинственной мгле.
Царь юный, увидя судьбы поворот,
Узнав, что восстал на Зохака народ,
Явился к родимой, венцом осиян,
Для битв опоясав могучий свой стан.
Сказал он: «В поход мне пора выступать.
Молись неустанно, о верная мать!
Создатель вселенной превыше всего,
В час трудный опоры ищи у него».
Залившись слезами, тревоги полна,
1790 С мольбою во прахе простерлась она.
«Творец мой, — взывала, — в кровавом бою,
Молю, сохрани мне опору мою!
От юноши вражеский меч отврати,
С земли окаянных злодеев смети!»
Готовиться стал Феридун с того дня
К походу, свой замысел втайне храня.
Царь-юноша старших двух братьев имел,
И каждый из них был разумен и смел.
Один Пормайе, счастьем взысканный муж[101],
1800 Другой же по имени был — Кеянуш.
Поведал им все Феридун и сказал:
«О витязи, час ликованья настал!
Сулит нам удачу вертящийся свод,
Венец и державу судьба нам несет.
Пора кузнецам приниматься за труд,
Пусть палицу мне боевую куют».
Как только услышали братья приказ, —
К кузнечным рядам устремились тотчас.
И лучшие молотобойцы страны
1810 Пришли к Феридуну, усердья полны.
Взял циркуль в могучие руки боец
И палицы той начертил образец;
Возникла на глади песка булава,
Коровья венчает ее голова.
Работала дружно семья мастеров,
И вот уж заказ исполина готов.
Как яркое солнце, горит булава;
Снесли ее шаху, закончив едва.
От сердца он труд мастеров похвалил,
1820 Одеждой и золотом их наделил,
Немало сулил им высоких щедрот,
Величье, и власть обещал, и почет.
Сказал: «Как победой закончу войну, —
Прах горестей с ваших голов отряхну.
Наполню я мир только правдой одной;
Век будет йезданово имя со мной».
[ФЕРИДУН ИДЕТ ВОЙНОЙ НА ЗОХАКА]
Вот к солнцу главой Феридун вознесен;
На месть за отца опоясавшись, он
В поход собрался в день Хордада благой[102],
1830 При знаменьях добрых, под светлой звездой.
Немалое войско могучий повел;
Небес достигал властелина престол.
Верблюды навьючены, вышли слоны,
Припасами щедро бойцы снабжены.
И старшие братья скакали с царем,
Как младшие, брату покорны во всем.
Он вихрем свершал переходы, спеша;
Ум жаждал отмщенья и правды — душа.
Домчались арабские их скакуны
1840 До края, где люди Йездану верны[103].
В обители праведных сделав привал,
Властитель им слово привета послал.
Когда наступила ночная пора,
Явилось, владыке желая добра,
Как райская гурия, радуя взгляд,
Виденье с косой смоляною до пят.
То с неба спустился, сияя светло,
Соруш — рассказать про добро и про зло[104].
В обличье пери посетил он царя,
1850 Наставил его, дивной силой даря,
Чтоб с тайны любой мог сорвать он печать,
Чтоб все сокровенное мог различать.
Постиг Феридун: это сделал Изед,
Руки Ахримана коварной тут нет.
Зарделся от радости царь Феридун:
И телом он молод, и счастием юн.
Он яства готовить велел поварам;
На пир он созвал именитых, и сам
Сидел среди них, опьяняясь вином,
1860 Пока не охвачен был сладостным сном.
Увидя, что милость Изеда над ним,
Что юноша доблестный непобедим,
Метались два брата на ложе своем;
Они на убийство решились вдвоем.
Гора возвышалась пред ними, и ввысь
По склону те двое тайком поднялись.
Лежал у подножия царь молодой,
А землю уж полночь окутала мглой.
Гранитную глыбу, отбив от скалы,
1870 Обрушили братья, коварны и злы,
На царственный лоб, озаренный венцом,
И спящего мнили уже мертвецом.
Но волей благою дарителя сил,
Властителя грохот от сна пробудил.
И, с помощью дивных таинственных чар,
Отвел он губительной глыбы удар.
Тут поняли братья: вмешался Изед,
И козням их дьявольским места здесь нет.
Царевич не стал попрекать их ни в чем
1880 И выступил в путь, опоясан мечом.
Помчался, и войско за ним во главе
С прославленным, неустрашимым Каве.
Взметнув кавеянский сверкающий стяг,
Прославленный, счастье вещающий стяг,
Царь мчался к Эрвенду прямою тропой[105],
Влекомый своею державной судьбой.
Коль ты не знаком с языком пехлеви,
Эрвенд по-арабски Диджла назови[106].
Вторым переходом владыка благой
1890 В Багдаде уж был, пред широкой рекой[107].
Как только Эрвенда достигли полки,
Царь дал повеление стражам реки
Доставить немедля челны и суда,
Чтоб войску преградой не стала вода.
Арабам сказал повелитель царей:
«Суда снарядите в дорогу скорей.
Гребите и всех до единого нас
На берег другой переправьте сейчас».
Но стражи глава не доставил судов,
1900 Ослушался он феридуновых слов,
Промолвив герою: «Мне втайне давно
Владыкой страны повеленье дано:
Лишь тех через реку вези, кто печать
На грамоте может мою показать».
Услышал ту речь Феридун, и зажглась
В нем ярость. Глубокой реки не страшась,
Потуже он царственный стан затянул,
Покрепче коня боевого хлестнул.
Кровь жаждой борения вспыхнула в нем,
1910 Пустился воинственный вплавь на гнедом.
И вслед за вождем удалые стрелки
Стремительно бросились в волны реки.
На вихреподобных своих скакунах
Наездники, седла купая в волнах,
Легко рассекают течение вод,
И мысли быстрее их грозный полет.
Врагов обрекла неминучей беде
Та скачка коней огневых по воде.
Добравшись до суши, коней в тот же час
1920 Погнали иранцы в Бейт-оль-мукаддас[108].
Язык пехлевийский тогда бытовал
Тот город народ Гангдежгухтом назвал[109],
Арабы — Священным зовут его; он
Зохаком в былые года возведен.
Победу стремясь над врагом одержать,
Приблизилась к городу мощная рать.
И царь Феридун увидал за версту
В тумане предутреннем замок-мечту;
До свода небес он главою вставал[110],
1930 До самой звезды золотой доставал,
И блеск Моштери затмевая красой[111],
Сулил наслажденье, отраду, покой.
Царь понял, что это драконов дворец,
Где власть и величье, престол и венец.
В раздумьи друзьям он промолвил: «Коль мог
Воздвигнуть Зохак столь высокий чертог, —
Так верно судьбою дана ему в дар
Опасная сила таинственных чар.
Но спор разрешится на поле войны,
1940 И, значит, не мешкать — спешить мы должны».
Так молвив, оправил воитель броню
И, палицу стиснув, дал волю коню.
Стремительно к замку примчал его конь;
Казалось, пред стражею вырос огонь.
Под палицей царской ряды полегли;
Казалось, врубался он в толщу земли.
Ворвался в твердыню на буйном коне
Тот юноша, не искушенный в войне.
Остались без стражи ворота дворца,
1950 И царь-победитель восславил Творца.
[ВСТРЕЧА ФЕРИДУНА С СЕСТРАМИ ДЖЕМШИДА]
Ту крепость высокую — чудо чудес[112], —
Что злобный Зохак взгромоздил до небес,
Низверг Феридун, увидав, что она
Не именем Господа сотворена.
Царь всех, кто дорогу ему преграждал,
Рогатой своей булавою сражал.
Свирепейших дивов разил Феридун,
Искрошен был витязем каждый колдун.
Твердыню своей булавою-горой
1960 Избавив от нечисти, славный герой
Вступил во владенье драконьим дворцом,
Державным престолом его и венцом.
Однако найти лиходея не смог,
Хотя обошел весь обширный чертог.
Двух дев он в покоях дракона-царя
Увидел: у каждой, — лицо, как заря;
Омыть повелел солнцеликим тела,
Забыть повелел им дурные дела;
Очистив от скверны девичьи сердца,
1970 Повел их благою стезею Творца;
Открыл им сияние веры—пред тем
Мрачила их разум язычества темь...
Красавицы те из нарциссов-очей
На розы ланит изливали ручей
И речь с Феридуном такую вели:
«Живи до скончания века земли!
Какого ты дивного дерева плод,
Какая благая планета ведет
Тебя, о воитель, чей царственен лик!?
1980 Как смело ты в логово зверя проник!
[Нам были мученья одни суждены
В когтях у дракона, слуги сатаны.]
Безмерно тяжка наша участь была
Под игом безумца, приспешника зла!
Досель не видали столь полного сил,
Кто столько бы доблести в сердце носил,
Чтоб дерзко на яростных дивов напасть,
Отнять у дракона величье и власть».
На то Феридун отвечал: «Ни один
1990 Не вечен на этой земле властелин.
Атбин, мой отец, на иранской земле
Загублен Зохаком, погрязшим во зле.
Узнав, кто убийца, я в город его
Примчался — отмстить за отца своего.
Моею кормилицей доброй была
Корова, что красками взоры влекла:
И ту бессловесную, кроткую тварь
Убил кровожадный, неистовый царь.
И вот, опоясан на месть и на бой,
2000 Я рать из Ирана привел за собой,
Нагряну, и будет проклятый дракон
Моей булавою рогатой сражен».
Услышала витязя гневный рассказ
И, правду поняв, говорит Эрневаз:
«Недаром дрожал ненавистный колдун;
Ты — славный и доблестный царь Феридун.
Зохаку погибель несущий герой,
Ты счастье для мира добудешь борьбой.
Две девы из рода кеянского мы.
2010 От страха сдались мы приверженцу тьмы.
Легко ли терпеть нам соседство гадюк!
О славный, страшней не придумаешь мук!»
На то Феридун им промолвил в ответ:
«Коль помощь свою ниспошлет мне Изед,
С земли я злодея сотру без следа,
Избавлю от нечисти мир навсегда.
Теперь без утайки поведайте мне:
Где змей ненавистный, в какой он стране?»
И те, чтоб дракона сгубить поскорей,
2020 Поведали тайну владыке царей.
Сказали прекрасные: «Он, в Хиндустан[113]
Помчавшись, раскинул там дьявольский стан.
Судьбы неизбежной страшась, он готов
Срубить много тысяч безвинных голов.
Пророчил ему прозорливый мудрец:
Покинешь, мол, вскоре свой пышный дворец,
Отдашь Феридуну всевластье свое,
Увянет цветущее счастье твое,
Сулящее деспоту гибель и тьму,
2030 Пророчество сердце терзает ему.
Он, крови людской проливая поток,
Ее собирает, безмерно жесток,
И в ней омываясь, пытается страх
Прогнать и повергнуть пророчество в прах.
К тому ж ненасытная пара гадюк
Терзает злодея. Зверея от мук,
Утратив от ярости сон и покой,
Он мечется вечно из края в другой.
Уж время ему воротиться опять,
2040 Он долго не в силах нигде пребывать».
Таков был страдалицы-девы рассказ,
И витязь поверил речам Эрневаз.
[ФЕРИДУН И УПРАВИТЕЛЬ ЗОХАКА]
Зохак, покидая свой царственный дом,
Вельможе, что был ему верным рабом,
Престол, и венец, и казну оставлял,
И тот, полон рвения, всем управлял.
А звали того казначея Кондров[114],
Тирану служить неизменно готов,
Вступил управитель в дворцовый покой,
2050 И видит, дивясь: венценосец другой
На царском престоле спокойно сидит:
Ты скажешь — над тополем месяц блестит.
И справа — подобная пальме Шехрназ,
А слева — светлее луны — Эрневаз.
Доспехи воителей всюду звенят,
И царские слуги все входы хранят.
Не дрогнул Кондров, не спросил ни о чем,
Пришел и склонился пред новым царем.
Восславил великого, так говоря:
2060 «Земля да пребудет под властью царя!
Весь мир озари благодатью своей!
Достоин ты званья владыки царей.
Семи странам света ты станешь главой,
До туч вознесешься ты гордой главой».
К престолу владыка его подозвал,
Про все, что свершилось, ему рассказал.
Затем повеленье услышал Кондров:
«Готовь все достойное царских пиров.
Зови музыкантов, вели принести
2070 Все яства, какие у знатных в чести.
Потом на роскошный мой пир созовешь
Достойных со мной веселиться вельмож,
Всех знатных, кого почитают в стране.
Победу отпраздновать надобно мне».
Кондров, это слово услышав, тотчас
Исполнил царя молодого приказ.
Доставил и сазы, и вина, и снедь,
И тех, кто достоин у трона сидеть.
За чашей всю ночь просидел Феридун,
2080 По-царски пируя под пение струн.
Лишь утро ночной разорвало покров,
Царя молодого покинул Кондров.
Вскочил он в седло и, усердно гоня,
К Зохаку помчал вихревого коня.
До царского стана Кондров доскакал
И слово такое Зохаку сказал:
«Властитель наш, превозносимый везде!
Померкнуть твоей не пришлось бы звезде!
Примчались три брата в престольный твой град,
2090 И главным из них самый младший был брат.
Лик царственный, стан точно тополя ствол;
Бойцов за собою тот юноша вел.
Он возрастом младше, величьем видней
Средь тех родовитых, великих вождей.
Сжав палицу-гору, сияя как луч,
Скакал он пред войском, удал и могуч;
Ворвался верхом в твой державный чертог;
Два витязя с ним преступили порог.
Воссел на престол и надел твой венец,
2100 И хитрые чары разрушил вконец.
Воителей всех меднолатых твоих,
Которых застал он в палатах твоих,
На камни свергал он с высоких зубцов,
Кровь алую смешивал с мозгом бойцов».
«То — гость мой, быть может? — промолвил Зохак, —
А гости, как ведомо, — радости знак».
На это Кондрова ответ был: «Увы!
Владелец невиданной той булавы
Сегодня — всевластный хозяин дворца;
2110 Он стер твое имя с кольца и венца,
Законам его подчинился твой край.
Коль гостем считаешь такого, считай!»
Промолвил Зохак: «Что в унынье ты впал!
Гость наглый — к добру, иль о том не слыхал?»
«Да, слышал, — ответил Кондров, — а теперь
Послушай меня — и в несчастье поверь:
Тот витязь, — коль гостем пришел он в твой дом, —
Что делает в спальном покое твоем?
И сестры державца Джемшида зачем —
2120 Помощницы ныне делам его всем?
Одной он рукою ласкает Шехрназ,
Другой — привлекает к себе Эрневаз.
Ты б ночью не то еще видел сквозь тьму;
Ведь мускус подушкою служит ему.
А мускус тот — кудри красавиц твоих.
Давно ли ты сердце покоил меж них?»
Тут царь носорогом свирепым взревел
И, смерть призывая, свой проклял удел.
Посыпалась тут на Кондрова хула,
2130 Хоть не был злосчастный причиною зла.
Воскликнул Зохак, ярым гневом палим, —
Доверенным больше не будешь моим!»
Промолвил в ответ ему верный ключарь:
«Увы, опасаюсь я, мой государь,
Что сам ты лишишься венца и казны, —
Как вверишь тогда мне кормило страны?
Как сможешь поставить главою делам
Меня, коль с державой расстанешься сам?
Из царства, как волос из теста, пойми,
2140 Ты выброшен: меры к спасенью прими.
Не медля, своей озаботься судьбой;
Вовек не случалось такого с тобой».
[ФЕРИДУН ЗАКЛЮЧАЕТ ЗОХАКА В ОКОВЫ]
В Зохаке тут вспыхнула кровь горячей,
И вмиг перешел он к делам от речей.
Скликает он кличем воинственным рать,
Велит он коней быстроногих седлать.
Несясь во главе разношерстной орды,
Где дивов с бойцами смешались ряды,
Крадется к столице окольной тропой,
2150 Ворвался, и грянул на улицах бой.
Бойцы Феридуна навстречу врагу
Помчались, мечи обнажив на скаку.
Слетели с коней и с врагами в пыли
Тела в рукопашном сраженьи сплели.
Все улицы, кровли полны горожан;
Любой, кому дух был воинственный дан,
Сражался за власть Феридуна-царя,
К тирану-Зохаку враждою горя.
Мелькают на улицах стрелы, мечи;
2160 Проносятся камни, летят кирпичи,
Со стен низвергаясь, что град с облаков,
Горой громоздясь на пути у врагов.
Юнцы городские, отваги полны,
И старцы, искусные в деле войны,
Пришли, как один, в феридунову рать,
Зохаковы путы решившись порвать.
Кряж горный от воинских кликов гудит,
Устала земля от тяжелых копыт,
И копья, от крови пронзенных алы,
2170 Впиваются в сердце гранитной скалы.
Царя Феридуна у храма огня
Все радостно славят, Зохака кляня:
«Великому каждый покорствовать рад,
С любовью склонится пред ним стар и млад.
Прочь иго Зохака! Да сгинет злодей,
Драконов питающий мозгом людей!»
Сплотился с бойцами весь люд городской, —
И ринулся в битву бесчисленный строй.
И солнце густой пеленой облекла
2180 От пыли над городом вставшая мгла.
Услышав, меж тем, лютой ревности зов,
Зохак незаметно покинул бойцов.
Забрало спустив, чтоб его не узнать
Прохожим, он к замку прокрался, как тать.
С арканом, длиною локтей в шестьдесят,
На башню взбирается, злобой объят,
И видит: прекрасная царская дочь,
С лицом словно полдень, с кудрями как ночь,
К царю Феридуну ласкается, льнет,
2190 Его же, Зохака, хулит и клянет.
В том руку Изеда увидел Зохак;
Поняв, что беды не избегнуть никак,
И ревности жгучим огнем обуян,
Спустился, хватаясь за длинный аркан;
Забыл о престоле, о жизни самой,
Готовый неистово ринуться в бой.
Из ножен извлек закаленный кинжал,
Лица не открыл и себя не назвал.
И жаждая крови красавиц, вперед
2200 Стремится, и злоба в груди все растет.
Но только ступил он в дворцовый предел,
Как вихрь, Феридун на него налетел
И необоримой своей булавой
Рассек на сопернике шлем боевой.
Тут светлый явился Соруш и наказ[115]
Принес: «Не рази, не настал его час.
Повергни, свяжи; и влеки до тех пор,
Пока между двух не очутишься гор.
Там пусть он в оковах повиснет; пути
2210 Его приближенным туда не найти».
Увидя, что свыше наказ ему дан,
Метнул Феридун львиной кожи аркан,
И — пойман Зохак. В петлях корчится он,
Каких не сорвал бы взбесившийся слон.
Вступив во владение троном его,
Покончив с неправым законом его,
Велел Феридун возгласить у ворот:
«О доблестный, разума полный народ!
Оружье оставив, теперь на страну
2220 Вы мир призовите, забудьте войну.
Ремесленнику и бойцу неподстать
Себе одинаковой славы искать.
Пусть каждый берется за дело свое, —
Иначе ворвется разлад в бытие.
В оковах нечистый, что зло совершал
И трепет народу столь долго внушал.
С весельем в сердцах долго здравствовать вам!
Отныне вы к мирным вернитесь трудам».
И все горожане, собравшись толпой,
2230 Восславили подвиг царя боевой.
А те, что рождением были знатны,
Владельцы сокровищ, богатой казны,
С дарами со всех поспешили сторон,
Теснясь, обступили властителя трон.
И царь их приветливо встретил, как друг.
Он чествовал каждого в меру заслуг,
Разумною речью мужей наставлял,
Пред ними владыку миров прославлял.
Изрек: он «Пристал мне престол золотой;
2240 Отныне вам жить под счастливой звездой.
Я избран Всевышним, создавшим миры,
Им послан на подвиг с Эльборза-горы.
Я землю, исполнив йезданов наказ,
От чудища злого очистил для вас.
Нам ныне дарована милость Творца,
Пойдем же благою стезей до конца!
Повсюду я властвую в мире земном,
Нельзя мне в краю оставаться одном.
И рад бы я с вами еще отдохнуть,
2250 Но долг призывает немедленно в путь».
Склонилась пред ним на прощание знать,
И в путь барабан стал, гремя, призывать.
И вот, провожая царя-храбреца,
В печали толпится народ у крыльца.
У воинов царских в сердцах торжество;
Схватили дракона, связали его.
И город, еще не насытив им взор,
Оставили вновь для пустынь и для гор.
С позором Зохака помчали, кляня,
2260 Привязанным накрепко к шее коня.
Как вихрь, устремились к Ширхану... Внемли[116]
И вспомни о старости нашей земли!
Над склонами гор и над ширью степей
Немало прошло и пройдет еще дней...
Примчался, Зохака влача за собой,
В Ширхан венценосец, хранимый судьбой.
До гор отдаленных добравшись, в пути
Решил он над пленником меч занести.
Но снова посланец небесных высот
2270 Ему сокровенное слово несет:
«Со связанным чудищем дальше скачи,
Без рати его к Демавенду домчи[117].
С немногими в путь отправляйся людьми,
Лишь стражей надежных с собою возьми».
Быстрее гонца поскакал властелин,
С Зохаком добрался до горных вершин;
Связав еще крепче, его поволок,
Злодея на горькую участь обрек.
Зохаково имя поверг он во прах,
2280 Исчезли с земли злодеянья и страх.
Злодей в одиночестве с этой поры
Остался прикованным в сердце горы.
Зияла там пропасть, глуха и мрачна;
Взглянув, Феридун не увидел в ней дна.
Гвоздями пронзил ему руки, и вот
К граниту прибит кровожадный урод.
В той пропасти черной, к отвесной скале
На долгие годы прикован во мгле,
Повис он, в мученьях свой жребий влача;
2290 По каплям текла кровь царя-палача...
Преступного ты опасайся пути,
Жизнь должно в служеньи добру провести.
Ни зла ни добра не удержишь в руках,
Оставь же хоть светлую память в веках!
Червонцы, богатства, высокий дворец
Тебя не спасут, их не ищет мудрец.
Лишь слову сберечь твое имя дано.
Чти слово: поверь, всемогуще оно.
Ведь царь Феридуп был не духом святым,
2300 Не амброй, не мускусом,—прахом простым.
Он щедростью, правдой достиг высоты, —
Будь праведен, щедр — с ним сравнишься и ты[118].
Изедовы в мире творил он дела,
Очистил весь мир от насилья и зла.
Во-первых, пленен был могучим Зохак,
Народу принесший страданья и мрак.
Отмстил, во-вторых, он за гибель отца,
Отвагой державы достиг и венца;
И, в-третьих, из древних владений своих
2310 Бесстрашно изгнал он безумных и злых.
О жребий, питомцев своих не лелей,
Коль сам же, взлелеяв, ты губишь людей!
Увы, Феридун, полный силы юнец,
Отнявший у старца Зохака венец,
Владыкой пробыв пять столетий, ушел,
Навеки оставил державный престол.
Отсюда он в мир перенесся другой,
Не взяв ничего, кроме грусти, с собой.
Будь пастырем или пасомым ты будь,
2320 Один у простого и знатного путь.
ФЕРИДУН [Царствование длилось пятьсот лет]
[ФЕРИДУН ВСТУПАЕТ НА ПРЕСТОЛ ИРАНА]
Так стал Феридун, победивший в борьбе[119],
Царем, и не ведал он равных себе.
Украсил дворец, и корону, и трон,
Во всем возрождая кеянский закон.
Лишь месяца Мехра настал первый день[120],
В венце он вступил под дворцовую сень.
Избавился мир от насилья и зла,
Стезею изедовой жизнь потекла.
На празднике новом, избавлен от смут,
2330 Плясал, веселился ликующий люд.
И витязи тесным сомкнулись звеном,
И пенились чаши кипучим вином.
Был солнцу подобен, лик ясный царя,
И новая мир осветила заря.
Приказ был царем торжествующим дан
Жечь амбру душистую, руту, шафран.
Тот праздник зовется Мехрган с той поры[121],
В тот праздник — повсюду веселье, пиры.
Хранит его в память владыки народ.
2340 В Мехрган избегай и трудов и забот!
Пять светлых столетий он, мудр, справедлив,
Царил, ни единожды зла не свершив.
Но роком, о сын, унесен был и он.
Не будь же ни алчен, ни скорбью согбен!
Знай, счастья никто не удержит навек,
Мгновений блаженных стремителен бег...
Тем временем мать изнывала в тоске,
Не зная, что сын ее там, вдалеке,
С Зохаком в борьбе одержал торжество,
2350 Что время всевластья прошло для того.
Но час наступил, — Феранек узнает,
Что сына признал властелином народ.
Свершив омовенье, достойная мать
Всевышнему стала хвалы воздавать;
Склонилась пред ним, и Зохака дела
Припомнив, дракона того прокляла;
Творца ж прославляла за ливень щедрот,
За этот счастливый судьбы поворот.
Всем жителям края, кто жил победней,
2360 Скрывая лишенья от взора людей,
Она втихомолку казной помогла,
Их бедности тайну от всех сберегла.
Семь дней провела, раздавая дары;
Голодных не стало вокруг с той поры.
Раздав подаянье, другие семь дней
Готовила пир для людей познатней;
За скатерть роскошную, словно цветник,
Сажала любого, кто родом велик.
Потом из хранилищ она извлекла
2370 Сокровища те, что года берегла.
Заветные клады задумав раздать,
Ларцы распахнула счастливая мать;
Открыла казну, видя сына царем,
Дирхемы презрела в величьи своем.
Богатых одежд и каменьев цветных,
Арабских коней и стремян золотых,
Кольчуг и шеломов, секир и мечей,
И перстней, и шапок не жаль было ей.
К владыке миров обратившись душой,
2380 Добром караван нагрузила большой
И сыну подарки послала вдова,
А с ними любви материнской слова.
Дары получив, победитель в ответ
Родимой послал свой сыновний привет.
Узнали о славной победе войска,
И радость иранцев была велика.
Сказали: «Да будет прославлен Йездан,
Да будешь ты светлой судьбой осиян,
Да крепнет рука твоя день ото дня,
2390 Да сгинет злодей, свою долю кляня!
Стезей справедливости шествуй вперед,
И небо победу тебе ниспошлет».
Мужи отовсюду один за другим
Ларцы с достояньем несли дорогим.
Они золотым и алмазным дождем
Престол осыпали, склонясь пред вождем.
К воротам дворца, ликованья полны,
Шли толпами знатные люди страны;
Они призывали Творца благодать
2400 На царский престол, и венец, и печать;
Хвалу воздавали царевым делам,
С молитвою руки воздев к небесам,
Твердя: «Да не будет дням царским конца,
Навек да пребудет он светом венца!»
Объехал затем Феридун свой удел,
Сокрытое, явное — все разглядел:
Где бедствия иль запустенье встречал,!
Нечестие иль угнетенье встречал, —
Свершенное зло возмещал он добром,
2410 Как должно тому, кто родился царем.
Он землю в сияющий рай обратил,
Везде кипарисы и розы взрастил.
Вступил в Теммише он, оставив Амол[122],
И в роще воздвиг свой державный престол.
А ныне по-новому, Кусом зовут[123]
Тот радостный, благословенный приют.
[ФЕРИДУН ПОСЫЛАЕТ ДЖЕНДЕЛЯ В ЙЕМЕН]
Полсотни владыке исполнилось лет[124],
Когда народились три сына на свет[125].
Все трое достойны престола, они
2420 Наполнили счастьем родителя дни;
Во всем они с доблестным схожи отцом,
Свежи, как весна, и пригожи лицом.
Два старших — от темноволосой Шехрназ,
А младший — от ясной, как луч, Эрневаз.
Еще им отцом не даны имена,
А каждый уж мог бы осилить слона[126].
Однажды владыка на них посмотрел:
Любой для венца и престола созрел.
Мужей перебрал именитых и вот
2430 Он мудрого мужа — Дженделя зовет.
С ним шах совещался всегда о делах,
Имел в нем помощника верного шах.
Сказал Феридун: «Обойди все края,
Ходи по земле от жилья до жилья.
Достойных невест для моих сыновей
Найди — трех красавиц из знатных семей,
Которых родитель никак не нарек,
Чтоб даже окликнуть никто их не мог;
Царевен, рожденных одною четой,
2440 Блистающих, словно перй, красотой;
Столь схожих, чтоб встретив их вместе, троих,
Не видя различия, путали их».
Услышал и повиновался Джендель,
Готовый благую преследовать цель.
Он мягок в речах, рассудителен был,
Ко благу привержен и бдителен был.
Взяв нескольких близких с собою, мудрец Покинул немедля владыки дворец.
Оставив родного Ирана предел,
2450 Искал он, расспрашивал, слушал, глядел. Где-либо прослышав отрадную весть,
Что в доме богатом красавицы есть,
Он сведенья тайно о них добывал,
О роде и славе их все узнавал;
Но всю обозрев родовитую знать,
Желанных красавиц не мог подобрать.
Помчался он в жажде благих перемен
К властителю Серву в далекий Йемен[127].
Узнав о прекрасных его дочерях —
2460 Таких, как описывал доблестный шах.
И радостен, словно фазан пред цветком,
Предстал он пред Сервом, йеменским царем;
Склоняясь почтительно, прах целовал,
Владыке усердно хвалу воздавал:
«О царь, да живешь ты, не ведая зол,
Собой украшая венец и престол!»
Серв молвил: «Твои да продлятся лета,
Тебя да прославят людские уста!
С каким ты явился известьем благим?
2470 Послом или гостем пришел дорогим?»
Ответил Джендель: «Вечно радостен будь!
Пусть враг не дерзнет на тебя посягнуть!
Я — царский слуга, что в Иране возрос,
Владыке Йемена посланье привез,
Привез от царя Феридуна привет;
Что хочешь, то спрашивай, дам я ответ.
Тебе, государь, посылает он весть:
«Доколь благовонье у мускуса есть, —
Правь миром, не ведая мук и скорбей,
2480 Сокровища множь и заботы развей.
О гордость арабского края, — всегда
Твоя да сияет благая звезда! —
На радость потомство судьбой нам дано,
Нам собственной жизни дороже оно.
Для сердца роднее прибежища нет,
И связей теснее не ведает свет.
Коль может три ока иметь человек,
Три сына очами мне стали навек.
Дороже очей существо для тебя,
2490 На коем ты очи покоишь, любя.
Слова мудреца мы слыхали не раз,
Когда заводил он о дружбе рассказ:
По сердцу подругу лишь в той обрету,
Которую выше себя я сочту.
Кто, мудрый, о светлой мечтает судьбе,
Достойную спутницу ищет себе.
Ведь люди — земли украшенье и цвет,
Без воинов и предводителя нет.
Даны мне цветущие земли, полки,
2500 Богатство, и доблесть, и сила руки,
И юных три сына, достойных венца,
Три светлых душой и умом удальца.
В сокровищах нет недостатка у них,
В их власти — свершенье желаний любых.
Трем юношам тем благородным подстать
Мне должно царевен-невест подыскать,
И вот я гонца к тебе выслал с письмом,
Узнав через слуг моих верных о том,
Что ты за ревнивой завесой своей
2510 Хранишь ослепительных трех дочерей,
Что ты имена им досель не нарек;
Знай, в этом для сердца — веселья залог:
И мы ведь наследников юных своих
Растим без имен, как пристало для них.
Сокровища наши ценою равны,
Их судьбы мы слить воедино должны.
Три девы-луны, три царя молодых —
Судьба друг для друга назначила их»
Такое посланье тебе и привет
2520 Шлет царь Феридун. Что ты скажешь в ответ?»
Услышав те речи, поник властелин,
Как будто с водой разлученный жасмин.
Подумал он: «Если меня Феридун
Лишит трех царевен, трех ласковых лун,
День ясный мне станет, что темная ночь,
Уста мне открыть для ответа невмочь.
Все думы со мной они делят давно,
В делах моих смыслят со мною равно.
Мне лучше пока воздержаться от слов.
2530 Сперва на совет созову мудрецов».
Властитель в хоромах посла поместил,
А сам размышленьям досуг посвятил.
За дверью закрытой, в безмолвьи палат
Сидел он, тоской и тревогой объят;
Затем копьеносцев собрал на совет,
Извлек затаенные думы на свет,
Сомненья свои пред мужами раскрыл,
Премудрым старейшинам так говорил:
«Сияют мне ярче небесных лучей
2540 Три светоча — радость отцовских очей.
Но царь из Ирана послание шлет;
Раскинутых как избежать мне тенет?
Любимых со мною хотят разлучить:
Что делать — должны вы меня научить.
Сказал от лица Феридуна посол,
Что трое достойных воссесть на престол
Сынов его мне предлагают родство
И ждут дозволенья начать сватовство.
Отвечу ли «да», — в сердце «нет» говоря?
2550 Притворство и ложь недостойны царя.
Получит согласье мое шахиншах —.
Душою сгорю, изойду я в слезах.
А если отвергну веленье царя,
Настигнет, боюсь, меня мщенье царя.
Все страны владыкой его нарекли,
Легко ли тягаться с владыкой земли!
Все знают, как в мире прославился он,
Как с мощным Зохаком расправился он.
Какое об этом сужденье у вас?
2560 Что в мыслях таите, скажите тотчас».
Мужи-мудрецы, что пришли на совет,
Промолвили слово такое в ответ:
«Не должно, чтоб ветра малейший порыв
Тебя, как тростинку, сгибал, покорив.
Хоть шах Феридун и любимец судьбы,
Колец мы не носим в ушах — не рабы[128].
Обидную речь отвергать — наш закон,
Поводья и лук напрягать — наш закон.
Кровь на поле хлынет, как винный родник,
2570 И вырастут копья, как длинный тростник.
Коль хочешь сберечь дочерей и страну,
Сомкни ты уста, отомкни ты казну!
А если желаешь ты средство найти
Державу без битвы кровавой спасти —
Поставь венценосцев задачей втупик,
Чтоб цели своей Феридун не достиг».
Царь, внемля той речи, глядел все мрачней;
Ни складу, ни ладу не видел он в ней.
[ОТВЕТ ЦАРЯ ЙЕМЕНА ДЖЕНДЕЛЮ]
Призвал он посла Феридуна-царя,
2580 Ответ ему ласковый дал, говоря:
«Я мал, с властелином твоим не сравним.
Скажи ему: рад я склониться пред ним.
Скажи: пусть величьем затмил ты весь свет, —
Дороже потомства сокровища нет.
Ведь сын — утешенье владыки-отца,
Особенно тот, что достоин венца.
С тобою, о царь, я согласен во всем;
По собственным детям сужу я о том.
Когда б ты просить мои очи пришел,
2590 Просить мое царство, Йемена престол, —
Знай, легче мне было б, чем милых детей
Лишиться — опоры единой моей.
И все ж, если это — стремленье царя,
Исполнить я должен веленье царя.
По воле его, трое ласковых чад
Расстанутся с сеньюотцовских палат.
Сынов своих доблестных, славных царей,
Надежду державы твоей — поскорей
Ко мне ты пришли, буду юношам рад,
2600 Мне душу весельем они озарят.
И сам, не довольствуясь гласом молвы,
Увижу я, нравом они каковы.
Коль сердце у каждого вправду светло,
Приму их в объятья, возьму под крыло;
А там и красавиц, очей моих свет,
Вручу им, как древний велит нам завет.
Когда же соскучишься ты по сынам,
Домой их отправить приказ я отдам».
Посол хитроумный, ту речь услыхав,
2610 С почтеньем к престолу владыки припав,
Восславив его и оставив его,
Помчался к чертогу царя своего;
От Серва привет Феридуну привез,
Сказал, как исполнить приказ удалось.
Призвал повелитель трех юных сынов,
С заветных намерений сбросил покров, —
Открыл, что в Йемен посылал он посла
И цель какова той поездки была.
«Серв, тополь державный йеменских равнин[129],
2620 Дающий отрадную сень властелин,
Тремя дочерьми свой украсил престол,
Сынов не имея, в них счастье обрел.
Соруш пред невестой, подобною им,
Во прахе простерся б, любовью палим.
Сосватал красавиц я этих для вас,
Поездка гонцу моему удалась.
Теперь вам отправиться надобно в путь,
Красою суждений в беседах блеснуть.
В речах обходительны будьте, умны,
2630 Владыке внимайте, учтивы, скромны.
Привет и хвалу расточайте ему,
Разумно на речь отвечайте ему —
Затем, что достоин венца только тот,
Кто с чистой душой пред людьми предстает,
Кто веры исполнен и красноречив,
В делах дальновиден, умом прозорлив,
Кто истине—друг, лицемерию—враг,
И мудрости ищет — не суетных благ.
Внемлите, и мне повинуйтесь во всем,
2640 К блаженству прямым вас направлю путем.
Достоинств у Серва-властителя тьма:
Не сыщешь острей, прозорливей ума,
Немало и войск у него, и казны,
Ему красноречье и знанья даны.
Не должен он вас слабосильными счесть;
Ловушки коварства расставит вам тесть.
В день первый устроит он пиршество вам;
Когда вы предстанете царским очам,
Введет он трех дев, обольщающих взгляд,
2650 Как вешней порой расцветающий сад.
Усадит пред вами своих дочерей,
Что полдня светлей, кипарисов стройней,
Все равного роста, с походкой одной
И все одинаково схожи с луной.
Но младшая — знайте — их всех поведет,
А старшая — знайте — за средней пойдет.
Ты, старший, окажешься рядом с меньшой,
Ты, младший — со старшей царевной-мечтой;
Со средним же — средняя сядет луна;
2660 Да будет заране вам хитрость ясна.
Отец одноликих, готовя подвох,
Вас спросит, — которая старше из трех,
Где средняя, спросит, и младшая кто?
Владыке должны вы ответить на то.
Скажите: меньшая сидит впереди,
Дочь старшая — там, где не след, — позади;
А та, что меж ними, быть средней должна.
Так будет задача царя решена».
Три юных и чистых душой храбреца,
2670 Внимательно выслушав речи отца,
Из царских палат с упованьем ушли,
Исполнясь уменьем и знаньем, ушли.
Не диво, что знаньем богаты сыны,
Которые мудрым отцом взращены.
[СЫНОВЬЯ ФЕРИДУНА ОТПРАВЛЯЮТСЯ К ЦАРЮ ЙЕМЕНА]
Отправились в путь венценосцы втроем,
Дары увозя в караване своем;
За ними — мобеды, верховная знать
И, как небеса, необъятная рать.
Лишь весть о походе до Серва дошла,
2680 Он, войско красивей фазанья крыла
Построив, с ним выслал для встречи гостей
Родню и других именитых людей.
На улицы вышел йеменский народ;
Достигли три брата йеменских ворот;
Спешит их приветствовать высшая знать,
Шафраном и жемчугом их осыпать,
Лить с мускусом вина на гривы коням,
Динарами путь устилать скакунам.
Волшебным казалось убранство хором,
2690 Украшенных золотом и серебром,
Где пышно румийские ткани цвели,
Где собраны были все блага земли.
Туда повели феридуновых чад;
К утру у них прибыло силы стократ.
Слова властелина иранской страны
Сбылись: трех красавиц, светлее луны,
Слепивших глаза красотой неземной,
Привел обладавший йеменской страной.
Ступали невесты в порядке таком,
2700 Какой Феридун и предвидел — гуськом.
У братьев, спросил повелитель тогда:
«Какая из этих — меньшая звезда,
Которая — средняя, старшая — кто?
Сумейте, как должно, ответить на то».
Ответили те, как учил их отец;
Порвали силки, что расставил хитрец.
Дивится собрание знатных людей,
В смущении Серв, государь-чародей
Царевичам внемлет, и ясно ему,
2710 Что все ухищренья теперь ни к чему.
И царь обручил, сокрушаясь душой,
Со старшими старших, меньшого с меньшой.
Желанья свершились, святой договор
Скрепить согласились владыка и двор.
Смутясь, за царевной царевна-краса
Встает, — на челе проступила роса;
К себе удалились, стыдливы, скромны,
Алеют их лица и речи нежны.
[СЕРВ КОЛДУЕТ НАД СЫНОВЬЯМИ ФЕРИДУНА]
По воле владыки Йемена, вино
2720 Для пышного пиршества принесено.
Под говор струны не смыкались уста,
Пока не сгустилась вокруг темнота.
Три юных царевича, кубки подняв,
Царю пожелали, чтоб вечно был здрав.
Когда ж все поникли, поддавшись вину,
И всех потянуло к блаженному сну,
Велел государь, замышляя беду,
Устроить трем витязям ложе в саду,
Под стройным, роняющим цвет миндалем,
2730 Где благоуханный блистал водоем.
Задумал деянье жестокое царь,
Арабов глава, колдунов государь.
Он тихо из сада ушел своего
И втайне творить принялся колдовство.
Злой ветер и холод он стал нагонять,
Чтоб жизнь у царевичей спящих отнять.
Долины и горы вокруг будто медь
Сковала; не смел даже ворон взлететь.
Три сына владыки — грозы колдунов —
2740 Вскочили, почуяв, как холод суров.
Изедовым светом и силой святой,
Отвагою, мудростью и чистотой
Сломили они силу темную зла,
И стужа, не тронув их, мимо прошла.
Лишь мир осветился сияньем лучей,
Поспешно пришел властелин-чародей
Туда, где уснули царевы сыны, —
Взглянуть, как лежат они, ликом черны,
Узнать, что сгубил их мороза набег,
2750 Что дочери с ним не расстанутся ввек.
Такое он зрелище взору сулил,
Но рок всемогущий иное судил.
Подобные месяцу, трое юнцов
Сидели в блистании царских венцов.
Серв понял, что проку не даст колдовство,
И впредь отступиться решил от него.
Йемена глава, покорившись судьбе,
Всех знатных на пир созывает к себе,
И клады, лежавшие множество лет,
2760 Из тьмы тайников извлекает на свет.
Трех дев солнцеликих, что юны, стройны[130], —
Дехкан не взрастил бы подобной сосны! —
В венцах и с казною, с заботой одной —
Чтоб черные кудри ложились волной, —
Вручил он увенчанным богатырям:
Трех юных пери — трем могучим царям.
Подумал владыка, печалью объят:
«Не царь Феридун предо мной виноват,
Сам грешен я — в мире да сгинет мой след! —
2770 Не то сыновей произвел бы на свет!
Коль дочери нет, не изведаешь бед;
Родившему дочь — в мире счастия нет».
Но вслух пред мобедами вымолвил царь:
«Луне подобает супруг-государь.
Три светоча милых с собой разлучу,
Царевичам их по закону вручу:
Пусть жен, как зеницы очей, берегут,
В сердцах своих дав им навеки приют».
И слезы пролив, он приданого кладь
2780 На мощных верблюдов велел нагружать.
Да, чадо — будь сын или дочь — все равно,
Прекрасное, дорого сердцу оно!
Страна от сверканья рубинов светла,
Блистая, шуршит паланкина пола.
И каждый готовый в дорогу шатер,
Надиво украшенный, радует взор.
По-царски детей снарядил властелин,
И с ними простившись, остался один.
Ликуя, к пределам родимой страны
2790 Помчались царя Феридуна сыны.
[ФЕРИДУН ИСПЫТЫВАЕТ СВОИХ СЫНОВЕЙ]
Узнав, что вернулись они, наконец,
Горя нетерпеньем, родитель-мудрец
Сыновнюю доблесть познать пожелал,
Сомненья из сердца изгнать пожелал.
В обличьи дракона он встал на пути;
Казалось, и льву от него не уйти.
Он бурей навстречу сынам полетел,
Огонь изрыгнув, зашипел, засвистел.
Меж склонов высоких, окутанных мглой,
2800 Троих сыновей увидав пред собой,
Пыль тучей он поднял и ринулся к ним,
Весь мир оглашая шипеньем своим.
На старшего бросился лютый дракон,
Тот молвил (он разумом был одарен):
«Коль мчится чудовище, смертью грозя,
С ним бой затевать человеку нельзя».
Отпрянул и в бегство пустился юнец.
Напал тут на среднего сына отец.
Едва на чудовище средний взглянул,
2810 Схватил он свой лук, тетиву натянул
И крикнул: «Коль биться с врагом суждено,
Дракон или всадник — не все ли равно!»
Тут младший на выручку брат подоспел.
Не дрогнув пред чудищем, стоек и смел,
Он выхватил острый свой меч из ножон,
И грозное слово услышал дракон:
«Эй, дерзкий, дорогу нам! Силы не трать,
Не тигру со львами в борьбе совладать.
Коль имя тебе Феридуна-царя
2820 Известно — ты с нами тягаешься зря.
Все трое — владыки того мы сыны,
Разим булавою, отваги полны.
С пути удались, а не то поражу,
Бесчестья венец на тебя водружу!»
Их доблесть изведал отец и тотчас
В обличье драконовом скрылся из глаз.
Вернулся, в родителя вновь обращен,
Блюдя венценосцев обряд и закон,
Везя на слоне барабан боевой,
2830 С тяжелой рогатой своей булавой,
Меж витязей шел он, свой дух веселя, —
Владыка, при ком процветала земля.
Царевичи, рады отцу своему,
Пешком поспешили навстречу ему.
При реве слоновьем, при громе литавр,
Склонились сыны, пред владыкой представ.
Родитель, их за руки взяв, целовал,
Все почести должные им воздавал,
И после повел сыновей ко дворцу,
2840 Воздав горячо благодарность Творцу;
И долго его не смолкала хвала
Судье неподкупному блага и зла. . .
Сынов посадил он по обе руки
И молвил: «Увиденному вопреки,
Узнайте же ныне, мои сыновья,
Что был тем чудовищем яростным — я.
В него обратившись и вас испытав,
Каков, я проведал, у каждого нрав.
Теперь облеку вас красою имен[131], —
2850 Так действовать должно тому, кто умен.
Ты, первенец, Сельмом отныне зовись[132];
Тебе суждено высоко вознестись.
Ты пасти дракона избег, невредим,
В миг нужный сумел отступить перед ним.
Кто в битву кидается с яростным львом,
Того не героем — безумцем зовем.
Ты, средний, безмерную удаль явил,
Гнев пламенный в битве придал тебе сил.
Зовись же ты именем Тура, о лев![133]
2860 Свирепых слонов сокрушил бы твой гнев.
Отвага уместная красит бойца;
Кто сердцем пуглив, не достоин венца.
У младшего — доблесть рассудку подстать;
Он знает, где медлить и где нападать,
Средину избрав меж землей и огнем;
Достоинства все сочетаются в нем.
Отважен, и юн, и умом наделен,
На свете всех больше прославится он.
Иреджем его подобает наречь;
2870 Великим властителем будет Иредж[134], —
Затем, что в сраженьи сей доблестный лев,
И разум являет, и пламенный гнев.
Арабских красавиц, похожих лицом
На нежных пери, также мы наречем:
Пусть Сельма жену величают везде
Арзу; имя туровой будь — Азаде[135].
Сехи да зовется Иреджа жена[136];
Красою Сохейль затмевает она[137].»
И после таблицу небесных светил,
2880 Что мудрый знаток-звездочет начертил,
Раскрыл повелитель, гадая по ней
О жребии славных своих сыновей.
Что было назначено Сельму, смотри:
Вступивший в созвездье Стрельца Моштери[138].
Что храброму Туру? Царь, глянув едва,
Увидел над Солнцем созвездие Льва[139].
Когда ж он о судьбах Иреджа гадал,
В созвездии Рака Луну увидал[140].
По знаменьям звездным он видел, что ждут
2890 Иреджа годины печалей и смут,
Что беды одни у него впереди, —
И вырвался горестный вздох из груди.
Он понял, что впредь у небесных высот
Любви снисходительной сын не найдет.
Он чуял: в опасности чистый Иредж,
Грозит ему злобного недруга меч.
[ФЕРИДУН ДЕЛИТ МИР МЕЖДУ СЫНОВЬЯМИ]
Постигнув сокрытую тайну светил,
Мир натрое царь Феридун разделил:
Часть — Запад и Рум, часть — Китай и Туран[141],
2900 А третья — Пустыня бойцов и Иран.
Сначала на первенца он поглядел,
Рум с Западом Сельму назначил в удел[142].
По воле отцовской, Сельм выстроил рать
И с нею на Запад пустился скакать.
Достигнув столицы, взошел на престол
И званье владыки Заката обрел.
А храброму Туру седой властелин
Туран во владение отдал и Чин[143].
Царь войско для Тура собрать поспешил,
2910 Тур двинуть в поход эту рать поспешил.
Пришел и на царство с той самой поры
Себя опоясал и роздал дары.
Алмазы к ногам его сыпала знать,
Туранским владыкой стал мир его звать[144].
Когда же Иреджа черед наступил,
Ему во владенье отец уступил
Иран и Страну копьеносных бойцов[145],
Престол и венец миродержных отцов.
Он знал, что избранник достоин дворца,
2920 Печати и перстня, меча и венца.
Иранским владыкой стал зваться Иредж,
Всех знатных и мудрых сумел он привлечь.
Так в странах своих воцарились они.
Настали счастливые мирные дни.
[БРАТЬЯ ПРОНИКАЮТСЯ ЗАВИСТЬЮ К ИРЕДЖУ]
Немалое время минуло с тех пор,
Таила судьба роковой приговор.
Уже Феридун — одряхлевший старик,
Поблек его радостный, вешний цветник.
Для всех этот час наступает равно:
2930 Стареющей силе слабеть суждено.
Окутана тьмой властелина звезда,
Его сыновей обуяла вражда.
Забота недобрая Сельма гнетет,
Нет помыслов прежних и нрав уж не тот.
Корыстью и алчностью втайне томим,
Ведет он беседы с везиром своим.
Не в силах забыть, что отец на престол
Не старшего — младшего сына возвел[146].
В душе его злоба, лик полон морщин.
2940 Вот брату письмо посылает он в Чин[147],
Поведав о боли, терзающей грудь, —
И вестник стремительно двинулся в путь.
В послании Сельма такие слова:
«Да будет в душе твоей радость жива.
Знай, брат мой, носящий Турана венец.
Нам враг — позабывший Йездана отец.
Он низок душою и сердцем жесток,
Хоть с виду, как тополь, я горд и высок.
О мудрый, пойми: с незапамятных лет
2950 Деянья такого не видывал свет.
Три сына, венца мы достойны равно,
Но младшему старшими править дано.
Годами я старше и, значит, мудрей,
Быть мне подобает владыкой царей.
А если не я — на верховный престол
Ты, средний, пускай бы по праву взошел.
С решеньем неправым мириться нет сил.
Обоих нас тяжко отец оскорбил.
Иран, и Пустыня бойцов, и Йемен —
2960 Иреджу, а мне — Рум и Запад взамен!
Тебе — отдаленный Китай и Туран,
А младший верховным венцом осиян!
Подобный раздел я принять не могу.
Нет разума, видно, в отцовском мозгу».
Гонец поскакал и, в поту и в пыли,
Примчался к владыке туранской земли;
Что слышал, то все властелину излил,
Безмозглого Тура на месть распалил.
Послание выслушал Тур. Захмелев
2970 Мгновенно от злобы, взъяренный, как лев,
Сказал он в ответ: «Возвращайся к царю.
Слова передай, что ему говорю:
Воистину, в юности нашей отец
Нас предал с тобой, справедливый мудрец!
Своими руками посеял он сад,
Где зреет лишь кровь да губительный яд.
Для тайной беседы об этом сейчас
Нам свидеться надобно с глазу на глаз,
Все мудро обдумать и рать снарядить».
2980 И сам он посланца спешит отрядить.
Вельможа, что речью искусно владел,
Из царства туранского к Сельму в удел
Отправился с тайным известьем: «Внемли,
О царь прозорливый, о гордость земли!
Обиду такую, столь низкий обман
Не должно простить, коли разум нам дан.
Нельзя в этом деле нам медлить с тобой:
Где надобно действовать, вреден покой».
С ответом от Сельма вернулся гонец,
2990 И с тайны покров соскользнул наконец.
Из Рума шел брат, из Китая шел брат,
В мед сладостный капнул губительный яд.
Увиделись, тайный держали совет
И дали открыто единства обет.
[ПОСЛАНИЕ СЕЛЬМА И ТУРА ФЕРИДУНУ]
Владыки призвали мобеда потом,
В речах искушенного, с острым умом;
От лишних очистили царский покой
И тут же поведали замысел свой.
Сельм, первым намеренья злые открыв
3000 И стыд пред державным отцом позабыв,
Промолвил мобеду: «Скачи день и ночь,
Догнать тебя ветру да будет невмочь!
Стрелою к царю Феридуну лети,
Нигде остановок не делай в пути.
Как только примчишься к цареву дворцу,
Поклон от сынов передашь ты отцу
И скажешь ему: «Пред создателем страх
Должны сохранять мы в обоих мирах.
Лежит перед юношей к старости путь,
3010 Седым волосам черноты не вернуть.
Кто мешкает долго в сем тесном дому,
Становится дом все теснее тому.
Йездан даровал тебе щедрой рукой
От солнца до праха простор весь мирской.
Законом желанье свое ты избрал,
Йездана заветы надменно попрал,
К обману и кривде душой тяготел,
Свершил самовластно неправый раздел.
Три сына даны тебе щедрой судьбой
3020 И каждый на деле испытан тобой.
Ты в младшем достоинств таких не знавал,
Которыми братьев бы он затмевал.
Ты первого в глотку дракону метнул,
Второго в заоблачный край зашвырнул,
А третий с тобою и ночью и днем,
И радостный взор ты покоишь на нем.
Не ниже имеем мы мать и отца,
Не меньше его мы достойны венца.
Внемли же, о праведный царь всех царей:
3030 Хвалы не стяжаешь ты правдой своей!
Иль сбросит Иредж властелина венец,
Покинув захваченный царский дворец;
Ему уголок ты укажешь земли,
Чтоб так же, как мы, прозябал он вдали:
Иль разом Турана и Чина бойцов,
И с ними румийских моих удальцов
Я в битву стеной копьеносной пошлю,
Иран и Иреджа мечом истреблю».
Мобед, как услышал недобрый наказ,
3040 Склонился и в путь поспешил в тот же час,
С такой быстротою вскочил он в седло,
Как если бы ветром огонь понесло.
Он славного города вскоре достиг;
Дворец перед ним величавый возник,
Обширен, как степь от хребта до хребта.
До туч поднебесных дворца высота.
У входа — ряды достославных мужей,
Собрание доблестных ратных вождей.
Львы, лютые тигры — с одной стороны,
3050 С другой стороны — боевые слоны.
Громовый раздался воителей крик,
Что львиный, сердца устрашающий рык.
Казалось, пред ним не дворец — небосвод,
И рать великанов его стережет.
К царю неусыпные стражи пошли,
Ему доложили, склонясь до земли:
С вестями примчался к царю во дворец
Достойный, почтенного вида гонец.
Завесу поднять Феридун приказал,
3060 И посланный в тронный направился зал.
Едва на владыку взглянул он в упор,
Пленились блистательным сердце и взор:
Лицо, словно солнце, и стан, как сосна,
Над розами щек — камфорой — седина,
Улыбчивый рот, полный скромности взгляд,
Приветом и ласкою речи звучат.
Простерся гонец у владыки в ногах,
Пред славным целуя почтительно прах.
Владыка подняться послу приказал,
3070 Почетное место ему указал.
Расспрашивать стал о любезных сынах —
Здоровы ль и радостны ль в дальних местах —
И после спросил: «Как доехал ты к нам?
Устал ли, скача по горам и долам?»
Тот молвил: «О царь, чей лучист ореол,
Да будет с тобой неразлучен престол!
Твой образ у каждого в сердце храним,
Все живы мы именем светлым твоим.
Ничтожный царя всемогущего раб,
3080 Что сам по себе недостоин и слаб,
Злым вестником прибыл к державному я —
Вина повелителей в том, не моя, —
Принес от безумных сынов твоих весть;
Решусь ли такое, о царь, произнесть?»
И, вняв повеленью, он слово господ
Великому нехотя передает.
[ОТВЕТ ФЕРИДУНА СЫНОВЬЯМ]
Сынов недостойных услышав слова,
Царь вспыхнул, от гнева сдержавшись едва.
«О мудрый! — послу отвечал он тому, —
3090 Тебе о прощеньи просить ни к чему.
Я сам ожидал этой вести худой,
Душой предугадывал встречу с бедой.
Скажи от меня тем исчадиям зла,
Тем двум ахриманам нечистым: хвала!
Вы злую природу явили свою.
От вас я иного не ждал, не таю.
Коль вами забыт мой отцовский завет,
Ужель у самих разумения нет?
Ни божьего страха у вас, ни стыда,
3100 Ни царственной мудрости нет и следа.
Как смоль, были волосы эти черны,
Был стан кипариса, лик ясный луны.
А свод круговратный, кем стан мой согбён, —
Все тот же, поныне вращается он.
Вы будете согнуты им в свой черед,
А сам он продолжит свой круговорот.
Клянусь я всевышним пречистым Творцом,
Земными дарами, престолом, венцом,
Светилом дневным, и Нахид, и луной,
3110 Что думы в душе не таил я дурной.
Я, внемля совету благих мудрецов,
Седых звездочетов, почтенных жрецов,
Земной поделил между вами простор, —
Немало уж лет миновало с тех пор!
Ведь я к справедливости только одной
Стремился в обители этой земной.
Лишь страх пред Йезданом носил я в груди
И, кроме прямого, не ведал пути.
Владыка цветущего мира сего,
3120 Сберечь я хотел неделимым его.
Я столь же цветущим державный удел
Трем чадам бесценным оставить хотел.
Строптивостью ныне ваш дух обуян,
Неправым путем вас повел Ахриман.
Увидим, Создателя воле благой
Угоден ли будет поступок такой.
Реченье напомню — в нем правда, не ложь:
Что сам ты посеял, то сам и пожнешь.
Еще мы от мудрых слыхали: в иной
3130 Обители счастье найдем, не в земной.
Вы алчность — не разум, на трон возвели;
Зачем с этим дивом вы дружбу свели?
В когтях у дракона такого, увы,
С душою, боюсь, не расстались бы вы.
Приблизилось время покинуть мне свет,
Пылать возмущеньем и гневом не след.
Но помню, говаривал старый мудрец,
Троих сыновей благородных отец:
Коль алчностью сердце твое не полно,
3140 Что прах, что богатства царей — все равно.
Кто брата способен на прах променять —
Не сын тот отцу и позорит он мать.
Мир видел немало таких же, как вы,
Владык — перед ними не гнул головы.
В последний свой путь, предреченный судьбой,
Груз добрых деяний возьмите с собой!
Они вас от гибели вечной спасут,
Когда призовет вас Создатель на суд».
Слова Феридуна запомнив, гонец
3150 Склонился пред ним и покинул дворец.
С такой быстротой он помчался назад,
Как будто стремительный вихрь ему брат.
[БЕСЕДА ФЕРИДУНА С ИРЕДЖЕМ]
Лишь вестник в обратный отправился путь,
Владыка решился уста разомкнуть.
Бесценного сына к себе он призвал,
О бедах, грозящих ему, рассказал
И молвил: «Те двое безумных, ярясь,
С Заката сегодня идут против нас.
Такую природу судьба им дала,
3160 Что дух веселят им дурные дела.
К тому же в таких они правят краях,
Где злоба живет, и нечестье, и страх.
Дотоле твой брат будет братом тебе,
Пока ты угоден всевластной судьбе.
Как только поблекнет цветущий твой лик,
Твое изголовье покинет он вмиг.
Кто встретил покорностью поднятый меч —
Себя на погибель решился обречь.
Два брата в краях отдаленных земли
3170 С намерений тайных покров совлекли.
Коль жизнь дорога тебе — ты в свой черед
Казну открывай, собирайся в поход.
За трапезой первым испей свой фиал,
Поминок чтоб враг по тебе не справлял.
Твоя правота — вот опора тебе,
Иной не ищи ты защиты в борьбе».
На это Иредж добросердый отцу,
Великому духом царю-мудрецу,
Промолвил в ответ: «О владыка, взгляни,
3180 Как в круговороте проносятся дни.
Ведь все преходяще, все ветер и прах;
К чему изнывать у тщеславья в тисках,
Заботами пурпур сгоняя со щек,
Душой увядая от тяжких тревог!
Вкушаешь блаженство, страдаешь потом
И после навек покидаешь сей дом.
Прах — ложе, кирпич — изголовье нам всем.
Сажать нам подобное древо зачем,
Которого корни поила бы кровь,
3190 Чей плод ядовитый — вражда, не любовь!
Как мы, удостоенных царством владеть,
Мир видел немало, увидит и впредь.
Среди венценосцев минувших годин
На распрю и брань не вставал ни один.
И если дозволит мне то государь,
Я зову добра буду верен, как встарь.
Венца и престола не надобно мне;
Я к братьям без войска помчусь на коне.
Скажу: «О бесценные братья мои!
3200 Люблю вас, придите в объятья мои.
Неправый свой гнев на владыку царей
Забудьте, вражду потушите скорей.
Какой вас надеждою мир покорил?
Смотрите, с Джемшидом он что сотворил.
Владыку на смерть он обрек под конец.
Где царский кушак, и престол, и венец?
И вас, и меня, как придет наш черед,
Все та же судьба неизбежная ждет...»
Чем с ними сражаться, не лучше ль вернуть
3210 Разгневанных братьев на праведный путь?»
Царь сыну сказал: «О мудрец молодой,
Ты нежностью полон, а братья — враждой.
Я истину должен бы знать издавна:
Нет дивного в том, что сияет луна.
Достоин тебя благородный ответ,
Дух кроткий твой братней любовью согрет.
Но если бесценную голову класть
Решается мудрый в драконову пасть —
Ему достается губительный яд:
3220 Таков мирозданья обычай и лад.
Коль ты непреклонен в решеньи своем, —
Что делать! Готовься покинуть свой дом.
Себе провожатых из рати возьми,
С надежными в путь отправляйся людьми.
Посланье, томимый сердечной тоской,
Сынам напишу и пошлю я с тобой,
Ко мне да вернешься здоров, невредим;
Живет мое сердце тобою одним».
[ИРЕДЖ ОТПРАВЛЯЕТСЯ К БРАТЬЯМ]
Владыка письмо написал сыновьям,
3230 Заката и Чина венчанным вождям.
В начале посланья восславив Творца,
Которому нет и не будет конца,
Писал он: «Сынам назиданье сие,
Двум солнцам высоким посланье сие,
Двум львам, двум водителям грозных дружин,
Под властью которых и Запад и Чин, —
От мужа, что многое зрел на земле,
Того, кто сокрытое видел во мгле;
Кто бился мечом и разил булавой,
3240 Престол и венец озаряя собой:
Кто полночь являл среди ясного дня,
Ключи от надежды и страха храня;
Чьей мудростью тягостный труд облегчен,
Чьим царственным блеском весь мир освещен.
Нам больше не нужен державный венец,
Ни рать, ни казна, ни престол, ни дворец.
Хотим лишь покоя и счастья сынам
За труд весь, на долю доставшийся нам.
Ваш брат, что досадой вам сердце зажег,
3250 Хотя никого бы обидеть не мог,
Помчался услышать от братьев укор,
Насытить их лицами любящий взор;
Венцом и державой пожертвовал вам,
Как то подобает великим мужам.
Покинув престол, на седло он взошел,
Смириться пред вами зазорным не счел.
Он — младше годами, по крови ваш брат,
Он дружбы и ласки достоин стократ.
Лелейте его — возлюблю вас вдвойне;
3260 Растил я вас — сердце порадуйте мне.
Как несколько дней проведет с вами брат,
С почетом его отпустите назад».
К письму приложили цареву печать,
И время Иреджу пришло выезжать.
Лишь нескольких спутников взял он с собой,
Из коих был предан владыке любой.
Не зная, какой ему прочат удел,
Примчался властитель и братьев узрел,
Которые с войском навстречу пришли,
3270 Обычай своей соблюдая земли.
Светился во взоре Иреджа привет, —
И те улыбнулись притворно в ответ.
Два злобных царя с кротким братом своим
Сошлись, поздоровались нехотя с ним.
Те — местью дыша, этот — ясен душой,
Отправились к царским шатрам на покой.
Взглянув на Иреджа, увидела рать:
Пристало такому престол украшать.
Сердца взволновались любовью к нему,
3280 Все взоры стремились к нему одному.
Звучала везде приглушенная речь,
У всех на устах было имя — Иредж.
«Такому вот быть властелином подстать,
Таких лишь и надо на царство венчать!»
И долго про это шептались в рядах;
Сельм, это увидев, почувствовал страх.
С истерзанным сердцем, с наморщенным лбом
Он вскоре в шатре очутился своем,
Всех лишних услал и, тревогой томим,
3290 Совет он открыл вместе с братом своим.
О многом владыки беседу вели, —
О царствах своил, о державах земли.
Сельм Туру промолвил такие слова:
«От мыслей горит у меня голова.
В то время как шли мы с Иреджем назад,
Видал ты, с войсками что делалось, брат?
Бойцы все шептались, попарно идя,
С Иреджа восторженных глаз не сводя.
С тех пор как для встречи водили мы рать,
3300 Бойцов и моих и твоих не узнать.
И так уж Иредж отравлял мою кровь,
К сомненьям сомненья прибавились вновь.
Я зорко смотрел: оба войска, поверь,
Иного царя не признают теперь.
И если его ты с пути не сметешь,
С престола высокого вниз упадешь».
Окончив совет, разошлись они врозь;
Им ночью от помыслов злых не спалось.
[СМЕРТЬ ИРЕДЖА ОТ РУКИ БРАТЬЕВ]
Лишь солнце откинуло ночи покров,
3310 От дремы ночной не оставив следов,
Те двое, мечтая о деле худом,
Готовы проститься навек со стыдом,
Вскочили, к иреджевой ставке спешат;
Гордыней и злобою каждый объят.
С приветом, исполнен любви и добра,
Навстречу к ним выбежал брат из шатра.
С ним старшие братья вступили в шатер
И тут же сердитый затеяли спор.
Сказал ему Тур: «Ты ведь младший, почто ж
3320 Себе ты венец миродержца берешь?
Тебе всей державой иранской владеть,
А мне в захолустье туранском сидеть?
Для старшего брата — Заката страна,
А младшему все — и престол, и казна?
Когда миродержец уделы делил, —
Всю милость на сына меньшого излил!»
В молчании выслушал брата Иредж
И начал ответную кроткую речь:
«О славный, обиды в груди не таи!
3330 Будь счастлив, свершатся желанья твои.
Мне царского больше не нужно венца;
Ни войск не ищу, ни казны, ни дворца.
Не нужен мне Запад, Иран и Китай,
Не стану царить, хоть всю землю мне дай.
Воистину горе величью тому,
Что в мире вражду порождает и тьму!
Будь конь твой оседлан хоть небом самим,
Все станет кирпич изголовьем твоим.
Иранский престол мне назначен отцом,
3340 Но сыт я престолом и царским венцом.
Вручу я вам перстень, вручу вам венец,
Лишь гнев изгоните из ваших сердец.
Нет в мыслях моих ни вражды, ни войны,
И вы не корите меня без вины.
Ужель ради власти мне вас омрачить?
Готов и в изгнании жизнь я влачить.
Мной дружбы обычай вражде предпочтен;
Закон человечности — вот мой закон».
Тур слушал, но в сердце, исполненном зла,
3350 Ответа разумная речь не нашла.
Он, яростный, брату не внял своему,
Был мирный призыв не по нраву ему.
Вскочил со скамьи золотой сгоряча,
И вдруг по шатру заметался, крича,
И злобы неистовой не укротив,
Тяжелое это сиденье схватив,
Он юношу в голову им поразил,
А тот о пощаде лишь кротко просил:
«Иль нет в тебе страха пред божьим судом?
3360 Отца не стыдишься? Подумай о том.
Убийством коль дух запятнаешь ты свой —
Увидишь возмездия час роковой.
Внемли, коли совести можешь ты внять:
Ты вправе ли жизнь у живого отнять?
Не тронь и букашки под ношей зерна:
Ведь жизнью своей дорожит и она[148].
Тобой да не будет убит человек!
Меня не увидишь ты больше вовек.
Сыщу уголок в этом мире большом,
3370 Жить буду, свой хлеб добывая трудом.
Зачем тебе братскую кровь проливать,
Безжалостно сердце отцу разрывать?
Ждал трона, добился — так крови не лей;
Идти против Божьих заветов не смей».
В ответ ему слова не вымолвил брат.
Безмерной гордыней и гневом объят,
Нагнулся он, выхватил скрытый клинок,
И юношу в саван из крови облек.
С отравленным лезвием острый кинжал
3380 Он в царскую грудь беспощадно вонзал.
И рухнул во прах величавый платан,
Истерзан безжалостно царственный стан.
Кровь льется на розы пунцовые щек,
Иредж, украшенье венца, изнемог.
Главу от могучего тела отсек
Убийца, и жизнь отлетела навек...
О рок, не тобой ли взлелеян Иредж?
Почто ж не хотел ты его уберечь?
Не знаю, кто втайне тобою любим;
3390 О тех, кого гонишь ты явно, скорбим.
И ты, одержимый корыстью, и ты,
Опутанный сетью мирской суеты,
Запомни, царей неповинных губя:
Удел тех насильников ждет и тебя!
Ту голову мускусом Тур пропитал,
Отцу, разделившему царства, послал,
Велев передать ему: «Вот голова,
Которой ты дал на корону права.
Дари, не дари ему нынче престол, —
3400 Повержен державного дерева ствол!»
Оставили оба злодея тот край;
Сельм двинулся в Рум, Тур помчался в Китай.
[ФЕРИДУН УЗНАЕТ ОБ УБИЙСТВЕ ИРЕДЖА]
С дороги очей не спускает отец,
Заждались властителя рать и венец.
Истек уже срок, а родитель седой
Не знает, какой он постигнут бедой.
Державный престол бирюзой заблистал,
В венце и алмаз заискрился, и лал.
Для встречи царя все готово давно:
3410 Певцы сладкогласные, руд и вино[149].
Литавры везут на слонах; целый край
Украсился, словно сияющий рай.
Рядами бойцы с Феридуном пришли.
Вдруг черная пыль заклубилась вдали.
Из пыли скакун утомленный возник,
И вестника скорбный послышался крик.
Ларец обнимая дрожащей рукой,
Стенал он, и слезы струились рекой.
В ларце, под покровом тончайшей тафты,
3420 Царя молодого скрывались черты.
С рыданьями громкими, желт как мертвец,
Предстал пред царем Феридуном гонец.
Владыка ларец распахнуть поспешил,
Поверить известию не было сил.
Покров он откинул... Как будто жива,
Иреджа покоилась там голова.
Пал наземь с коня Феридун; стала рать
Одежды в тоске на себе раздирать.
Уста запеклись, опалила их боль.
3430 На то ли надеялись, ждали того ль?
Вот так венценосца встречать довелось,
С сердцами, пронзенными горем насквозь.
Изорвано знамя, литавры молчат,
И лица от горести — словно агат.
От индиго конские гривы темны,
Все в трауре: стяги, кимвалы, слоны.
Бойцы за вождем вышли пешие в путь;
Ногтями терзая и плечи и грудь,
В отчаяньи пеплом осыпав себя,
3440 Рыдают, о доблестном муже скорбя.
На ласку судьбы не надейся ты, друг,
Не жди, чтоб прямым стал изогнутый лук.
Таков он, над нами кружащийся свод, —
Наш рок: улыбнется, а после убьет.
Когда с ним враждуешь, он ласков с тобой,
А другом сочтешь — повернется спиной.
От сердца я дам тебе верный совет:
Не должно любить этот суетный свет.
Стеня и рыдая, в тот горестный час
3450 Направились витязи в сад, где не раз
Под сенью деревьев с веселой толпой
В дни празднеств Иредж пировал молодой.
Владыка, чьи очи померкли от слез,
В объятьях сыновнюю голову нес.
Взглянул он сквозь слезы на царственный трон:
О как, опустевший, был сумрачен он!
Все мрачно: бассейн, и ковер муравы,
И тополь, и листья цветущей айвы...
В печали посыпали прахом престол,
3460 И вопль удрученных до неба дошел.
Отец убивался и волосы рвал,
И лик свой терзал он и горько рыдал.
Кровавым жгутом опоясался, сжег
Высокий, исполненный света чертог,
Срубил кипарисы, цветник разорил,
Для радости очи сурово закрыл.
И голову сына прижал он к груди,
К Создателю мира воззвав: «Снизойди
К молитве моей, о благой Судия!
3470 Молю за невинно убитого я.
Вот здесь предо мной голова его; сам
Он брошен врагом на съедение львам.
Злодеев двоих покарай, чтоб одни
Впредь видеть на свете им черные дни,
Чтоб сердцем гореть был их вечный удел,
Чтоб их даже хищник лесной пожалел!
Молю об одном всеблагого Творца —
В живых да оставит седого отца,
Пока, опоясан, не выйдет на бой
3480 Из рода иреджева мститель-герой.
Мой сын палачами убит без вины.
Да будут их головы с плеч снесены!
Когда же свершится возмездье мое,
Сырая земля мне отмерит жилье».
Так долго из глаз проливал он дожди,
Что травы взрасли у него на груди.
Стал камень подушкой, а ложем стал прах,
Ослеп он, свет ясный затмился в очах.
Для всех он закрыл свой высокий дворец
3490 И так говорил: «О мой юный храбрец!
Какой на земле венценосец другой
Настигнут был гибелью страшной такой?
Ты дивом погублен, и в львиную пасть
Судил тебе рок, не в могилу попасть!»
И плач из груди его рвался и стон
Такой, что и звери забыли про сон.
Мужчины и женщины, скорби полны,
Повсюду, от края до края страны,
Рыдали над участью горькой царя,
3500 Печалью терзаясь и гневом горя.
Чреда потянулась безрадостных дней,
И смертью казалась та жизнь для людей...
[О РОЖДЕНИИ ДОЧЕРИИРЕДЖА]
Так минуло несколько горестных лун.
В иреджев гарем заглянул Феридун;
Увидел, пройдя за покоем покой,
Всех жен луноликих одну за другой.
Приметил одну, чей прелестен был вид,
А звали прекрасную — Махаферид[150].
Иреджа любовь к ней безмерна была.
3510 По счастью, жена от него понесла.
Как только об этом узнать довелось
Владыке, — в нем сердце от счастья зажглось.
Красавицу видя, утешился он
В надежде, что сын будет внуком отмщен.
Срок вышел, и весть к Феридуну летит,
Что дочь народилась у Махаферид.
Близка была цель, отдалил ее рок...
Царь милую внучку лелеял, берег.
Растила ее вся родная страна;
3520 Росла благородной и чистой она.
Прекрасна, подобно тюльпану, — с отцом
Была она схожа душой и лицом.
Но вот и для брака пора подошла.
Глаза ее — звезды, и кудри — смола,
И вся будто вешний пленительный цвет...
Пешенга в супруги назначил ей дед.
Пешенг Феридуну племянник был; род[151]
Он вел от великих царей-воевод.
Потомком Джемшида был славный юнец,
3530 Ему подобали престол и венец.
Царь внучку супругой Пешенга нарек,
И дальше за месяцем месяц потек.
[РОЖДЕНИЕ МЕНУЧЕХРА)
Когда ж, завершил небосвод голубой
Свой девятимесячный бег круговой,
Родился у славной красавицы сын,
Достойный венца и дворца властелин.
Его поспешили у матери взять,
Чтоб деду-царю поскорей показать.
Принесший сказал: «О владыка, взгляни,
3540 Взгляни на Иреджа и дух проясни!»
Даритель уделов от счастья расцвел;
Он словно живого Иреджа обрел.
Прижал он к груди дорогое дитя
И молвил, глаза к небесам обратя:
«О если бы снова увидел я свет,
И внука узреть мне дозволил Изед!»
Все жарче молил он, и вняв, наконец,
Моленьям, вернул ему зренье Творец.
Владыка, едва увидав белый свет,
3550 Взглянул на младенца, любовью согрет,
И молвил: «Пронзи же злодеев сердца,
Хранимый святой благодатью Творца!»
Из чаши, где яхонт искрился и лал,
Испив, он дитя Менучехром назвал.
Изрек он: «Родители сердцем чисты,
И отпрыск достоин прекрасной четы!»
Царь внука заботливо пестовать стал,
Дохнуть на него и ветрам не давал.
Младенца так холили, так берегли,
3560 Что мамка его не касалась земли —
По мускусу только ступала ногой,
Младенца неся под парчой дорогой.
Неслышно текут за годами года,
Царевича доля печалей чужда.
Искусствам таким, что пригодны царям,
Прославленный дед обучил его сам.
Лишь в юноше сердце созрело и дух,
И мир огласил о царевиче слух,
Царь внуку вручил булаву и престол,
3570 И славный венец, что сапфирами цвел;
Ключи от сокровищниц, полных добра,
Алмазов, и золота, и серебра;
Парчевый шатер для войны и пиров,
И много из тигровой кожи шатров,
Коней аравийских в уздах золотых,
Булатов индийских в ножнах золотых,
Шеломов, и лат, и румийских кольчуг,
На свет извлеченных, развязанных вдруг,
Щитов из Китая, и палиц больших,
3580 И луков из Чача, и стрел к ним прямых...[152]
Все эти богатства, наследье годов,
Плоды многолетних упорных трудов,
Признал Менучехра достойными царь,
Исполненный к внуку любви государь.
Прославленным витязям рати своей
И каждому из родовитых людей
Прийти к Менучехру владыка велел;
Пришли они в жажде воинственных дел.
И юноша был на престол возведен;
3590 Дождем изумрудов осыпали трон.
На празднике новом в торжественный день
От радости с волком братался олень[153].
Там был и Карен, кузнеца славный сын,—
И полный отваги Шируй-исполин[154],
[Гершасп-меченосец, краса удальцов[155],
Сам, сын Неримана, боец из бойцов,]
И золотошлемный Гошвад, и Кобад[156] —
Герои, чьи подвиги в мире гремят.
Построилось войско, в порядок пришло,
3600 И гордое поднял владыка чело[157].
[СЕЛЬМ И ТУР УЗНАЮТ О МЕНУЧЕХРЕ]
До Сельма и Тура слух тотчас дошел,
Что вновь осиян властелином престол.
И трепет объял лиходеев тогда:
Ужели погаснет их счастья звезда?
В тяжелом раздумье сидели они;
Мрачны были злобных преступников дни.
Решились тогда, трепеща пред судьбой,
Спасенья ища от беды роковой,
Послать на поклон к Феридуну посла —
3610 Не видели средства иного от зла.
Искали вдвоем и нашли средь мужей
Вельможу, владевшего даром речей.
К разумному, скромному мужу тому
Воззвали с мольбой, все открыли ему.
Замки отомкнули у царской казны,
Поняв, что паденье грозит с вышины.
Роскошно слонов изукрасился ряд,
Венец золотой из хранилища взят;
И мускус нашелся, и амбра нашлась,
3620 Парча и динары, меха и атлас.
Все это слоны в колесницах везли
С Заката к границам иранской земли.
Любому вельможе царева двора
Отправлено было немало добра.
Когда караван нагруженный ушел,
Предстал перед Туром и Сельмом посол.
И вот передать ему велено весть,
Творцу не забыв славословье вознесть:
«О царь, да пребудет с тобой благодать,
3630 Вовеки тебе на престоле блистать!
Будь счастлив душою и телом могуч,
Пусть слава твоя вознесется до туч!
С известьем от двух недостойных рабов
Пришел я, владыка, под гордый твой кров.
Злодеи — узнай, повелитель, о том —
Льют слезы теперь от стыда пред отцом,
В грехе своем каются, сердцем горя,
Готовы прощенья молить у царя, —
Но сами явиться не смеют к тебе,
3640 Не зная, захочешь ли внять их мольбе.
Сказали они: «О великий мудрец!
Творящего зло незавиден конец.
Пребудет он в горе, терзаясь тоской,
Как мы, потеряет навеки покой.
То роком всеведущим предрешено;
Что было начертано, то свершено.
Лев мощный, дракон огнеустый — и те б
Спастись не могли от всевластных судеб.
К тому же нечистый смутил нам сердца,
3650 Увел нас обманом с дороги Творца.
Он волею нашей совсем завладел,
Стать жертвой его нам досталось в удел.
Но милости ждем, венценосец, твоей:
Быть может, преступных простишь сыновей.
Хоть грех наш велик, снизойди к нам теперь!
Его мы в безумьи свершили, поверь.
Так, видно, судила небесная твердь:
Во власти ее — и спасенье и смерть.
Коль мысли о мщеньи оставишь ты впредь —
3660 Наш дух к благочестью направишь ты впредь.
К нам внука в сопутствии знатных мужей, —
Смиренно мы просим, — пришли поскорей.
Мы станем навеки рабами его,
Разумнее этого нет ничего.
Тот ствол, что враждою питаясь, возрос,
Мы ныне омоем потоками слез,
Взлелеем трудом неустанным своим;
Окрепнет — казну и венец отдадим».
[ПОСОЛЬСТВО СЫНОВЕЙ К ФЕРИДУНУ]
Ни складу, ни ладу в речах не нашел ,
3670 И, полон сомнений, уехал посол.
И вот с караваном державных даров
Предстать пред владыкой владык он готов.
Когда повелитель об этом узнал,
Он свой шахиншахский престол приказал
Убрать драгоценной румийской парчой,
Украсить кеянский венец золотой.
Воссел он на тот бирюзовый престол:
Ты скажешь, над тополем месяц взошел.
В венце его дивные камни цвели,
3680 Как это пристало владыке земли.
Бок о бок с ним, взоры дивя красотой,
В венце восседал Менучехр молодой.
У трона — прославленных витязей ряд,
В одеждах они златотканных стоят.
Все с копьями, все в поясах золотых;
Земля, словно солнце, сияет от них.
На привязи тигры — с одной стороны —
С другой стороны — боевые слоны.
Шапуру-бойцу повелели идти[158],
3690 Посланца от Сельма к царю привести.
Ворота дворцовые пред седоком;
Он, спешась, туда устремился бегом.
Как только в цареву палату вошел,
Увидел венец и высокий престол,
Смиренно лицом он повергся во прах
И долго лежал у владыки в ногах.
Царь доблестный, столь в обхожденьи простой,
Его усадил на скамье золотой.
Властителя славя, посол говорил:
3700 «О ты, что венец и престол озарил!
Земля расцветает под шагом твоим,
Мир счастьем сияет под стягом твоим.
Чтим свято мы прах под твоею стопой,
Мы живы, владыка, одним лишь тобой».
Посланца душа к венценосцу влеклась —
Царь слушал те речи, лицом прояснясь,
Вниманием щедро его подарив.
Посол, хитроумен и сладкоречив,
Посланье убийц излагать принялся,
3710 Замалчивать истину, лгать принялся:
Прощенья у шаха покорно просить,
К себе Менучехра упорно просить,
На рабскую верность ему присягать,
Верховный престол и венец предлагать,
Сулить за иреджеву кровь, не стыдясь,
Динары, алмазы, парчу и атлас.
Окончил посланец коварную речь —
И царь не замедлил тот узел рассечь
Когда до конца он дослушал, суров,
3720 Посланье коварных и злобных сынов,
Такой был посланцу ответ от царя:
«Не спрячешь ты солнца, старался ты зря!
Злой умысел, скрытый доселе от глаз,
Открылся, как день стал он ясен сейчас.
Я выслушал всю до конца твою весть,
Внемли же ответу, что должен отвезть.
Вернись и двоим кровопийцам скажи,
Бесстыдным и алчным убийцам скажи,
Что слову пустому я веры не дам,
3730 О том толковать больше нечего нам.
Кипит в вас теперь к Менучехру любовь,
Зачем же Иреджа вы пролили кровь?
Растерзан когтями свирепого льва,
В объятиях гроба его голова!
Разорвана жизни иреджевой нить,
Теперь Менучехра хотите убить?
Увидите: мчится он с войском большим,
В шеломе стальном, с булавою; над ним
Сверкающий стяг кавеянский парит,
3740 Пыль тучей встает из-под конских копыт.
Карен с ним помчится, краса удальцов.
Шапур, сын Нестуха, опора бойцов,
И славный Шейдуш, бурно рвущийся в бой[159],
И львов сокрушитель, Шируй удалой;
А царь Телимана с йеменским царем[160] —
Мудрейшие, — войско возглавят вдвоем.
Час пробил, кровавые зреют плоды
На древе возмездия, древе беды.
Не мог я отмстить за Иреджа досель,
3750 Судьба отдаляла заветную цель.
Не должно мне было, ропща на судьбу,
Вступать самому с сыновьями в борьбу.
Но древо, снесенное вашей враждой,
Пустило могучий побег молодой.
Как яростный лев, богатырь налетит,
За славного деда убийцам отмстит.
[Пойдут с Менучехром Гершасп-исполин
И Сам, Неримана воинственный сын.]
Несметное войско от гор и до гор
3760 Нахлынет, земной попирая простор...
Еще, вы сказали, мне должно не мстить,
Но, сердцем смягчившись, вам грех отпустить.
Душа, мол, смутилась и разум был слеп —
Знать, было таким начертанье судеб.
Я лживую выслушал речь до конца,
Но вам я напомню слова мудреца:
Лежит на преступниках рока печать;
Им радостной жизни и рая не знать.
Йездан коль прощенье вам шлет и любовь,
3770 Должна ли тревожить вас братняя кровь?
Когда и грешит, кто ума не лишен, —
То так, чтобы грех его мог быть прощен.
Предвечного вы не стыдитесь Творца;
Речь ваша умильна, порочны сердца.
Воздаст вам в обоих мирах, верю я,
За ваше злодейство благой Судия.
И дальше: ценою престолов резных,
Венцов бирюзовых, слонов боевых,
Алмазов, искрящихся в блеске оправ,
3780 Кровь смыть мне велите, возмездье поправ?
За деньги продать венценосца главу?
Скорее отрину престол, бураву!
Бесценную голову может продать
Лишь изверг, чья злоба драконьей подстать.
Кто слышал, чтоб сына отец променял
На золото — голосу алчности внял?
Не надо мне ваших презренных даров,
И тратить на это не надобно слов.
Отец седовласый, покуда он жив,
3790 Не сложит оружья, о мщеньи забыв.
Я слышал посланье — ответ получи,
Запомни его и обратно скачи».
Услышав, что гневный отец говорит,
Увидя внушительный юноши вид,
Поднялся посланец и, жизни не рад,
Вскочил на коня и помчался назад.
В событья грядущие светлой душой
Проник проницательный муж молодой.
Рок Туру и Сельму — он это постиг —
3800 Явить собирался нахмуренный лик.
Как вихрь, он летел, вспоминая ответ,
Исполнен сомнений, в предчувствии бед.
Достиг он Заката, тревогой гоним,
И вот уже ставка царя перед ним.
Туда поспешил он, усталый, в пыли;
В шатре властелина румийской-земли,
Задернув завесу шатра поплотней,
Сидят, отпустив приближенных мужей,
За тайной беседой владыки двух стран.
3810 Тут весть о посланце, вернувшемся в стан,
Царям принесли, и немедленно он
Начальником стражи в шатер приведен.
Для новой беседы уселись втроем,
Расспросы пошли о царе молодом.
Велели цари, чтоб поведал посол,
Каким он увидел владыки престол;
Каков Феридун, какова его рать,
Кто витязи те, что пойдут воевать?
И щедро ль судьба одарила юнца?
3820 Любим ли он ратью, достоин венца?
Кто царский советник из знатных людей,
И много ль сокровищ, и кто казначей?
Ответил посол: «Лучезарней весны
Дворец властелина великой страны.
Он весь несказанной блестит красотой;
В нем глина из амбры, кирпич золотой.
И раем отрадным глазам предстает
Чертог, неоглядный, как сам небосвод.
Вознесся он выше высоких хребтов,
3830 Раскинулся шире просторных садов.
На купол я снизу взглянул, изумлен, —
Сказал бы, со звездами шепчется он.
Могучие львы и слоны стерегут
Престол, что народы столь трепетно чтут.
Из золота троны на спинах слонов,
В алмазах и жемчуге гривы у львов.
Литаврщики перед слонами стоят,
И труб раздается громовый раскат.
Вся площадь как будто рокочет, бурля,
3840 И небу грозит многошумно земля.
И вот в озаренный чертог я вошел,
Увидел вблизи бирюзовый престол,
Где царь восседает, как месяц лицом,
Блистая рубиновым дивным венцом.
Как снег, его кудри над розами щек,
Дух скромности полон, склад речи высок,
Надежду и страх он вселяет в людей;
Сказал бы, в нем ожил Джемшид-чародей.
И статен, как тополь, как будто воскрес
3850 Неистовых дивов гроза — Тахмурес,
Сидит Менучехр, деду сердце бодря, —
Сказал бы, он жизнь, и дыханье царя.
С ним рядом — воинственный муж-исполин,
Кователя славного доблестный сын,
Недремлющий, грозно разящий врагов,
Карен, предводитель иранских полков.
Там Серв из Йемена, советник страны[161],
Гершасп, многолетний хранитель казны.
Там края и счета сокровищам нет,
3860 Величья такого не видывал свет.
У входа ряды седоков удалых,
И золотом блещут доспехи на них.
[И вождь закаленный стоит во главе —
Карен знаменитый из рода Каве].
Шируй, кому львиная сила дана,
Шапур, что в сраженьи грознее слона,
Литавры на спину слона водрузят.
Мир станет от пыли, как черный агат.
Вперед устремится воинственный строй —
3870 Гора станет долом, долина — горой.
В сердцах у них ярость, наморщены лбы;
Все мщения жаждут, все ищут борьбы».
Посол обо всем рассказал, что видал,
И речь Феридуна царям передал.
Сердца двух злодеев при этих вестях
Стеснились, и лица их выжелтил страх.
В раздумьи сидели, не зная, как быть;
Из рук ускользала спасения нить.
Тур Сельму промолвил: «Не жду я добра,
3880 Покой и веселье оставить пора.
Коль время упустим, то лев молодой
Отточит клыки, угрожая бедой.
Возможно ль, чтоб витязь героем не стал,
Когда его царь Феридун воспитал?
Коль внуку советником сделался дед,
Увидит дела небывалые свет.
Пора нам испробовать силы в войне.
Не ждать, торопиться должны мы вдвойне».
И вот поскакали гонцы собирать
3890 В Китае, на Западе грозную рать.
Несметная вскоре сошлась там орда,
Но ей не светила благая звезда.
Вот полчища вышли, готовы к войне, —
Воители в шлемах, в железной броне.
Слоны боевые, обозы чредой. . .
Сердца кровопийц пламенели враждой.
[ФЕРИДУН ПОСЫЛАЕТ МЕНУЧЕХРА НА БОЙ С СЕЛЬМОМ И ТУРОМ]
Туранская рать перешла за Джейхун[162].
Лишь только услышал о том Феридун,
Велел Менучехру он знамя поднять
3900 И в поле из города вывести рать.
Сказал в назиданье властитель седой:
«Когда добродетелен муж молодой,
Все в руки дается ему, словно лань,
Гонимая тигром, — охотнику в дань.
Кто мудр, терпелив, чья светла голова,
Поймает в капкан разъяренного льва.
А злому от бед не спастись. Будет он
Десницей карающей рока сражен.
За брус раскаленный кто схватится, тот
3910 Возмездие сам на себя навлечет».
Сказал Менучехр: «О владыка, с тобой
Кто, дерзостный, вздумает выйти на бой?
Лишь тот, чья погибель судьбой решена,
Кем жизнь безрассудно за смерть отдана.
Пойду я в румийскую сталь облачусь,
Не скоро с броней боевой разлучусь.
Как ринусь навстречу врагу твоему,
До солнца я ратную пыль подниму.
Не сыщется витязя в этой войне,
3920 Что был бы достойным противником мне».
Велел он Карену-вождю выступать,
Из города на поле вывести рать.
Туда и шатер он державный повез,
И стяг свой блистающий, славный повез.
Стремительно хлынуло войско вперед,
Как море, бурля средь равнин и высот.
Затмился от пыли сияющий день,
Сказал бы ты — солнце окутала тень.
Воинственных звуков неистовый шквал
3930 На поле сраженья бойцов оглушал.
И степь оглашало, кимвалов звучней,
Призывное ржанье арабских коней.
На версты от ратного стана слоны
Рядами стояли, свирепы, грозны.
Из них шестьдесят паланкины несли,
Где в золоте ярко рубины цвели.
Три сотни там было слонов боевых,
Навьюченных было три сотни других.
Все крепкой бронею одеты они,
3940 Железом глаза не закрыты одни.
С собой увозя властелина шатер,
Рать вышла из стен Теммише на простор[163].
Карен управлял этой ратью большой,
Бойцов триста тысяч он вел за собой.
Взяв палицы, двинулись воины в путь.
У каждого сталью окована грудь
И каждый отмстить за Иреджа готов.
Несутся стремительней яростных львов.
Над ними Каве пламенеющий стяг —
3950 Могущества, славы, величия знак.
Вот в степь выезжают из леса Нарвен[164]
Герой Менучехр и могучий Карен.
Царь левое отдал Гершаспу крыло,
А правое с Самом, с Кобадом пошло.
Средь поля широкого выстроив рать,
Ее властелин принялся объезжать.
Сомкнулась дружина в строю боевом,
В средине был Серв с Менучехром-царем.
Как месяц, блистал молодой властелиц,
3960 Как солнце, встающее из-за вершин.
Карен-предводитель и доблестный Сам
Клинки обнажить повелели бойцам.
Кобадом возглавлен разведчиков строй,
В засаде сидел Телимана герой[165].
Львам — время сражаться, литаврам — звучать...
Нарядней невесты разубранной рать.
До Сельма и Тура дошло между тем,
Что к битве иранцы готовы совсем,
Что в поле раскинули воинский стан,
3970 Что яростью каждый боец обуян.
И оба злодея с несметной ордой
Пустились навстречу, пылая враждой.
Уже позади оставляют стрелки
Зубцы Эланана и воды реки[166].
Увидел Кобада с дозорными Тур
И так восклицает он, грозен и хмур:
«Поди к Менучехру, спроси у юнца:
Эй, ты, новоявленный царь без отца!
Иредж ведь не сына на свет произвел,
3980 Где ж право твое на венец и престол?»
Тот молвил: «Пожалуй, свезу эту весть,
Я все передам, что сказал ты, как есть.
Но после, когда поразмыслишь о том,
И сердце начнет совещаться с умом,
О дерзости сам пожалеешь такой,
От сказанных слов потеряешь покой.
Настигнет возмездие вас, даже зверь
Над участью вашей заплачет, поверь.
От леса Нарвен до Китая, стеной
3990 Встал всадников наших воинственный строй.
Мерцание лезвий лиловых в пыли[167]
И стяг кавеянский завидя вдали,
Вы дрогнете, страх вам сердца изорвет,
Помчитесь, не видя низин и высот».
К царю Менучехру вернулся Кобад,
Поведал, что молвил ему супостат.
Смеясь, Менучехр отвечал, что сказать
Подобное слово глупцу лишь подстать.
«Хвала властелину обоих миров,
4000 Что с тайны любой совлекает покров;
Он знает, что дед мне — великий Иредж,
И царь Феридун подтвердит эту речь.
Когда мы на битву с врагами пойдем,
Узнают о предках, о роде моем.
Владыкою солнца и звезд поклянусь:
Убийца, лишь только с ним в битве столкнусь,
Моргнуть не успеет, как вся его рать
На труп обезглавленный будет взирать.
Отмщен будет мною прославленный дед,
4010 Край вражеский станет добычею бед».
Готовиться к пиру он отдал приказ,
Сидели, и пили, и слушали саз.
[МЕНУЧЕХР НАПАДАЕТ НА ВОЙСКО ТУРА]
Мир светлый оделся в покров темноты,
Рассыпались в поле широком посты.
Возглавили войско могучий Карен
И Серв прозорливый, чье царство Йемен.
И вот огласились призывом войска:
«Эй, витязи шаха, чья слава громка!
К Создателю мира враждой обуян,
4020 Войною пошел против нас Ахриман.
Готовьтесь и сон отгоняйте от глаз,
Молитесь Творцу, не оставит Он вас.
Кто в битве сегодняшней будет убит,
Тот в рай вознесется, от скверны омыт[168].
А те, что сумеют в бою покарать
Воителей Чина, румийскую рать,
Прославят навеки свои имена,
Мобедами всех назовет их страна;
Откроет им вождь полный злата ларец,
4030 Царь земли им даст, даст им счастье Творец.
Лишь утро настанет и солнце пройти
Успеет две доли дневного пути,
Для боя кровавого стан обвязав,
Булат закаленный и палицу взяв,
Пусть каждый выводит дружину свою.
Держитесь в одном нерушимом строю!»
Построились перед царем удальцы,
Верховные каждой дружины бойцы,
И молвили так: «Все мы слуги тебе,
4040 Стоим за владыку, не дрогнем в борьбе.
Приказывай воинам верным твоим:
Мы землю в кровавый Джейхун обратим».
И каждый в шатер изукрашенный свой
Вернулся, отвагой кипя боевой.
Когда, сокрушив темной ночи хребет,
Блеснул над проснувшимся миром рассвет,
Возглавил войска Менучехр на коне
В румийском шеломе, с мечом и в броне.
Искусно построена рать им была,
4050 Ее середина и оба крыла[169].
Пронесся воинственный клич по рядам.
Воители, копья подняв к небесам,
Примчались на поле кровавой борьбы;
В сердцах у них ярость, наморщены лбы.
Казалась земля кораблем средь зыбей,
Несущимся к гибели верной своей.
Казалось, колышется почва, как Нил.
Там молот о гулкую медь колотил,
4060 Слоны выступали, огромный кимвал,
Как лев разъяренный, рычал, завывал,
И рог рокотал, и ревела труба,
Казалось, готовился пир, не борьба.
Сошлись две горы, копий двинулся лес,
Неистовый крик поднялся до небес.
И кровь заалела на травах земли;
Сказал бы, тюльпаны на ней расцвели.
Казались кровавые ноги слонов
Рядами, кораллово-алых столбов[170].
И силу врага Менучехр превозмог:
4070 Безмерно к нему благосклонен был рок.
Бой длился, пока светлый день не погас
И ясное солнце не скрылось из глаз.
Дни жизни превратностей много таят,
То мед в них и сладость, то горечь и яд.
Объяты тревогой, цари-палачи
Решились напасть на иранцев в ночи.
Наутро не вышли сражаться с врагом,
Все помыслы были теперь о другом[171].
[СМЕРТЬ ТУРА ОТ РУКИ МЕНУЧЕХРА]
Лишь ясного дня половина прошла,
4080 Открыли совет, преисполнены зла,
Два брата, утративших сон и покой;
На черной сошлись они мысли такой:
«Как только стемнеет, ворвемся в их стан,
Кровавый вокруг забурлит океан».
Лишь ночью сошедшей отогнан был день
И землю окутала мрачная тень,
Два низких злодея построили рать,
Пылая желаньем ночь крови начать.
Дозорные, тотчас об этом узнав,
4090 К царю Менучехру помчались стремглав,
Про умысел злой рассказали ему,
Чтоб зорко глядел он в полночную тьму.
Владыка, прислушавшись к этим речам,
Готовиться начал к сражению сам:
Оставил с Кареном всю пешую рать,
И место засады помчался искать.
С собой тридцать тысяч он взял верховых,
Испытанных в жарких делах боевых.
Он место, что нужно им было, нашел,
4100 Воителей полными пыла нашел.
Стемнело, и Тур с сотней тысяч бойцов
Помчался, к решительной схватке готов.
Они подбирались, храня тишину,
Тяжелые копья подняв в вышину.
Добравшись, увидели рать на ногах
И стяг, вознесенный злодеям на страх.
Одно оставалось им: ринуться в бой —
И строй устремился на вражеский строй.
От пыли сражения — в воздухе мгла,
4110 Но молнию сталь среди мрака зажгла,
И все засверкало, как яркий алмаз;
Сказал бы, пылает земля, раскалясь.
А в воздухе — свист, и при вспышках огня
Булат о булат ударяет, звеня.
Покинул засаду и царь: с двух сторон
Убийце к спасению путь прегражден.
Узду натянул он и вспять повернул.
Пронесся над степью смятения гул.
Но царь Менучехр, жаждой мести зажжен,
4120 Как вихрь, устремляется Туру вдогон,
И речь громовая простор потрясла:
«Стой, гнусный убийца, исчадие зла!
Срубил ты безвинную голову с плеч, —
Не ждал, что настигнет возмездия меч!»
Сталь спину пронзила убийце: упал
Из рук ослабевших булатный кинжал.
Виновника встарь совершенного зла
Сорвал Менучехр с боевого седла,
Его обезглавил, осиля в бою,
4130 А тело оставил добычей зверью.
К дружине затем воротился он вскачь,
Увидев начало побед и удач.
[ПИСЬМО МЕНУЧЕХРА ФЕРИДУНУ С ВЕСТЬЮ О ПОБЕДЕ]
Воитель письмо Феридуну послал,
Превратности дней боевых описал.
Вначале восславил он силой пера
Творца справедливости, чести, добра:
«Создателю благодаренье, хвала:
Он — наша защита от горя и зла.
Он светит в пути, утешает в беде,
4140 Он был и пребудет всегда и везде.
Да славится шах Феридун на земле,
Разящий булатом, с венцом на челе,
Достойный над миром престол свой вознесть.
Хранящий высокую веру и честь.
Царит справедливость по воле его,
Сама благодать на престоле его.
Достигнув Турана, во славу твою
Мы силы свои испытали в бою.
Два дня протекли — бились трижды с врагом,
4150 В ночи и при светоче ясном дневном.
К нам ринулся Тур под завесою тьмы,
Засадою недруга встретили мы.
Я знал, что ночной замышляет он бой,
Увидев бессилье свое пред судьбой.
В ту ночь было полным мое торжество,
Остался лишь ветер в руках у него.
Умчался он с поля сраженья, но вмиг
На быстром коне беглеца я настиг.
Пробил ему панцирь тяжелым копьем,
4160 И вихрем с седла его сбросил потом.
Повергнут был наземь, как лютый дракон,
И мной обезглавлен без жалости он.
Всю мощь против Сельма теперь устремлю,
Тебе же я турову голову шлю,
Как сам он иреджеву голову встарь
В ларце посылал для тебя, государь.
Сразил он безжалостно брата-юнца, —
Его покарал я по воле творца.
Я душу исторгнул из тела его,
4170 В пустырь превращу я уделы его».
Такие слова Менучехр написал
И с вестником вихреподобным послал.
Объятый смущеньем, помчался гонец;
Как встретит его престарелый отец?
Как шаху иранскому страшную весть
И голову шаха туранского везть?
Ведь сын, — пусть он умер, опутан грехом, —
Все ж будет оплакан отцом-стариком.
Грех слишком был тяжек, не мог быть прощен,
4180 И внуком отважным Иредж отомщен.
Стремительней бури примчался скакун,
И голову Тура узрел Феридун.
Простерся и благословенье Творца
Призвал венценосный на подвиг юнца.
[ВЗЯТИЕ КАРЕНОМ КРЕПОСТИ ЭЛАНАН]
До Сельма дошло: разразилась беда,
За тучами скрылась удачи звезда.
И к крепости ближней он взор обратил,
К твердыне, вознесшей главу до светил.
Задумал укрыться он в крепких стенах,
4190 Превратностью рока повергнутый в страх.
Меж тем размышлял Менучехр: «Воевать
Раздумает Сельм. Верно, двинет он рать
К стенам Эланана; про славу и честь
Забыв, поспешит он в твердыне засесть.
Твердыня коль станет приютом ему,
Оттуда не выбить его никому:
Ту крепость высокую — чудо земли —
Из водных глубин колдовством вознесли.
Обилие благ наполняет ее,
4200 И птица Хомай осеняет ее[172].
Мне путь ему должно отрезать: задам
Работу теперь стременам, поводам».
Карена, начальника воинских сил,
Призвал он и в замысел свой посвятил.
Тот, выслушав все, что сказал ему царь,
Промолвил: «О доблестный мой государь!
Коль дашь повеленье слуге своему,
Отборное войско с собою возьму
И недругу в крепость отрежу я путь.
4210 Ему от возмездия не ускользнуть.
Дозволь, государь; Тура стяг боевой
И перстень с печатью возьму я с собой.
Уловку задумал я в дело пустить
И тот неприступный оплот захватить.
С отборной дружиной помчусь я в ночи,
А ты, повелитель, про это молчи».
Сказал Менучехр полководцу в ответ:
«Бог в помощь тебе! Твой разумен совет»[173].
Бойцы под начало Карену даны —
4220 Шесть тысяч их, опытных в деле войны.
Лишь ночь опустилась, глуха и черна,
Кимвалы Карен водрузил на слона,
Готовый с отважным отрядом своим
Пуститься к высоким стенам крепостным.
Ширую вверяя иранскую рать,
Сказал он: «Мне должно от войска отстать.
К начальнику стражи мгновенно примчась,
Я перстень ему покажу и тотчас
Проникну в твердыню и стяг подниму,
4230 Сверканием стали прорежу я тьму.
А вам — наготове стоять за стеной,
Призыв мой услышав, помчаться за мной».
И в путь устремился Карен, а стрелки
С могучим Шируем стоят у реки.
Достигнув ворот, стал начальника звать,
Тот вышел, увидел на перстне печать.
«От Тура я послан,—промолвил Карен,—
Приказ был: достигнув тех каменных стен,
К начальнику стражи войди и скажи —
4240 Отныне, мол, сон и покой отложи.
С посланцем моим заодно будь во всем,
С ним стойте на страже и ночью и днем.
Лишь войско придет Менучехра-царя
И стяг кавеянский взовьется, горя,
Вы вместе навстречу должны выступать;
Быть может, враждебную сломите рать».
Начальник, ту речь услыхав от гонца,
При виде знакомой печати, кольца,
Немедля ворота пришельцу открыл:
4250 Лишь явное видя, о скрытом забыл.
Послушай, что молвил сказитель-дехкан:
«Кто бдителен, тот распознает обман.
Уметь подчиняться мы с вами должны,
Но думать при этом и сами должны.
Узнаем, где благо для нас, где печаль,
Коль сможем предвидеть, заглядывать вдаль».
Но был беззаботен твердыни глава,
На веру он принял Карена слова.
Один затаил в сердце умысел злой
4260 И слепо ему доверялся другой.
Чужого родным не задумался счесть,
Все отдал он — крепость, и душу, и честь.
Говаривал сыну воинственный лев[174]:
«О доблестный, рвешься ты в бой, осмелев.
Но прежде чем ринуться — дело бойца
Намеренья вражьи постичь до конца.
Пришельца речам, как ни сладки они,
Страшись доверяться в военные дни.
Засады врага опасайся, умей
4270 Разгадывать суть лицемерных речей».
Хоть знатен был витязь и духом велик,
Но в замысел хитрый — увы! — не проник;
Не смог он уловку врага разгадать,
И мощную крепость был вынужден сдать.
Наутро Карен, закаленный войной,
Стяг поднял, сиянием схожий с луной,
Иранским бойцам кликнул клич с вышины
И знамя вознес над зубцами стены.
Шируй, ослепительный стяг различив,
4280 К Карену-вождю поспешил на призыв,
В ворота ворвался с дружиной своей
И кровью венчал именитых мужей.
Здесь — бьется Карен, там — отважный Шируй;
Блеск стали, течение пенное струй,
Вихрь огненный, мчащийся с разных сторон,
Наездников крики и раненых стон...
Уж солнце в зените, и видит оно,
Что крепость и рать опустились на дно,
И челн под водою последний исчез.
4290 Лишь дым пепелища встает до небес.
Мир черною тучею заволокло...
Там тысяч двенадцать бойцов полегло.
Когда же светило ушло на покой,
Стал город сожженный равниной пустой.
Казалось, в реке вместо влаги — смола,
А суша кровавой рекой потекла.
[НАПАДЕНИЕ КАКУЯ — ВНУКА ЗОХАКА]
Блестящей победою встретив зарю,
Примчался Карен к Менучехру-царю.
Поведал, какие свершил он дела
4300 И как его битва с врагом протекла.
Приветствовал царь полководца тепло:
«Да ввек не оставить коня и седло!
Едва ты умчался, нагрянула рать,
Враг новый пришел против нас воевать —
Из внуков Зохака, что край наш терзал, —
Какуй — я нечистого имя узнал[175].
Напал он на нас с сотней тысяч бойцов,
Наездников знатных, стрелков-удальцов.
В той битве и мы потеряли — увы! —
4310 Воителей десять, могучих, как львы.
Сражаться и Сельм устремился, когда
Пришла из Гухтганга та злая орда.
Какуй — это яростный див, говорят,
Чья сила в сраженьи не знает преград.
Я в битве еще не проверил его,
Своей булавой не измерил его.
Коль ринется вновь на дружину мою —
Схвачусь, испытаю, каков он в бою».
«О мой повелитель! — Карен отвечал, —
4320 Кого не осилят твой меч и кинжал!
Лев яростный если попался тебе,
И тот изнемог бы с тобою в борьбе.
Кто этот Какуй, чтоб о нем толковать!
Противников нет тебе в мире подстать.
Я, к разуму вновь обратившись теперь,
Усердно за дело возьмусь, и поверь,
На нас из Гухтганга далекого впредь
Смельчак ни один не дерзнет налететь».
На это сказал молодой властелин:
4330 «Заботы не должен нести ты один.
Ты пробыл немало часов на коне;
Устал ты — сменить тебя надобно мне.
Черед ратоборствовать ныне за мной,
А ты отдохни, о бесстрашный герой!»
Лишь эти слова с менучехровых губ
Слетели — мир дрогнул от рокота труб.
При громе кимвалов копыта коней
Пыль к небу вздымали, эбена черней.
4340 Ты скажешь, там душу клинки обрели,
Там копья и палицы речи вели.
Казалось, сплошным ястребиным крылом
От стрел оперенных стал воздух кругом[176].
К руке прилипала меча рукоять,
Уж кровь с облаков начинала стекать.
Земля, словно море в час бури ночной,
Вздымала волну за кровавой волной.
Воитель Какуй, грозный клич испустив,
Помчался вперед, словно яростный див.
Навстречу ему Менучехр молодой
4350 С индийским клинком устремляется в бой.
Так оба вскричали, что горным хребтам
Не вынести: дрожь пронеслась по рядам.
Ты скажешь — вот два разъяренных слона,
И схватка меж ними начаться должна.
Ударил Какуй Менучехра копьем,
И дрогнул на шахе румийский шелом.
Ударом железо пробил великан,
Блеснул из-под панцыря царственный стан.
Тут царь на врага налетел и сплеча
4360 Рассек ему панцирь ударом меча.
Пока в небосводе, сияя светло,
Палящее солнце в зенит не взошло,
Как лютые львы, длили витязи бой,
Прах черный мешая с кровавой струей.
Когда же на солнце надвинулась мгла,
Их ярость последний предел перешла.
Наскучила битва царю — и бока
Он стиснул гнедому, стальная рука
Хватает Какуя за тесный кушак;
4370 Мгновенье, и в воздух приподнят смельчак,
И сброшен с седла на горячий песок,
И в грудь его острый вонзился клинок.
Пал храбрый араб, злой судьбой осужден.
В недобрый он час был, как видно, рожден.
[БЕГСТВО СЕЛЬМА И СМЕРТЬ ЕГО ОТ РУКИ МЕНУЧЕХРА]
Царь Запада горькую весть услыхал
О смерти Какуя, и духом он пал.
Угас у воителя пыл боевой,
И кинулся ратников дрогнувший строй
К твердыне заречной. Пред ними вода[177],
4380 Челнов же не видно, исчезли суда.
Путь заперт к убежищу, гибель близка.
Примчались грозой Менучехра войска.
Так много убитых легло на пути —
Ни конным проехать, ни пешим пройти.
Вскипел Менучехр, обуял его гнев.
Он, вихрем на спину гнедого взлетев,
Сняв панцирь с коня, между грудами тел,
Пыль тучей вздымая, вперед полетел,
И вскоре властителя Рума настиг.
4390 «Стой, жалкий злодей! — прозвучал его крик. —
Ты брата убил, добиваясь венца,
Зачем же бежишь ты, пугаясь венца?
Несу я венец, и готов твой престол.
Дал новый побег в прах поверженный ствол.
Тебе Феридун строит новый дворец.
Куда же ты мчишься, прими свой венец!
Ты сеял — пришел созреванию срок:
Отведай плоды, что принес твой росток.
Коль это шипы — насаждал ты их сам;
4400 Коль шелка волокна — соткал ты их сам».
Меж тем все быстрей погонял он коня,
К врагу приближался быстрее огня;
Догнал и занес закаленный булат,
И надвое им рассечен супостат.
Снес голову с вражеских плеч и ее
Велел победитель воздеть на копье.
Увидев размах богатырской руки,
Пришли в изумленье двух ратей стрелки.
Рать Сельма, как стадо, которое, вдруг
4410 Застигнуто вихрем, покинуло луг,
Рассеялась; в чаще лесной и в горах
Скрываться воителей вынудил страх.
Тут избран был ими испытанный муж,
Искусно владеющий речью к тому ж.
Посланцем от войска он был отряжен.
Представ пред владыкою, вымолвил он:
«Тебе мы готовы усердно служить,
Как ты повелишь, так и станем мы жить.
Мы мирно трудились: кто стадом владел,
4420 Кто домом, посевами, садом владел.
[Мы в бой не рвались, жаждой мщенья горя, —
Пришлось уступить повеленью царя.]
Мы шли не по воле своей воевать —
Приказано было нам выставить рать,
Мы преданы сердцем владыке царей,
Склониться готовы пред волей твоей.
Коль мстить пожелаешь — веди на убой.
Знай, сил у нас нет состязаться с тобой.
К тебе, всех дружин главари, мы пришли,
4430 Безвинны, бедою гонимы, пришли.
Воздай нам теперь, чем угодно тебе;
Как скажешь, так нашей решиться судьбе».
Воззванью воителя с ясным умом
Внимал победитель в раздумье немом.
Он молвил: «Я мщенье повергну во прах,
Чтоб добрую славу оставить в веках.
Всё то, в чем дыханья изедова нет,
Что вызвано злым Ахриманом на свет,
Отброшу я прочь, о раздорах забыв.
4440 Пусть лютою злобой терзается див!
Равно мне — мои неприятели вы
Иль давние доброжелатели вы;
Обязан победой своей небесам,
Прощенье и милость я жалую вам.
День правды взошел, ниспровергнуто зло,
Убийств и жестокостей время прошло,
В согласьи живите и будьте сильны,
Снимите доспехи кровавой войны.
Свободны от бедствий и чужды вражде,
4450 Закон, справедливость внедряйте везде.
Какой бы отечеством ни был вам край,
Туран, или Рум, или дальний Китай, —
Все в мире и дружбе живя меж собой,
Пребудьте покойны, довольны судьбой».
И знатные громко хвалу вознесли
Царю-правдолюбцу, надежде земли.
Пред ставкой раздался глашатая крик:
«Эй, витязи, каждый, кто сердцем велик!
Теперь понапрасну не лейте вы кровь,
4460 Злодеям конец, не подняться им вновь».
И стали стекаться к царю на поклон
Китайские воины с разных сторон.
Покорно пришла побежденная рать
Пешенгову сыну оружие сдать[178].
Слагая доспехи, шел воинов ряд,
И холм вырастал из сверкающих лат,
Из шлемов румийских, индийских клинков —
Всего снаряженья лихих седоков.
Бойцов Менучехр от души обласкал,
4470 Для каждого сан по заслугам сыскал.
[ФЕРИДУНУ ПОСЫЛАЮТ ГОЛОВУ СЕЛЬМА]
Отправил он вестника-богатыря,
Вручив ему голову Сельма-царя,
С посланьем для славного деда; оно
Рассказов воинственных было полно.
Йездану хвалу Менучехр воздавал,
Затем Феридуна-царя воспевал:
«Да славится вечно Податель побед,
От Коего сила, и доблесть, и свет,
В Чьей власти и горе и счастье дарить,
4480 Кто в силах и скорбь и недуг исцелить.
Пусть радует благословенье Творца
Беззлобную душу царя-мудреца,
Пред кем отступают насилье и зло,
Кому благодать осенила чело.
Разбил я воителей вражеских стран,
Расставил для них смертоносный капкан;
Настиг с твоим войском двоих кровопийц,
Двоих супостатов и цареубийц;
Обоим снес головы грозным мечом,
4490 Смыл черную злобу кровавым ручьем.
Примчусь я и сам за посланием вслед,
Порадую повестью битв и побед».
Был в крепость посланцем Шируй отряжен,
Воитель бывалый, что рьян и умен.
Царь молвил: «Богатства казны обозри,
Что разум тебе повелит, отбери.
Сокровища взяв, приготовься к пути:
Их должно к царю на слонах отвезти».
Литавры и знамя — воителей честь —
4500 Велел он из ставки державной принесть.
К царю Феридуну дружину повел,
От крепости Чин на равнину повел.
Когда подошел Менучехр к Теммише,
Дед вышел навстречу с отрадой в душе.
Раздался трубы оглушительный зов,
И тронулась с места громада рядов.
Блестит на слоновьей спине бирюзой
Трон мужа, хранимого светлой звездой.
Шуршит паланкинов китайский атлас,
На золоте ярко искрится алмаз.
4510 Зареяли стяги ярчайших цветов:
И, кажется, воздух багрян и лилов.
И тучею движутся богатыри
От моря Гиланского к башням Сари[179].
Сплошь золото на поясах и щитах,
Сплошь золото на стременах и уздах.
В богатом убранстве, с добычей идя,
Слоны выступают, встречая вождя.
Приблизился с войском венчанный герой,
И встретил их пеший владыка седой.
4520 Несутся гилянцы, смелы, горячи[180];
Черны их шеломы, блистают мечи.
Стремительно скачут иранцы вослед,
Подобные тиграм питомцы побед.
Проносятся лютые львы и слоны,
За ними воители мчатся, грозны.
Лишь стяг Феридуна пред ними возник,
Бойцы Менучехра построились вмиг.
С коня молодой венценосец сошел,
Сказал бы — цветущего дерева ствол.
4530 Склонившись, вознес он хвалу мудрецу,
Престолу, и перстню его, и венцу.
Целуя и руку сжимая тепло,
Царь внука заставил усесться в седло.
Едва с Менучехром достигнув дворца,
За витязем Самом послал он гонца.
В далекую Индию ездил герой
В подмогу сражавшимся с дивьей ордой[181].
И шаху из той благодатной страны
4540 Подарки нежданные привезены:
Динары и тысячи тысяч камней,
Каких бы ни счел ни один казначей.
Звучит славословие богатыря
В честь старого и молодого царя.
Приветствует Сама владыка седой,
Сажает на трон его рядом с собой.
И молвит: «Мой путь уж подходит к концу,
Я внука вручаю тебе, храбрецу[182].
Любви и опоры его не лишай,
4550 Все новые подвиги в битвах свершай».
И в руки воителя, полного сил,
Ладони юнца миродержец вложил.
И после, глаза к небесам возведя,
Сказал: «О верховный благой Судия!
Изрек ты недаром: «Мой праведен суд,
Во Мне все страдальцы опору найдут».
Меня защитил Ты, мне помощь подал
И перстень и царский венец ниспослал.
Мольбы мои все ты услышал, Творец,
4560 Теперь унеси меня в новый дворец!
В юдоли сей тесной мне тягостно жить,
И дни мои больше здесь незачем длить».
Лишь только Шируй-полководец привез
Добытых сокровищ огромный обоз,
Царь войску их роздал, обычай храня.
От месяца Мехр оставалось два дня,
Когда повелел он, чтоб царь молодой
Воссел на кеянский престол золотой.
Своею рукою он внука венчал,
4570 Благими речами его поучал.
[СМЕРТЬ ФЕРИДУНА]
Лишь это свершилось, настиг его рок;
Лист пышный на царственном древе поблек.
Отринув престол и заботы владык,
В тоске Феридун головою поник.
На головы трех сыновей он взирал,
Одежды, скорбя, на себе раздирал.
Горючие слезы струились рекой.
Взывал венценосец, утратив покой:
«Затмился мой день без любимых моих,
4580 Утраченных, невозвратимых моих.
Убитых я головы здесь берегу,
Погубленных распрей на радость врагу.
В злонравии злые свершая дела,
Становятся юноши жертвою зла.
Сыны преступили отцовский завет,
И вот помрачился для них белый свет».
И кровью он плакал, грустя все сильней,
И вскоре дождался конца своих дней.
Расстался Иран с Феридуном-царем,
4590 Но вечной останется память о нем.
Он добрым и праведным прожил свой век.
О сын мой, не создан для зла человек!
Венец принести Менучехр приказал
И стан свой кровавым жгутом обвязал;
И, как подобает владыке владык,
Гробницу червонного злата воздвиг[183].
На трон по обряду посажен мертвец;
Над троном подвешен кеянский венец.
И каждый к царю подходил, удручен,
4600 Прощаться, как требовал древний закон.
Закрыли гробницу, где царь был сокрыт...
Так умер великий, печалью убит.
С лицом пожелтевшим, стеная, в слезах,
Умершего юный оплакивал шах.
Он в трауре, в скорби семь дней пребывал,
С властителем вместе весь край горевал.
О, что же ты, мир, кроме горькой тщеты?
Того, кто разумен, не радуешь ты.
Как рок ни лелеет тебя, человек,
4610 Но рано иль поздно, пресекши твой век,
Отнимет он все, что тебе даровал, —
Не все ли равно, это прах иль коралл?
Царем иль слугою пройди бытие —
Лишь прервано роком дыханье твое —
И радость, и скорбь, все минует, как сон.
Жить вечно никто на земле не рожден.
Когда ты прославился доблестью дел,
Будь царь или раб — твой бессмертен удел.
МЕНУЧЕХР[184] [Царствование длилось сто двадцать лет]
Со дня, как властителя смерть унесла,
4620 В слезах и печали неделя прошла.
Потом Менучехр, властелин молодой,
Венец на себя возложил золотой.
Смиритель нечистых, губительных сил,
Сто двадцать блистательных лет он царил.
Мужи-меченосцы иранской земли
Приветствовать нового шаха пришли.
Когда он воссел на кеянский престол,
Весь край возродился, от счастья расцвел.
Поклялся он чести законы блюсти[185],
4630 Сказал: «Будут правда и вера в чести».
Сказал: «На престоле я, року подстать, —
Гроза для врагов, для друзей — благодать.
Земля мне покорна, мне друг — небосвод,
Властителей головы меч мой сечет.
Сражаться я стану за веру мою,
Со злом совладаю, добро отстою.
Средь ночи врага отыщу и схвачу;
В седле, словно бурное пламя, лечу.
Владею мечом, золотой булавой[186],
4640 И знамя Каве над моей головой.
Как молния в тучах, мой острый булат,
Опасности боя меня не страшат.
Я в битве — огонь, а настанут пиры —
Я моря щедрей расточаю дары.
Злодейству врагов положу я конец,
Их кровью окрашу я землю в багрец.
Разя булавою, прославил я трон,
Которым подлунный весь мир озарен.
При доблестях стольких лишь раб я простой,
4650 Склоненный пред силой Йездана святой.
Я руки, рыдая, вздымаю к лицу,
С мольбою смиренной взываю к Творцу.
Он войско мне дал, Им венец мне вручен,
Защита моя и прибежище — Он.
Я молод, но опытом деда богат.
Во всем Феридуну я следовать рад;
В любой из семи поднебесных держав
Кто кривде предастся, страх божий поправ,
Кто бедного сдавит тисками обид,
4660 Народу страданья и зло причинит,
Кто, чванясь богатством и сильной рукой,
Трудящимся людям отравит покой, —
Того нечестивым сочту я; вдвойне
В нем более зла, чем в самом сатане;
Презревшего правду благой Судия
Отвергнет сурово, отвергну и я.
Над злом занесу я карающий меч,
Вражду и насилье сумею пресечь».
В ответ именитые люди земли 4670
Царю Менучехру хвалу вознесли:
«О правдолюбивый, тебе наш привет!
Учил тебя царствовать праведный дед.
Твоими да будут престол и печать,
И царский венец, и небес благодать!
Послушно сердца мы вручаем тебе,
Мы жизни свои посвящаем тебе».
Встал доблестный Сам, первый в мире боец[187],
И молвил: «О праведный царь, о мудрец!
С надеждой мой взор на тебя устремлен.
4680 Да славится твой справедливый закон!
Ты гордый потомок иранских царей,
Избранник средь доблестных богатырей.
Йездан да хранит твою жизнь и покой,
Удача навек да пребудет с тобой.
Ты — память о древних годах для меня,
Надежда, опора ты, шах, для меня.
Как лев, нападаешь, могуч и суров,
Как солнце, сияешь в веселье пиров.
Да будешь ты всею вселенною чтим,
4690 Да будет престол неизменно твоим.
Победно ты бился, мир кровью омыв, —
Предайся ж покою, о битвах забыв.
Дай нам ратоборствовать с этой поры,
Тебе же — дворец, и вино, и пиры.
Отец мой и деды в былые года
Владыкам опорою были всегда.
Людьми не забыты Гершасп и Нейрем[188];
Хвала воздается воителям тем.
Поезжу по свету, облекшись в броню,
4700 Аркан свой закину, врагов полоню.
Твой дед посвятил меня в витязи встарь;
Ты — лаской мне сердце согрел, государь».
Приветливо витязю царь отвечал,
Немало даров драгоценных вручал.
Затем удалился воинственный Сам,
Герои другие— за ним по пятам.
Ушел и владыка к себе на покой,
Край счастливо зажил под царской рукой.
[О РОЖДЕНИИ ЗАЛЯ[189]]
Начну я сейчас удивительный сказ,
4710 Из глуби веков донесенный до нас.
О витязе Саме послушай, сынок,
Как шутку сыграл с ним изменчивый рок.
Наследника не было Саму дано,
А сердцем отрады он жаждал давно.
В покоях его расцветала краса:
Лицо — лепесток, мускус темный — коса.
И Сам на отцовство надежду питал:
Подруга, чей лик, словно месяц блистал,
От сына Нейрема была тяжела,
4720 С трудом эту тяжкую ношу несла.
Родился младенец у матери той,
Как ясное солнце, слепя красотой;
Лицом словно солнце, одна лишь беда —
Была голова у младенца седа.
Неделю молчали при Саме о нем.
Легко ли признаться в изъяне таком?
Все женщины в доме, тревоги полны,
Стенали, над мальчиком тем склонены.
Никто не решался отцу рассказать,
4730 Что сыном седым разрешилася мать.
Одна из прислужниц, как львица смела,
Смятение скрыв, к исполину вошла,
Ему принесла долгожданную весть,
Сказала, воздав именитому честь:
«Приветствую славного Сама-бойца,
Завистников да разорвутся сердца!
Дал бог тебе то, что давно ты искал,
Мечтою о чем свою душу ласкал.
Родился, о доблестный мой господин,
4740 У месяцеликой пленительный сын.
Поверишь, ребенок — что львенок на вид:
Малютка — уже храбрецом он глядит.
Белей серебра, ликом радует взор,
Ему ничего не поставишь в укор.
Один лишь изъян — мальчик седоволос.
Таким уж родиться ему довелось!
Ниспосланный дар и таким возлюби.
Не вздумай роптать и душой не скорби».
Воитель, встревоженный вестью такой,
4750 К подруге направился в спальный покой.
Пред ним в колыбели, прекрасен, но сед
Младенец, какого не видывал свет.
Прекрасен, и щеки пылают огнем,
Но снега белей каждый волос на нем.
Как только седое дитя увидал,
Прославленный витязь в тоске зарыдал;
Насмешек людских устрашился душой,
И черная дума смутила покой.
В отчаянье руки воздев к небесам,
4760 Молил о пощаде и помощи Сам:
«О Ты, что сильнее неправды и зла,
Чья воля всегда благодатна, светла!
Коль тяжко я против Тебя согрешил,
Угодное дьяволу если свершил,
Молю, о Владыка небес и земли,
Мне втайне прощенье Свое ниспошли.
Сжимает мне сердце мучительный стыд,
От горести кровь моя в жилах кипит:
Младенец, должно быть, нечистого сын;
4770 Черны его очи, а кудри — жасмин.
Коль витязи, в княжеском замке гостя,
Увидят зловещее это дитя,
И спросят о нем, — как назвать его им?
То ль пестрым тигренком, то ль духом лесным?[190]
Открыто и тайно вся гордая знать
Насмешками станет меня осыпать.
Придется покинуть Иран от стыда,
Отречься от этой земли навсегда».
Сказал и, разгневан жестоко, ушел,
4780 Ропща на веления рока, ушел,
И слугам велел он, не медля в пути,
Младенца к Эльборзу тайком отнести,
К подножью хребта, что до туч вознесен,
Но пуст и безлюден с давнишних времен.
На кручу взойти не решался никто:
Там высилось птицы Симорга гнездо[191].
Умчались, оставив младенца в пыли,
И многие годы с тех пор протекли.
Еще не познавший ни света, ни мглы,
4790 Ребенок лежал у подножья скалы,
Забытый отцом маловерным своим,
Пригретый Творцом милосердным одним.
Детенышу львица любви языком
Твердит, насыщая его молоком:
«Хотя б кровью сердца питала тебя,
И то б должником не считала тебя.
Ты в сердце моем, с ним ты слился в одно;
Коль вырвут тебя, разорвется оно».
Но брошен младенец, забыли о нем,
4800 Кричащем от голода ночью и днем.
То палец сосет он, забывшись на миг,
То снова разносится жалобный крик.
В гнезде у Симорга иссякла еда,
И вылетел шумно Симорг из гнезда.
Вдруг видит он — плачет младенец грудной;
Земля — океан, излучающий зной.
Земля вместо матери, люлька — гранит;
Дитя без одежды, без пищи лежит,
Лежит у подножья скалы вековой,
4810 И солнце палящее над головой.
Ах, если б тигрица его родила,
И та бы укрыла, от зноя спасла...
Всевышний Симорга сумел укротить[192],
Не стал быстрокрылый добычу когтить:
Слетел с облаков он, мгновенно дитя
Схватил и понес, точно ветер летя;
На самый высокий из горных зубцов
Вознесся — туда, где растил он птенцов.
Пред ними кричащего он положил,
4820 Младенца он в пищу птенцам предложил.
Но милость явил Вседержитель благой,
Иное начертано было судьбой.
Дитя, проливавшее кровь из очей,
Растрогало птиц красотою своей.
Пленила их чистая прелесть лица.
И диво!—любовь им согрела сердца.
Нежнейшую дичь добывали ему,
Взамен молока кровь давали ему.
Неслышно текли за годами года;
4830 Забытый младенец во мраке гнезда
Стал отроком, юношей стал, возмужал...
Однажды вблизи караван проезжал.
Пред взорами муж сребротелый возник,
В плечах — как утес, а в обхвате — тростник
Молва побежала, легка и быстра:
Не скроешь от света ни зла, ни добра.
И вскоре известья до Сама дошли
О брошенном сыне, что вырос вдали.
[САМ ВИДИТ ВО СНЕ СЫНА]
Однажды воитель во мраке ночном
4840 Забылся тревожным, томительным сном.
И вот что привиделось Саму во сне:
Из Индии дальней на быстром коне[193]
Примчался воитель, могуч, величав;
Подъехал к нему и, коня придержав,
Речь начал — принес он счастливую весть
О сыне, в ком сила, и разум, и честь.
Сам-витязь проснулся. Смущен, потрясен,
Мобедам поведал он виденный сон.
Потом рассказал им боец-великан,
4850 Какие известья привез караван.
«Что скажете, — молвил, — о чуде таком?
Своим рассудите высоким умом:
Спастись ли младенцу седому дано?
Иль зноем и стужей он сгублен давно?»
Весть новую каждый услышать был рад,
И все мудрецы, как один, говорят:
«Чье сердце роптать на Йездана могло,
Тому и в добре померещится зло.
Смотри, львы и тигры в степях и горах,
4860 Чудовища-рыбы глубоко в морях —
Все нежно лелеют потомство свое,
Все славят Дарующего бытие.
Лишь ты преступаешь Йездана завет,
Ты, бросивший чуть увидавшего свет.
Пришлась не по нраву тебе седина.
Но может ли чистых пятнать белизна?
В путь надо сбираться, не ждать, не гадать;
Не должен ты сына умершим считать.
Не сгубят хранимого Божьей рукой
4870 Ни лютая стужа, ни яростный зной.
Теперь ты к Йездану мольбы вознеси,
Направить к добру твою душу проси».
На том порешили, что Сам на заре
С молитвой поедет к Эльборзу-горе.
Стемнело, и витязь уснул; изнемог
В нем дух от сомнений и тяжких тревог.
И снится могучему: ярки, пестры,
Знамена спускаются с Хинда-горы.
Дружину ведет каменистой грядой
4880 Пленяющий обликом вождь молодой.
Два спутника с ним: величавый мобед
И мудрый советник, муж, видевший свет.
Приблизился первый, разгневан, суров,
И речь начинает с бичующих слов:
«О дерзкий, с душой нечестивою муж,
Утративший стыд перед Богом к тому ж!
Коль птица печется о сыне твоем,
Ты зваться достоин ли богатырем?
Тебе ведь седины твои не в укор,
4890 Почто же для сына в них видишь позор!
Одумайся: волосом черен иль сед,—
Таков он, каким его создал Изед.
И сам ведь с годами меняешься ты:
Роптать на Творца покушаешься ты!
Смотри, милосердной взлелеян судьбой
Младенец, отвергнутый гневно тобой.
Покинутых пестует нежно Творец;
Ты нежности чужд, недостойный отец!»
И витязь проснулся, от боли взревев,
4900 Как будто в тенета попавшийся лев.
Объял его трепет от этого сна:
Не кара ль Господня ему суждена?
Вскочил богатырь и, мобедов призвав,
Воителям сесть на коней приказав,
Помчался к Эльборзу, к вершинам седым,
Разыскивать сына, забытого им.
И видит: гора до небес вознеслась,
Как будто за звезды рукою держась.
Высоко на круче — твердыня гнезда;
4910 Ему и Кейван не нанес бы вреда[194].
Опоры — сандал и эбен; сплетено
Из сучьев огромных алоя оно.
Застыл исполин в изумленьи немом
Пред этим невиданным птичьим гнездом.
До неба чертог — ни камней, ни песка[195];
Его возвела не людская рука;
Там юноша бродит; он статен, пригож,
И ликом и станом на Сама похож.
Наполнилось радостью сердце отца:
4920 Пал ниц богатырь, славословя Творца
За то, что Он птицу из птиц сотворил,
Гнездом неприступным ее одарил.
Он понял: велик всеблагой Судия,
Которым начертан закон бытия.
Но где же тропинка к вершине крутой?
И зверь не пробрался бы кручею той!
Тропинку искал он и не отыскал,
И молит Творца средь безмолвия скал:
«О Ты, вездесущий, царящий везде,
4930 Дарящий сиянье луне и звезде!
От страха душа покидает меня.
Молю я, главу пред Тобою клоня:
Коль юноша сей — моя плоть, моя кровь,
Не беса отродье — яви мне любовь;
Ты мне помоги на вершину взойти.
Будь милостив, грех мой великий прости!»
Лишь только слова эти вымолвил Сам,
Молитва его вознеслась к небесам.
Пернатый с утеса взглянул своего
4940 На Сама, на спутников знатных его
И понял, зачем совершил он тот путь:
Задумал он милого сына вернуть.
К питомцу Симорг обратился тогда:
«О росший в забвеньи, во мраке гнезда!
Тебе я кормильцем был множество дней.
Кормильцем и верной опорой твоей.
Недаром Дестаном тебя я назвал:
Ты жертвой коварства отцовского стал.
Когда возвратишься в отцовский дворец,
4950 Пусть так и зовет тебя витязь-отец.
Сюда, к этим диким отвесным скалам,
Примчался воитель прославленный Сам,
Чтоб милого сына с собой увезти;
Тебе у него быть отныне в чести.
Решайся — я в воздух тебя подниму,
Тебя невредимым снесу я к нему».
Слезой затуманился юноши взгляд,
Он тяжко вздыхает, печалью объят.
Хотя от людей в отдаленьи он жил,
4960 Симорг его речи людской научил,
И внятно звучали Дестана слова:
Исполнена знаний была голова.
Не только послал ему силу Йездан —
Дар слова и разум был юноше дан.
Вскричал он: «Ужели угодно судьбе,
Чтоб юный питомец наскучил тебе!
Гнездо твое — лучший дворец для меня,
Крыла твои — светлый венец для меня.
Ты после Йездана всех больше мне мил.
4970 Ты тяжкую участь мою облегчил».
Ответил Симорг: «Если б царский чертог
И царские почести видеть ты мог,
Тогда о гнезде ты не стал бы тужить;
Попробуй отныне по-новому жить.
Ведь я не со зла удаляю тебя —
На царство я благословляю тебя.
Мне тяжко с тобой расставаться, но взвесь:
Там счастье тебя ожидает, не здесь.
Под сенью моей будешь вечно; добро
4980 Тебе принесет, знай, вот это перо.
И если грозить тебе станет беда,
Иль с добрым дурное столкнется, тогда
Перо ты к огню поднеси, и тотчас
Явлюсь пред тобой, издалека примчась.
Не я ли тебя под крылом приютил,
С птенцами своими берег и растил?
Как туча нагрянув, тебя я схвачу,
В родное гнездо невредимым помчу.
Прощай, пестуна своего не забудь!
4990 Печаль расставанья терзает мне грудь».
Утешив, схватил его в когти и с ним
Вознесшись стремительно к тучам седым,
Низринулся, молний небесных быстрей.
По пояс у юноши волны кудрей,
Лик — солнце, а рост со слона. И восторг
У старого Сама рыданье исторг.
И голову Сам пред Симоргом склонил
И мудрому долго хвалы возносил.
Он молвил: «Царь-птица! Творец, возлюбя[196],
5000 Могучим и доблестным создал тебя
Недаром: возносишь униженных ты,
Берешь под защиту обиженных ты.
Для злобных сердец ты — гроза и беда,
Таким же могучим пребудь навсегда».
Вознесся пернатый к вершинам седым,
И каждый последовал взором за ним.
Сам, юношу взглядом окинув, нашел,
Что сыну пристали венец и престол.
Лик — солнце, грудь львиная, кровь горяча,
5010 Рука богатырская ищет меча.
Уста — словно лал, очи — цвета смолы,
Ланиты — что мак, а ресницы, белы.
Когда б не врожденная та седина,
Была бы его красота без пятна.
В душе у могучего витязя рай.
«О сын мой! — сказал он, — печали не знай.
Прости мне обиду, о прошлом забудь,
Смягчись и любовью согрей свою грудь.
Я только ничтожнейший раб Судии.
5020 Коль ты возвратился в объятья мои,
Я Богом великим поклясться готов,
Вовеки с тобою не буду суров;
Тебе одному посвящу бытие,
Закон мне отныне — желанье твое».
Плащ витязей он повелел принести
Для сына, и вот уже оба в пути.
Спустившись, коней оседлать повелел.
Князей облаченье подать повелел,
И сына Заль-Зером нарек великан,
5030 Как птица дала ему имя — Дестан.
Воители к Саму толпою пришли,
Ликуя, с раскрытой душою пришли.
Литавры гремят на могучих слонах,
Громадою черной вздымается прах.
Запела труба, с нею в лад — барабан,
Звонки золотые, индийский тимпан.
Наездники с криком помчались вперед,
Веселый и шумный свершая поход;
И в город свой, рады удаче, вошли,
5040 Одним исполином богаче вошли.
[МЕНУЧЕХР УЗНАЕТ О CAME И ЗАЛЕ],
И вскоре владыка Ирана узнал,
Что поиски Сама успех увенчал.
Как только услышал отрадную весть,
Йездану хвалу поспешил он вознесть.
Он двух сыновей ненаглядных имел,
Был каждый правдив, и разумен, и смел:
Как молнии, в битве Зересп и Новзер[197]
Носились, отваги являя пример.
Немедля владыка Новзера призвал,
5050 Отправиться к Саму ему приказал, —
На сына его, на Дестана взглянуть,
От птицы к отцу совершившего путь;
Державным приветом его ободрить,
Державную милость отцу подарить:
Велеть, чтобы ехал к владыке царей,
Про все, что случилось, поведал скорей,
А там воротился бы в Забулистан[198],
Как прежде, служить повелителю стран.
Помчался Новзер по веленью царя
5060 В удел знаменитого богатыря.
Сам-витязь навстречу ему поспешил
И обнял его, и о шахе спросил,
О витязях сердцу его дорогих,
И долго тянулась беседа о них.
Услышав царя Менучехра наказ,
Воитель покорно склонился тотчас
И, как повелел именитый гонец,
Поспешно собрался к царю во дворец.
Отправились в путь богатырь и Новзер,
5070 Им вслед — на слоне восседавший Заль-Зер.
Про это услышав, могучую рать
Царь вывел из города — Сама встречать.
И витязь, увидя сверкающий стяг,
Поспешно направил к властителю шаг.
Пред ним лобызая приветственно прах,
Воскликнул: «Будь счастлив и славен в веках!»
Но к славному Саму почтенье храня,
Владыка велел ему сесть на коня.
Вступили в палаты дворца своего
5080 Властитель царей и наследник его.
Венчанный державной короной, взошел
Владыка на древний кеянский престол.
Карен-полководец и доблестный Сам,
Сияя весельем, сидят по бокам.
Вот Заля во всей красоте молодой,
В венце золотом, с булавой золотой
Привел царедворец пред очи царя,
И царь удивляется: богатыря
Могучей, прекрасней не видывал свет.
5090 Сказал бы, он сердцу отрада и свет.
«Тебе, — молвил царь, к Саму речь обратив,—
Вверяю его, будь к нему справедлив.
Ты душу любимого не омрачай,
С надеждою взор на него обращай.
В себе сочетает он доблесть бойца,
Достоинство мужа и ум мудреца.
С врагами его обучи воевать.
С мужами его научи пировать.
Гнездо лишь видал он, да горы, да птиц —
5100 Узнать ему время обычай столиц».
Как сыну, которого в злобе слепой
Он бросил, назначено было судьбой
Быть вещею птицей спасенным в беде,
Приют обрести у Симорга в гнезде,
Как жил он и чем насыщался он там —
Про все рассдазал повелителю Сам:
«О чуде молва разлетелась, весь свет
Про Заля с Симоргом твердил много лет.
Покорный веленью благого Творца,
5110 К Эльборзу я двинулся в путь из дворца.
Гляжу, предо мною, вершиной до туч,
Кряж горный, что купол небесный, могуч,
И крепостью грозной — громада гнезда,
Куда не пробраться врагу никогда.
Там Заля увидел я рядом с птенцом,
Сказал бы ты — с братом его, близнецом.
И сразу любовь укротила меня,
О сыне мечта охватила меня.
Но сколько вокруг ни скитался, пути
5120 Не мог я к заветной вершине найти.
Я к сыну тянулся, я был как во сне,
И сердце от мук разрывалось во мне.
— «Всевышний Творец! — я взмолился, скорбя, —
Не знаешь Ты нужд, всем нужда до Тебя.
Вращаешь по воле Своей небосвод;
Твоей благодатью все в мире живет.
Я, грешник, раскаянья полон, в пыли
Лежу пред Владыкой небес и земли.
На милость Твою вся надежда моя,
5130 Не знаю другого прибежища я.
Беднягу того, что Симоргом взращен,
Что был на беду и нужду обречен,
Кому нагота заменяла шелка,
Кто кровью питался взамен молока,
Ко мне приведи Ты, иль путь укажи
К нему и мученьям конец положи!
Прости, не карай за жестокость мою,
И сердцем воспрянув, тебя воспою».
Такими словами молил я Творца;
5140 Услышаны были молитвы отца.
Могучий Симорг в поднебесную даль
Взвился над горою, где ждал его Заль,
Низвергся весеннею тучей с высот,
И вот он в объятиях Заля несет.
Все мускусом будто запахло вокруг.
Я замер, глаза мои высохли вдруг.
Величье Симорга и к сыну любовь
Покой и рассудок вернули мне вновь.
Питомца заботливей мамки храня,
5130 С горы он примчал, осчастливив меня.
Я славил Симорга, душой возрожден,
Я отдал пернатому низкий поклон.
Со мною он сына оставил, а сам
На крыльях могучих взвился к небесам.
Я ж сына к владыке привез моему,
Сокрытое сделал известным ему».
[ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАЛЯ В ЗАБУЛИСТАН]
И царь повелел, чтоб пришли мудрецы,
Волхвы-звездочеты, седые жрецы,
Пришли, вопросили Дестана звезду:
5160 Написано что у него на роду?
В грядущем кем станет он? Ясный ответ
Им должно добыть у небесных планет.
И вот звездочеты толпою пришли,
Поведали все, что по звездам прочли,
И молвили шаху такие слова:
«Да будет всегда твоя сила жива!
Он станет прославленным в мире бойцом,
Великим правителем и мудрецом».
Царь слушает, радостью лик осиян;
5170 Свободно вздохнул и отец. Караван
Богатых даров повелитель собрал —
Дивятся, взирая на них, стар и мал:
Арабских коней с золотою уздой,
Индийских мечей с золотою резьбой,
Мехов, одеяний, ласкающих взгляд,
Ковров и камней, что как солнце горят,
Румийских рабов и на каждом убор —
Где поле златое, алмазный узор;
Сапфировых чаш и тяжелых, литых
5180 Сосудов серебряных и золотых, —
В них амбру везли, камфору и шафран.
И много еще погрузил караван
Доспехов для битв и удалых забав, —
И копий, и луков, и стрел, и булав,
А также венец и печать-сердолик,
Престол бирюзовый и пояс владык.
В державном указе, по воле царя,
Прославлены подвиги богатыря;
Кабул ему отдан, Денбер, Май и Хинд
5190 От берега Чин и до берега Синд,
И княжество Бост, и забульский удел[199].
Составив указ, как обычай велел,
К нему приложили цареву печать.
Велели коней быстроногих седлать,
И встав для прощанья, всесветный боец
Сказал: «О властитель, надежда сердец!
От рыбы до самой луны ни один
Неведом, подобный тебе, властелин.
Ты — ласковый, мудрый и праведный царь,
5200 Ты — свет и отрада людей, государь.
Сокровища мира в глазах твоих — прах,
Да будет жива твоя слава в веках!»
Ушел он, царю поклонясь до земли,
Литавры свой гром далеко разнесли.
Князь, радостен, двинулся в Забулистан,
Весь город пришел проводить караван.
И вот уж к Нимрузу приблизился он[200],
И вести пришли, что царем вознесен,
Вернулся он с сыном своим молодым,
5210 С указом, с дарами, с венцом золотым.
Сияет Систан разукрашен, как рай[201],
В шафране и амбре купается край.
Там злато — что глина, и мускус — что прах,
Дирхемы валяются на площадях[202].
Веселье повсюду, куда ни пойдешь:
У люда простого и знатных вельмож.
К могучему витязю с разных сторон
Съезжалась удельная знать на поклон[203] —
Приветствовать сына и славить отца,
5220 Героя всесветного, Сама-бойца.
Хвалы расточая пред мощным вождем,
Осыпали Заля алмазным дождем.
И каждый, достойный высоких наград,
Кто праведно правил, был знаньем богат,
Наград удостоился. Был ему дан
И дар, и ему подобающий сан.
[САМ ПЕРЕДАЕТ КНЯЖЕСТВО ЗАЛЮ]
Отец, не жалея уменья и сил,
Наследника править страною учил.
Собрал он воителей, видевших свет,
5230 Как должно, держал с мудрецами совет.
И так говорит витязь доблестный Сам
Исполненным мудрости славным мужам:
«Таков прозорливого шаха приказ,
Чтоб войско в поход снарядил я сейчас.
На Мазендеран я, отсюда пойду[204],
Я войско на Кергесаран поведу[205].
Взойдет на престол сын единственный мой,
Который дороже мне жизни самой.
Вам ведомо всем, что когда-то давно
5240 Мне было злодейство свершить суждено.
Покинул я сына, что дал мне Йездан,
Отверг его, злобой слепой обуян.
Но славный Симорг предложил ему кров,
Его не оставил Создатель миров.
Он мной был отринут, а птицей любим,
Возрос у нее кипарисом прямым.
А ныне мой грех небесами прощен,
Мне сын милосердным Творцом возвращен.
Заменой своей оставляю его,
5250 С надеждою вам я вверяю его.
Я вам поручаю его обучать,
Познаньями разум его просвещать.
Любите его, наставляйте его,
К деяньям благим направляйте его.
А я, по приказу владыки, готов
С дружиной своею идти на врагов».
Дестану он молвил: «Сын, будь справедлив,
Живи беззаботен, и щедр, и счастлив.
Знай, дом твой и родина — Забулистан,
5260 Тебе здесь престол повелителя дан.
Пусть шумный твой замок — наследье князей —
Сияет и радует взоры друзей.
Ключи от сокровищ храни у себя;
Я счастьем твоим буду счастлив, любя.
Что вздумает чистое сердце, свершай;
Утех богатырских себя не лишай».
На это сказал ему Заль молодой:
«Как жить я здесь буду в разлуке с тобой?
Должно быть, и вправду я грешным рожден,
5270 Коль вечно скорбеть и стенать осужден.
Меня не держи от себя ты вдали —
Давно ль мы с тобою друг друга нашли?
Так долго у птицы я жил под крылом,
Питаясь лишь кровью, на камне нагом!
В гнезде мне кормилицей птица была,
С птенцами я жил, сам из их был числа.
Теперь я расстаться с отцом обречен...
Так вот для чего я судьбою взращен!
От розы шипы мне достались одни.
5280 Что делать! Во власти Творца наши дни».
«Коль сердце тоскует, — сказал ему Сам, —
Излей свое сердце, дай волю речам.
Но помни, по звездам прочел звездочет,
Изведавший тайны небесных высот,
Что этот тебе предназначен дворец.
Здесь войско твое, здесь твой княжий венец.
Здесь край твой, отдай свое сердце ему;
От воли судеб не уйти никому.
Составь окруженье особе своей
5290 Из витязей храбрых и мудрых мужей.
В науках стремись непрерывно вперед,
Нам всякое знанье отраду несет.
Пируй, неустанно дары расточай,
Будь мудрым, и пусть благоденствует край».
Забил барабан, в путь сбираться веля.
Стал воздух эбеном, железом — земля.
Запела у входа индийская медь,
Пошли бубенцы золотые звенеть.
И князь выступает в далекий поход,
5300 И рать, закаленную в битвах, ведет.
Заль, два перехода с бойцами идя,
Учился у Сама искусству вождя.
Сам стиснул в объятиях сына-юнца,
И вырвался горестный вопль у отца.
В печали он пролил слез горьких ручей
И слезы у Заля исторг из очей.
Просил, чтобы сын воротился, взошел
С душою спокойной на княжий престол.
В раздумьи вернулся сын Сама-бойца,
5310 Не зная, как радостным быть без отца.
И вот богатырь на престоле резном,
Венец, словно солнце, горящий на нем.
Он с палицей бычьеголовой, литой,
Запястья на нем и кушак золотой.
Мужей знаменитых из множества стран
Скликая, беседовал с ними Дестан.
Порой звездочеты, порою жрецы,
Порой искушенные в битвах бойцы
Сидели вкруг Заля и речи вели
5320 О вечных законах небес и земли.
И многому Заль научился тогда,
Стал разумом светел, как в небе звезда.
Таким по достоинствам стал, по уму,
Что не было в мире подобных ему.
И в воинском деле, в езде верховой
Искусство его прославлялось молвой.
Мужей красотой поражалон и жен;
Толпится народ, лишь покажется он.
Глядит с удивленьем и свой и чужой, —
5330 Не мускусом кудри блестят, камфарой.
[СКАЗ О ЗАЛЕ И РУДАБЕ]
[Прибытие Заля к Мехрабу Кабульскому]
Однажды объехать Дестан захотел
От края до края отцовский удел.
Испытанных витязей взял он с собой,
Единых с ним мыслей и веры одной.
Индийский увидеть задумал он край,
Кабул и Денбер посетить, Мерг и Май[206].
И где б он в пути ни поставил шатер —
Там кубки, и песни, и струн перебор;
Забыты заботы, открыта казна...
5340 Обычай таков на земле издавна.
И вот из Забула в Кабул он вступил,
Сияющий, полный веселья и сил.
Мехрабом кабульского звали царя[207].
Богатый, счастливый, лицом как заря,
Он плавно ступал, как ступает фазан;
Подстать кипарису осанка и стан.
Царь с сердцем мобеда, с душою бойца,
С рукой исполина, с умом мудреца,
Свой род от Зохака-араба он вел;
5350 С тех пор как воссел на кабульский престол,
Он Саму платил ежегодную дань,
Не смея могучего вызвать на брань.
С зарею, лишь вести о Зале пришли,
В путь вышел властитель кабульской земли.
Невольники с ним и с дарами вьюки;
Сияли на резвых конях чепраки;
Динары, и мускус, и амбру он вез,
Парчу, и меха, и шелка, ярче роз,
Царей украшенье — алмазный венец,
5360 И цепь золотую из многих колец.
Его провожали Кабула бойцы,
Родов именитых мужи-храбрецы.
Сын доблестный Сама, Дестан, услыхав,
Что едет царь-месяц, могуч, величав,
Навстречу примчался воздать ему честь,
Хвалы и привета слова произнесть.
И все к бирюзовому трону пришли,
На праздник, с душой озаренной, пришли.
И вот уже стол богатырский накрыт,
5370 И пиршество шумным весельем кипит.
Вином виночерпий наполнил фиал,
И взоры к Мехрабу Заль-Зер приковал.
Глядит, как осанка его хороша;
Невольно к нему потянулась душа.
Речам его внял и сказал, поражен:
«От мужа бессмертного этот рожден!»
Когда же Мехраб после пиршества встал,
И мощные плечи Дестан увидал, —
Сказал он вельможам: «В какой из дружин
5380 Найдется подобный боец-исполин?
Столь сильных и стройных не видывал свет
Должно быть в боях ему равного нет».
Один из придворных, служивших царю,
Ответил всесветному богатырю:
«Такую растит он красавицу-дочь,
С которой и солнцу тягаться невмочь.
Как будто из кости слоновой она,
Как утро, прелестна, как тополь, стройна.
По снежным плечам два аркана скользят,
5390 В блестящие кольца свиваясь у пят.
Лицо — что гранатовый цвет, алый рот —
Граната зерно, грудь — гранатовый плод.
Глаза — два нарцисса, питомца весны;
Как ворона крылья, ресницы темны,
И луку Тараза подобная бровь[208],
Как мускус чернеет, вселяя любовь.
Дыханье красавицы — амбры свежей;
Она затмевает светило ночей;
Как сад расцветающий, взор веселит,
5400 Усладу, и негу, и счастье сулит».
Услышав о деве прекрасной такой,
Заль разум утратил, утратил покой.
Ведь, если прекрасен отец, как весна, —
Какая же дочь от него рождена?
До света не спал он, тоскою томим
По деве, ни разу не виденной им...
Пронзило вершины сияние стрел,
И мир, словно чистый хрусталь, заблестел.
Примчался воинственных витязей ряд,
5410 Чеканкой кинжалы на солнце горят.
Вкруг Заля — собрание славных мужей.
Приехав и спешась со свитой своей,
Идет повелитель кабульской земли
К шатру властелина забульской земли.
«Дорогу!» — вскричал перед ставкой дозор,
И тотчас Мехраба впустили в шатер.
Он поступью плавной к вождю подошел —
Могучий, плодами гордящийся ствол.
Заль, радостно встретив его, обласкал,
5420 Особую честь меж другими воздал,
И молвил: «Что хочешь, проси у меня —
Венец, иль престол, или меч, иль коня».
Мехраб отвечал: «Повелитель ты мой,
Великий, прославленный в мире герой!
Желанье одно затаил я в груди —
Нетрудно исполнить его. Приходи
Под кровлю мою пировать меж друзей;
Как солнце, мне милостью душу согрей».
Сын Сама ответил: «Тому не бывать.
5430 Негоже нам, царь, у тебя пировать.
Воинственный Сам будет гневом объят,
И будет владыка Ирана не рад,
Что мы у язычника были в дому[209],
Вином опьяняться ходили к нему.
Сверх этого, что ни попросишь у нас,
Исполним, и рады тебе всякий раз».
Прославил Мехраб словом льстивым его,
Но в сердце назвал нечестивым его[210].
Склонился, и прочь из шатра уходя,
5440 Почтительно славил он Заля-вождя,
И вслед уходящему сердцем стремясь,
Хвалить его стал очарованный князь.
Дотоле Мехраб не был знатными чтим,
Рожденным от дива считался, чужим;
Другой был он веры, другим шел путем,
Кто доброе слово сказал бы о нем?
Но видя, что Заля к Мехрабу влечет,
Заметив оказанный гостю почет,
Тотчас начала вся верховная знать
5450 Владыке Кабула хвалу воздавать.
Дивились осанке и стройности плеч,
Хвалили достойную, скромную речь.
А в Зале сильней разгорается страсть,
Над сердцем утрачена разума власть.
Когда-то промолвил такие слова
Мудрец прямодушный, арабов глава:
«До смерти друг верный мне — конь боевой;
Встает моя слава до неба главой.
Я чист. Если чести забуду я зов,
5460 Себя запятнаю в глазах мудрецов».
Охвачен сомненьями, ночью и днем
Раздумывал юноша все об одном.
Заботой терзался прославленный князь,
Высокую славу утратить боясь.
Своим чередом шло вращение сфер;
Любовью исполнен был юный Заль-Зер.
[Рудабе совещается с девушками]
Однажды вернулся к себе из шатра
Мехраб, посетивший Дестана с утра.
Лишь двери покоя открылись пред ним,
5470 Два ясные солнца явились пред ним:
Супруга Синдохт, что блистала умом,
И дочь Рудабе, озарявшая дом.
Как сад, расцветающий в вешние дни,
Блистали и благоухали они.
Краса Рудабе восхитила отца[211].
Призвал он на девушку милость Творца.
Похожа на тополь под полной луной;
Колышутся кудри душистой волной;
Алмазы на ней, златотканиый убор;
5480 Как райская роза, влечет она взор.
Уста у Синдохт словно лалы горят[212];
Открылся жемчужин сверкающий ряд;
Спросила: «Как нынче встречал тебя Заль? —
Тебя да минуют беда и печаль! —
Каким ты наследника Сама нашел?
Гнездо ему больше подстать иль престол?
Похож ли он нравом на прочих людей?
В нем видно ли мужество славных вождей?»
На это Мехраб отвечает жене:
5490 «О тополь мой, ликом подобный луне!
Из доблестных витязей в целом краю
Никто не осилил бы Заля в бою.
На росписях стен ты искала бы зря
Подобного всадника-богатыря.
В нем львиное сердце и сила слона,
А щедрость широкому Нилу равна[213].
Пируя теряет он золоту счет,
Он головы в битве без счета сечет.
Сияет на юном лице торжество;
5500 Он молод и молодо счастье его.
В бою — что морское чудовище он,
В седле — словно мечущий пламя дракон.
Кровавые реки в сражениях льет,
Кинжала его ослепителен взлет.
Кудрей белизна — вот единый порок,
Другого никто отыскать бы не мог.
Ему эти белые кудри к лицу,
Они лишь сильнее влекут к удальцу».
Лишь слово отца к Рудабе донеслось,
5510 Лицо, что гранатовый цвет, занялось.
И вот уже юное сердце в огне,
Для Заля забыла о пище и сне.
В ней страсть воцарилась, рассудок изгнав:
Все стало иным — и обычай и нрав.
Слова мудреца тут бы к месту пришлись:
«При женщинах славить мужей берегись.
Лишь девичье сердце словами затронь,
И бесы зажгут в нем любовный огонь».
Служанок зовет она: было их пять;
5520 Их разум был доброму сердцу подстать.
Сказала служанкам своим Рудабе:
«Я тайну поведаю вам о себе.
Не вы ли всегда утешали меня,
Хранили от всякой печали меня.
Внемлите моим откровенным словам, —
Пусть ясное счастье сопутствует вам! —
Любовь я узнала, я страстью полна,
Бушующей словно морская волна.
Тоскою по Залю охвачена; мне
5530 Покоя она не дает и во сне.
Мне сердце и разум зажег он огнем,
Со мной его образ и ночью и днем.
На помощь придите, ищите пути,
Как сердце мое от кручины спасти.
Пока, кроме вас, неподкупных подруг,
Никто моей тайны не знает вокруг».
Служанки внимали, не веря ушам:
Как, дочь венценосца, и этакий срам!
И, как дьяволицы, разгневаны, все
5540 Вскочили, воззвали к царевне-красе:
«Владычица наша, венец красоты!
Средь знатных повсюду прославлена ты.
От Чина до Хинда молва разнеслась
О деве, блистающей словно алмаз.
Нет тополя в мире стройнее тебя,
Нет в небе светила яснее тебя.
Ведь образ твой видели Май и Каннудж,
И Рума владыка, что горд и могуч.
Ужель опозоришь родительский дом?
5550 Иль ты распростилась навек со стыдом?
Отринул Дестана отец, не забудь, —
Тебе ли объятья пред ним распахнуть?
Припомни, где вырос — у птицы в гнезде;
Перстом на него указуют везде.
Рождала ль когда беловласого мать?
Родившись, он должен ли род продолжать?
К седому ли рваться с такою красой,
С кораллами уст, с благовонной косой?
Стремятся к тебе отовсюду сердца,
5560 Твой лик — украшенье любого дворца.
Тебе бы с такой красотой неземной
На небе четвертом стать солнцу женой!»[214]
Рабыням внимает она, побледнев;
В ней жарким огнем разгорается гнев.
В досаде от них отвернулась она,
Глаза опустила, сурова, бледна,
И тень омрачила сияющий лик,
И гневный из уст вырывается крик:
«Речей не обдумав, даете им течь;
5570 Не стоило слушать подобную речь.
Какая от месяца радость тому,
Чье сердце звезда озарила сквозь тьму!
Не взглянешь, душистою глиной пленясь,
На розу, хоть роза воспета не раз[215],
Кто уксус, целебный для печени, пьет,
Тому лишь вредит благовоннейший мед[216].
Не надобен мне ни кейсер, ни хакан[217],
Ни шах, у кого в подчиненьи Иран.
По нраву мне Заль, чья могуча рука,
5580 Сын Сама — прославленного смельчака.
Седым или юным его опиши,
Он жизни услада, отрада души.
Другому над сердцем моим не царить,
Не смейте при мне о других говорить!
Не видя, я сердце тому отдала,
Чьи доблестью славятся в мире дела.
Героя люблю не за кудри и лик —
За то, что отважен и духом велик».
Прислужницы, стону сердечному вняв,
5690 Страданья души истомленной поняв,
Царевне сказали: «Не сгубим тебя;
Мы верные слуги, мы любим тебя.
Готовы исполнить желанья твои.
Ведут лишь к добру приказанья твои».
Одна ей промолвила: «О, кипарис!
Ты тайну свою разглашать берегись.
Да будет водителем разум тебе!
Жизнь рады отдать мы все разом тебе.
Прикажешь — волшебный найдем в себе дар,
5600 Науку пройдем заклинаний и чар.
Как быстрые птицы, мы к тучам взлетим,
Как легкие серны, по кручам взлетим,
Чтоб друга увидела дева-луна,
Чтоб нас похвалила за рвенье она».
Царевна, к прислужнице лик обратив,
Улыбкой кораллы-уста осветив,
Сказала: «Коль в явь претворятся мечты —
Высокое дерево вырастишь ты,
Где разум твой яхонты вместо плодов
5610 Сберет. Не жалей же на это трудов!»
[Служанки Рудабе отправляются взглянуть на Заля]
Служанки оставили царскую дочь,
За дело взялись, чтобы делу помочь.
В парчу нарядились, гирляндами роз
Украсили темные волны волос
И вместе выходят на берег речной,
Красою и свежестью споря с весной.
Стоял первый месяц весенней поры;
За речкой раскинулись Заля шатры.
Вдоль берега девушки стайкой идут,
5620 О славном Дестане беседы ведут;
Срывают цветы на прибрежных лугах,
Лицом, как цветы, и с цветами в руках.
Цветущей поляной идя впятером,
С державным они поравнялись шатром.
Заль, с трона взглянув, вопрошает: «Кто там
Пришел поклониться весенним цветам?» —
В ответ приближенные богатыря
Сказали: «Из замка Мехраба-царя
Служанки на луг за дарами весны
5630 Пришли от кабульской царевны-луны».
Услышал Дестан, и взыграла душа.
Сошел он с престола, любовью дыша,
И к берегу с юным рабом поспешил,
Блистателен, полон отваги и сил.
Служанок за речкой увидел Дестан;
Подать повел он свой лук и колчан,
Готовясь охоту начать. Вдалеке
Заметил он диких гусей на реке.
Раб юный, стрелой оснастив тетиву,
5640 Лук в левую руку дал витязю-льву.
Тот криком охотничьим птицу спугнул,
Стрелу оперенную в стаю метнул,
И рухнула птица, стрелой пронзена;
Окрасилась кровью речная волна.
Заль молвил рабу: «Переправься скорей,
Потом возвращайся с добычей моей».
И тот, переправившись вмиг на челне,
Направился к девам, подобным весне.
Одна из служанок, свежа и мила,
5650 Беседу с красавцем-рабом завела:
«Кто он и уделов каких властелин
Тот грозный, подобный слону исполин?
Как ловко спустил он стрелу с тетивы!
С ним в битве врагу не сносить головы.
Наездника мы не видали досель,
Кто стрелы пускал бы искуснее в цель».
Раб молвил ей, палец к устам поднеся:
«О князе моем так судачить нельзя.
Сын Сама он, в царство Нимруз ему дан.
5660 Его называют владыки — Дестан.
Под солнцем бойца ему равного нет,
Знатнее и краше не видывал свет».
Служанка ему отвечала, смеясь:
«Зря так говоришь. Хоть прекрасен твой князь,
Есть в замке Мехраба царевна-луна,
Затмит и Дестана красою она.
Стан — тополь, лоб — кости слоновой белей;
Из мускуса косы короной у ней.
Глаза — как нарциссы, двум аркам-бровям
5670 Опорою служит точеный калям[218].
Лик ясен, во взоре истома, дурман;
Румянец ее — словно вешний тюльпан.
Любой завиток душу в рабство берет;
Как сердце стесненное, крохотный рот[219];
Едва пробивается вздох сквозь уста.
Соперниц не знает ее красота.
Не зря мы сюда из Кабула пришли, —
Увидеть владыку Забула пришли
Затем, чтобы этим кораллам-устам
5680 Приникнуть к дестановым алым устам.
Назначено небом, угодно судьбе,
Чтоб Залю супругой была Рудабе».
Услышав такую отрадную весть,
Раб юный зарделся от радости весь,
И ликом сияя, хорош, как весна,
Он вымолвил: «Солнцу под пару луна».
Создавший обычай супружества рок
Любовный огонь в каждом сердце зажег.
Замыслит он любящих двух разлучить —
5690 С ним спорить напрасно: разорвана нить.
Рвет узы он явно, связует тайком,
Давно искушенный в одном и в другом,
Коль витязь супруги себе не возьмет,
Исчезнет со света прославленный род.
А тем, что одних дочерей лишь плодят,
Насмешек грозит нескончаемый град.
Орлица, что яйца в гнезде нанесла,
Такую услышала речь от орла:
«Коль выведешь самок одних из яиц,
5700 Навеки угаснет мой род среди птиц»[220].
С улыбкой вернулся прислужник-юнец.
Спросил его Заль, именитый боец:
«Что скажешь, какому известию рад?
Сверкнул отчего жемчугов твоих ряд?»
Поведал о слышанном раб молодой,
И витязь могучий воспрянул душой.
Он к девушкам вновь посылает слугу:
«Еще попроси их побыть на лугу.
Пусть, маков нарвав, дожидаются там,
5710 Пока не прибавим алмазов к цветам.
Еще во дворец им не время: отнесть
Царевне им надобно тайную весть».
Динары, алмазы велел он подать,
Одежд златотканных потребовал пять,
Затем повелел он все это пяти
Прислужницам юным тайком отнести.
И слуги отправились юноше вслед,
Неся луноликим дары и привет.
Подарки вручили они, говоря:
5720 «От Заля, великого богатыря».
Шепнула служанка рабу: «Если речь
От чуждых ушей пожелаем сберечь —
Беседовать надобно с глазу на глаз;
Где трое иль четверо — все напоказ.
Чтоб в тайну чужим не проникнуть глазам,
Пусть витязь к рабыне пожалует сам».
Шептались служанки, лицом просветлев:
«Попался в ловушку воинственный лев!
Заль мил ей, и Залю царевна мила.
5730 Счастливая, видно, судьба их свела».
Пришел черноокий наперсник вождя,
Хранитель сокровищ и вестник вождя;
Про все, что слыхал он на той стороне,
Поведал воителю наедине.
И Заль к приближенным царевны на луг
Отправился сам, без доверенных слуг.
Кумиры Тараза, свежи, как бутон,
Приблизясь, отвесили низкий поклон.
И стал их усердно расспрашивать князь,
5740 Все знать о прекрасной царевне стремясь —
Про поступь, и речь, и насколько умна,
И впрямь поклоненья достойна ль она?
«Одно за другим все скажите, как есть,
Не вздумайте ложью глаза мне отвесть.
Коль правду я в ваших словах усмотрю,
Дарами богатыми вас одарю.
А если во лжи заподозрю хоть раз,
Слонам своим под ноги брошу я вас».
Со щек у прислужниц тут розы сошли,
5750 Пред Залем склонились они до земли.
Одна, что годами моложе была,
Отважно с владыкою речь завела.
Сказала она: «Изо всех матерей,
Среди благородных и знатных семей
Второго, как Сам, не родить ни одной —
Такого достойного, с чистой душой.
Не сыщешь и вровень тебе удальца,
Всесветного богатыря и бойца.
Но так же и царская дочь Рудабе
5760 Не знает на свете соперниц себе.
Вся — роза и ландыш с макушки до пят;
И очи, как звезды Йемена, блестят[221].
Пьянит, как вино, ослепительный лик,
А волосы — благоуханный родник.
Сказал бы ты, деве пленительной дан
Губительный, неотразимый аркан.
Блестящие кудри, струясь до земли,
Кольчугой красавице стан облекли.
На ней благовонный, роскошный наряд,
5770 На ней самоцветы и лалы горят.
Кумиров Китая затмила б она;
Бледнеют пред нею звезда и луна».
Дослушав ту речь, описаньем пленясь,
Приветливо молвил прислужнице князь:
«Прошу, помоги мне, поищем пути,
Как витязю в гости к царевне придти.
Любовь мое сердце томит все сильней,
Горю я желаньем увидеться с ней».
Сказала служанка: «Коль дашь нам приказ,
5780 К прекрасной в чертог поспешим мы тотчас.
Всесветного витязя разум и лик,
И как говорит, и как сердцем велик, —
Распишем, рассказами в сеть завлечем,
И, право, ее не обманем ни в чем.
В силки попадется ее красота,
С устами Дестана сольются уста.
Быть может, угодно тебе, храбрецу,
Вечерней порою прийти ко дворцу.
Аркан свой закинешь, на выступ надев:
5790 Не так ли за ланью охотится лев.
Увидишь, прекрасна она или нет;
Блаженства достигнешь, приняв наш совет».
Заль-витязь вернулся к шатру своему,
И годом та ночь показалась ему.
[Возвращение девушек к Рудабе]
Служанки, меж тем, воротились домой;
Две ветки цветущих у каждой с собой.
Привратник, увидя их лица меж роз,
Осыпал их бранью и градом угроз:
«Смотрите, уж вечер, а вы — вне дворца.
5800 Не знаю, какого дождетесь конца».
Красавицы, мигом придумав ответ,
Сказали с обидой: «Корить нас не след.
Сегодняшний день, как и всякий другой;
И дивов не встретишь в садах над рекой;
Нас тянет туда, в том не наша вина —
Срывать гиацинты зовет нас весна».
Ответил привратник: «Пора уж не та
Теперь наступила, не прежней чета.
В Кабуле гостит именитый Дестан,
5810 Весь край в эти дни словно воинский стан.
Недаром верхом выезжает с утра
Владыка, покинув дворец для шатра.
Теперь он у Заля проводит все дни,
И близкими стали друзьями они.
Вот так вас увидя с цветами в руках,
Во гневе Мехраб вас повергнул бы в прах».
Красавицы входят в покой расписной,
Беседу заводят с царевной-луной:
«Такого мы солнца не видели ввек;
5820 Лицо — словно роза, а кудри — как снег».
В царевне любовь разгорелась сильней,
Мечта о свидании вспыхнула в ней.
Дарами богатыми восхищена,
Служанок расспрашивать стала она:
«Что молвил сын Сама, каков он на вид?
Таков ли он впрямь, как молва говорит?»
Служанки, спеша, отвечают все враз,
Заметив, что деве приятен рассказ:
«Заль — витязь, какого не видывал свет;
5830 Его благородней, достойнее нет.
Величьем владыке царей он подстать,
Платана мощней и стройней не сыскать.
Он ростом высок и красив, как цветок,
И тонок в обхвате, и грудью широк.
Два ока-нарцисса вселяют любовь;
Уста — что кораллы, а щеки — что кровь.
И львиная мощь, и величье в нем есть,
И сердце мобеда, и разум, и честь.
А что до его белоснежных кудрей,
5840 Они — не изъян, украшенье скорей.
Кудрями, обличием славный Дестан —
В кольчуге серебряной алый тюльпан.
Ты скажешь, таким ему надобно быть;
Не будь он таким — стали б меньше любить.
Ему, уходя, мы сулили, что ты
С ним свидишься, этой он полон мечты.
Готовься же милого гостя встречать!
Отдай приказанья, с чего нам начать».
Служанкам сказала царевна-краса:
5850 «Я новые слышу теперь голоса!
Заль, птицей взращенный, со славой худой,
Увядший, старик с головою седой,
Стал ныне похож на весенний тюльпан;
И руки могучи, и строен, мол, стан.
Ему разболтали вы все обо мне
И плату за то запросили вдвойне!»
Так молвит, а губы от смеха дрожат,
И щеки зарделись, как спелый гранат.
Сказала затем красота из красот
5860 Служанке: «Пустись, словно птица в полет!
Ждать буду ответа. Ты миг улучи
И витязю на ухо так прошепчи:
Ты счастья достиг, собирайся же в путь,
Приди на прекрасную деву взглянуть».
Сказала служанка царевне-красе:
«Готовься, надежды исполнятся все.
Моленья влюбленной услышал Творец,
Пусть дело венчает счастливый конец!»
Украдкой, родных не впуская к себе,
5870 За дело поспешно взялась Рудабе.
Светлицу, что блеском подобна весне,
Где царские лики на каждой стене,
Велела украсить китайской тафтой
И вычистить каждый кувшин золотой.
Рассыпаны лалы, алмазы горят,
И пряный струится от вин аромат.
Жасмин благовонный, душистый нарцисс,
Фиалка и ландыш в кувшинах сплелись;
Сосуды из золота и бирюзы
5880 С водою в них розовой, чище слезы. . .
Чертог солнцеликой невесты вознес
До самого солнца дыхание роз.
[Заль идет к Рудабе]
Ушло светозарное солнце с небес —
Замкнули покой, ключ от двери исчез.
Служанка пришла, чтобы Залю шепнуть:
«Пора, все готово. Скорее же в путь!»
И витязь в дорогу пустился, как тот,
Кто, страстью сгорая, к любимой идет.
На кровлю взойдя, черноокая вниз
5890 Глядела — венчанный луной кипарис.
Вдали показался сын Сама-бойца;
Увидела юношу с башни дворца,
Раскрыла рубины-уста и зовет:
«О доблестный! Благословен твой приход!
Творца благодать да пребудет с тобой!
Что прах, небеса под твоею стопой.
Да будет служанка вознаграждена:
Правдиво тебя описала она.
Сюда добирался ты пеший, в пыли,
5900 Ступни твои царские изнемогли».
Лишь слуха Дестана тот голос достиг,
Едва он увидел сияющий лик,
Чертог, словно жемчуг, пред ним засиял,
Мир стал от румянца ее, словно лал.
Промолвил Дестан: «Ты, как месяц, светла.
Тебе от меня и от неба хвала!
О, сколько ночей перед ликом светил
В тиши я моленья творцу возносил, —
Молил, чтоб Йездан, всемогущ и велик,
5910 Мне втайне явил твой пленительный лик.
И вот я любуюсь твоей красотой
И речью обрадован нежной, простой.
Но путь укажи ты к свиданию мне.
Ведь я на дороге, а ты на стене».
Вняла его слову царевна-краса,
И спущена витязю чудо-коса.
Ты скажешь, аркан с кипариса скользит,
Из мускуса благоуханного свит.
Лаская прекрасной царевны лицо,
5920 За змейкой змея, за колечком кольцо
Струятся с высокой ограды. Дестан
Подумал: «О сердце влекущий аркан!»
Зовет с высоты Рудабе говоря:
«О сын знаменитого богатыря!
К стене устреми поскорее шаги,
Стан выпрями, руки сильней напряги,
Хватайся за косу, взбирайся! Она,
Возлюбленный мой, для тебя взращена».
На деву глядит, не спуская очей,
5930 Воитель, дивясь благородству речей.
Устами коснулся он мускусных струй,
До слуха невесты дошел поцелуй.
Ответил: «Как боль я тебе причиню!
Уж лучше затмиться бы ясному дню.
На душу свою не могу посягнуть,
Свидание Заля и Рудабе. С рукописи Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.
Смертельной стреле не подставлю я грудь».
Аркан у прислужника взяв, раскрутил,
Могучим рывком в вышину запустил,
Накинул на башенный острый зубец
5940 И мигом вверху очутился храбрец.
Царевна с поклоном к нему подошла,
Лицом, как пери, хороша и светла.
Взяла его за руку нежно, вдвоем
Идут в опьяненьи блаженном своем.
По лестнице с башни спустилась она,
С рукой богатырской рука сплетена.
Вошли в золотой, озаренный чертог,
Обитель пиров — благовонный чертог;
Он весь, словно райские кущи, сиял.
5950 Рой юных невольниц пред ними предстал.
Заль-Зер, между тем, околдован, глядит
На лик ее, кудри, пленительный вид:
На ней ожерелье и серьги блестят,
Алмазами шит златотканный наряд,
Нежнее тюльпана ланит лепестки,
Ложатся в кудрях к завитку завитки.
И Заль, как владыка царей, величав,
Воссел близ красавицы, весь просияв.
Атласная перевязь, добрый кинжал,
5960 От ярких рубинов венец его ал.
Украдкой царевна, очей не сводя,
На Заля глядит, на красавца-вождя;
Глядит, пленена удальцом, силачом,
Которому скалы дробить нипочем,
И отблеск лица его ярче, сильней
Огнем разгорается в сердце у ней.
Вино, поцелуи и страсти слова. . . _
Но серна не стала добычею льва.
Заль деве, затмившей сиянье луны,
5970 Промолвил: «Мой тополь, дыханье весны!
Когда эта весть к Менучехру дойдет,
Владыка рассердится, знаю вперед.
И Сам, сын Нейрема, сердито крича,
Корить меня станет, грозить сгоряча.
Но жизнью и телом не столь дорожу,
Оденусь я в саван и не задрожу.
Творцом правосудным клянусь, Рудабе, —
Обет не нарушу я, данный тебе.
Пред чистым Йезданом главою склонюсь,
5980 С мольбою, смиренным слугою склонюсь,
Чтоб он успокоил царя и отца,
От гнева и мщенья омыл им сердца:
И верю, Создатель, вняв жарким мольбам,
Дозволит назваться супругами нам».
На то Рудабе отвечала: «И я
Клянусь — да услышит меня Cудия! —
Другому мной ввек не владеть никому:
Творец мирозданья свидетель тому.
Владеть мной лишь Залю, с венцом на челе,
5990 Герою, чье имя гремит на земле».
И с каждым мгновеньем любовь их росла,
Рассудок далеко, страсть близко была.
И так до рассвета часы протекли...
Но вот барабаны забили вдали.
Прощаются дева и Заль: обнялись,
Подобно утку и основе сплелись[222].
И слезы в тоске проливают они,
И к ясному солнцу взывают они:
«О светоч вселенной, еще погоди,
6000 Стремительно так над землей не всходи!»
Аркана петлю зацепив за зубец,
С прекрасной подругой расстался боец.
[Заль совещается с мобедами]
Вот ясное солнце взошло над горой,
И мчится отважных воителей строй.
Сидит на престоле блистающем Заль,
И мимо проносятся всадники вдаль.
Затем он в шатер созывает к себе
Старейших мужей, закаленных в борьбе.
Советник-мудрец и дружин главари,
6010 Отважные витязи-богатыри
Достойные, мудрые, с чистой душой,
Предстали пред князем толпою большой.
С веселой улыбкой на алых устах,
К ним Заль обратился в учтивых словах.
Сначала хвалою почтил он Творца,
От сна пробудил он мобедов сердца,
Промолвив: «Надежду и страх затая,
Склонимся пред Ним; Он— святой Судия.
Им движимы солнце, луна, небосвод,
6020 Он дух наш благими стезями ведет.
Средь ясного дня, сквозь полночную тьму
Хвалы и моленья несутся к Нему.
Им держится свет, Он веселье дарит,
В обоих мирах правосудье творит;
Весну посылает и шлет листопад,
На лозах обильно растит виноград;
То землю цветущей и юной хранит,
То даст ей нахмуренной старости вид.
Ему неподвластных существ — не найти;
6030 Без воли Его муравью не ползти.
Он создал чету, жизни вечный исток.
Потомства не жди, коли ты одинок.
Един лишь Йездан, кем миры созданы;
Нет равных ему, друга нет, и жены.
А смертных четами он всех создавал,
Из тайного явное к жизни призвал.
Таков небесами нам данный закон,
Так было от века, так мир сотворен.
Весь мир человек украшает собой;
6040 С ним цену предмет обретает любой.
Кто силу Творца разглядел бы во мгле,
Когда б не явилась чета на земле?
Живущий в безбрачии муж молодой
Заветам не следует веры святой.
А если он славного рода к тому ж —
Род губит, живя в одиночестве, муж.
Коль сын у героя родится на свет,
Светлей для могучего радости нет.
Хоть срок умирать исполину придет,
6050 В потомстве он новую жизнь обретет.
Сберег свое имя, кто жил не один:
Вот этот — сын Заля, а тот — Сама сын.
Гордятся наследником трон и венец,
Ему свою славу вручает отец.
Вам здесь о своей рассказал я тоске,
Цветут эти розы в моем цветнике.
Рассудок исчез, сердце кинулось прочь.
Найдите же средство, как горю помочь.
Молчал я доныне, но бедный мой ум
6060 Совсем изнемог от мучительных дум.
Мне замок Мехраба — свет ясного дня,
Земля его — те ж небеса для меня.
Царевне кабульской в плен сдался я сам,
Не знаю, мольбе моей сдастся ли Сам?
И сдастся ли царь или будет суров?
Здесь грех он усмотрит иль юности зов?
Кто ищет супругу — велик он иль мал —
Дорогу, согласную вере, избрал.
Не будет суров мудреца приговор
6070 Деянью, которое — честь, не позор.
Что скажет на то прозорливый мобед?
От мудрых какой я услышу совет?»
Безмолвны мобеды, безмолвны бойцы,
Не в силах уста разомкнуть мудрецы.
Все знали, что предок Мехраба — Зохак
Что шах Менучехр оттого ему враг[223],
И все ж не сломили молчанья печать:
Кто к меду решился бы яд примешать?
Ответных речей не дождавшийся князь
6080 Им слово такое сказал, омрачась:
«Я знал, что признанье мое услыхав,
Осудите, скажете: был я не прав.
Но каждый, кто праведный путь изберет,
Идет средь обид и насмешек вперед.
На этом пути помогите вы мне,
Препоны смести помогите вы мне, —
Для вас в благодарность я сделаю то,
Чего для подвластных не делал никто.
Сплошь милости будут, благие дела;
6090 Вовек от меня не увидите зла».
И Залю мобеды сказали в ответ,
Ему пожелав много радостных лет:
«Хоть ввергнуты мы в затрудненье теперь,
Мы все твои верные слуги, поверь.
На месте твоем кто б держался мудрей?
Жена — не помеха величью царей.
К тому же Мехраб — не из малых владык,
Могуч, и богат он, и сердцем велик.
Он — царь, кем арабский возглавлен народ,
6100 Хотя и ведет от дракона свой род.
Ты витязю Саму посланье готовь;
Пиши все, что сердцу подскажет любовь.
Ведь разум твой нашего много сильней,
Ты мудростью нас превосходишь своей.
Быть может, царя известит он письмом,
Узнает, что мыслит владыка о том,
Согласья владыки добьется отец,
И трудное станет легко под конец».
[Заль пишет письмо Саму][224]
Князь молвил писцу своему: «Подойди»,
6110 И все он излил, что теснилось в груди.
Для Сама посланье велел написать,
Любви и привета слова нанизать.
Как должно, в начале послания он
Восславил Йездана, кем мир сотворен:
«Им создано солнце, Бехрам и Нахид[225],
Он людям и радость и силу дарит.
Над жизнью и смертью лишь он властелин;
Нас много рабов, а Изед — лишь один.
Бог Сама храни, чей родитель — Нейрем,
6120 С кем век неразлучны кольчуга и шлем,
Летящего вихрем злодеям на страх,
Сулящего коршунам пищу в боях,
Гасящего на небе солнечный луч,
Струящего кровь из чернеющих туч,
Дарящего шахский кушак и венец,
Хранящего царский престол и дворец,
Творящего множество доблестных дел,
Бойца, что в сраженьях искусен и смел.
Таков сын Нейрема, воинственный Сам,
6130 Кем войско гордится, кто страшен врагам.
Рабом его преданным быть мне дано,
Любовью к нему мое сердце полно.
Он помнит, каким я родился на свет,
Каких натерпелся лишений и бед.
Отец красовался в шелках и мехах —
Я ж вырос у птицы, на камне, на мхах,
Доволен тем кормом, что выпадет мне
С пернатым потомством ее наравне.
Там ветер пылающий кожу мне жег,
6140 Глаза мне слепил раскаленный песок.
Наследником Сама я звался везде,
Но Сам — на престоле, я ж вырос в гнезде.
То рок неизбежный судил мне давно,
То было создателем предрешено.
От воли Его не уйдешь ты, хоть ввысь,
В пределы заоблачных стран вознесись.
Пусть пальцами гнешь ты стальное копье,
Пусть льва леденит приближенье твое,
Пусть зубы твои наковальне подстать —
6150 Ты должен главу пред Йезданом склонять.
Такою сражен я бедой, что о ней
Не скажешь открыто в собраньи мужей.
Хоть грозен отец и могуч, как дракон,
Пусть исповедь сына послушает он.
Я в дочь молодую Мехраба влюблен,
Лью слезы я, жгучей тоской опален.
Мне звезды — подруги бессонных ночей,
На грудь мою море течет из очей.
Так стражду, в таком я сгораю огне,
6160 Что плачут все люди вокруг обо мне.
Хоть много я видел обид от тебя,
Тебе покориться готов я, любя.
Что скажет на это всесветный боец?
Положит ли мукам сыновним конец?
Он помнит, конечно, что молвил мобед,
Извлекший жемчужину правды на свет:
Обеты негоже князьям нарушать.
Готов ли отец мой согласие дать,
Чтоб с дочерью царской я был обручен,
6170 Как требует вера и древний закон?
Ведь Сам не забыл благодатного дня,
Когда ему небо вернуло меня.
С Эльборза тогда прискакал он со мной,
Поклялся Йезданом пред целой страной,
Что ввек в моем сердце мечты не убьет, —
А сердце отныне любовью живет».
Гонца, быстролетней небесных огней,
Послал он с оседланной парой коней,
Сказав: «Если станет один уставать,
6180 Скачи на другом, чтоб езды не прервать
Мчись ночью и днем, покоряя простор,
Пока не увидишь отцовский шатер».
И вестник, как ветер, уносится вдаль,
И конь под наездником крепок, как сталь.
Достигнул он кергесаранской земли,
Сам-витязь его различил издали.
В то утро воитель поехал на лов,
В горах на добычу натравливал псов.
Вгляделся и молвил прославленный Сам
6190 Испытанным в битвах друзьям-удальцам:
«Забульского вижу вдали жеребца,
На нем я кабульского вижу гонца —
Должно быть, от Заля посланье привез,
Ему не один зададим мы вопрос.
Про Заля, Иран и владыку царей
Нам хочется вести услышать скорей.»
Конь стлался, чуть видим в пыли и песке.
Примчался наездник с посланьем в руке.
И спешась, пред мощным бойцом преклонен.
6200 Восславил Творца мироздания он.
Ответил приветствием доблестный Сам
И внял через вестника Заля словам.
С посланья Дестана сорвал он печать,
Спустившись с горы, стал посланье читать.
Сраженный известьем, что всадник привез,
Застыл богатырь, словно к месту прирос.
Не ждал, не желал он той вести дурной,
Он думал, что нрав его сына — иной.
В ответ он промолвил: «Дивиться чему?
6210 Все это природа внушает ему.
Ведь хищная птица растила — не мать —
Желаний иных он не мог бы питать».
Охвачен раздумьем, утратив покой,
С охоты воитель вернулся домой.
Он думал: коль сыну скажу— позабудь
О праздной мечте, рассудителен будь —
Людской и Господний услышу укор,
На клятвопреступника ляжет позор.
А если скажу — будь доволен и рад,
6220 Добьешься для сердца желанных наград,
У внучки дракона сын птицы — жених, —
Какой же наследник родится у них?»
Заботою тяжкой был Сам удручен;
Уснул, но покоя не дал ему сон.
Нам, бедным рабам, чем задача трудней,
Тем тягостней сердцу и телу больней.
Но трудности всякой наступит конец,
Коль так пожелает небесный Творец.
[Сам совещается с мобедами]
Проснувшись; воитель созвал мудрецов,
6230 Небесные тайны познавших жрецов,
И стал вопрошать звездочетов боец:
«Какой будет этому делу конец?
Союз столь различных, как пламя с водой,
Стране не грозит ли великой бедой?
Ведь царь Феридун на том свете сведет
С кровавым Зохаком последний свой счет.
Читайте по знакам небесных планет;
Да будет благой вам ниспослан ответ».
Пока луч последний во тьме не исчез,
6240 Вникали волхвы в начертанья небес;
Извезды союз двум врагам предрекли.
Той вестью обрадовать Сама пришли
Гадатели. Молвил седой звездочет:
«О витязь прославленный, края оплот!
Возрадуйся: Заль и мехрабова дочь
Достойны друг друга, сомнения прочь!
От славной четы, непоборен и смел,
В мир явится муж для невиданных дел.
Врагов сокрушит он, велик и могуч,
6250 Владыки престол вознесет он до туч.
Все черные силы сметет он с земли,
Чтоб в дебрях гнездиться они не могли.
Сегсару и Мазендерану — не быть[226],
Всю землю от зла ему кровью омыть.
Немало Турану он бед принесет,
Немало в Иран светлых лет принесет.
Войне и насилью закроет он путь,
Он людям усталым даст мирно уснуть;
Он станет, иранцам надежду даря,
6260 Примером для каждого богатыря.
Такой будет конь небывалый под ним,
Что барса раздавит копытом одним.
Блажен властелин, чьим слугой будет он!
Мир будет владыкою тем покорен;
Признают его Рум, и Хинд, и Иран[227].
И радостью будет весь мир осиян».
Обрадован тем, что сказал звездочет,
Воитель воздал ему должный почет,
Дал золота и серебра без числа;
6270 Душа исполина покой обрела.
Явился к нему от Дестана посол,
И витязь беседу с вошедшим повел.
Так молвил он: «Сыну скажи — не подстать
Ему о драконовой внучке мечтать.
Но раз принести ему клятву я мог,
Не стану искать для обмана предлог.
Лишь утро настанет, я с поля войны
С дружиной пойду вглубь иранской страны.
Узнаю, веленье царя каково,
6280 К чему Вседержитель направит его».
Посланца дирхемами он наградил,
Промолвив: «Обратно скачи, что есть сил!»
И после с дружиною вышел он в путь,
У каждого радостью полнилась грудь.
Взяв пленных из кергесаранской земли,
Их тысячу, связанных, пеших, влекли.
Лишь темная ночь на две трети прошла,
От криков воинственных степь ожила.
Вой трубный разнесся далеко кругом.
6290 Грохочет литавр оглушительный гром.
Войска полководец к Ирану повел,
Знакомым путем к Дехестану повел[228].
Тем временем был уж посланец в пути,
Известие Залю спеша отвезти.
И всадником выполнен Сама наказ.
Заль выслушал весть и, душой прояснясь,
Восславил вселенной благого Творца
За эту удачу, за милость отца.
И золотом весь он Осыпал народ,
6300 Всем бедным досталось от княжьих щедрот.
И благословенья, которых не счесть,
Призвал он на Сама за добрую весть.
Покоя не зная ни ночью, ни днем,
Пиров не давал он, расстался с вином;
Звал страстной душою подругу к себе;
Вел речи он лишь об одной Рудабе.
[Синдохт узнает о любви Рудабе]
Дестану и той красоте из красот
Служила посредница с речью, как мед.
Из уст ее к витязю вести неслись,
6310 От витязя — к деве, чей стан — кипарис.
Заль молвил: «Иди, к Рудабе поспеши.
Скажи: о красавица чистой души!
Хоть трудностей наших все туже клубок,
Распутаться, знай, подошел ему срок.
От витязя Сама пришел мне ответ;
Родитель держал с мудрецами совет.
Судьбу вопрошал и по звездам гадал,
И мне, наконец, он согласие дал».
Посланницу с радостной весточкой той
6320 Отправил он к деве в дворцовый покой.
И та, словно вихрь, понеслась к Рудабе,
Спеша рассказать о счастливой судьбе.
Дирхемами та наградила ее,
Почет оказав усадила ее
И ей поспешила за добрую весть
Одежду богатую в дар преподнесть;
Еще подарила роскошный убор:
На поле червонном — алмазный узор.
Основа — каменья, каменья — уток,
6330 Там золота взор разглядеть бы не мог.
Два перстня бесценных послала пери,
Блистающих, как в небесах Моштери,
Для славного Заля, бойца из бойцов,
И много приветных добавила слов.
Светлицу покинув, посланница шла.
Увидев, Синдохт ее вдруг позвала.
Сказала! «Открой, ты откуда идешь?
Не вздумай мне выдать за истину ложь>.
Ты часто здесь бродишь средь белого дня,
6340 Проходишь в покой, не взглянув на меня.
Запало мне в сердце недоброе вдруг.
Скажи мне, ты кто: тетива или лук?»
Посланница, в страхе, бледнея лицом,
Склонилась пред нею в поклоне земном.
Промолвила: «Я одинока, бедна,
Трудами свой хлеб добывать я должна.
Хожу я у знатных людей по домам,
Где платье, а где украшенье продам.
Убор драгоценный в светлицу к себе
6350 Просила меня принести Рудабе.
Пришла я с богатым венцом для нее,
С горящим в алмазах кольцом для нее».
Синдохт: «Разложи это все предо мной,
На гнев мой пылающий брызни водой».
Ответила та: «Все осталось у ней,
Еще принести попросила камней».
«Так плату, — сказала Синдохт, — покажи,
Тем узел сомнений моих развяжи».
А та: «Обещала мне — завтра вручу:
6360 Узнаю, мол, цену, тогда заплачу».
Но мать Рудабе, сомневаясь во всем,
Ей кару готовила в сердце своем.
Обман заподозря в невинных словах,
За пазухой стала искать, в рукавах.
Увидя подарки — богатый наряд,
Убор, где бесценные камни горят, —
Вскипела, за косы схватила ее,
И об пол ударила с силой ее.
Лицом по земле волочила, коря,
6370 Жестокой досадой и гневом горя.
Беднягу связав по рукам и ногам,
Топтала и волю дала кулакам.
И после к себе воротилась она,
Тоски и тревоги душевной полна.
Для всех заперла свой высокий покой,
От множества мыслей утратив покой.
Красавицу-дочь повелела призвать,
Ногтями лицо свое стала терзать,
На розы ланит из нарциссов очей
6380 Струила сжигающий розы ручей.
«О дева! — так мать говорить начала. —
Ты бездну престолу зачем предпочла?
Что есть на земле, отвечай, Рудабе,
Чего бы, любя, не дала я тебе?
Зачем, луноликая, платишь мне злом?
Ты матери лучше признайся во всем.
Кто та, что здесь бродит всегда, расскажи,
Зачем она ходит сюда, расскажи.
О чем ваши речи и кто он таков,
6390 Тобой удостоенный царских даров?
Лишь горе видал венценосный араб
От той, что доставить нам счастье могла б!
Ужель свое имя подвергнешь хуле!
Подобную дочь кто рождал на земле?»
Стыдясь отводила глаза Рудабе,
Пока не уставилась в пятки себе.
Из глаз — двух нарциссов — слезу за слезой
На щеки роняя кровавой росой,
Промолвила тихо: «О мудрая мать!
6400 В тисках у любви суждено мне страдать.
Ты лучше б на свет не рождала меня,
Ни в горе, ни в счастье не знала меня.
Властитель Забула приехал в Кабул;
Он пламя любви в мое сердце вдохнул.
Такая тоска грудь стеснила мою,
Что слезы открыто и тайно я лью.
Мне жизнь от него вдалеке не мила,
Я б мир за его волосок отдала.
Знай, видел меня, говорил он со мной,
6410 И с ним обменялись мы клятвой святой.
Поверь, что меня не коснулся позор;
Встал, будто, преградой меж нами костер.
Заль к витязю Саму отправил гонца,
В тревоге ответа он ждал от отца.
Тот долго упорствовал, горд и суров,
Но, выслушав слово своих мудрецов,
Гонца обласкал, не жалея наград,
И к Залю с посланьем отправил назад.
Знай, с тою сурово расправилась ты,
6420 Что нынче послания Сама листы
И весточку мне от Дестана несла;
Награды мои у нее ты нашла».
Синдохт растерялась от новости той,
С царевною Заль был бы славной четой!
Сказала она: «Не навлечь бы беду!
Я зятя, желанней чем Заль, не найду;
Сын Сама, великого воина он,
Разумен, высоко молвой вознесен;
Прекрасно в нем все. Но один есть порок, —
6430 Все доблести он перевесить бы мог:
На нас из-за витязя шах нападет
И пепел Кабула до солнца взметет.
Он ввек не захочет, чтоб власти достиг
Муж нашего рода и стал бы велик».
Посредницу, словно не зная совсем,
Пришла развязать, обласкать и меж тем
Шепнула ей: «Ты осторожна, умна, —
И дальше ты действовать так же должна.
Смотри, чтоб уста не раскрылись твои;
6440 Что знаешь, от всех схорони, утаи».
Уверилась мать, что в отчаяньи дочь,
Словами никто ей не может помочь.
К себе удалилась и, плача, легла;
Казалось, подушка огнем ее жгла.
[Мехраб узнает о любви дочери]
Доволен, Мехраб воротился домой:
Безмерно с ним. ласков был Заль молодой.
И видит: бледна, неспокойна на вид,
Очей не смыкая, супруга лежит.
Владыка спросил: «Чем ты ввергнута в страх,
6450 И роз отчего не видать на щеках?»
Мехрабу на то отвечала она:
«Тоской и тревогой душа стеснена.
За все, что храним с незапамятных дней,
Страшусь — за ретивых арабских коней,
За роскошь садов и чертогов твоих,
За жизнь и довольство друзей дорогих,
За этих, властителю преданных, слуг,
За царский покой, за цветник наш и луг,
За статные плечи и солнечный лик
6460 Супруга, что славен, и мудр, и велик.
Быть может, погибнуть всему суждено,
Что блеска и мощи сегодня полно.
Все это придется врагу уступить,
На ветер свой труд многолетний пустить,
Над нами: же — склепа захлопнется дверь.
Мы древо, чей плод стал отравой теперь,
Растили упорным и долгим трудом;
Оно уж украшено было венцом,
До солнца вершиною вознесено...
6470 А смотришь, упало, во прахе оно.
Таков нашей жизни печальный конец.
Не знаю, где сыщем покой для сердец».
Мехраб отвечал ей: «Хоть новы слова,
Но старая суть в новой речи жива.
Таков уж чертога земного закон:
Блаженствует этот, а тот удручен,
Один народился, уходит другой;
Кто не был похищен всесильной судьбой?
Душой сокрушаясь, беде не помочь,
6480 С Творцом всемогущим нам спорить невмочь».
Синдохт отвечала: «Хоть притча проста,
Но суть в нее вложена мудрым — не та.
Ужели я скрыть от тебя бы могла
Приметы над нами нависшего зла?
Поведав о древе, источнике бед,
Пойми, о потомстве поведал мобед.
Я притчей с тобой говорила к тому,
Чтоб слову спокойней ты внял моему».
Тут голову низко склонил кипарис,
6490 И слезы на розы лица полились.
Сказала: «Небесный вращается круг
Не к нашему благу, о мудрый супруг!
Сын Сама расставил силки Рудабе,
Он втайне привлек ее взоры к себе,
Свел чистое девичье сердце с пути;
Не знаю, где средство от горя найти.
Моим увещаньям не внемлет она,
От муки сердечной грустна и бледна».
Могучий Мехраб, услыхав эту речь,
6500 Мгновенно вскочил и схватился за меч.
Стеснил ему сердце неистовый гнев.
Вскричал он, дрожа и лицом потемнев:
«Вот этим своим закаленным мечом
Кровь дочери дерзкой пролью я ручьем!»
Синдохт подбежала, скрывая испуг,
И стан обвила ему поясом рук.
Сказала: «Мне вымолвить слово вели,
Лишь миг мне, рабыне ничтожной, внемли,
А там делай все, что на ум твой придет,
6510 Иди, куда сердце тебя поведет».
Но царь ее наземь поверг, разъярен,
В ответ заревев, словно бешеный слон:
«Как только на свет родила ты мне дочь,
Мне сразу срубить бы ей голову прочь!
Ее не убил я, как дед мой Зохак,
И что же? Теперь мне дитя мое — враг!
Того, кто с отцовского сбился пути,
Уж плотью от плоти отца не сочти.
Так молвил тигренок, исполненный сил,
6520 Когда свои когти для битв отточил:
«К сраженьям я рвусь, мне бойца естество
Отец передал, взяв у деда его.
Сын должен все свойства отца сохранять,
И силу, и доблесть его перенять.»
В опасности слава и жизнь моя — что ж
Убить непокорную мне не даешь?
Под этим предлогом владыка царей
Нагрянет к нам с Самом и ратью своей,
И дым от Кабула взлетит к облакам.
6530 Ни сева, ни жатвы не видеть уж нам».
«О славный! — Синдохт отвечала ему, —
Про это тебе толковать ни к чему.
От сердца гони опасенья и страх,
Сам-витязь уж знает об этих делах.
От сына услышал о них великан,
Затем и покинул он Кергесаран».
«Смотри, луноликая, — молвил Мехраб, —
Неправду ты мне говорить не должна б.
Возможно ли ветру, — как думаешь ты, —
6540 Земле покориться, слетев с высоты?
Когда б не страшился, что грянет беда,
В случившемся я бы не видел вреда.
Известно, что зятя такого, как Заль,
На свете огромном отыщешь едва ль.
Кто с Самом родства бы не принял тотчас
От стен Кандагара до града Ахваз?»[229]
Сказала Синдохт: «Именитый герой!
Ужели осмелюсь я лгать пред тобой?
Беда твоя, вспомни, — беда и моя.
6550 Твоею заботой печалюсь и я.
О мудрый, твои справедливы слова;
И я от тревоги, поверь, чуть жива.
Меня ведь недаром ты в горе застал,
С тоской и тревогой во взоре застал.
И все ж это дело ужасно не столь,
Чтоб сердце терзала нам лютая боль.
Почтен Феридуном йеменский был царь,
Дестан обновил совершенное встарь.
Ведь прах вместе с воздухом, пламя с водой
6560 Тьму в мире сменили красой молодой».
Дала ему Сама посланье: «Смотри,
Что пишет, и радостью дух озари.
Ведь если чужой тебе станет родным,
Завистникам худо придется твоим».
Царь слушал супруги разумную речь,
Но сердце от гнева не смог уберечь.
Сурово владыка промолвил жене:
«Зови Рудабе поскорее ко мне».
Синдохт задрожала: дочь милую лев
6570 Во прах не повергнул бы, рассвирепев.
Сказала она: «Дай мне клятву вперед,
Что дочь невредимой отсюда уйдет,
Что из-за тебя не лишится наш край
Пленительной розы, в чьей прелести — рай».
Заставила дать ей священный обет,
В душе его мрачной затеплила свет.
Над дочерью не заносить свой кинжал
Премудрой Синдохт властелин обещал,
Промолвив: «Смотри, за такие дела,
6580 Владыка царей нам не сделал бы зла».
Склонилась тут низко Синдохт пред царем,
К земле припадая прекрасным челом,
Как солнце сиявшим, под ночью кудрей;
Затем к Рудабе устремилась скорей:.
Ей весть принесла: «Лютый тигр усмирен,
На робкую серну не кинется он.
Теперь, украшения сбросив, иди,
С мольбою к отцовским ногам припади».
А дочь: «Украшений чураться к чему?
6590 И бедною мне притворяться к чему?
Сын Сама — желанный души моей друг;
Не скроешь того, что всем явно вокруг».
Явилась в алмазах пред око царя
«Сияющей, словно востока заря,
Свежей и прекраснее райской страны,
Светлей лучезарного солнца весны.
Увидев ее, изумленный отец
Шепнул про себя: «Всемогущий Творец!»
А вслух произнес: «Ты отца своего
6600 Позоришь. К лицу ль нам такое родство!
Не станет пери Ахриману четой[230].
Скорее утратишь венец золотой!
Исконный кахтанских пустынь змеелов[231]
Стань магом — убить его надо без слов».
Дочь слушает, что говорит государь;
В крови ее сердце, лицо, что янтарь.
Блеск взора укрыла ресниц чернота,
Молчанье сковало кораллы-уста.
В досаде и гневе отец Рудабе
6610 Рычал, словно тигр исступленный. К себе
Ушла — улучила, злосчастная, миг;
Льет кровь из очей на шафрановый лик.
Решились молиться Йездану и ждать
Печальная дева и добрая мать.
[Менучехр узнает о любви Заля и Рудабе]
И вот уж известье дошло до царя
О дружбе забульского богатыря
С Мехрабом; о том, что кипит в нем любовь
К царевне, в чьих жилах драконова кровь.
Собрался совет у владыки земли,
6620 И разные речи мобеды вели.
Промолвил властитель своим мудрецам:
«Известье пророчит несчастие нам.
Сметен Феридуном захватчик-араб,
Но жив его отпрыск, кабулец Мехраб.
Боюсь, не дала бы Дестана любовь
Поникшему древу раскинуться вновь.
Стань Залю-бойцу дочь Мехраба женой —
Их сын может в меч обратиться стальной.
Два рода в нем качества соединят,
6630 Смешается с противоядием яд,
И если природой удастся он в мать,
То замыслы злобные станет питать.
Ища себе царский венец и престол,
Наполнит Иран тьмою распрей и зол.
Что скажете мне, о мобеды, в ответ?
Подумав, разумный мне дайте совет».
Мобеды тогда, прославляя царя,
За веру и честь восхваляя царя,
Сказали ему: «Нас ты знаньем сильней,
6640 Что должно свершиться, провидишь ясней.
Так действуй, как разум подскажет тебе.
Ведь разум и змея осилит в борьбе».
И начал искать повелитель пути,
Чтоб этому делу решенье найти.
Он старшего сына призвал своего
Новзера с верховною знатью его
И вымолвил: «К Саму отправься ты в путь,
Спросить о походе его не забудь;
Скажи, чтоб заехал он к нам по пути,
6650 Как войско домой соберется вести».
Царевич, веленью отцовскому вняв,
К воителю Саму помчался стремглав.
Услышав, что царский спешит к нему сын,
Встречать его двинулся Сам-исполин.
С ним витязи на скакунах боевых;
Литавры гремят на слонах боевых.
И встретились с Самом, главою мужей,
Новзер именитый со свитой своей.
Словами привета менялись бойцы,
6660 Двух доблестных ратей мужи-храбрецы.
Исполнил царевич отцовский наказ,
И, радости полон, воитель тотчас
Ответил: «Закон — повеленье царя,
Мне жизнь озарит лицезренье царя»
Пирует с гостями воинственный Сам,
Увидеться с Самом отрадно бойцам.
Расстелена скатерть, и кубки в руках,
И первым прославлен владетельный шах.
Затем были Сам и Новзер почтены
6670 И славные витязи каждой страны.
Сидели, пируя, всю ночь напролет;
Когда же приблизился солнца восход,
Забил пред державным шатром барабан,
И вестник помчался, проворен и рьян;
И рать ко дворцу Менучехра-царя
Сам-витязь повел, нетерпеньем горя.
Лишь слух до владыки о том долетел,
Он пышно украсить дворец повелел.
Сари зашумел, славный город Амол,
6680 Как бурное море, в волненье пришел.
Помчались воители — каждый в броне,
С тяжелым копьем, на ретивом коне.
Широкая степь от хребта до хребта
Сверкающим морем щитов залита.
Под гром барабанов и звон бубенцов,
С дарами на спинах коней и слонов,
Со стягом, с литаврами славная рать
Пришла именитого гостя встречать.
[Прибытие Сама к Менучехру]
Сам спешился перед дворцом, и тотчас
6690 Толпа царедворцев пред ним раздалась.
Властителя лик увидав пред собой,
До самой земли поклонился герой.
С престола поднявшись, в алмазном венце,
Владыка, с улыбкой на ясном лице,
Воителя рядом с собой усадил,
Героя достойной хвалою почтил,
Затем про сраженья, про Кергесаран,
Про дивов, чья родина — Мазендеран,
Владыка расспрашивать ласково стал,
6700 И витязь властителю так отвечал:
«О царь, будь храним благосклонной судьбой!
Да будут бессильны враги пред тобой!
Ходил я в тот город, где дивов приют —
Таких, что свирепостью львов превзойдут,
Что в беге ретивей арабских коней,
В сраженьях — иранских героев грозней.
Увидя сегсарцев воинственных рать,
За яростных тигров их можно принять.
Лишь слух о набеге ушей их достиг,
6710 Безумная злоба объяла их вмиг.
Тотчас же воинственный клич загремел,
И войско, покинув столицы предел,
Заполнило степь меж высоких хребтов,
И спряталось солнце за темный покров.
К нам дивы навстречу стремительно шли.
Грозя и крича оглушительно, шли.
И в ужасе дрогнули наши ряды,
Не видя спасенья от грозной беды.
6720 Тогда с громким кличем навстречу врагам,
Пылая от гнева, помчался я сам.
Коня боевого с размаха хлестнул,
И палицей многопудовой взмахнул,
И стал их разить. Заметались они,
От страха с рассудком расстались они.
Там Сельма — владыки Заката — был внук.
Он волком навстречу мне кинулся вдруг.
Керкуй было имя того удальца[232],
Он статен был станом, прекрасен с лица.
Из рода Зохака была его мать.
6730 Сильнейших бессильными мог он считать.
Орда саранчой затопила простор[233],
Не видно уже ни ущелий, ни гор.
Копытами пыль до небес взметена;
На лицах у наших бойцов — желтизна.
С единоударной своей булавой
Свирепо напал я на вражеский строй.
И вот загудел у них жернов в ушах —
Такой я нагнал на них окриком страх.
Услышал Керкуй этот клич боевой,
6740 Увидел, как мчусь я, разя булавой,
И прянул, держа наготове аркан,
Подобен слону, что от ярости пьян.
Меня он арканом поймать захотел,
Но во-время я отклониться успел.
Мгновенно схватил я огромный свой лук
И стрелы с концами стальными, и вдруг
Понесся, взвивая, как птицу, коня;
Неслись мои стрелы быстрее огня.
Я думал, железную голову ту
6750 Я к шлему стрелою прибил налету.
Вдруг вижу: из пыли является он,
С индийским клинком, разъяренный, как слон.
Подумалось мне, государь, что с горой
Легко совладал бы тот мощный герой.
Он мчится ко мне, я же стал выжидать,
Чтоб хваткой его богатырскою сжать.
Напал на меня, словно яростный див.
Я ж, крепко за пояс его ухватив,
В бою рукопашном взял верх над врагом;
6760 Как слон разъярившийся, мощным рывком
Швырнул его наземь из всех своих сил —
С хребтом перебитым, он дух испустил.
Лишась предводителя, дрогнула рать
И с поля сраженья пустилась бежать.
Средь горных ущелий, холмов и долин
Остатки рассыпались вражьих дружин.
Как на поле стали считать мертвецов —
Там тысяч двенадцать погибло бойцов.
Прибавь горожан, ополченцев число —
6770 Всего триста тысяч мужей полегло.
Что враг пред звездою благою царя,
Пред давним и верным слугою царя!»
Услышав, что Саму свершить довелось,
Царь к небу венец свой победно вознес.
И сел он с мужами за радостный пир,
От нечисти видя избавленным мир.
За чашей в ту ночь не скучали они,
Героя-бойца величали они.
День с мира ночные покровы совлек,
6780 И дверь отворилась в державный чертог.
К царю, что владыкой был многим царям,
Вошел предводитель, прославленный Сам.
Хотел было, кончив царя величать,
Он речь о Мехрабе и Зале начать,
Но царь перебил боевого вождя,
Иную нежданно с ним речь поведя.
Сказал исполину владыка земли:
«Храбрейшим бойцам собираться вели;
Пожарище должно в Кабуле разжечь
6790 И пламени крепость Мехраба обречь.
Из рук твоих пусть он живым не уйдет;
От злого дракона ведет он свой род.
Поднять может смуту правитель такой,
Войною нарушить народов покой.
Вельмож именитых кабульской страны,
Которые сердцем Мехрабу верны
И всех ему близких по крови людей,
Чей предок — свирепый Зохак-чародей,
Смотри, без пощады мечом обезглавь,
6800 От змеева племени землю избавь».
Увидев, что гневом властитель объят,
Боец не перечил. Потупил он взгляд,
Престол целовал, припадая лицом
К деснице, украшенной царским кольцом,
И молвил воитель: «Я волю твою
Исполню, властителя гнев утолю».
И двинулось войско на быстрых конях,
Вздымая до неба чернеющий прах.
[Сам отправляется на войну с Мехрабом]
Те гневные речи владыки земли
6810 В Кабул до Мехраба и Заля дошли.
Весь город был вестью худой потрясен,
Послышались в замке рыданья и стон.
Правитель Мехраб и Синдохт с Рудабе
Не ждали уже избавленья себе.
Во гневе скакал из Кабула Дестан,
Лицом омрачась, гордо выпрямив стан.
Он думал: «Пусть грозный примчится дракон,
Пусть будет весь мир им во прах превращен,
Коль город Кабул он захочет смести,
6820 Мне раньше он голову должен снести».
Он мчался без устали, к Саму спеша,
В нем разум кипел, волновалась душа.
Лишь вести до Сама успели дойти,
Что лев молодой уже близко в пути —
Рядами построил он мощную рать,
И стяг Феридуна велел поднимать.
К торжественной встрече призвал барабан,
В путь тронулось войско, с ним вождь-великан.
И поступью тяжкой шагали слоны,
6830 Знаменами пестрыми осенены.
Отца различил, взгляд направивши вдаль,
И пеший, к могучему двинулся Заль.
И спешилась свита с обеих сторон.
Приблизясь и низкий отвесив поклон,
Заль землю пред Самом-бойцом целовал,
Но долго ответа отец не давал.
И вновь под Дестаном скакун огневой;
Огромный, он схож с золотою горой.
Толпой с увещаньями к Залю пришли
6840 Бойцы и вельможи иранской земли:
«Ты скорбью изранил отцовскую грудь, —
Прощенья проси, про упорство забудь».
Дестан отвечал: «Неизвестен мне страх,
Конец человека, — один только прах.
Коль мудрости полон родитель мой Сам,
Оп прежним своим не изменит словам.
Пусть ныне услышу я гневный укор —
Потом, устыдившись, потупит он взор».
Несутся вперед, веселы и бодры,
6850 И вот уже Сама пред ними шатры.
Доехав, с коня соскочил великан,
И тотчас к нему был допущен Дестан.
Лишь Заль очутился пред славным отцом,
Простерся он, праха касаясь лицом;
Сказал, прославляя главу силачей,
Роняя росу из нарциссов-очей:
«Пусть радостью будет твой дух озарен!
Да чтит твое сердце лишь правды закон!
Дробит и алмазы твой меч огневой,
6860 Застонет земля, только выйдешь ты в бой.
Куда б ни направил ты чудо-коня,
Противник бежит, как бегут от огня.
Взмахнешь булавой, и поник небосвод,
И звездную ношу он еле несет.
Весь мир процветает от правды твоей,
И мудростью ты вознесен меж людей.
Ты славишься, правдой сердца веселя;
Горд правдой твоей весь народ, вся земля.
Лишь я обделен твоей правдой один,
6870 Хоть всюду зовусь: Сама-витязя сын.
Я, птицей вскормленный во прахе и мгле,
Ни с кем не враждую на этой земле;
Такой за собою вины не найду,
Чтоб в людях ко мне зажигала вражду.
Вина лишь одна — сын я Сама-бойца.
Хоть честь от такого родиться отца,
Но ты ведь, младенца, отринул меня,
Под каменной кручей покинул меня,
Родившую — горько рыдать осудил,
6880 Рожденного — тяжко страдать осудил.
Не знал колыбели, сосцов я не знал,
Отрадных и светлых часов я не знал.
В горах меня бросив жестокой рукой,
Ты отнял блаженство мое и покой.
С Создателем мира, забыв божий страх,
О черном и белом ты спорил в сердцах.
Но был я Создателем мира взращен,
Меня не покинул в несчастии он;
Дал силу и мужество богатыря,
6890 В друзья мне кабульского дал он царя,
Владетеля палицы, трона, венца,
Вождей венценосных главу-мудреца.
По воле твоей посетил я Кабул,
С пути, что начертан тобой, не свернул.
Дал клятву ты: «Ввек не обижу тебя;
Посадишь ты древо — взращу я, любя».
Что ж в дар посылает мне Мазендеран?
Зачем же покинул ты Кергесаран?
Чтоб рухнул мой дом, возведенный едва?
6900 Так вот справедливость твоя какова!
Карай, пред тобою покорно стою,
Готовый отдаться на волю твою.
Вели распилить мое тело пилой, —
Кабула лишь ты не касайся хулой.
Как хочешь, являй самовластье свое:
Несчастье Кабула — несчастье мое».
Как выслушал витязь Дестана слова,
На грудь опустилась его голова.
Сказал он: «Все правда, что ты говорил,
6910 Язык твой свидетелем истины был.
Тебе причинял я одно только зло,
Что недругам радовать сердце могло.
Заветное ты мне желанье открыл —
Тебя опечалил я, не ободрил.
Не гневайся, гнев твой мне видеть невмочь.
Я средство найду, чтобы горю помочь.
Посланье составить велю я писцам,
Ты должен царю передать его сам.
Узнав твою доблесть, увидев твой лик,
6920 Тебя не обидит владыка владык.
Державное сердце посланьем своим
На путь справедливости мы обратим.
Коль нам Вседержитель захочет помочь —
Под силу нам трудности все превозмочь.
Лев действовать должен и рваться вперед,
Добыча тогда от него не уйдет».
И наземь Заль-Зер пред родителем пал,
И много вознес ему жарких похвал.
[Заль отправляется послом к Менучехру]
Писцу приступить повелели к письму;
6930 Немало пришлось потрудиться ему.
Восславил он Бога — зачин был таков:
«Он был и пребудет во веки веков.
Он зла и добра, бытия Властелин.
Рабы мы, нас много — Йзед же один.
Его начертания правят судьбой;
Над нами вращает Он свод голубой.
Он, звезды зажегший, луну и зарю,
Да благоволит к Менучехру-царю!
В час пира, как месяц, ласкаешь ты взгляд,
6940 В час битвы ты, словно губительный яд.
Преграды крушишь, булавою разя,
Народ охраняешь, злодеям грозя.
Ты стяг Феридуна вздымаешь в боях,
Воинственных тигров кидаешь во прах.
Ударишь копьём — и гора сметена,
Рассыпалась в прах у копыт скакуна.
Рукой справедливой ты правишь везде,
Лань с тигром заставишь забыть о вражде.
Весь век свой тебе я служить был готов,
6950 А мне ведь сто двадцать минуло годов.
Все больше блестят камфарой волоса —
Такой мне послали венец небеса.
Твой раб, я летел, опоясавшись, в бой,
Сражался с нечистой ордою любой.
Кто всадника видел такого, как я,
Искусного в скачке, в метаньи копья?
Дрожь витязей мазендеранских брала,
Лишь палицу я отвяжу от седла.
Не будь я на свет столь могучим рожден,
6960 Не будь я средь витязей всех вознесен —
Погиб бы весь мир, как ладонь опустев,
От змея, что взмыл над рекою Кешеф[234].
Как степь меж горами, он был шириной,
Как путь меж двумя городами, длиной.
Везде трепетали при мысли о нем,
Стояли на страже и ночью и днем.
Уже не оставил он птиц в небесах,
Зверья не оставил в дремучих лесах.
Огнем он дохнет — сокол валится вдруг,
6970 Он яд изрыгнет — все сгорает вокруг.
Он пастью хватал и орла налету;
Спастись от такого невмочь и киту.
Весь люд разбежался, и скот уведен,
Остался хозяином, краю — дракон.
Когда увидал я, что нет никого,
Кто мог бы, сражаясь, осилить его —
На помощь я силу Йездана призвал,
Сомненья и робость из сердца изгнал.
Во имя Того, Кем земля создана,
6980 На слоноподобного сев скакуна,
Взяв бычьеголовую палицу в путь,
Лук взяв на плечо, щит повесив на грудь,
В дорогу пустился я, гневом объят.
Пусть грозен огонь, но могуч и булат!
И каждый навеки прощался со мной,
Узнав, что на змея иду я войной.
Гляжу: предо мною дракон-великан,
Весь в космах, свисающих, словно аркан;
Из пасти раскрытой, как древо велик,
6990 Пал наземь, чернея, драконий язык.
Глаз каждый кровавым прудом багровел:
Увидев меня, люто он заревел.
Почудилось мне, государь, в этот миг,
Как будто груди моей пламень достиг.
Клубился густой, непроглядный туман:
Казалось, вокруг грозовой океан.
От рева дракона дрожала земля,
От яда — Чин-морем вдруг стала земля.
Я клич, словно яростный лев, испустил,
7000 Как должно героям, исполненным сил.
Я выбрал одну из губительных стрел
С алмазным концом, и вложил в самострел.
Так метил я в змея стрелою попасть,
Чтоб разом сколоть вредоносную пасть.
Стрела ее сшила, быстра и метка.
С испугу не спрятал дракон языка,
И тотчас второю стрелою язык
Пришил я к земле. Змей забился и сник.
В драконову пасть я прицелился вновь,
7010 И хлынула бурно багровая кровь.
Он ринулся яро — схватиться со мной.
Взмахнул я рогатой своей булавой
И вмиг, слоновидного тронув коня,
Всей силою, влитой Йезданом в меня,
Ударил по темени так, что дракон,
Упал, будто глыбой с небес поражен.
Огромную голову я сокрушил,
И яд полился, как бушующий Нил.
Ударом уложен он был наповал;
7020 Горой его мозг над землею вставал:
Кешеф заструился багровой рекой;
Вернулись на землю и сон и покой.
Сбежался народ, что скрывался в горах;
И славил меня, и рассеялся страх.
Весь мир был победой моей изумлен —
Лютейший был мною повержен дракон!
Мне в радости каждый бросал самоцвет,
Единоударный — прозвал меня свет.
Вернувшись, я глянул на тело свое:
7030 На нем развалилось кольчуги литье,
И конская также распалась броня,
И яд отравлял еще долго меня.
С тех пор на полях той сожженной земли
Одни только тернии злые росли.
А если поведать, как шел я в поход
На дивов, — посланье к концу не придет.
И в этих и в прочих сраженьях не раз
Я головы вражьи косил, разъярясь.
Куда б ни направил я вихря-коня,
7040 Лев бегством спасался, завидя меня.
Давно уж седло мне — престол вырезной,
А конь мой ретивый — земля подо мной.
Весь Кергесаран, как и Мазендеран,
Моей булавою во власть тебе дан.
Я вспомнить не смел про отчизну и дом,
Жил счастьем твоим и твоим торжеством.
Но в битвах удару моей булавы,
Рукам и плечам богатырским — увы! —
Теперь уже силы былой не дано;
7050 Спина великанья согнулась давно,
И стала рука для аркана слаба;
Меня, опрокинув, связала судьба.
Достойному я уступаю черед,
Заль пояс и палицу ныне берет.
Как я, он врагов твоих станет косить,
Отвагой и силой твой дух веселить.
Таит он желанье одно — пред тобой,
Владыка, падет он с горячей мольбой —
Желанье, в котором бесчестия нет,
7060 Которое правый приемлет Изед.
Согласья хотим твоего испросить:
Мы слуги, негоже нам дерзкими быть.
Ты слышал, о царь, покоривший весь свет,
Что Залю торжественно дал я обет;
Когда он с Эльборза примчался со мной,
Я клятву принес перед целой страной —
Любое желанье исполнить сулил,
И вот предо мною он сердце излил.
Примчался, кровавые слезы точа,
7070 От дрожи костями о кости стуча.
«Повешенным пусть меня видит Амол, —
Сказал, — лишь бы ты на Кабул не пошел!»
У птицы на круче высоко он рос,
Вдали от людей, одиноко он рос.
Вдруг месяц кабульский предстал пред юнцом —
Чарующий тополь с душистым венцом;
Не диво, что разум утратил мой сын;
Пусть гневом его не казнит властелин.
Так тяжко любовь ему душу томит,
7080 Что жалость внушает несчастного вид.
Безвинный, не мало он вытерпел бед —
Затем я и дал тот священный обет.
Я с трепетом сына вручаю тебе.
Когда у престола падет он в мольбе —
Так действуй, как должно тому, кто велик;
Не мне поучать властелина владык.
Одна мне на свете отрада — мой сын,
Опора одна, утешитель один...
Привет миродержцу и витязям всем
7090 От Сама-бойца, чей родитель Нейрем!»
Посланье готово, все сказано там;
Дестану вручает послание Сам.
Заль вышел и ногу заносит в седло,
И пенье трубы далеко поплыло.
Он витязей славных с собою берет,
Готовых стремительно мчаться вперед.
И Сама Единоударного стан
Покинув, несется к столице Дестан[235].
[Мехраб гневается на Синдохт]
Известия те, до Мехраба дойдя,
7100 В смятенье немалое ввергли вождя[236].
Призвал он Синдохт, разъяренный, как лев,
Излил на нее против дочери гнев.
«Для спора с владыкой мне сил не дано, —
Сказал он, — теперь остается одно:
Тебя и порочную дочь обвинить,
Безжалостно вас при народе казнить.
Быть может, остынет от меры такой
Гнев шаха, и в мире настанет покой.
Кого бы послал против Сама Кабул?
7110 Кто с ним в поединок вступить бы дерзнул?»
Едва до Синдохт эти речи дошли, —
В раздумье присела от трона вдали.
Она прозорлива была и умна.
Догадкой блистательной озарена,
К Мехрабу она устремилась бегом,
Сказала, простершись в поклоне земном:
«Моим, о властитель, внемли ты словам,
А там поступай, как рассудишь ты сам.
Казну отвори, чтобы делу помочь.
7120 Поверь мне, чревата событьями ночь.
Пускай и долга, и печали полна,
Но все же зарей разрешится она.
Увидим лучистого солнца восход,
И день, словно лал Бадахшана, сверкнет»[237].
Властитель ответил ей: «Выдумки прочь!
Ты старыми сказками нас не морочь.
Коль знаешь ты средство, воспользуйся им,
Иль кровь твоя саваном станет твоим».
«О гордость мужей! — отвечала жена, —
7130 Навряд тебе кровь моя будет нужна.
Сама я к воителю Саму пойду,
Сама отведу я лихую беду.
Пущу я все средства уместные в ход —
Ум зрелость незрелым речам придает.
Мне жизни не жаль, ты богатств не щади;
Дарами меня пощедрее снабди».
Мехраб ей промолвил: «Вот ключ от казны,
О благах печалиться мы не должны.
Венец, и престол, и рабынь, и коней
7140 Готовь, и в дорогу сбирайся скорей.
Ты этим, быть может, Кабул нам спасешь,
Увядшему снова расцвет принесешь».
«Да, — молвила мужу Синдохт, — коли жизнь
Тебе дорога, от богатств откажись.
Когда я поеду, чтоб делу помочь,
Не надо корить, обижать нашу дочь.
Ее невредимой хочу я найти;
Спеши мне священный обет принести.
О жизни своей не тревожусь, поверь, —
7150 О дочери все помышленья теперь».
Священную клятву с Мехраба взяла
И рьяно тотчас принялась за дела.
Надев из парчи златотканный наряд,
Убор, где алмазы и лалы горят,
Взяла триста тысяч динаров она —
Народ оделять: ей открыта казна.
В уздечках серебряных вывели к ней
По тридцать арабских, персидских коней;
В златых ожерельях рабынь — шестьдесят:
7160 В руках у них золотом чаши блестят,
Где смешаны с мускусом и камфарой
Алмазы, и жемчуг, и лал с бирюзой.
Сто рыжих верблюдиц велела вести,
Сто мулов, выносливых в дальнем пути,
Венец, где блистает алмазный узор,
Цепь, серьги, браслеты — весь царский убор;
Престол золотой, будто сам небосвод,
Где россыпь жемчужная дивно цветет;
С огромного всадника он вышиной,
7170 И рашей он до двадцати шириной[238].
Четыре слона из индийской земли.
Одежды, ковры дорогие везли.
[Сам успокаивает Синдохт]
Готовы дары, и быстрее огня,
Как воин, вскочила Синдохт на коня.
Конь вихрем помчался. Румийский шелом
Блистал над ее лучезарным челом.
Пред ставкою Сама коня придержав
И княжьим дозорным себя не назвав,
Царица велела им в ставку идти
7180 И витязю так о себе донести:
Мол, прибыл из Кабулистана посол,
К владыке Забульского стана посол.
Везет он посланье Мехраба-царя
Для Сама, великого богатыря.
Та речь пересказана Саму была,
И тут же ввести повелел он посла.
Мгновенно с коня соскочила, и вот
В шатер к исполину царица идет.
Уста ее шаху хвалу вознесли
7190 И Саму, храбрейшему мужу земли.
Динары, невольниц, что прибыли с ней,
Могучих слонов, долгогривых коней
С поклоном вручила как дар для вождя,
Его в изумление тем приведя.
Князь руки скрестил, головою склонен.
«Не странно ли, — думал в смущении он, —
Явилась столь гордого края послом
Жена, а не витязь, носящий шелом.
Как быть мне: принять эти блага посмев,
7200 Владыки Ирана я вызову гнев[239].
Отвергну — боюсь, опечалится Заль;
Как птица Симорг, унесется он вдаль.
Обижу его, коль дары не возьму;
Что после при людях отвечу ему?»
Он голову поднял и молвил, решась:
«Рабов, и слонов, и дары вы тотчас
Вручить казначею Дестана должны
От имени девы — кабульской луны».
Царица, как роза, лицом расцвела
7210 И смело беседу с вождем повела;
И верит, оказанный видя почет,
Что счастье на смену печали придет.
Стояли три девы прекрасные с ней,
Стройней кипарисов и лилий нежней;
У каждой в руках дивный кубок блистал,
Где жемчуг искрился, и яхонт, и лал.
Они опрокинули кубки, склонясь,
И грудой горящей любуется князь.
Вот почести витязю все возданы,
7220 Из ставки все лишние удалены,
И славному Саму Синдохт говорит:
«Твой разум и старому юность дарит.
Мужей родовитых добру ты учил,
Мир светочем знанья для них осветил.
Ты руки связал силе черной и злой,
Благие пути проложил булавой.
Коль ищешь виновных — Мехраб виноват,
За то его очи кровь сердца струят.
Но в чем провинился кабульский народ?
7230 Ужель он, безвинный, на гибель пойдет?
Весь край наш тебя почитает, любя,
Мы слуги, мы прах под ногой у тебя.
Побойся Создателя звезд и луны,
Того, Кем и разум и мощь созданы.
Такие дела неугодны Ему,
Кровь мирных людей проливать ни к чему».
Сам-витязь на это ответил: «Смотри,
Ответствуй лишь правду одну, не хитри:
Жена ты Мехрабу? Поведай о том,
7240 Где дочь его с Залем видалась тайком?
Достойна ли витязя сердце привлечь?
Прекрасен ли облик, приятна ли речь?
Поведай про разум, познанья и нрав,
Чтоб я успокоился, правду узнав».
Синдохт отвечала на эти слова:
«О, славных опора, героев глава!
Ты клятву такую мне крепкую дай,
Чтоб, слыша ее, содрогнулся весь край.
Дай клятву не делать худого ни мне,
7250 Ни тем, кто мне дорог — друзьям и родне.
Богатый дворец у меня и казна,
Не мало родни, что сильна и знатна.
Меня обнадежь — на вопрос твой любой
Отвечу, доволен останешься мной.
И все, чем владеет богатый Кабул,
Сама поспешу я доставить в Забул».
Тут руку ей подал Забула глава
И вымолвил клятвы священной слова.
Синдохт, услыхав исполина ответ,
7260 Правдивые речи и дружбы обет,
Ниц пала пред славным и вновь поднялась;
Из сердца правдивая речь полилась:
«В роду у Зохака я, князь, рождена;
Я — чистого сердцем Мехраба жена.
Я — мать Рудабе, той красавицы мать,
Которой Дестан рад бы душу отдать.
Все наше семейство, — свидетель Изед, —
Ночами, пока не забрезжит рассвет,
За Заля возносит мольбы, за тебя,
7270 Владыку царей прославляет, любя.
Пришла я услышать о нашей судьбе:
В Кабуле кто друг и кто недруг тебе?
Коль грешники мы и преступен наш род,
И царствовать мы недостойны, то вот
Я здесь пред тобою; что хочешь, чини:
Решишься — вяжи, пожелаешь — казни.
Не трогай лишь мирных кабульских людей —
От этого день стал бы ночи темней!».
Сам слушал с почтением речи посла —
7280 Той женщины мудрой, что духом светла,
Что станом — как тополь, лицом — как тюльпан.
Гибка, что тростинка, легка, что фазан.
Сказал он: «Сдержу я священный обет,
Хотя б мне покинуть пришлось этот свет.
Мир вам — и тебе, и всем близким твоим!
Останется каждый из них невредим.
И также на то я согласье даю,
Чтоб с Залем ты дочь сочетала свою.
Пусть рода иного и веры иной —
7290 Достойны вы править своею страной.
Таков этот мир, и позора в том нет;
Нам против Создателя спорить не след.
Ведь все мы — творенья Творца своего,
Нам только дивиться и славить Его.
Тот в гору идет, этот катится вниз,
Тот радостен, в этого беды впились;
В довольстве один расцветает душой,
Изгложено сердце другого нуждой.
Из дольнего праха мы все рождены,
И в прах под конец обратиться должны.
7300 Я скорбной твоей не отвергну мольбы,
За дело твое не оставлю борьбы.
Уже написал я посланье царю,
Где с жаркой мольбою о том говорю.
И Заль торжествующий вместо посла
В путь ринулся, словно обрел он крыла;
Летел он, как вихрь, утопая в пыли;
Копытами конь не касался земли.
С Дестаном, поверь, будет милостив царь.
7310 Подумает так про себя государь:
— Питомец Симорга, знать, в топи увяз —
Так много он слез пролил, бедный, из глаз.
Коль так же любовь и невесту зажгла,
Пожалуй, сгорят они оба до тла... —
Драконову внучку моим бы глазам
Увидеть! — за это я щедро воздам.
Быть может, ее мне понравится вид,
И речь ее старому слух усладит».
Сказала Синдохт: «Коль могучий ездок
7320 Захочет приездом почтить мой чертог
И тем нашу славу до солнца вознесть —
Великая будет нам радость и честь.
Коль царь пожелает Кабул озарить,
Готовы мы душу ему подарить».
И Сам улыбнулся на то, и тогда
Синдохт поняла, что минула вражда.
С улыбкою молвил прославленный Сам:
«Утешься, к чему предаваться скорбям?
Мечте твоей сбыться». Услышав о том,
7330 Склонилась царица в поклоне земном,
Покинула княжий шатер, запылал
От радости лик, словно пламенный лал[240].
Вот послан гонец расторопный отвезть
Владыке Кабула отрадную весть:
«Узнай, ликованья приходит пора.
Жди гостя, а с ним дожидайся добра.
За вестником вслед я примчусь и сама,
Не тратя ни мига». Рассеялась тьма;
Людей пробуждая от сна, заблистал
7340 В небесной лазури лучистый кристалл.
Синдохт, озарившая радостью взор,
Направилась к Саму в державный шатер.
Приветственным гулом встречали ее.
Луной средь цариц величали ее.
Вошла она, Саму поклон отдала
И с витязем долго беседу вела:
Просила дозволить ей двинуться в путь —
Владыке Кабула надежду вернуть,
Готовиться к встрече желанных гостей,
7350 Поведать про все, что обещано ей.
И Сам отвечал ей: «Мчись ночью и днем,
Мехрабу-царю расскажи обо всем».
И вот караван к выступленью готов.
Немало собрали богатых даров
Владыке Мехрабу, достойной жене
И милой невесте, царевне-луне.
И все, чем владел предводитель бойцов
В Кабуле — из стад, и садов, и дворцов,
И яркие ткани, и чудо-ковры, —
7360 Все эти царице вручил он дары.
И после прекрасную за руку взяв,
Он в дружбе ей снова поклялся, сказав:
«С весельем в душе возвращайся в Кабул.
Врагов не страшись: рок вам счастье вернул».
И новой Синдохт красотой расцвела;
Звезда ей в дороге сияла, светла.
[Прибытие Заля к Менучехру]
Теперь поведу о Дестане рассказ.
К царю Менучехру скакал он в тот час.
Как только известье дошло до царя,
7370 Что едет сын доблестный богатыря,
Иранского царства верховную знать
Послал венценосец Дестана встречать.
Примчался и спешился юный посол,
И вот перед ним властелина престол.
Он землю, склонясь пред царем, целовал,
Властителю мира хвалу воздавал.
И долго лежал он, во прахе простерт,
Но царь обласкал его, сердцем не горд;
Велел, чтобы прах отряхнули с лица
7380 И мускусом чтоб умастили юнца.
С почетом поближе его подвели,
И Заля спросил повелитель земли:
«Сын витязя, верно, в пути изнемог,
Спеша к нам сквозь ветер, и пыль, и песок?»
Тот молвил: «Коль светит твоя благодать —
Труд тягостный может отрадою стать».
Владыка послание взял и прочел,
И лик его ясной улыбкой расцвел.
Письмо дочитав, он промолвил в ответ:
7390 «Да, сердцу немало доставил ты бед.
Но внемля горячим и скорбным словам,
Что шлет нам воитель прославленный Сам, —
Хоть это известье тревожит меня, —
Согласье даю, прочь сомненья гоня.
Будь счастлив, на помощь тебе я приду;
Так писано, видно, тебе на роду.
Останься со мною на несколько дней,
А я поразмыслю о просьбе твоей».
Накрыт золотой, полный яствами стол,
7400 И Заля к столу повелитель повел,
И с ними пируют, веселья полны,
Знатнейшие люди иранской страны.
Пир царский окончен, и стали опять
В покое другом удальцы пировать.
Вино все распили, и Заль молодой,
Вскочив на коня с золотою уздой,
Умчался к себе и всю ночь проблуждал,
Раздумьем объят, сам с собой рассуждал.
Наутро к царю, опоясавши стан,
7410 Явился, красою сияя, Дестан.
И юношу царь, обласкав, отпустил,
Его прославляя за доблесть и пыл.
Затем повелел он старейшим жрецам,
Седым звездочетам, мужам-мудрецам,
Собравшись в столице, за дело засесть,
Судеб начертанья по звездам прочесть.
И те, не жалея уменья и сил,
Читали по знакам небесных светил.
Три дня провели в неустанных трудах
7420 С индийской таблицей созвездий в руках[241]
И после сказали владыке земли:
«Мы волю высот круговратных прочли.
Предсказано нам, что событий поток
Вперед устремится, и чист, и широк.
Сын Сама возьмет дочь Мехраба женой,
Родится от них знаменитый герой.
На свете он множество лет проживет,
Дивя богатырскою силой народ,
Отвагой врагов повергая во прах,
7430 Не ведая равных в боях и пирах.
Нагрянет, коню увлажняя бока, —
И недругу сердце иссушит тоска.
Орлу над шеломом его не летать,
Ему силача не найдется подстать.
То будет бесстрашный боец-великан,
На львов он набрасывать станет аркан;
Усталый от сечи, в единый присест
Онагра на углях зажарит и съест.
Он будет царей неподкупным слугой,
7440 Иранской дружины опорой благой».
И царь, услыхав звездочетов ответ,
Велел им скрывать предсказанья планет.
[Мобеды испытывают Заля]
Царь Заля к себе призывает опять,
Познанья его пожелав испытать.
Собрался у трона совет мудрецов,
И Заль восседает меж ними, готов
В ответ на вопросы уста разомкнуть,
Загадок раскрыть потаенную суть.
С Дестаном, чей разум остер и пытлив,
7450 Беседу заводит мобед, вопросив:
«Скажи, что такое: стоят, зелены,
Двенадцать деревьев, шумны и стройны;
На каждом по тридцать ветвей, а спроси —
Всегда одинаков их счет на парси»[242].
«О славный! — промолвил другой в свой черед, —
Два дивных коня бурно мчатся вперед:
Один, словно море смолы, вороной;
Сияет второй, как хрусталь, белизной.
Стремителен и непрерывен их бег,
7460 Один не догонит другого вовек».
«Царь видит наездников, мчащихся вдаль;
Их тридцать, — услышал от третьего Заль. —
Посмотрит порой: одного не видать,
Сочтет их, и в сборе все тридцать опять».
Промолвил четвертый: «Есть солнечный луг;
Ручей там струится и зелень вокруг.
И некто с огромным и острым серпом
На светлом лугу появляется том.
Сухую былинку и свежий бутон —
7470 Все косит, молений не слушает он».
А пятый промолвил: «Два тополя ввысь,
Как будто тростник, над водой вознеслись.
Там птица живет. На один ввечеру
Садится она, на другой поутру.
Слетит с одного — вянет, падая, лист;
Взлетит на другой, — лист и свеж, и душист.
Всегда из дерев зеленеет одно
И вянет другое; в печали оно».
Промолвил шестой: «Среди горных высот
7480 Есть град — обитателей верный оплот.
Но люди из града в пустыню ушли,
Где рос только терн из бесплодной земли.
Построили здания до облаков;
Живут, разделясь на господ и рабов.
Что в городе жили, не вспомнит никто;
Одним не обмолвятся словом про то.
Но бездна под ними разверзнется вдруг,
Поглотит и зданья, и все, что вокруг.
И вспомнится город родной, и гора,
7490 И горьких раздумий наступит пора...
Речей сокровенную суть разгадай,
Ответ мудрецам многоопытным дай.
Коль тайны раскроешь в правдивых словах —
Живительным мускусом сделаешь прах».
[Ответы Заля мобедам]
В раздумье сперва погрузился Дестан,
Затем приосанившись, выпрямив стан,
Готовый ответить на каждый вопрос,
Такие слова богатырь произнес:
«Сперва про двенадцать зеленых дерев,
7500 Что высятся, тридцать побегов воздев;
Двенадцать таит в себе месяцев год,
И каждый, как новый владыка, грядет,
Прошло тридцать суток, и месяц истек —
Таков провиденьем начертанный срок.
Еще про двоих расскажу я коней,
Что мчатся стремительных молний быстрей:
Проносится белый, сверкнув, как хрусталь,
И черный за ним устремляется вдаль.
Так время течет, строго меру храня;
7510 То смена извечная ночи и дня.
Бегут, как от своры охотничьей дичь;
Им в беге друг друга вовек не настичь.
Скажу о наездниках тех тридцати,
Что мимо владыки мелькают в пути.
Порой их становится меньше одним,
А снова сочтет — те же тридцать пред ним.
То луны текут, и неравен им счет,
На сутки бывает у них недочет[243].
Еще разгадаю в немногих словах
7520 Загадку о птице на двух деревах:
В сияньи земля от Овна до Весов,
В ту пору неведом ей темный покров.
Лишь к Рыбам ее приведет Зодиак,
Угрюмый над нею сгущается мрак.
Два древа — две длани небес. Искони
Печаль и веселье даруют они.
А птица та — солнце. Зимой нам темно,
Весною нас вновь оживляет оно.
А тот на высотах сияющий град —
7530 Приют наш небесный, не вянущий сад.
Пустыня — земной наш, случайный приют,
Где горе и радость бок о бок живут.
Отсчитан судьбою здесь каждый наш час —
Что дарит, сама похищает у нас.
Но дрогнет земля, и раскатится гром,
Поднимутся вопли и стоны кругом,
И прерван в пустыне упорный наш труд.
Нас снова к обители горней зовут.
Плод наших трудов кто-то новый пожнет,
7540 Пожнет, но и сам он уйдет в свой черед.
Так было с тех пор, как живет человек,
И этот закон не состарится ввек.
Взять доброе имя с собой не забудь —
К бессмертью оно открывает нам путь.
А если мы жили в корысти и зле —
Смерть все обнажит, что таилось во мгле.
Пусть выше Кейвана богатый наш дом,
С собой мы лишь саван один унесем.
И тяжкий обнимет нас трепет и страх,
7550 Как время придет обратиться нам в прах...
С серпом великан по лужайке идет,
И все, что увяло, и все, что цветет,
Срезает равно беспощадной рукой,
Мольбою не тронуть его никакой.
Мы травы, а время — косарь, что на луг
Ступив, без разбору все косит вокруг;
Всех губит, не глядя, кто молод, кто сед,
Губя, не щадит и младенческих лет.
Таков нашей жизни извечный закон;
7560 Ведь каждый рожденный для смерти рожден;
В дверь входит, выходит из двери другой.
Измерен наш век беспощадной рукой».
[Заль обнаруживает свою доблесть перед Менучехром]
Так Заль, с сокровенного сбросив покров,
Владыку порадовал мудростью слов.
Светлеют от радости лица мужей;
Почтил его царь похвалою своей.
Знак подал он к пиру; наполнен фиал,
И месяцем ярким чертог засиял.
До самой полуночи пили вино,
7570 И головы крепко кружило оно.
Окончился пир, гаснут гроздья огней,
Конюший уже окликает коней,
И за руки взявшись, из царских палат
Хмельные бойцы восвояси спешат...
Сверкнуло над кручами пламя лучей,
И витязи сон отряхнули с очей.
Заль юный, кушак свой походный надев,
Предстал перед царем, как воинственный лев.
Просил он скорее дозволить ему
7580 В Забул воротиться к отцу своему.
Сказал он «Владыка, отправлюсь я в путь.
Меня потянуло на Сама взглянуть.
Престол целовал я, с тобой говорил,
Венец твой мне сердце навек озарил».
Но царь отвечает: «Останься со мной,
Ты завтра отправишься в город родной.
О нет, не к родителю тянет тебя, —
К царевне кабульской ты рвешься, любя».
Он вынести в поле велел барабан,
7590 Литавры, и трубы, и звонкий тимпан.
Ристалищем этим, сильны и ловки,
Помчались один за другим ездоки.
Любой, тетиву напрягая свою,
По цели стреляет, как будто в бою,
Несется, вращая копьем, булавой,
Стремясь отличиться в игре боевой.
А сверху глядит повелитель царей
На игры прославленных богатырей.
Таких удальцов не видал он нигде,
7600 Каким был Дестан в молодецкой езде.
Могучее дерево в поле росло.
Не мало над ним лет и зим протекло.
Заль в руки свой лук исполинский берет,
Назвав свое имя, несется вперед.
Прицелился — и удальцу удалось
Пронзить это древнее древо насквозь.
Потом за щиты копьеносцы взялись
И копья тяжелые вскинули ввысь.
Лук бросил могучий Дестан, и свое
7610 Из рук копьеносца он принял копье;
Пригнувшись, коня боевого хлестнул,
Искусством невиданным снова блеснул:
Мгновенно — задача была не проста —
Пробил он три выпуклых, крепких щита.
Спросил повелитель толпу храбрецов:
«Кто с витязем этим сразиться готов?
Нет равных ни луку его, ни копью —
Теперь вы его испытайте в бою».
За шуткою пряча досаду, стрелки,
7620 В сраженьях испытанные смельчаки,
Коней горяча, словно буря летят,
Сквозь пыль наконечники копий блестят.
Воители бьются один на один.
Хлестнул скакуна молодой исполин.
Избрав из прославленных богатырей
Такого, что прочих сильней и храбрей,
Стремительно Заль на него налетел;
Тот кинулся прочь, встречи с ним не хотел;
Но доблестный, тигром настигнув бойца,
7630 За пояс мгновенно схватив беглеца,
С седла его поднял и наземь швырнул.
Пронесс вокруг изумления гул.
Твердили воители, Заля хваля:
«Такого еще не видала земля».
Сказал Менучехр: «Под счастливой звездой
Пусть вечно живет богатырь молодой!
Пропал, кто решится на бой его звать!
Оденется в траур злосчастного мать.
Еще не рождалось могучих таких
7640 Не только у львов — у чудовищ морских.
Немалое счастье для Сама-бойца
Такого стране подарить удальца».
Заль слушал хвалы от владыки владык,
От каждого, кто именит и велик;
Они в светозарных палатах сошлись,
В венцах и в одеждах богатых сошлись.
И Заль награжден был владыкой земли
Столь щедро, что все в изумленье пришли:
Престол золотой, драгоценный Венец,
7650 Запястий, цепей, поясов и колец,
Сосудов из золота и серебра,
Рабов и коней и другого добра
Немало властитель ему даровал,
И Заль пред владыкою прах целовал.
[Ответное письмо Менучехра Саму]
Царь Саму посланье в ответ написал,
От сердца хвалу и привет написал:
«О витязь, которого славит молва,
Боец наделенный отвагою льва!
Не видело небо подобных тебе
7660 Лицом и умом, на пиру и в борьбе.
Заль, юный воитель, исполненный сил,
Пред кем бы и яростный тигр отступил,
Герой, украшенье меча и седла,
Чья слава пребудет навеки светла,
К нам прибыв, поведал желанье свое,
Заветную мысль, упованье свое.
Мольбам его внял я, он сердцем расцвел;
Я дней с ним счастливых немало провел.
Лев грозный, рожденный драконов разить,
7670 Кого, как не льва, мог на свет породить!
Я с радостным сердцем его проводил,
Храни его небо от вражеских сил!»
Сияя весельем, Заль отдал поклон
И вышел, средь витязей всех вознесен.
Шлет Саму он весть: «Знай, из царских хором
К тебе я спешу, осчастливлен царем.
Подарки везу, веселящие взор:
Трон кости слоновой, венец и убор».
Так в Саме-бойце закипела тут кровь,
7680 Что стал, седовласый, он юношей вновь.
И тотчас в Кабул верхового он шлет —
Поведать Мехрабу судьбы поворот:
Как Заля владыка царей обласкал,
Как витязь почет у великих снискал.
«Пусть только Дестан возвратится сюда,
Как должно, за дело возьмемся тогда».
И Сама посланец примчался в Кабул,
И радость в Мехраба той вестью вдохнул.
Так рад был правитель кабульской земли
7690 Стать родичем солнцу забульской земли,
Как если бы мертвый вновь душу обрел,
Иль старец бы юностью новой расцвел.
Сказителей и музыкантов созвав,
Средь множества праздничных игр и забав,
Мехраб пировал, от души веселясь
Вокруг — ликованье, и пенье, и пляс.
За мудрой Синдохт отрядил он послов
И много сказал ей приветливых слов.
«Подруга премудрая, — молвил он ей, —
7700 Рассеяна тьма светлой мыслью твоей.
Тобою с героем союз заключен,
Владыки приходят к нему на поклон.
Сумела ты делу начало найти,
Не хуже сумей до конца довести.
Всё сделай, как должно: тебе вручены
Венец, и престол, и богатства казны».
Синдохт, эти речи услышав, к себе
Вернулась и весть принесла Рудабе:
«С тобою увидится скоро твой друг,
7710 Избранник достойный, любимый супруг.
Коль дева и витязь скромны и чисты,
Задеть их не может рука клеветы.
Ты к цели упорно, стремительно шла,
И счастье желанное ты обрела».
Ей дочь отвечала: «О лучшая мать,
Достойная всюду хвалу пожинать!
Мой светоч, внемли славословьям моим:
Будь прах твоих ног изголовьем моим,
Тебя да минуют и сглаз и беда,
7720 Пусть радость живет в твоем сердце всегда!»
И с дочерью кончив беседу на том,
Синдохт обратилась к убранству хором.
Все блещет, и винные чаши горят,
В них мускус, и амбра, и роз аромат.
Широкий ковер разостлали сперва:
Рубины — цветы, изумруды — листва.
В другом было поле из жемчуга сплошь —
За капли воды эти перлы сочтешь.
Воздвигли в чертоге престол золотой;
7730 Работы китайской он был, не простой.
Искусной резьбою он радовал взор.
По золоту чистому хитрый узор
Лучился алмазами, лалами цвел;
То был драгоценный кеянский престол[244].
Как райская дева, к венцу убрана,
Сияя волшебной красою, одна
В покое, невеста как солнце блестит,
И доступ в покой тот укромный закрыт.
Украсился празднично Кабулистан,
7740 Блистателен, радужен, благоухан.
Идет вереница индийских слонов,
На каждом — богатый румийский покров.
Сидят на слонах музыканты, певцы;
Блистают на них золотые венцы.
Готовится встреча гостям дорогим.
Рабы в ожиданьи: приказано им
Разлить благовония щедрой рукой,
Вдоль улиц атлас разостлать дорогой,
Дождем золотым долгожданных встречать
7750 И свежими розами путь усыпать.
[Заль приезжает к Саму]
Заль мчится, меж тем, нетерпения полн,
Как птица в полете, как по морю челн,
И радостно каждый встречает его;
Везде ликованье, везде торжество.
Вот криком бойцов оглашается даль:
«Домой воротился наш доблестный Заль!».
Предстал пред могучим воителем сын,
В объятьях сжимает его исполин.
Заль низко потом поклонился бойцу;
7760 Что видел и слышал, поведал отцу.
Отец от рассказа душою расцвел
И радостно с Залем воссел на престол.
Рассказывать стал о Синдохт и, смеясь,
Подшучивал развеселившийся князь.
Сказал: «Из Кабула я принял посла.
То женщина (имя — Синдохт ей) была.
Вняв просьбе ее, произнес я обет,
Что впредь причинять ей не стану я бед:
Просила защиты, подмоги моей,
7770 И тут обо всем столковались мы с ней:
О свадьбе владыки забульской земли
С прекрасною девой кабульской земли;
О том, что мы в гости отправимся к ним
И жгучие горести их исцелим.
Сегодня гонец ею прислан с утра:
Мол, все приготовлено, ехать, пора.
Что ж ей и Мехрабу в ответ мне сказать,
Какие в посланье слова нанизать?»
Речь Сама услышав, от радости пьян,
7780 Лицом, словно яхонт, зарделся Дестан,
И вымолвил юноша пламенный тот:
«Коль светлый твой разум уместным сочтет,
О витязь, готовься дружину вести;
Мы, следом скача, потолкуем в пути».
На Заля взглянув, улыбнулся боец,
Он понял, что сердцем изныл удалец,
Что в мыслях его — дочь Мехраба одна,
Что темною ночью нет бедному сна.
Сам отдал приказ, и гремит барабан,
7790 Разобрана ставка, снимается стан,
И посланный мчится от богатыря —
Обрадовать вестью Мехраба-царя:
Сказать, что в пути первый витязь страны,
С ним доблестный Заль, и бойцы, и слоны.
К Мехрабу посланец примчался; что знал,
Что видел и слышал, он все рассказал.
От радости вспыхнул отец Рудабе,
Возносит он благодаренье судьбе,
Литаврам и трубам велит он играть.
7800 Нарядней фазана кабульская рать.
На спинах слонов, дух людской веселя,
Запели певцы... Стала раем земля.
Сверкая на солнце, в лазурь вознесен
Рой пурпурных, желтых, лиловых знамен.
Запела свирель, трубы грянули в лад,
Звенят бубенцы и кимвалы гремят.
Не сразу поймешь, то ли страшный здесь суд,
То ль шумно-веселое празднество тут.
Завидев храбрейшего мужа земли,
7810 Царь, пеший, к нему поспешил издали.
Обнялся с Мехрабом Забула глава,
От сердца промолвил привета слова.
А тот исполину хвалу воздает,
Восславлен и доблестный Заль в свой черед.
И снова Мехраб на спине скакуна —
Сказал бы, взошла над горою луна.
Венчает он Заля венцом золотым.
Алмазным сиянием сплошь залитым.
В пути вспоминая прошедшие дни,
7820 Ликуя, Кабула достигли они.
За трелью звенит серебристая трель,
Запели и лютня, и ченг, и свирель.
Сказал бы, и двери и стены поют. . .
Сияет страна, словно райский приют.
Игривы, ретивы, бегут скакуны,
И гривы их мускусом умащены.
Выходит Синдохт из дворцовых дверей,
И триста рабынь опоясанных с ней,
И каждой фиал ослепительный дан,
7830 И в каждом — жемчужины, мускус, шафран.
Бросали они самоцветы гостям.
Звучали хвалы и приветы гостям.
Кто в празднестве этом участвовал, тот
Ушел, осчастливлен обильем щедрот.
К Синдохт обратился с улыбкою Сам:
«Когда же невесту покажешь ты нам?».
Ответ был: «Достаточно ль дар твой велик,
Чтоб солнца увидеть сияющий лик?»
«Что хочешь, — воитель ей молвил в ответ, —
7840 Потребуй, отказа ни в чем тебе нет.
Венцом и престолом, казной и страной
Владеть вам отныне совместно со мной».
И входят они, ликованья полны,
В покой светозарный невесты-весны.
Сам, кинув на ту луноликую взгляд,
На месте застыл, изумленьем объят;
Как славить прекрасную деву, не знал,
И даже ее созерцать не дерзал.
С Мехрабом он тут заключил договор,
7850 Как людям обычай велит с давних пор.
На трон молодых усадили вдвоем,
Рубиновым их окропили дождем.
Венец лучезарный надет на царя;
Невесту алмазы венчают, горя.
Прислужники списки сокровищ внесли.
Что юной царевне в приданое шли.
Так много их было, что уху навряд
Под силу б их выслушать было подряд.
Дивился сокровищам Сам—великан
7860 Твердя в изумленьи: «О правый Йездан!»
Неделю потом веселились они,
За кубками сидя и ночи и дни.
Чертог озаренный сияет, как рай;
Ликуя шумит торжествующий край.
Пируют семь дней, семь ночей до зари
Дестан со своей сладкоустой пери.
Из княжьих палат во дворец перешли,
Еще три недели в пирах провели.
У входа построились витязи в ряд,
7870 На них золотые запястья горят.
В день месяца первый, клич кликнув бойцам,
В Систан с ними двинулся доблестный Сам.
Дестан, проводив исполина-вождя,
В весельи неделю еще проведя,
На спины верблюдов шатры взгромоздил,
Царевну-луну в паланкин усадил.
Синдохт и Мехраба с родными в Систан
Повез он, большой снарядов караван.
С весельем в сердцах и с обильем даров,
7880 Хвалу воздавая владыке миров,
Полуденной вскоре достигли земли,
Сияя, с зарею в столицу вошли[245].
Сам-витязь вином, пламеневшим, как лал,
Три дня и три ночи гостей угощал.
В Забуле оставив Синдохт с Рудабе,
Владыка в Кабул воротился к себе.
А Сам-богатырь бремя княжьих забот
Дестану вручил и собрался в поход.
К далекому Западу, в Кергесаран
7890 Свой стяг величавый помчал великан,
Сказав на прощанье: «Во власть мне даны
Там земли, да вряд ли они мне верны.
На них Менучехром дана с давних дней
Мне грамота — мол, управляй и владей.
Опасности в Мазендеране нас ждут,
Издревле там яростных дивов приют.
О, Заль мой, тебе я вверяю дворец,
И княжеский сан, и престол, и венец».
Единоударный повел рвою рать,
7900 С подругой Дестан продолжал пировать;
Возвел Рудабе на престол, и чело
Венцом ей украсил, сиявшим светло.
[СКАЗ О РОЖДЕНИИ РОСТЕМА] [246]
Шли дни, за неделей неделя текла,
Подобная тополю плод понесла.
Поникла царевна-весна от тревог,
От тяжких страданий в ней дух изнемог.
Томилась во мраке бессонных ночей,
Кровавые слезы лила из очей.
И все тяжелел с каждым днем ее стан,
7910 И розовый лик пожелтел, как шафран.
«Душа моя! — молвила мать Рудабе, —
Что сталось с тобой? Нет лица на тебе».
Ей дочь отвечала: «Я ночью и днем
Стенаю, расставшись с покоем и сном.
Столь тяжкая мука меня извела,
Что трупом живым ты б меня назвала.
Должно быть, конец мой подходит.
Страшусь: От бремени тяжкого не разрешусь».
Без сна, обливаясь потоками слез,
7920 Промучиться так до родин ей пришлось.
Казалось, растет в ее чреве скала,
Иль плод из железа она зачала.
Сознанье ушло от нее, наконец.
Наполнился воплем дестанов дворец.
Синдохт обезумевшей слышался крик;
Рвала она кудри, терзала свой лик.
Дестан удрученный, услышав едва,
Что сникла на тополе дивном листва,
Вошел, рокового исхода страшась,
7930 В тревоге ручьи проливая из глаз.
Вопили прислужницы над Рудабе
И волосы в горе рвали на себе.
Тут Заль поразмыслил, доверясь уму,
И это дало облегченье ему.
Припомнил Симорга, и добрую весть
Печальной Синдохт поспешил он принесть.
Внести повелел он жаровню в чертог
И кончик пера благодатного сжег.
Внезапная тьма облекла небосвод:
7940 Могучая птица слетела с высот,
Как туча, что ливень жемчужный струит, —
Усталое сердце отрадой поит.
Заль птице Симоргу отвесил поклон,
Ее славословил восторженно он.
Промолвил Симорг: «Этот страх отчего?
И влага у льва на глазах отчего?
Узнай, ясноликая эта заря
Родит тебе славного богатыря.
Пред доблестным тигры лизать будут прах,
7950 На темную тучу нагонит он страх.
Лишь крикнет он, лютому тигру грозя,
Тот рухнет, в бессилии лапы грызя.
Лишь плечи могучие он развернет,
Лишь палицей тяжкою грозно взмахнет —
Сильнейших бойцов, сокрушающих сталь,
Мгновенно повергнет он в страх и печаль;
В совете мужей прозорливый, как Сам,
На поле борьбы угрожающий львам,
Метать будет копья, как перышки, он,
7960 Осанкой — как тополь, а силой — как слон.
На свет не как все он родится, но так,
Как будет угодно Подателю благ.
Вели принести закаленный клинок,
Пусть опытный делу поможет знаток.
Красавицу крепким вином опьяни,
От сердца тревогу и грусть отгони.
Увидишь, как ловко рука мудреца
Сумеет извлечь удальца из ларца.
Он чрево прекрасной ножом рассечет,
7970 Но боль до сознанья ее не дойдёт.
Исторгнет он львенка, и кровь под рукой
Из раны горячею хлынет рекой.
И то, что разрезал, он тут же зашьет,
И сбросишь ты страха и горести гнет.
Взяв мускус, его истолки в молоке
С травой, что тебе укажу; в холодке
Просушишь ту смесь и получишь бальзам.
Им бережно рану омоешь ты сам,
И после пером прикоснешься ты к ней —
7980 Её исцелишь благодатью моей.
Ты должен безмерно душой ликовать,
Йездану усердно хвалу воздавать.
Он сына такого тебе ниспошлет,
Который прославит свой доблестный род.
Будь счастлив и сердце избавь от забот!
Твой отпрыск немало плодов принесет».
Перо обронил он и к сумраку туч
Стремительно взмыл, величав и могуч.
Заль чудо-перо подобрать поспешил
7990 И все по совету Симорга свершил.
Меж тем, все вокруг в ожиданьи стоят,
И каждый трепещет, боязнью объят.
И кровь проливает Синдохт из очей:
Когда же ножом извлекали детей?
Явился искуснейший в деле своем
Мобед; Рудабе одурманив вином,
Он чрево прекрасной рассек без труда,
Ребенка слегка повернул и, вреда
Ему не доставив, наружу извлек,
8000 Кто чуду такому поверить бы мог[247]?
Дитя-великан появилось на свет,
Красой затмевавшее солнечный свет.
И каждый глядит на него, изумлен:
Где видан ребенок, могучий, как слон?
Часы, между тем, за часами летят,
Спит крепко красавица сутки подряд.
Сеченье искусно зашили, на шрам
Затем наложили целебный бальзам,
8010 Но вот пробудилась от тяжкого сна
И взоры к Синдохт обратила она.
Все стали Йездану хвалу воздавать.
Дарами осыпана юная мать;
Младенца несут показать ей скорей,
И словно раскинулось небо над ней.
Он лилий белее, румянее роз,
Он за день, как за год иные, подрос.
И мать просияла, дитя увидав,
Величье державное в нем угадав.
«Конец, — прошептала, — страданиям всем...»
8020 И тотчас младенца назвали Ростем[248].
Шыот куклу атласную, ростом с него[249],
С рожденного только что львенка того.
Собольими шкурками корпус набит,
И солнце у куклы на лбу, и Нахид.
И львиные когти у ней, и дракон
На реющем знамени изображен.
Под мышкой торчит боевое копье,
В руках булава и узда у нее.
И вот уже кукла в седле, и за ней
8030 Несутся бойцы, погоняя коней.
Когда же все эти дела чередой
Свершились, как учит обычай седой,
С известьем посланец помчался вперед;
Дирхемами весь оделили народ.
И куклу, искусного мастера труд,
В Забул к именитому деду везут.
И розы на празднествах шумных цвели[250]
С кабульской земли до забульской земли.
На каждой поляне свирель и вино,
8040 Поющих и пляшущих всюду полно.
Свет счастья Мехрабу чело озарил,
В Кабуле он всех бедняков одарил.
От края до края забульской страны
Все праздник справляют при звоне струны,
Не глядя, кто званием мал, кто высок,
Едины, как с крепкой основой уток.
Вот куклу-дитя, наконец, довезли
И к витязю Саму в хоромы внесли.
Увидев, какой ему дар привезен,
8050 Герой встрепенулся, восторгом пронзен.
Воскликнул он, радостью душу пьяня:
«Видать по всему, что младенец в меня!
Будь кукле по пояс, и то, ведь, до туч
Дотянется он — беспримерно могуч».
Он вестника радости тут же призвал
И золота груду ему даровал.
Литавры у княжьего замка гремят,
И площадь одета в роскошный наряд,
И сплошь разукрашен, как витязь велел,
8060 Сегсара и Мазендерана предел.
На руде играют для богатыря,
Пирует он, бедным дирхемы даря.
Неделе веселья подходит конец,
Прославленным витязем призван писец
И вот уж ответ на посланье готов,
Украшен узорами райских цветов.
Вначале хвалу исполин воздаёт
Творцу за счастливый судьбы поворот;
Восславлен им далее Заль молодой,
8070 Разящий булатом, копьем, булавой;
И нового славит он богатыря,
В ком доблесть героя, величье царя.
Писал он: «Смотри, не жалея труда,
Младенца лелей, охраняй от вреда!
Как часто, бывало, и ночью, и днем
Владыку миров я молил об одном —
Чтоб внука могучего, деду подстать,
Глазам моим старым он дал увидать.
Отныне мы плечи расправим, мой сын,
8080 Да будет судьбою храним исполин!»
Несется гонец, конь его быстроног,
И вот пред гонцом уж Дестана чертог.
Поведав, как встретил его великан,
Какою был радостью тот осиян,
Он тотчас Дестану посланье вручил,
Седого отца назиданье вручил.
От этих сердечных родительских слов
Стал радостен Заль, предводитель бойцов.
В нем сердца восторг еще больше возрос,
8090 Он гордую голову к небу вознес.
Как былоначертано, жизнь потекла.
Над тайнами рока рассеялась мгла.
Рос львенок — подстать дивной силе его
Десяток кормилиц кормили его.
Как время пришло от груди отлучать
И к мясу и хлебу его приучать,
Стал блюд пятьдесят поедать он зараз.
На те чудеса все глядели, дивясь.
Годам к девяти, словно мощный платан,
8100 Поднялся Ростем. Строен был его стан,
Глаза — словно звезды, сияло чело,
И это сияние взоры влекло.
Осанкою, разумом, ликом своим
Казался он витязем Самом самим.
[САМ ПРИЕЗЖАЕТ ПОВИДАТЬ РОСТЕМА]
Сам-витязь услышал, душой просветлев,
Что стал сын Дестана могучим, как лев.
Все чуду такому дивились не зря:
Кто видывал отрока-богатыря?
И дрогнуло сердце у Сама: ему
8110 Хотелось на внука взглянуть самому.
Назначил над войском главу, и скорей —
В дорогу с почетной дружиной своей.
Любовь его к сыну Дестана влекла,
До самого Забулистана влекла.
И вот уж литавры в Забуле гремят,
От рати несметной земля — что агат.
Навстречу желанному гостю вдвоём
Заль вышел с Мехрабом, кабульским царем.
Бряцание меди, и грохот, и гам,
8120 Возносятся клики бойцов к облакам,
От кряжа до кряжа раскинулся строй,
Сомкнулись щиты желто-красной стеной.
Взревели слоны, ржанья конского звук
Разнесся на многие версты вокруг.
Шагает пред войском воинственный слон,
На нем золотой возвышается трон.
На троне сидит молодой великан —
Сын Заля, — осанкою — стройный платан,
В богатом венце, в золотом кушаке,
8130 С мечом, со щитом, с добрым луком в руке.
Увидев могучего издалека,
Сам-витязь рядами построил войска.
Дестан и кабульской земли властелин,
Мужи, убеленные снегом седин,
Все спешились и, поклонясь до земли,
Воителю Саму хвалу вознесли.
От счастья у Сама лицо — что заря:
Увидел он отрока-богатыря,
Увидел он львенка верхом на слоне.
8140 Любуется витязь, и сердце — в огне.
Слона подвели к нему ближе; юнца
Он видит на троне, в сияньи венца.
Торжественно внука приветствует дед:
«О лев, о воитель, живи много лет!»
И низко склонившись пред дедом затем,
Такое сказал ему слово Ростем:
«Храбрейший из витязей, славься весь век!
Ты — ствол исполинский, а я — твой побег.
Знай, раб твой покорный томится тоской,
8150 Не создан я негу вкушать и покой.
Броню бы мне, шлем, да седло, да коня!
Все мнится, оружье в руках у меня.
Врагов ненавистных крушить я готов
Во славу святого Владыки миров.
В тебя, богатырь, удался я лицом,
Быть может, таким же взрасту удальцом».
Затем он сошел со слона и, склонясь,
Приблизился. Взял его за руку князь
И долго в глаза и чело целовал,
8160 И каждый, взирая на них, ликовал.
Помчались, беседу ведя, в Гурабе[251],
Веселья полны, благодарны судьбе.
Блистает в чертоге престол золотой,
И витязи шумной пируют толпой.
Уж месяц истек — все пиры, что ни день,
Забыты труды, всюду нега и лень.
Повсюду звенит упоительный руд,
Повсюду ликуют и песни поют.
И справа на троне — могучий Дестан,
8170 А слева — Ростем, молодой великан.
Меж ними — Сам-витязь, и вьется пестро
На княжьей короне Хомая перо.
Могучим Ростемом любуется дед,
Твердя в восхищеньи: «Великий Изед!»
Невиданный рост; как стальная, рука,
Стан тонок и строен, а грудь широка.
И сила верблюжья в могучих ногах.
Как яростный лев, нагоняет он страх.
Таков он по силе, величью, уму,
8180 Что в мире не сыщешь подобных ему.
Сам Залю сказал: «Поколений за сто
Я думаю, вспомнить не мог бы никто,
Чтоб вынуть сумели из чрева дитя,
Спасение в средстве таком обретя.
Симоргу стократно хвала и привет!
Сей путь указал ему правый Изед.
Мы будем вином опьяняться всю ночь,—
Печали с вином состязаться невмочь.
8190 Все движется в мире, таков уж закон:
Кто старится, кто лишь сегодня рожден».
И пили они, опьяняясь вином,
Сперва за Ростема, за Заля потом.
Столь много напитков Мехраб проглотил,
Что первым из первых себя ощутил.
Он молвил: «Кто в мире внушил бы мне страх!
Что Заль мне, что Сам, что владетельный шах!
Ростем, да скакун мой, да меч мне оплот —
Тень бросить и туча на нас не дерзнет.
8200 Зохаков закон снова мир покорит.
Пыль черная встанет от конских копыт[252].
Оружье ковать для Ростема велю!»
Такие он речи держал во хмелю.
Смеялись и Сам и Дестан без конца,
Мехрабовой шуткой потешив сердца.
Настал новый месяц, и Сам поутру[253]
С дружиной вернуться решил ко двору.
Собрался воитель и в путь поспешил,
Дестан с ним один переход совершил.
И деду, спешившему в Мазендеран,
8210 В печали сопутствовал внук-великан.
Сам вымолвил Залю: «О, сын дорогой!
Ты жизнью живи справедливой, благой.
Ищи не богатств, а познанья, будь прям,
Душой неподкупной будь верен царям,
Стезею Йездана, что вечно светла,
Ты шествуй, чуждаясь неправды и зла.
К сокровищам бренным не должен ты льнуть;
И в сердце таким же, как с виду, ты будь.
Заветы отцовские свято блюди,
8220 С дороги прямой никогда не сходи.
А я уже чую, скажу не тая:
Срок близится, жизнь догорает моя».
Тут крепко он обнял детей дорогих,
Прося не забыть наставлений благих.
В поход призывая, забили в кимвал,
Трубач на спине у слона заиграл.
На запад направился доблестный муж,
Мудрец, наделенный чистейшей из душ.
Два чада с ним, слезы струя из очей,
8230 В груди сберегая всю мудрость речей,
Шли три перехода. Тут, с ними простясь,
Свой путь продолжал опечаленный князь.
А сын его, доблестью славный Дестан,
С дружиной вернулся в родимый Систан.
С могучим Ростемом с утра до темна
Блаженствовал витязь за чашей вина.
[РОСТЕМ УБИВАЕТ БЕЛОГО СЛОНА[254]]
Однажды в саду благовонном своем,
Сидели они, услаждаясь вином,
И с ними под звон сладкозвучной струны
8240 Друзья пировали, веселья полны.
Немало вина, что сверкало, как лал,
Испили; у каждого мозг запылал.
Заль-Зер дал Ростему отцовский совет:
«Мой сын именитый, очей моих свет!
Своих удальцов награди пощедрей,
Обрадуй подарками богатырей».
Коней аравийских им роздал Ростем,
Уборы и золото дал, и затем
Окончилось пиршество. Рады дарам,
8250 Мужи-удальцы разошлись по дворам.
Обычаю следуя, князь на покой
Тотчас удалился в ночной свой покой.
И следом Могучий, вином опьянен,
Направился к ложу, где ждал его сон.
Улегся, и сон его тотчас настиг.
Внезапно у двери послышался крик.
Кричали, что с цепи сорвавшийся вдруг,
Слон княжеский все сокрушает вокруг.
Могучий, при этом известьи вскипев,
8260 В груди ощущая воинственный гнев,
Тяжелую палицу деда рывком
Схватил и к дверям устремился бегом.
Сбежались прислужники богатыря
И путь заградили ему, говоря:
«Коль двери откроем, что скажет нам князь?
Ведь нас покарает он всех, осердясь.
Средь ночи сорвавшийся буйствует зверь;
Пойми, выходить неразумно теперь».
Взъярился Могучий при слове таком.
8270 Сказавшего так он хватил кулаком,
Что с плеч голова покатилась, как мяч.
Тогда на других напустился силач.
В смятении все разбежались пред ним;
Он к выходу ринулся, неукротим,
И, палицей стукнув, засов раздробил —
Под силу подобный удар ему был.
Как вихрь он летит, на плече булава,
От ярого гнева в огне голова.
Навстречу громадине бег устремил,
8280 Грозя и рыча, как рокочущий Нил.
Горою ревущею слон наступал,
Прах темный, казалось, под ним закипал.
Увидел своих именитых стрелков,
Бегущих, как овцы от стаи волков,
И гневом, как яростный лев, обуян,
Бестрепетно встретил слона великан.
Едва увидал его бешеный слон,
Горой на противника ринулся он,
И хобот поднялся, готовый крушить,
8290 Отважного отрока жизни лишить.
Гиганта-слона изо всех своих сил
Ростем булавою огромной хватил:
Гора Бисотун задрожала пред ним[255].
Поверженный мощным ударом одним
Слон рухнул и замер, а юный храбрец
Довольный вернулся к себе во дворец.
Уснул он. Когда на востоке возник,
Что образ красавицы, солнечный лик,
До Заля дошло, что Ростемом сражен
8300 Огромный охваченный бешенством слон,
Что дедовской палицы взмахом одним
Могучий мгновенно расправился с ним.
Услышал про это Забула глава,
В ответ говорит он такие слова:
«Жаль, право, слона! Как бушующий Нил,
Бывало, в сраженьях он грозно трубил.
Не раз он враждебную целую рать
Одним нападеньем умел разметать.
Всегда побеждал он в боях — между тем,
8310 Его опрокинул сын Заля, Ростем».
И первенца после призвав своего,
Погладил он голову, плечи его
И молвил: «О львенок, исполненный сил!
Ты грозные когти уже отрастил.
Уже отличился отвагой в борьбе.
Не сыщется в мире подобных тебе.
Пока не прославлен ты громкой молвой, —
Тая от противников замысел свой,
За кровь Неримана спеши отомстить,
8320 К вершинам Сепенда скачи во всю прыть[256].
Твердыню увидишь там: даже орла
Ростем убивает белого слона. С литографированного бомбейского издания поэмы.
Над нею поднять не могли бы крыла.
В четыре фарсанга она вышиной,
В четыре фарсанга она шириной.
Хранит эта крепость границы страны,
Где рощи душисты и нивы тучны.
Там залежи злата, обильна вода,
Там жителей много, несчетны стада.
Все злаки взрастил там Владыка миров,
8330 Там самых искусных найдешь мастеров.
Но крепость имеет единственный вход:
Ворота огромные, как небосвод.
Боец Нериман, первый в мире герой[257],
По воле царя Феридуна войной
На эту твердыню когда-то пошел;
На подступах к ней он погибель нашел.
Уловки и хитрости в ход он пускал,
Сражаясь и ночью и днем среди скал.
И долгие годы тянулась война.
8340 Дружиною витязя осаждена,
Не дрогнула крепость, ему не сдалась,
И сброшенным камнем повержен был князь.
Лишенная военачальника рать,
Скорбя, повернула от крепости вспять.
Войною насытясь, пал доблестный лев.
Сам-витязь, от вести такой побледнев,
Стал биться в печали, крича и стеня.
Рыдал он все горестней день ото дня.
Семь траурных дней миновало, и вот
8350 С бойцами собрался он в дальний поход;
Пустыней, вдали от проезжих путей,
К Сепенду помчался с дружиной своей.
Шли годы, немалый там пробыл он срок,
Но в сердце твердыни проникнуть не смог.
Она не сдалась, не открыла ворот.
В довольстве жил горного края народ.
В припасах бойцы не нуждались ничуть,
Хоть годы к твердыне отрезан был путь.
Вернулся надежду утративший Сам,
8360 За гибель отца не отмстивший врагам.
Теперь, сын мой милый, настал твой черед,
Уловку пустить тебе надобно в ход.
Туда, в добрый час, караван бы пригнать,
Да так, чтоб дозорным тебя не узнать.
Проникнуть бы только в Сепенд, и тогда
Нечистых с земли ты сметешь без следа.
Пока еще слух не гремит о тебе,
Быть может, победу одержишь в борьбе».
Ответил Ростем: «Повинуюсь, иду.
8370 Я живо сумею поправить беду»
Заль молвил ему: «Сын, внимателен будь,
Все сделать, как я говорю, не забудь.
Готовь караван и к Сепенду пустись,
А сам караванщиком ты нарядись.
Верблюдов навьючь только солью одной,
А имя свое знаменитое скрой.
Соль в городе том — самый ценный предмет,
Товара желанней для жителей нет.
Уж многие годы их пища пресна:
8380 Из крепости выход закрыт издавна.
Навстречу к вам, соли завидя вьюки,
И юноши ринутся, и старики».
Речь выслушав, отрок воинственный тот
Готовиться начал в далекий поход.
Взяв палицу, Сама могучего внук
Вложил ее в солью наполненный вьюк.
С собою он взял приближенных бойцов,
Недремлющих, быстрых умом храбрецов.
В поклаже укрыл снаряженье мужей
8390 Могучий Ростем, украшенье мужей;
И, весел, коварному замыслу рад, —
Помчался, ведя за собою отряд.
Дозорный, прибывших заметив с высот,
К начальнику рати поспешно идет
И молвит: «Подходит сюда караван,
Везущий купцов из неведомых стран.
Коль спросишь меня, чем они гружены —
Сдается, вьюки у них солью полны».
Начальник послал одного из бойцов
8400 Главу каравана найти средь купцов.
Велел он гонцу: «Что везут, расспроси,
И тотчас известье сюда принеси».
И тот полетел, как степной ураган,
Туда, где Ростема стоял караван.
«Вожатый! — сказал он, примчась впопыхах, —
Какие товары везешь во вьюках?
К начальнику рати помчусь я сейчас,
Вернувшись, тебе передам я приказ».
На это ему отвечал исполин:
8410 «Вождю именитому здешних дружин
От нашего имени молвить изволь:
Вся наша поклажа — одна только соль».
И в крепость дозорный летит во всю прыть.
Спешит он начальнику так доложить:
«Знай, тот караван, что стоит под стеной,
О витязь, гружен только солью одной».
Вождь крепости с места вскочил, торжество
В тот миг отразилось на лике его.
Велел отодвинуть тяжелый засов,
8420 В ворота впустить караван и купцов.
Воинственный витязь услышал о том
И начал по горной дороге подъем.
Когда с караваном достиг он ворот,
Тотчас же навстречу сбежался народ.
Представ пред начальником, витязь сперва
Ему и вельможам привета слова
Промолвил и тут же поднес ему в дар
Отличную соль, драгоценный товар.
Ответил начальник: «Живи много лет,
8430 Блистая, как месяц, как солнечный свет!
Приму с благодарностью дар твоих рук,
О добрый юнец из йездановых слуг!»
Пришел на базар богатырь молодой,
За витязем — весь караван чередой.
Тотчас же за солью народ набежал;
Мужчины и жены спешат, стар и мал;
Кто деньги несет, кто убор дорогой,
И с солью идут беззаботно домой.
День гаснет, ночная надвинулась темь;
8440 В бой двинул мужей быстрорукий Ростем;
Во мраке к начальнику крепости вмиг
С бойцами своими Могучий проник.
С вождем именитым, опомнясь едва,
Вступил в поединок твердыни глава.
Могучий ударил его булавой —
И тот словно в землю ушел головой.
Все войско сбежалось,услышав о том,
И ринулось в жаркую битву с врагом.
И мрак от булатных клинков запылал,
8450 От крови земля пламенела, как лал.
Багряные волны струились, горя, —
Сказал бы, низринулась с неба заря.
Могучий арканом, мечом, булавой
Бойца за бойцом разлучал с головой.
Когда же луч солнца, сверкнув, осветил
Весь мир от земли до небесных светил —
Немой и безлюдною крепость была,
Лишь грудами всюду валялись тела.
Воители все уголки обошли
8460 И всех перебили, кого ни нашли.
Могучий, шагая укромной тропой,
Гранитный чертог увидал пред собой.
Вход в здание наглухо зодчий закрыл —
Железную дверь для того смастерил.
Ту дверь исполин булавой сокрушил,
Проникнуть в заветный чертог поспешил,
Высокие своды увидел, и что ж
Под ними? — Динары блестящие сплошь.
Ростем, устремив на сокровища взгляд,
8470 Губу прикусил, изумленьем объят[258].
Сказал он своим именитым бойцам:
«Кто мог бы поверить таким чудесам!
Уже в рудниках, верно, золота нет,
Исчез в океанах, знать, жемчуга след.
Сносили, как видно, все клады сюда,
Копили их здесь за годами года».
[РОСТЕМ ПИШЕТ ЗАЛЮ О СВОЕЙ ПОБЕДЕ]
Посланье отцу написал он затем;
О подвигах ратных поведал Ростем.
Вначале он славил Творца бытия,
8480 Кем создано все: муравей и змея,
Кем создано солнце, Нахид и Бехрам,
И небо — вселенной торжественный храм,
«Да благословен будет доблестный вождь
Забула, воитель, чья сказочна мощь,
Дружины иранской надежда, оплот,
Кто стяг кавеянский победно несет,
Кто сносит венцы и престолы дарит,
Чья воля, как месяц и солнце, царит!
Покорный веленью, достиг я высот
8490 Сепенда, что сводом небесным встает.
Едва под горою я сделал привал,
Начальник твердыни привет мне прислал.
Вошел я, начальника волей храним:
Все вышло, согласно желаньям моим.
А ночью напал я с дружиной моей
И в крепости всех уничтожил мужей.
Кто ранен, кто мертв, кто уполз еле жив,
Доспехи свои на пути обронив.
Знай, тысяч пятьсот здесь херваров добра[259],
8500 И золота чистого, и серебра,
Одежд и ковров — коли счет подвести
Богатствам, что можно с собой увезти.
А сколько всего здесь — никто не сочтет.
Веди хоть недели и месяцы счет.
Я жду повеления богатыря.
Да славишься, радостью дух озаря!»
И вихрем гонец полетел в тот же час,
Дестану доставить письмо торопясь.
Послание князь прочитал и сказал:
8510 «Воистину, славный достоин похвал!»
Казалось, вновь сделался юным Дестан —
Такою он радостью был осиян.
И вот уж ответ на посланье готов,
Немало в нем сказано ласковых слов.
Вначале восславив вселенной Творца,
Писал он: «Письмо молодого бойца,
Бодрящее дух, в добрый час я прочел
И ожил от радости, сердцем расцвел.
Тебе подобает величие дел;
8520 Дитя, — ты, как муж, отличиться успел.
Душе Неримана принес ты покой,
Врагам отомстив богатырской рукой.
Уж тысяча тысяч верблюдов в пути,
Ты сможешь добычу свою привезти.
Письмо прочитав, сразу двигайся в путь:
Разлука тоскою стесняет мне грудь.
Ты самую ценную кладь отбери,
А крепость в отмщенье сожги, разори».
Лишь это письмо до Ростема дошло,
8530 Прочел он и на сердце стало светло.
Все лучшее он отобрал из венцов,
Из перстней, оружья, щитов, поясов;
Пылающий яхонт, лучистый алмаз,
Расписанный дивно китайский атлас —
Все к Залю велел отвезти великан,
И тут же отправился в путь караван.
В Сепенде пожарище витязь разжег
Такое, что дым небеса заволок.
И вихрем в родные пределы затем
8540 Помчался, ликуя, могучий Ростем.
Властитель Нимруза, узнав той порой,
Что едет к нему светоносный герой,
Построил для встречи забульскую рать
И улицы пышно велел разубрать.
Взревела труба, загремел барабан,
Забили в литавры, в индийский тимпан,
И вот к властелину Забула в чертог
Ростем-победитель ступил на порог.
Почтить Рудабе поспешил он сперва,
8550 Простершись, ей молвил привета слова.
Осыпав его поцелуями, мать
Герою хвалу поспешила воздать.
Заль милого сына в объятиях сжал,
И тут же народ одарить приказал.
[ПОСЛАНИЕ ЗАЛЯ САМУ]
Прославленный витязь отправил гонца
С отрадною вестью для Сама-бойца;
В посланьи о многом поведал ему,
Гремевшему доблестью мужу тому.
Посланца дарами он щедро снабдил
8560 И в путь к исполину его проводил.
Сам, сын Неримана, те строки прочел,
И лик его маковым цветом расцвел.
В чертоге сияющем, словно весна,
Для шумного пиршества знать собрана.
Гонцу он убор дорогой подарил,
С ним долго о внуке своем говорил
И сыну ответ приготовил затем.
Вначале его славословил, затем
Такие писал он Дестану слова:
8570 «Могу ль удивляться бесстрашию льва?
Пусть львенка, едва он родился на свет,
К себе унесет хитроумный мобед —
Не сможет он вырастить львенка ручным;
Прорезались зубы — не справишься с ним.
Он матери-львицы не видел сосца,
И все же он верен природе отца.
Коль смел и отважен Ростем-великан —
Не диво: отец его — храбрый Дестан.
Лишь станет он мужем, для славы созрев,
8580 Просить его помощи станет и лев».
Послание Сама скрепила печать,
Велел он к Дестану послание, мчать.
И вскоре Заль-Зер пред собою гонца
Увидел с письмом и дарами отца.
Заль радостным оком на сына глядел —
Везде прогремевшего доблестью дел.
Его созерцала, надежды полна,
Вселенная вся, от земли до Овна.
Теперь о царе Менучехре скажу,
8590 О добром властителе слово сложу.
Узнай, что услышал от мудрого сын,
Пред тем как скончался благой властелин.
[НАСТАВЛЕНИЕ МЕНУЧЕХРА СЫНУ]
Как только сто двадцать минуло отцу,
Почуяв, что путь его близок к концу,
Седых звездочетов к себе он призвал,
О доле своей погадать приказал.
Загадку жрецам удалось разрешить:
Недолго осталось властителю жить.
И горький тот час предсказали они,
8600 Когда догорят повелителя дни.
«Тебя уж в обитель иную зовут;
В мир лучший, в сияющий горний приют
Тебя призывает всевидящий Бог.
Не должно застигнутым смертью врасплох,
Всего, что хотел, не свершив на земле,
Тебе, властелину, сокрыться во мгле».
И царь изменил, помня речь мудреца,
И жизни уклад и убранство дворца.
Собрал он бойцов и мобедов своих,
8610 О помыслах тайных поведав своих,
И старшему из сыновей дорогих —
Новзеру дал много советов благих.
«Что царский престол? Суета из сует.
Обманчив венца ослепительный свет.
Сто двадцать на свете я прожил годов,
Борьбы не страшась, не чуждаясь трудов.
Знавал и победы, и счастье знавал,
Без страха на битву врага вызывал.
Я, свято блюдя Феридуна завет,
8620 В добро превратил все сулившее вред.
Сельм с Туром убиты моею рукой,
Мной духу Иреджа дарован покой.
Очистил я землю от злобных людей,
Немало возвел городов, крепостей —
И что ж? Словно не жил я ввек на земле,
Счет прошлый забыт и утерян во мгле.
Коль горьким плодам созревать суждено
На древе, к чему же родится оно?..
Прожив свои годы в трудах и борьбе,
8630 Престол и казну я вручаю тебе.
Как мне Феридун, отдаю тебе свой,
Столь многих венчавший венец родовой.
Все блага вкусишь, но лишишься всего,
В мир лучший уйдешь ты из мира сего.
Так пусть быстротечные дни твои след
Оставят в народе на множество лет.
Тебя да почтит поколений хвала;
Наследие добрых — благие дела.
Свет веры тобой да не будет забыт;
8640 В ком чистое сердце, тот веру хранит.
Больших перемен приближается срок;
В мир явится праведный некий пророк[260].
Он к людям придет из восточной земли,
Ты против него свое войско не шли.
Последуй за ним — знай, изедов тот путь,
К ученью тому должно сердцем прильнуть.
Сын, шествуй стезею Йездана всегда,
Добро от Него, без Него же — беда.
Туранец затем на тебя нападет[261],
8650 На древний наш трон неприятель взойдет.
Нелегкие, сын, времена пред тобой,
То быть тебе волком, то слабой овцой.
От сына Пешенга натерпишься бед[262],
Покажется тесным тебе белый свет.
Сын милый, спеши, лишь надвинется рать,
У Заля и Сама подмоги искать,
У отпрыска Заля: он мощным возрос
И роду великому славу принес.
Врагам за тебя богатырь отомстит,
8660 Стон встанет в Туране от стука копыт».
Так молвив, глаза увлажнил властелин,
С ним горько рыдал молодой его сын.
Неведом был царскому телу недуг,
И тихо, предсмертных не чувствуя мук,
Владыка лишь горестный вздох испустил
И ясные очи навеки смежил.
Скончался прославленный, доблестный шах,
Но сказ сохранит его память в веках[263].
[НОВЗЕР[264]] [Царствование длилось семь лет]
Оплакан был шахом Новзером отец,
8670 И шах до Кейвана вознес свой венец;
Он двери дворца пред гостями открыл
И золотом войско свое одарил.
Знатнейшие люди Ирана, пред ним
Во прахе простершись один за другим,
Сказали: «Властитель, тебе мы верны;
К тебе мы любви беззаветной полны».
Но так лишь недолгое время прошло,
Затмило рассудок властителю зло.
Край стоном стонал от новзеровых дел,
При новом царе мир от скорби седел.
Отцовский обычай поправ, притеснять
Он стал и мобедов и славную рать.
8680 Закон человечности был им презрен[265],
Корысти и золоту сдался он в плен.
Владелец поместья воителем стал,
Воитель — венца и престола искал.
Увидя, что край возмущенный в огне,
Что вопль всенародный поднялся в стране,
Неправедный царь устрашился, и вот
8690 Послание витязю Саму он шлет.
В Сегсаре тогда исполин пребывал.
Властитель вначале хвалу воздавал
«Тому, Кто возжег и Бахрам и Нахид;
Он жизнь и слону и букашке дарит;
Простым и мудреным равно овладел;
Нет легких и трудных для мудрого дел.
Ведь все пред могуществом божьим равно,
Будь самым большим или малым оно.
Луну сотворивший, зажегший зарю
8700 Да благоволит к Менучехру-царю,
Тому, кто в наследье оставил мне трон,
Чьим благостным светом венец озарен.
Приветствую Сама, героя страны,
Который и тучу бы сверг с вышины,
Того благородного богатыря,
Народу угодного богатыря!
Да будет он век от печалей далек,
Свободен душой от забот и тревог.
Давно для тебя, о великий боец,
8710 Не тайна, что мой венценосный отец,
Доколе ресниц навсегда не смежил,
О Саме, о сыне Нейрема, твердил.
И я уповаю теперь на него:
Он, доблестный, любит царя своего;
При шахе он краю защитником был[266],
Венцу и престолу сиянье дарил;
А ныне пылает крамолою край,
И чаша несчастий полна через край.
Коль ты не пойдешь против бедствий и зол,
8720 Из мира исчезнет сей древний престол».
Прочел эти строки воитель седой
И тяжко вздохнул, удрученный бедой.
Едва петухи возвестили восход,
Призвал барабан громозвучный в поход,
И двинулась кергесаранская рать,
Безбрежна, как моря зеленого гладь.
Едва до Ирана успела дойти,
Знатнейшие встретили рать на пути.
Все, спешены, к Саму один за другим
8730 Подходят и долго беседуют с ним.
Ведут они речь о царе молодом,
Седому бойцу повествуют о том,
Что царь со стези Менучехра свернуть
Решился, вступив на неправедный путь.
Что губит страну самовластье царя,
Что мглой застилается счастье царя.
«Он мудрый завет перестал соблюдать,
Утратил Божественную благодать.
Нельзя ли, чтоб Сам, чистый сердцем герой,
8740 Воссел на престол этой смутной порой?
В лучах его правды весь мир бы расцвел.
Ему — весь Иран и иранский престол,
Мы ж, верные слуги, склонимся пред ним,
Навек ему душу в залог отдадим».
Сам-витязь на это промолвил в ответ:
«Вовеки того не одобрит Изед.
На троне — носящий кушак золотой,
Из рода кеянского царь молодой,
А я самовластно престол захвачу?..
8750 Как можно! И слышать о том не хочу.
Кто в мире б такое задумать посмел,
Из знатных кто б дерзости столько имел?
Да если бы дочь Менучехра-царя
В короне воссела, престол озаря,
И то я лежал бы во прахе пред ней,
Была бы отрадой она для очей.
С отцовского, знаю, сошел он пути,
Но скоро должно это время пройти.
Найдется ль на свете столь ржавый металл,
8760 Чтоб, если потрудишься, не заблистал?
Новзеру я Божью верну благодать,
Вновь станут народы его почитать.
Земля, где ступал Менучехр, — мой дворец,
Новзерова след скакуна — мой венец.
С ним речь поведу я, наставлю его,
Ко благу и счастью направлю его.
От сказанных слов отрекитесь теперь,
И в верности шаху клянитесь теперь.
Владыка небесный тогда вас простит
8770 И шах обласкает, не помня обид.
Не то в этом мире гнев царский вас ждет,
А в мире загробном вас пламень сожжет».
Во всем, что сказали, раскаялись тут
Мужи, и владыке присягу несут.
По воле бойца, от благих его дел
Мир дряхлый невиданно помолодел.
К владыке державы направился князь
И прах целовал, у престола склонясь.
Новзер торопливо покинул престол,
8780 Объятья раскрыв, к исполину сошел
И рядом с собою его усадил,
И милостью царской героя почтил.
Пируют при сладостном звоне струны
Бойцы во дворце властелина страны.
Мужи родовитые с разных сторон
Покорно к Новзеру идут на поклон,
Шлет город за городом щедрую дань —
Страшит их могучего витязя длань.
И царь, утвердясь на престоле опять,
8790 Стал мудро державой своей управлять.
Представ пред Новзером, великий боец
Просил дозволенья покинуть дворец;
Ларец наставлений раскрыл пред царем,
Ему в поученье поведал о том,
Как век Феридуна, Хушенга прошел;
Как жил Менучехр, украшавший престол,
Как правили праведно, щедро они,
Как чужды жестокости были их дни.
Царь внял увещаниям богатыря;
8800 На праведный путь обратил он царя,
Дал верности, правды и чести урок,
Сердца родовитых к владыке привлек.
Вот сказано все, наставленья даны
И витязям и властелину страны.
И щедро Новзером герой награжден,
Венец получил он, и перстень, и трон,
Рабов, златоуздых коней молодых,
И лалами полных два кубка литых.
Равнину войсками покрыв, великан
8810 С дружиною двинулся в Мазендеран.
Шли дни, но немилостив был небосвод,
К Новзеру любви не являл он с высот.
[ПЕШЕНГ УЗНАЕТ О СМЕРТИ МЕНУЧЕХРА]
О смерти царя Менучехра тотчас
До войска туранского весть донеслась,
А также узнали враги обо всем,
Что после случилось с Новзером-царем.
Тогда-то Пешенг, управлявший страной[267],
Идти на иранцев задумал войной.
Он все вспоминал о Задшеме, отце,
8820 О деде вздыхал он, о Туре-бойце.
Про царство иранское речи он вел,
Про войско, вождя и про шахский престол.
Созвал повелитель туранскую знать
И всех возглавлявших туранскую рать.
Там витязи были: Барман, Герсивез,
Лев ярый Гольбад, мудрый муж Агрирес[268],
И бурный Висе, чья тяжка булава, —
Пешенговой рати могучий глава,
И царский наследник боец Афрасьяб[269],
8830 С чьей силой сравниться ничья не могла б.
Дух Сельма и Тура почтив похвалой,
Царь молвил: «Нам распри не скрыть под полой.
Кто в здравом рассудке, не может не знать,
Что сделала с нами иранская рать.
Все помнят, как много нам горя и зла
В минувшие годы она принесла.
Пора нам за Сельма и Тура отмстить,
Со щек наших слезы кровавые смыть.
Что скажете мне, что услышу в ответ?
8840 Подумав, благой мне подайте совет».
Бойца Афрасьяба вскипела душа
От речи отцовской. Он, местью дыша,
Приблизился, яростный, с сердцем в огне,
И грозно воскликнул, готовый к войне:
«Схватиться мне с яростным львом по плечу!
Сразиться с иранским царем я хочу!
Когда бы Задшем раньше поднял свой меч,
Страну б не пришлось униженьям обречь.
Когда бы на мщенье отважился он,
8850 Давно уже был бы Иран покорен.
Но все, что мой дед совершить не успел
Из подвигов ратных и доблестных дел,
Мне должно мечом своим острым свершить!
Мой ныне черед нападать и крушить!»
Вскружилась тогда голова у отца.
Глядит он на пылкого сына-бойца:
Прям, статен, грудь львиная, сила слона.
На версты протянута тени длина.
С мечом остротою сравнится язык,
8860 Длань — туча щедрот, дух, как море, велик.
И царь повелел ему меч занести,
Туранскую рать на Иран повести.
Коль доблести сын не лишен родовой,
Родитель возносится к солнцу главой.
Умрет он — долг сына сберечь его честь,
Отцовское имя, как знамя, вознесть.
Ушел Афрасьяб от Пешенга-царя,
Воинственной жаждою мщенья, горя[270].
Он двери сокровищниц полных открыл
8870 И щедрой рукою бойцов одарил.
Готов к выступленью искатель войны.
Меж тем Агрирес к властелину страны
Явился, тревожною думой объят:
Ведь думы нередко нам сердце теснят.
Он молвил: «Испытанный жизнью отец,
Народа туранского первый боец!
Хоть нет Менучехра в Иране, но там
Вождь рати — из рода нейремова — Сам,
И много таких, как Карен и Гошвад,
8880 Героев, что грозно мечами разят.
Припомни, поверг старый волк боевой[271]
И Сельма и Тура во прах головой.
Твой дед, повелитель Турана, Задшем,
К луне возносивший свой царственный шлем,
Воинственных замыслов ввек не питал,
В час мира глашатаем брани не стал.
Не должно и нам подниматься с мечом;
Поднявшись, на гибель свой край обречем».
Ответил Пешенг: «Богатырь Афрасьяб,
8890 Чья сила драконью в бою превзошла б,
Сметает врагов, как воинственный слон,
Свирепее тигра свирепого он.
Когда на убийц не пойдет он войной
За деда — кто скажет, что внук он родной?
С ним вместе и ты поведешь мою рать,
Чтоб мудрым советом ему помогать.
Лишь складки свои распрямят облака,
И влагою степь напоят облака,
И смогут пастись скакуны храбрецов,
8900 И травы поднимутся ростом с бойцов,
И в зелень оденется пашен простор —
Вы в степь отвезите державный шатер,
Идите меж трав и цветов на Амол[272]
С весельем в сердцах — час расплаты пришел!
Напав, Дехестан истопчите в бою,
И кровью окрасьте речную струю.
Ведь царь Менучехр в этот самый предел,
Преследуя Тура, как вихрь, прилетел.
По этой дороге иранская рать
8910 Шла черною тучей наш край разорять.
Туда же теперь устремиться и вам,
Грозой смертоносной навстречу врагам!
Был войску Ирана опорою он,
Тем грозным царем возвеличен был трон.
Иран им покинут, и страхи ушли.
Другие — не стоят и горсти земли.
Новзер опасений внушать бы не мог,
Он молод, неопытен, духом убог.
С Кареном, сильнейшим из богатырей,
8920 С Гершаспом бы встретиться вам поскорей![273]
Старайтесь, чтоб были они сражены,
Те два исподина иранской страны.
Спешите дух прадедам возвеселить,
Сердца зложелателям испепелить».
Ответ Агриреса царю был таков:
«Кровь недруга лить я рекою готов».
[НАБЕГ АФРАСИАБА НА ИРАН]
Вот степи в зеленый оделись атлас,
И рать из Турана в поход собралась.
Туранцы пошли и китайцы пошли —
8930 Все палиценосцы восточной земли.
Идут — ни конца им, ни края... Тогда
Померкла владыки Новзера звезда.
Дошли до Джейхуна, несметны числом,
И внук Феридуна, услышав о том,
Тотчас же покинул державный престол,
Дружины свои по равнине повел.
Как буря, несутся бойцы в Дехестан,
Карен-ратоборец возглавил их стан;
Властитель Новзер выступает вослед,
8940 И шумной молвой оглашается свет.
Когда к Дехестану дружина пришла,
Дневное светило окутала мгла[274].
У стен крепостных, средь зеленых равнин
Шатер свой поставил Новзер-властелин.
Готова иранская рать для войны.
Меж тем, полководец туранской страны
В Армане стоял. Двух избрал он бойцов[275];
Пришли Шемасас с Хезерваном на зов[276].
К вождю Афрасьябу, и вождь отобрать
8950 Велел им для сечи пригодную рать.
Бойцов тридцать тысяч построилось там,
Не знающих страха, привычных к боям.
И велено мчаться им в Забулистан,
В ту землю, которою правил Дестан.
Известье пришло: умер Сам-исполин,
И строит ему усыпальницу сын.
Весельем душа Афрасьяба полна.
Узрев свое счастье восставшим от сна,
Пришел он к стенам Дехестана и свой
8960 Раскинул в степи шумный стан боевой.
Четыреста раз коль по тысяче взять,
Тогда сосчитаешь туранскую рать.
Кипит и вершина, и дол — вся земля;
Сказал бы, полны саранчою поля.
Новзер же в колоннах своих боевых
Сто сорок лишь тысяч имел верховых.
Вождь рати туранской, увидев их строй,
Гонца отряжает ночною порой —
Владыке Пешенгу послание шлет:
8970 «Знай, в руки удача сама к нам идет.
Когда сосчитал я Новзерову рать —
Я понял: ей нашей добычею стать.
К тому же за шахом последовал Сам —
Навстречу твоим не помчится бойцам.
В Иране я им устрашен был одним;
Он умер, Ирану теперь отомстим.
Заль строит гробницу отцу своему,
Теперь не под силу сражаться ему.
И, верно, уже до Нимруза домчась,
8980 Воссел повелителем там Шемасас.
Дела совершай ты в назначенный срок,
Проси мудреца, чтоб советом помог.
Ленивцу, что миг упускает благой,
Уже не представится случай другой».
Как будто на крыльях, помчался гонец
К царю, чей блистал, словно солнце, венец.
[БИТВА БАРМАНА С КОБАДОМ]
Лишь только заря поднялась из-за гор,
Достиг Дехестана туранский дозор.
Две рати готовы в сраженье идти,
8990 Лишь два между ними фарсанга пути.[277]
Окликнул дозорных туранец Барман —
Рассеялся вмиг их дремоты дурман.
Помчался он, вражеский стан обозрел,
Новзера державный шатер рассмотрел,
Затем, воротившись к вождю своему,
О рати и ставке поведал ему.
И молвил: «Скажи, проницательныйвождь,
Доколе таить нам отвагу и мощь?
Коль царь мне дозволит, сражаться пойду,
9000 Как яростный лев, на врагов нападу.
Пусть хватку они испытают мою,
Поймут, что меня не осилить в бою».
Сказал Агрирес, прозорлив, как всегда:
«Коль в битве Бармана постигнет беда,
Турана воители духом падут,
И нам торжества не достанется тут.
Пусть вышлет безвестного витязя рать,
Чтоб после нам пальцев и губ не кусать».
Покрылся морщинами лоб у вождя.
9010 Позорною речь Агриреса найдя,
В сердцах поспешил он Барману сказать:
«Натягивай панцирь да лук свой наладь!
В сраженьи рассеешь ты вражьи ряды,
И пальцы кусать нам не будет нужды».
Помчался Барман, бросил вызов главе
Иранцев, Карену из рода Каве:
«Кого ты из войска Новзера-царя
Пошлешь против нашего богатыря?
Карен посмотрел па могучих бойцов —
9020 Никто не ответил на вражеский зов.
Родной его только откликнулся брат,
В боях поседелый отважный Кобад.
От речи Кобада душой закипев,
Нахмурился вождь, обуял его гнев.
Невольные слезы лились из очей;
И гнев был уместен! Меж стольких мужей,
Воителей мощных в расцвете годов,
Один только старец сражаться готов.
Карен опечален, душой уязвлен,
9030 К седому бойцу обращается он:
«О славный, в преклонные годы твои
Не время ль забыть удалые бои!
Тебе ль состязаться с бойцом, как Барман.
Который удачлив, и молод, и рьян,
В чьем сердце отвага свирепого льва,
Чья к солнцу возносится гордо глава!
Ты — мудрый старейшина рати большой,
Наш царь на тебя уповает душой.
И если седины свои обагришь,
9040 Ты витязей наших надежды лишишь».
Послушай, что молвил Карену в ответ
Воитель испытанный, видевший свет.
Сказал в назидание старый Кобад:
«Дарами небес я и так уж богат.
Знай, брат мой, для смерти мы все рождены.
Шеломы пристали героям войны.
Еще со времен Менучехра-царя
Сей день я предвидел, душою горя.
Живым вознесешься ль в небесную твердь?
9050 Ведь всех настигает охотница-смерть.
Один поражен смертоносным мечом
В день схватки военной, кипящей ключом;
Клинку достается его голова,
Труп — коршунам алчным иль ярости льва.
На ложе другой умирает в свой срок,
Но все оставляют сей бренный чертог.
Пусть ныне простор я покину земной —
Жив, мощи исполненный, брат мой родной.
По-царски зато схороните меня,
9060 Когда я паду, вспомяните меня;
Мне мускусом, влагою роз, камфарой
Главу умастив, прах безжизненный мой
Сокройте в гробу, и пребудьте сильны,
В Творца правосудного верой полны!»
Так молвив, копье свое выставил он
И ринулся в бой, словно яростный слон.
Воителю крикнул могучий Барман:
«Самою судьбою ты в жертву мне дан!
Отсель не вернешься: теченьем времен
9070 Ты в битве неравной давно побежден».
На это Барману ответил Кобад:
«Мне небом отпущено вдоволь наград.
Кто знает, где гибель готовит нам рок:
До срока порою подходит наш срок».
Сказал и пустил вороного коня,
В груди не гася боевого огня.
Покуда земля не окуталась мглой,
Шла битва: брал верх то один, то другой.
Победу Барман одержал, наконец;
9080 Как вихрь, налетел на Кобада боец,
Секирою острой в бедро поразил
Воителя кровью траву оросил.
И рухнул с коня ратоборец седой,
Подобный царям величавый герой.
Туранец же, ликом от гордости ал,
Коня к Афрасьябу немедля погнал.
И тот одарил его щедрой рукой,
Как царь одарить бы не мог никакой.
Увидя, что пал в поединке Кобад,
9090 В бой ринулся мщения жаждущий брат.
Подобно морям, рать на рать понеслась[278].
Ты скажешь, под ними земля затряслась.
Помчался Карен, что степной ураган,
Навстречу ему — Герсивез-великан.
Гул, ржанье коней, тучей пыль взметена:
Днем солнце тускнеет, а ночью — луна.
Подобно алмазам, блистают мечи,
И копья, от крови людской горячи,
Сверкают во мгле, словно перья орла,
9100 Что ярким багрянцем заря облила.
Уж стон барабана среди облаков,
А влага багряная — в сердце клинков.
Куда ни направит Карен скакуна —
Мечом, словно молнией, степь зажжена.
Льют струи кораллов алмазы-мечи,
То жизни людские, то крови ручьи.
Карена дела увидав, Афрасьяб
Рать новую двинул, в нем дух не ослаб.
До ночи, спустившейся с горных вершин,
9110 Сражаться боец не устал ни один.
Во мраке ночном к Дехестану опять
Карен-предводитель привел свою рать.
К новзеровой ставке направился он,
В нем гибелью брата был дух омрачен.
Лишь царь увидал его, слезы рекой
Излил он из глаз, позабывших покой.
Сказал: «Даже витязя Сама уход
Мне скорбью подобною сердце не рвет.
Как луч, да сияет Кобада душа!
9120 Ты ж славься, деянья благие верша!
Таков уж на свете обычай и лад:
День — радостный ходишь, день — грустью объят.
Для всех лишь одна колыбель у земли:
Могила. Мы смерть одолеть не смогли».
Вождь молвил: «Бойцом сотворил меня рок,
Себя от рожденья на смерть я обрек.
В шлем ратный меня Феридун облачил,
Когда за Иреджа мне мстить поручил.
Еще опоясан могучий мой стан,
9130 Еще мне верны и булат и аркан.
Брат умер, столь мудрый и праведный муж,
Идет моя жизнь к завершенью тому ж.
Ты жив будь и здрав!.. Ныне в жарком бою
Теснил сын Пешенга дружину твою.
Сначала его поредела орда,
В бой свежие силы он бросил тогда.
С тяжелой рогатой моей булавой
Меня увидав, устремился он в бой.
Вплотную приблизившись, глянул в упор
9140 И к взорам своим приковал он мой взор.
В глазах у меня помутилось — такой
Опутал он силой меня колдовской.
Тут ночь опустилась, черна, глубока,
Разить булавой утомилась рука;
Окутали тучи ночной небосвод;
Сказал бы, конец мирозданья грядет.
И стала уже непроглядною мгла,
И рать утомленная с поля ушла».
[БИТВА АФРАСИАБА С НОВЗЕРОМ][279]
Наутро иранцы рядами пришли,
9150 Как водится в войнах державцев земли.
Литавры гремят, трубы подняли вой;
Всю степь всколыхнул грозный гул боевой.
Владыка Турана, ведя свою рать,
Спешит против войска иранского встать.
От конских копыт встала пыль до небес,
Лик ясного солнца средь пыли исчез.
Ни степь не видна, ни долина, ни склон.
Клич бранный раздался с обеих сторон.
Вплотную сошлись и схватились войска,
9160 И льется воителей кровь, что река.
Куда устремится Карен-богатырь,
Степная тотчас обагряется ширь.
Где прах возмутит исполин Афрасьяб,
Кровь с бурным потоком сравниться могла б.
И вот уж вступает, отвагой ведом,
Новзер в поединок с туранским вождем.
Так бурно разили копьем о копье,
Сплеталося так с острием острие,
Как вряд ли могла б извиваться змея.
9170 Подобных боев не припомнит земля.
Сражались, пока не застигла их ночь.
Сумел сын Пешенга царя превозмочь.
Иранцев огромное пало число,
А войско врага все текло и текло.
Бежали иранцы, приемля позор,
Средь поля оставив державный шатер.
Увидел Новзер, что безжалостный рок
Звезду его мраком зловещим облек.
Лишь на поле гром барабана утих,
9180 Велел он призвать сыновей дорогих.
Туc храбрый явился и с ним Гостехем[280],
И каждый вздыхает, от горести нем.
Отец им открылся; потоки из глаз
Струились и скорбная повесть лилась.
Душою терзаясь, он тяжко вздыхал,
Отца наставленья в тоске вспоминал:
«Мудрец предсказал, что Туран и Китай
Войною нагрянут на отчий наш край,
Что скорбью пронзят мое сердце они,
9190 И войско изведает черные дни.
Настало свершенье пророческих слов,
Охотится смерть на иранских бойцов.
Вы в летописи загляните — когда
Подобная шла из Турана орда?
Вам судьбы детей, судьбы жен вручены.
Вы тотчас направиться к Парсу должны[281],
Оттуда до кряжа Заве доскакать[282],
На склонах Эльборза приюта искать.
Вперед, в Исфаган! Приготовьтесь к пути,
9200 Но втайне от рати вам должно, уйти.
Рать духом падет от подобных вестей;
Уже ослабевшая, станет слабей.
Из внуков царя Феридуна прямых,
Быть может, спасем одного иль двоих.
Кто знает, придется ли свидеться нам...
Ударим еще в эту ночь по врагам.
Разведчиков шлите и ночью и днем,
Следите за всем, что творится кругом.
Отсюда коль слух донесется до вас,
9210 Что свет миродержца навеки погас,
Не должно вам долго скорбеть оттого,
От века веленье судеб таково.
Тот спит под землею — безгласный мертвец,
На этом — сияет кеянский венец.
Убит иль угас, не одно ли и то ж:
Помучишься миг и покой обретешь».
Владыка в объятьях сжимал сыновей
И слезы кровавые лил из очей.
Царевичи вышли. Остался один,
9220 Терзаясь печалью, Новзер-властелин.
[ВТОРАЯ БИТВА НОВЗЕРА С АФРАСИАБОМ][283]
Два дня отдыхала дружина царя.
На третий, лишь мир осветила заря,
Новзер увидал, что губительно ждать,
И в бой поневоле повел свою рать.
Как море, бурлят Афрасьяба войска[284],
А войско Новзера пред ним — что река.
Клич бранный раздался, весь стан огласив:
Кимвалов и гонгов несется призыв.
Литавры гремят перед шахским шатром.
9230 И каждый боец надевает шелом.
И вкруг Афрасьяба мужи до утра
Очей не смыкали под сенью шатра;
Спешили готовить к сражению рать,
И копья точить, и мечи отчищать.
От края до края раскинулся строй
Мужей с булавами в броне боевой.
От моря до моря протянута цепь;
Сокрылись и горы, и долы, и степь.
Сражаются в сердце дружины вдвоем
9240 Карен-предводитель с Новзером-царем.
Левей — Телимана воинственный сын,
На правом крыле встал Шапур-исполин.
Пока не затмился круг солнца вдали,
Вершина и дол утопали в пыли.
Меч пляской лихой сам себя веселит,
И стонет земля от несчетных копыт.
Когда же на землю тень копий легла.
Звезду властелина окутала мгла.
Туранскую он не осилил орду,
9250 Пришлось испытать пораженья беду.
На левом крыле, где Шапур был вождем,
Враг войско рассеял, идя напролом.
Пал в битве Шапур, не хотел отступать.
Покинуло счастье иранскую рать.
Немало погибло в кровавом бою
Героев, чья слава гремела в краю.
Увидя, что помощи нет от судеб,
Что враг настигает их, яр и свиреп,
Новзер и Карен обращаются вспять —
9260 Дружину ведут к Дехестану опять,
Приют за стенами стремясь обрести,
Но узкие были пред ними пути.
Сражалось на подступах ночью и днем
Туранское войско с Новзером-царем.
Когда же преступил он твердыни порог,
То конных сражений вести уж не мог.
Меж тем Афрасьяб отобрал верховых
И темною полночью выстроил их.
Наказ меченосцу туранскому дан —
9270 То был из семейства Висе Керухан —
Направиться к Парсу с дружиною той,
И мчатся бойцы по равнине пустой[285] —
Иранский обоз на пути захватить:
В обычае низких — обозы громить.
Услышал Карен, что ночною порой
В путь вышел туранских воителей строй,
И сердце стеснилось в нем. Гневом горя,
Сказал он в шатре у Новзера-царя:
«Смотри, что владыке Ирана чинит
9280 Туранец, забывший про совесть и стыд!
Послал недостойный огромную рать,
Чтоб семьи везущий обоз наш догнать.
Коль женщины наши в полон попадут,
Ирана воители духом падут.
В позоре погрязнем тогда с головой.
Мне в горы помчаться бы вслед за ордой!
Когда дозволенье царя получу,
Тотчас же вдогонку врагу поскачу.
Дружиною преданной ты окружен,
9290 Водой и припасами вдоволь снабжен.
Жди здесь, о своей не печалься судьбе —
Труд ратный, поверь, станет легким тебе.
В час битвы сражайся, как должно бойцу!
Мужам венценосным отвага к лицу».
«Нет, это негоже, — был шаха ответ, —
Второго, как ты, полководца здесь нет.
В дорогу, как только час утра настал,
Я Туса и с ним Гостехема послал.
Достигнув обоза, и жен и детей
9300 Они повезут под защитой своей»[286].
Воители с кубками сели в кружок
На время душой отрешась от тревог.
Владыка Новзер, от вина опьянев,
За полог ушел — сердце жег ему гнев.
Окончился пир и, душою мрачны,
Ушли из шатра исполины страны.
В слезах, словно облако в месяц Бехмен[287],
Вступили в шатер, что раскинул Карен.
Там каждый сказал свое слово, потом
9310 Воители все порешили на том,
Что к дальнему Парсу им должно идти,
Иначе покоя сердцам не найти:
«Остаться — что с семьями будет тогда?
Уделом их станут позор и беда.
Коль наших подруг и детей полонят
Туранцы — сердца нам без боя пронзят.
Кто взяться захочет тогда за копье?
И кто хоть на миг обретет забытье?»
И долго держали с Кареном совет
9320 Шейдуш и Гошвад, повидавшие свет.
Лишь ночь половины достигла своей,
Неслышно бойцы оседлали коней.
В путь вышел Карен, воевода-смельчак,
Дружину ведя за собою во мрак.
И вскоре Каренова рать добралась
До крепости дальней, что Белой звалась.
На страже твердыни с дружиной своей
Стоял Гождехем, предводитель мужей.
Барман подступал к ней с другой стороны,
9330 С ним войско, и богатыри, и слоны, —
Барман, кем был в сердце Карен поражен:
Ведь братом Кобад еще не был отмщен.
Карен-предводитель, в броню облачась,
Ряды боевые построил тотчас.
Тревогу тая, опасаясь беды,
Он к Парсу стремительно двинул ряды
Как только про это услышал Барман,
К ним ринулся наперерез великан.
Того кровожадного богатыря
9340 Увидел Карен, ярым гневом горя,
И в бой устремился, издав львиный рык,
Опомниться не дал ему; в тот же миг,
Напрягшись, широкую грудь развернув,
Йездана, дарителя сил, помянув,
Врага в поясницу он пикой большой
Ударил, и тот разлучился с душой.
Низвергся воитель огромный с седла —
Сказал бы ты, солнце окутала мгла.
Смятеньем объятая, дрогнула рать,
9350 Пустились бойцы врассыпную бежать.
И двинулся в Парс предводитель мужей
С воинственной, славной дружиной своей.
[НОВЗЕР ПОПАДАЕТ В ПЛЕН К АФРАСИАБУ]
Новзер, услыхав, что Карена с ним нет,
Тотчас же за ним устремился вослед.
Надеялся он, что от смерти уйдет,
Что грозный его пощадит небосвод.
О бегстве внезапном Новзера едва
Проведал туранской дружины глава,
Дружину построил и, гневом палим,
9360 Как хищник голодный, погнался за ним.
Завидев погоню, Новзер на бегу
Берется за меч, не сдается врагу.
Но враг налетает, бесстрашен и дик,
Стремясь погубить властелина владык.
Всю ночь, от заката до новой зари
Сраженье кровавое длили цари.
От пыли взметенной мир мрачен и сер...
И вот уже недругом схвачен Новзер.
С ним тысяча двести отважных мужей,
9370 Как будто гонимы вселенною всей,
Дорогой спасенья пытались бежать,
Но враг изловчился в тиски их зажать.
Связали бойцов, и средь них был в полон
Иранской земли властелин уведен.
Наперсником будь небосводу — и все ж
От круговращенья его не уйдешь.
То знатность, и трон, и венец Он пошлет,
То горький и скорбный конец Он пошлет;
То другом глядит, то враждует с тобой,
9380 То ядрышком потчует, то скорлупой.
Да, мир — величайший затейник, и нас
Он новой затеей дивит, что ни час.
Красуйся твоя голова в облаках,
Приютом последним все будет ей прах.
Затем повелел Афрасьяб, чтоб везде —
В горах и ущельях, в песках и воде —
Искали Карена, отрезав пути, —
Не дали главе меченосцев уйти.
Узнав, что умчался он раньше, зажжен
9390 Тревогой за судьбы потомства, за жен,
Велел Афрасьяб, чтоб Барман-богатырь,
Верхом пересекши пустынную ширь,
Карена стремительней тигра настиг,
Схватил и с собою умчал в тот же миг.
Сказали ему, что повергнут Барман,
Его обезглавил Карен-великан.
Душой Афрасьяб омрачился тогда,
Ему опостылели сон и еда.
Висе-исполину сказал властелин:
9400 «Крепись и мужайся, повержен твой сын[288].
Коль в битву выходит Карен, сын Каве,
Душа замирает и в яростном льве.
Спеши же за сына врага покарать,
С собой поведи закаленную рать».
[ВИСЕ НАХОДИТ УБИТЫМ СВОЕГО СЫНА]
Висе, управлявший туранской ордой,
Повел меченосцев, пылавших враждой.
Еще не успев до Карена дойти,
Он павшего сына увидел в пути.
Кимвалы во прахе, стяг ратный поник,
9410 Кровь саваном скрыла и тело и лик.
И рядом — немало лежит удальцов,
Прославленных в мире туранских бойцов.
Взглянув, ужаснулся Висе; от тоски
В нем сердце как будто рвалось на куски.
Горючие слезы он пролил из глаз
И вслед за Кареном помчался тотчас,
Как бурный поток все круша пред собой.
Весь мир огласился тревожной молвой.
Лишь витязь Карен о Висе узнает,
9420 Что тот победителем мчится вперед.
Часть всадников шлет он к Нимрузу, а сам
Несется с дружиной навстречу врагам.
От Парса идя, на просторе степном
Он видит: пыль слева взметнулась столбом.
Стяг черный сквозь пыльные встал облака[289],
Идут с воеводой туранским войска.
Бойцы на простор выезжают степной,
И строится рать против рати стеной.
Висе закричал тут Карену-бойцу:
9430 «Конец вашей славе, престолу, венцу!
От града Каннудж до кабульской земли,
От дальней Газны до забульской земли,
На каждом дворце величавый наш трон
Как символ всевластия изображен.
Владыка твой схвачен могучей рукой —
Где сыщешь ты ныне приют и покой?»
Ответ был: «Карен я, неведом мне страх,
Ковер мой не тонет и в бурных струях.
Сюда не бежал я, боязнью гоним —
9440 Сражаться примчался я с сыном твоим.
Поверг его, мщением дух утолил,
Для мщения нового дух распалил.
Сегодня и ты в богатырском бою
Узнаешь могучую хватку мою».
Хлестнули коней; завыванье трубы
Бойцам возвестило начало борьбы.
Пыль справа и слева столбом взметена,
Затмился и воздух и в небе луна.
Схватились воители, разгорячась,
9450 Рекою багровою кровь пролилась.
Висе, ратоборцем Кареном тесним,
В сраженьи не смог устоять перед ним.
Немало бойцов потеряла орда;
Висе пораженье судила звезда.
Рядов неприятельских видя разгром,
Карен не помчался вослед за врагом.
Горюя по сыну, кляня свой удел,
К вождю Афрасьябу Висе полетел.
[НАБЕГ ШЕМАСАСА И ХЕЗЕРВАНА НА ЗАБУЛИСТАН]
Меж тем, две дружины, покинув Арман,
9460 В поход выходили на Забулистан.
Помчались бойцы Шемасаса-вождя,
От брега Джейхуна к Систану идя.
Повел Хезерван тридцать тысяч бойцов,
Из рати туранской мужей-храбрецов.
Скакали к Хирменду и днем и в ночи[290],
Победно неся булавы и мечи.
Дестан свои дни в Гурабе проводил[291] —
Он в скорби гробницу отцу возводил.
Меж тем управлял той страною большой
9470 Мехраб, прозорливый и чистый душой.
Проворному тотчас велел он гонцу
Отправиться в стан к Шемасасу-бойцу.
Примчался посланец и, спешась едва,
Сказал от Мехраба привета слова:
«Венчанный водитель туранских полков
Да славится в мире во веки веков!
Я род от Зохака-араба веду;
Не радость мне царство сулило — беду.
Пришлось породниться, чтоб смерть отвести;
9480 Иного, увы, не видал я пути.
Владыкой теперь во дворце я воссел,
Под властью моею забульский удел
С тех пор, как Дестан, потерявший отца,
Возводит гробницу для Сама-бойца.
Дестана печаль для меня — торжество,
Мне больше б вовеки не видеть его!
О доблестный, если бы дал ты мне срок,
Я весть Афрасьябу отправить бы мог, —
Посланца, чей конь быстроног и ретив,
9490 Письмом и словесным наказом снабдив.
Поймет повелитель; я сдаться готов,
И тратить здесь много не надобно слов.
Богатую вышлю я дань, и щедры,
Достойны властителя будут дары.
И если меня призовет он потом,
Склонюсь у престола покорным рабом.
Владенья свои уступлю я царю,
Его лицезреньем свой дух озарю.
Почтен будешь мною и ты в свой черед,
9500 Богатым дарам потеряешь ты счет».
Так сердце врага покорил он совсем,
Но втайне гонца отрядил, между тем,
К Дестану, и вот что гонцу говорил:
«Стань птицей, в пути не жалеющей крыл!
Что видел, Дестану поведать лети:
Пусть мчится, и лба не почешет в пути[292].
На нас два туранца войной, мол, идут
И ратников, тиграм подобных, ведут.
Пришли, у Хирменда раскинули стан.
9510 Завлек я вождей в золоченный капкан.
Но если задержится Заль хоть на миг —
Увидим, что недруг наш цели достиг».
Посланец, помчался, к Дестану спеша,
Тот весть услыхал, и зажглась в нем душа.
[ПРИБЫТИЕ ЗАЛЯ НА ПОМОЩЬ МЕХРАБУ]
С дружиной своею к Мехрабу на зов
Скакал день и ночь предводитель бойцов.
Примчавшись и видя, что мудрый Мехраб
Хранит ему верность, в борьбе не ослаб,
Подумал он: «Вражий не страшен мне стан;
9520 Горсть праха в сравненьи со мной Хезерван».
И молвил: «О, муж с прозорливым умом!
Ты действовал мудро и прав ты во всем.
Теперь, чтоб увидели хватку мою,
Я кровь среди ночи в их стане пролью.
Враги да узнают заране: я здесь!
Исполненный гнева, для брани, я здесь!»
И поднял он тут исполинский свой лук,
И выбрал стрелу толщиною, что сук.
Вглядевшись и вражьи шатры различив,
9530 Умелой рукой самострел зарядив,
Три метких стрелы он послал, изловчась.
И стан охватила тревога тотчас.
Вот утро ночную рассеяло мглу.
Любой, кто упавшую видел стрелу,
Дрожа, восклицал: «Это Заля стрела,
Ничья бы другая такой не была».
Сказал Шемасас: «Хезерван удалой!
Напрасно ты сразу не ринулся в бой;
Давно б уничтожил Мехраба и рать,
9540 И Заль не осмелился б нам угрожать».
«Он только один, — отвечал Хезерван, —
К тому ж не из стали он, не Ахриман.
Бой с Залем — забота теперь не твоя;
Сумею, поверь, с ним расправиться я».
Вот жаркое солнце минуло зенит,
Грохочут литавры и бубен звенит.
А в городе — труб оглушительный рев
И гонгов индийских воинственный зов.
Заль, доблестный витязь, доспехи надел,
9550 Как вихрь, на коня боевого взлетел,
И каждый воитель уселся в седло,
Исполнившись гневом, нахмурив чело.
Заль вывел бойцов и слонов на простор,
Средь поля раскинул державный шатер.
Шли полчища, цепь надвигалась на цепь,
И черной горе уподобилась степь.
Примчался с копьем и щитом Хезерван;
И Заля воинственный тот великан
С размаха ударил тяжелым копьем,
9560 Рассекши стальную кольчугу на нем.
Но Заль невредимым успел ускакать;
В сраженье вступила кабульская рать.
А Заль, между тем, крепкий панцирь надев,
Вновь ринулся в битву, как яростный лев,
Охвачен досадою, гневом, тоской.
Отцовскую палицу стиснув рукой.
И вновь Хезерван, разъярен и суров,
Взревел, словно лев, перед цепью бойцов.
Пыль бранную поднял могучий Дестан,
9570 И вихрем навстречу летит Хезерван.
Мгновенно врага богатырь удалой
Рогатой своей поразил булавой.
Кровь льется, сбит недруг ударом одним,
Стал прах — что пятнистая шкура под ним.
Повергнул, оставил и ринулся прочь,
Навстречу врагам полетел во всю мочь.
На бой Шемасаса он звал на сей раз,
Но тот не примчался, в нем кровь не зажглась.
В пыли показался воитель Гольбад,
9580 Сжимавший в руке закаленный булат.
Но палицу Заля увидев и меч,
Он скрыться хотел и себя уберечь.
Мгновенно Дестан тетиву натянул,
Стрелу исполинскую быстро метнул,
И в пояс Гольбаду попала стрела,
В ту цепь, что кольчуге застежкой была.
Тот замер, стрелой пригвожденный к луке,
Бойцы на Гольбада глядели в тоске,
Невольно за жизнь устрашившись свою,
9590 Ведь пали два витязя кряду в бою!
Бежал Шемасас и бойцы вместе с ним,
Отарой, гонимой дождем проливным.
Им вслед меченосцы забульской земли
Несутся с владыкой кабульской земли.
Усеяны множеством трупов поля,
Сказал бы, тесна стала войску земля.
Бросая оружье, порвав кушаки,
К владыке Турана бежали полки.
Когда до пустыни дошел Шемасас,
9600 Карен, сын Каве, издалека примчась,
Обретший уже над Висе торжество,
В сраженьи повергнувший сына его,
Орду Шемасаса увидел в пути,
Спешившую в страхе от смерти уйти.
Едва на врагов полководец взглянул,
Узнал, что пришлось им покинуть Забул, —
Трубить приказал он, отрезав им путь.
Столкнулись два воинства грудью о грудь.
Воскликнул Карен: «О мужи-удальцы,
9610 Могучие, чистые сердцем бойцы!
За копья возьмитесь вы, духом крепки,
И недруг погибнет от вашей руки».
В бой ринулись воины, яры, грозны,
Взревев, словно впавшие в буйство слоны.
И на поле копья взросли, как тростник,
Скрывая и солнце и месяца лик.
Погибло все войско туранское сплошь,
Дороги меж грудами тел не найдешь.
На месте той рати чернел на полях
9620 До самого солнца вздымавшийся прах.
Но в бегство с отрядом бойцов обратясь,
Остался в живых богатырь Шемасас.
[ГИБЕЛЬ НОВЗЕРА ОТ РУКИ АФРАСИАБА]
Дошло до владыки туранской земли,
Что в битве кровавой вожди полегли.
Печалью и гневом душа в нем зажглась,
Кровь сердца рекой заструилась из глаз.
Сказал он: «Новзера держу еще я
В темнице, мои же убиты друзья!
Нет, кровь его ныне я должен пролить,
9630 Я новую должен вражду распалить.
Новзера ведите! — вскричал он, — за все
Обиды отмстить ему хочет Висе».
Идти за царем он велел палачу:
Сейчас, мол, сражаться его научу!
Узнав о приказе владыки страны,
Царь понял: мгновенья его сочтены.
Шумя и крича, повалила орда,
К Новзеру-царю ворвалась без стыда;
Связав ему руки, схватили его,
9640 К чудовищу в пасть потащили его,
Босым, с головой непокрытой вели,
Глумясь над плененным владыкой земли.
Когда привели к Афрасьябу царя —
Туранец, досадой и гневом горя,
Сурово бросая укоры ему,
Напомнил про древние споры ему.
О Сельме и Туре он в злобе твердит,
Про совесть забыв и утративши стыд.
Воскликнул: «Достоин ты худшей из кар!»
9650 Схватился за меч, беспощаден и яр,
Царя обезглавил ударом одним,
И наземь поверг, дикой злобой палим.
Пал отпрыск царей, помрачился Иран,
Венца и престола лишился Иран.
О мудрый, не будь у стяжанья в плену,
С очей своих алчности сбрось пелену!
Венцом и престолом не мало других
Владели, как ты, — и утратили их.
Пускай преуспел ты, достиг высоты,
9660 Добился свершенья заветной мечты —
От черного праха чего тебе ждать?
Ведь прахом, несчастный, ты станешь опять.
Тут пленников прочих ввели, волоча.
О жизни молили царя-палача
Они на глазах Агриреса, и в нем
От жалости вспыхнуло сердце огнем.
Просил он за них, к Афрасьябу войдя,
Во гневе сказал, укоряя вождя:
«Врага убивают в бою, на коне,
9670 Когда он в кольчуге и крепкой броне.
А пленных казнить недостойно, о том
Подумай: не стал бы нам спуском подъем!
Не рви опрометчиво жизней их нить,
В оковах решись их со мной отпустить.
В глубокой пещере я их заточу,
Недремлющим стражам надзор поручу.
Пускай в заточенье угаснут, стеня.
Лить кровь их не должно, послушай меня».
Вняв пылу тех гневных и горестных слов,
9680 Помиловал вождь заточенных бойцов;
Велел их в Сари под охраной вести,
Тяжелые цепи надев для пути.
И войску он в путь выходить повелел,
Конями он степь наводнить повелел.
Коней загоняя, летя все быстрей,
Примчались усталые всадники в Рей.
Венцом победитель чело озарил[293]
И дверь для раздачи динаров открыл;
Воссел властелином в иранской стране,
9690 А помыслы все — о вражде, о войне[294].
[ЗАЛЬ УЗНАЕТ О СМЕРТИ НОВЗЕРА]
Пришлось Гостехему и Тусу узнать:
Померкла владыки царей благодать.
Несчастье нагрянуло — вражеский меч
Срубил венценосную голову с плеч.
Встал вопль над Ираном, рыдает народ,
Кто лик свой терзает, кто волосы рвет,
Кто в горе укоры бросает судьбе,
Кто прахом главу посыпает себе.
Знатнейшие люди, в Забул устремясь,
9700 О шахе вздыхая, по шаху томясь,
В одеждах изорванных, в пепле, в пыли,
Рыдая, взывая, к Дестану пришли.
«О воин, о царь, о Новзер, о храбрец,
Судья, богатырь, венценосец, мудрец!
Защита Ирана, опора мужей,
Земли повелитель, владыка вождей!
Увы, увенчал твою голову прах,
Земля упилась твоей кровью, о шах!
Растенья в краю, где она пролилась,
9710 Поникли, дневного светила стыдясь.
О мщенье взывайте, Ирана сыны!
Оденемся в траур, печали полны.
Пал внук Феридуна... Давно ли страна
Лобзала копыта его скакуна!
А ныне главу венценосцу снесли,
Убили воителей нашей земли.
Сплотимся, мечи, как один, обнажим,
Сразимся и злобных врагов сокрушим.
Пусть каждый наденет броню и шелом!
9720 Старинную ненависть вновь разожжем.
Вот землю кровавым дождем обдает,
Рыдая над нашей бедой, небосвод.
Рыдайте и вы, кровью плачьте, скорбя,
Нарядные ткани сорвите с себя!
Пусть жарче вскипают, убийцам на страх,
В сердцах возмущенье и слезы в очах».
Рыдания, вопли вокруг поднялись,
Пожарищем горя сердца занялись.
Одежды Заль-Зер на себе изорвал,
9730 Сев наземь, рыдал он, о мщенье взывал.
Поклялся воитель: «До судного дня
Ножон не увидит клинок у меня.
Мне будет престолом скакун боевой,
Чинарой — копье над моей головой,
Подставкой для ног будет стремя, венцом —
Мне будет мой черный походный шелом.
Для мщенья забуду я сон и покой,
И слез моих струи поспорят с рекой.
Душа миродержца Новзера, ясна,
9740 Да блещет меж славных во все времена!
В предвечном Творце обретете оплот,
Сердцам утешение вера пошлет.
На свет породили для гибели нас,
И встретить готовы мы смертный свой час».
Решились на мщение богатыри,
И пленники вскоре узнали в Сари,
Что к битвам Иран возмущенный готов,
Что множество там разослали гонцов,
И рати несметные грозно сошлись,
9750 И тучею пыль поднимается ввысь.
Затмились измученных узников дни.
Страшась Афрасьябова мщенья, они
Вождю Агриресу отправили весть:
«О муж, воплощающий мудрость и честь!
Твои мы покорные слуги, ведь нас
Ты словом горячим от гибели спас.
Известно тебе, что в Забуле Дестан,
Мехраб, с ним кабульских воителей стан,
Борзин и Карен — победитель в боях,
9760 Хоррад и Гошвад, наводящие страх[295].
Столь мощные витязи с храброй душой
Иран не оставят под властью чужой.
Коней боевых они двинут сюда,
Ряды копьеносные хлынут сюда.
Едва к Афрасьябу те вести дойдут,
В нем злоба вскипит; беспощаден и лют,
Немало безвинных голов он в сердцах
Во имя господства повергнет во прах.
Вели, Агрирес, о венец мудрецов,
9770 Нас втайне избавить от тяжких оков.
Мы все по земле разбредемся, и свет
Узнает, как нас ты избавил от бед.
Средь знатных тебя мы прославим, любя.
Мы станем Йездана молить за тебя».
Известие шлет Агрирес им в ответ:
«Идти мне на дело такое не след.
Моя б очевидною стала вражда,
И бесов слуга разъярился б тогда[296].
Уловку другую найду, чтобы брат
9780 Отмщения жаждою не был объят.
Коль выступит Заль сильнорукий в поход
И войско сражаться со мной приведет,
К нему отпущу вас, Ирана мужей.
Едва он достигнет моих рубежей,
Без боя Амол я оставлю тотчас
И честь на позор я сменю ради вас».
Воспрянув душою при этих словах,
Мужи благодарственно пали во прах,
Хвалу воздавали ему без конца...
9790 Затем из Сари отрядили гонца,
И тот поспешил сыну Сама отвезть
От витязей славных отрадную весть:
«Нам милость явил всемогущий Творец:
Нам друг Агрирес, справедливый мудрец.
Надежный союз заключили мы с ним,
В согласии так порешили мы с ним:
Лишь Заль — даже с малою горстью бойцов —
Придет из Ирана, сражаться готов —
Тот муж благородный с дружиной своей
9800 Покинет Амол и направится в Рей.
Из пасти дракона мы этим путем
Не мало безвинных, быть может, спасем».
Домчался до Забулистана гонец,
Известье привез для Дестана гонец.
Вельмож и воителей тотчас призвав,
О вести полученной им рассказав,
Вождь рати промолвил: «Эй, други-бойцы,
Могучие барсы, вожди-удальцы!
Кто воин средь вас, презирающий страх,
9810 Муж доблестный, муж закаленный в боях?
Кто подвигом хочет снискать себе честь
И бранную славу до солнца вознесть?»
Откликнулся тотчас воитель Гошвад:
«За правое дело сразиться я рад».
Дестан ему сердце хвалою согрел:
«Да будет навеки твой счастлив удел!»
И храбрый Гошвад из Забула в Амол
Воителей, рвущихся в битву, повел.
Их друг Агрирес, убедившись едва,
9820 Что ими свершен переход или два,
Трубить отступленье велел до зари,
А пленных иранцев оставил в Сари.
И вскоре Гошвад их темницы достиг,
И тяжкие цепи рассыпались вмиг.
Всем дали коней и под радостный гул
Помчались мужи из Амола в Забул.
Узнав, что с удачей вернулся Гошвад,
Сын Сама Дестан несказанно был рад;
Дал вестнику платье с плеча своего,
9830 Дал золота бедным, вкусив торжество.
Примчались воители в Забулистан,
И, как подобало, их встретил Дестан.
Рыдал он, обняв изнывавших в цепях,
Столь долго страдавших у тигра в когтях.
Новзера кончину оплакивал он,
Прах сыпал на голову, скорбью пронзен.
С почетом в столице он всех водворил
И каждому светлый чертог подарил,
И стали опять, как в новзеровы дни,
9840 Уделами княжьими править они.
Дарами осыпана славная рать,
Чтоб впредь ей нужды и лишений не знать
[СМЕРТЬ АГРИРЕСА ОТ РУКИ БРАТА]
Вот в Рей Агрирес из Амола пришел.
Узнал повелитель, что сдал он Амол,
И в гневе: «Ты что учинил! — вопиет, —
С отравой смешал ты живительный мед!
Тебе приказал я — нечистых убей!
Не время сегодня для умных речей.
Бойцу ни к чему рассужденья; в бою
9850 Он ищет победу и славу свою.
Идущему в битву не мудрость нужна,
От века с войной не совместна она».
Сказал Агрирес Афрасьябу в ответ:
«Ужели стыда в тебе, совести нет?
Побойся Йездана, не делай ты зла[297],
Хоть злые свершать в твоей власти дела.
Престол еще многих подобных тебе
Увидит — ведь нет постоянства в судьбе».
Слова мудреца Афрасьяб услыхал,
9860 Но в сердце ответа на них не сыскал.
Со злобою спорила мудрость... Беда,
Что светлая мудрость жестоким чужда!
Владыка, взъярившись, как бешеный слон,
Меч, вместо ответа, извлек из ножон
И надвое брата булатом рассек.
Безвинный, чистейший погиб человек!
Когда Агриреса постигшее зло
До Заля, рожденного Самом, дошло,
Тот молвил: «Уж скоро затмится звезда
9870 Злодея, и рухнет престол навсегда».
Литаврам и трубам велел собирать
Фазаньему глазу подобную рать
И с яростью в сердце, к отмщенью стремясь,
Направился к Парсу прославленный князь.
От моря до моря воители шли,
И солнце и месяц терялись в пыли.
Как только узнал Афрасьяб-великан,
Что движется к Парсу отважный Дестан,
Рать вывел он в Хар, что близ города Рей,
9880 Готовя к сраженьям бойцов и коней.
И днем и ночами шли стычки постов.
Весь мир словно тусклый окутал покров.
Дружины несли за уроном урон,
Отважные гибли с обеих сторон.
Прошло две недели — усталость, тоска
Объяли уже и вождей и войска.
ЗОВ, СЫН ТЕХМАСПА[298] [Царствование длилось пять лет]
Вечерней порою Дестан как-то раз
Вел долго об Афрасиабе рассказ,
Вел речь о соратниках смелых своих,
9890 И вымолвил так при друзьях боевых:
«Престола не всякий достоин герой
И даже ведомый счастливой звездой.
Нам нужен из рода властителей царь,
Что помнит деянья, свершенные встарь.
Ведь войско державы — что судно в волнах;
Ветрило и ветер ему — падишах.
Хоть Тус с Гостехемом и родом знатны,
И войска не мало у них, и казны,
Но ежели витязь умом не силен,
9900 Владеть не достоин державою он[299].
В цари не годится из них ни один.
Нам нужен с великой душой властелин,
Святой благодатью отмеченный шах,
У коего разум блистал бы в речах».
В роду Феридуна, благого царя,
Искали владыку, усердьем горя,
И Зов, сын Техмаспа, избранником стал[300],
Муж славный, чей ум, словно светоч, сиял.
Карен и мобеды,мужи-мудрецы,
9910 И с ними воинственные удальцы
Промолвили, к Зову придя на поклон:
«Венец Феридуна тобой обновлен.
Дестан-предводитель и рать вместе с ним
Признали тебя властелином своим».
День радости благословенный пришел,
Зов, муж благородный, воссел на престол.
Сошлись отовсюду вельможи, царя
Хвалой и алмазами щедро даря.
Зов принял и славного Заля поклон.
9920 В стране пятилетие царствовал он,
Добром, правосудием край возродив.
Он стар был годами, умен, справедлив,
Удерживал рать от неправедных дел,
Затем что Йездан его сердцем владел.
В темницу людей он бросать не давал,
Их пытками злыми терзать не давал.
Но горе постигло страну в те лета[301],
У почвы от жажды иссохли уста.
Дожди прекратились по воле судеб,
9930 Ценился дороже, чем золото, хлеб.
Пять месяцев долгих, забыв про покой,
Стояли две рати одна пред другой.
Кровавые шли между ними бои,
Вожди исчерпали все силы свои.
Как ткань, расползаясь, редеют войска:
Уже ни основы у них, ни утка.
И всех осенило вдруг мыслью одной:
Знать, каре небесной мы сами виной!
И вопль над обоими станами встал,
9940 И к Зову с посланьем гонец прискакал:
«Что, кроме страдания, горя и зла,
Нам бренная эта юдоль принесла?
Давайте земной мы поделим простор,
О мире и дружбе начнем разговор».
Длить битву у витязей не было сил,
Их голод решенье принять торопил.
Сойдясь, положили бойцы, наконец,
Вражду вековую изгнать из сердец,
Законно, по совести мир поделить
9950 И души от старых обид исцелить.
Страну от начала Джейхуна-реки[302]
До края, где Тура стояли полки,
Где Чина, Хотана раскинут простор[303],
Землею иранской считали с тех пор.
С Хергах начиналась туранская часть[304],
Земля, не подпавшая Залю под власть.
Оттуда ж — туранцы в Иран ни ногой;
Так мир поделили они меж собой.
Зов двинулся к Парсу, в родимый предел[305].
9960 Он стар был, но мир обновить он сумел.
А Заль свое войско к Забулу повел,
И край успокоенный счастье обрел.
Уж гром благодатный грохочет меж гор
И землю одел многоцветный убор.
Садами красуясь, хрустальной водой,
Невестой казалась она молодой.
Не будь кровожаден, как барс, человек —
Он мрачных времен не видал бы вовек.
Зов славный собрал всю верховную знать,
9970 Чтоб вместе Создателю славу воздать.
Круг тяжких страданий Творец разомкнул,
И каждый тогда с облегченьем вздохнул.
Веселые всюду гремели пиры,
Забыли войну и вражду с той поры.
В такой благодати пять лет протекло,
Исчезли на свете страданья и зло.
Но миру наскучили мир и любовь,
И в когти ко льву устремился он вновь.
Сошел повелитель в могильную тьму:
9980 Уж восемь десятков минуло ему[306].
Несчастье постигло Ирана сынов,
Покинул их мудрый и праведный Зов.
ГЕРШАСП [Царствование длилось девять лет]
У Зова наследник был, чистый юнец,
Гершаспом нарек его славный отец[307].
Лишь время ему воцариться пришло,
Кеянским венцом он украсил чело.
Воссев на престол драгоценный резной,
Со славой и блеском он правил страной.
Тут слух до вождя Афрасьяба дошел,
9990 Что Зовом навеки покинут престол.
С ордою Джейхун переплыл он тогда,
И в Хар, что близ Рея, помчалась орда.
Но старый Пешенг одобрения слов
Вождю не прислал; был юн гневен, суров.
Постылы властителю трон и венец.
Скорбя о своем Агриресе, отец
К себе Афрасьяба давно не пускал,
И ржавчина ела сыновний кинжал.
Посланье он шлет за посланием вслед,
10000 Но слышит один неизменный ответ:
«Когда б выбирать было трону дано,
Не ты, Агрирес воцарился б давно!
Ты, брата родного убив, не дрожишь,
А в страхе пред птичьим питомцем бежишь!
Послал я тебя против вражеских сил,
Ты ж брату безвинному век сократил!
С тобою отцовскую связь я пресек,
Тебе не видаться со мною вовек».
Шло время, и дерево горя взросло,
10010 И плод ядовитый оно принесло.
Покинул сын Зова, Гершасп, белый свет,
Настала пора злоключений и бед.
Слух шумный по свету всему пролетел,
Что трон шахиншаха опять опустел.
Свирепый Пешенг, на вторженье решась,
Суровый прислал Афрасьябу приказ:
«Пора, за Джейхун отправляйся в поход!
Иранский престол да никто не займет».
От самых степей Сепиджаб до реки[308]
10020 Построились в ряд Афрасьяба стрелки.
Кружащимся сводом казалась земля.
Клинками индийскими гибель суля,
Выходит туранское войско в поход,
На битву кровавую мчится вперед.
И слух до Ирана тотчас же дошел,
Что враг посягает на древний престол.
С тех пор как престол был владыки лишен,
Никто уж не видел счастливых времен[309].
Поднялся на улицах ропот людской,
10030 Гул встал над Ираном, забывшим покой.
Тревожные речи звучали везде;
В Забул устремились иранцы в беде
И Залю сурово сказали: «На что ж
Ты первым воителем нашим слывешь?
Как Сама сменил ты — прими наш укор! —
Покойного дня мы не знали с тех пор.
Наследник угасшего Зова везде
Мир сеял, и злобных держал он в узде.
Но нет уж владыки Гершаспа — увы! —
10040 Край шаха лишился, а войско — главы.
С Джейхуна такая нахлынула рать,
Что ясного солнца за ней не видать.
Коль средство ты знаешь, пусти его в ход.
Уж скоро вплотную к нам враг подойдет».
На это иранцам ответил Дестан:
«С тех пор как для битв опоясал я стан,
Второй не встречался седок боевой,
Что мог бы поднять мой булат, с булавой.
Где вскачь мне коня доводилось пускать,
10050 Наездники все обращалися вспять.
И ночи и дни проводил я в боях
И только пред старостью чувствовал страх.
Согнуться пришлось богатырской спине,
Кабульским клинком не разить уже мне.
Но — слава творцу! — от гиганта-ствола
Достойная ветвь молодая взрасла.
Безмерно горжусь я сегодня юнцом —
Что ж будет, как станет он зрелым бойцом!
Стройней кипариса поднялся Ростем,
10060 Ему подобает воителя шлем.
Искать ему должно коня для войны,
Арабские тут не годны скакуны[310].
Скакун ему нужен, подобный слону.
Разыскивать всюду такого начну.
Но должно Ростема спросить мне сперва:
Что скажет он, эти услышав слова?
Согласен ли с внуком Задшема в бою
Испробовать юную силу свою?»
И люди Ирана, услышав о том,
10070 Душой оживают, светлеют лицом;
Пригодных к сраженью ведут скакунов,
Куют снаряженье для конских боев.
Заль молвил Ростему: «О мощный, как слон,
Кто между мужей выше всех вознесен!
Знай, долгий и тягостный труд пред тобой;
Похитит он радость, и сон, и покой.
Тебе не пора еще, сын, воевать.
Что делать? Не время теперь пировать.
Твои еще пахнут уста молоком,
10080 К веселью и неге ты сердцем влеком.
Но должен питомца послать я, увы,
Туда, где сражаются грозные львы.
Что станешь ты делать, что скажешь в ответ?
Храни тебя вечного разума свет!»
Ответил ему слонотелый Ростем:
«О витязь, чье мужество ведомо всем!
Забыл ты мои боевые дела,
Молва о которых повсюду прошла?
О белом слоне, о Сепенде-горе
10090 Ведь память жива еще в богатыре?
Коль дрогну пред сыном Пешенга в бою —
И честь я утрачу, и славу свою.
Не время позорно мне с поля бежать,
А время бесстрашно врагов поражать.
Тот истинный муж, кто повергнет и льва,
Кто рвется к сраженью, в ком доблесть жива.
Недаром же слава — не женщин удел;
Ведь нет, кроме сна и еды, у них дел».
Заль молвил на это: «О храбрый юнец,
10100 Опора мужей, исполинов венец!
О круче Сепенд и о белом слоне
Напомнив, ты сердце порадовал мне.
Но то ведь нетрудные были дела;
Смутить меня дума о них не могла.
А мысль о делах Афрасьяба порой
Сон гонит от глаз, похищает покой.
Как в битву пошлю тебя, сын мой Ростем,
С воинственным, лютым владыкою тем?
О подвигах песни б тебе распевать,
10110 Под руд сладкозвучный вино распивать,
Не мчаться в доспехах средь гула войны,
Пыль битвы вздымая до самой луны».
Ответ исполина был тверд и суров:
«Рожден не для чаши я, не для пиров.
С такими плечами, с такою рукой
Ужели в удел изберу я покой?
В дни битв и опасностей будут всегда
Со мною Йездан и победы звезда.
Увидишь могучую хватку мою,
10120 Лишь дай очутиться в кровавом бою!
Как туча, что дождь проливает с высот,
Клинок мой кровавые ливни прольет,
Слепящие молнии грозно меча.
Полягут слоны от такого меча!
Мир дрогнет, увидя мой грозный колчан,
Одетый в броню богатырский мой стан.
Коль крепость не рухнет от палицы сей,
Не рухнет от мощи великой моей, —
Таран с камнеметом уж ей не страшны,
10130 Строители ловкие ей не нужны.
Где в битве копье мое дерзким грозит,
Насквозь пропитается кровью гранит.
Конь добрый мне надобен — с гору, такой,
Чтоб он укрощен был моею рукой,
Чтоб мог он меня, исполина, поднять,
И мчаться б умел и на месте стоять.
И палицу, крепче скалы, я найду.
Туранскую только завижу орду —
Без войска, один, учиню ей разгром,
10140 И тучи кровавым прольются дождем».
Внимает воителю храброму Заль,
И радостью светлой сменилась печаль.
В ответ он промолвил, лицом просветлев:
«О негу и чашу отвергнувший лев!
Тебе булаву подарю я, что сам
Оставил в наследье мне доблестный Сам.
Слона сокрушил ты его булавой.
Да будешь бессмертен, о славный герой!»
И палицу Сама, с которой ходил
10150 На дивов тот витязь, исполненный сил,
Заль-Зер для Ростема велел принести,
Чтоб недругов ею сметал он с пути.
Как память Гершаспа осталась она,
И Саму от дедов досталась она.
Лишь посланный палицу эту принес,
Исполнен веселья, Ростем произнес,
Отца восхваляя, такие слова:
«Воитель, которого славит молва!
Коня бы теперь мне, пусть носит в бою
10160 И палицу эту, и силу мою!»
Дивился речам его доблестный князь,
Йездану за сына всечасно молясь.
[РОСТЕМ ЛОВИТ РЕХША]
Пригнав табуны, что в Забуле паслись,
А также и те, что в Кабуле паслись,
За лошадью лошадь пускали пред ним —
И каждой тавро выкликали пред ним.
Как только покажут коня храбрецу,
Как только он спину нажмет жеребцу,
Осядет скакун, изогнувшись хребтом,
10170 В бессильи коснувшись земли животом.
Шли разных мастей табуны до тех пор,
Пока не пресытился витязя взор.
Но вот кобылица помчалась, быстра,
На вид, словно львица, а мастью сера.
Два уха, что два вороненых клинка,
В груди широка, в перехвате тонка.
А с ней жеребенок, и ростом он с мать,
И грудью, и крупом кобыле подстать.
Стальные копыта и бег огневой,
10180 Глаз черный, а сам — золотисто-гнедой.
По золоту пятна, и пятна ярки:
На поле шафрановом роз лепестки.
Так зорок, что, взглядом пронзив темноту,
Он бег муравья различит за версту.
Слон мощью, а ростом с верблюда скакун,
Отвагою — тигр он с горы Бисотун,
Когда разглядел кобылицу Ростем
С конем слонотелым невиданным тем,
Занес он аркан, захотев скакуна
10190 Рывком отделить от его табуна.
Окликнул Ростема табунщик седой:
«Эй, витязь, не тронь, жеребенок — не твой».
Ростем вопросил: «Кто ж хозяин? Тавра
Не вижу на нем, оба чисты бедра».
«Тавра не ищи ты, — ответил пастух, —
Идет о коне удивительный слух.
Горяч, словно пламя, игрив, как ручей,
Зовется он Рехшем, и конь тот ничей[311].
Кто Рехша хозяин, не знаем о том;
10200 Ростемовым Рехшем его мы зовем.
Три года, как время ему под седло,
И многих к нему именитых влекло.
Но петлю аркана завидев едва,
Мать в битву кидается яростней льва.
Где спрятан к загадке таинственной ключ —
Не знаем. О витязь, ты горд и могуч,
Но все ж берегись, коль умом наделен:
На что тебе надобен этот дракон?
Кобыла в обиду не даст стригуна,
10210 И тигра и льва растерзает она».
Как только услышал Ростем и постиг
Все то, что поведал о Рехше старик,
Стремительным взмахом юнец-великан
На шею гнедого накинул аркан.
Свирепо на витязя ринулась мать,
Готова зубами его растерзать.
Но витязь по-львиному рев испустил,
И окриком грозным лишил ее сил.
Кулак он обрушил на голову ей.
10220 Упала и встала, и вихря быстрей,
От страха дрожа, без оглядки она
Умчалась и скрылась среди табуна.
Тут в землю ногой упершись посильней,
Аркан на коне затянув потесней,
Ростем из всей силы своей колдовской
Налег на гнедого могучей рукой.
Скакун и не дрогнул под бременем тем —
Как будто его не почуял совсем.
Подумал Ростем: «Вот сидеть мне на ком!
10230 За дело я взяться могу на таком».
Взвился, словно буря, отважен, удал,
И резво под ним огнецветный взыграл.
Спросил он табунщика: «Этот дракон
Во сколько, скажи мне, и кем оценен?»
Ответ был: «Бери, коль Ростем ты и есть;
На нем отстоишь ты отечества честь.
Ему все богатства Ирана — цена.
Правь Рехшем — воспрянет родная страна!»
«Добро от Йездана», — Ростем отвечал.
10240 В улыбке раскрылись уста, что коралл.
И вот огнецветный оседлан им конь,
И в сердце воинственный вспыхнул огонь.
Податливым, быстрым он сделал коня,
Выносливость в нем и отвагу ценя.
По силам был Рехшу и панцирь, и шлем,
И сам богатырь несравненный, Ростем.
Таким стал гнедой, что в ночи всякий раз
Жгли руту, чтоб злой не сгубил его глаз.
Казалось, то конь заколдованный был;
10250 В нем лани стремительной трепет и пыл;
Весь в пене, он степью несется, ретив,
Могуч, крутобедр и осанкой красив.
Заль-Зеру овеяли сердце весной
Скакун небывалый и всадник родной.
Он роздал дары, не грустя о казне,
Откинув заботу о завтрашнем дне.
[ЗАЛЬ ВЫСТУПАЕТ В ПОХОД ПРОТИВ АФРАСИАБА]
Бьют в гулкие чаши на спинах слонов[312],
Послышался трубный пронзительный зов.
Слоны заревели, на версты кругом
10260 Разнесся кимвала воинственный гром.
Сказал бы, день страшный суда наступил,
Восстанут сейчас мертвецы из могил.
В крови обагрявшая руки не раз
Дружина забульская в путь собралась.
Ростем, богатырь молодой, — впереди,
Герои преклонных годов — позади.
Стеною дружина несметная шла —
Подняться и галка в степи не могла.
Всю ночь грохотал барабан, словно гром,
10270 Наутро пыль черная встала столбом.
Порою цветения доблестный Заль
С дружиной забульскою двинулся вдаль[313].
Про это узнал Афрасьяб и, к войне
Готовясь, забыл о покое и сне.
И вскоре он Хара, близ Рея, достиг —
Прибрежных низин, где качался тростник[314].
Меж тем, из Ирана, пустыней идя[315],
Войска подоспели Дестана-вождя.
От рати к другой — два фарсанга пути.
10280 Воителям вождь повелел подойти
И так говорит: «О мужи-мудрецы,
В боях закаленные други бойцы!
Сюда мы собрали могучую рать,
За правду, за благо хотим постоять.
Но нет единенья без царской руки,
Не ладится дело, безглавы полки.
Лишь нами стал праведный Зов управлять,
На край наш родной снизошла благодать.
И ныне нам нужен водитель дружин
10290 Из Кеев — готовый к трудам властелин[316].
Мобед указал мне царя из царей,
Кто мощью и разумом — истинный Кей[317], —
Героя Кобада, чей дед Феридун;
Он полон отваги, прекрасен и юн».
[РОСТЕМ ПРИВОЗИТ КЕЙ-КОБАДА С ГОРЫ ЭЛЬБОРЗ]
Ростему сказал благородный Дестан:
«Возьми свою палицу, выпрями стан
И к высям Эльборза скачи поскорей
С отборным отрядом бесстрашных мужей.
Кобаду-царю возвести торжество,
10300 Однако, не мешкай в гостях у него.
К концу двух недель возвращайся, смотри,
Без отдыха мчись от зари до зари.
Скажи: наша рать избирает тебя,
Державный престол призывает тебя.
Ты быть миродежцем достоин один,
Другой нам неведом. Приди, властелин!»
Услышав отцовское слово, Ростем
Ресницами землю метет, а затем
На Рехше несется к Эльборзу-горе;
10310 Взыграло веселие в богатыре.
Отряды туранцев он встретил в пути.
Поняв, что от схватки ему не уйти,
Могучий стремительно ринулся в бой;
Столь тяжко разил он своей булавой,
Что недругов храбрость покинула вдруг,
И сила ушла из трепещущих рук.
С Ростемом в сраженье вступившая рать
В беспамятстве с поля пустилась бежать.
Бойцы, испытав униженье и страх,
10320 Спешат к Афрасьябу в тоске и в слезах.
Царь слушал, нахмурясь, спасенных рассказ
О тяжкой беде, что с дружиной стряслась.
Затем подозвал он Колуна-бойца[318],
В сраженьях испытанного храбреца.
И вымолвил: «Конный ты выведи строй,
Владыке Ирана засаду устрой[319].
Отважным, разумным и бдительным будь,
Внимательным оком оглядывай путь.
Иранцы коварны: на ваши посты
10330 Нагрянут они средь ночной темноты».
С вождем распростившись, Колун удалой,
Испытанных взяв провожатых с собой,
Бойцов и слонов поспешив повести,
Засел у иранских бойцов на пути,
Прославленный витязь, отважный Ростем,
К владыке Ирана скача, между тем,
Вблизи от Эльборза, под склонами гор
Увидел долину, манящую взор.
Под сенью деревьев журчит ручеек,
10340 Там юношам любо усесться в кружок;
Укрылся в тени, соком роз окроплен,
Игрой самоцветов украшенный трон.
Сидит на престоле блистающем том
Царь-юноша, с месяцем схожий лицом.
У трона стоят, по уставу царей,
Ряды опоясанных богатырей.
С собранием царственным радостным тем
Сравнился бы только цветущий Эдем.
Ростема едва увидав на пути,
10350 Навстречу мужи поспешили придти
И молвили: «Витязь, куда же ты, стой!
От нас не умчишься ты этой тропой.
Хозяева мы, нашим гостем ты стал.
Внемли приглашению, сделай привал.
Мы кубки осушим с тобой заодно,
Пить станем за здравие гостя вино».
Могучий на это промолвил в ответ:
«Скажу, о собранье почтенное, — нет.
К вершинам Эльборза мне должно спешить,
10360 Там важное дело мне должно свершить.
Откладывать дело такое не след.
Немало трудов предстоит нам и бед.
Враг дерзостный рыщет по краю всему,
Рыдания, горести в каждом дому.
Без шаха престол, без начальника рать —
Не время теперь мне вино распивать».
Сказали Ростему: «О мощный герой!
Когда привлечен ты Эльборзом-горой,
Поведай, кого же на этом пути
10370 Ты хочешь, о славолюбивый, найти?
Здесь дружно пируют, веселья полны, —
Воители той благодатной страны.
Ответишь — дорогу покажем тебе
И всякую помощь окажем тебе».
Ростем отвечает им: «В этих местах
Живет ясноликий, сказали мне, шах.
Кобадом зовут венценосца; он род
От праведного Феридуна ведет.
Я встречи ищу с Кей-Кобадом-царем;
10380 Что ведомо вам, расскажите о нем».
Ответил глава пировавших бойцов:
«Тебе в этом деле помочь я готов.
Ты пиршество наше почтить соизволь,
Собою наш круг осветить соизволь.
На все я отвечу тебе, рассказав,
Каков у Кобада обычай и нрав».
Лишь имя Кобада услышал Ростем,
Как ветер, он с Рехша слетел и затем
К ручью устремился, и вместе они
10390 Уселись в прохладной древесной тени.
Тут юноша сел на престол золотой.
Взяв руку Ростема одною рукой,
Другою он чашу наполнил вином,
За здравие витязей выпил, потом
Ростему он чашу другую поднес
И молвил: «О славный, задам я вопрос:
Кобада ты ищешь, но имя его
Ты сам-то услышал, скажи, от кого?»
Ответил Ростем: «Именитый герой!
10400 Я вести несу к нему с чистой душой.
Ирана престол призывает его,
Владыкою войско признает его.
Отец мой, воитель, чье имя Заль-Зер,
Среди родовитых — отваги пример,
Сказал мне: «Отправься к Эльборзу-горе
И там, расспросив о Кобаде-царе,
Предстанешь пред шахом и станом его,
Поздравишь с державой и саном его.
Скажи ему: волей он избран бойцов[320],
10410 И царский престол для владыки готов.
Поведай мне, где он, что знаешь о нем: Ему суждено быть иранским царем».
На эти слова благородный юнец
Ответил с улыбкой: «О мощный боец!
Я — отпрыск царя Феридуна, Кобад,
За мной — моих предков увенчанных ряд».
Услышал Ростем, и душой просветлен,
Земной повелителю отдал поклон.
Сказал он: «О славный владыка царей,
10420 Опора воинственных богатырей!
Иранский престол да возьмешь себе в дар,
Слонов да сражает твой грозный удар!
Исполнен отваги, ума, доброты,
Достоин престола великого ты.
Привета слова я принес для царя
От Заля, великого богатыря.
Коль речь повелитель дозволит начать,
Уста мои сбросят молчанья печать».
Поднялся с престола глава храбрецов,
10430 Бойца со вниманием слушать готов.
И тот поспешил слово в слово донесть
От славного Заля отрадную весть.
И сердце взыграло в груди у царя,
Душа встрепенулась, весельем горя.
«Несите, — воскликнул он, — чашу вина!»
Ее за Ростема он выпил до дна.
Испил и Могучий вина за царя,
Приветные речи ему говоря.
И звоном веселым лады залились[321],
10440 Сердца ликованьем и счастьем зажглись.
Поведал воителю царь молодой:
«Мне сон этой ночью приснился благой.
Два сокола, мчась из иранской дали,
Венец, словно солнце светивший, несли;
Слепя белизною в сиянии дня,
Спустившись, они увенчали меня,
И я пробудился. От вещего сна
В душе засияла надежды весна.
И царственный пир мой почтили друзья,
10450 Которых увидел ты здесь, у ручья.
О мощный, ты соколом белым мне весть
Принес про венец, про великую честь».
Узнав, что владыке являлись во сне
Две птицы с короной, подобной луне,
Ростем отвечает, лицом просветлен:
«Ниспослан пророками вещий твой сон.
Но должно теперь нам в Иран поспешить,
С подмогой в наш воинский стаи поспешить».
С престола вскочил Кей-Кобад, что огонь,
10460 И вот уж под ним бурнопламенный конь.
Ростем, опоясан, в родимый предел
С царем Кей-Кобадом, как вихрь, полетел.
Скача беспрестанно и ночи и дни,
Туранских дозоров достигли они.
Услышал об этом Колун, и с ордой
Им путь перерезал и ринулся в бой.
Владыка, увидев туранских бойцов,
Уж войско навстречу был двинуть готов.
Но молвил Могучий царю своему:
10470 «Вступать в эту битву тебе ни к чему[322].
Здесь я, твой слуга, — кто осилит меня?
Со мной мой скакун, булава да броня.
Плечо мое, палица, удаль — другой
Защиты не надо тебе никакой.
Могучие руки да Рехш мой к тому ж —
Подобный средь недругов сыщется ль муж?»
Так вымолвив, Рехша он тронул слегка;
Ударом расплющивал он седока,
Хватал и друг с другом сшибал он бойцов,
10480 И мозг вылетал из разбитых голов.
Мгновенно железною хваткой своей
Он стаскивал всадников мощных с коней
И наземь их так повергал с высоты,
Что кости трещали, ломались хребты.
Увидел Колун: путы сбросивший див
С арканом летит, булаву обагрив.
Как вихрь, устремившись к Ростему, на нем
Кольчугу рассек он тяжелым копьем.
Могучий рукою копье ухватил;
10490 Колун от подобной отваги застыл.
Вдруг, вырвав копье, разъярен и могуч,
Взревел богатырь, словно гром среди туч.
Врага приподнял и пронзил он копьем,
И в землю воткнулось оно острием.
Такого дотоле не видывал свет:
Как птица, на вертел воитель надет,
И Рехш его топчет всей мощью копыт,
И враг побежденный недвижим лежит!
Тут всадники дрогнули, кинулись вспять,
10500 Оставив Колуна средь поля лежать.
Дружина Колуна была сметена;
В смятении с поля бежала она.
Могучий, прорвавшись сквозь первый дозор,
С бойцами счастливо добрался до гор.
Увидев лужок с ключевою водой,
Устроил привал богатырь молодой.
Там ждал он с Кобадом. Лишь солнце во тьму
Укрылось, он все приготовил к тому,
Чтоб в царской одежде, на царском коне,
10510 Венчанным явился владыка стране.
Стемнело. Ростем осторожный тотчас
Собрался в дорогу. Стремительно мчась,
Он шаха к Дестану спешил довезти,
Молчанье храня в столь опасном пути.
Неделю держали мобеды совет,
И должен признаться был каждый мобед,
Что свет Кей-Кобаду подобных царей
Не знал среди ведомых миру людей.
В весельи неделю еще провели,
10520 Вино распивая с владыкой земли.
Трон кости слоновой внесли во дворец,
Сверкнул над слоновою костью венец.
КЕЙ-КОБАД[323] [Царствование длилось сто лет\
Воссел на престол Кей-Кобад, и чело Короной украсил, сиявшей светло.
С Дестаном явились герои страны:
Карен, искушенный в веденьи войны, Гошвад, и Хоррад, и Борзин-удалец. . . Осыпав алмазами царский венец,
Сказали они: «Государь, о борьбе 10530 С ту ранцами должно подумать тебе».
Про стан Афрасьяба мужей расспросил Властитель и к смотру дружин приступил. С зарею в поход поднимал он бойцов, Гремел перед ставкой воинственный зов. Ростем, в боевую броню облачен,
Пыль темную поднял, как яростный слон Построилась цепью иранская рать,
Готова кровавую битву начать.
Кабулец Мехраб на крыле был одном[324],
10540 А грозный боец Гостехем — на другом[325].
Карен — посредине, отважен и горд,
С могучим Гошвадом, крушителем орд.
Скакал перед войском Ростем-исполин
С мужами храбрейшими, цветом дружин.
Вослед — с Кей-Кобадом несется Дестан;
В руке его — пламя, в другой — ураган.
Весь мир озаряя, лазорев и ал,
Над воинством стяг кавеянский пылал.
Земля, всколыхнувшись, летела, как челн,
10550 Средь моря Китайского в грохоте волн.
Холмы и равнина сплошь в медных щитах,
Мечи, что огни, загорались впотьмах.
Весь мир уподобился морю смолы,
Где множество светочей блещет из мглы.
Рев, лязганье, грохот нет мочи снести,
И солнце само заблудилось в пути.
Столкнулись два войска громадами гор;
Не видел конца и начала им взор.
Пред сомкнутым строем, неистов и смел,
10560 Карен-предводитель вперед полетел.
То вправо, то влево он мчался грозой,
Повсюду врага вызывая на бой.
Мечом, булавою и длинным копьем
Мгновенно сражал он бойца за бойцом.
Он землю горой мертвецов завалил,
И дрогнуло войско, лишенное сил.
Но слышится львиный воинственный рык:
Боец Шемасас приближается. Вмиг
Помчался навстречу, из ножен извлек
10570 Блистающий свой закаленный клинок,
И в темя врага поражает храбрец,
Вскричав: «Я — Карен, именитый боец!»
Свалился с седла богатырь Шемасас,
Свалился и с жизнью расстался тотчас.
Да, вот они, дряхлого рока дела!
То крив, словно лук он, то прям, как стрела.
[БИТВА РОСТЕМА С АФРАСИАБОМ]
Ростем, увидав, как герои разят,
Запомнив сражений обычай и лад,
К отцу устремился и молвил ему:
10580 «О витязь, известный народу всему!
Ответь мне, откликнись на просьбу мою:
Как сына Пешенга найти мне в бою?
В каких он доспехах, каков его стяг?
Не тот ли, что там лиловеет сквозь мрак?
Я ринусь, врага за кушак ухвачу,
Повергнув, лицом по земле протащу».
Заль молвил: «О сын мой, услышь мою речь.
Сегодня ты должен себя поберечь.
Тот враг — огнедышащий ярый дракон,
10590 Летит смертоносною тучею он.
Черны боевые доспехи на нем,
Железные латы, железный шелом.
Железо украшено золотом сплошь,
По черному стягу врага ты найдешь.
Но бойся за жизнь молодую свою:
Удачлив и неустрашим он в бою».
Ответ был: «О витязь, готов я к войне,
Не должен тревожиться ты обо мне.
Мне помощь Создатель миров ниспошлет.
10600 Отвага и сила — надежный оплот».
Свинцовокопытного взвил он коня,
Труба поднялась, завывая, стеня,
И мчится к туранскому войску, взревев,
Защитник дружины, воинственный лев.
Меж тем, Афрасьяб на Ростема глядит,
Дивясь, что воитель столь молод на вид.
«Кто этот дракон,—вопросил он стрелков,—
Что вырвался будто сейчас из оков?»
Его я не знаю по имени». — «Он, —
10610 Сказали, —внук Сама, от Заля рожден.
Взгляни, с булавой бычьеглавой летит;
Он молод, в погоне за славой летит».
Рванулся вперед Афрасьяб, словно челн,
Взметенный прибоем бушующих волн.
И крепче Ростем стиснул Рехшу бока;
Тяжелую палицу сжала рука.
И вот он столкнулся вплотную с врагом;
К седлу булаву приторочил, потом
Схватил он туранца за тесный кушак,
10620 С седла тополевого поднял и так
Хотел уж к Кобаду его волочить,
Чтоб с первой же битвы врага проучить.
Но тяжесть гиганта была велика,
Не выдержал кожаный пояс рывка.
Он лопнул, и враг повалился тотчас,
И всадники рати туранской, примчась,
Спасли Афрасьяба от богатыря.
С досады грыз руку Ростем, говоря:
«Не надобно было хватать за кушак!
10630 Тащил бы подмышкой, не вырвался б враг».
Литавры везя, выступают слоны.
Кимвалы и трубы далеко слышны.
К властителю весть полетела стрелой:
«Прорвавшись отважно сквозь вражеский строй,
Могучий Ростем Афрасьяба настиг,
И стяг предводителя тотчас поник.
Схватил он туранца и наземь швырнул.
Пронесся над ратью смятения гул.
Вождя окружили туранцы толпой,
10640 И, пешего, прочь увлекли за собой.
От рук победителя спасшись едва,
В седле очутившись, туранцев глава,
В пустыню, как ветер, понесся тотчас;
Оставил он войско, но жизнь свою спас».
Те вести услышав, дружину зовет
Кобад, чтобы с ней устремиться вперед,
Грозой налететь на туранскую рать,
Ее сокрушить и во прах разметать.
Он мчится, как пламень, и воинский стан
10650 Шумит, словно в бурю ночной океан.
А Заль и Мехраб, жаждой брани полны,
Спешат на подмогу с другой стороны.
И вот уже яростный бой загремел:
Блистание стали, стремление стрел,
Стук палиц тяжелых по меди щитов...
От грохота мозг разорваться готов.
Кровь льется на медь среди этих равнин,
Как будто льют киноварь на апельсин.
Кровь рыбу, держащую землю, поит;
10660 Прах встал до луны и недвижно стоит.
Пласт почвы оторван, взметен: коли счесть,
Небес стало восемь, земель стало шесть[326].
На славного сына Заль-Зер посмотрел,
Увидел, как ловок он, мощен и смел,
И сердце взыграло в груди у отца
От славных деяний героя-бойца.
Ростем отличился в сражении том:
Арканом своим, булавою, мечом
Немало и рук, и хребтов, и сердец
10670 Связал, и сломал, и пронзил удалец.
Там ратников тысяча сто шестьдесят
Погибло; за рядом он скашивал ряд.
Туранская рать от Мугана ушла,
Поспешно к равнинам Дамгана ушла[327].
Оттуда к Джейхуну спешат седоки,
Исполнены горечи, гнева, тоски,
Оружья лишась, утеряв пояса...
Где стяг и литавры, где строя краса?
С пути воротившись, иранцы потом
10680 К царю поспешили, полны торжеством,
Не зная, куда им добычу девать,
Которую вражья оставила рать.
Хвалу Кей-Кобаду, владыке земли,
Воители славные произнесли.
И доблестный витязь Ростем, воротясь,
В шатер к венценосцу явился тотчас,
И шах усадил его рядом с собой
С одной стороны, а Дестана — с другой.
[ПРИБЫТИЕ АФРАСИАБА К ОТЦУ]
Меж тем Афрасьяб, с поля битвы бежав,
10690 До первой домчась из речных переправ,
Спешит перебраться на берег родной.
Проводит семь дней у реки. На восьмой
К Пешенгу примчался, досадой горя,
И так говорит, укоряя царя:
«Владыка, скажи, не твоя ли вина,
Что старая вновь разгорелась война?
Нарушил ты клятву свою, государь.
Не так поступали великие встарь.
От рода Иреджа избавишь ли свет?
10700 Яд горек, но противоядия нет.
Погибнет один — воцарится другой;
Не быть без владыки державе такой.
На царство там ныне венчался Кобад,
Он жаждою новых сражений объят.
У Сама-воителя внук-великан,
Ростемом нарек его старый Дестан.
Подобен свирепым драконам морским,
Сжигающим землю дыханьем своим.
Он мчался, не глядя, где спуск, где подъем,
10710 Разил булавой, стременами, мечом.
Гром палицы воздух наполнил в бою;
Горсть праха за жизнь ты бы не дал мою.
Разбил он, рассеял наш воинский строй.
Досель не рождался подобный герой.
Как только увидел мой реющий стяг,
К луке привязал свою палицу враг
И, словно букашку, меня он с седла
Стряхнул — такова его сила была.
Но лопнул, не выдержав, пояс мой вдруг;
10720 Упал я и спасся от вражеских рук.
Не сыщется силы подобной у льва;
Небес достигает его голова.
Воители наши, примчась издали,
Меня от того исполина спасли.
Ты знаешь, владыка, отвагу мою,
Бесстрашье, искусство и ловкость в бою.
Но был я былинкой в руках у него.
В испуге взирал я на то существо:
Он — силою слон, а отвагою — лев;
10730 Нет разума в нем, только сила и гнев.
Горы попирая вершину и склон,
Не конь его мчит,а неистовый слон.
Стократно мы в шуме грозы боевой
Разили того седока булавой.
Сказал бы, он весь из свинца сотворен.
Иль он из железа, иль каменный он.
И горы, и воды, и львы, и слоны
С пути его были бы вмиг сметены.
Он будто на лов гнал коня своего,
10740 Казалось, сраженье — игра для него.
Таким же могучим будь Сам-великал,
Давно бы раздавлен был гордый Туран.
Ты мира ищи, нет иного пути;
Тебе не под силу с ним войны вести.
Храбрейший, сильнейший воитель твой — я,
Я в трудную пору — опора твоя,
А я состязаться с таким не могу.
Решайся, и дружбу предложим врагу.
Те земли, что Туру даны были встарь,
10750 Когда управлял Феридун-государь,
Оставлены нам, ими станем владеть.
За старое мстить и не думай ты впредь.
А если продлить пожелаем войну —
Мир станет нам тесен, погубим страну.
О том не суди, что не видел ты сам,
Не слуху ты верь, а своим лишь глазам.
С Ираном война тебе мнилась игрой,
В игре изнемог удальцов твоих строй.
На завтра своих не откладывай дел:
10760 Кто знает, каков наш грядущий удел.
Рви розы, пока они в полном цвету,
Назавтра утратят они красоту.
Припомни, как много стремян и подпруг,
Блистающих шлемов, щитов и кольчуг,
Коней аравийских в уздах золотых,
Булатов индийских в ножнах золотых,
И сколько воителей нашей, страны
Развеяно гибельным вихрем войны:
Мужи, как Барман и Гольбад, чей кинжал,
10770 Бывало, и тигров степных устрашал;
И доблестный наш богатырь Хезерван,
Кого сокрушил булавою Дестан;
И войска опора, герой Шемасас,
Кого пересилил Карен, разъярясь...
Бойцов десять тысяч в сражении том
Повержено было свирепым врагом.
И хуже того — в прах повержена честь;
А чести поверженной вновь не обресть.
О царь, оттолкнул ты меня, разлюбил
10780 За то, что я брата во гневе убил;
Ты видишь, какое великое зло
Безумство, свершенное им, принесло.
Врагов, им спасенных, я встретил в бою,
Скакавших под знаменем, в ратном строю.
Не худо они проучили меня,
В борьбе одолев и с позором гоня.
Теперь о минувших делах позабудь,
Теперь к примиренью отыскивай путь.
А если ты мыслью другой покорен,
10790 Войска с четырех к нам нагрянут сторон:
Ростем знаменитый, кого превозмочь
И солнцу небесному было б невмочь;
Карен приведет к нам дружину свою,
Досель поражений не знавший в бою;
И золотошлемный воитель Гошвад,
Под стены Амола водивший отряд;
И мудрый советник, кабулец Мехраб,
Муж доблестный». Так говорил Афрасьяб.
Владыка сквозь слезы той речи внимал,
10800 Дивился, что разума свет засиял
Вождю, что свернул он с кривого пути
И хочет дорогою правды идти.
[ПЕШЕНГ ПРОСИТ МИРА У КЕЙ-КОБАДА]
Вельможу, известного светлым умом,
К Кобаду Пешенг отправляет с письмом,
Словесным узором украсив его,
Эрженга в посланьи явив мастерство[328]:
«Да славится вечный Владыка светил,
Что все на земле сотворил и взрастил!
Пусть мир Он душе Феридуна пошлет,
10810 Царя, основавшего древний наш род.
О славный властитель иранской земли,
Призыву добра и рассудка внемли!
Тур, жаждою власти верховной горя,
Иреджа убил, молодого царя.
Но речь я теперь не о том поведу;
Старинную длить не должны мы вражду.
Уже отомщен Менучехром Иредж.
Пора отдохнуть от губительных сеч.
А тот, Феридуном свершенный раздел —
10820 Царем, что о правде единой радел, —
Должны мы теперь, как и встарь, сохранить,
С пути миродержцев былых не сходить.
С Хергаха до края, где льетсяДжейхун,
До Мавараннахра весь край Феридун
Нам дал во владенье в былые года.
Иредж и не думал о нем никогда:
Ведь долей Иреджа считался Иран,
Что был при разделе отцом ему дан.
Коль спор разрешить пожелаем мечом —
10830 На верную гибель себя обречем.
Меч вражий, гнев Божий сразит нас тогда,
В обоих мирах нас постигнет беда.
Как встарь Феридун совершить повелел
Меж Туром, Иреджем и Сельмом раздел —
На том порешим, так поделим мы свет.
Все царства не стоят столь тягостных бед!
Состарился Заль в непрестанных боях[329],
От крови героев багровым стал прах.
Но сколько б за землю мы войн ни вели,
10840 Любому отмерят пять рашей земли —
Лишь яму, чтоб нас опустили в нее,
Когда мы земное пройдем бытие.
Тщета — все иное. Лишь горечь и боль
Сулит ненасытным земная юдоль.
На мир соглашайся, о царь Кей-Кобад!
Решенью разумному праведный рад.
Джейхун вспоминать мы не станем и в снах.
И к нам пусть не войско на быстрых челнах,
А вестники дружбы и мира плывут,
10850 И счастливо обе страны заживут».
Пешенг, на посланье поставив печать,
Дары не замедлил иранцам послать:
Алмазный венец и престол золотой,
Рабынь, поражающих взор красотой,
Блистающих сбруей арабских коней,
И множество острых булатных мечей.
Примчался и весть от Пешенга посол
Вручил Кей-Кобаду. Посланье прочел
Владыка и, чуждый коварству и злу,
10860 Такими словами ответил послу:
«Не нами нарушена мира черта;
Война Афрасьябом была начата.
Зло первое некогда Тур совершил,
Иранский престол он Иреджа лишил.
А ныне бойцы Афрасьяба-вождя
В край вторглись иранский, Джейхун перейдя.
Что сделал он, вспомни, с Новзером-царем.
Ведь звери — и те горевали о нем.
Закон человечности он преступил,
10870 Когда мудреца Агриреса убил.
Но если, покинув неправедный путь,
Решитесь вы дружбу Ирану вернуть —
Гонимы тогда вы не будете мной:
Обителью не дорожу я земной.
Весь край за Джейхуном пусть к вам отойдет, —
Быть может, покой Афрасьяб обретет».
И мир договором скрепил Кей-Кобад —
Вновь древом украсил величия сад.
Стремительней тигра примчавшись, посол
10880 С письмом Кей-Кобада к Пешенгу вошел.
И вот уже пыль поднялась в облака,
Уводит Пешенг и обоз, и войска,
И через Джейхун переправился он,
И вскоре об этом был шах извещен.
Без боя ушел неприятель, и рад
Тому несказанно был шах Кей-Кобад.
«Царь, — молвил Ростем,—мы в разгаре войны
О мире с врагом говорить не должны.
Противник о мире не думал сперва —
10890 Его вразумила моя булава».
Сказал Кей-Кобад исполину в ответ:
«Чти правду, дороже сокровища нет.
Я знаю, что враг пораженьями сыт,
И лишь потому от сражений бежит.
Но если мы честью и правдой сильны,
То кривду и ложь мы отвергнуть должны...
Отныне считать я твоим повелел
От Забулистана до Синда удел.
Тебе я вверяю Полуденный край[330],
10900 В нем царствуй и правдою край озаряй.
Мехрабу — Кабула оставь рубежи,
И стрелы в отравленной влаге держи.
Ведь царства погрязли в раздорах и зле,
Хоть место найдется для всех на земле».
Велел он дары для Ростема принесть.
Бойцу оказал он высокую честь,
Венчав его царским венцом золотым,
Стянув ему стан кушаком золотым,
Земель подарив неоглядную ширь...
10910 Склонился пред ним до земли богатырь.
И далее речь повелитель повел:
«Дестаном пусть вечно гордится престол!
Не стоит его волоска целый свет,
Он — память о славе исчезнувших лет».
Пять мощных слонов, паланкины на них
Сплошной бирюзы, цвета струй голубых,
И ткань, что узором чудесным цвела,
Ларец драгоценный с казной без числа,
Всю в злате одежду — владычества знак,
10920 И в лалах венец, и в сапфирах кушак —
Вручил седовласому Залю Кобад,
Сказав: «Ты достоин и лучших наград.
Коль мира Создатель продлит мне года,
Нуждаться не будешь ни в чем никогда».
И прочим бойцам, как Карен и Гошвад,
Херрад, и Борзин, и могучий Пулад[331],
По мере заслуг повелитель воздал:
Кого он достойным даров почитал —
Тем золото роздал, щиты и клинки,
10930 А самым достойным — венцы, кушаки.
[ПРИБЫТИЕ КЕЙ-КОБАДА В ИСТАХР]
Царь двинулся к Парсу, велик и могуч, —
Там был и казны и могущества ключ.
Истахр был столицею в те времена[332],
И ею гордились цари издавна.
К царю обратили народы свой взор,
И он, властелином верховным с тех пор
Воссев на кеянский престол золотой,
Стал мудро и праведно править землей.
Однажды промолвил он славным мужам:
10940 «Все в мире отныне покорствует нам.
Коль с мошкой враждует рассерженный слон —
Идет против чести и мужества он.
Я вижу в одной только правде оплот,
Злодейство гнев Божий на нас навлечет.
Всем благо несут повеленья мои,
Все воды и земли — владенья мои.
Сплотились владыки под стягом моим,
Народом и войском равно я любим.
Живите в согласье, сердца веселя.
10950 Пусть мир осенит города и поля!
Кто блага имеет — владей и дари,
За блага властителя благодари.
А кто достоянья лишен и притом
Не может своим прокормиться трудом, —
Тем будет источником благ мой дворец,
Ведь отдал их мне под защиту Творец».
Задумал он царство свое обойти,
И вот уж владыка с дружиной в пути.
Лет десять он ездил, творя без числа
10960 Открыто и тайно благие дела.
Возвел города многолюдные Кей
И сотню селений вкруг города Рей[333].
Но стали уж старости когти терзать
Владыку, и в Парс он вернулся опять.
Воссев на престол, он призвал мудрецов,
Седых звездочетов, провидцев-жрецов;
Собрал всех воителей славных своих,
С волнением в сердце приветствовал их,
Погибших бойцов помянув имена...
10970 От царских щедрот расцветала страна.
Так, радостен сердцем, ста лет он достиг.
Мир много ли видел подобных владык?
Стране четырех молодых сыновей
Оставил он в память о жизни своей.
Он звал: Кей-Кавус, Кей-Ареш, Кей-Пешин —
Троих, а четвертого звал Кей-Армин[334].
В довольстве и радости юные дни,
Не ведая зла, проводили они.
Сто лет украшал Кей-Кобада венец,
10980 Но счастью пришел неизбежный конец.
Едва ощутив, что конец недалек,
Что сник увядающей жизни листок,
Призвал Кей-Кавуса державы глава,
О правде и щедрости молвил слова:
«В дорогу собрался я, срок мой пришел.
Меня схорони и взойди на престол.
Давно ль я примчался с Эльборза-горы
И други со мной, веселы и бодры?
Что счастье! Оно исчезает, как дым.
10990 Кто мудр, не гоняется тщетно за ним.
Коль ты справедлив и чужда тебе ложь,
Награду в обители горней найдешь.
Но если корыстью твой дух полонен
И если ты меч извлечёшь из ножен —
Ты этим погубишь себя самого,
Твой недруг заклятый отнимет его.
Горюя и злобствуя жизнь проведешь,
За гробом — в пылающий ад попадешь».
Так молвил и, землю покинув без мук,
11000 Дворец променял он на тесный сундук.
К бессмертию не устремляйся в мечтах:
Кто б ни был ты — ветер развеет твой прах.
Расставшись теперь с Кей-Кобадом-царем,
О шахе Кавусе рассказ поведем[335].
КЕЙ-КАВУС [Царствование длилось сто пятьдесят лет]
Коль выросло древо и плод принесло,
Но стало точить его тайное зло,
И корень ослаб, и поблекла листва, —
Склоняется книзу вершина сперва,
А там, как подкошенный, рушится ствол,
11010 И новый побег уж на смену пришел;
В наследие дан ему солнечный сад,
Сиянье весны и цветов аромат.
Был корень здоров, а в побеге порок,
Но этого корню не ставь ты в упрек.
Коль сыну владенья отец завещал,
О тайнах ему сокровенных вещал,
Но слава отцовская попрана им —
Не сыном его ты считай, а чужим.
С дороги наставника, дерзок и слеп,
11020 Он сбился и кару заслужит судеб.
Таков уж обычай в приюте земном,
Начал и концов не распутаешь в нем.
Кто ложной дорогой стремится вперед,
На жалкую гибель себя обречет.
Теперь благородному старцу внемли
И знания жажду полней утоли.
Кавус, унаследовав царский престол,
Над краем огромным господство обрел.
Склоненную видел страну пред собой,
11030 Бездонную видел казну пред собой:
Серег, и запястий, и перстней гора,
В венцах золотых самоцветов игра,
Несчетных арабских коней табуны...
Могуч и богат повелитель страны.
Однажды в саду, среди лилий и роз,
К устам он наполненный кубок поднес.
На троне из золота и хрусталя
Властитель властителей, дух веселя,
Сидел с храбрецами иранской земли,
11040 И пили они и беседу вели.
Стал шах похваляться: «Мне равного нет,
Властителя, в мире столь славного, нет.
Владеть мне пристало всей ширью земной,
Никто не дерзнет состязаться со мной».
Всё пьет и хмелеет он, так говоря,
Дивятся воители речи царя.
Явился тут див, по обличью — певец,
И стражу сказал: «Проводи во дворец.
Из дальнего Мазендерана иду,
11050 Играть я умею, я с песней в ладу.
Быть может, владыке смогу угодить —
Пусть к трону велит он меня допустить».
Глава царедворцев, о том извещен,
Владыке промолвил, отвесив поклон:
«Бродячий певец — у дворцовых ворот
Предстать пред тобой дозволения ждет».
До трона царя провожали его,
Среди музыкантов сажали его.
Он руд сладкозвучный настроил тотчас,
11060 И мазендеранская песнь полилась:
«Да славится солнечный Мазендеран,
Да будет он счастьем навек осиян!
Там розы не вянут в тенистых садах,
Не вянут тюльпаны на горных грядах;
Цветет, увяданья не зная, страна,
Ни зноя, ни холода — вечно весна.
Струится в садах соловьиная трель,
Резвится в горах молодая газель,
На склонах зеленых весь год проводя,
11070 Себе пропитанье весь год находя.
И слуха услада, отрада очей —
Хрустальной струею звенящий ручей.
Дэй-месяц, Бехмен ли, Азер, Фервердин[336] —
Не блекнет ковер благодатных долин;
В реке отражается зелень лугов,
Охотничьи соколы мчатся на лов.
Богатого града пленителен вид,
Парча златотканная всюду блестит.
Прекрасные девы — в венцах золотых,
11080 Мужи-удальцы в поясах золотых.
Кто не был, кто не жил в том дивном краю,
Ни разу не радовал душу свою».
Лишь, слух обольщая, та песнь донеслась
До шаха Кавуса — душа в нем зажглась.
Внезапною жаждою битв обуян,
Задумал он вторгнуться в Мазендеран.
Сказал он прославленным богатырям:
«Мы здесь предаемся веселью, пирам,
А воину каждому праздность вредна:
11090 Изнеженность, лень порождает она.
Джемшида, Кобада и прочих царей
Я счастьем богаче и родом старей —
Тем большую доблесть мне надо явить.
Царю подобает воинственным быть».
В смятеньи внимала властителю знать;
Кто мог бы тот замысел мудрым признать?
Кто с дивами лютыми ищет борьбы?
Мужи побледнели, наморщили лбы.
Но спорить с владыкой никто не хотел,
11100 Лишь горестный вздох над толпой пролетел.
Гив доблестный, Туc, и Гудерз, и Гошвад,
Горгин, и Бехрам, и могучий Пулад
Сказали: «Тебе мы покорны во всем.
Куда повелишь, за тобою пойдем».
Но после, собравшись в полуночной мгле,
Властителя речь подвергали хуле
И так меж собой говорили они:
«Достались на долю нам черные дни.
Коль царь не утопит в вине на пиру
11110 Им сказанных слов, вспомнит их поутру —
Ирану конец, всем конец нам тогда!
Исчезнет вода и земля без следа.
Джемшиду служили и зверь и пери,
Сиял его перстень светлее зари, —
На дивов он все же войной не ходил,
Воителей в Мазендеран не водил[337].
Мудрец Феридун, чудотворец святой,
Вовек не пленялся подобной мечтой.
И если бы нужен был этот поход,
11120 То царь Менучехр, не жалея щедрот,
Не ведая страха, его б совершил,
Навеки бы вражью орду сокрушил.
Нам надобно средства искать и пути,
Чтоб злую беду от страны отвести».
Тус витязям молвил: «О други-бойцы,
В сраженьях испытанные храбрецы!
От этого горя есть средство одно,
К нему обратимся — доступно оно.
Воззвание мы с расторопным гонцом
11130 Воителю Залю такое пошлем:
«Коль голову моешь ты, — пены не смыв,—
Спеши к нам на выручку, ум отточив... »[338]
Советы его, коль приложит он труд,
Путь к царскому сердцу, быть может, найдут.
Он скажет: «То сети плетет Ахриман;
Не должно вторгаться к волшебникам в стан».
А если царя не усовестит Заль —
Все сгинет, постигнет отчизну печаль».
О многом вождю написали. С письмом
11140 Помчался гонец на коне огневом.
В далекий Нимруз прискакав, наконец,
Вошел к ясноликому Залю гонец.
Привез он от цвета иранских дружин
Посланье: «О Сама прославленный сын!
Отчизну сегодня толкают на путь,
Что с разумом несообразен ничуть.
Коль ты не пойдешь против этих затей,
Настанет конец для отчизны твоей.
Желанием гибельным царь обуян,
11150 С пути совратил его сам Ахриман.
Властителю мало иранской казны,
Что деды скопили, трудясь для страны.
Прельстился добычею легкою он,
И мазендеранский подай ему трон!
Когда хоть мгновенье промедлишь, в поход
Тотчас же владыка войска поведет
И разом погубит плоды всех трудов,
Что нес при Кобаде ты столько годов,
Сражаясь по львиному рядом с сынком,
11160 Который не сыт был еще молоком;
Погубит, развеет по ветру, как дым...
Губительным замыслом он одержим.
Поблекнет державного древа листва...»
Заль в горести выслушал эти слова.
Он думал: «Кавус своеволен и слеп,
Еще не познал он коварства судеб[339].
Над всеми краями вознес он свой трон,
К нему благосклонно теченье времен.
Пред силой его меченосных дружин
11170 Трепещет и знатный и простолюдин.
Не диво, коль будет со мной он спесив,
Совет мой отвергнет, мне боль причинив.
А если я эту печаль отстраню
И мысль о царе от себя отгоню —
Осудит меня всемогущий Творец,
И сам повелитель, и каждый боец.
Пойду я, подам ему добрый совет.
Коль примет — себя же избавит от бед.
А если вспылит — я в дорогу готов,
11180 Оплот мне — Ростем и дружина бойцов».
Всю долгую ночь размышлял он во мгле.
Лишь солнце венец свой явило земле,
Заль-витязь, походный кушак повязав,
Собрался с бойцами к владыке держав.
Несутся, достигли Ирана уже,
И стяг развевается на рубеже.
Примчались навстречу желанным гостям,
Гив с Тусом, Гудерз, и Горгин, и Бехрам,
И каждый, кто носит кольчугу и щит,
11190 Увидеться с витязем славным спешит.
Приблизился Заль, Сама доблестный сын,
И спешились главы иранских дружин,
От сердца Дестану хвалу вознесли,
И с ним устремились к владыке земли.
Тус молвил Дестану: «О славный герой!
В путь долгий пустился ты ранней порой.
На помощь народу Ирана пришел,
Покою и неге труды предпочел.
Тебе, мы навеки сердца отдаем,
11200 Ведь свет нашей славы — в сияньи твоем».
Промолвил Дестан именитым в ответ:
«Тому, кто не согнут под бременем лет,
Пристало словам престарелых внимать,
Наградой — небесная им благодать.
Царя нам лишать наставленья не след,
Потребен владыке разумный совет.
А если разумный совет оттолкнет —
Раскаянья горечь он после пожнет».
Бойцы отвечают: «Внимать мы хотим
11210 Одним лишь разумным советам твоим».
Все вместе к цареву престолу пришли,
Склонив свои головы долу, пришли.
[ЗАЛЬ УВЕЩЕВАЕТ КАВУСА]
И первым Дестан показался в дверях,
За ним — храбрецы в золотых поясах.
Беспечно на троне своем восседал
Кавус — приближения витязя ждал.
И руки к груди поднеся и склонясь,
К престолу владыки приблизился князь.
Он молвил: «Иранской земли властелин,
11220 Знатнейший из знатных, водитель дружин!
Не видел престол венценосца, как ты,
Ничья так не светит звезда с высоты.
Правь счастливо миром, чтоб ныне и впредь
Тебе справедливостью в мире греметь».
Владыка Дестана приветом почтил
И рядом с собой на престол усадил.
О трудном пути расспросил его шах,
О сыне, о славных забульских мужах.
Промолвил тогда властелину Заль-Зер:
11230 «О царь-победитель, величья пример!
Мы счастливы славой и счастьем твоим,
Гордимся, владыка, всевластьем твоим».
И после Дестан сокровенную речь
Из плена решился на волю извлечь.
Сказал он: «О славный владыка царей,
Достойный великой державы своей!
Печальною вестью повергнут я в дрожь:
На Мазендеран ты войною идешь.
Не делал того ни один властелин,
11240 Хоть правил здесь шах до тебя не один.
Давно уж веду я годам своим счет,
Кружащийся вижу давно небосвод;
Ни царь Менучехр, повелитель бойцов,
Оставивший много богатств и дворцов,
Ни Зов, ни Новзер, ни мудрец Кей-Кобад,
Из коих был каждый могуч и богат, —
Владыки, чей грозен был воинский стан,
Войной не ходили на Мазендеран.
Ведь там обитают волшебник и див,
11250 Себя колдовством от врагов оградив.
Не должно мужей и богатства губить,
Ты чары такие не сможешь разбить.
Пред ними бессильны железо и медь,
Их знаньем и золотом не одолеть.
Народ не одобрит того, кто пойдет
В подобный, бедою грозящий, поход.
В тот край колдунов не веди ты войска;
Цари не решались на это века.
Хоть саном ты каждого выше бойца,
11260 Но все мы равны перед ликом Творца[340].
Воителей кровь проливая ручьем,
Ты древо взрастишь, где созреет потом
Плод горький — людские проклятия. Встарь
Не делал того ни один государь».
На это Дестану сказал Кей-Кавус:
«Внимая тебе, я охотно учусь.
Но мне Феридун и Джемшид — не чета;
Я выше, была у них сила не та.
Пускай Менучехр и Кобад-властелин
11270 На Мазендеран не водили дружин.
Казна моя больше, сильнее войска
И сердце смелей. Мир — во власти клинка.
Поднимется меч — завоюет он свет.
Оружие в ножнах держать нам не след.
Я славы воинственной не уроню,
Нагряну, врагов залучу в западню,
Добьюсь, чтобы дань им на плечи легла,
Иль Мазендеран разорю я до тла.
В глазах моих жалки, поверь, и смешны
11280 Все лютые дивы и все колдуны.
Известье услышишь ты вскоре, клянусь,
Что землю очистил от них Кей-Кавус.
Ты вместе с Ростемом правь нашей страной,
На страже Ирана незыблемо стой.
Создатель направит десницу мою,
И дивы добычей мне станут в бою.
Откажешь в подмоге — тебе все равно
Решенье мое изменить не дано.»
Когда эти речи Дестан услыхал,
11290 Ни складу, ни ладу он в них не сыскал.
Ответил воитель: «Слуга я царю,
Заботясь о благе твоем, говорю.
Неправда ли, правда ли в слове твоем —
Идем за тобою, за нашим вождем.
Я душу избавил от бремени дум —
Излил тебе все, что подсказывал ум.
От смерти ведь нам не уйти все равно,
Всевидящий рок ослепить не дано.
И если беда сторожит на пути —
11300 Руки провидения не отвести.
Желаю, о царь, чтоб избегнул ты бед,
Чтоб вспомнить тебе не пришлось мой совет,
Чтоб жгучего ты не изведал стыда.
Будь вере и правде привержен всегда!»
Охвачен тревогой, душой омрачась,
Простился с Кавусом Дестан и тотчас
Покинул чертог молодого царя.
Померкли для Заля луна и заря.
И витязи вышли за ним по пятам:
11310 Гив доблестный, Тус, и Гудерз, и Бехрам.
Гив молвил Дестану: «Хотелось бы мне,
По воле Творца, очутиться в стране,
Где нас никогда не настиг бы Кавус.
Владыкой он быть недостоин, клянусь.
Да будет нужда от тебя далека,
И алчность, и смерть, и злодея рука!
Земную не раз мы изъездили ширь;
Везде прославляют тебя, богатырь.
Знай, после Творца, весь иранский народ
11320 В тебе свой единственный видит оплот.
Хвала! Не жалея для витязей сил,
Ты столь утомительный путь совершил».
Умолкли бойцы, и, обняв их, Дестан
К себе воротился в далекий Систан.
[ПОХОД КАВУСА В МАЗЕНДЕРАН]
Лишь только, с иранской столицей простясь,
Умчался с дружиною доблестный князь,
Царь Тусу с Гудерзом огромную рать
Велел снарядить и в поход выступать.
Лишь солнца лучи разогнали туман,
11330 Идти приготовились в Мазендеран.
Милада назначив главою страны[341],
Хранителем перстня, венца и казны,
Наказывал царь: «Коль нагрянут войска,
До времени не обнажай ты клинка.
Клич кликни Ростему и Залю в те дни:
Оплот государства и войска — они».
Наутро кимвал загремел, и в поход
С Гудерзом и Тусом дружина идет.
Путь долгий свершив, предводитель Кавус
11340 Раскинул свой стан у горы Эсперуз[342].
Для отдыха место властитель избрал,
Где солнце спускается будто в провал,
Где яростных дивов давнишний приют,
Куда и слоны забрести не дерзнут[343].
Парчой златотканной скала убрана,
Разносится благоуханье вина.
У царского трона уселись бойцы,
Ирана прославленные храбрецы.
Сидели они допоздна за вином.
11350 А ранней зарей, освеженные сном,
Сошлись они снова. Увидел их шах
В шеломах стальных, в боевых поясах.
Царь, Гива позвав, повелел ему рать
В две тысячи смелых бойцов отобрать,
Чьи тяжкие палицы бьют, как таран,
Кому покорился бы Мазендеран.
«Кто вам бы ни встретился, стар или млад,
Пусть жизни лишит его острый булат.
Сожгите их села, чтоб мрачная тень
11360 Пред ними затмила сияющий день.
Пока еще вести о вас не дошли
До дивов — сметите нечистых с земли».
Гив шаха оставил и двинул бойцов,
В борьбе закаленную рать удальцов.
И с ним, занеся булавы и клинки,
Напали на Мазендеран седоки.
Он всех истреблял беспощадной рукой —
И мать, и младенца, и старца с клюкой;
Сжигая и грабя жилища подряд,
11370 Лил в мед благоденствия гибельный яд.
Раскинулся город, как рай, перед ним,
Пленяя невиданным блеском своим.
На улицах и площадях городских
Толпятся мужи, блещут серьги на них.
В алмазных уборах, нарядны, стройны,
Красуются девы, свежее весны.
Сокровища всюду: там — клад золотой,
Здесь — лалы и жемчуг слепят красотой,
На пастбищах тучных обилье скота;
11380 Везде, как в раю, благодать разлита.
И весть Кей-Кавусу посланец несет
О городе полном волшебных красот.
Сказал он: «Будь радостью тот осиян,
Кто к раю приравнивал Мазендеран!
Ты скажешь, не город — языческий храм[344],
Цветами, парчой все украшено там.
Ланиты у гурий, что рдеющий лал,
Не соком ли роз их Резван омывал?»[345]
Неделя прошла, и карающий меч
11390 Отброшен. Наскучило грабить и жечь.[346]
Властителю Мазендеранской земли
О вражьем нашествии весть принесли.
Тревога и скорбь у владыки в душе,
И вот что услышал див лютый Сендже[347]:
«Как солнце проносится сквозь небосвод,
Пусть конь тебя к Белому диву несет!
Поведай, что двинул нежданно Иран
Огромное войско на Мазендеран.
Злой пламень войны эта рать разожгла,
11400 Всю нашу страну разорила до тла.
Ведет их Кавус, покоритель земель,
С ним витязей много, безвестных досель.
Коль тотчас на помощь сюда не придешь,
Ты в Мазендеране живых не найдешь».
В дорогу собрался Сендже в ту же ночь;
И в полночь и в полдень скача во всю мочь,
Примчался к могучему диву тому,
Владыки наказ повторяет ему.
Див Белый ответ повелел передать:
11410 «Не должно царю в безнадежность впадать.
Примчавшись, раскину я воинский стан,
Ходить отучу их на Мазендеран».
С такими словами Див Белый встает,
Подобно горе подперев небосвод.
В ту ночь угадали иранцев войска:
Ползет на них туча, темна и тяжка.
И негра чернее, чернее смолы
Стал мир от внезапно нахлынувшей мглы.
Над войском раскинулся дымный шатер,
11420 Во мраке терялся испуганный взор.
Из тучи посыпались камни, как град;
Рассеян иранских воителей ряд.
Кто смог, тот умчался в родимый предел,
Пеняя на шаха. Лишь мрак поредел
И встал над землею сияющий день —
Властителя очи окутала тень.
С ним вместе уже не увидели дня
Две трети иранцев, Кавуса кляня.
Казна отнята, меченосцы в цепях,
11430 И счастьем покинут, терзается шах.
Но дальше сказанью внемли моему:
Само удивленье дивится ему!
Царь вымолвил, горем измучен вконец:
«Нет клада ценней, чем советник-мудрец.
Отверг я Дестана разумный совет.
Увы! Стал поход мой источником бед».
Неделя в мученьях таких прожита,
И всех поразила уже слепота.
«Эй, царь Кей-Кавус! — Белый див заревел, —
11440 Бесплоднее ивы твой жалкий удел.
Над всею землей ты господства алкал,
Ты мазендеранских сокровищ искал;
Как бешеный слон, верил силе своей,
Не думал, что есть полководцы сильней.
Тебя уж не тешил венец золотой,
Свой ум одурманил ты злобной мечтой.
Немало ты мазендеранцев сгубил —
Пленил или палицей тяжкой убил.
Могущество Белого дива ужель
11450 Тебе, гордецу, неизвестно досель?
Теперь от возмездия ты не уйдешь,
Чего добивался, сполна обретешь».
Двенадцать он тысяч бойцов отобрал;
У каждого — гибель сулящий кинжал.
Приставил их пленных иранцев стеречь.
Велел заточенных на муки обречь;
Их скудною пищей кормить, чтоб они
Влачили в убожестве горькие дни.
Немало алмазов, престолов, венцов
11460 Отняв у Кавуса, у пленных бойцов,
Сокровища эти он тут же вручил
Эрженгу, начальнику воинских сил[348].
«Вези, — повелел он, — все это царю,
Ему передай, что теперь говорю:
«Пришельцы повергнуты мною во прах —
О царь, не кори Ахримана в сердцах.
Уже исполины иранской страны
Не видят ни солнца, ни ясной луны.
Казнить не хочу их: изведавши взлет,
11470 Пусть ныне узнают паденье с высот.
Пусть гибнут в мученьях, свой жребий кляня, —
Никто не придет к ним до смертного дня».
Эрженг лишь услышал от дива наказ,
К властителю Мазендерана тотчас
С конями, с рабами, с добычей большой,
Как ветер, помчался, ликуя душой.
Тогда восвояси умчался и див,
Бег солнца стремительный опередив.
А в Мазендеране, измучась от уз,
11480 В содеянном каясь, томился Кавус.
[ПОСЛАНИЕ КАВУСА ЗАЛЮ И РОСТЕМУ]
И вот удрученный властитель призвал
Гонца верхового, ему приказал
Умчаться, как птица, исчезнуть, как дым.
Дестану отправил известие с ним:
«Смотри, что злосчастному мне суждено:
Венец и престол — все во прахе давно.
Богатства несметные, воинский строй,
Цветущему саду подобный красой, —
Похищены дивом; гнев Божий суров —
11490 Все словно смело дуновеньем ветров.
Погасла звезда, свет померк и в очах,
Престол и корона повержены в прах.
В когтях Ахримана я бьюсь, чуть дыша.
И с телом расстаться готова душа.
Теперь, вспоминая о слове твоем,
Я тяжко вздыхаю и ночью и днем.
Внимать не хотел я советам благим —
И сам скудоумьем погублен своим.
Мы ждали победы, но ждет нас беда,
11500 Коль ты не примчишься с дружиной сюда.»
К Дестану, как ветер, гонец поскакал,
Поведал о том, что видал и слыхал.
А тот, вне себя от услышанных слов,
Известие скрыл от друзей и врагов.
Страшился он, в скорби поникнув главой,
Грозившей отчизне судьбы роковой.
Заль молвил Ростему, раздумьем объят:
«Пора тебе вынуть из ножен булат.
Вступиться нам должно за славный венец;
11510 Пирам и веселью отныне конец.
Ведь в пасти дракона — владыка владык,
День горести черной иранцев постиг.
Ты Рехша теперь оседлать поспеши,
Всесильным мечом злую рать сокруши!
На то ведь Творцом тебе силы даны.
Чтоб эту беду отвести от страны.
Мне двести уж с лишним исполнилось лет,
Твой ныне черед добиваться побед.
Владыку Ирана от смерти спасет
Сей подвиг, и славу тебе принесет.
11520 Пока не повергнешь ты дьяволов тех,
Забудь о покое, не ведай утех.
Мечтанья и сны от себя отгони,
Встань, барсовой шкурою грудь оберни.
Кто в битве увидел стрелы твоей взлет,
Покоя вовек для себя не найдет.
Ты кровью и море окрасишь в боях,
Ты кличем и гору низвергнешь во прах.
К Эрженгу и Белому диву спеши,
11530 Лиши их надежды и жизни лиши.
Царя-супостата во прах головой
Повергни тяжелой своей булавой».
Промолвил Могучий: «Дорога долга.
Скажи, как скорее настигнуть врага?»
Ответ был: «В тот край две дороги ведут.
Сулят они обе тревоги и труд.
Шел первой Кавус, и она подлинней;
Другую минуешь в четырнадцать дней.
Там дивы и львы, наводящие страх,
11540 От страха не раз потемнеет в глазах.
Иди по второй без оглядки. В борьбе
Создатель миров да поможет тебе!
Нелегок тот путь, но на Рехше его
Проедешь: отважного ждет торжество.
Вседневно, лишь тьму одолеет рассвет,
Молиться я стану, чтоб правый Изед
Вновь дал мне на стан богатырский взглянуть,
На мощные плечи и мощную грудь.
А если б Творец положить захотел
11550 В бою молодой твоей жизни предел —
Кому же от смерти укрыться дано?
Лишь то совершится, что нам суждено.
Окончит могилой свой путь человек,
Какой бы ему ни отмерен был век.
Когда почитали при жизни тебя,
То с жизнью расстанешься ты, не скорбя».
Родителю славному молвил Ростем:
«Твоим покорюсь я велениям всем.
Однако же, как мудрецы говорят, —
11560 Самим поспешать нам не следует в ад.
Жизнь — дар драгоценный; кто им дорожит,
Тот броситься в львиную пасть не спешит.
Иду я, напутствуй Ростема-бойца!
Защитою будет мне имя Творца.
Готов за владыку я душу отдать;
Я с чарами злыми смогу совладать;
Мужей привезу уцелевших, и царь
Слуг преданных царству найдет в них, как встарь.
Див Белый мной будет в сраженьи убит,
11570 И ярый Сендже, и неистовый Бид.
Творцом всемогущим ,клянется Ростем,
Что будут служить ему панцирь и шлем,
Доколе с Эрженгом не кончит он бой,
Врага на аркане влача за собой,
Пока не падет ненавистный Пулад[349],
Копытами Рехша могучего смят».
Надел шкуру барса и выпрямил грудь;
Заль доблестный благословил его в путь.
И слоноподобный на Рехша вскочил,
11580 Спокойный, веселый, исполненный сил.
Пришла Рудабе, слезы льет из очей,
И горько Дестан зарыдал вместе с ней.
Ростема обняв, хороша, как луна,
«Меня покидаешь, — сказала она, —
Меня обрекаешь грустить и рыдать —
Чего же тебе от Создателя ждать?»
«О добрая мать! — ей Ростем отвечал, —
Не я этот путь для себя назначал;
Отмечен я свыше такою судьбой,
1590 Творцу поручи меня с жаркой мольбой»[350].
В слезах, изливая друг другу любовь,
Простились. Кто знает, увидятся ль вновь?
Да, жизнь преходящею создал Творец,
Мгновений ее не считает мудрец.
Восславь же Создателя мира, любя,
Коль день злополучный минует тебя.
[СЕМЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ РОСТЕМА][351]
[Приключение первое]
[Битва Рехша со львом]
Так витязь Нимруза расстался с отцом,
С прославленным в мире могучим бойцом.
Ночь темную всадник за день почитал, —
11600 За сутки двухсуточный путь пролетал,
Скача неустанно на Рехше своем
И чёрною ночью и солнечным днем.
Ростема томил уже голод. Вдали
Он стадо онагров увидел в пыли.
Сжал Рехшу бока в нетерпеньи седок,
Онагра он травит и тот изнемог.
Аркан, резвый Рехш и Ростем-исполин —
Спастись не сумел бы тут зверь ни один. —
Метнул свой невиданно-длинный аркан
11610 И тотчас онагра поймал великан.
Вот искру стрелой своей высек Ростем,
Из сучьев костер распалил и затем,
Добычу добив и зажарив в золе,
Уселся один пировать на земле.
Ел мясо, откидывал кости: ни стол
Ему тут не надобен был, ни котел.
Усталого Рехша Ростем расседлал,
Свободно пастись резвоногому дал,
И в чаще уснул: мирным кровом он счел
11620 Обитель опасностей, логово зол.
Скрывался в тех зарослях лев: никогда
И слон не посмел бы забраться туда.
Во мраке полночном к берлоге своей
Вернулся лютейший из лютых зверей.
И видит: спит витязь, подобный слону.
К стерегшему богатыря скакуну
Лев ринулся: раньше схвачу, мол, коня,
А там и седок не уйдет от меня.
На Рехша напал, но сверкающий конь,
11630 Весь вспыхнув от ярости, будто огонь,
Ногами передними зверя сразил
И в спину сраженному зубы вонзил.
Сломил он свирепого рассвирепев,
Был в клочья растерзан поверженный лев.
Ростем сильнорукий, проснувшись едва,
Близ Рехша увидел убитого льва
И молвил: «О Рехш безрассудный, почто
Ты бился со львом? Как решился на то?
Когда бы тебя одолел он в бою,
11640 То шлем боевой и кольчугу мою,
Тяжелую палицу, лук и аркан
Как пеший понес бы я в Мазендеран?
Очнулся б я раньше от сладостных грез —
Сражаться б со зверем тебе не пришлось».
Зевнул, и уснул, и проснулся с зарей
Боец именитый, могучий герой.
Лишь солнце взошло из-за горных вершин,
Пресытился сном молодой исполин.
Скребницею вычистил Рехша, взнуздал,
11650 Хвалу всеблагому Йездану воздал.
[Приключение второе]
[Ростем находит источник]
Дорогу он видит и мчится вперед,
Не ведая, что на пути его ждет.
Безводная степь, изнуряющий зной —
Испечься тут впору и птице степной.
Сжигают пустыню потоки лучей,
Сказал бы ты, стелется пламя по ней.
От зноя и жажды скакун изнемог,
И вымолвить слова не может седок.
С коня соскочил и, как будто в бреду,
11660 Бредет и шатается он на ходу.
В зыбучих песках ни тропы, ни пути;
Он видит — спасенья нигде не найти
И молит: «О правый, святой Судия!
Взываю к Тебе, Избавителю, я.
Коль труд мой усердный угоден Тебе,
Я счастьем великим обязан судьбе.
Я к цели, все силы собрав, устремлюсь,
Чтоб смерти избег венценосный Кавус,
Чтоб витязи наши из вражьих когтей
11670 Ушли невредимы по воле Твоей.
Ты грешникам бедным грехи отпусти,
Рабов твоих, кару понесших, прости!»
Так молвил и рухнул на землю в тоске
Могучий герой. На горячем песке,
С запекшимся ртом, неподвижен и нем,
Лежит, изнывая от жажды, Ростем.
Вдруг мимо лишенного сил смельчака
Косуля промчалась, стройна и легка.
Объят изумленьем, подумал герой:
11680 «Ужели поблизости есть водопой?
Нет, это должно быть всевышний Творец
Мне милость Свою ниспослал, наконец».
Все силы, на меч опершись, он собрал,
По воле йездановой на ноги встал.
Бредет за косулей, одною рукой
Сжимая свой меч, а поводья — другой.
Вдруг в сердце пустыни сверкнула вода,
Косуля свой бег устремила туда.
Могучий, глаза к небесам обратив,
11690 Промолвил: «О Ты, что велик и правдив!
Косули уже у ручья не видать,
Твой промысел это, Твоя благодать».
Под бременем тяжким кручин и забот
Йездану молись, Он твой верный оплот.
А кто от Владыки, создавшего свет,
Душой отвратится, в том разума нет.
Живительной влаги Ростем напился
И молвил: «Косуля моя! Небеса
Тебя да хранят от безжалостных псов
11700 Пасись средь зеленых лугов и лесов!
Стрелок, что мишенью тебя изберет,
Пусть лук изломает, с досады умрет!
Тобой богатырь слонотелый спасен,
А ждал уже смертного савана он.
Его не вмещала драконова пасть,
А в зубы шакалу пришлось бы попасть.
И весть полетела бы к недругам всем,
Что в клочья растерзан воитель Ростем».
Как только его отзвучала хвала,
11710 Избавил он Рехша от ноши седла,
Омыл ему тело прозрачной водой,
И тот засиял, словно луч золотой.
Коня напоив и наполнив колчан,
Охотиться вышел боец-великан;
Онагра, большого, как слон, повалил,
Сняв кожу, на части его разделил,
И жаркий, как солнце, костер он разжег,
И тушу обмыл и на углях испек.
Уселся и всласть пировать принялся,
11720 Отламывать кости, жевать принялся.
Затем из ключа напился он опять,
И тут захотелось Могучему спать.
Горячему Рехшу промолвил Ростем:
«Ни с кем не дерись, не дружись ты ни с кем.
Коль явится недруг, меня разбуди,
Один против дивов и львов не ходи».
Замолк и уснул богатырь у огня,
Пастись до рассвета оставив коня.
[Приключение третье]
[Битва Ростема с драконом]
Средь ночи примчался свирепый дракон,
11730 Которого мог устрашиться и слон.
Он в зарослях этих давно обитал,
Такого и див бы тревожить не стал.
Глядит: богатырь, что сильнее слона,
Уснул, расседлав своего скакуна.
Дракон изумленьемневольным объят:
Кто счел безопасным убежищем ад?
В пустыни и в дебри той страшной страны
Еще не вторгались ни львы ни слоны.
А кто приходил, забывая про страх,
11740 Тот смерть находил у дракона в тисках.
Змей к Рехшу летит, изрыгая огонь,
И тотчас к хозяину кинулся конь,
Бьет в землю копытом и машет хвостом,
Разносится ржанье его, словно гром.
Могучий проснулся от мирного сна,
В нем яростью лютой душа зажжена.
Внимательно все оглядел он вокруг,
Но чудище лютое сгинуло вдруг.
Стал витязь рассерженный Рехша бранить —
11750 «Как смел понапрасну меня разбудить!»
Улегся, но лишь одолел его сон,
Опять появился из мрака дракон.
Конь снова к Ростему летит впопыхах,
И ржет, и копытами роет он прах.
И снова вскочил пробужденный смельчак.
От гнева лицо запылало, как мак;
Вокруг осмотрелся, но тьма лишь одна
Его обступала, глуха и черна.
Он зоркому, верному крикнул коню:
11760 «С чего это ночь приравнял ты ко дню!
Что гонишь ты сон от очей моих прочь!
Иль бодрствовать мне ты прикажешь всю ночь?
Коль снова подобный поднимешь ты гром,
Тебя обезглавлю я острым мечом,
В доспехах и с тяжкою палицей сам
Я пеший пойду по полям и лесам.
Сказал я: увидишь ты зверя — тотчас
Его сокрушу я, на зов твой примчась.
Сказал: понапрасну меня не буди,
11770 Вдали моего пробуждения жди!»
И вновь умолкает он, скованный сном.
А панцирь из шкур даже ночью на нем[352].
Вновь видит дракона свирепого конь:
Из пасти разинутой пышет огонь.
Рехш кинулся в бегство, но богатыря
Не тронул, боясь разбудить его зря.
Что делать, не знал он, вдвойне устрашен:
Коню и Ростем угрожал и дракон.
Но все ж господина любя, не стерпел,
11780 К уснувшему вовремя он подоспел.
Прах роет копытом, и ржет, и храпит,
Земля затрещала от мощных копыт.
Ростем, пробудившись от сладкого сна,
Хотел уже ринуться на скакуна.
Но змея, по воле Творца, на сей раз
Не скрыла земля от ростемовых глаз.
Могучий во тьме различить его смог;
Он выхватил свой закаленный клинок.
Как вешней порою раскат громовой
11790 Клич грянул — и с чудищем бьется герой.
Дракону он крикнул: «Эй, ты, назовись![353]
В обличье своем настоящем явись!
Нечистое тело с душой разлучу,
Но кто ты, сначала узнать я хочу».
Свирепый дракон отвечает ему:
«От пасти моей не спастись никому!
Пустыня от края до края моя,
Землею и воздухом властвую я.
Орел залететь не дерзает сюда,
11800 Сюда заглянуть не посмеет звезда.
А ты-то откуда, тебя-то как звать?
Заплачет твоя неутешная мать!»
Могучий в ответ: «Я — воитель Ростем,
Отец мой — Дестан, предки — Сам и Нейрем.
Могучую рать заменяю один,
На Рехше я мчусь среди гор и долин.
Узнаешь, в тисках у меня каково,
Дождался ты нынче конца своего!»
Схватился с Ростемом свирепый дракон
11810 И верх было взял над воителем он.
Но Рехш, увидав, что неистовый змей
Обвил исполина, опору царей, —
Ушами прядет и кидается в бой;
Дракона терзает он с силой такой,
Как мог бы терзать его яростный лев.
Дивится Ростем, дух надеждой согрев.
Поганую голову снес он мечом.
Кровь злого дракона забила ключом,
Вокруг разливаясь: луг, поле и ров —
11820 Все разом окутал багровый покров.
И рухнул дракон и долину укрыл
Громадою черных раскинутых крыл.
Творца помянул в изумленье Ростем,
На чудище страшное глядя. Затем
Подумал герой, кровь смывая с лица,
Что все совершается волей Творца.
«Владыка всеведущий!—вымолвил он,—
Я знаньем и силой Тобой наделен.
Драконов и тигров гублю я мечом,
11830 И Нил, и пустыня — мне все нипочем.
Будь много иль мало врагов — все равно,
Им пасть от ударов моих суждено».
[Приключение четвертое]
[Ростем убивает колдунью]
Хвала всеблагому Творцу воздана,
И вновь исполин оседлал скакуна,
Вскочил на него и, как вихрь, полетел,
Спеша к чародеям в далекий предел.
Он долго скакал все вперед и вперед.
Лишь солнце спустилось, пройдя небосвод,
Достойное отдыха богатырей
11840 Увидел он место; хрустальный ручей —
Под сенью деревьев; вином налитой,
На скатерти кубок блестит золотой;
Хлеб, соль и зажаренный горный баран
С обильем приправ. Удивясь, великан
Коня расседлал; столь обильную снедь
Не ждал, не гадал он в пустыне узреть.
Хозяева пиршества — дивы — меж тем
Исчезли, едва появился Ростем.
Усталый, присел он в тени тростника,
11850 И к чаше с вином протянулась рука.
А с чашею рядом увидел он руд:
На славу должно быть им тешились тут!
Рука исполина по струнам прошлась,
И дрогнули струны, и песнь полилась:
«Я бедный Ростем, всех скитальцев бедней,
Немного досталось мне радостных дней!
Мне вместо ристалища — поле войны,
Взамен цветников мне пустыни даны.
То див у меня на пути, то дракон,
11860 То чаща, где бурь завыванье и стон.
А вешние розы, вино на лугу —
Я радостей этих вкусить не могу.
То с нечистью бьюсь я зловредной речной,
То на смерть борюсь я с пантерой степной».
Меж дивов скрывалась колдунья одна,
Услышала грустную песню она.
Красавицы облик она приняла,
(Хоть старой, уродливой ведьмой была);
Явилась, пленяя воителя взор,
11870 И ласковый с ним завела разговор.
Свет радости сердце его озарил,
Йездана Могучий возблагодарил
За то, что в пустыне он праздничный стол,
И руд, и прекрасную деву нашел.
Не знал он, что это — колдуньи обман,
Что в облике девы сокрыт Ахриман.
Желая из чаши вина прихлебнуть,
Творца богатырь не забыл помянуть.
Но лишь услыхав о всевышнем Творце,
11880 Колдунья тотчас изменилась в лице.
Святых не могла она слышать речей,
Молитва звучала проклятием ей.
Лицом почернела при слове «Йездан».
В упор на нее посмотрел великан,
С размаху аркан богатырский метнул
И шею колдунье петлей затянул.
Спросил ее грозно: «Ты кто? Отзовись!
Такою, как есть, предо мною явись».
И ведьма, погрязшая духом во зле,
11890 Седая, в морщинах, явилась в петле.
Мечом разрубил он ее пополам,
На горе колдуньям, на страх колдунам.
[Приключение пятое]
[Ростем берет в плен Авлада]
И снова он в путь устремился верхом,
Как странник, что к цели далекой влеком.
Привел его Рехша стремительный бег
В места, что не видели солнца вовек,
Где степь, как лицо абиссинца, черна[354],
Где звезды не светят, не светит луна.
Сказал бы ты, ясное солнце в плену;
11900 Аркан уволок и звезду, и луну.
Не видя во мраке, где холм, где вода,
Поехал Ростем, уронив повода,
И вдруг выезжает из мрака на свет:
Край дивный зеленым атласом одет.
Пестреют поляны, струится река...
Мир юношей сделался из старика.
От бешеной скачки Могучий устал,
Одежду воителя пот пропитал.
Снимает свой барсовый панцирь Ростем
11910 И влажный от пота походный свой шлем.
На солнце сушить их кладет, а потом,
Мечтая забыться целительным сном,
Он Рехша пастись по зеленым полям
Пустил, и ко сну приготовился сам;
Доспехи просохшие снова надев,
На ложе из трав растянулся, как лев.
Страж поля, увидев на ниве коня,
Примчался, неистово Рехша кляня.
Средь зелени спящего видя бойца,
11920 Он палкой хватил по ноге пришлеца.
Едва пробудился от сна великан,
Вскричал караульщик: «Эй, ты, Ахриман!
Зачем на посевы коня ты пустил,
Плоды похищаешь, каких не взрастил?»
Ростем, от подобных речей разъярясь,
Хвать за уши стража и оба зараз
Ему оборвав, наземь бросил он их,
Ни добрых речей не сказав, ни худых.
Тот в ужасе уши свои подхватил
11930 И мигом умчался, вопя, что есть сил.
Той областью правил могучий Авлад[355],
Он молод был, славен, отвагой богат.
К нему караульщик полей прибежал;
Весь залитый кровью, он в страхе дрожал.
«Там див! — закричал он, — железный шелом
И панцирь из барсовой шкуры на нем.
С макушки до пят — дьявол истинный он.
В доспехах он спал, тот свирепый дракон.
Хотел было с поля прогнать я коня,
11940 К коню не пустил этот дьявол меня.
Слов лишних не тратил он; рассвирепел,
И, уши мне вырвав, опять захрапел».
Авлад, что с зарею примчался на лов
В урочища эти с толпой удальцов,
Услышав от стража такие слова,
Увидя на поле след ярого льва,
Тотчас же с отрядом своим поскакал
Туда, где пришелец воинственный спал, —
Хотел он дознаться отколь принесло
11950 Того чужака, причинившего зло.
Увидя, что мчится к нему удалец,
Кидается к Рехшу могучий боец,
Взлетает в седло и несется с мечом,
И клич его — словно грохочущий гром.
Столкнувшись, заводят воители речь,
Чтоб с тайны имен покрывало совлечь.
Авлад вопрошает: «Тебя как зовут?
Кто твой повелитель и где твой приют?
Как вздумал ты, дерзкий, забраться сюда,
11960 Где властвует дивов могучих орда!
Ты уши у стража как смел отхватить?
Как смел ты коня на посевы пустить?
Я шлем твой мгновенно повергну во прах.
Не взвидишь ты света, скует тебя страх!»
«Я — туча, — в ответ раздаются слова,—
Но туча с когтями свирепого льва,
Струящая стрелы, несущая меч,
Сносящая дерзкие головы с плеч!
Ты, имя узнав, изнеможешь в борьбе,
11970 Дыханье замрет, кровь застынет в тебе.
Не слышал ты разве про лук и аркан,
Которыми славится муж-великан?
Злосчастна тебя породившая мать,
Удел ее — саван сшивать и рыдать.
Попробуй на купол забросить орех![356]
Здесь в битве такой же добудешь успех».
Из ножен губительный вырвав булат,
С петлей на луке, ярым гневом объят,
Напав, словно лев на отару овец,
11980 Врагов поражает бесстрашный боец.
Булатом немало скосил он бойцов,
Прославленных богатырей-удальцов.
Могучий один опрокинул всю рать,
В унынье и страхе пришлось ей бежать,
В горах и ущельях укрыться от глаз,
И степь в непроглядную мглу облеклась.
Помчался Ростем, словно яростный слон,
Петлей смертоносною вооружен;
Авлада преследовать стал, и тогда
11990 Постигла гонимого злая беда.
Аркан богатырский колец в шестьдесят
Закинут Ростемом — и пойман Авлад.
Связал его, спешась, Ростем, на коня
Вновь сел и, бойца пред собою гоня,
Промолвил: «Одну только правду скажи!
Поведай тотчас, без обмана и лжи:
Где Белого дива сокрытый приют,
Бид яростный, лютый Пулад где живут?
Ты к месту, где шах Кей-Кавус заточен,
12000 Где в горькой неволе терзается он,
Меня проводи, прямодушен, правдив,
Велению истины не изменив.
С властителя Мазендерана сорву
Венец, отниму у него булаву.
Ты станешь властителем этой страны,
Коль будут твои указанья верны.
А если обманешь доверье мое,
Пронзит твое сердце стальное копье!»
Авлад отвечал ему: «Гнев свой умерь.
12010 Одну только правду скажу я, поверь.
Ты жизни меня не лишай, осердясь,
Отвечу на все, что спросил ты сейчас.
Тебя в ту страну, где пленен Кей-Кавус,
Из города в город вести я берусь.
И Бида и Белого дива жилье
Найдем: успокоил ты сердце мое.
До шаха нам сотня фарсангов пути,
Даритель терпенья велит их пройти.
Еще сто фарсангов до Дива потом
12020 Идти нам придется труднейшим путем.
Ущелье меж кручами — дикий гранит,
Куда и Хомай никогда не взлетит —
Угрюмые пропасти, где глубина
Такая, что в них не увидишь ты дна.
Из дивов — воинственных жителей гор —
Там тысяч двенадцать выходит в дозор.
Пулад во главе у дозорных стоит,
Сендже им защита и яростный Бид.
Всех полчищ глава — Белый див-исполин[357]:
12030 Дрожат пред ним горы, как листья осин.
И сам он — гора, наводящая страх.
Он десять ресенов имеет в плечах[358].
В науке хоть ты искушен боевой,
Владеешь булатом, копьем, булавой
И много побед одержал ты в борьбе —
С тем чудищем бой не под силу тебе.
Нас дальше пустыня скалистая ждет,
Куда и косуля ступить не дерзнет.
За нею река разольется, шумна,
12040 Два с лишним фарсанга ее ширина.
Ее охраняет неистовый див,
Всех прочих веленьям своим подчинив.
А дальше — чудовищ Бозгуш и Нермпай[359]
На триста фарсангов раскинулся край.
Оттуда мы к Мазендерану пойдем
Далеким и полным препятствий путем.
В том царстве воителей конных не счесть,
Там тысячи тысяч, должно быть, их есть.
12050 Оружья и золота много у них;
Довольные лица, не видно иных.
Там сотни слонов, закаленных в борьбе,
И город их еле вмещает в себе[360].
Один ты: будь сталью, боец удалой, —
Все ж дьявольской будешь распилен пилой».
Те речи Могучему слышать смешно.
Воскликнул он: «Если мы впрямь заодно,
В дорогу! Увидишь, как тучи дружин
Воитель отважный рассеет, один.
Я силу дарящим Йезданом храним,
12060 Отвагой, булатом, арканом своим.
Как только увидят осанку мою,
Удар булавы богатырской в бою —
Враги, задрожав, понесутся назад,
И кости и жилы у них затрещат.
Любой будет страхом таким обуян,
Что не отличит поводов от стремян.
Туда, где томится в плену Кей-Кавус,
Показывай путь, за тобой я помчусь».
Так молвив, на Рехша он, радостный, сел,
12070 Авлад впереди, словно ветер, летел.
Неслись день и ночь, не жалея труда.
К горе Эсперуз поспешали — туда,
Где шаху Кавусу, водившему рать,
Пришлось пораженье и беды узнать.
Над степью, лишь час полуночи настал,
Послышался грохот, забили в кимвал.
И множество светочей ярких зажглось,
Сияние их далеко разлилось.
Могучий спросил: «Это что за огни?
12080 И справа и слева пылают они».
«То Мазендеран, — отвечает Авлад, —
Ночами там стражи до света не спят.
Там правит Эрженг, лютый див-чародей,
Что яростью в трепет приводит людей».
Улегся, уснул богатырь удалой.
На утро, лишь солнце взошло над землей,
Потолще он дерево в роще избрал,
Авлада покрепче к нему привязал.
[Приключение шестое]
[Битва Ростема с дивом Эрженгом)
С собою он палицу деда берет
12090 И, полный отваги, несется вперед.
Шлем, панцирь из барсовой шкуры на нем,
Не раз побывавший в огне боевом.
Спешит он к Эрженгу свирепому в стан.
Лишь вражеской ставки достиг великан,
Воинственный клич испустил он такой,
Что дрогнули горы с пучиной морской.
Услыша воителя грозный призыв,
Шатер свой покинул разгневанный Див.
Ростем, увидав его, тронул тотчас
12100 Коня и, как молния, к диву примчась,
Схватил его за уши, рассвирепев,
И голову с тела сорвал, словно лев.
Кровавую голову эту затем
Швырнул перед дивами наземь Ростем.
Врагов устрашила его булава:
Они убегали от ярого льва,
О славе забыв, об отчизне своей,
И в бегстве топтали отцы сыновей.
Мечу повелев: «Настигай и карай!» —
12110 Могучий от дивов очистил тот край.
Вот ясное солнце вступило в зенит,
И снова к горе Эсперуз он спешит.
Снял крепкие путы с Авлада, и с ним
Бок о бок усевшись под кедром большим,
Он пленника спрашивать стал о пути
В тот город, где думал Кавуса найти.
Услышав ответ, поскакал богатырь,
И пеший бежал перед ним поводырь.
В столицу даритель венца прискакал,
12120 Тут Рехш встрепенулся и громко, заржал[361].
В темнице Кавус услыхал жеребца,
И понял мгновенно он все до конца.
Промолвил властитель иранцам: «Истек
Для нас злоключений и горестей срок!
Услышал я ржание Рехша вдали,
И тотчас надежды в душе расцвели.
Вот так же во дни Кей-Кобада он ржал,
Как в битву с туранцами витязя мчал».
И толки пошли меж иранских бойцов:
12130 «Наш царь занемог от тяжелых оков.
Как видно, затмился в нем разума свет,
О снах он толкует, слова его — бред.
Погибнуть нам в этих цепях суждено,
Ведь счастье от нас отвернулось давно».
Ворвался воинственный муж-исполин
Туда, где томился в цепях властелин.
И голос спасителя-богатыря
Услышав, иранцы сошлись вкруг царя.
Гив храбрый, и Тус и Гудерз были там,
12140 Шейдуш, Гостехем и отважный Бехрам[362].
Повергся Могучий во прах, зарыдал,
О днях заточенья расспрашивать стал.
Владыка прижал исполина к груди,
О Зале спросил, о невзгодах пути,
И после сказал: «До рассветной зари
Для Рехша укромный приют избери.
Ведь если до Белого дива дойдет,
Что сгублен Эрженг, войска верный оплот,
Что слоноподобный успел разыскать
12150 Кавуса — сбежится несметная рать,
Всю землю затопит чудовищ орда,
Труды твои все пропадут без следа.
В становище дива проникни скорей
С булатом и палицей тяжкой своей.
Поможет Йездан — занесешь булаву,
Повергнешь во прах чародеев главу.
Ты должен семь горных хребтов перейти,
Где полчища дивов стоят на пути.
В пещеру глубокую вступишь: она,
12160 Я слышал, опасностей грозных полна.
Такие там встретятся дивы тебе,
Что яростью барсам подобны в борьбе.
В пещере той — Белого дива дворец,
Грозы и надежды всех черных сердец.
Его сокрушив, вражью сломишь ты мощь:
Он — скопища злого опора и вождь.
Воители наши ослепли от слез,
Со зреньем и мне разлучиться пришлось.
Единое средство от горя сего —
12170 Мозг Белого дива, кровь сердца его.
«В той крови, — сказал врачеватель-мудрец, —
Обрел бы спасение каждый слепец.
Три капли той крови лишь капни в глаза,
И тьма с нею вытечет, словно слеза».
И снова, отвагой кипя огневой,
В дорогу собрался могучий герой.
«Вы будьте на страже! — сказал он бойцам, —
Пойду против Белого дива я сам.
Хитер он и лют, как воинственный слон,
12180 И дивов несметной ордой окружен.
Коль недруг в бою сокрушит мне хребет —
Вам долго томиться под бременем бед.
А если поможет благая звезда
И небо пошлет мне победу — тогда
Увидим отчизну, и снова народ
С державного древа плоды соберет».
[Приключение седьмое]
[Ростем убивает Белого дива]
И подвига жажду в душе ощутив И сердце отвагою воспламенив,
С Авладом помчался вперед великан;
12190 Летит его Рехш, как степной ураган.
И вот, через семь перебравшись хребтов,
Сквозь множество вражьих прорвавшись рядов,
Достиг он ущелья, где дна не видать,
Где дивов построена грозная рать.
Сказал он: «Авлад, от тебя в эти дни
Я слышал правдивые речи одни.
Последний теперь приближается бой —
Пути укажи мне и тайны открой».
Авлад отвечает: «Когда горячи
12200 К полудню становятся солнца лучи, —
Спят дивы, а спящих легко побеждать:
Не лучше ль немного тебе подождать?
Ты бодрствующих не найдешь среди них,
Не спящими стражей увидишь одних.
Коль помощь Даритель побед ниспошлет,
В бою уничтожишь ты вражий оплот».
Внял пленнику витязь — он в бой не спешит.
Но вот уже солнце вступило в зенит,
И к дереву снова привязан Авлад,
12210 И снова Могучий на Рехше. Булат
Из ножен Ростем извлекает рывком,
Воинственный клич его грянул, как гром.
Как вихрь, прорывает он вражеский строй
И головы косит одну за другой.
Никто не дерзнул на пути его стать,
В сраженье с воинственным славы искать.
И в логово дива он смело идет.
Как ясное солнце, стремится вперед.
Теснины, подобные аду, пред ним.
12220 Во мраке кромешном волшебник незрим.
Сразиться нельзя и нельзя отступить.
Стоит меченосец, не зная, как быть.
Глаза протерев, именитый боец
Во мраке врага различил, наконец.
Казался огромною глыбою див;
Лежал он, ущелье и склон заслонив.
Сказал бы: всю землю окутала мгла.
Весь черен, как смоль, только грива бела.
То Белый был див; словно мертвый он спал.
12230 Герой убивать его спящим не стал.
Как тигр, испускает он рев громовой;
Див разом проснулся и ринулся в бой.
Горой надвигается, злобой объят,
Железом окован от шеи до пят.
Вот жернов огромный схватил он, рыча.
Его над Ростемом заносит сплеча,
И в ужасе дрогнул невольно боец,
Подумав: «Ужели найду здесь конец?»
Как яростный лев зарычал он потом, »
12240 Врага в поясницу ударил мечом,
И было ростемовой силе дано
Бедро отрубить чародею одно.
Схватился затем врукопашную с ним,
Как бился бы лев со слоном боевым.
Громады нависшие разворотив,
Длил яро борьбу изувеченный Див.
Пытаясь Ростема повергнуть во прах,
Могучего сжал он в железных тисках.
Друг друга терзали, ломали они,
Все кровью вокруг заливали они.
12250 Подумал Ростем: «Коли эту беду
Осилю — вовеки в бою не паду».
А див размышлял, не сдаваясь врагу:
«Ужель драгоценную жизнь сберегу!
Когда бы живым он меня отпустил,
Хоть кожу содрав и оставив без сил, —
Я в бегство пустился бы, долю кляня:
Забыли бы в Мазендеране меня».
Так думал, сражаясь, неистовый див,
12260 Надеждою сердце свое обольстив.
Все жарче, меж тем, разгорается бой,
Пот — градом струится, кровь льется рекой.
Могучий, всесильным Йезданом ведом,
Упорно и яростно бился с врагом.
Пресытившись долгой борьбой, наконец,
Рванулся к противнику славный боец,
Вцепился пантерою в гриву его
И, вскинув свирепого дива того,
С размаху о землю ударил, да так,
12270 Что с жизнью расстался поверженный враг.
В утробу вонзил ему острый клинок
И черцое алчное сердце извлек.
Ущелье собой завалил чародей,
Весь мир затопил черной кровью своей.
Вернувшись, Авлада спешит отвязать
Ростем, и, его заарканив опять,
Велит он поганое сердце нести.
Знак подал — и вот уже оба в пути.
Авлад говорит ему: «Доблестный лев!
12280 Твой меч торжествует, землей завладев.
Следы твоих пут я на теле ношу,
Влачимый петлей, за тобою спешу.
Надежду вдохнул из твоих я речей,
Но дай обновиться надежде моей.
Ты — лев и владыкой глядишь: не к лицу
Являть вероломство герою-бойцу».
Ответ был: «Воинственный Мазендеран
Весь будет тебе во владение дан.
Еще предстоит нам неслыханный труд,
12290 В котором паденья и взлеты нас ждут.
Сначала властителя этой страны
Мы ввергнуть в пучину несчастья должны.
Немало должны отрубить мы голов,
Немало должны перебить колдунов,
Но знай, что скорее покину я свет,
Чем свой преступлю нерушимый обет».
К царю Кей-Кавусу примчался затем
Могучий и доблестный витязь Ростем.
И радостно грянули клики бойцов:
12300 «Вернулся великий, глава храбрецов!»
Ростемовы славили долго дела,
И долго ему воздавалась хвала.
Вождь молвил: «О шах, покровитель ума!
Злой недруг сметен, да рассеется тьма!
Я Белому Диву утробу рассек,
Царю своему не поможет он ввек.
Я вырвал нечистое сердце его,
Я жду повелений царя моего».
Ему отвечает хвалой властелин:
12310 «Век здравствуй, о гордость венца и дружин!
Той матери славной привет и хвала,
Что сына такого, как ты, родила.
Хвала и Заль-Зеру, отцу твоему,
Хвала и забульскому краю всему,
Где палиценосец могучий взращен,
Затмивший всех витязей прежних времен.
Звезды моей свет вечно ярок и нов:
Ведь служит мне лев, сокрушитель слонов».
Окончив хвалу, молвил витязю Кей:
12320 «О славный отвагой и мощью своей!
Для глаз моих крови теперь принеси
И витязей этих ослепших спаси,
Да сможем тебя лицезреть, наконец.
Да будет опорой твоею Творец!»
И, кровью омывшись, избавясь от мглы,
Глаза просияли, как солнце светлы.
Из кости слоновой поставили трон,
Над троном кеянский венец вознесен.
Воссел на престоле увенчанный Кей,
12330 С ним рядом Ростем и собранье мужей:
Гудерз, Фериборз, и Горгин, и Роххам[363],
Гив славный, и Тус, и отважный Бехрам.
Семь дней пировали бойцы у царя,
Весельем и песнею душу бодря.
А на день восьмой, скакунов оседлав,
Помчались бойцы за владыкой держав.
Вот палицы тяжкие занесены.
В селения мазендеранской страны,
Подобны пожару в сухих тростниках,
12340 Бойцы ворвались, как приказывал шах, —
Оружия не выпускали из рук,
Огнем и мечом сея гибель вокруг.
Немало там злых колдунов полегло,
Кровавое море в степи потекло.
Вот мрак поредел, и заря уж близка,
Разить булавою устала рука.
Сказал венценосец, собрав свою рать:
«Смогли мы, как должно, врагов покарать.
Воздали за все преступления им,
12350 Теперь истребление мы прекратим.
В столицу я тотчас отправлю посла —
Царя вразумить и отвадить от зла.
Воителя мудрого должно послать,
Что знает, где требовать, где уступать».
Сын Заля доволен был словом таким
И все именитые витязи с ним.
[ПОСЛАНИЕ КАВУСА ЦАРЮ МАЗЕНДЕРАНА]
Посланье на белых атласных листах,
Сулившее милость, внушавшее страх,
Писец искушенный составил хитро,
12360 В нем зло порицал он и славил добро.
Восславил сперва всеблагого Творца,
От коего разум и доблесть бойца;
Владыку, что радость нам шлет и беду,
В сердцах порождает любовь и вражду,
Дающего к злу и добру нам ключи,
Ведущего солнце и месяц в ночи:
«Будь честен в деяниях, правду любя,
И каждый почтит похвалою тебя.
А если душою предался ты злу,
12370 Разгневаешь небо, услышишь хулу.
Когда справедлив повелитель страны,
Подвластные могут ли быть неверны?
Припомни всех дивов, волшебников всех,
Наказанных свыше за тяжкий их грех.
Коль жизни науку сумел ты познать,
Готов наставлениям разума внять —
Мы ждем, чтобы Мазендерана престол
Покинув, ты нам покориться пришел.
Не в силах ты выйти с Ростемом на брань —
12380 Смирись и богатую вышли нам дань.
Чтоб мазендеранскою править страной,
Отныне дороги не сыщешь иной.
Упорствовать станешь — покинешь ты свет
Эрженгу и Белому диву вослед».
Писец благородный окончил писать,
Взяв мускуса, амбры, поставил печать.
И после призвал к себе витязя шах,
Стальной булавой наводящего страх.
Тот витязь воинственный звался Ферхад[364],
12390 Он знатен был родом, могуч и богат.
Приказано славному богатырю
Доставить послание диву-царю.
Пред шахом склонился Ферхад до земли,
Умчался и вскоре, в поту и в пыли,
Вступил в заповедный таинственный край
Свирепых чудовищ, по кличке — «Нермпай».
Бескостны их ноги и цепки ступни,
«Нермпай» потому и зовутся они.
Владыка державы в том дальнем краю
12400 Держал боевую дружину свою.
Доехав, Ферхад посылает с гонцом
Известье царю о прибытьи своем.
Узнав, что письмо от Кавуса везет
Посол хитроумный, царь выслал вперед
Для встречи посла властелина царей
Сильнейших, отважнейших богатырей,
Таких, чтоб уменьем и силой могли
Поспорить с воителем вражьей земли.
Царь дивам сказал: «Вы врага удивить
12410 Должны — превосходство и силу явить.
По львиному действуйте — страха тиски
Да стиснут послу-прозорливцу виски!»
Воители хмуро встречали посла.
Беседа не так, как желал он, пошла.
К нему устремился один из мужей,
Известный невиданной мощью своей.
Он руку послу изо всех своих сил,
Суставы и кости ломая, сдавил.
Но тот не поморщился даже на миг,
12420 И желтым от боли не стал его лик.
Приводят посланца к владыке дружин,
О шахе расспрашивать стал властелин.
Велел он прочесть на шелку письмена,
Чернила — из мускуса, амбры, вина.
Когда повеленье исполнил мобед,
В глазах у царя потемнел белый свет.
Узнав о беде, что с дружиной стряслась,
Кровавые слезы он пролил из глаз
И думает: «Солнце вечерней порой
12430 Заходит, и ночь нам дарует покой.
Но нас не оставит в покое Ростем,
Земля не расстанется с именем тем».
Скорбя об Эрженге, о том, что убит.
Див Белый и скошен воинственный Бид,
Рыдая и гневом безмерным горя,
Читал он посланье Кавуса-царя.
В кругу именитых, обычай храня,
Ферхаду почет воздавал он три дня.
В четвертый промолвил воителю: «Мчись,
12440 К царю новоявленному воротись.
Такой отвези Кей-Кавусу ответ:
К вину мне подмешивать воду не след[365].
Ты ждал, что, покинув державу и трон,
Явлюсь пред тобою, покорно склонен.
Мой трон над твоим возвышался века,
С моими твои не сравнятся войска.
Куда ни пойдут моих полчищ ряды —
С дороги и скалы сметут и сады.
Отныне о сне и покое забудь,
12450 Жди битвы кровавой, готовлюсь я в путь.
Как только нагрянем, свирепы, грозны,
Забудешь ты все свои сладкие сны.
Я тысячу двести слонов боевых
С собой поведу — ты воюешь без них.
В Иране оставлю я пепел один,
Там взор не увидит ни гор, ни долин».
Ферхад, в этих гордых словах разглядев
Воинственный пыл, и решимость, и гнев,
Посланье ответное взял, омрачась,
12460 И к шаху Ирана помчался тотчас.
Поведал о том, как был встречен царем,
Как холоден был властелина прием,
И молвит: «Заносится он в облака,
Не снизу глядит он на нас — свысока.
Не внял увещаньям моим; для него,
Сказал бы, не стоит весь мир ничего».
Послал миродержец за богатырем;
Ферхада слова повторил и при нем.
В ответ от Ростема услышал Кавус:
12470 «Я рать от позора избавить берусь.
Я слово из сердца сумею извлечь,
Как будто из ножен отточенный меч!
Посланье должно быть разящим клинком,
Грозящим, как в тучах грохочущий гром.
Отправлюсь послом: от суровых речей
Из вражьих сердец хлынет крови ручей».
Ростему в ответ Кей-Кавус говорил:
«Венец мой ты блеском своим озарил.
Ты мудрый посол, и воинственный лев —
12480 Везде торжествуешь, врага одолев».
Затем, за посланье писца усадив,
Перо в наконечник стрелы обратив,
Писал он: «Разумным мужам не подстать
На ветер пустые слова расточать.
Кичливость подобную бросить пора б,
Склонись предо мною, покорен, как раб,
Не то поведу я сражаться с тобой
От моря до моря раскинутый строй.
Див Белый повержен, ты — следом за ним
12490 Попотчуешь коршунов мозгом своим».
[РОСТЕМ ЕДЕТ ПОСЛОМ К ЦАРЮ МАЗЕНДЕРАНА]
Печать свою шах приложил, и затем
Пустился в дорогу могучий Ростем;
К седлу приторочив свою булаву,
Примчался, и Мазендерана главу
Дозорные вмиг известили о том,
Что едет от шаха посланец с письмом.
Посланец тот — лев разъяренный на взгляд,
Он мчится с арканом колец в шестьдесят.
Под ним золотистый невиданный конь,
12500 Размерами — слон, быстротою — огонь.
Тотчас же к владыке державы на зов
Явилась толпа именитых бойцов.
Он в путь им немедля собраться велел,
Навстречу Могучему мчаться велел.
Цветущему саду подобная рать
Пришла именитого гостя встречать.
Могучий, как только бойцов увидал,
Одно из огромных деревьев избрал,
Покрепче схватил его за два сука,
12510 И только лишь ствол раскачал он слегка —
С корнями уж дерево извлечено,
И целым при этом осталось оно.
Как с дротиком, с деревом витязь летит,
И рать на него в изумленьи глядит.
Метнул — и под тяжестью сучьев в пыли
Десятки могучих бойцов полегли.
Воитель, прославивший Мазендеран,
Дружину возглавивший муж-великан,
Приблизившись, руку воителю сжал,
12520 Ростемову мощь испытать пожелал.
Тот глянул — и грянул презрительный смех,
Бойцов приведя в содрогание всех.
Он за руку тут же берет седока,
И тот побледнел, и повисла рука.
Желавший помериться силой во прах
Повергнут — воителям прочим на страх.
К владыке поспешно послали гонца,
С начала поведал он все до конца.
Тогда к возглавлявшему Мазендеран
12530 Явился на зов Келахур-великан[366].
Он был кровожаднее тигров лесных,
Страстей, кроме бранной, не ведал иных.
Владыка вознес и прославил его,
Навстречу Ростему отправил его,
Промолвив: «Как должно, прими ты посла,
Сверши небывалые в мире дела.
Пусть он в состязанье изведает стыд,
Пусть в гневе беспомощном плачет навзрыд!»
Навстречу воителю, мрачен и хмур,
12540 Примчался, как яростный лев, Келахур,
Сквозь зубы приветствует богатыря;
Рукою могучую руку беря,
Он жмет, свирепея все больше; меж тем
Рука посинела, но славный Ростем
Не дрогнул: сказал бы ты, доблести жар
От солнца небесного принял он в дар!
Сжал кисть Келахура он хваткою льва —
Посыпались ногти, как с ивы листва.
Злосчастный с рукою повисшей своей,
12550 Лишенною кожи, и жил, и ногтей,
Явился к царю и промолвил ему:
«Обманывать дольше себя ни к чему.
Мир нужен: не славы добьемся мечом, —
На жалкую гибель себя обречем.
Тебе не под силу с тем витязем брань.
Не лучше ли дань, коли примет он дань?
Тем знатных и малых спасешь ты людей,
Одумайся, Мазендеран, пожалей!
Уж лучше мы трудное легким сочтем,
12560 Чем страху смертельному жизнь обречем».
И вот увидал возглавлявший страну
Воителя, равного мощью слону.
Как должно, посла властелин усадил,
О шахе Кавусе, о войске спросил,
«Не труден ли был, — вопросил властелин, —
Твой длительный путь среди гор и долин?»
И после промолвил: «Ростем ведь ты сам,
Я вижу по мощной груди и плечам».
А тот отвечает: «Ростема я раб,
12570 Когда я не слишком для этого слаб.
С героем могучим и славным таким
Могу ли сравниться! Ничто я пред ним».
Спешит Кей-Кавуса посланье извлечь,
Затем произносит суровую речь
Воитель могучий, носитель меча,
Сильнейших, храбрейших разящий сплеча.
Царь принял посланье и выслушал весть
Не зная, как близкую гибель отвесть.
Ростему он молвил: «Оставим сей спор!
12580 Доколе бесплодный нам длить разговор?
Кавусу скажи: ты — Ирана глава,
Ты славен отвагой и хваткою льва.
Но в Мазендеране и я ведь царем
В венце восседаю на троне своем.
Меня столь надменно к себе призывать
Ни сану, ни вере твоей не подстать.
На земли чужие кто зарится, тот
Возмездие сам на себя навлечет.
Опомнись, безумец, назад поверни,
12590 Не то я копьем сокращу твои дни.
Лишь двину я войско свое — задрожишь,
Не чувствуя ног под собой, побежишь.
Свои заблуждения прочь отмети;
Скорей образумься и лук опусти.
С тобой лишь вплотную сойдусь я в бою,
Забудешь кичливую удаль свою».
Престол, и вельмож, и бойцов, между тем,
Оглядывал взором пытливым Ростем.
Презрел он царя неразумный ответ,
12600 Сильней загорелась в нем жажда побед.
Немало даров по приказу царя
Внесли для посланника-богатыря.
Отверг он дары, что протягивал враг —
Коней и динары, венец и кушак,
И вышел во гневе. Он вражью звезду
Увидел померкшей, сулящей беду.
И тотчас покинул он Мазендеран;
В нем жаждою мщенья был дух обуян,
Кипела отвагой воинственной кровь.
12610 Представ пред Кавусом-властителем вновь,
Он все по порядку царю рассказал,
Что в Мазендеране видал и слыхал,
И после промолвил: «Души не тревожь,
В бой смело иди, торжество обретешь.
Сильнейшие витязи этой страны
В сравненье со мной — никуда не годны.
Горсть пыли — и только — они предо мной:
Их на смерть сражу булавою стальной».
[БИТВА КАВУСА С ВЛАДЫКОЙ МАЗЕНДЕРАНА]
Покинул чужую столицу Ростем,
12620 И мазендеранский владыка затем
Из города вывез державный шатер,
И рать на степной устремилась простор —
Такая, что пыль до небес поднялась,
Сияние солнца скрывая из глаз.
Земля, над которой раскинулась мгла,
От шага слоновьего изнемогла.
Царь вихрем летел, торопя свою рать,
Ни мига в пути не желая терять.
Услышав о том, что враги подошли
12630 Вплотную, властитель иранской земли
Ростему велел опоясаться вновь,
В сраженьи пролить злого недруга кровь.
А Тус и Гудерз, чей родитель Гошвад,
И с Гивом Горгин, чей родитель Азад[367],
Построили рать по веленью царя,
Щиты боевые горят, как заря.
В широкое поле, к сраженью готов,
Царь ставку послал и шатры храбрецов.
Вой трубный проник в сердце каменных скал,
12640 Туе доблестный с правым крылом поскакал;
Гудерз был на левом; железной горой
Казался закованный в латы герой.
Кавус в середине, водитель дружин,
Ряды за рядами повел властелин.
И слоноподобный, могучий Ростем
Несется пред войском прославленным тем.
В бой ринулся мазендеранский храбрец,
С тяжелою палицей мощный боец.
Стремящийся к славе, он звался Джуя[368];
12650 Был мастером слова, меча и копья.
С Кавусом, владыкой Ирана самим,
Он биться был послан владыкой своим.
Сказал бы, кольчуга пылает на нем,
Булат его землю сжигает огнем.
Пред строем иранцев взревел исполин,
Потрясшипросторы холмов и долин:
«Кто к битве готов? Есть ли витязь такой,
Взметающий прах из пучины морской?»
Никто не ответил на вызов Джуя,
12660 Отвагою кровь не вскипела ничья.
И громко воскликнул тогда Кей-Кавус:
«Что с вами, бойцы удалые? Дивлюсь.
Дрожите вы, лютого дива страшась;
Ревет он, и лица темнеют у вас!»
Ответить бойцы не нашли в себе сил.
Им ужасом сердце Джуя леденил.
Промолвил Могучий, узду натянув,
Копьем, за плечо занесенным, сверкнув:
«Хочу, государь, дозволенья просить
12670 Того ненавистного дива сразить».
Ответил Кавус: «Подвиг сей за тобой,
Другим не под силу с ним выдержать бой.
Иди, да поможет Создатель тебе!
Нечистых повергни в кровавой борьбе!»
Тут Рехша Воинственный тронул слегка,
Копье смертоносное сжала рука.
На битву он мчится, как яростный слон,
Тигр лютый под ним, а в деснице — дракон.
От скачки все пылью вокруг облеклось,
12680 И поле от клича его затряслось.
Он крикнул врагу: «Эй исчадие зла!
Знай, смерть за тобою сегодня пришла.
Сотру твое имя меж славных бойцов,
Забудь об усладах, твой жребий суров.
Заплачет тебя породившая мать,
Взращенного ею уж ей не видать».
Ответ был: «Твоя зарыдает скорей
Над шлемом твоим, над кольчугой твоей.
Несчастный, страшись исполина Джуя!
12690 Жнет головы сталь боевая моя».
Могучий, услышав такие слова,
Назвал свое имя и яростней льва
На дива напал. Дрогнул в ужасе враг,
Весь мир для него погрузился во мрак.
Мгновенно коня повернул он назад,
Пред силой Ростема смятеньем объят.
Тог вихрем понесся на Рехше своем,
И недругу в пояс нацелясь копьем,
Его смертоносным ударом настиг.
12700 Кольчуга на звенья рассыпалась вмиг.
Врага на скаку меткой сталью пронзив,
Как птицу на вертел копья насадив,
С седла приподнял он и сбросил. В пыли
Валяется витязь, рот полон земли.
На это глядит в изумлении стан
Бойцов, защищающих Мазендеран.
Встал ропот смятенья над полем войны,
Трепещут воители в страхе, бледны.
Но их повелитель, врага не страшась,
12710 Дал рати от края до края приказ:
Бестрепетно, с поднятою головой
Пусть каждый стремительно ринется в бой!
И вырвали грозно клинки из ножен,
И ринулись в битву бойцы с двух сторон.
Грохочут кимвалы, литавры гудят,
Цвет неба — индиго, земля — что агат.
Огонь ослепительный мечут мечи,
Сказал бы ты, молнии блещут в ночи
Взмывают знамена ярчайших цветов,
12720 Стал воздух лазорев, багрян и лилов.
Рев дивов все громче и пыль все черней.
От трубных призывов, от ржанья коней
Трясется земля, стон стоит среди гор.
Мир битвы такой не видал до тех пор.
Здесь лязганье стали, там палицы гром,
От крови слоновьей вся степь — водоем.
Земля — словно море, где влага — смола,
Где волны — булат, и копье, и стрела,
А в море том кони сквозь бурю и смерть
12730 Несутся, как будто ладьи в водоверть.
И палицы — словно листва в листопад,
Как ливень, они по шеломам стучат.
Сраженье все яростней, все горячей...
Так рать против рати сражалась семь дней.
Восьмой наступил, и властитель держав,
Венец свой кеянский сияющий сняв,
Смиренно склонясь пред всевышним Творцом,
Молитву сперва сотворил, а потом
Простерся, и хлынули слезы рекой.
12740 Воззвал он к Творцу: «Вседержитель благой!
О Ты, Кем земля создана и вода!
Над скопищем дивов, лишенных стыда,
Даруй мне победу, даруй торжество,
Престола Ты блеск обнови моего!»
И после, в шелом боевой облачась,
Он к славной дружине вернулся. Тотчас
Клич грянул, и стала труба рокотать,
Громадою двинулась грозная рать.
В литавры забить повелел Кей-Кавус.
12750 Возглавили войско Гив храбрый и Тус.
За ними — Гудерз, и Роххам, и Горгин,
Зенге, Шаворана воинственный сын[369],
И вепрю подобный, подобный грозе,
С орлами на стяге летит Горазе[370].
Бехрам благородный, и витязь Хоррад,
Герой Гостехем, и Борзин, и Ферхад
На поле сраженья опять понеслись,
Победы, отмщенья искать понеслись.
Ростем вражьих войск середину прорвал;
12760 Он кровью без устали прах омывал.
Гудерз, сын Гошвада, на правом крыле
Сражался, горой возвышаясь в седле.
И влево свой грозный удар устремив,
Как волк средь отары, свирепствовал Гив.
Уж меркнут лучи, потемнел небосвод,
А крови река все течет и течет,
След жалости с лиц разъяренных исчез,
И палицы бьют, словно ливень с небес.
Тел столько, что поле горой поднялось
12770 И травы пропитаны кровью насквозь.
Кимвалов и труб оглушительный рев;
Пыль солнце укутала в черный покров.
С дружиной Могучий помчался туда,
Где лютая вражья теснилась орда.
Царь битву с Ростемом решился принять,
И поля борьбы не покинула рать.
Вослед за властителем дивы, слоны
В бой ринулись, неукротимы, грозны.
Бойцы булавы и мечи занесли.
12780 Две рати слились в непроглядной пыли.
Могучий, к Создателю мира воззвав,
Стальное копье копьеносцу отдав,
Взмахнул булавой, ярым гневом палим,
И степь огласил грозным кличем своим.
Так грозно взревел сокрушитель вождей,
Что слон обомлел, задрожал чародей.
Разит он, горой громоздя колдунов,
И валятся хоботы мощных слонов.
Взял снова копье, снова поднял он щит,
12790 К властителю Мазендерана летит.
И царь чародеев с могучим бойцом
Столкнулся, и оба взревели, что гром.
Увидел колдун исполина копье,
И разом утратил бесстрашье свое.
А в сердце героя — сжигающий гнев,
Он рев испустил, словно яростный лев,
Огромным копьем он врага поразил,
Пробил ему панцирь и тело пронзил.
Но тут на глазах удивленных людей
12800 Скалой обернулся, колдун-лиходей.
И витязь на тот неподвижный гранит
С копьем на плече в изумленьи глядит.
Туда Кей-Кавус подоспел в этот час
С бойцами, с кимвалом, со стягом примчась.
Сказал он: «Ужели, о славный герой,
Кровавый еще не окончился бой!»
Ответ был: «Далась нам победа с трудом,
Но был я счастливой звездою ведом,
Столкнулся я с мазендеранским главой,
12810 Который грозил мне своей булавой.
И тут же, поводья отдав скакуну,
Копье свое в грудь я вонзил колдуну.
Пробил я кольчугу и думал: вот-вот
Он вниз головою с седла упадет.
А он в этот миг обернулся скалой —
Избегнуть надеется участи злой.
В наш стан боевой мы потащим его.
Уж тут не поможет ему колдовство».
И глыбу владыка велел поскорей
12820 Нести на стоянку иранских мужей.
Сперва попытались скалу приподнять
Бойцы-силачи, возглавлявшие рать.
Однако не сдвинулась с места скала,
Что мазендеранцу защитой была.
Вмешаться Ростему пришлось самому,
Недолго пришлось повозиться ему,
Скалу приподнял он единым рывком,
Стоит в изумленьи дружина кругом.
Взвалил он на плечи тяжелый гранит,
12830 И вслед ему гул восхищенья летит.
Восславлен бойцами небесный Творец,
Алмазами, златом осыпан храбрец.
Он глыбу пред ставкой владыки царей
Иранцам вручил и сокрытому в ней
Промолвил: «Нечистый колдун, покажись,
От чар и заклятий своих откажись!
Не то искрошу я гранитный твой дом
Тяжелой секирой и острым клинком».
Услышал и вышел он, тучи темней,
12840 В шеломе и панцире богатырей.
Ростем его за руку тотчас схватил,
С презрительным смехом к царю потащил
И молвил: «Скалу приволок я: сдалась,
Тяжелой секиры моей устрашась».
Взглянул на врага Кей-Кавус и не счел
Такого достойным воссесть на престол.
Он был долговяз и лицом непригож,
Клыками и шеей на вепря похож.
Шах вспомнил о муках былых, омрачась;
12850 Страдала душа, грудь от вздохов рвалась.
Он взяться велел палачам за клинки,
Велел он врага разрубить на куски.
За бороду витязь схватил сгоряча
Урода и отдал во власть палача.
Исполнили волю владыки земли —
На части того колдуна рассекли.
И после приказ был владыкою дан
Посланцам помчаться во вражеский стан.
Доставили много коней и клинков,
12860 Оружья, престолов, венцов, кушаков,
И груды сокровищ сложили горой,
И мимо идет за героем герой,
И каждому дар по заслугам несут,
Тем больше даря, чем тяжеле был труд.
И самым свирепым из дивов — таким,
Чьей злобою лютой народ был тесним,
С плеч голову тут же спешили снести,
Презренные бросив тела на пути;
Затем, удалившись, Подателю сил
12870 Смиренно владыка мольбы возносил:
«Тобой, Вседержитель, благой Судия,
Дарована знаю победа сия.
Ты власти моей колдунов покорил
Мне юное счастье Ты вновь подарил».
Творцу всеблагому небес и земли
Семь дней он молился, простертый в пыли.
Затем он сокровищниц двери открыл
И каждого в меру нужды одарил.
Семь дней это было заботой его,
12880 И каждый был взыскан щедротой его.
Затем отдохнуть властелин пожелал
Потребовал кубков, вина, словно лал.
Неделю провел он, пируя, в венце,
В блистающем мазендеранском дворце.
Воссев на престол, Кей-Кавус-властелин
Промолвил Ростему: «О муж-исполин,
Воитель, исполненный сказочных сил!
Ты всюду великую доблесть явил,
Престол ты вернул мне, вернул мне Иран —
12890 Да будет весельем твой дух осиян!»
Ответил Могучий на царскую речь:
«Знай, можно из каждого пользу извлечь.
К победе Авлад помогал мне идти —
Мой верный вожатый на трудном пути.
В награду он требует Мазендеран,
Был мною подобный обет ему дан.
Его наградить бы дарами сейчас,
Печатью скрепить бы державный указ.
Страну бы ему во владенье отдать,
12900 Дабы почитала отважного знать».
Когда миродержец ту речь услыхал,
Он руку к груди в знак согласья прижал.
Мужей родовитых созвал он и сам
Про доблесть Авлада поведал мужам,
Авладу пожаловал царский венец,
И в Парс ускакал, в родовой свой дворец.
[ВОЗВРАЩЕНИЕ КАВУСА В ИРАН И ОТЪЕЗД РОСТЕМА В НИМРУЗ]
Вздымается пыль над землей, как туман. —
Властитель Кавус воротился в Иран.
Крик радости к самому солнцу встает,
12910 От счастья смеется и плачет народ.
Для встречи украшена пышно страна,
Звон руда повсюду и струи вина.
Край с юным властителем юность обрел;
Иран озарив, юный месяц взошел.
Кавус-победитель, возглавив страну,
Спешит отпереть родовую казну,
Спешит он своих казначеев призвать
И золото щедро велит раздавать.
Вот клики у двери Ростема гремят,
12920 Воителей славных собрался отряд.
С отрадой герои к владыке пришли,
Престол славословить великий пришли.
Могучий в походном шеломе своем,
Сев рядом с Кавусом, иранским царем,
Просил венценосца дозволить ему
Вернуться к Заль-Зеру, отцу своему.
Приветом ответил бойцу властелин,
И царственный дар получил исполин:
Престол бирюзовый, пленяющий взор[371],
12930 Алмазный венец, ослепляющий взор.
Одежду из золототканой парчи,
Алмазы, в которых дробятся лучи,
Сто юных рабов в поясах золотых,
Сто дев чернокудрых в венцах золотых,
В цветных чепраках сто коней вороных,
Сто мулов отменных в уздах золотых,
Груженных лишь царственной тканью одной —
Румийской, китайской, персидской парчой[372].
Набитых динарами сто кошельков,
12940 И красок немало, и лучших духов,
Из яхонта чашу, где мускус дышал,
С настоем из роз бирюзовый фиал.
Указ принесли, на шелку дорогом
Начертанный смесью алоэ с вином.
Вождю светоносному с этих времен
Нимруз во владенье навеки вручен,
Чтоб царством Ростемовым стал тот удел,
Никто посягнуть на него чтоб не смел.
Царем исполину хвала воздана:
12950 «Живи, сколько солнце живет и луна!
Опорою будь именитым в беде,
Достоинством, скромностью славься везде».
Поднялся Ростем, чтобы к трону прильнуть
Построив дружину, собрался он в путь.
Раздался кимвала ликующий бой,
На празднестве том веселился любой.
На диво украшен сияющий град,
Бьют в бубны и гулко литавры гремят.
Ростем, сын Дестана, умчался, а шах
12960 Стал править, любовь поселяя в сердцах.
Кто в Мазендеране труды с ним делил,
Тех землями щедро Кавус наградил.
Дружину он Тусу возглавить велел:
От бед защищай, мол, родимый предел!
Почтен и могучий Гудерз: Исфаган
Царем во владение витязю дан.
Уселся за чашею Кей пировать —
Победу великую торжествовать.
Он правды мечом злобе голову снес:
12970 Все смерть позабыли, не ведали слез;
Ручьи заструились, весь в зелени, край
Весельем светился, что солнечный рай, —
Богат правосудьем, добром осиян.
И зло не дерзал уж творить Ахриман.
Слух громкий по свету о шахе прошел,
Отторгнувшем мазендеранский престол.
Весь мир изумился, владыки того
Увидя величие, блеск, торжество.
Шла знать отовсюду к престолу царя,
12980 Сокровища славному щедро даря.
Богата, исполнена правды святой,
Земля, что Эдем, расцвела красотой.
Ты слышал о мазендеранской войне,
Послушай о хамаверанской войне.
[КЕЙ-КАВУС В БЕРБЕРИСТАНЕ И ДРУГИЕ СКАЗЫ]
[ВОЙНА КЕЙ-КАВУСА С ЦАРЕМ ХАМАВЕРАНА]
Мобедом старинный сей сказ сохранен,
Дехканом записанный в книгу времен.
Кавус, повелитель Ирана, опять
Задумал в поход повести свою рать.
Ушел из Ирана в Туран и Китай,
12990 И дальше в Мекранский проследовал край[373];
Оттуда с ним войско в Зерех понеслось[374],
Однако сражаться нигде не пришлось.
На дань соглашаются в царстве любом —
Быку не под силу тягаться со львом.
Все новых земель венценосец искал,
И так до Берберии он доскакал[375].
Но царь берберийский дал шаху отпор,
И все по другому пошло с этих пор.
Такая пришла из Берберии рать,
13000 Что стан властелина забыл пировать.
За пылью наездник не видит узды,
Исчезли слонов разъяренных ряды.
Несчетные полчища ринулись в бой —
Так волны морские вздымает прибой.
Гудерз, это видя, пригнулся к луке,
Хлестнул скакуна и, с булатом в руке,
Ведя за собой десять сотен стрелков,
Могучих, пронзающих сталь седоков
Помчался, прорвал середину орды;
13010 Шах двинул вослед боевые ряды.
И вот уже нет берберийских бойцов,
Исчез даже след берберийских бойцов.
Поняв, что меняется ветер войны,
Старейшие знатные люди страны
К царю вереницею длинной пришли,
В раскаянье горьком с повинной пришли.
Мол, шаху готовы мы верно служить,
Готовы богатую дань уплатить.
Алмазов и злата немало дадим,
13020 Хвалу вознося казначеям твоим.
Кавус обласкал их, смиреньем смягчен,
Им новый он путь указал и закон.
Литавр и тимпанов несется раскат,
И трубы рокочут, и клики звучат.
Расставшись с Берберией, царь на заре
Направился к западу, к Кафу-горе[376].
Лишь вести об этом в те страны дошли,
Они покорились владыке земли.
Навстречу выходит верховная знать,
13030 Обильную дань обещая прислать.
Увидя, что сдаться принудил их страх,
Не стал побежденных наказывать шах.
Он в сторону Забулистана пошел —
Рать в гости он к сыну Дестана повел;
То шумно при говоре струн пировал,
То с соколом, с гончими лов затевал.
Так время вперед целый месяц неслось.
Но вскоре шипы проросли между роз.
Кто мог бы от дня испытаний спастись?
13040 Едва ты вознесся — уж катишься вниз.
Казалось, спокойствие в мир снизошло.
Но вести пришли про нежданное зло.
Под знаменем брани владыка пришел,
В чьей власти был Мысра и Шама престол[377].
Он Кея господство признать не хотел,
Отверг подчинение, рабский удел.
Дошла до царя всемогущего весть:
Соперник его полновластию есть.
В литавры забил и оставил Нимруз
13050 С весельем в душе властелин Кей-Кавус.
Наносит на щит свое имя ездок,
У каждого рвется из ножен клинок. Направилось войско к морским берегам,
И не было это известно врагам.
Построил челны Кей-Кавус, и вперед С дружиной своею он морем плывет.
А если бы шли по сухому пути,
Фарсангов до тысячи надо б идти.
И вот они к месту пригнали челны,
13060 Где три простираются рядом страны[378].
Мыср справа, Берберия слева легла,
В Зерех между ними дорога вела,
А дальше — раскинулся Хамаверан;[379]
И войско огромное в каждой из стран.
Узнали в тех землях, что высадил шах
Войска на зарехских крутых берегах.
Тогда сговорились они меж собой
В Берберию двинуть бесчисленный строй
Разящих мечом, закаленных бойцов,
13070 И вскоре пришли к берберийцам на зов
Два войска. Наполнились гулом поля,
От крика бойцов стоном стонет земля.
Там барс и орел, житель каменных круч,
Паря наравне с караванами туч,
Напрасно пытались бы путь отыскать —
Такая сошлась там огромная рать.
Когда же иранцы построились, взор
Уж больше не видел ни степи, ни гор.
Сказал бы, стихии в броню облеклись,
13080 И звезды от пламени копий зажглись.
Где — искрится щит, где — сверкает шелом,
Секира блестит у бойца за плечом;
Весь мир, ты сказал бы, — поток золотой,
Кровь с длинных клинков так и хлещет рекой.
Лик ясный земли весь эбеновым стал,
И воздух от пыли темней, чем сандал;
Кряж горный от трубного рева гудит
Трясется земля под напором копыт.
Гремит берберийский большой барабан,
13090 Ты скажешь, весь мир — шумный воинский стан.
Литавры воззвали к иранским бойцам.
В бой ринулись Тус, и Горгин, и Бехрам,
И славный Гудерз, чей родитель Гошвад,
Шейдуш именитый, бесстрашный Ферхад,
И доблести полный, воинственный Гив;
Отравою копья свои напоив,
Все с криком помчались, коней горяча,
При стуке секиры и звоне меча.
Сказал бы, рвут камень, железо куют,
13100 Иль небом о землю неистово бьют.
Помчался Кавус и за ним седоки,
Бой грянул, сверкая скрестились клинки.
Уж поле едва различимо сквозь мглу,
И киноварь льется дождем на смолу.
Ты спросишь: то алая пала роса,
Иль сеют тюльпаны в горах небеса?
Сказал бы ты, сыплются искры из глаз
У копий, и кровь, что река, разлилась.
В смятении, в страхе три рати слились,
13110 Не чуя ни ног, ни голов, понеслись.
И первый был Хамаверана глава,
Кем брошен был меч, отдана булава.
Он к шаху с повинной пришел головой,
Он понял, что день этот — день роковой.
Сулил он — коль скоро проиграна брань —
Прислать победителю щедрую дань,
Прислать ему в дар от державы своей
Оружье, престолы, венцы и коней,
Чтоб царь, получив сей обильный оброк,
13120 Ушел, разоренью страну не обрек.
Царь слушал внимательно слово посла,
Ответная речь его мягкой была:
«Коль власти отнять не хотите моей —
Прибегните смело к защите моей»[380].
[КАВУС ПРОСИТ В ЖЕНЫ СУДАБЕ, ДОЧЬ ЦАРЯ ХАМАВЕРАНСКОГО]
Дошла до царя-победителя весть,
Что дочь у царя побежденного есть;
Мол, стан у нее кипариса стройней,
Корона из мускуса — кудри у ней.
Коса — что аркан, ниспадающий с плеч,
13130 Уста — словно сахар, язык — словно меч,
Небесной пленяет она красотой,
Сияет, как солнце весны золотой.
Не сыщется в мире для шаха жены
Прекраснее этой царевны-луны».
Смутилась тогда у Кавуса душа,
Владыка ответствует: «Мысль хороша.
Я свататься стану, поладим с царем.
Красавице место в покое моем».
Он выбрал меж витязей рати своей
13140 Мудрейшего из просвещенных мужей,
Чей разум возвышен, чей славится род,
И в град покоренный послом его шлет,
Промолвив: «Царя ты склони, убеди,
Дух вкрадчивой речью ему услади.
Со мной породниться — ему ты скажи —
Мечтают знатнейшие в мире мужи.
Ведь солнце блестит от венца моего,
Весь мир у порога дворца моего,
А кто под мою не укроется сень,
13150 Тому уготован нерадостный день.
"Я ныне тебе предлагаю родство,
Коль мир между нами — украсим его.
За пологом дочь у тебя, говорят, —
Достойней царица найдется навряд —
С чарующей поступью, станом, лицом,
Чья прелесть не раз прославлялась певцом.
Возьмешь ты Кобадова сына в зятья —
До солнца возвысится слава твоя».
В столицу примчась, хитроумный посол
13160 К властителю Хамаверана вошел.
Собрался он с духом, и речь начата,
И льстивые мед источают уста.
Царю произнес он не мало похвал
И весть от Кавуса затем передал.
Все выслушал Хамаверана глава
И в горе поникла его голова.
Царь думал: «Хоть шах — победитель дружин,
Могучий, внушающий страх властелин,
Но жизни милей ненаглядная дочь —
13170 С отрадой единой расстаться невмочь.
Обидеть посла? Дать холодный ответ?
Но сил для отпора военного нет.
Смолчу я, обиду и эту стерпев,
В душе затаю униженье и гнев».
Послу-златоусту дает он ответ:
«В приказе царя справедливости нет.
Лишил меня царь, покоривший весь свет,
Двух благ драгоценных, а третьего нет.
В богатстве я силу, усладу видал,
13180 Я в дочери милой отраду видал.
Отдав ее, с сердцем своим разлучусь.
И все ж, коли мне повелит Кей-Кавус, —
Отдам я, сокровища не сберегу.
Я волей царя пренебречь не могу».
И дочь, удрученный, призвал он к себе,
И речь о Кавусе повел с Судабе[381],
Промолвив: «Сюда повелитель царей,
Предела не знающий силе своей,
С медовою речью посланца прислал,
13190 Послание льстивое нам написал.
Презрев огорченье, досаду мою,
Он хочет похитить отраду мою.
Что скажешь ты, воля твоя какова?
Какие разумные скажешь слова?»
Ответ был: «Причины печалиться нет.
Защитника лучше не ведает свет.
В союзе с могучим владыкой земель,
Кем стран завоевано столько досель,
Ужели ты видишь источник забот?
13200 Кто счастье пришедшее горем сочтет?»
Царь понял: в той вести обидного дочь
Не видит, согласьем ответить непрочь.
Зовет он посла, согласясь на родство,
И выше всей знати сажает его.
И туг же у них договор заключен,
Как требовал веры обряд и закон.
Вторая неделя, меж тем истекла.
Когда завершились, как должно, дела,
Собрал повелитель, печален, суров,
13210 Три сотни рабынь, сорок пышных шатров,
По тысяче мулов, верблюдов, коней
Под грузом динаров, парчи и камней.
И вот в паланкине царевна-луна;
С дарами богатыми едет она.
И рать каравану вослед повели,
И стяги, как маки, над ней зацвели.
Царевна с дружиною богатырей
Достигла шатра властелина царей
И, царственной взоры слепя красотой,
13220 Покинула свой паланкин золотой.
С подвесок сиянье алмазов лилось;
Что мускус над розами — волны волос,
Опора для брови — точеный калям.
К рубинам-устам и нарциссам-очам
Владыка свой взор приковал, восхищен;
К Йездану воззвал благодарственно он.
И после, мобедов собрав на совет,
Мужей почитаемых, видевших свет,
Своею назвал он царевну-луну,
13230 В ней видя достойную шаха жену.
Сказал ей, любуясь: «О нет, не в простом,
Достойна в чертоге ты жить золотом»![382]
[ПЛЕНЕНИЕ КАВУСА ЦАРЕМ ХАМАВЕРАНСКИМ]
Меж тем, венценосец, утративший дочь,
Искал, уязвленный, как горю помочь.
Семь суток прошло в размышленьях, и вот
На утро восьмое он вестника шлет:
«Коль шаху угодно, прошу я о том,
Чтоб гостем почетным вошел он в мой дом.
Безмерно возвысится Хамаверан,
13240 Коль будет он ликом царя осиян».
Послание было коварства полно:
Царь втайне обдумывал только одно —
Как сбросить ярмо ненавистное с плеч:
И дочь воротить, и владенья сберечь,
Но дочь разгадала злой умысел тот:
«О нет, не на пир венценосец зовет.—
Сказала супругу — Ты в гости к нему
Не езди, совету внемли моему.
Не должно, чтоб пир он в войну обратил,
13250 Коварно тебя в западню захватил.
Все это уловки, чтоб выкрасть меня.
Смотри, берегись злополучного дня».
Но царь не поверил речам Судабе,
Не видел противников равных себе.
К царю побежденной державы на зов
Спешит он с толпою мужей-храбрецов.
Пригоден для празднеств, обширен, богат
Был город Шахе — расцветающий сад[383].
Там ждал он к себе властелина держав,
13260 Столицу для встречи роскошно убрав.
Как только к Шахе подошел падишах,
Весь город пред славным склонился во прах.
К ногам властелина алмазы летят,
Шафрана и амбры разлит аромат.
Веселые песни со звоном струны,
Как в шелке основа с утком, сплетены.
Завидя гостей именитых вдали,
К ним царь и вельможи навстречу пришли.
До самого входа в престольный чертог
13270 Рассыпаны жемчуг и злато у ног.
И шествуют гости, и с блюд золотых
Дождь амбры и мускуса льется на них.
Сверкающий трон во дворце водружен,
И, весел, восходит владыка на трон.
Семь дней он с бойцами вино распивал.
Семь дней, расцветая душой, пировал.
Правитель державы покорно пред ним
Склонялся, как раб пред владыкой своим,
И велено хамаверанским бойцам
13280 Служить поусердней иранским бойцам.
В беспечности так проводя свои дни,
Опасность и страх позабыли они.
На утро восьмое — пора нападать
(О том сговорилась заранее рать).
И берберы, чтобы к соседям примкнуть,
Как было условлено, двинулись в путь.
Царь мстительный хамаверанской земли,
Довольный, что берберы к сроку пришли,
Знак подал, и гулко кимвал загудел.
13290 О мире и думать никто не хотел.
Захвачены в плен венценосный Кавус,
И пламенный Гив, и воинственный Тус,
Зенге, и Гудерз, и отважный Горгин —
Герои, крушители вражьих дружин.
Сковали цепями мужей-храбрецов,
Лишили величья, земель и венцов.
Что муж прозорливый сказал бы о том?[384]
Как сам ты рассудишь пытливым умом?
Не должно надеяться нам на того,
13300 С кем кровное нас не связует родство —
Хотя и по крови наш родич иной
Нас может предать из корысти одной.
И в счастье и в горе спеши испытать
Того, кого другом хотел бы считать.
Коль ниже величия он твоего,
То зависть, быть может, снедает его.
Увы, этот мир к вероломству влеком,
Колеблем он каждым шальным ветерком.
Схватив властелина иранской земли,
13310 На горькую участь его обрекли.
Там высилась грозная круча; из вод
Восстав, подпирала она небосвод,
Изедом из бездны до туч взнесена,
Увенчана грозной твердыней она.
В ту мрачную крепость был ввержен Кавус,
С ним Гив, и Гудерз, и воинственный Тус.
И прочие витязи так же, как шах,
Томились в темнице, в тяжелых цепях.
И тысяча их охраняла бойцов,
13320 Мечами разящих лихих удальцов.
Царь ставку обрек разоренью, и сам
Венцы и сокровища роздал бойцам.
Рабыни пришли в покрывалах глухих,
С собой паланкин золоченный у них;
Пришли, чтоб царицу с собой унести,
Державный шатер разгромить и смести.
Узнала прислужниц своих Судабе
И царский убор порвала на себе,
В отчаяньи мускус кудрей стала рвать,
13330 Ланит своих розы ногтями терзать.
Вскричала: «Достойные славы мужи
Вовек не одобрят коварства и лжи.
Схватили царя на пиру, не в бою,
Где мог защитить он свободу свою!
Гив храбрый, Гудерз именитый и Тус
Внушили вам страх: заключили союз
Вы с шахом, и что же! Забыли родство,
Ловушкой вы сделали трон для него!»
Прислужниц собаками обозвала,
13340 В печали кровавые слезы лила.
«С супругом,—воскликнула,—не разлучусь,
Хотя бы в могилу был ввергнут Кавус.
Когда над владыкой свершится ваш суд,
Пусть голову мне, неповинной, снесут!»
Услышал об этом отец и, вскипев,
В душе ощущая неистовый гнев,
Послать ее в крепость к супругу велел,
И кровью он плакал, и клял свой удел.
Делила она заточенье царя,
13350 В дни горя ему утешенье даря.
[НАБЕГ АФРАСИАБА НА ИРАН]
Узнав, что в полон государь ее взят,
Иранская рать устремилась назад.
До суши на быстрых челнах добралась,
Пустыней и степью затем понеслась.
Как только Ирана достигла она,
Печальную весть услыхала страна
О том, что лишен кипариса цветник, —
Пустует престол властелина владык.
Владеть им охотников много нашлось,
13360 От замыслов алчных врагам не спалось.
И Степь копьеносцев, и смежный Туран[385]
Тотчас же раскинули воинский стан.
И вождь Афрасьяб снова рвется к войне,
Забыв о покое, и пище, и сне.
Вся стоном стонала Ирана земля,
И мирные в ад обратились поля.
И первым сражаться идет Афрасьяб;
На битву им вызван отважный араб.
Три месяца в жарких боях протекло,
13370 Немало голов за венец полегло.
Дружина арабов разбита была,
Победы искавшая гибель нашла.
И вражьи войска наводнили страну;
Мужчины, и жены, и дети в плену.
Так в бренной юдоли живет человек,
Терзаемый алчностью, бьется весь век.
Глядишь, не осталось ни блага, ни зла;
Смерть-хищник добычу свою унесла.
Весь мир потемнел у иранцев в глазах,
13380 Пылают сердца и ланиты в слезах.
Направились многие в Забулистан
Где жил сын Дестана, Ростем-великан.
Просили: «Будь в горе опорой для нас!
Ведь царственный свет Кей-Кавуса погас».
Сказали иранцы: «Судьба наша зла,
Неслыханно трудные ждут нас дела.
Ужель опустеет Иран, и приют
В нем львы да свирепые тигры найдут?
Он краем отважных воителей был.
13390 Чертогом великих властителей был.
Теперь он в пристанище бед обращен,
И властвует там беспощадный дракон.
Но должно нам путь к избавленью найти,
Сердца от унынья и скорби спасти.
Ты, ярой тигрицей вскормленный герой,
Сегодня возглавь наш воинственный строй!»
Иранцам внимая, кровавый ручей
Муж доблестный пролил из скорбных очей.
Сказал он в ответ: «Я и вся моя рать
13400 Готовы врагов истреблять, сокрушать.
Лишь весть получу о Кавусе — в войну
Вступлю, от туранцев очищу страну».
И в разные страны послал он бойцов,
И те свои рати прислали на зов.
Из хиндской, кабульской, забульской земли
На помощь герою дружины пришли.
Литавры грохочут, гремит барабан,
Бурлит и волнуется воинский стан.
Отвагой в вожде загорелась душа,
13410 Летит он, как буря, на битву спеша.
[РОСТЕМ ШЛЕТ ПОСЛА К ЦАРЮ ХАМАВЕРАНА]
К царю Кей-Кавусу известье, меж тем,
С гонцом расторопным отправил Ростем:
«На ратников Хамаверана войной
Иду я, огромное войско со мной.
Ты сердце утешь и печаль позабудь:
Я здесь, завершился мой длительный путь».
И к хамаверанскому также царю
Велит он воителю богатырю
Помчаться с посланьем: в послании том —
13420 Оружья бряцанье, сражения гром.
«Тобой в западню завлечен Кей-Кавус,
Забыт и поруган священный союз.
Коварство и ложь недостойны царей.
Не шел ты стезей благородных мужей —
Те в битве врагу не готовят засад,
Как ни был бы дух у них гневом объят.
Смотри, не чини властелину вреда —
От пасти дракона спасешься тогда.
Не то — повстречаемся скоро в бою,
13430 На шею наденешь ты петлю мою.
Ты, верно, слыхал от своих воевод,
Как в Мазендеран совершил я поход,
Как Бида, Пулада в борьбе одолел,
Для Дива какой уготовил удел».
Домчался до Хамаверана гонец
С письмом, что отправил великий боец.
Вручил он послание богатыря,
И мир потемнел пред глазами царя.
Ответ был: «Кавусу царем уж не быть,
13440 На поле сраженья вовек не ступить.
Попробуй и ты, натянув повода,
С дружиною конной примчаться сюда.
Коль хочется так же в оковы тебе —
Темница и цепи готовы тебе.
Навстречу тотчас приведу я стрелков:
Таков наш закон и обычай таков».
Лишь только посланец ответ услыхал,
Назад он к искателю битв ускакал.
Он молвил, ответ передав: «Одержим
13450 Безумец тот дьяволом, видно, самим.
Ответ подобающий не был им дан:
Гордыней его обуял Ахриман».
Муж силы слоновьей, услышав ответ,
Воителей знатных созвал на совет.
И вот уже труб раздается призыв.
Могучий, на буйного Рехша вскочив,
К широкому морю повел свою рать:
Им сушею долго пришлось бы скакать.
Поплыли бойцы, на судах разместясь;
13460 И Хамаверана достигнув, тотчас
Стал каждый воитель, схватившись за меч,
Разить без пощады, и грабить, и жечь.
Владыка державы услышал о той,
Ростемом возглавленной рати большой,
И видит: пора подниматься ему,
Раздумывать, медлить теперь ни к чему.
Вокруг, вся разграблена, разорена,
Стенает, в крови утопает страна!
Царь вышел с бойцами из города прочь,
13470 И день показался им темным, как ночь.
Кимвалы гремят, трубный голос зовет;
Затрясся, сказал бы ты, сам небосвод.
Для боя, как должно построена рать;
Стал витязя витязь на бой вызывать.
«Мне,—крикнул Могучий,—на бой выходить,
Мне путь ненавистным врагам преградить!»
Надев на ходу боевую броню,
На Рехша взлетел он, дал волю коню,
И тяжкую палицу грозно занес.
13480 Отвагою сердце героя зажглось.
Едва меченосцы успели взглянуть,
На палицу, плечи, на мощную грудь —
В них замерло сердце: от грозной беды
Спасаясь, рассеялись вражьи ряды.
И вот уже в Хамаверане войска,
Их вспять обратила Ростема рука.
Совета спросив у старейшин седых,
Властитель призвал двух бойцов молодых
И в Мыср и в Берберию, вихря быстрей,
13490 Велел им скакать, не жалея коней.
Обоим гонцам он посланья вручил —
Писал он, как будто кровь сердца точил:
«Меж царствами нашими путь недалек,
Всем разом шлет беды и радости рок.
Когда бы прислали вы помощь свою,
Ростема бы я не страшился в бою.
Не то — будет каждого доля тяжка,
Дотянется всюду несчастья рука».
О грозном набеге Ростема узнав,
13500 В смятенье пришли властелины держав.
И каждый владыка согласье дает,
И вот уж две рати выходят в поход.
Направился к Хамаверану их строй,
Равнина, сказал бы ты, встала горой.
За пылью луны в небесах не видать,
От кряжа до кряжа — несметная рать.
Про это Могучий узнал и тайком
К Кавусу гонца отряжает с письмом:
«Идти на меня сговорились войной
13510 Трех стран властелины ордою одной.
Не помня себя, побегут они вспять,
Как только я двину могучую рать.
Страшусь, роковою война б не была
Для шаха: ведь созданы злые для зла.
А мне берберийский не надобен трон,
Коль будет владыка бедою сражен».
Кавус отвечал: «Обо мне не жалей,
Ведь мир не погибнет со смертью моей.
13520 С любовью вражда и с отравою мед
В соседстве с тех пор, как вращается свод,
К тому ж Вседержитель меня пощадит,
От вражеской злобы меня оградит.
Мчись бурно на пламенном Рехше своем,
Укрась ему ухо стрелы острием.
Не дай никому из соперников злых
Открыто иль тайно остаться в живых».
Вняв слову царя, не тревожась ничем,
Навстречу противнику славный Ростем
На Рехше горячем несется стрелой,
13530 И ждет, кто решится затеять с ним бой?
Бестрепетно встав против вражьей орды,
Могучий глазами обводит ряды.
Он в бой громогласно зовет удальцов:
Пусть выйдет один или много бойцов!
Но тщетно он ждал, нетерпеньем томим:
Схватиться никто не осмелился с ним.
Уж солнце ушло за безбрежную ширь —
Надвинулась ночь, и Ростем-богатырь,
Отвагой прославленный в мире герой,
13540 К себе воротился в шатер боевой.
Сон обнял усталого богатыря.
Наутро, едва засияла заря,
Поднялся Могучий, сразиться готов,
Построил ряды закаленных бойцов.
[БОЙ РОСТЕМА С ТРЕМЯ ЦАРЯМИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ КАВУСА]
Готовы дружины, с обеих сторон
Пестреют полотнища бранных знамен.
Могучий, на поле бойцов приведя,
Увидел: три войска стоят, три вождя.
Воскликнул Ростем, именитый герой:
13550 «Сегодня мы яростно ринемся в бой.
Пригнитесь к мятущимся гривам коней,
Железными копьями цельтесь верней.
Будь сотня, иль сотни их тысяч — вперед!
В числе превосходство врагов не спасет.
Творец да поможет нам: с верой в сердцах
Мы головы вражьи повергнем во прах».
Слоны берберийцев — их сто шестьдесят —
В бой рвутся, как Нил многошумный, кипят.
До сотни их выставил Хамаверан,
13560 На версты раскинувший воинский стан.
А третья — из Мысра огромная рать;
Цвет неба — индиго, земли не видать.
Стал будто железною глыбой весь свет,
Иль в панцирь оделся Эльборза хребет.
Над ратью иранской, лазорев и ал,
Прославленный стяг кавеянский сиял.
Земля под копытами изнемогла,
От грохота рушилась в бездну скала.
И крылья орла трепетали едва,
13570 И сердце в клочки разрывалось у льва.
Там туча и та расплавлялась в пути;
Подобное пекло кто мог бы снести?
И справа и слева построив ряды,
Иранцы встают против вражьей орды.
Обозприкрывая, на правом крыле
Гигант Горазе возвышался в седле.
На левом — рычал Зеваре, словно лев;
Сжигал ему сердце неистовый гнев.
В средине — внук Сама, боец-великан
13580 Ростем; на луке — сыромятный аркан.
Ростем трубачам повелел заиграть,
И двинулась с места иранская рать.
Кровь брызнула в блеске мечей и секир,
Как будто тюльпаны усеяли мир.
Куда ни помчится сверкающий конь —
Сказал бы, встает над землею огонь.
Уж поле, где кровь проливает Ростем, —
Не поле, река полноводная Зем[386].
С плеч головы в шлемах летят; там и тут
13590 Поверженных латников груды растут.
Могучий, на Рехше летя все быстрей,
Разить перестал низкородных мужей.
Властителя Шама настиг великан,
По ветру метнул сыромятный аркан
И петлю на шею набросил врагу,
Его пополам перегнув на бегу.
С седла, как човганом подхваченный мяч,
Он поднят Ростемом, несущимся вскачь.
В полон подоспевшим Бехрамом он взят
13600 И с ним именитых мужей шестьдесят.
Так много бойцов с двух сторон полегло,
Что алое море в степи потекло.
Горазом царь берберов был уведен,
С ним витязей сорок попало в полон.
Царь, правивший Хамавераном, глядел
На поле, покрытое грудами тел,
Увидел, как много сраженных мужей,
И в путах в полон уведенных мужей,
И как богатырь с булавой и щитом
13610 Суд страшный свершает в побоище том,
И понял он: час наступил роковой.
К Ростему с повинной пришел головой
Посол от царя, передавший обет,
Что шаха Кавуса и витязей цвет
Из Хамаверана доставят к нему,
Пришлют и сокровищ немало к тому —
Немало блестящих венцов, кушаков,
Престолов, алмазов, рабынь и шатров.
Простили властителей вражеских стран,
13620 И с места снимается воинский стан.
В столице вельможи толпою пришли
К властителю хамаверанской земли.
Послал он тогда за владыкой держав,
Все почести должные шаху воздав.
И вышел из мрачной темницы Кавус,
С ним Гив, и Гудерз, и воинственный Тус.
Трех ратей оружье, казну трех царей,
И ставки богатые богатырей,
И множество прочих сокровищ страны
13630 Кавус отобрал для иранской казны.
Окутать затем повелел властелин
Румийской парчой золотой паланкин.
Сидение — в яхонтах и в бирюзе,
На пологе — жемчуг, подобный слезе.
На легких столбах из алоя — навес,
Алмазной игрой изукрашенный весь.
Под тем паланкином скакун молодой
Блистает своей золотою уздой.
Царь молвил: «Под сенью шатра, Судабе,
Плыть вдаль, словно ясному солнцу тебе».
13640 С собою повел он огромную рать,
С ним в мире желавшую славу стяжать.
Сто тысяч из Берберистана бойцов,
Из Мысра и Хамаверана бойцов,
А всех — триста тысяч он вел за собой,
Все в латах, и кони — в броне боевой.
[КАВУС ШЛЕТ ПОСЛАНИЕ КЕЙСЕРУ РУМА И АФРАСИАБУ]
К кейсеру от шаха помчался посол[387]
Немало часов он в дороге провел.
Привез он письмо: «Из румийской земли
13650 Умелых и смелых бойцов мне пришли —
Готовых объехать весь мир на коне,
Которые сердце бы тешили мне.
Испытанных в битве воителей жду,
В товарищи взявших булат и узду,
Таких, чтобы всюду скакали за мной —
В горах и безбрежною ширью степной».
Меж тем к копьеносцам арабской земли
Из Хамаверана письмо привезли
О грозном Ростеме, отвагу свою
13660 Явившем с Берберией, с Мысром в бою.
Послали они с молодым седоком,
Искусным копейщиком, метким стрелком
Посланье, какого достоин был шах,
Где сказано в ясных и веских словах:
«Покорно склоняемся мы пред царем[388],
Обычай, угодный ему, изберем.
Лишь кергесаранцы отправились в путь,
Решившись на шахский престол посягнуть,
Нам сердце пронзили обида и гнев;
13670 К господству стремятся они, обнаглев.
На трон твой позарился царь Афрасьяб.
Но нет, поруганья не стерпит араб!
Бойцы и защитники славной земли,
Мы смело сражаться с захватчиком шли.
Мы с длинными копьями двинулись в бой,
Ему отравили мы сон и покой.
Немало из нас и из них полегло.
Судьба то дарила нам благо, то зло.
Но вести до нас долетели, что трон
13680 Наследственный снова тобой обретён.
От берберов к нам возвращайся! Опять
Построимся мы в копьеносную рать,
И кровопролитным оружьем своим
Всю степь меж хребтами в Джейхун обратим».
Посланец, коня огневого погнав,
В страну берберийцев понёсся стремглав.
Владыка Ирана посланье прочёл,
Достойными благоволения счёл
Арабских мужей боевые дела,
13690 И шлет он с письмом к Афрасьябу посла.
«Оставь мой Иран, о господстве забудь!
Ты гневом великим наполнил мне грудь.
Довольствуйся краем туранским твоим,
Зачем ты корыстью и злобой томим?
Богатств не ищи сверх насущной нужды,
Иначе лихой не избегнешь беды.
Смирись, дабы зла на себя не навлечь.
Подумай, как душу свою уберечь.
Мне рок предназначил Ираном владеть,
13700 Всем миром, в наследье мне данным, владеть
А тигр, как ни лют и отважен он сам,
Не смеет приблизиться к львиным когтям».
Поставив печать на послании том,
Послал он его с расторопным гонцом.
Кавуса письмо Афрасьяб прочитал,
И вспыхнул, и в ярость великую впал.
Он тут же ответ повелел написать:
«Подобные речи лишь низким подстать.
Когда ты своим называешь Иран,
13710 Зачем занесло тебя в Хамаверан?
В сраженьи победа одержана мной,
Мой реет сверкающий стяг над страной.
Отныне пределы иранской земли —
Под властью моей. Слову правды внемли.
По праву Иран — родовой мой дворец;
Внук Тура я, чей Феридун был отец.
К тому же рукой меченосною, знай,
От рати арабской очистил я край.
Горы острие срубит острый мой меч,
13720 Под силу орла ему с тучи совлечь!»
Посланец, обратно помчавшись чуть свет,
Кавусу отвез Афрасьяба ответ.
Как только посланье Кавус прочитал,
Он войско готовить к сражению стал.
От берберов рать к аравийцам пришла,
Которой не видно конца и числа.
И царь Афрасьяб поднимает свой стан:
Сказал бы, то грозно бурлит океан.
Такую собрал из туранцев он рать,
13730 Что стало и в полдень ни зги не видать.
Бойца не осталось в Туране во всем,
Что не был в Иран бы отозван вождем.
Рычат барабаны, литавры гремят;
Земля — что железо, а воздух — агат.
Средь свиста и лязга булатного встал
Кровавый над полем сражения вал.
Ростем, разъярясь, клич издав громовой,
С размаха прорвал неприятельский строй.
И дрогнула тут Афрасьяба орда,
13740 Померкла ее боевая звезда.
Вождь, видя, что ужасом рать сражена,
Стал злее огня, горячее вина.
Вскричал он: «О львы мои, о храбрецы,
Избранники, полные пыла бойцы!
На то ведь растил я и пестовал вас,
Чтоб страха не зная в решительный час,
Помчались вы, недругу смертью грозя,
Мечами врагов беспощадно разя.
Их натиск отбейте, к спине став спиной,
13750 И свет для Кавуса померкнет дневной.
Дружнее вздымайте секиру и меч,
И вражьи срывайте вы головы с плеч!
Систанца Ростема, того силача,
Затмившего солнце сверканьем меча,
Быть может, сумеете вы захватить,
Могучему шею арканом скрутить,
Тому, кто примчится, его полоня,
Стащив его наземь с дракона-коня,
И царство и дочь свою дать я готов:
13760 Возглавит он полчища храбрых бойцов:
Иран во владенье ему я отдам,
К высоким его вознесу небесам».
Турана мужи, после речи такой
Исполнясь решимости, ринулись в бой,
Вздымая тяжелые палицы ввысь,
Навстречу иранцы тогда понеслись,
И столько туранцев убили, что взор
Не видел ни степи, ни моря, ни гор.
Две трети легло их, усеяв поля;
13770 От крови — что жидкая глина, земля.
Покинуло счастье туранскую рать,
В смятеньи пришлось Афрасьябу бежать.
Умчался с туранской дружиною он.
Ему не нажива досталась — урон.
Увидя теченье событий, Гуран[389]
Оставил владыка, вернулся в Туран
С истерзанным сердцем, с разбитой ордой,
Не славу стяжав, а спознавшись с бедой.
[КАВУС БЛАГОУСТРАИВАЕТ МИР]
В Иран Кей-Кавус воротился опять,
13780 Вновь счастью над краем дано засиять.
Престол справедливостью шах озарил
И дверь для пиров и веселья открыл.
Направил он витязя в каждый удел
Такого, что праведно править умел.
Мерв дальний и Балх, Нишапур и Герат[390] —
Повсюду Кавуса дружины стоят.
Повсюду царят справедливость и долг,
К ягненку не смеет приблизиться волк.
Богатство везде, благодать, красота,
13790 Властителя славят людские уста.
Верны ему див, человек и пери,
Сражаться за шаха готовы цари.
И витязем первым объявлен Ростем,
Кому он обязан был счастием всем.
На склонах Эльборза воздвиг он чертог
Такой, что и див от работ изнемог.
В скале две пещеры он высек больших;
По десять кемендов, коль вымерить их[391].
Конюшенный свод в сердце камня сокрыт,
13800 Из стали крюки, а подпоры — гранит.
Загнали туда быстроногих коней
И мулов, пригодных для горных путей.
А дальше — чертог был хрустальный, с зарей
Слепивший глаза изумрудной игрой.
И это — для трапез палата была,
Где пища владыке усладу несла[392].
Еще — перламутра йеменского свод;
В обители этой просторной живет
Мудрец поседелый, дабы ни на миг
13810 Не смолк, не иссякнул познанья родник.
А далее — двух оружейных палат
Колонны серебряным светом блестят.
За ними — престольный чертог золотой,
Что взор поражает своей высотой.
Он весь бирюзовым узором цветет;
Украшены лалами арки ворот.
Направо — покоя высокого сень,
Где вечно сияет немеркнущий день.
Ни зноя, ни стужи, и только одно
13820 Дождем благовонное льется вино.
Весны лучезарной там вечный приют,
И розы, что юные девы, цветут;
Царь праведный твердою правит рукой,
На край снизошел долгожданный покой.
От горя людские сердца далеки, —
И дни для одних только дивов горьки.
И дивы ярились, теснимы царем[393],
Караемы тяжко и ночью и днем.
[СОВРАЩЕНИЕ С ПУТИ ИБЛИСОМ И ВОЗНЕСЕНИЕ НА НЕБО КЕЙ-КАВУСА)
Оддажды с зарею созвал их Иблис,
13830 И втайне от шаха они собрались.
Им бес говорит: «Плохи наши дела.
Немало владыка нам делает зла.
Див ловкий, способный царя обольстить,
Умеющий кстати сказать и ступить,
Нас мог бы от царских гонений спасти,
Сведя Кей-Кавусову душу с пути.
Пусть шах, завлеченный в силки хитреца,
Лишится святой благодати Творца».
Но дивы ни слова на это в ответ;
13840 С Кавусом тягаться охотника нет.
Один лишь поднялся, свиреп и силен,
И молвил: «Той ловкостью я наделен.
Я с верой Господней его разлучу,
Свершить это дело лишь мне по плечу».
И юношей он обернулся: пригож,
Речист и достоин собранья вельмож.
Однажды, собравшись на лов, из ворот
Кавус выезжает, а юноша тот
Приблизился, пал пред владыкой, и роз
13850 Ему благовонную связку поднес,
Сказав: «Обладателя стольких красот
Обитель достойная — лишь небосвод.
Добился ты славы, достиг торжества,
Ты — пастырь, твои меченосцы — паства.
Одно лишь осталось свершить на земле,
Чтоб имя твое не исчезло во мгле:
Все тайны узнать, что хранит небосвод,
Понять как возникли закат и восход,
Проведать, как день гонит ночь за порог,
13860 Узнать, кто вращению небо обрек.
Всего, что желал, на земле ты достиг —
Тебе и небесный откроется лик.
Йездана творенье — и небо и прах,
Почто же тебе не парить в небесах?»
Див царскую душу с пути совратил,
Гордынею разум владыке смутил.
Царь думал, что вечно его торжество,
Что купол небес сотворен для него,
Не знал, что опоры у купола нет,
13870 Звезд множество там, а един — лишь Изед.
Сулящие зло или благо, они
Все движимы волей Его искони.
Раздумывать стал миродержец: без крыл
Возможно ль, чтоб он к небесам воспарил?
Расспрашивать стал он мобедов страны,
Как долго лететь от земли до луны,
И выслушав, что говорит звездочет,
Нечистое средство пускает он в ход.
Средь ночи велит он подкрасться туда,
13880 Где дремлет орлица во мраке гнезда.
Птенцов унесли из-под матери той,
Несут их в покои — чету за четой.
И мясом ягнят и животных иных
Он вскармливал долго питомцев степных.
Лишь стал из них каждый могуч, словно лев, —
Настолько, что тура бы смял, одолев, —
Из лучшего в мире алоя возвел
И золотом крепким обил он престол,
И длинные копья прибил по краям
13890 Престола, все это придумавши сам.
По ляжке бараньей подвесить потом
Велел он на каждом копье золотом.
Привязаны мощных четыре орла
К престолу — то воля владыки была.
Воссел на престол он, гордыней ведом,
Тщеславьем своим опьянен как вином.
Лишь голод орлы ощутили, — тотчас
Рванулись к приманке и, вверх устремясь,
С престолом они над землей поднялись,
13900 Над степью среди облаков понеслись.
Летят над горами степные орлы,
Летят над теснинами, полными мглы...
Царь, видно, хотел до небес долететь,
Чтоб даже на ангелов сверху глядеть.
Еще говорят, оттого он взлетел,
Что в битву вступить со Стрельцом захотел[394].
Различная ходит про это молва:
Лишь мудрая тайну поймет голова.
Орлы утомились, летя все вперед;
13910 Кто алчен, беду на себя навлечёт.
И вот уже выбились птицы из сил,
Уже не поднять им слабеющих крыл.
И с тучи низверглись они грозовой,
Кавуса престол увлекая с собой.
В китайских они очутились лесах,
Средь чащи Амола упали во прах[395].
Но смерть пощадила властителя. Рок
Иные пути для него приберег.
Еще Сиавушу родиться на свет[396],
13920 И должно прожить еще множество лет.
Утратив величье и царский престол,
Полет Кей-Кавуса на орлах. С рукописи Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.
Он только раскаянья муки обрел.
Жил в чаще, от милой страны вдалеке,
К Cоздателю мира взывая в тоске.
[РОСТЕМ ВОЗВРАЩАЕТ КАВУСА]
За грех он прощенья просил у Творца,
А войско искало меж тем беглеца.
Узнав, наконец, где укрыт Кей-Кавус,
С Ростемом помчались Гив храбрый и Тус.
Ростему сказал престарелый Гудерз:
13930 «С тех пор как пытливые очи отверз,
Немало я видел престолов, венцов,
Царей и счастливых судьбою бойцов, —
Средь знатных и малых не знал я, клянусь,
Строптивца такого, как царь наш Кавус.
Затмился в нем веры и разума свет;
Одни заблуждения, доблести нет.
Знать, мозга его голова лишена,
Не зреет в ней здравая мысль ни одна.
Никто из великих мужей в старину
13940 Не рвался небесную видеть страну.
А он дуновеньем одним ветерка
Подхвачен и вдруг унесен в облака».
Воители те разыскали царя
И речь повели, за безумства коря.
«Тебе бы, — промолвил Гудерз, — подошел
Приют одержимых, не царский престол.
Нам замыслов не открываешь, и что ж?
Страну ненавистным врагам отдаешь!
Три раза в беду попадал ты, но впрок
13950 Тебе не пошел беспощадный урок.
Ты к Мазендерану знамёна понес,
Припомни, что там испытать привелось.
И после ты в гости к врагу поскакал;
Был гордым кумиром — брамином ты стал[397].
Мечу твоему не подвластен лишь Бог,
Его одного покорить ты не смог.
Всю землю войной обошла твоя рать —
Теперь до небес ты задумал достать!
Владыкою став над одною страной,
13960 Тотчас же кидаешься в битву с другой.
Смотри, сколько бед на себя ты навлек!
От смерти досель избавлял тебя рок.
Умрешь ты, и станет молва говорить:
Жил царь, что хотел небеса покорить,
Близехонько встретиться с солнцем, луной,
Все звезды небес сосчитать до одной...
Учись у исполненных верой вождей,
Разумных, желавших добра для людей.
Создателю мира служи одному
13970 И помыслом каждым будь верен Ему».
Внимая внушенью, с печалью в очах
Стоял пред мужами пристыженный шах.
«В речах ваших мудрость, — был шаха ответ, —
Ущерба от них справедливости нет.
Тобой изреченное — правда одна;
Укора моя заслужила вина»[398].
Из глаз его жгучие слезы текли.
Взывая к владыке небес и земли,
Собрался в дорогу и сел в паланкин
13980 Раскаянья полный Кавус-властелин.
Вернулся, воссел на престол золотой,
Стыдясь, что пленился пустою мечтой.
Решил сорок дней пред Йезданом стоять,
То падая ниц, то вставая опять.
Дворец ни на миг он покинуть не мог —
Так стыд нестерпимый лицо ему жег;
Кровавые слезы струились из глаз.
Владыке миров непрестанно молясь,
Скрываясь от взоров, он замкнуто жил
13990 И празднествам пышным конец положил:
Всегда одинок, покаянно-суров,
Он жаловал бедным немало даров.
В печали склонясь пред всевышним Творцом,
Смиренно к земле припадая лицом,
Он каялся горько, не ведал утех,
И правый Йездан отпустил ему грех.
Дружина, что в прежние дни разбрелась,
К порогу властителя вновь собралась.
В венце он воссел на престол золотой,
14000 Казну отворив пред дружиною той.
И понял он, к жизни опять возвращен,
Что рвенье плоды принесло: он прощен.
В стране возрожденной порядок и лад,
И благословляют царя стар и млад,
И светлой его благодати лучи
Всю землю одели в сиянье парчи.
И каждый из гордых властителей стран,
Из тех, что державной короной венчан,
Ему покорился; все к шаху идут,
14010 Забыв о раздорах, отрекшись от смут.
И время настало счастливое вновь;
Владыки венец озарила любовь.
Все знатные слугами стали ему
И клятву покорности дали ему.
С рогатою палицей, в славном венце,
Воссел повелитель в державном дворце...
Поведал я тайны земли и небес;
Никто не припомнит подобных чудес.
Таков был обычай владыки земли,
14020 Так дни знаменитого витязя шли.
Коль правдой одной властелин вдохновлен,
Нужды не имеет в заступнике он;
Творит справедливость и ею согрет,
Считая весь мир суетою сует.
[СКАЗ О СРАЖЕНИЯХ СЕМИ БОГАТЫРЕЙ]
От смерти не спрячешься, чадо земли![399]
Каков был обычай Ростема, внемли.
Разумное слово промолвил герой,
Без страха со львом выходивший на бой:
«Коль мыслишь ты славу героя добыть
И сталь закаленную кровью омыть —
14030 Тебе не укрыться от бед и тревог,
Когда наступает сражения срок.
Пресечь твои дни коль угодно судьбе,
Помочь осторожность не может тебе.
Такого ль воителя храбрым считать,
Кто с храбростью мудрость решил сочетать?
У мудрости, верь мне, иная стезя.
В боях предаваться раздумью нельзя».
О неустрашимом Ростеме теперь
14040 Чудесному сказу внемли и поверь.
Слыхал я, что витязь, дививший весь мир,
Однажды мужам подобающий пир
Устроил в Невенде — красе городов,
Где множество было дворцов и садов.
Теперь же в прославленном городе том
Священное пламя хранимо жрецом[400].
К Ростему туда собрались пировать
Ирана мужи, возглавлявшие рать:
Отважный Гудерз, чей родитель — Гошвад,
14050 Тус, доблестный Гив, чей родитель — Азад,
Горгин и Зенге, чей отец Шаворан,
Хоррад с Гостехемом, кем славен Иран,
Боец непоборный, упорный Борзин,
Дружины краса Горазе-исполин,
И с каждым — числом невеликий отряд
Героев, чьи подвиги в мире гремят.
Без отдыха занят был витязь любой
Човганом, охотой, пирами, стрельбой.
Веселье все жарче и крики шумней.
14060 Когда миновало так несколько дней,
Ростему воинственный Гив, захмелев,
Промолвил: «О мощью прославленный лев!
Коль хочешь, забаву лихую любя,
Охотой с борзыми потешить себя[401],
К владеньям вождя Афрасьяба скачи!
Пусть ясного солнца померкнут лучи
От поднятой пыли, от соколов, псов
И копий, воздетых толпой удальцов.
За легким онагром мы вдаль полетим[402],
14070 Свирепого тигра булатом пронзим,
Фазана мы — соколом, вепря — копьем
Настигнем и весело дни проведем.
В туранских степях поохотимся всласть,
Чтоб слава о нас по земле пронеслась».
«О витязь! — ответил Ростем-великан, —
Да будешь ты счастьем всегда осиян!
С зарею мы рьяно возьмемся за лов,
Я в степи Турана помчаться готов»,
Все витязи дали такой же ответ,
14080 Другой ни один не раздался совет.
Наутро, как только проснулись от сна, —
Помчалась дружина, веселья полна.
Кто с гончей, кто с соколом зорким в руке,
Несутся стремительно к Шехду-реке[403].
И вот Афрасьяба владенья видны:
Река протекает с одной стороны,
Возносятся горы крутые — с другой,
Степные просторы, Серехс за рекой[404].
Шатры запестрели; поднявшийся гул
14090 Оленей и серн быстроногих вспугнул.
Свирепые львы уж не бродят в степях,
Пернатые стаи преследует страх.
Все жарче охота кипит; там и тут
Холмы из подстреленной дичи растут.
Так дни пролетают средь шумных утех:
Звучит, не смолкая, ликующий смех.
Неделя минула — всё пьют между тем
Вина почитатели, пьет и Ростем.
На утро восьмое Могучий чуть свет
14100 С дружиною верною держит совет.
Он молвит великим и славным мужам,
В боях закалённым, бесстрашным вождям:
«Должно быть, уже к Афрасьябу сейчас
О нашем набеге молва донеслась.
Не должно, чтоб этот коварный злодей,
Собрав на совет именитых вождей,
На нас неожиданно с войском своим
Нагрянул, охоту испортив борзым.
Дозор неусыпно должны мы нести.
14110 Лишь только завидит врага на пути,
Дозорный тревогу поднимет тотчас.
Врасплох не застать неприятелю нас!»
Возглавил дозор Горазе-исполин,
Могучего Гива воинственный сын.
А если у войска хранитель такой,
То смело вкушать оно может покой.
И весело снова охота кипит,
И всеми туранец свирепый забыт.
Дошло к Афрасьябу порою ночной
14120 Известье об этой охоте степной.
Испытанных тут же созвал он бойцов,
Немало сказал о Ростеме им слов,
А также о грозных семи удальцах,
Отвагою львиной внушающих страх.
И молвил затем предводитель мужам:
«Нельзя ни мгновенья раздумывать нам.
Должны для победы мы средство сыскать,
Не должно удачу из рук выпускать.
Коль тех семерых мы захватим в бою,
14130 Кавус потеряет опору свою.
Неслышно подкравшись, как к зверю ловцы,
Пусть наши нежданно нагрянут бойцы».
Избрав тридцать тысяч сильнейших бойцов,
Умело разящих мечом удальцов,
Велел им глухим, непроезжим путем,
Без отдыха мчаться и ночью и днем.
И тут же пустилась пустыней скакать
К жестокому бою готовая рать;
За нею — другие, чтоб с разных сторон
14140 Могучий с дружиною был окружен.
Вот к месту охоты огромной ордой
Примчались туранцы, пылая враждой.
Взглянул и увидел вдали Горазе:
Надвинулось войско, подобно грозе.
Пыль темною тучею встала, и стяг,
Вздымаясь над ратью, сверкает сквозь мрак.
Назад, словно буря, летит богатырь,
И криком степная наполнилась ширь.
Увидя Могучего между мужей,
14150 Тянувших вино из глубоких ковшей,
Вскричал он: «О витязь, Ростем удалой!
Веселье оставь, возвращайся домой!
Строй вражеский движется, неисчислим,
Холмы и долины сравнялись под ним.
И стяг Афрасьяба, привыкшего к злу,
Как яркое солнце, сверкает сквозь мглу»[405].
Но громко Ростем лишь хохочет в ответ:
«Верь, с нами,—промолвил он,—счастье побед.
Бояться не нам Афрасьяба-царя,
14160 И рати его устрашился ты зря.
Не больше ста тысяч ведёт он стрелков,
Одетых в броню удалых седоков.
Будь на поле боя один только я,
Да Рехш, да копьё, да кольчуга моя, —
И то было б нечего нам толковать
Про меч Афрасьяба, про всю его рать,
Из нас хоть один оставайся сейчас
На поле—туранцы ничто против нас.
14170 По сердцу такое сраженье и мне,
И звать ни к чему подкрепление мне.
Семь грозных со мной меченосцев, смотри.
Все — храбрые, славные богатыри.
И от пятисот до двух тысяч мечей
При каждом — в руках у бойцов-силачей.
Забульского мне, виночерпий, вина!
Глубокую чашу налей дополна!»
Ему виночерпий вино подаёт,
И с поднятой чашей Могучий встает.
14180 Торжественно в честь Кей-Кавуса сперва
Разносятся здравицы громкой слова:
«Да славится гордый властитель держав,
Душою и телом да будет он здрав!»
Склонился, и снова он чашу свою
Вздымает, воскликнув: «За Туса я пью!»[406]
Тут встали дружин меченосных вожди,
Могучего просят они: «Пощади,
Уволь нас от чаши твоей в эту ночь,
Тебя перепить даже диву невмочь.
Осилить тебя никому не дано
14190 Ни в битве, ни в час, когда льётся вино».
Блестящую чашу с вином, словно лал,
За брата родного Ростем осушал.
И после наполнил ее Зеваре[407],
И, доброе слово сказав о царе,
Склонился и выпил её, в свой черед,
И славу ему богатырь воздает.
«Брат — братнюю чашу осушит до дна;
Лев тот, чья добыча — ковш, полный вина».
[БИТВА РОСТЕМА С ТУРАНЦАМИ]
Гив молвил великому богатырю:
14200 «О славу дарящий мужам и царю!
Помчусь, Афрасьябу отрежу пути,
Ему через реку не дам перейти.
C бойцами у моста я встану в дозор,
Сражаясь, врага задержу до тех пор,
Пока облачатся в доспехи друзья;
Шутить, забавляться уж больше нельзя»
И мчится стремительно, лук оснастив,
С отрядом воителей доблестный Гив.
До самого моста домчался он так,
14210 Глядит: перед ним неприятельский стяг,
Вождь рати туранской на быстром коне
Пред войском — на этой уже стороне.
Мгновенно свой барсовый панцирь надев,
На Рехша — слона разъяренного — сев,
Помчался на битву Ростем-исполин,
Подобен чудовищу водных глубин.
Лишь только увидел его Афрасьяб —
Он точно сознанья лишился, ослаб.
Мощней не видал он руки и плеча,
14220 Грознее не знал булавы и меча.
Гудерз-копьеносец и Тус-удалец,
Гив храбрый, Горгин, закаленный боец,
Бехрам и Зенге, что отвагой богат,
Борзин и воинственный витязь Ферхад —
Лихие бойцы, наводящие страх,
С клинками индийскими в мощных руках
Искали победы над недругом злым,
Во гневе подобные барсам лесным.
Разил неустанно неистовый Гив,
14230 Как лев, что свирепствует, лань упустив.
Размахивал тяжкою палицей он,
Им был не один богатырь сокрушен.
И ратников множество там полегло;
От войска военное счастье ушло.
Готовы туранцы умчаться назад,
Но вождь их, неистовым гневом объят,
Хлестнул скакуна и несется вперед,
Врага на кровавую битву зовет.
Ростем, это видя, коня горячит,
14240 И палица уж наготове, и щит.
И вот он летит, занеся булаву,
Рычащий, подобно взъяренному льву.
За ним сын Гошвада на резвом коне,
С булатною палицей, в крепкой броне,
И следом другие бойцы-силачи;
В руках у них палицы, луки, мечи.
Увидев, что мир потемнел пред врагом,
Ростем к небосводу вознес свой шелом.
Пиран, сын Висе, пред туранским главой
14250 Предстал и услышал: «О друг боевой!
Тебе незнакомы сомненья и страх,
Ты славный боец, искушенный в боях.
Берись за поводья, как буря лети,
Всех недругов с поля сраженья смети.
Когда победишь, всем Ираном владей!
Слона ты сильнее и тигра лютей».
Лишь речь Афрасьяба услышал Пиран,
Помчался он, словно степной ураган.
И с ним десять тысяч туранских бойцов,
14260 Разящих клинками лихих удальцов.
Как пламя, летит он к Ростему — затем,
Что битвы исход мог решить лишь Ростем.
Героя могучего гнев охватил,
Он, словно у солнца взяв яростный пыл,
Хлестнул скакуна, бросил клич боевой —
Как будто бы грянул раскат грозовой.
Щитом заслоняясь, с булатом в руках,
Две трети напавших поверг он во прах.
Вождь рати, на это взглянув издали,
14270 Сказал меченосцам туранской земли:
«Коль битва продлится до вечера так,
В живых не оставит неистовый враг
Из наших воителей ни одного.
Нам поле покинуть — разумней всего.
Отвагой полны, словно лютые львы,
Пришли мы напасть на иранцев; увы!
Не тигров я вижу теперь, а лисиц,
Готовых от страха повергнуться ниц».
[БИТВА ПИЛЬСОМА С ИРАНЦАМИ]
Пильсом, знаменитый отвагой своей[408],
14280 Герой-славолюбец из рода царей,
Чей славный отец был Висе-великан,
А брат — ратоборец могучий Пиран,
В Иране, в Туране не ведал себе
Соперников, кроме Ростема, в борьбе.
Лишь слово царя до Пильсома дошло,
Воинственный гневно нахмурил чело.
Приблизившись к Афрасиабу тотчас,
Пылая досадой и в битву стремясь,
Вскричал он: «Среди меченосцев твоих
14290 Не я ли моложе, храбрее других?
Ничто предо мною— и Тус-удалец,
И Гив, прогремевший отвагой боец,
Бехрам, Горазе и Зенге-великан,
И все ратоборцы, кем славен Иран.
Вели мне — подобно свирепому льву,
Иранцев ряды я мгновенно прорву.
Булат мой над ними в борьбе удалой
Сверкнет, и звезда их покроется мглой.
Венцы именитых повергну во прах,
14300 Голов не оставлю у них на плечах!»
Ответ был: «О доблестный, слава тебе!
Твоею да будет победа в борьбе!
В бой праведный ринься с отвагой в груди,
Назад с торжеством и со славой приди!»
Как молот, сшибаемый с гулким свинцом,
Клич витязя грянул. Помчался Пильсом,
С разбега прорвал неприятельский строй,
Направо, налево мечом, булавой
Разит. На Горгина, как вихрь, налетев,
14310 Он рев испустил, словно яростный лев,
Коня его острым мечом поразил,
И наземь скакун повалился без сил.
Боец Гостехем, увидав, что коня
Убил он, помчался быстрее огня
Туда, где в седле возвышался Пильсом.
На пламень он ринулся яростным львом.
Пильсому он в пояс направил копье,
Но в тело врага не вошло острие.
Увидев копье свое сломанным вдруг,
14320 Его Гостехем выпускает из рук.
Пильсом, это видя, свой острый булат
Занес над врагом, ярым гневом объят. Разит его в самое темя силач,
И смятый шелом отлетает, как мяч. Лишенный копья, потерявший шелом, Бессилен стоит Гостехем пред врагом.
А тот нападает с булатом в руке.
На правом крыле воевавший Зенге
Заметил — грозит Гостехему беда,
14330 На помощь бойцу он помчался тогда.
Его нападенье встречая, извлек
Туранец из ножен индийский клинок,
Ударом одним на коне он броню
Пробил, и настала погибель коню.
Пал наземь Зенге, но не дрогнул и встал,
У пояса полы кольчуги связал,
И пеший с сильнейшим из сильных бойцов
Схватился, как лев, выходящий на лов.
Все яростней единоборство кипит,
14340 Пыль тучей встает из-под конских копыт.
Тут в сердце дружины сражавшийся Гив.
Внезапно в ту сторону взор обратив,
Увидел опасность. Как яростный лев,
Как гром над горами, свирепо взгремев.
Тотчас на подмогу он кинулся к трем,
И стал с четырьмя состязаться Пильсом
Спокоен, попрежнему неустрашим,
Разил он бойцов одного за другим,
То палицей тяжкой, то острым клинком,
14350 Пока не устали и те, и Пильсом.
Увидел, меж тем, предводитель Пиран,
В каком затруднении брат-великан,
И тотчас понесся, душой закипев,
На помощь; великий объял его гнев.
Вскричал он — презреньем звучали слова:
«Так вот ваша доблесть в бою какова!
Не стыдно ли, витязи, что вчетвером
С одним вы сражаетесь богатырем!»
И тут на врагов полетел он в сердцах,
14360 Всклубился на поле сражения прах.
К иранским бойцам на подмогу, меж тем,
Примчался, как лев разъяренный, Ростем.
Во гневе все было ему нипочем,
Разил он туранцев копьем и мечом.
Пильсом от чудовища кинулся прочь,
Поняв, что с таким состязаться невмочь.
Мечами отважных иранских бойцов,
Тяжелыми палицами храбрецов
Турана бойцы без числа сражены,
14370 И груды убитых растут до луны.
На поле войны Афрасьяб поглядел,
Вздохнул и от горести похолодел.
Спросил он: «Где витязь могучий Алькус[409],
Кричавший: «Со львами сражаться я рвусь!»?
Он Гива на бой вызывал во хмелю,
Хвалился: «Ростема, и то я свалю!»
О битвах с иранскою ратью твердил —
Куда же девался воинственный пыл?»
До слуха Алькуса те речи дошли,
14380 Что молвил владыка туранской земли, —
И тотчас боец, вороного хлестнув,
И руки уж мысленно в кровь окунув,
Помчался, предстал пред туранским царем,
Воинственный клич его грянул как гром.
Вскричал он: «Муж, страха не знающий — я,
Лев ярый, врагов повергающий — я.
Коль мне дозволение даст властелин,
Я ринуться в битву готов и один».
Сказал предводитель туранских полков:
14390 «Из рати ты лучших возьми седоков».
Взяв тысячу воинов храбрых с собой,
Могучий Алькус устремляется в бой.
Воинственный строй за туранцем летит
И копья блестят, как Хормоз и Нахид[410].
Навстречу иранцы спешат издали,
И ясное солнце исчезло в пыли.
Алькус вызывает на бой Зеваре,
Мощь видя великую в богатыре.
Его за Ростема он принял сперва —
14400 Бойца, в ком нейремова сила жива.
С копьем на иранца напал исполин,
И всадники бьются один на один.
Иранца копье острожалое вдруг
Сломалось и выпало наземь из рук.
Тогда обнажил он булатный клинок,
Прах черною тучею мир заволок.
Но вот у обоих сломались клинки,
Схватились за палицы тут седоки.
Взмахнув булавою, подобной горе,
14410 Туранский воитель сразил Зеваре.
В седле от удара сознанья лишась,
Тот наземь с коня повалился тотчас.
И, спешась, Алькус уж заносит свой меч,
Упавшему голову хочет отсечь.
Увидя, что брата постигла беда,
Как пламя, Ростем устремился туда.
Он крикнул на недруга, гневом объят —
В руке у того притупился булат.
Уж сердца не чует Алькус своего
14420 От громоподобного крика того.
Взлетел на седло и к луке он приник,
Утратил отвагу и мужество вмиг.
Промолвил Ростем: «Видно, львиных когтей
Не знал ты, вот тайна отваги твоей».
И вновь Зеваре на спине скакуна,
Истерзано сердце и ноет спина.
С Могучим Алькус в поединок вступил —
В седле уже в саван себя облачцл;
Ростема копьем в поясницу разит,
14430 Но панцирь бойца острием не пробит.
Алькуса копьем поражает Ростем,
И кровь обагряет расколотый шлем.
Дивятся две рати: Алькуса с седла
Ростема рука на копье подняла,
И тут же злосчастный повержен во прах.
Объяли туранцев смятенье и страх.
Тут ринулись, в чаянье новых побед,
Семь витязей храбрых Могучему вслед.
За ними немало других удальцов
14440 Помчались, услышав воинственный зов.
Увидев, что строй его дрогнул, ослаб,
Окликнул туранских бойцов Афрасьяб
И слово такое сказал седокам:
«Ужель отдадите победу врагам?
Как ярые тигры, взревите в бою,
Отвагу сегодня явите в бою!»
Бойцы, услыхав полководца призыв,
Помчались, к Ростему коней устремив.
Навстречу им ринулись, вихря быстрей,
14450 С Ростемом семь доблестных богатырей.
И вспять обратились враги — без дорог
Летят, под собою не чувствуя ног.
Несчетные воины там полегли,
От крови багровы просторы земли.
Во прахе валяются сотни бойцов —
Тела с головами, тела без голов.
Так тесно, что негде живому пройти,
Среди мертвецов не отыщешь пути.
[БЕГСТВО АФРАСИАБА С ПОЛЯ СРАЖЕНИЯ]
Вождь стана туранского с поля борьбы
14460 Умчался, увидя немилость судьбы;
Коня повернул и в родной свой предел
Стремительней туч грозовых полетел.
Могучий на Рехше ретивом своем
Погнался за войнолюбивым вождем.
Промолвил он Рехшу: «Друг верный, скачи!
Меня неустанно, стремительно мчи!
Врага догоню, обесславлю его,
В кровавом бою обезглавлю его».
И мчится чубарый быстрее огня[411] —
14470 Сказал бы ты, крылья взросли у коня.
Достав из ремней сыромятный аркан,
С размаха закинул его великан.
Но к шлему петля прикоснулась едва,
Успел увернуться туранцев глава,
И конь с седоком устрашенным своим
Понесся, стремителен, неудержим.
Успел Афрасьяб от аркана спастись:
Лицо все в поту и уста запеклись.
За ним и другие спешат седоки,
14480 Оружья лишась, онемев от тоски.
Летит Афрасьяб без оглядки, чуть жив;
В печали и страхе Джейхун переплыв,
Воитель ни с чем воротился назад —
Вкусил вместо меда губительный яд.
Две трети дружины утратил Туран,
Дветрети к себе не вернулись во стан.
Кто пал, кто изранен, а кто уведен
Бойцами Ирана в постыдный полон.
Немало престолов, венцов, кушаков,
14490 Алмазов, шеломов, кольчуг и клинков,
Горячих коней в поводах золотых,
Мечей закаленных в ножнах золотых,
Немало богатой добычи другой
Оставила рать, проигравшая бой.
Все это иранская рать собрала,
Ликуя, что вновь торжество обрела.
Не стали мужи догонять беглецов
И грабить не стали они мертвецов.
Вернулись на место охоты своей,
14500 С собою добычу забрав и коней.
К Кавусу гонца отрядили с письмом:
И лов, и сраженье описаны в нем,
И то, что не пал ни один исполин,
Лишь сброшен с коня Зеваре был один.
Еще две недели с друзьями затем
В привольной степи веселился Ростем.
И после помчались они во дворец —
Увидеть сияющий царский венец...
В обители мира обычай такой:
14510 Один благоденствует, стонет другой.
Но минет и счастье, и горе пройдет —
К чему же разумному бремя забот!
О днях миновавших поведал певец,
Слова отзвучали — и песне конец.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ФИРДОУСИ И ЕГО ПОЭМА «ШАХНАМЕ»
Один из наиболее значительных памятников мирового искусства — поэма Фирдоуси «Шахнаме» — национальное достояние основных ираноязычных народов: таджиков советской Средней Азии и персов современного Ирана. Поэма Фирдоуси близка и понятна и для значительной части населения современного Афганистана. Для таджиков, персов, афганцев Фирдоуси — свой, родной и любимый классик, а его поэма — чудесное отражение прошлого и вместе с тем живое выражение народного самосознания. В многовековом феодальном прошлом, в калейдоскопе эфемерных «государственных» (феодальных) образований народы, именно народы, а не сменяющиеся, часто иноплеменные, династии, жили сознанием своего единства. Нередко призывы к такому единству использовались как знамя борьбы за династические интересы. Но народным массам всегда были чужды княжеские междоусобицы. «Шахнаме» создана в X в., в исторический момент подъема народного самосознания, в период завершения освободительной борьбы иранских народов против халифата арабов. Это был период формирования восточноиранской народности, нашедшей, в известном смысле, свое выражение в государственности бухарских саманидов, в создании ставшего позднее общеиранским литературного языка фарси, в блестящем расцвете литературы Хорасана[412] и Мавераннахра. Фирдоуси — певец единства иранских народов, а объединяющим моментом эпопеи является апофеоз западноиранской государственности сасанидов (III—VII вв. н. э.). Следовательно, «Шахнаме» равным образом национальная сокровищница и таджикского и персидского народов. Вместе с тем с территорией современного Афганистана (частично тот же Большой Хорасан X—XI вв.) — Балхом, Кабулом, Систаном-Забулом — связаны многие и яркие эпизоды «систанского цикла»: сказания о Саме, Зале и Ростеме, что делает произведение Фирдоуси близким и для значительной части современных народов Афганистана.I. ЭПИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ ИРАНА
«Шахнаме» в основе своей — стихотворная обработка свода эпических сказаний (по большей части, восточного Ирана и Средней Азии) и исторических хроник сасанидского Ирана. Каковы же эти эпические сказания иранцев — предков персидского и таджикского народов? Почему они составляют основу поэмы Фирдоуси? Иранцы — совокупность племен и народностей древности, объединенных историческими, этническими, языковыми, культурно-бытовыми и религиозными моментами, — известны по данным сравнительно-исторического языкознания и археологии с глубокой, еще индо-иранской древности. Арийские пришельцы с севера — завоеватели Индии — и собственно иранцы тогда еще составляли один неразделившийся комплекс (народ), населявший примерно за 1800—2000 лет до н. э. территории в пределах от Каспийского моря до подступов к северной Индии. В числе разноплеменных кочевых орд, сменявших друг друга на территории географического Ирана (Иранское плато) и объединяемых в клинописных источниках общим именем «умман-манда», надпись ассирийского царя Саргона (815 г. до н. э.) выделяет первых иранцев — исторических мидян («амадаи») — с характеристикой «опасные»[413]. Начиная с первых упоминаний и, в особенности, несколько более поздних, но определенных известий о новом государственном образовании — мидийском царстве Астиага и его преемнике, основателе мировой персидской державы ахеменидов Кире, — прошло более двадцати пяти веков. Как ни глубока, сама по себе, эта древность (в особенности сравнительно с «молодыми» государствами Европы), не надо забывать и того, что иранцы в свою очередь «юный» народ сравнительно с такими «старожилами» Востока, как древние египтяне, жители Вавилона и Ассирии, Урарту, хетты и др. Нельзя, однако, упускать из виду, что древнейшие известные упоминания касаются только западных иранцев — мидян, персов, тогда как история (и предистория) основной массы иранцев Востока и Средней Азии оставалась во мраке, несколько рассеявшемся лишь в наши дни в связи с открытиями советских археологов (Хорезм, Бактрия, Ниса). Больше, чем реальная история древних иранцев, известны их религия и мифология с элементами героико-эпических сказаний. Источником наших сведений является Авеста — религиозный свод, кодифицированный при сасанидах (III—VII вв. н. э.). Значительные фрагменты Авесты (в том числе целые книги) дошли в редакции уже мусульманского времени и в рукописях позднего Средневековья. Мы имеем основной текст на авестийском языке (некогда ошибочно именовавшемся зендским), мертвом уже во времена первых сасанидов, и комментированный перевод к нему (зенд) на среднеперсидском пехлевийском языке. Отсюда «Авеста у зенд» — основной текст и комментарий, или, в популярном наименовании, «Зендавеста». Неполнота дошедшего свода компенсируется другими памятниками пехлевийской литературы, где перечислены разделы и содержание всех частей сасанидского свода. Не касаясь догматической и культовой стороны Авесты, отметим, что, наряду с молитвенными формулами, заклинаниями и тому подобным, здесь содержатся гимны — древнейшие памятники религиозной поэзии, так называемые гаты (возможно, современные началу зороастризма — VIII—VII вв. до н. э., если не раньше, в пределах первого тысячелетия) и яшты — песнопения в честь народных, позднее введенных в пантеон зороастризма, божеств — язата (в «Шахнаме» — Изед, Йездан). В этих сюжетно древнейших частях Авесты мы преимущественно и находим элементы мифологических народных сказаний, сопоставляемых, с одной стороны, с мифологическими образами древних арийцев Индии (ведийские гимны и брахманские комментарии), а с другой — с отражениями мифов в позднейшей пехлевийской, арабоязычной и новоперсидской (таджикской) литературе, вплоть до «Шахнаме» Фирдоуси. О наличии и даже особом культе героических и романтических сказаний древних иранцев свидетельствуют многие источники, преимущественно же записи греческих, а позднее и латинских, византийских, отчасти китайских, армянских, сирийских, наконец, арабских авторов: историков, географов, путешественников, врачей, бывших при дворах персидских царей. Это — рассказы и описания Геродота, Ксенофонта, Ктесия, Агафия, Страбона, Моисея Хоренского и плеяды арабских и арабоязычных авторов, использовавших источники, ныне для нас не доступные. Сюда относятся сказания об Астиаге, Кире, Дарии, Зопире-Шираке, романтические сказания о Заринее и Стриангее, о Зариадре и Одатис. На основании этих прямых указаний в сопоставлении с некоторыми другими данными (например, с отражениями сюжетов эпоса в памятниках изобразительного искусства) можно с полной уверенностью говорить, что во всяком случае во времена ахеменидов (VII— IV вв. до н. э.) в Иране уже существовали популярные в народе эпические сказания, которые еще не были сведены в единый свод. Но надо иметь в виду, что Геродот и другие греки основывали свои выводы на материалах западного Ирана, которые, естественно, были наиболее, а иногда и единственно доступны западным соседям Ирана. Определенное отражение эти сказания получили, как мы увидим далее, и в «Шахнаме». Однако основную массу эпических сказаний, отраженных в «Шахнаме», составляют сказания, не известные грекам и бытовавшие на востоке. Заслугой академика В. В. Бартольда как раз и является уточнение того факта, что эпические сказания в основном давал восток, а не запад Ирана: «Литературная обработка эпических мотивов и приурочение их к определенным историческим лицам — сосредоточивались как в мусульманский, так и в домусульманский период на востоке Ирана»[414]. Следующие исторические периоды, не считая мимолетной, но столь значительной эпохи Александра, эпохи греко-македонского завоевания Ирана, т. е. селевкидский и парфянский — наименее изучены. О парфянском периоде прямо надо сказать как о самом туманном в истории Ирана. Лишь раскопки Нисы несколько рассеяли этот мрак неизвестности. Основываясь на сопоставлениях с фактами последующей эпохи сасанидов, можно с уверенностью утверждать, что в эти, главным образом парфянские, столетия эпические сказания Ирана, во-первых, сделались в целом достоянием и запада Ирана, а во-вторых, прошли стадию циклизации. В начале сасанидского периода уже были определенные циклы сказаний о Ростеме, Исфендиаре, Сиявуше, Кей-Хосрове и других, что создало возможность перехода к следующей стадии — комплексной кодификации, к фиксированию свода эпических сказаний. Сасанидский период в истории Ирана сравнительно с предшествующими столетиями освещен более полно, но мы все же знаем его недостаточно, гораздо меньше, чем хотели бы, должны были знать. Ведь это важнейший узловой период, во многом предопределивший классическое восточное Средневековье. Есть все основания говорить о блестящем литературном развитии в сасанидский период, главным образом в его последние два столетия. От этого времени до нас дошли уже не только пехлевийские памятники письменности, но и памятники литературы. Многие из них сохранились в переводах — арабских, сирийских и т. д. О других, к сожалению, можно только с уверенностью сказать, что они были. Эти литературные памятники сасанидского периода безнадежно утеряны. Среди пехлевийских памятников имелись литературные обработки эпических сюжетов. Очень немногое сохранилось: «Памятка о Зарире» (от начала VI в. н. э.), герое религиозных войн с Арджаспом и одновременно герое одной из наиболее ранних романтических повестей; сказания еще ахеменидского времени, переданного греками («История Зариадра и Одатис»); «Книга деяний Ардешира сына Папака» — можно сказать, исторический роман-повесть о первом владыке Ирана — сасаниде (Ардешир —внук Сасана); «Книга о чатранге» (о шахматной игре)[415]. Все это лишь немногие уцелевшие подлинные фрагменты большой литературы. А от синхронной согдийской литературы не осталось и того, лишь единичные фрагменты крупинки, за которыми стоят памятники литературы, до нас не дошедшие. Их много, о них говорят арабоязычные авторы халифата (Мас‘уди, Са‘алиби и другие) как о своих источниках; о них упоминают в библиографических сводах («Фихрист» X в. и др.). Содержание некоторых сказаний отразилось в книгах позднейших арабоязычных авторов, другие известны лишь по названию. Но даже простое перечисление названий основных книг знаменательно. В их числе были сказания о Ростеме и Исфендиаре, о Бехраме-Чубине, Пиране — сыне Висе, книга о Маздаке, книга деяний Ануширвана и др. Следовательно, эпические циклы сказаний были реальным живым фактом в пехлевийской литературе сасанидского времени. Они вошли в литературу, их обрабатывали, причем восточноиранские (основные иранские) сказания стали прочным достоянием западноиранской, по существу пехлевийской сасанидской литературы. Следовательно, можно предполагать наличие прочного фонда общеиранских эпических сказаний. Это подводит нас к важнейшему историко-литературному факту сасанидского периода — к кодифицированию эпических преданий в одном, общем своде. Свод преданий представляется не литературным по своей цели и оформлению, а историческим сводом, базирующимся на официальных хрониках — летописях царствований. Существование таких хроник отмечается источниками для многих древних династий (Библия, греческие авторы). Есть указания на существование таких придворных хроник и у мидийских и персидских царей — ахеменидов. Последнее косвенно подтверждается хотя бы грандиозной Бехистунской надписью Дария. Это — официальная хроника, позволяющая предполагать и традицию, определенную систему регистрации фактов и соответствующего их освещения. Традиция, несомненно, сохранялась и в позднейший, парфянский период, но она не может быть документирована. Совершенно определенные, точные и полные указания имеются для времени сасанидов. Основное из них — свидетельство византийского придворного поэта и историка VI в. Агафия. Он говорит не только о существовании тщательно хранимых в архивах Ктесифонта (и им, Агафием, частично использованных) официальных придворных хроник времен Хосрова I Ануширвана (531—579 гг.), но и о своде летописей, восходящих к предшественникам сасанидов. Таковыми считались свергнутые сасанидами парфяне-аршакиды, а еще ранее эпические кеяниды-ахемениды, в свою очередь ведущие свой род от мифических первочеловека Кеюмарса и первоцаря Хушенга. Другими словами, циклизированные уже ко времени сасанидов эпические и мифологические предания Ирана сливались в один официальный исторический свод. Выше отмечалось, что основные восточноиранские сказания уже стали в то время достоянием запада (тогда политического гегемона) как общеиранские сказания. Таковыми они, естественно, и должны были быть в официальной истории владык Ирана — сасанидов. Совершенно ясно, что эти народные в своей основе сказания, перед тем как фиксироваться и вписываться в свод, тенденциозно отбирались и освещались. Был ли один такой свод или несколько, точно не известно. Есть указания, что при последнем сасаниде Йездегерде эти предания и хроники были сведены в одну книгу «Хватай-намак», т. е. «Книга владык» (государей). Называют даже имя автора такого свода — дехкан Данешвер, что скорее означало бы просто мудрый (данешвар) дехкан. Самый факт оформления преданий в книгу и именно при последнем сасаниде Йездегерде III представляется вполне допустимым и даже вероятным. Во всяком случае книга (а может быть, и книги) под названием «Хватай-намак» (новоперсидск. «Ходай-наме») существовала еще в первые века ислама и была переведена рядом лиц на арабский язык. Первый и основной переводчик новообращенный перс-зороастриец Ибн-аль-Мокаффа', по-видимому, дал полный и точный перевод. Другие авторы раннего аббасидского периода (VIII—IX вв.) сделали частичные переводы, вольные обработки того же текста, но возможно, они базировались и на иных пехлевийских оригиналах, чем собственно «Хватай-намак», переведенный Ибн-аль-Мокаффа'. Авторитетный исследователь арабских переводов «Хватай-намак» В. Р. Розен допускает подобное предположение. Ни один из семи арабских переводов до нас не дошел, но все они использованы арабоязычными авторами, а через них и позднейшими таджикскими, персидскими и другими, как основа истории Ирана (Хамза Исфа-ганский, Табари, Мас'уди, Ибн-Котейба, Са'алиби и др.). Арабские переводы «Хватай-намак» именовались «Сияр-аль-мулук [аль-Фурс]», т. е. «жизнеописания (персидских) царей», и являлись не только отражениями пехлевийского памятника в арабской литературе, но фактом собственно литературы Ирана (персидской и таджикской), поскольку арабоязычные авторы этих работ в основном были иранцами, а VIII—IX вв.—вообще арабоязычный период в истории литературы Ирана и Средней Азии. Арабские переводы расширили круг литературного влияния по сравнению с ограниченным обращением пехлевийских с их трудной, устаревшей графикой полумертвого литературного языка. Но не только этими переводами определяется значение историзированных эпических народных сказаний. Несомненно, в то переходное время существовала и устная традиция передачи эпических сказаний, хранимых и бережно передаваемых из поколения в поколение. Известна и среда, хранившая предания. Это — дехканы и мобеды, представители военного и жреческого сословий старого сасанидского Ирана. Дехканы времени Фирдоуси (X — начало XI в.) — не позднейшие крестьяне-земледельцы, а в основном средние и мелкие землевладельцы, вотчинники, сидевшие на земле в своих наследственных усадьбах. В недалеком еще прошлом землю обрабатывали крестьяне (общинники дофеодального типа), тогда лично свободные. Они по традиции защищались и возглавлялись, а также, разумеется, и эксплуатировались своими «помещиками»-дехканами. Но эта эксплуатация с чертами стародавней патриархальности отношений была значительно слабее, чем эксплуатация при новых феодальных формах землевладения, к тому же осложненных иноземным арабским завоеванием, а позднее смутами и усобицами, набегами «газиев», вторжениями тюркских отрядов и племен в Мавераннахр и Хорасан в период разложения саманидского государства (конец X в.). Дехканство, некогда опора сасанидской государственности, во второй половине X — начале XI в. переживало особо тяжелое время. Процесс феодализации начался с IV—V вв. и ясно определился уже при последних сасанидах (VI—VII вв.). После арабского завоевания VII—VIII вв. он протекал в сложных условиях смены династий, распада халифата и возникновения новых, иранских государств — тахиридов и саффаридов, а в X в. — восточноиранской государственности бухарских саманидов, а на западе — бовейхидов Ирака и Фарса. Появление и развитие новых феодальных форм землевладения с эксплуатацией уже закрепощенных крестьян-земледельцев подрывало экономические основы и политическое значение аристократического поместного дехканства. Старая сасанидская земельная знать вступала в борьбу с новыми, отнюдь не родовитыми владельцами жалованных земель. Эта новая прослойка феодальной знати естественно для VIII—IX вв. оказалась и арабизованной, исламизированной, в то время как старое дехканство, разумеется, тяготело к аристократическим традициям сасанидского зороастризма. Кроме того, в X в. феодальными владельцами иногда становились и богатые купцы, и предводители наемных отрядов главным образом тюркских племен, на которых, как на своего рода преторианскую гвардию, вынуждены были опираться и саманиды и даже аббасидские халифы. Часть старого дехканства — крупные землевладельцы, «вазуркан» (персидск. бозорган), «великие» сасанидского времени — в целях сохранения своей собственности и политического значения еще в VIII в. приняла мусульманство и перешла на положение арабских наместников. К таким сохранившим свое положение и впоследствии использовавшим его иранским аристократическим родам принадлежали тахириды и саманиды. Но основная средне- и мелкопоместная масса дехканства — сасанидские «азадан», «благородные» (в основе: «свободные») — оставались в оппозиции, даже переходя в ислам. Они, конечно, теряли свое политическое и экономическое положение безнадежно, так как в основе перемен лежал закономерный процесс разрушения старых, изживаемых форм[416] Здесь не место углубляться в чрезвычайно важный религиозный момент, придавший особую окраску и неожиданную, более, конечно, внешнюю, оригинальность событиям. Закономерно в силу особых, сложных в своей совокупности явлений, религия завоевателей — ислам — быстро распространялась на завоеванных арабами территориях и восточного Ирана и Средней Азии, возобладав в недалеком будущем над соперничавшими друг с другом несторианством, манихейством и буддизмом. Старый зороастризм — государственная религия сасанидов — не сдавался без борьбы. Наоборот, потеря государственного, официального значения даже подняла его авторитет в глазах широких народных кругов Ирана и Средней Азии. В известном смысле зороастризм даже сделался в VII—VIII вв. знаменем иранизма (в противовес исламу и арабам). Тем самым представители зороастризма, теперь уже не государственной, а, скорее, гонимой религии предков, — мобеды казались представителями иранства и хранителями традиции как устной, так и главным образом письменно-литературной. Но и реформированный, казалось бы, внутренне окрепший, зороастризм уступал победоносному натиску ислама — прежде всего в растущих городах. Сельское население в X—XI вв. еще продолжало в значительной части оставаться зороастрийским, но ислам уже и там находил себе твердую почву. Интересно отметить, что исламизирование обширных территорий не мешало борьбе против халифата и арабов, а только изменило ее формы и лозунги. Шиитские и вообще еретические, сектантские формы ислама оказались достаточно удобными для использования их в борьбе против халифата и суннитского правоверия омейядов, которое с точки зрения повстанцев, являлось ересью. В конкретной исторической действительности все эти процессы протекали в более сложных и противоречивых формах, чем можно представить в общей схеме. Основным, определяющим существо и формы экономических, политических и идеологических процессов фактором была борьба народных масс, крестьян-земледельцев, а также ремесленников городов, начинавших играть заметную роль в жизни страны, против жестокой, усиливавшейся эксплуатации, против феодального закрепощения. Особую силу этому движению придавала одновременная борьба против иноземного гнета. Ведь иноземцы-завоеватели, арабы в первую очередь, представлялись носителями гнета. Враждебная в классовом отношении эксплуататорская сущность феодального государства подчеркивалась и усиливалась игом завоевателей. Борьба против классовой эксплуатации сочеталась с борьбой за народное самоопределение. При этом равно враждебным и олицетворявшим враждебное начало был как халифат омейядов, так и иранизованный в значительной мере халифат аббасидов. Народные движения и восстания иранцев Средней Азии и Хорасана вынесли на своем гребне к власти аббасидов. Они же обусловили воз-аикновение «национальных» государственных образований тахиридов, саффаридов и наиболее важного из них государства саманидов. Последние — в недалеком прошлом арабские наместники — не были, конечно, вождями, идеологами народных движений, а просто использовали их в своих личных целях. Саманиды создали государство, бывшее, как и всякое государство в классовом феодальном обществе, орудием эксплуатации тех же крестьян-земледельцев. Но тем не менее, в раннефеодальном государстве саманидов объединялись в течение столетия (весь X в.) некоторые основные иранские территории восточного Ирана и Средней Азии (Мавераннахр). Факт сам по себе исторически прогрессивный. В этом объединении нашло свое выражение народное самосознание иранцев, преимущественно восточных (в основном предков таджикского народа). У иранцев запада борьба народных масс против халифата не получила такого законченного выражения. Таким образом, феодальное государство саманидов в известной степени было отражением народной идеи. Но в этом заключался также источник глубоких непримиримых противоречий, приведших саманидское государство к гибели. В идеологическом плане народные движения соприкасались с шо‘убизмом, этим своеобразным иранским национализмом. Еще в арабоязычной литературе VIII—IX вв. в традиционных формах касыды, сатиры, самовосхваления (фахр) и других в ярких образах нашло свое отражение возрожденное иранское самосознание — гордость своими предками, своей генеалогией и т. п. Шо‘убизм в своей основе — выражение, конечно, не демократической, но аристократической идеологии. Сочетание мощных народных движений с развитием шо‘убизма привело к тому, что литература переходит на свой народный иранский язык фарси, в ней широко проявляется интерес к героическому прошлому Ирана, т. е. к народным в основе эпическим сказам. В сложной и противоречивой исторической действительности X в. причудливо переплетались различные течения. Казалось бы, прямо противоположные, аристократические и народные тенденции в известные исторические периоды находили общие пути. Устные предания не могли не быть использованы автором «Шахнаме». Без живого соприкосновения с фольклорными сказаниями поэма Фирдоуси не была бы вполне народной эпопеей. Однако нужно уяснить характер использования этих преданий поэтом. Многочисленные ссылки Фирдоуси на сказителей — дехкан или мобедов, большею частью им не названных, — еще не свидетельствуют, на наш взгляд, о непосредственном использовании поэтом этих преданий По-видимому, большая часть устных сказаний была к этому времени уже зафиксирована в литературе как пехлевийской, так и арабоязычной и даже новой — на языке фарси. В значительной своей части эти сказания подвергались многократной поэтической обработке, что подчеркивает широкую известность сказаний, их актуальность. Версифицировались, конечно, записанные прозаические своды, а не непосредственно рассказы сказителей. В настоящее время можно уверенно говорить о четырех новоперсидских версиях IX—X вв., кроме «Шахнаме» Фирдоуси — единственной дошедшей до нас книги. О других, именуемых также шахнаме («книги царей»), известно лишь по упоминанию о них современных и поздних арабских и персидских авторов. Это — прозаический свод, шахнаме Абу-ль-Муайяда Балхи, который упоминается многими авторами (в предисловии Бал‘ами-Табари, в «Кабус-наме», в «Истории Табаристана» Ибн-Исфендиара). Иногда одновременно упоминаются и как бы противопоставляются друг другу стихотворный свод Фирдоуси и прозаический Абу-ль-Муайяда Балхи. У знаменитого аль-Бируни в книге «Асар-аль-Бакийя» мы находим единственное упоминание о шахнаме некоего поэта Абу-Али Мохаммеда ибн-Ахмеда из Балха, по-видимому, — стихотворная обработка. Дважды упоминает Са‘алиби в книге «Гурар Ахбар» о персидских стихах некоего Мас‘уди Мервези. Вероятно, о том же Мас‘уди, с опущением нисбы[417] «Мервези», упоминает также в своей книге «Аль-бад’ва-т-та’рих» Мукаддаси как об авторе персидских стихов о Тахмурасе и Бехмене, сыне Исфендиара. Он даже цитирует два бейта о Кеюмарсе из персидской касыды Мас‘уди. Фрагмент — очевидно, начало сказания о Кеюмарсе, «первом царе, правившем тридцать лет» (как и у Фирдоуси). Датируется не позднее 355 г. Хиджры (965 г. н. э.), дата написания книги Са‘алиби. Рифмовка касыды оказывается месневийной (попарно рифмующиеся строки, как и в «Шахнаме»), но стихотворный метр фрагмента не эпический мутакариб Фирдоуси, а скорее «романтический» вариант хазаджа (трехстопный усеченный, как у Горгани, Низами и других «романтиков»)[418].Вторая страница прозаического Древнего предисловия к «Шахнаме». С рукописи библиотеки Института востоковедения АН СССР.Наконец, мы имеем известия о важнейшем памятнике этого жанра, прозаическом своде — «Шахнаме», в старой литературе XIX—начала XX в. именуемом обычно новоперсидским «Ходай-наме». О его существовании знали давно по указаниям и Древнего и Байсонкоровского предисловий к рукописям «Шахнаме» Фирдоуси. Оно было подтверждено и авторитетным свидетельством Бируни. Все упомянутые источники связывают составление данного свода с именем и инициативой Абу-Мансура ибн'Абд-ар-Реззака. Абу-Мансур — лицо историческое, знатный иранец, возводивший свой род к мифологическому Менучехру. Он был правителем Туса и Нишапура, а в 960—961 гг. и всего Хорасана, т. е. важнейшей, огромной тогда, области саманидов. По-видимому, Абу-Мансур вел большую политическую игру в смутное время начала распада саманидского государства, но в 962—963 гг. был убит, вероятно, еще сильными саманидами или другими соперниками. Об Абу-Мансуре имеются ясные указания ряда арабских и персидских историков, и его историческое существование и общий облик политического деятеля-мироискателя — бесспорны. Но только три упомянутых выше источника говорят о его инициативе в создании новоперсидского свода «Ходай-наме». Кроме того, мы имеем еще живое свидетельство Фирдоуси, посвятившего Абу-Мансуру значительное место в предисловии к «Шахнаме». Правда, Фирдоуси не называет имени создателя свода, но по вполне понятным соображениям. По-видимому, трудно оспорить указание, что Абу-Мансур ибн‘Абд-ар-Реззак поручил своему «дестуру» (везиру), тоже Абу-Мансуру Ми‘мари, — собрать рассеянные пехлевийские фрагменты «Хватай-намак» и дать «книгу царей» на национальном языке[419]. Работа была выполнена в 347 г. Хиджры, т. е. в 959—960 гг., авторитетной комиссией, состоявшей из четырех знатоков преданий и грамоты пехлеви, собравшихся в Тусе (родина Фирдоуси). Имена их сохранились в источниках и упомянуты в тексте «Шахнаме» Фирдоуси. Текст этого (мансуровского) шахнаме до нас не дошел и считался безнадежно утерянным, как и текст пехлевийской «Хватай-намак». Скорее всего, поэма Фирдоуси сделала ненужной копировку рукописей и мансуровского и других сводов, а единичные рукописи, естественно, погибли. Высказывались мнения, что основой мансуровского свода были не пехлевийские тексты «Хватай-намак», а ее арабские переводы, но эта гипотеза ныне уверенно оспаривается. До нас все же дошли подлинные фрагменты мансуровского свода, точнее предисловия к нему. Старейшему иранскому ученому, ныне покойному Мохаммеду Казвини, удалось, по-видимому, обнаружить в тексте так называемого Древнего предисловия к некоторым рукописям «Шахнаме» Фирдоуси часть подлинного предисловия «Ходай-наме». Датированное 347 г. Хиджры (959—960 гг. н. э.) это мансуровское предисловие оказалось и древнейшим из дошедших до нас памятников прозы фарси. Ближайший к «Предисловию» памятник — история Табари Бал‘ами — датируется 352 г. Хиджры, т. е. на шесть лет моложе.
II. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ «ШАХНАМЕ»
Исследователи не располагают ни оригиналом «Шахнаме», а тем более автографом Фирдоуси, ни рукописями, которые могли бы считаться близким его воспроизведением. Можно думать, что рукописи «Шахнаме» в XI, XII и даже XIII вв. были большой редкостью, так что один из старейших наших источников ’Ауфи в своем тазкире[420] говорит, с одной стороны, о широкой известности поэмы Фирдоуси, с другой стороны, ссылается на антологию «Шахнаме» известного индийского поэта Мас‘уда Са‘да Сельмана (до нас не дошедшую), а не на полную рукопись поэмы. Старейшими полными рукописями «Шахнаме» являются Лондонская рукопись второй половины XIII в. (точно не датирована, возможно 1276—1277 гг.) и Ленинградская 1333 г. В XV в. очевидное обилие рукописных фрагментов и вариантов «Шахнаме» привело, по инициативе внука Тимура — Байсонкор-мирзы, к установлению полного текста поэмы. По-видимому, на основе обильных рукописных материалов личной библиотеки Байсонкора в 1425—1426 гг. был установлен полный текст поэмы и создано предисловие, известное в науке как Байсонкоровское предисловие к «Шахнаме». Мы не знаем, кто, по каким источникам и как работал над рукописью, сохранившейся в фондах Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси в Тегеране. Но текст и предисловие Байсонкора воспроизводились в большинстве позднейших многочисленных рукописей Ирана, Средней Азии. Индии и в сущности до нашего времени являются основой общепризнанного текста «Шахнаме». Некоторые рукописи содержат иное, так называемое «Добайсонкоровское», или «Древнее» предисловие (в составе которого и была обнаружена часть упомянутого выше предисловия к прозаическому мансуровскому своду). В XVI в. уже полные рукописи «Шахнаме», в основном восходившие к Байсонкоровской редакции, стали прочным литературным фактом, но наряду с этим, вплоть до XIX в., в Иране, Индии и Средней Азии создавались и имели хождение разнообразные по объему и содержанию антологии-пересказы, полупрозаические — полустихотворные поэмы Фирдоуси и просто прозаические лубочные варианты. В таких лубочных вариантах, например, Ростем выступает как мусульманин, оплот шиитского правоверия. Европейцам «Шахнаме» стала известна путем публикации фрагментов поэмы ориенталистами, прежде всего английскими, связанными с Индией, в XVIII—начале XIX в.[421] В начале XIX в. уже определились значение «Шахнаме» и глубокий интерес к поэме в Европе. В Британской Индии были осуществлены первые опыты издания полного критического (лучше сказать сводного) текста «Шахнаме». Так, в 1808 г. предпринята попытка сопоставить текст двадцати семи рукописей поэмы, но на деле в основу сводного текста была просто положена наиболее полная рукопись. В 1811 г. в Калькутте под редакцией проф. М. Ламсдена вышел из печати первый том «Шахнаме», оказавшийся и последним. Ост-Индская Компания отказалась субсидировать издание, да и научные недостатки его были очевидны. В 1829 г. в Индии же, в Калькутте было завершено полное четырехтомное издание Тёрнер Макана, действительно критически использовавшего индийские рукописи «Шахнаме», включая текст Ламсдена. Ему удалось выделить основные крупные интерполяции: «Барзу-наме», «Странствия Джемшида», «О Ростеме и разбойнике Куке», как и «Сатиру на султана Махмуда». Введение (с использованием Байсонкоровского предисловия), оглавление и словарь редких слов в конце придают изданию Т. Макана необходимую законченность и четкость. Это издание вскоре стало библиографической редкостью, так как быстро разошлось прежде всего в самой Индии. Широкая популярность сделала необходимым повторение издания, что и было достигнуто рядом литографированных изданий XIX в. О глубоком интересе к «Шахнаме» западноевропейской общественности свидетельствует роскошное издание текста с французским переводом Жюля Моля. В период с 1838 по 1878 г. в Париже вышли семь томов-фолиантов, которые стали трудом всей жизни автора (последний в посмертном издании — том VII — доработан Барбье де Менаром). В 1876—1878 гг. автор выпустил в свет в обычном in 8° издании только один перевод поэмы с предисловием к первому тому основного издания 1838 г. В предисловии особенно ценны исследование примыкающих к «Шахнаме» эпических поэм XI—XII вв. и выявление крупных интерполяций («Гершасп-наме», «Барзу-наме» н др.). В отношении мелких вставок и вариантов текст Моля оказался не безупречным как по невниманию к метрической стороне стиха, так и по одностороннему использованию только рукописей европейских, в основном британских и парижских фондов, без учета вариантов калькуттского издания 1829 г. В связи с недостатками имевшихся изданий возникла необходимость нового критического издания, к которому приступил немецкий ученый И. Вуллерс. Не привлекая новых рукописных материалов, а только сопоставив парижское и калькуттское издания, Вуллерс при содействии Ф. Рюккерта и других в 1877 и 1879 гг. издал два тома сводного текста «Шахнаме». Третий том был издан после смерти Вуллерса С. Ландауэром в 1884 г. Четвертый том — сасанидская часть поэмы— остался незавершенным. Одновременно Вуллерс издал большой персидско-латинский словарь к «Шахнаме», основанный на компилятивном использовании персидских толковых словарей («ферхенгов»). Текст Вуллерса не мог быть признан окончательным, но для мифологической и былинно-героической частей «Шахнаме» он все же оказался относительно лучшим, а главное доступным текстом. До последнего времени он использовался в качестве критического, тем более, что историческая (сасанидская) часть поэмы еще не стала предметом серьезного внимания науки и специальных исследований. В юбилейные дни 1934—1935 гг. в Тегеране было осуществлено новое печатное издание текста «Шахнаме». В основу его была положена перепечатка I—III томов издания Вуллерса—Ландауэра, а последняя, историческая часть поэмы дана Саидом Нафиси в том же плане сопоставления калькуттского и парижского изданий. Полнота и доступность издания при сохранении пагинации и нумерации бейтов основных томов Вуллерса сделали его наиболее удобным для пользования впредь до создания подлинно критического издания «Шахнаме». Издание полного текста «Шахнаме» создало необходимую основу научного изучения поэмы, иранского эпоса, биографии Фирдоуси. Одновременно были открыты, использованы, а частично и изданы многие первоисточники по истории, культуре и литературам Ирана и Средней Азии, давшие ценный материал и в деле изучения «Шахнаме». Если в начале века о Фирдоуси, «Шахнаме», как и о персидской литературе вообще, по существу пересказывалось сказанное в тазкире XV в. Довлет-шаха и в Байсонкоровском предисловии, то к концу века исследования базировались уже на самом тексте поэмы и некоторых исторических и литературных памятниках близкого к эпохе создания «Шахнаме» домонгольского Средневековья. В числе других были использованы и многочисленные толковые словари — ферхенги, начиная от старейшего из дошедших до нас словаря XI в. Асади Тусского, автора «Гершасп-наме», и старейшее тазкире XIII в. «Лубаб-аль-Альбаб» Мухаммеда 'Ауфи, впрочем ничего существенного о Фирдоуси не сообщившего. Особое значение имело открытие книги Низами Арузи Самаркандского «Чехар-Мекале» («Четыре статьи»). Автор книги, придворный поэт при сельджукидских дворах XII в., посетил родной город Фирдоуси Тус примерно через сто лет после смерти поэта и сообщил, очевидно, собранные на месте ценные данные об авторе «Шахнаме». Это старейшее развернутое сообщение о Фирдоуси, хотя и не свободно от использования легендарных мотивов, все же позволило критически отнестись к позднейшим, почти сплошь легендарным сообщениям Довлет-шаха, к Байсонкоровскому предисловию и др. Исключительный интерес представляют ранние средневековые переводы «Шахнаме», в частности арабский перевод первой половины XIII в. Бундари Исфаганского и ранние грузинские (отчасти армянские и турецкие) изводы-варианты. Последние почти не привлекались к сравнительному изучению текста «Шахнаме», как и перевод Бундари, недавнее печатное издание которого в Каире сделало возможным его более широкое использование. Поскольку мы не располагаем рукописями, близкими ко времени создания «Шахнаме», данные подобных переводов имеют огромное значение в деле анализа текста поэмы Фирдоуси и выделения многочисленных интерполяций. Ведь арабский перевод Бундари содержит самое раннее свидетельство о тексте «Шахнаме», будучи примерно на столетие старше Ленинградской и около полувека — Лондонской рукописей «Шахнаме». Первыми специальными работами о «Шахнаме», естественно, явились предисловия издателей текста — Макана и особенно Моля, а также предисловия к переводам-антологиям «Шахнаме». Основным монографическим исследованием в данной области была работа немецкого ученого Теодора Нёльдеке «Das Iranische Nationalepos», опубликованная во втором томе ирановедного свода «Grundriss der Iranischen Philologie» (1894—1904 гг.). Работа Нёльдеке в целом сохраняет свое значение основного груда по биографии Фирдоуси и анализу «Шахнаме» и до наших дней, но требует значительных дополнений и исправлений как фактического, так и общеметодологического порядка. Русское дореволюционное востоковедение в период его общего подъема с конца XIX в. также сделало ценный вклад в изучение вопросов, связанных с «Шахнаме» Фирдоуси. Если ранние специальные работы С. Назарианца «Абулькасем Фердоуси Тусский» (1849— 1851 гг.) и магистерская диссертация (Рассуждение) И. Зиновьева «Эпические сказания Ирана» (1855 г.) имели ограниченное значение и не внесли нового в изучение «Шахнаме», то следующие поколения русских ориенталистов создали ряд существенно важных работ. В первую очередь здесь следует назвать исследование В. Р. Розена об арабских переводах «Ходай-наме», статью В. В. Бартольда о происхождении иранского эпоса, начатое К. Залеманом публикование текста специальных словарей к «Шахнаме», статьи В. А. Жуковского и Ф. А. Розенберга, а также первые русские переводы «Шахнаме» с подлинника С. Соколова. Международное чествование памяти Фирдоуси в 1934—1935 гг. стимулировало появление ряда исследований и изданий, связанных с «Шахнаме». В значительной части они были опубликованы в специальных сборниках, вышедших в Тегеране в 1935 г. Сюда вошли доклады участников конгресса ученых разных стран Востока и Запада. Советский Союз был представлен: И. А. Орбели, А. А. Фрей-маном, А. А. Ромаскевичем, Ю. Н. Марром и Е. Э. Бертельсом. В Советском Союзе появление первых работ о «Шахнаме» и Фирдоуси тоже было связано с юбилейными торжествами и работой VIII Международного конгресса иранского искусства в Ленинграде в 1935 г. Большая часть этих работ имела характер научно-популярных юбилейных изданий, но представляла существенный этап в изучении «Шахнаме», будучи первыми опытами марксистского анализа гениальной поэмы. В этом плане должно быть отмечено появление сборника «Фердовси» (Академия наук СССР, 1934 г.) с ценными статьями: А. Ю. Якубовского (о Махмуде Газневидском), К. В. Тревер (о сасанидском Иране в «Шахнаме»), А. А. Ромаскевича (сводный очерк истории изучения «Шахнаме»), К. И. Чайкина (о «проблеме двух Асади») и др. Интересна вышедшая отдельным изданием статья-очерк Е. Э. Бертельса — первый опыт комплексного изучения жизни и творчества Фирдоуси. Живой литературный очерк «Фердоуси» написал М. М. Дьяконов. В сборнике «Восток» в 1935 г. появилась биография Фирдоуси, написанная К. И. Чайкиным, а также другие, в том числе переводные материалы. Заслуживают упоминания и яркие очерки Ю. Н. Марра (в том числе его доклад на юбилейном конгрессе в Тегеране «Стихотворный размер «Шахнаме»»), а также стихотворные переводы-фрагменты «Шахнаме» М. Лозинского и М. М. Дьяконова. В дальнейшем особо должна быть отмечена небольшая брошюра Садриддина Айни на таджикском языке («О Фирдоуси и его «Шахнаме»»), в которой четко был поставлен вопрос о народности великой поэмы. Важным моментом в изучении «Шахнаме» была творческая дискуссия (1948—1949 гг), проведенная Союзом советских писателей, установившая равное право таджиков и персов на классическуюлитературу средневекового Ирана. Дальнейшее развитие эта мысль получила в редакционном предисловии к популярной серии «Классики таджикской литературы» и во вводной статье И. С. Брагинского к «Антологии таджикской литературы», а также в его исследовании «Из истории таджикской народной поэзии». Следует указать и на диссертационную работу Н. Османова, частично опубликованную на русском и таджикском языках, а также на работы молодого исследователя М. Занда, появившиеся в Сталинабаде и др. В настоящее время в Институте Востоковедения АН СССР начата подготовка к изданию нового текста «Шахнаме» на основе сопоставления Лондонской рукописи[422], арабского перевода Бундари и Ленинградской рукописи, что должно явиться новым, может быть решающим, шагом в деле подготовки полного критического издания — основы дальнейшей углубленной работы по изучению «Шахнаме».III. ЖИЗНЬ ФИРДОУСИ И ЛЕГЕНДЫ О ПОЭТЕ
Фирдоуси относится к числу тех поэтов, о жизни которых человечество знает очень мало. Даже популярная легенда, долгое время заменявшая биографию автора «Шахнаме», освещала своим мишурным блеском лишь один эпизод жизни поэта. Другие, иногда явно фантастические сообщения, также касались, зачастую противореча одно другому, лишь нескольких моментов биографии Фирдоуси. Если отбросить легенды и обратиться к первоисточникам, прежде всего к тексту «Шахнаме», то и тогда реальных сведений об авторе поэмы будет явно не достаточно. К тому же они подчас противоречивы. Не зная достоверно имени поэта, дат его рождения и смерти, не располагая почти никакими точными биографическими фактами и сомневаясь в том немногом, что известно, можно утверждать только следующее: некий хорасанский (из Туса) шиитствующий землевладелец-дехкан, известный под именем Фирдоуси, в зрелом возрасте взял на себя труд версифицировать свод иранских эпических сказаний. В начале XI в. поэт посвятил свой многолетний, едва ли не полувековой труд султану Махмуду Газневидскому, но его поэма не получила при жизни поэта должного признания в официальных литературных кругах. Это, конечно, далеко еще не биография, даже если прибавить сюда два-три бесспорных или, по-видимому, достоверных факта, которыми мы располагаем. Однако исследователю остается единственный, но весьма плодотворный путь: обратиться к кропотливому изучению текста поэмы. И, действительно, анализ «Шахнаме» дает очень много для понимания того, кем был, вернее должен был быть, автор «Шахнаме». Прежде всего остановимся на некоторых проблемах биографии Фирдоуси, отделяя легенды от реальных фактов. Это не значит, что легенды должны быть отброшены как не заслуживающие внимания. Легенда не только может, но и должна стать предметом специального изучения. Когда же речь идет о таком произведении, как «Шахнаме», о таком авторе, как Фирдоуси, интересно и значительно — достойно внимания и изучения все, в том числе и легенды. В ранний период европейского востоковедения (конец XVIII — первые десятилетия XIX в.) основной формой литературоведческого исследования вообще являлся пересказ иногда случайных первоисточников или простая публикация восточного текста. Естественно, что и о Фирдоуси поневоле пересказывалось лишь то, что находили в персидских источниках: в тазкире Довлет-шаха и в предисловиях к некоторым рукописям «Шахнаме», т. е. в основном, рассказ-легенду о пребывании Фирдоуси при дворе Махмуда, о жадности последнего и оплате поэмы серебром вместо обещанного золота, о сатире, которую поэт якобы написал, о бегстве Фирдоуси из Газны, о «раскаянии» султана, пославшего поэту свой запоздалый дар. Все это было широко известно и западноевропейской и русской читательской среде хотя бы по балладам В. Группе и особенно Г. Гейне (баллада Г. Гейне переведена на русский язык В. А. Жуковским). По мере того как на протяжении всего XIX в. открывались, публиковались и сопоставлялись новые относящиеся к Фирдоуси и «Шахнаме» материалы и, что особенно важно, тексты и переводы самой поэмы, все более критическим становилось отношение ко многим первоисточникам, и к тазкире в первую очередь. Как же в настоящее время ставятся и разрешаются основные вопросы биографии поэта? Мы можем считать достоверным, что Фирдоуси (в самой поэме автор себя так не называет), создатель дошедшей до нас в многочисленных списках поэмы «Шахнаме», вполне реальное историческое лицо, — жил на рубеже X—XI вв. н. э. Никто никогда по этому поводу не высказывал ни малейшего сомнения. Здесь сходятся все первоисточники, об этом говорит и легенда. Имя Фирдоуси явно образовано от арабского Фирдаус (единственное число, искусственно образованное якобы от множественного Фарадис, греч. paradeisos, в свою очередь восходящее к иранскому авестийскому корню — pairidaeza) — райский сад. Это имя представляется либо специальным литературным именем («тахаллус»), либо фамильным родовым именем, использованным в качестве литературного. Собственное имя поэта также точно не известно: Хасан, Мансур, Ахмед-Мансур сын Хасана (ибн-Хасан). Бесспорно его дополнительное почетное «по сыну» имя (так называемая кунья) — Абу-ль-Касем (отец Касема). Есть основания предположить, что это имя — Абу-ль-Касем, — дано, в редакции, посвященной Махмуду Газневидскому как отражение имени (одного из почетных: дополнительных имен) самого Махмуда. Такие случаи принятия имени своего покровителя, восхваляемого поэтом, широко известны. Достаточно назвать «царя поэтов» при дворе того ж Махмуда — ‘Онсори или известного везира Махмуда — Ибн Хасана Мейменди, также носивших дополнительное имя Абулькасем. Почему же сохранилось именно это искусственное и притом позднее имя? Потому, что поэма «Шахнаме» сохранилась именно в редакции, посвященной султану Махмуду. Источники и народная память именуют Фирдоуси мудрецом (хаким) или мастером (остад) из Туса. Таким образом, полное общеизвестное имя автора «Шахнаме» звучит: (мудрец или мастер) Абулькасем Фирдоуси Тусский[423]. Что Фирдоуси имел нисбу ат-Туси, — бесспорно. Что «Тусский» в данном случае указывает на родину Фирдоуси — тоже не подлежит сомнению. Об этом с полной ясностью говорит автор «Чехар-Мекале», который посетил Тус, примерно через сто лет после кончины поэта. Автор «Чехар-Мекале» уточняет: Фирдоуси (родился?) в селенье Баж (может быть, Паж) в округе Таберан (из числа западных округов-пригородов) города Тус, т. е. происходит не из Туса, а из-под Туса. О семье поэта, о его родителях мы также ничего не знаем. Правда, некоторые поздние авторы называют иногда имя и титул отца и даже деда, но их сообщения противоречивы и бездоказательны. Пышные имена предков поэта, называемые этими авторами, нереальны для раннего Средневековья (IX — начало X в. н. э.). Пожалуй, можно было бы принять указание Бундари Исфаганского (начало XIII в.), дающего Фирдоуси имя Мансур, сын Хасана. Это сообщение, однако, ничем прочно не подтверждается, хотя и трудно оспаривается. Возможно, что отца Фирдоуси звали Хасан. Но имя отца или деда, если оно не дает указания, как и в данном случае, на конкретное историческое лицо, для нас по существу безразлично. Значительно более существенным представляется тот факт, что нам известно социальное положение семьи поэта. И это знание — один из основных моментов при изучении «Шахнаме». Автор «Чехар-Мекале» говорит в самом начале главы, посвященной Фирдоуси: «Абулькасем Фирдоуси был из дехканов Туса». Важнейшее сообщение, которое прямо или косвенно подтверждается всеми другими источниками, в том числе и текстом самой поэмы. Не зная имен и судеб родителей поэта, мы знаем нечто более важное: Фирдоуси принадлежал к роду землевладельцев-вотчинников, сам был таким дехканом, которому его владение обеспечивало (до известной поры) имущественную и личную самостоятельность. О личной и материальной независимости Фирдоуси среди «подобных ему» с полной определенностью говорит старейший и в этом плане безупречный источник «Чехар-Мекале». Дехканство в период раннего феодализма, особенно в X столетии, в Хорасане и Средней Азии (восток Ирана) переживало глубокий кризис. Принадлежность Фирдоуси к дехканам Хорасана X в. как раз и определила основное в его жизни и многое — в творчестве. Мы не имеем прямых указаний источников на дату рождения поэта. Умалчивает об этом и автор «Чехар-Мекале», очевидно, по соображениям научной объективности. Собирая через сто, примерно, лет после смерти Фирдоуси сведения о нем в родном городе поэта, Низами Арузи, по-видимому, мог только установить, что Фирдоуси, умерший и похороненный в Тусе глубоким стариком, жил долго, а сколько именно — «старожилы не запомнили!» И автор «Чехар-Мекале», не в пример многим другим, не стал фантазировать. Основную помощь в определении годов жизни поэта оказывает самый текст «Шахнаме». В ряде лирических отступлений Фирдоуси говорит о своем возрасте в связи с некоторыми моментами работы над поэмой и обстоятельствами личного характера (смерть сына), указывает даты (прямо или лишь намеком), например, дату завершения своего труда. Наиболее твердой датой можно считать указание на завершение второй, посвященной Махмуду Газневидскому, редакции поэмы в 400 г. Хиджры, т. е. в 1009—1010 гг. н. э. Остальные даты так или иначе сопоставляются между собой и с этой датой, причем выявляются противоречия, казалось бы, прямых и ясных в отдельности указаний. Многие из этих противоречий кажущиеся, рано или поздно их, может быть, удастся согласовать. Дело в том, что первоначально молчаливо исходили из предположения о последовательной с начала до конца работе Фирдоуси над поэмой. В целом это, пожалуй, так, но в отдельных случаях более поздний эпизод мог быть обработан раньше, а более ранний отредактирован позднее. Наконец, не исключены и отдельные, позднейшие вставки, искажения переписчиков, варианты разных редакций. Все это ныне с успехом изучается, сопоставляется текстологами, но пока еще в плане предварительных исследований. Большое значение имеет и отсутствие окончательно установленного критического текста поэмы. Таким образом, отдельные исследователи, сопоставляя многочисленные и противоречивые данные, по-разному устанавливали вероятность той или иной предполагаемой даты рождения Фирдоуси. Так, Т. Нёльдеке полагал вероятность 323—324 гг. Хиджры, т. е. 935—936 гг. н. э. Таги-заде — (еще в журнале «Каве» за 1921 г., № 12) — около 320 г. Хиджры, т. е. в пределах 932—934 гг. н. э. Последняя дата была принята правительством Ирана как официальная для проведения торжества 1000-летия со дня рождения поэта в 1934г. Есть и иные соображения: если более ранние даты (не раньше 920 г.) мало обоснованы, то установление более поздней даты (329 г. Хиджры, т. о. 940—941 гг. н. э.), обосновываемое, например, Саидом Нафиси по данным «Шахнаме», заслуживает предпочтения. Что мы знаем о личной жизни, семье, детстве, воспитании будущего автора «Шахнаме», о раннем периоде его жизни? Можно прямо сказать: почти что ничего! Из текста поэмы устанавливается только, что у Фирдоуси был сын, умерший в возрасте 37 лет, когда отцу его было 65. Безвременная кончина сына отмечена в поэме трогательной элегией — лирическим отступлением автора. Есть упоминания и о дочери поэта, бывшей, очевидно, значительно моложе брата (автор «Чехар-Мекале» говорит о ней как о наследнице поэта). Вот и все. До момента, когда Фирдоуси берет на себя труд создания «книги царей» — «Шахнаме», ни он сам в своей поэме, ни другие старые источники ничего не говорят нам о личности автора. Представляется, однако, что, несмотря на молчание источников, все же есть возможность сделать несколько существенных выводов и обоснованных предположений. Можно предположить что детство и юные годы поэта прошли без особых событий, в условиях дехканской обеспеченности. Жалобы на материальные затруднения отмечаются в «Шахнаме» значительно позднее, когда поэту было около шестидесяти лет. Более ранние упоминания, как, например, о «неверном сокровище» (ганджи вафадар нист) во «Введении» к «Шахнаме», порождены скорее чувством непрочности положения (в это смутное время), чем нуждой. Выше подчеркивалось, что Фирдоуси был дехканом из-под Туса. Следовательно, будущий поэт рос не в семье каких-либо захолустных вотчинных владельцев поместий, а жил в пригороде одного из крупных и культурных городов того времени. Это дает все основания предполагать, что Фирдоуси получил лучшее образование и воспитание, чем средней руки провинциальный дехканский сын. Тус был одним из важных центров иранского национализма — шо‘убийи и вместе с тем шиизма. Именно в Тусе была проведена работа по составлению свода иранских сказаний и истории «Ходай-наме» или мансуровского прозаического шахнаме. Если дехканство вообще было основной средой (как и мобеды, хранители, главным образом, книжных традиций), где собирались изустные эпические сказы, то мы вправе предположить, что дома, в семье Фирдоуси мог слушать эти «сказы», а в Тусе быть близким к кругам знатоков-хранителей преданий. Фирдоуси — поэт и большой, зрелый мастер поэтического слова, таким, разумеется, не родился, а сделался, развив свой талант, свое художественное мастерство задолго до того, как он приступил к работе над поэмой. Возникает вопрос: почему мы не видим юношу и молодого Фирдоуси в числе придворных поэтов своего времени? Ведь в то время профессиональное мастерство уже ценилось высоко, а поэт такого таланта, какого не мог не сознавать в себе Фирдоуси, мог быть уверен в успехе. В числе придворных поэтов саманидского века нет имени Фирдоуси. Что его забыли, не отметили? — Невероятно! Значит, он не выступал как поэт-профессионал. Фирдоуси не был придворным поэтом, по-видимому, потому, что это не входило в его личные творческие планы. Кроме того, он был материально обеспечен, и жизнь не вынуждала его выступать профессионалом-панегиристом. Но вот — твердо установленный биографический факт: Фирдоуси в зрелом возрасте, после преждевременной гибели поэта Дакики берет на себя труд стихотворной обработки сборника эпических сказаний Ирана. Об этом он сам говорит в стихотворном «Введении» к поэме, касаясь некоторых моментов истории создания «Шахнаме». Дакики — один из наиболее ярких после Рудаки таджикских поэтов саманидского X в. Хорасанец, по некоторым данным уроженец Средней Азии (Бухары), Дакики был поэтом при дворе саманида Нуха II ибн-Мансура (977—997 гг.), а до этого при удельном дворе эмиров династии Чаганиан. Несколько дошедших до нас блестящих лирических фрагментов и отзывы источников убеждают, что это был оригинальный, большого художественного мастерства и силы лирический поэт, которому отводилось едва ли не первое место среди современников. Считать его гебром-зороастрийцем, шо‘убитом можно, исходя из очень зыбких оснований. И утверждать, и отвергать подобные предположения одинаково трудно. Теперь уже невозможно решить, был ли убит Дакики своим рабом по наущению мусульманского духовенства или в припадке ревности под пьяную руку, как на это намекает в своем лирическом отступлении Фирдоуси (см. стихи 287 и сл.). Ему ли самому принадлежала инициатива облечь в стихотворную форму «времен минувших книгу», мансуровское шахнаме, или его как выдающегося мастера-стихотворца привлекли к этому нужному и политически важному делу, не имеет значения. Стихотворная обработка книги была начата Дакики и осталась незавершенной. Фирдоуси включил в свою поэму тысячу бейтов Дакики — то, что дошло до нас и на основании чего источники, а за ними и многие исследователи повторяют, что Дакики успел написать только ту тысячу бейтов, которая сохранилась в тексте «Шахнаме» Фирдоуси. Тысяча бейтов для огромного по замыслу и объему труда — ничтожное, ничего не определяющее количество. М. ‘Ауфи в своем древнейшем из дошедших до нас тазкире говорит о 20 ООО бейтов, написанных Дакики! Эту цифру (как и любую другую, кроме упомянутой тысячи) мы не можем ни принять, ни оспорить, но ясно одно: Дакики начал труд и, не закончив работы, был убит. Фирдоуси же в свою поэму включил только часть написанного Дакики, а не все. Не случайно включил Фирдоуси в свою поэму именно эти бейты Дакики. Фирдоуси как будто желал почтить память своего трагически погибшего предшественника, а, кроме того, заодно, подчеркнуть свое превосходство. Так, примерно, говорят многие исследователи. Это вполне вероятно, но не в этом главное. О чем повествуется в бейтах Дакики, вошедших в состав поэмы Фирдоуси? О начале зороастризма, о появлении провозвестника «истинной религии» Заратуштры. Скользкая, особенно опасная в ортодоксальном мусульманском окружении тема. Очень вероятно, что Фирдоуси предпочел, чтобы не он сам, а его предшественник отвечал за написанное. Вместе с тем не следует думать, будто Фирдоуси приступил к работе над «Шахнаме» только после смерти Дакики. Несомненно, он и раньше, живя в Тусе, который был насыщен преданиями, слышал их из уст сказителей с детских лет. Фирдоуси, обладатель несомненного поэтического таланта, не мог не приложить своих сил к версификации отдельных эпизодов родных преданий. Вряд ли мысль о полном воплощении их в стихотворном «шахнаме» могла появиться сразу у юного поэта, еще не осознавшего себя, свои силы и возможности. Да и не так легко было получить дорогостоящую рукопись — оригинал, необходимый для версификации. Но по мере роста мастерства, опыта в работе не могла не оформляться мысль о возможности выполнить такой нужный, желанный для всего окружения Фирдоуси труд. Грандиозный, сулящий бессмертие, но тяжелый и главное — мучительно долгий. И вот, неожиданная смерть Дакики ускоряет принятие решения. Жизнь Фирдоуси подчинена теперь одной — высокой и еще очень далекой цели. В начале работы имущественное положение Фирдоуси, как говорилось, было удовлетворительным, хотя и казалось уже недостаточно прочным. Но трудности и явные и скрытые, которые ожидали поэта в будущем, не устрашили его. Фирдоуси смело, с верой в себя и свое дело пошел им навстречу. Во «Введении» к поэме Фирдоуси говорит о поисках необходимой для его версификации основы — рукописной копии прозаического мансуровского шахнаме, иначе новоперсидской «Ходай-наме», созданной в Тусе в 960 г. Разумеется, иметь в своем распоряжении рукопись, копию только что выполненного огромного труда, было нелегким делом для частного лица, не обладавшего неограниченными возможностями. Друзья, заинтересованные в деле (по тексту «Введения» «один друг»), доставили ему желанную копию, и работа Фирдоуси получила необходимую основу. Совершенно очевидно, что речь шла о новоперсидском своде, а не о пехлевийском оригинале «Хватай-намак». Фирдоуси, как мы убеждены, не знал графики пехлеви и не мог бы использовать пехлевийский оригинал. Фирдоуси закончил свой труд, на что ушло, как говорят, противореча друг другу, указания текста, 20, 25, 30 и 35 лет. Что же мы знаем об этом длительном и важном периоде жизни поэта, о времени создания и завершения великой эпопеи? Очень мало, а если говорить о биографических фактах, то почти ничего. Текст «Шахнаме» является нашим и основным и единственным источником. В лирических отступлениях, разбросанных в различных частях поэмы, Фирдоуси нередко говорит о себе. Интересно сообщение об освобождении Фирдоуси от налогов, что, с одной стороны, свидетельствовало о материальных затруднениях поэта, а с другой, — о заинтересованности в его работе, дружеской моральной и посильной материальной помощи определенных кругов общества. В основном же отступления личного характера не содержат в себе точных биографических фактов. Их пронизывают размышления поэта о все ухудшающихся материальных условиях жизни. Вместе с тем они свидетельствуют о неуклонном росте самосознания автора «Шахнаме». Если отдельные поздние эпизоды поэмы могли быть отредактированы и ранее (так, возможно, ранее других были обработаны сказания об Исфендиаре — бой с Ростемом), то в общем все же Фирдоуси работал последовательно, а потому в целом хронологически более поздние части поэмы и были написаны позднее. В большей части лирические отступления сочетаются с указанием возраста. Наиболее раннее упоминание о возрасте относится к 384 г. (первая редакция «Шахнаме»), когда Фирдоуси было 55 лет. До 58 лет поэт вообще считал себя еще молодым: «В это время как лет мне было к 58, я был (еще) молод...». И далее мы встречаем указания на 63, 65, 70, 71, 76, 80 лет. Вместе со старостью надвигались нужда и заботы. Поэт в 65 лет, правда, в связи с гибелью сына, говорит уже о себе как о старике. А нужда эта — не просто некоторые материальные трудности. Трудности не могли не существовать и раньше, но тогда они не исключали известной обеспеченности, а следовательно, и необходимого спокойствия и возможности работать независимо. Чем дальше, тем больше Фирдоуси говорит прямо-таки о нужде, острой нужде в основном, что необходимо для поддержания самого существования — в пище, в тепле:Надвинулась туча, затмился месяц,
Молоко [снег] падает из черного облака.
Не видно уже ни реки, ни равнины, ни предгорий....
Воронова крыла [в белизне падающих хлопьев снега] я не вижу,
Не осталось у меня ни солонины, ни дров, ни ячменя,
И ничего не будет до сбора ячменя [нового урожая].
В этом мраке, в дни ужаса и бедствий
Земля от [покрывающего ее] снега подобна шару из слоновой кости.
Если бы у меня доходы равнялись расходам,
То время [судьба] было бы мне родным братом.
В этом же году выпал [весенний] град — подобно смерти,
Мне смерть была бы лучше чем этот град.
Двери дров и пшеницы и баранины
Запер для меня этот посланец высокого неба...
Принеси-ка вина — ведь немного нам дней еще осталось,
Так было всегда, пока существовал мир и [он] никому не достался...
 прочтено
прочтено  (ЗОО), а надо было бы читать
(ЗОО), а надо было бы читать  (600), на что, по-видимому, имеется больше оснований.
Психологически, конечно, ошибка эта вполне понятна. Но истина, скорее всего, на стороне современных исследователей текста. Одно бесспорно: никакой новой редакции не было и не могло быть.
Итак, поэма закончена в 384 (994) г. К концу работы резко изменилось материальное, прежде всего, положение автора. Если вначале преобладающим, очевидно, было стремление к славе, доброму имени, бессмертию, то теперь вопросы материального обеспечения, вознаграждения за труд всей жизни, труд, величие и ценность которого все более и более осознавались автором, должны были стать на первый план. Надо было реализовать плоды своего труда. А это означало: посвятить свою поэму высокому лицу, меценату, имеющему возможность оплатить подобный труд. Ведь меценатская поддержка, дар поэту, возвышающему своими стихами покровителя, по существу, была единственной формой литературного гонорара в то далекое время.
Но именно с момента окончания поэмы мы почти ничего уже не можем с уверенностью сказать о биографии Фирдоуси.
Вероятно, переработанная поэма была преподнесена султану Махмуду. Однако посвященная Махмуду Газневидскому поэма пришлась не ко двору при его блестящем дворе. Вскоре после этой неудачи, будучи глубоким старцем, поэт скончался, по-видимому, в своем родном городе Тусе. Через сто, примерно, лет его могилу и посетил Низами Самаркандский.
В описании событий этих лет на первый план выступает легенда «о великом поэте и недостойном его дара султане», легенда, имеющая все права на наше внимание, но все же легенда, сквозь призму которой мы вынуждены воспринимать предполагаемые факты биографии Фирдоуси в их порой неустранимом противоречии.
Неизбежно встают и, как увидим, остаются в большинстве не разрешенными существенные вопросы о появлении Фирдоуси (или его поэмы) в Газне, о характере конфликта с султаном Махмудом и неудачи поэта, о так называемой сатире на Махмуда, о странствованиях поэта (пребывании у бавендидов в Табаристане и у бовейхидов Ирака), об авторстве поэмы «Юсуф и Золейха» и о последних годах его жизни.
Был ли сам Фирдоуси в Газне при дворе Махмуда? Старейшее упоминание о Фирдоуси в источниках — рассказ автора «Тарих-е Систан» касается личной беседы поэта с султаном при чтении «Шахнаме». Но, отрешившись от традиции, придется ответить прямо: мы не знаем этого. Доказать этот факт трудно, равно как и окончательно его отвергнуть. Действительно, Фирдоуси ведь мог послать свою поэму с посвящением Махмуду Газневидскому. М. Бехар прямо говорит о том, что Фирдоуси не был лично в Газне, а только послал свою вторую редакцию через какого-то военачальника. Сомнения в личном приезде Фирдоуси в столицу газневидов представляются обоснованными. Будь Фирдоуси даже самое короткое время в числе придворного окружения султана Махмуда, это не могло бы не найти большего и более конкретного отражения в литературе, в творчестве газневидских поэтов, историков, мемуаристов. Наконец, даже сама легенда, фрагменты ее (часто противоречивые), более понятны, более реальны, если предположить, что Фирдоуси в Газне не был.
В чем же сущность конфликта между султаном и поэтом, если считать фактом, что «Шахнаме» Фирдоуси не была принята, оценена, наконец, оплачена султаном «как должно» (т. е. в соответствии с обоснованными надеждами самого поэта)? Разумеется, мы не будем останавливаться на таких моментах, как скупость, скаредность «низкородного» Махмуда или неспособность его, «грубого варвара-тюрка», оценить мастерство Фирдоуси. Если Махмуд не был скуп по отношению к другим своим и заезжим (Гезайери и др.) поэтам, если еще в XII в. азербайджанский персоязычный поэт Хакани с тоской и завистью вспоминал: «Слыхал я, что из серебра посуду, из золота имел столовые приборы ‘Онсори», — то почему же Махмуд вдруг оказался скупым по отношению к Фирдоуси в ущерб своему доброму имени?
Может быть, всему виной его невежество, неспособность оценить талант поэта? Кстати, о невежестве, безграмотности «грубого тюрка Махмуда» говорил даже А. Е. Крымский, между прочим, противореча своему же описанию карьеры тюркского раба-голяма на страницах той же «Истории Персии», а также прямому указанию Бейхаки о собственноручных записках Махмуда его сыну Мас‘уду, которые он, Бейхаки, передавал последнему.
Махмуд был потомком тюрка-голяма во втором-третьем поколении. Правда, мы теперь можем с основанием говорить, что лично Махмуд, по-видимому, не был таким тонким ценителем поэзии, каким его представляли иногда. Он был центром, но не душой своего литературного окружения. Младший брат Махмуда — Наср, упоминаемый во «Введении» к поэме, имеет как будто больше оснований считаться ценителем поэтов. Так или иначе, но такие высокоталантливые поэты, как ‘Онсори, Феррохи, и даже поэты средней одаренности (Асджади и др.) процветали и были оценены султаном. Тогда почему же невежество султана проявилось только по отношению к Фирдоуси? Совершенно очевидно, что были особые причины непризнания поэмы «Шахнаме» и газневидским двором и прежде всего султаном Махмудом.
«Шахнаме» Фирдоуси, как и всякое другое великое произведение искусства, имело огромное общественно-политическое значение. Следовательно, признание или непризнание поэмы должно было определяться отношением к ее общественно-политическому смыслу и значению, независимо от ее эстетической оценки. Нам представляется, что художественные достоинства поэмы, мастерство ее автора были неоспоримыми, непревзойденными и не могли не быть оценены по достоинству где бы то ни было.
Можно отметить, что и легенда не дает никаких оснований для обратного заключения.
Следовательно, все зависит от отношения к политике газневидского двора в момент появления поэмы Фирдоуси при дворе Махмуда, т. е. в 1009—1010 г.
Именно советские ученые правильно поставили вопрос о политическом значении «Шахнаме». С наибольшей четкостью, правда, в плане внешнеполитических сопоставлений, без учета положения внутри страны, подошел к вопросу К. И. Чайкин в своей статье «Фердоуси» (сборник «Восток» № 2).
Итак, те, кто идейно и материально стимулировал труд поэта, были уже не у дел. И это относится не столько к самим саманидам, сколько к деятелям типа Абу-Мансура, т. е. людям X саманидского века. Те люди, которые в известном смысле «заказывали» поэму, в период распада государства саманидов оказались неплатежеспособными. А новый «покупатель», султан Махмуд, только несколько первых лет своего владычества (начало XI в.) выступал как наследник и продолжатель традиций саманидов. Политика Махмуда Газневидского не была и не могла быть повторением политики X в.
Если бы Фирдоуси смог представить свою поэму победителю, наследнику саманидов Махмуду в первые два-три года после его торжества, острота противоречий еще не была бы так очевидна. Махмуд еще не определил свою политику, а продолжал по инерции прежнюю, саманидскую: борьбу на северо-востоке с наступающим на Мавераннахр «Тураном» и стремление подчинить своей власти западный Иран в борьбе с халифатом.
Несколько позднее и именно к моменту, когда «Шахнаме» была представлена в Газну, определились новые, свои линии внешней политики Махмуда: экспансия в Индию, а на севере — необходимое обеспечение тыла (мир с «Тураном», т. е. с караханидами) с отказом от Мавераннахра. Как известно, этот поворот во внешней политике ознаменовался восстановлением арабского языка в качестве языка государственного и оформился «сменой кабинета» — отставкой везира Фазла ибн-Ахмеда Исфераини (в 1010 г.), место которого занял Ахмед ибн-Хасан Мейменди, традиционно неверно именуемый Хасаном Мейменди. И вот легенда называет первого — Исфераини — другом, а второго — Мейменди — врагом Фирдоуси.
Можно утверждать, что «Шахнаме» в конечном счете не могла быть принята Махмудом Газневидским, независимо от оценки ее художественных достоинств и даже независимо от момента появления Фирдоуси при дворе. Дело не столько в сюжете поэмы, сколько в том, что она — отражение народного сознания в творчестве гениального поэта.
Такая идейная направленность была в непримиримом противоречии с основами газневидского государства, со всеми главными линиями и внутренней и внешней политики Махмуда.
И если бы Фирдоуси представил свою поэму раньше, до поворота внешней политики Махмуда, может быть, и не так остро, не сразу выявилось бы это противоречие, но оно неизбежно выявилось бы в конце концов, и поэма Фирдоуси все равно была бы отвергнута. Ведь новая, удобная для поднесения Махмуду редакция была, по существу, только внешним, неизбежным оформлением, не менявшим и не бывшим в состоянии изменить сущности.
В поэме прежде всего бросается в глаза явная антитуранская тенденция. Она, конечно, была неуместна с момента соглашения с караханидами, т. е. именно тогда, когда была представлена поэма. Нам представляется, что тюркское происхождение самого Махмуда не имело особого значения. К услугам султана, как и любого другого властителя, всегда была готова пышная генеалогия, которая возвела бы его род к любому мифическому или историческому знатному предку-иранцу. Да и вообще государство газневидов было не тюркским, а лишь неофеодальным ирано-афганским государством с династией тюркского происхождения.
Антиарабская тенденция выражена не менее ярко, а в конце поэмы исключительно сильно. Она неизбежно переходит в антимусульманскую, что, конечно, не к месту при Махмуде, получающем инвеституру для «священной войны» с «неверными» в Индии от повелителя «правоверных» — аббасидского халифа. Но, пожалуй, и эта тенденция — не решающий фактор неприятия поэмы. Махмуд — политик, а не верующий мусульманин и, думается, вопросы правоверия (суннитства и шиитства) сами по себе не имели для него значения.
Но что бесспорно не зависело от момента — это не сразу ощутимая, скрытая за аристократическим иранским легитимизмом и национализмом, народная тенденция, противопоставленная абсолютизму владык Ирана.
В ней заключена основная причина непримиримого противоречия между султаном и поэтом. Подобная тенденция не могла быть по душе и саманидам, но для них в поэме было много таких положительных моментов, которые могли временно затенить, как-то уравновесить противоречивые социальные элементы произведения. Ведь за внешним, с чем можно было бы примириться, в поэме Фирдоуси стоит внутреннее, народное начало, органически чуждое любому владыке-феодалу, грозящее основам и династийного господства Махмуда и вообще феодального владыки, совершенно независимо от его внешней или внутренней политики.
Попутно возникает небезинтересный вопрос: почему так долго редактировалась поэма для поднесения султану Махмуду? Ведь, время, несомненно, было бесконечно дорого автору.
Может быть, утверждение, что автор готовил новую редакцию около 10 лет, само себя опровергает?
Мы не знаем, что и как было дополнено, хотя и допускаем вероятность включения новых эпизодов. Наряду с добавлением нового, возможно было и изъятие кое-чего из старого. Но вот, что бесспорно: поэма должна была быть заново оформлена для поднесения Махмуду, а это не достигалось только заменой или припиской посвящения, что могло иметь место при посвящении лирического «дивана», где текст оставался неизменным. В посвящении большой эпической поэмы, которая и читалась бы по частям, недостаточно было общего посвящения, Надо было не только рассыпать по всей поэме оформляющие панегирики (в связи с которыми мы находим такой лирический шедевр, как «Памятник»), но и многое изъять из того, что могло показаться Махмуду одиозным (упоминания, а тем более возможные панегирики саманидам, вельможам их окружения). Наконец, все это необходимо было заново переписать, переплести, т. е. оформить как книгу, но не книгу-том, а несколько томов (семь, как указывают источники). Все это требовало не только времени, но и средств, а их могло и даже должно было быть мало. Нужно было искать кредит, заручиться поддержкой новых лиц, которые могли и захотели бы рискнуть, полагаясь на бесспорные художественные достоинства, монументальность и занимательность произведения. Рискнуть, потому что быть посредником в таком деле и заманчиво, и опасно: не известно еще какой прием получит поэма.
Пребывание Фирдоуси в Газне и конфликт с султаном Махмудом освещены и, в то же время, затемнены легендой об обиженном поэте и оскорбленном султане; легендой, заменившей даже в старейших источниках реальную биографию Фирдоуси.
Несколько слов о сатире поэта, так оскорбившей султана Газны.
Не отрицая вообще возможности того или иного сатирического отклика, можно твердо сказать, что сатиры на султана Махмуда как факта реальной биографии Фирдоуси не было и не могло быть.
Есть все основания быть уверенными, что поэма Фирдоуси не была принята в Газне, а, следовательно, не оплачена в соответствии с надеждами.
Далее, после «бегства» из Газны в биографии Фирдоуси следуют «годы странствований». Надо сказать прямо: ничего достоверного мы не знаем и об этом периоде. Ведь даже автор «Чехар-Мекале» сам беспомощен осветить этот период и вынужден, за неимением ничего другого, приводить легенду со всеми ее противоречиями и нелепостями. Воспроизведем здесь, чтобы как-то заполнить отсутствующую последнюю страницу биографии Фирдоуси, версию, содержащуюся в «Чехар-Мекале».
Итак: Фирдоуси бежит из Газны, спасаясь от гнева Махмуда (сатира послана ему? доставлена?), полгода укрывается в Герате (в доме отца поэта Азраки). Находит себе приют у именитого вассала Махмуда, испехбеда Шахриара[424] (=ибн Шарвина, — часто упоминаемого придворным историком Махмуда ‘Отби, как близкого к знаменитому Кабусу-Вошмегиру человека) и хочет ему посвятить (перепосвятить!) «Шахнаме». Шахриар говорит: «... Махмуду твою книгу еще не передали ... поймет, оценит еще, когда прочтет... а сатиру откупаю». Фирдоуси сатиру уничтожил, но шесть бейтов до Низами Арузи дошли, он их цитирует. В то же время из текста «Чехар-Мекале» ясно, что сатира не дошла до султана, так как Фирдоуси смог вернуться в Тус еще при жизни Махмуда.
Следуем дальше за легендой и автором «Чехар-Мекале». Престарелый поэт, гонимый страхом, уезжает дальше на запад — в пределы бовейхидов (не вассалов султана!), т. е. возможно к Беха-од-Доуле или (после 1012 г.) к его сыну Сольтан-од-Доуле. Здесь, в Ираке, побуждаемый неким вельможей по имени Муваффак, Фирдоуси пишет поэму на благочестивую кораническую тему «Юсуф и Золейха», где выражает сожаление о том, что жизнь свою посвятил воспеванию язычников: Ростема, Исфендиара и др., т. е. отрекается от «Шахнаме». (Здесь легенда говорит еще о поездке Фирдоуси в Багдад к «пленнику бовейхидов», халифу). Но вот Фирдоуси снова в родном городе Тусе, т.е. в пределах владений султана Махмуда, и султан даже, так говорит Низами Арузи со слов поэта Мо‘эззи[425], прислал ему обещанное вознаграждение. Но оно запоздало, Фирдоуси уже не было в живых, а дочь его отвергла этот «дар раскаявшегося султана», передавшего золото на постройку караван-сарая, что на пути из Туса в Балх. Низами Арузи сам видел этот рабат. Даты кончины поэта нам автор не сообщает.
Нет каких-либо оснований не доверять автору «Чехар-Мекале», но он сам, через сто лет после смерти Фирдоуси, находясь в его родном городе и посетив могилу поэта, по-видимому, не имел твердой почвы для связного и убедительного рассказа, а повторил, что только «запомнили» старожилы Туса.
Нам представляется, что в рассказе о странствиях Фирдоуси обрывки легенд перемешаны с крупинками реальной действительности, но через тысячу лет слишком трудно в этом разобраться. Так, вполне возможным могло быть пребывание Фирдоуси у бавен-дидов Табаристана, в Исфагане, возможно и у бовейхидов Фарса; мало вероятно, но не исключено посещение Ирака, и, пожалуй, авторство «Юсуфа и Золейхи». Однако все эти факты, думается, могли иметь место лишь до начала работы над второй «махмудовской» редакцией «Шахнаме». Более чем престарелый поэт (ведь есть же упоминание о возрасте, «близком к восьмидесяти») после бесспорной неудачи своей поэмы в Газне оставался в Тусе, а не путешествовал по всему Ирану, как гласит легенда.
На наш взгляд, материальное положение Фирдоуси в последние годы было сравнительно (во всяком случае с периодом разрухи и междуцарствия девяностых годов) благоприятным и устойчивым. Ведь даже легенда не отрицает оплаты труда Фирдоуси, правда, серебром (вместо золота). Недооценка, а на деле непринятие поэмы газневидским двором — факт бесспорный, но «недостаточная оплата» все же была принята и не могла быть отвергнута, как бы ни хотелось этого для сохранения основ легенды. Следовательно, у поэта появляются известные средства. Ведь он сохранил, по-видимому, свое дехканское поместье под Тусом (Низами Арузи говорит о том, что поэт был похоронен на своей земле, вне мусульманского кладбища, как шиит, еретик в глазах местных клерикалов-суннитов). Не исключается возможность дополнительного дара султана, но только при условии, что не было ни сатиры, ни разрыва с последующим бегством из Газны.
Имеются основания предположить наличие двойственного отношения к «Шахнаме» и ее автору. С одной стороны, невозможность не признать высокого мастерства автора и исключительных эстетических достоинств поэмы, а с другой стороны, неприятие ее по политическим причинам. Художественные достоинства лишь усугубляли внутреннее несоответствие поэмы с направлением политики Махмуда, с основами газневидской государственности. К тому же могли быть и моменты случайности (придворные интриги и т. п.), так или иначе определявшие все происходившее.
Фирдоуси умер в Тусе, но когда? Кто знает точно, если даже автор «Чехар-Мекале» не знал! А вот Довлет-шах в своем тазкире приводит 411 г. Хиджры (1020—1021 г. н. э.). Называют и другие, даже более поздние даты (416 г. Хиджры, т. е. 1025—1026 г.).
Фирдоуси, очевидно, умер через несколько лет после определения в Газне судьбы своей поэмы, т. е. после 1012—1013 г., вряд ли позднее года, указанного Довлет-шахом, и во всяком случае до смерти султана Махмуда в 1030 г.[426]
В заключение, вернувшись несколько назад, остановимся на одном моменте, имеющем принципиальное значение. По данным легенды, Фирдоуси создает после «Шахнаме» новую, романтическую поэму «Юсуф и Золейха». Допустим пока, что Фирдоуси — действительно автор новой поэмы. В ней мы находим указания на посвящение поэмы владыкам западного Ирана — бовейхидам — вместе с известным «отречением» от «Шахнаме». Важнейший биографический факт: Фирдоуси как бы «сжег все, чему поклонялся»! И это укладывалось в привычную «традиционную» схему: Фирдоуси после ссоры с султаном, гонимый страхом, бежит из Газны в Табаристан, затем во владения бовейхидов, т. е. за пределы владений султана Махмуда, отрекается от «Шахнаме», пишет «лучшую из повестей»[427], а затем возвращается в свой родной Тус, где и умирает, не дождавшись дара «раскаявшегося султана».
И вот здесь надо быть логичным до конца. Если Фирдоуси написал новую поэму, то «Юсуф и Золейха» такой же первоисточник, как и «Шахнаме». А в таком случае пребывание Фирдоуси в Ираке и его «отречение» имели место в пределах 994—996 гг., т. е. до пребывания в Газне, до начала работы над второй, махмудовской, редакцией, во всяком случае до завершения ее в 1010 г. Следовательно, по существу, отпадает вся версия «бегства» и «скитаний гонимого страхом поэта». Ведь не дважды же он выезжал в Ирак!
В 1921 г. на страницах иранского журнала «Каве», в серии статей, посвященных раннефеодальной («новоперсидской») литературе Ирана, и, в частности, «Шахнаме», анонимный тогда автор[428] использовав до логического конца текст поэмы «Юсуф и Золейха» как источник (не подвергая еще сомнению авторство Фирдоуси), установил с достаточной убедительностью, что Фирдоуси мог обращаться к упомянутому в предисловии Моваффаку, как посреднику-покровителю только в середине последнего десятилетия X в.
Совершенно очевидна важность этого вопроса для построения биографии Фирдоуси. К сожалению, в русской советской литературе, за исключением статьи проф. К. И. Чайкина в сборнике «Восток», эти соображения не нашли отклика. Путешествие поэта в Ирак по старинке относилось, как и в легенде, к последним годам жизни Фирдоуси (после «бегства» из Газны).
Нам представляется, что, независимо от признания или непризнания Фирдоуси автором поэмы «Юсуф и Золейха», вопрос о возможности путешествий Фирдоуси после разрыва с Газной должен решаться отрицательно. Иначе говоря, если Фирдоуси и выезжал на запад, то скорее всего до начала работы над второй (на наш взгляд последней) — махмудовской редакцией.
Анализ вопроса, когда был Фирдоуси в Ираке, до или после Газны, дает очень много для нашей цели. Попытаемся осмыслить версию Таги-заде и К. И. Чайкина о пребывании Фирдоуси в Ираке в середине 90-х годов X в., а не после Газны, т. е. не в 10-х годах XI в.
Вспомним: Фирдоуси закончил свою поэму в 984—994 гг. (первая редакция), в момент, когда положение на востоке и особенно в Хорасане складывалось исключительно неблагоприятно для осуществления планов «реализации» поэмы, что было жизненно необходимо стареющему и одинокому, лишившемуся сына и друзей-покровителей. поэту. Ведь именно в эти годы решалась, но еще не решилась политическая судьба восточного Ирана и Средней Азии (Мавераннахра).
Перед Фирдоуси должен был встать мучительный вопрос: что делать с поэмой (а ведь это означало: как жить дальше)? Вполне возможно, что поэт был вынужден покинуть родину, что еще более обостряло положение.
Бовейхиды — владыки западного Ирана, которому не угрожали бедствия востока и Хорасана, уже прославили себя в то время покровительством литературе как арабской, так и персидской. Можно допустить, что мысль о возможности найти достойных ценителей своей поэмы на западе должна была возникнуть в сознании поэта, а раз возникнув, привела к практическому действию. Попытка действия, если она имела место (будь то личная поездка, будь то посылка поэмы), не увенчалась успехом. В «Шахнаме» и вообще в источниках нет никаких следов связи поэта с бовейхидами. И если поглубже вдуматься в вопрос, понятно почему.
Бовейхиды — шииты, иранцы-шо‘убиты, на первый взгляд, они, казалось бы, должны были оценить «Шахнаме» и в эстетическом и, что решало вопрос, в политическом аспекте. Но именно потому, что бовейхиды были политиками, они не могли принять дар Фирдоуси.
Антитуранская тенденция для запада Ирана в то время была в значительной мере абстракцией, а не острым жизненным делом, как для Мавераннахра и Хорасана, причем не только для феодалов-политиков, но и для широких народных масс.
Антиарабская тенденция при установившемся внешнеполитическом положении (мирное пленение аббасидов) была прямо не приемлема для бовейхидов. При том значительная часть населения и подданных бовейхидов составляли арабизованные иранцы, арамейцы и арабы Ирака. И главное — народная тенденция, в равной мере не соответствовала интересам как западных феодалов, так и восточных.
Наконец, и эстетическое восприятие «Шахнаме», произведения, оформляющего переход литературы на национальный язык фарси (дари), было органически более близко широким демократическим кругам востока, так как запад в деле перехода литературы на национальный язык (идущий в своем литературном аспекте с Востока) отставал от востока, как отставал и в своем общественно-политическом становлении.
«Отречение» Фирдоуси от старой поэмы в предисловии к новой было бы понятней именно в эти, наиболее тяжелые и смутные годы. Психологически понятным было бы даже посвящение поэмы в так называемой «второй редакции» эмиру Хан-Ленджана близ Исфагана. Потеряв надежду на Запад, не видя еще ничего на Востоке, поэт мог просто в отчаянии отдать экземпляр поэмы (отнюдь не новую редакцию) приютившему его эмиру... Это было (если это было) в 998— 999 г. Дальше события развивались уже более или менее ясно: в том же 999 г. окончательно определилась судьба Востока. Султан Махмуд Газневидский становится владыкой, наследником прежнего саманидского, в идеале — всеиранского государства.
(600), на что, по-видимому, имеется больше оснований.
Психологически, конечно, ошибка эта вполне понятна. Но истина, скорее всего, на стороне современных исследователей текста. Одно бесспорно: никакой новой редакции не было и не могло быть.
Итак, поэма закончена в 384 (994) г. К концу работы резко изменилось материальное, прежде всего, положение автора. Если вначале преобладающим, очевидно, было стремление к славе, доброму имени, бессмертию, то теперь вопросы материального обеспечения, вознаграждения за труд всей жизни, труд, величие и ценность которого все более и более осознавались автором, должны были стать на первый план. Надо было реализовать плоды своего труда. А это означало: посвятить свою поэму высокому лицу, меценату, имеющему возможность оплатить подобный труд. Ведь меценатская поддержка, дар поэту, возвышающему своими стихами покровителя, по существу, была единственной формой литературного гонорара в то далекое время.
Но именно с момента окончания поэмы мы почти ничего уже не можем с уверенностью сказать о биографии Фирдоуси.
Вероятно, переработанная поэма была преподнесена султану Махмуду. Однако посвященная Махмуду Газневидскому поэма пришлась не ко двору при его блестящем дворе. Вскоре после этой неудачи, будучи глубоким старцем, поэт скончался, по-видимому, в своем родном городе Тусе. Через сто, примерно, лет его могилу и посетил Низами Самаркандский.
В описании событий этих лет на первый план выступает легенда «о великом поэте и недостойном его дара султане», легенда, имеющая все права на наше внимание, но все же легенда, сквозь призму которой мы вынуждены воспринимать предполагаемые факты биографии Фирдоуси в их порой неустранимом противоречии.
Неизбежно встают и, как увидим, остаются в большинстве не разрешенными существенные вопросы о появлении Фирдоуси (или его поэмы) в Газне, о характере конфликта с султаном Махмудом и неудачи поэта, о так называемой сатире на Махмуда, о странствованиях поэта (пребывании у бавендидов в Табаристане и у бовейхидов Ирака), об авторстве поэмы «Юсуф и Золейха» и о последних годах его жизни.
Был ли сам Фирдоуси в Газне при дворе Махмуда? Старейшее упоминание о Фирдоуси в источниках — рассказ автора «Тарих-е Систан» касается личной беседы поэта с султаном при чтении «Шахнаме». Но, отрешившись от традиции, придется ответить прямо: мы не знаем этого. Доказать этот факт трудно, равно как и окончательно его отвергнуть. Действительно, Фирдоуси ведь мог послать свою поэму с посвящением Махмуду Газневидскому. М. Бехар прямо говорит о том, что Фирдоуси не был лично в Газне, а только послал свою вторую редакцию через какого-то военачальника. Сомнения в личном приезде Фирдоуси в столицу газневидов представляются обоснованными. Будь Фирдоуси даже самое короткое время в числе придворного окружения султана Махмуда, это не могло бы не найти большего и более конкретного отражения в литературе, в творчестве газневидских поэтов, историков, мемуаристов. Наконец, даже сама легенда, фрагменты ее (часто противоречивые), более понятны, более реальны, если предположить, что Фирдоуси в Газне не был.
В чем же сущность конфликта между султаном и поэтом, если считать фактом, что «Шахнаме» Фирдоуси не была принята, оценена, наконец, оплачена султаном «как должно» (т. е. в соответствии с обоснованными надеждами самого поэта)? Разумеется, мы не будем останавливаться на таких моментах, как скупость, скаредность «низкородного» Махмуда или неспособность его, «грубого варвара-тюрка», оценить мастерство Фирдоуси. Если Махмуд не был скуп по отношению к другим своим и заезжим (Гезайери и др.) поэтам, если еще в XII в. азербайджанский персоязычный поэт Хакани с тоской и завистью вспоминал: «Слыхал я, что из серебра посуду, из золота имел столовые приборы ‘Онсори», — то почему же Махмуд вдруг оказался скупым по отношению к Фирдоуси в ущерб своему доброму имени?
Может быть, всему виной его невежество, неспособность оценить талант поэта? Кстати, о невежестве, безграмотности «грубого тюрка Махмуда» говорил даже А. Е. Крымский, между прочим, противореча своему же описанию карьеры тюркского раба-голяма на страницах той же «Истории Персии», а также прямому указанию Бейхаки о собственноручных записках Махмуда его сыну Мас‘уду, которые он, Бейхаки, передавал последнему.
Махмуд был потомком тюрка-голяма во втором-третьем поколении. Правда, мы теперь можем с основанием говорить, что лично Махмуд, по-видимому, не был таким тонким ценителем поэзии, каким его представляли иногда. Он был центром, но не душой своего литературного окружения. Младший брат Махмуда — Наср, упоминаемый во «Введении» к поэме, имеет как будто больше оснований считаться ценителем поэтов. Так или иначе, но такие высокоталантливые поэты, как ‘Онсори, Феррохи, и даже поэты средней одаренности (Асджади и др.) процветали и были оценены султаном. Тогда почему же невежество султана проявилось только по отношению к Фирдоуси? Совершенно очевидно, что были особые причины непризнания поэмы «Шахнаме» и газневидским двором и прежде всего султаном Махмудом.
«Шахнаме» Фирдоуси, как и всякое другое великое произведение искусства, имело огромное общественно-политическое значение. Следовательно, признание или непризнание поэмы должно было определяться отношением к ее общественно-политическому смыслу и значению, независимо от ее эстетической оценки. Нам представляется, что художественные достоинства поэмы, мастерство ее автора были неоспоримыми, непревзойденными и не могли не быть оценены по достоинству где бы то ни было.
Можно отметить, что и легенда не дает никаких оснований для обратного заключения.
Следовательно, все зависит от отношения к политике газневидского двора в момент появления поэмы Фирдоуси при дворе Махмуда, т. е. в 1009—1010 г.
Именно советские ученые правильно поставили вопрос о политическом значении «Шахнаме». С наибольшей четкостью, правда, в плане внешнеполитических сопоставлений, без учета положения внутри страны, подошел к вопросу К. И. Чайкин в своей статье «Фердоуси» (сборник «Восток» № 2).
Итак, те, кто идейно и материально стимулировал труд поэта, были уже не у дел. И это относится не столько к самим саманидам, сколько к деятелям типа Абу-Мансура, т. е. людям X саманидского века. Те люди, которые в известном смысле «заказывали» поэму, в период распада государства саманидов оказались неплатежеспособными. А новый «покупатель», султан Махмуд, только несколько первых лет своего владычества (начало XI в.) выступал как наследник и продолжатель традиций саманидов. Политика Махмуда Газневидского не была и не могла быть повторением политики X в.
Если бы Фирдоуси смог представить свою поэму победителю, наследнику саманидов Махмуду в первые два-три года после его торжества, острота противоречий еще не была бы так очевидна. Махмуд еще не определил свою политику, а продолжал по инерции прежнюю, саманидскую: борьбу на северо-востоке с наступающим на Мавераннахр «Тураном» и стремление подчинить своей власти западный Иран в борьбе с халифатом.
Несколько позднее и именно к моменту, когда «Шахнаме» была представлена в Газну, определились новые, свои линии внешней политики Махмуда: экспансия в Индию, а на севере — необходимое обеспечение тыла (мир с «Тураном», т. е. с караханидами) с отказом от Мавераннахра. Как известно, этот поворот во внешней политике ознаменовался восстановлением арабского языка в качестве языка государственного и оформился «сменой кабинета» — отставкой везира Фазла ибн-Ахмеда Исфераини (в 1010 г.), место которого занял Ахмед ибн-Хасан Мейменди, традиционно неверно именуемый Хасаном Мейменди. И вот легенда называет первого — Исфераини — другом, а второго — Мейменди — врагом Фирдоуси.
Можно утверждать, что «Шахнаме» в конечном счете не могла быть принята Махмудом Газневидским, независимо от оценки ее художественных достоинств и даже независимо от момента появления Фирдоуси при дворе. Дело не столько в сюжете поэмы, сколько в том, что она — отражение народного сознания в творчестве гениального поэта.
Такая идейная направленность была в непримиримом противоречии с основами газневидского государства, со всеми главными линиями и внутренней и внешней политики Махмуда.
И если бы Фирдоуси представил свою поэму раньше, до поворота внешней политики Махмуда, может быть, и не так остро, не сразу выявилось бы это противоречие, но оно неизбежно выявилось бы в конце концов, и поэма Фирдоуси все равно была бы отвергнута. Ведь новая, удобная для поднесения Махмуду редакция была, по существу, только внешним, неизбежным оформлением, не менявшим и не бывшим в состоянии изменить сущности.
В поэме прежде всего бросается в глаза явная антитуранская тенденция. Она, конечно, была неуместна с момента соглашения с караханидами, т. е. именно тогда, когда была представлена поэма. Нам представляется, что тюркское происхождение самого Махмуда не имело особого значения. К услугам султана, как и любого другого властителя, всегда была готова пышная генеалогия, которая возвела бы его род к любому мифическому или историческому знатному предку-иранцу. Да и вообще государство газневидов было не тюркским, а лишь неофеодальным ирано-афганским государством с династией тюркского происхождения.
Антиарабская тенденция выражена не менее ярко, а в конце поэмы исключительно сильно. Она неизбежно переходит в антимусульманскую, что, конечно, не к месту при Махмуде, получающем инвеституру для «священной войны» с «неверными» в Индии от повелителя «правоверных» — аббасидского халифа. Но, пожалуй, и эта тенденция — не решающий фактор неприятия поэмы. Махмуд — политик, а не верующий мусульманин и, думается, вопросы правоверия (суннитства и шиитства) сами по себе не имели для него значения.
Но что бесспорно не зависело от момента — это не сразу ощутимая, скрытая за аристократическим иранским легитимизмом и национализмом, народная тенденция, противопоставленная абсолютизму владык Ирана.
В ней заключена основная причина непримиримого противоречия между султаном и поэтом. Подобная тенденция не могла быть по душе и саманидам, но для них в поэме было много таких положительных моментов, которые могли временно затенить, как-то уравновесить противоречивые социальные элементы произведения. Ведь за внешним, с чем можно было бы примириться, в поэме Фирдоуси стоит внутреннее, народное начало, органически чуждое любому владыке-феодалу, грозящее основам и династийного господства Махмуда и вообще феодального владыки, совершенно независимо от его внешней или внутренней политики.
Попутно возникает небезинтересный вопрос: почему так долго редактировалась поэма для поднесения султану Махмуду? Ведь, время, несомненно, было бесконечно дорого автору.
Может быть, утверждение, что автор готовил новую редакцию около 10 лет, само себя опровергает?
Мы не знаем, что и как было дополнено, хотя и допускаем вероятность включения новых эпизодов. Наряду с добавлением нового, возможно было и изъятие кое-чего из старого. Но вот, что бесспорно: поэма должна была быть заново оформлена для поднесения Махмуду, а это не достигалось только заменой или припиской посвящения, что могло иметь место при посвящении лирического «дивана», где текст оставался неизменным. В посвящении большой эпической поэмы, которая и читалась бы по частям, недостаточно было общего посвящения, Надо было не только рассыпать по всей поэме оформляющие панегирики (в связи с которыми мы находим такой лирический шедевр, как «Памятник»), но и многое изъять из того, что могло показаться Махмуду одиозным (упоминания, а тем более возможные панегирики саманидам, вельможам их окружения). Наконец, все это необходимо было заново переписать, переплести, т. е. оформить как книгу, но не книгу-том, а несколько томов (семь, как указывают источники). Все это требовало не только времени, но и средств, а их могло и даже должно было быть мало. Нужно было искать кредит, заручиться поддержкой новых лиц, которые могли и захотели бы рискнуть, полагаясь на бесспорные художественные достоинства, монументальность и занимательность произведения. Рискнуть, потому что быть посредником в таком деле и заманчиво, и опасно: не известно еще какой прием получит поэма.
Пребывание Фирдоуси в Газне и конфликт с султаном Махмудом освещены и, в то же время, затемнены легендой об обиженном поэте и оскорбленном султане; легендой, заменившей даже в старейших источниках реальную биографию Фирдоуси.
Несколько слов о сатире поэта, так оскорбившей султана Газны.
Не отрицая вообще возможности того или иного сатирического отклика, можно твердо сказать, что сатиры на султана Махмуда как факта реальной биографии Фирдоуси не было и не могло быть.
Есть все основания быть уверенными, что поэма Фирдоуси не была принята в Газне, а, следовательно, не оплачена в соответствии с надеждами.
Далее, после «бегства» из Газны в биографии Фирдоуси следуют «годы странствований». Надо сказать прямо: ничего достоверного мы не знаем и об этом периоде. Ведь даже автор «Чехар-Мекале» сам беспомощен осветить этот период и вынужден, за неимением ничего другого, приводить легенду со всеми ее противоречиями и нелепостями. Воспроизведем здесь, чтобы как-то заполнить отсутствующую последнюю страницу биографии Фирдоуси, версию, содержащуюся в «Чехар-Мекале».
Итак: Фирдоуси бежит из Газны, спасаясь от гнева Махмуда (сатира послана ему? доставлена?), полгода укрывается в Герате (в доме отца поэта Азраки). Находит себе приют у именитого вассала Махмуда, испехбеда Шахриара[424] (=ибн Шарвина, — часто упоминаемого придворным историком Махмуда ‘Отби, как близкого к знаменитому Кабусу-Вошмегиру человека) и хочет ему посвятить (перепосвятить!) «Шахнаме». Шахриар говорит: «... Махмуду твою книгу еще не передали ... поймет, оценит еще, когда прочтет... а сатиру откупаю». Фирдоуси сатиру уничтожил, но шесть бейтов до Низами Арузи дошли, он их цитирует. В то же время из текста «Чехар-Мекале» ясно, что сатира не дошла до султана, так как Фирдоуси смог вернуться в Тус еще при жизни Махмуда.
Следуем дальше за легендой и автором «Чехар-Мекале». Престарелый поэт, гонимый страхом, уезжает дальше на запад — в пределы бовейхидов (не вассалов султана!), т. е. возможно к Беха-од-Доуле или (после 1012 г.) к его сыну Сольтан-од-Доуле. Здесь, в Ираке, побуждаемый неким вельможей по имени Муваффак, Фирдоуси пишет поэму на благочестивую кораническую тему «Юсуф и Золейха», где выражает сожаление о том, что жизнь свою посвятил воспеванию язычников: Ростема, Исфендиара и др., т. е. отрекается от «Шахнаме». (Здесь легенда говорит еще о поездке Фирдоуси в Багдад к «пленнику бовейхидов», халифу). Но вот Фирдоуси снова в родном городе Тусе, т.е. в пределах владений султана Махмуда, и султан даже, так говорит Низами Арузи со слов поэта Мо‘эззи[425], прислал ему обещанное вознаграждение. Но оно запоздало, Фирдоуси уже не было в живых, а дочь его отвергла этот «дар раскаявшегося султана», передавшего золото на постройку караван-сарая, что на пути из Туса в Балх. Низами Арузи сам видел этот рабат. Даты кончины поэта нам автор не сообщает.
Нет каких-либо оснований не доверять автору «Чехар-Мекале», но он сам, через сто лет после смерти Фирдоуси, находясь в его родном городе и посетив могилу поэта, по-видимому, не имел твердой почвы для связного и убедительного рассказа, а повторил, что только «запомнили» старожилы Туса.
Нам представляется, что в рассказе о странствиях Фирдоуси обрывки легенд перемешаны с крупинками реальной действительности, но через тысячу лет слишком трудно в этом разобраться. Так, вполне возможным могло быть пребывание Фирдоуси у бавен-дидов Табаристана, в Исфагане, возможно и у бовейхидов Фарса; мало вероятно, но не исключено посещение Ирака, и, пожалуй, авторство «Юсуфа и Золейхи». Однако все эти факты, думается, могли иметь место лишь до начала работы над второй «махмудовской» редакцией «Шахнаме». Более чем престарелый поэт (ведь есть же упоминание о возрасте, «близком к восьмидесяти») после бесспорной неудачи своей поэмы в Газне оставался в Тусе, а не путешествовал по всему Ирану, как гласит легенда.
На наш взгляд, материальное положение Фирдоуси в последние годы было сравнительно (во всяком случае с периодом разрухи и междуцарствия девяностых годов) благоприятным и устойчивым. Ведь даже легенда не отрицает оплаты труда Фирдоуси, правда, серебром (вместо золота). Недооценка, а на деле непринятие поэмы газневидским двором — факт бесспорный, но «недостаточная оплата» все же была принята и не могла быть отвергнута, как бы ни хотелось этого для сохранения основ легенды. Следовательно, у поэта появляются известные средства. Ведь он сохранил, по-видимому, свое дехканское поместье под Тусом (Низами Арузи говорит о том, что поэт был похоронен на своей земле, вне мусульманского кладбища, как шиит, еретик в глазах местных клерикалов-суннитов). Не исключается возможность дополнительного дара султана, но только при условии, что не было ни сатиры, ни разрыва с последующим бегством из Газны.
Имеются основания предположить наличие двойственного отношения к «Шахнаме» и ее автору. С одной стороны, невозможность не признать высокого мастерства автора и исключительных эстетических достоинств поэмы, а с другой стороны, неприятие ее по политическим причинам. Художественные достоинства лишь усугубляли внутреннее несоответствие поэмы с направлением политики Махмуда, с основами газневидской государственности. К тому же могли быть и моменты случайности (придворные интриги и т. п.), так или иначе определявшие все происходившее.
Фирдоуси умер в Тусе, но когда? Кто знает точно, если даже автор «Чехар-Мекале» не знал! А вот Довлет-шах в своем тазкире приводит 411 г. Хиджры (1020—1021 г. н. э.). Называют и другие, даже более поздние даты (416 г. Хиджры, т. е. 1025—1026 г.).
Фирдоуси, очевидно, умер через несколько лет после определения в Газне судьбы своей поэмы, т. е. после 1012—1013 г., вряд ли позднее года, указанного Довлет-шахом, и во всяком случае до смерти султана Махмуда в 1030 г.[426]
В заключение, вернувшись несколько назад, остановимся на одном моменте, имеющем принципиальное значение. По данным легенды, Фирдоуси создает после «Шахнаме» новую, романтическую поэму «Юсуф и Золейха». Допустим пока, что Фирдоуси — действительно автор новой поэмы. В ней мы находим указания на посвящение поэмы владыкам западного Ирана — бовейхидам — вместе с известным «отречением» от «Шахнаме». Важнейший биографический факт: Фирдоуси как бы «сжег все, чему поклонялся»! И это укладывалось в привычную «традиционную» схему: Фирдоуси после ссоры с султаном, гонимый страхом, бежит из Газны в Табаристан, затем во владения бовейхидов, т. е. за пределы владений султана Махмуда, отрекается от «Шахнаме», пишет «лучшую из повестей»[427], а затем возвращается в свой родной Тус, где и умирает, не дождавшись дара «раскаявшегося султана».
И вот здесь надо быть логичным до конца. Если Фирдоуси написал новую поэму, то «Юсуф и Золейха» такой же первоисточник, как и «Шахнаме». А в таком случае пребывание Фирдоуси в Ираке и его «отречение» имели место в пределах 994—996 гг., т. е. до пребывания в Газне, до начала работы над второй, махмудовской, редакцией, во всяком случае до завершения ее в 1010 г. Следовательно, по существу, отпадает вся версия «бегства» и «скитаний гонимого страхом поэта». Ведь не дважды же он выезжал в Ирак!
В 1921 г. на страницах иранского журнала «Каве», в серии статей, посвященных раннефеодальной («новоперсидской») литературе Ирана, и, в частности, «Шахнаме», анонимный тогда автор[428] использовав до логического конца текст поэмы «Юсуф и Золейха» как источник (не подвергая еще сомнению авторство Фирдоуси), установил с достаточной убедительностью, что Фирдоуси мог обращаться к упомянутому в предисловии Моваффаку, как посреднику-покровителю только в середине последнего десятилетия X в.
Совершенно очевидна важность этого вопроса для построения биографии Фирдоуси. К сожалению, в русской советской литературе, за исключением статьи проф. К. И. Чайкина в сборнике «Восток», эти соображения не нашли отклика. Путешествие поэта в Ирак по старинке относилось, как и в легенде, к последним годам жизни Фирдоуси (после «бегства» из Газны).
Нам представляется, что, независимо от признания или непризнания Фирдоуси автором поэмы «Юсуф и Золейха», вопрос о возможности путешествий Фирдоуси после разрыва с Газной должен решаться отрицательно. Иначе говоря, если Фирдоуси и выезжал на запад, то скорее всего до начала работы над второй (на наш взгляд последней) — махмудовской редакцией.
Анализ вопроса, когда был Фирдоуси в Ираке, до или после Газны, дает очень много для нашей цели. Попытаемся осмыслить версию Таги-заде и К. И. Чайкина о пребывании Фирдоуси в Ираке в середине 90-х годов X в., а не после Газны, т. е. не в 10-х годах XI в.
Вспомним: Фирдоуси закончил свою поэму в 984—994 гг. (первая редакция), в момент, когда положение на востоке и особенно в Хорасане складывалось исключительно неблагоприятно для осуществления планов «реализации» поэмы, что было жизненно необходимо стареющему и одинокому, лишившемуся сына и друзей-покровителей. поэту. Ведь именно в эти годы решалась, но еще не решилась политическая судьба восточного Ирана и Средней Азии (Мавераннахра).
Перед Фирдоуси должен был встать мучительный вопрос: что делать с поэмой (а ведь это означало: как жить дальше)? Вполне возможно, что поэт был вынужден покинуть родину, что еще более обостряло положение.
Бовейхиды — владыки западного Ирана, которому не угрожали бедствия востока и Хорасана, уже прославили себя в то время покровительством литературе как арабской, так и персидской. Можно допустить, что мысль о возможности найти достойных ценителей своей поэмы на западе должна была возникнуть в сознании поэта, а раз возникнув, привела к практическому действию. Попытка действия, если она имела место (будь то личная поездка, будь то посылка поэмы), не увенчалась успехом. В «Шахнаме» и вообще в источниках нет никаких следов связи поэта с бовейхидами. И если поглубже вдуматься в вопрос, понятно почему.
Бовейхиды — шииты, иранцы-шо‘убиты, на первый взгляд, они, казалось бы, должны были оценить «Шахнаме» и в эстетическом и, что решало вопрос, в политическом аспекте. Но именно потому, что бовейхиды были политиками, они не могли принять дар Фирдоуси.
Антитуранская тенденция для запада Ирана в то время была в значительной мере абстракцией, а не острым жизненным делом, как для Мавераннахра и Хорасана, причем не только для феодалов-политиков, но и для широких народных масс.
Антиарабская тенденция при установившемся внешнеполитическом положении (мирное пленение аббасидов) была прямо не приемлема для бовейхидов. При том значительная часть населения и подданных бовейхидов составляли арабизованные иранцы, арамейцы и арабы Ирака. И главное — народная тенденция, в равной мере не соответствовала интересам как западных феодалов, так и восточных.
Наконец, и эстетическое восприятие «Шахнаме», произведения, оформляющего переход литературы на национальный язык фарси (дари), было органически более близко широким демократическим кругам востока, так как запад в деле перехода литературы на национальный язык (идущий в своем литературном аспекте с Востока) отставал от востока, как отставал и в своем общественно-политическом становлении.
«Отречение» Фирдоуси от старой поэмы в предисловии к новой было бы понятней именно в эти, наиболее тяжелые и смутные годы. Психологически понятным было бы даже посвящение поэмы в так называемой «второй редакции» эмиру Хан-Ленджана близ Исфагана. Потеряв надежду на Запад, не видя еще ничего на Востоке, поэт мог просто в отчаянии отдать экземпляр поэмы (отнюдь не новую редакцию) приютившему его эмиру... Это было (если это было) в 998— 999 г. Дальше события развивались уже более или менее ясно: в том же 999 г. окончательно определилась судьба Востока. Султан Махмуд Газневидский становится владыкой, наследником прежнего саманидского, в идеале — всеиранского государства.
И счастье мое пробудилось от сна,
Воскресла душа, вдохновенья полна.
И понял я: слову пора зазвучать,
Минувшие дни возвратятся опять.
Не мастером только, учившим нас, был,
Владыкой он был, мы ж — рабами его![430]
Вопрос о действительном отношении поэтов Газны к автору «Шахнаме» — очень интересный и сложный вопрос, и мы к нему отчасти вернемся в следующей главе. Противоречия легенд друг с другом, а также легенд с реальной, исторической действительностью бросаются в глаза. Они, естественно, неустранимы. Но, вдумываясь в эти противоречия, сопоставляя их, видишь, что противоречиво отношение различных слоев общества к Махмуду, но едина оценка поэта и его поэмы. Один из первых «промахмудовских» вариантов легенды мы находим у Низами Арузи. Это — известный эпизод, включенный в текст «Чехар-Мекале» со ссылкой на источник — «со слов поэта Мо‘эззи». Там Махмуд, возвращаясь с войском из очередного похода в Индию, встречает на пути, в горном ущелье, крепость, запирающую выход. В ожидании ответа на свое предложение сдать крепость и дать проход войскам султан волнуется. Сопутствовавший ему везир «Хасан», Мейменди цитирует бейт:
Если ответ будет не тот, какого я жду,
То дело решит моя булава в бою с Афрасиабом
(дословно: я, палица, поле и Афрасиаб).[431]
Ушли блеск и слава Махмуда, теперь
Что знаем о нем? — что не смог оценить Фирдоуси он!
Помимо собственно легенд, в материалах-источниках есть много указаний на отдельные, в сущности, реально возможные факты, но они не связаны между собой, нередко противоречат друг другу, часто затуманены легендой. По существу, мы не можем ни принять их, ни с полной уверенностью отвергнуть. Вводить их в основу реальной биографии Фирдоуси мы не можем. Отметим еще, что они, эти возможные факты, как и легенды в целом, возвеличивают образ поэта, а не принижают его. В комплексе данных о Фирдоуси — реальных, сомнительных, легендарных — нет ничего порочащего благородный образ поэта. Так или иначе в действительных фактах, в туманном ореоле легенд, а самое главное в бессмертном творении перед нами во всем величии встает чистый, строгий, величественный образ поэта и невольно хочется сказать словами Пушкина:
«старца великого тень «чуем» смущенной душой».
IV. ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ФИРДОУСИ.
ПОЭМА «ШАХНАМЕ»
«Шахнаме» — не единственное произведение Фирдоуси, о котором можно говорить, обозревая литературное наследие поэта. Ему, автору героической эпопеи, приписываются несколько лирических отрывков, не связанных с «Шахнаме». Часть из них с большим или меньшим вероятием может быть признана принадлежащими Фирдоуси, другие — сомнительны, а иные и не могли быть написаны Фирдоуси. С именем поэта связана и большая романтическая поэма «Юсуф и Золейха» — само по себе значительное произведение, но благодаря новейшим исследованиям теперь преобладает мнение, что автор «Шахнаме» не был и не мог быть автором поэмы. Все эти данные и возникающие в связи с ними вопросы интересны и важны, так как исследователю творчества великих поэтов прошлого ценен и интересен любой штрих, при анализе которого полней и глубже раскрывается подлинный образ далекого автора или хотя бы некоторые его черты. Но говорить о литературном наследии Фирдоуси — значит прежде всего говорить о «Шахнаме». В настоящее время мы располагаем полным (в основном) текстом поэмы в многочисленных рукописях, в литографированных и печатных критических изданиях (не считая рукописных и изданных фрагментов, антологий и переводов поэмы). Одним словом, мы имеем книгу «Шахнаме» — памятник тысячелетней давности, доступный довольно широкому кругу даже европейских читателей. Эта книга, первая из дошедших до нас больших поэтических книг раннефеодальной литературы иранских народов, — композиционно законченное и гармоничное произведение. Книга открывается развернутым авторским «Введением», по своему построению совпадающим с аналогичными авторскими введениями эпических поэм классического и послеклассического периода феодальной литературы вплоть до XIX в. Основы этой традиции восходят к сасанидскому периоду истории литератур Ирана, отчасти, конечно, и к мусульманской арабоязычной литературе. Введение начинается естественным для глубокого Средневековье вступлением — «дибаче», призывом Божьего благословения на начало труда. Дибаче — своего рода поэтическое переложение формулы мусульманского благочестия — «Во имя Аллаха милостивого, милосердного». За ним следуют небольшие (10—15 бейтов) законченные фрагменты: характерное для автора «Восхваление Разума», а затем связанные между собой поэтические главки «О сотворении мира», «О сотворении человека», солнца, месяца... Традиционные в своей основе, эти фрагменты у Фирдоуси композиционно связаны с основным повествованием, что обычно отсутствует в позднейших, классических поэмах. Дав картину мироздания, Фирдоуси переходит к истории человеческого общества, к истории царей, «владык Ирана», вначале сливающихся с образами мировых владык вообще. Далее следует глава «Восхваление пророка и его сподвижников» — совершенно обязательная (и в этом смысле — традиционная) для автора-мусульманина. Бросается в глаза ее краткость (всего 63 бейта, включая, по-видимому, интерполированные суннитские бейты, относящиеся к Абубекру, Омару и Осману). Позднейшие авторы после восхваления аллаха обычно давали развернутое и расчлененное описание-хвалу Мухаммеда и его сподвижников. Апофеоз этого описания составляло чудесное вознесение пророка на небо («ми ‘радж») — своего рода образец риторической техники и «религиозного восторга» автора. Затем следуют интереснейшие фрагменты «Введения», касающиеся истории создания поэмы, источников ее и ряда частных моментов — «О происхождении книги царей», «О поэте Дакики», «О создании поэмы». Эта часть «Введения» также традиционна для всех классических поэм. В ней содержатся указания биографического, исторического характера и т. п. «Введение» заканчивается, — и здесь тоже традиция, — панегириком султану Махмуду из Газны. Но основному посвящению предшествует тепло написанный фрагмент «В похвалу Абу-Мансуру ибн-Мухаммеду», покровителю поэта в дни начала работы Фирдоуси над «Шахнаме». В самом тексте фрагмента имя восхваляемого не названо, но о нем говорится как о блестящем представителе старой дехканской аристократии, безвестно пропавшем в годы хорасанских междоусобиц и общей смуты конца X в. С чудесным мастерством, в стиле лучших хвалебных касыд, но в то же время с чувством меры, с достоинством и без подобострастия написано заключительное «Восхваление султана Махмуда». Последний бейт «Введения» прямо связывает его с основным повествованием. В тексте «Шахнаме» есть указание автора на объем поэмы — 60 ООО бейтов. Нет оснований сомневаться в точности этого указания, традиционного вообще для классической литературы. Но некоторые рукописи содержат значительно большее (до 80 ООО), иные меньшее (до 40 ООО) число бейтов. Следовательно, в тексте «Шахнаме» встречаются как интерполяции, так и купюры. Довольно рано, еще на заре изучения памятника, европейская наука установила и выделила явные интерполяции (например, частое включение фрагментов «Барзу-наме»). Современный условно-критический текст поэмы дается в объеме около 52 ООО бейтов. Дальнейшие работы по критике текста, вероятно, несколько уменьшат и эту цифру, возможно, не на одну тысячу бейтов. Очевидно, поэма в первоначальном виде до нас не дошла: около 10 ООО бейтов утеряно с малой надеждой на восстановление. Но это не нарушило цельности произведения. Трудно указать на явные лакуны или значительные повреждения текста. Другими словами, о «Шахнаме» Фирдоуси можно говорить как о произведении, сохранившемся в течение десяти столетий почти полностью. Особо, конечно, стоит вопрос об адаптации текста, но здесь огромный объем поэмы служит известной гарантией сохранения подлинного текста в целом. Вся поэма Фирдоуси построена как история царей, последовательно и преемственно сменявших друг друга на «престоле» Ирана, — от мифического Кеюмарса до исторического последнего сасанида Йездегерда III. По сути дела, это — история Ирана с древнейших, доисторических времен до завоевания Ирана арабами в середине VII в. н. э. В XI в. «Шахнаме» как история персов иногда противопоставлялась хронике Табари как истории арабов[432]. Не только в научно-популярной, но и в специальной литературе говорится о трех частях «Шахнаме»: мифологической, героической и исторической. Такое деление обосновано материалом и по существу правильно. Но формально «Шахнаме» не делится ни на указанные три, ни на какие-либо другие части, а представляет собой единое историческое повествование. Идет ли речь о мифическом Феридуне, легендарном Кей-Хосрове, Искендере-Александре, о действительно исторических сасанидах — Шапуре, Хосрове, Йездегерде и других, для автора и для его современников, а также для многих последующих поколений читателей и слушателей это — прежде всего история. Основным и формально имеющимся делением «Шахнаме», на первый взгляд, представляется деление на «царствования», естественное для книги, именуемой «книгой царей». Действительно, Фирдоуси ведет повествование в рамках царствований, правления сменяющихся владык Ирана, четко выделяя юридические моменты вступления на престол нового владыки, его смерть и др. Однако деление на царствования (всего от Кеюмарса до Йездегерда пятьдесят царствований, преемственно сменявших друг друга владык) не композиционное, а лишь формальное деление поэмы. На протяжении всей поэмы мы встречаем композиционно законченные дастаны (былины, повести, сказы) большей частью эпико-героического, иногда романтического содержания. Таковы, например, широко известные сказы о Ростеме и Сохрабе, о Ростеме и Исфендиаре, Бижене и Мениже, о Хосрове Первизе и Ширин и др. Многие из них в свою очередь входят в большие циклы сказаний, связанных с образами центральных героев — Ростема, Исфендиара, Бехрама-Гура. Иные дастаны лишь примыкают к таким циклам, подобно тому, как, например, русская былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике примыкает к циклу сказаний об Илье Муромце и киевских богатырях, а сказание о Невидимом граде Китеже — к общему циклу сказаний о татарской неволе и т. п. Нельзя сказать, однако, что «Шахнаме» структурно состоит из связанных между собой дастанов. Некоторые, особенно ранние царствования, также представляются законченным сводом преданий о каком-нибудь мифическом владыке, и в конце поэмы некоторые царствования — по существу, не более как один эпизод (например, 27 бейтов, посвященных месячному правлению предпоследнего владыки Ирана — Феррох-зада). Можно сказать, что сказы-дастаны, и большие повести, и маленькие — типа вставной новеллы, примыкающей к большому дастану (например, сказание о Шируйе и Ширин — жене Хосрова, сказание о Барбеде — певце-музыканте Хосрова и др.), вплетены в основную ткань повествования, но не являются композиционной основой поэмы. Само повествование, развертывающееся перед нами как бесконечная лента, в многочисленных, связанных между собой эпизодах, порой объединенных в пределах одного «большого» или «маленького» дастана и является основой «Шахнаме», а отдельные эпизоды — составными элементами этой ткани-основы. В тексте рукописей и печатных изданий «Шахнаме» имеются многочисленные заголовки и подзаголовки разделов, глав, фрагментов. Отмечаются все пятьдесят царствований с указанием срока правления каждого владыки Ирана; отмечаются сказы-дастаны; внутри этих сказов имеются еще и условные подзаголовки («Письмо Заля Саму», «Взятие Кареном крепости Эланан-деж», «Третий бой Ростема с Сохрабом» и т. п.). Если, анализируя содержание «Шахнаме», мы поставим вопрос о внутреннем делении поэмы на части, основанием такого возможного деления окажется соотношение моментов исторических с неисторическими. В конечном счете — это соотношение книги с источниками или, точнее сказать, с предисточниками Фирдоуси. «Шахнаме», казалось бы, с легкостью могла быть разбита на две основные части: историческую и легендарную, доисторическую. В действительности провести подобное деление не так легко. Легенды переплетаются в поэме с исторической действительностью так, что подчас невозможно установить необходимую грань, отделяющую их друг от друга. Отнюдь не следует думать, что это объясняется поэтической вольностью Фирдоуси или самим жанром поэмы. «Шахнаме», будучи поэтическим произведением, как было сказано, в своей основе есть версификация исторического свода, поэтическая история Ирана. В поэме находят отражение исторические представления современников Фирдоуси. Так же, в основном, представляли историю Ирана и последующие поколения, вплоть до рубежа феодальной эпохи, т. е. почти до середины XIX в. Как историческую твердо можно выделить только часть поэмы, касающуюся династии сасанидов. Только здесь налицо историческая последовательность развития событий, соответствие имен и основных фактов. Сасаниды (исторически — 226—651 гг. н. э.) — последняя из четырех династий владык Ирана, о которых идет речь в «Шахнаме». Гибелью последнего представителя этой династии, Йездегерда III заканчивается поэма. Исторически сасанидам в Иране предшествовала династия парфянских аршакидов, у Фирдоуси и в литературе восточного Средневековья вообще — ашканидов (ашканиан). Но истории мировой парфянской империи аршакидов, грозных соперников «Вечного Рима», огромному периоду с 240 г. до н. э. до 226 г. н. э. Фирдоуси посвящает буквально несколько строк (22 бейта). В них указывается, что и владык Ирана в этот период не было: в Иране были только местные цари племен, противопоставляемые шахам, а тем более шаханшахам («царям царей» Ирана). Соответственно и продолжительность этого периода определяется в 200 лет (включая селевкидов, т. е. исторический период от смерти Александра в 323 г. до н. э. до сасанидов — 226 г. н. э. Этот так называемый «аршакидский пробел» в «Шахнаме» — отнюдь не «вина» автора и даже не «вина» его основного источника. Парфяне (равно как и ахемениды) исчезли из народной памяти, правда, оставив незабываемый след в слове «пехлеван» — богатырь, встречающемся на каждой странице «Шахнаме»[433]. Объективно и поныне парфянский период — один из самых темных в истории Ирана и Средней Азии. До нас не дошли письменные памятники и, прежде всего, государственные архивы парфян — аршакидов[434]. По-видимому, новая династия сасанидов в своей более централизованной («упорядоченной», по выражению Ф. Энгельса[435]) империи сознательно стремилась уничтожить всякое воспоминание о свергнутых ими аршакидах, связав себя династически и традиционно с далекими легендарными кеянидами. Греческие же и сирийские источники мало говорят о парфянах, жителях далекого восточного Ирана. Равным образом и ахемениды, западноиранская персидская династия, возглавившая знаменитую мировую империю Древнего Востока, по существу забыта. Даже колоссальные памятники — развалины Персеполя, столь зримо нам напоминающие об ахеменидах, в Средние века именовались «Троном-Джемшида-Сулеймана» (Тахт-е Джамшид), т. е. возводились к временам мифическим. От времени ахеменидов сохранились монументальные клинописные памятники, расшифровка которых в XIX в. в сопоставлении с относительно обильными сведениями греческих авторов позволила с достаточной точностью и полнотой осветить этот период, тогда как о парфянах почти до нашего времени можно была сказать очень мало конкретного и достоверного. Лишь новейшие советские археологические работы (раскопки в Нисе) несколько-рассеивают этот парфянский мрак. Предшествовавшему мимолетному, но блестящему историческому периоду — македонскому завоеванию Ирана и империи Александра — Фирдоуси посвящает около 2000 бейтов (точно: 1949 основных бейтов в издании Вуллерса — Нафиси). Это больше среднего объема дастана (1000—1500 бейтов) и уступает (не считая огромных, но с включением ряда вставных дастанов, царствований Кей-Кавуса и Кей-Хосрова) только разделам о Хосрове-Ануширване (4526 бейтов), Гоштаспе (4414 бейтов), Хосрове-Первизе (4125 бейтов), Бехраме-Гуре (2600 бейтов), Сиявуше (2764 бейта) и сказу о двенадцати (2529 бейтов). Казалось бы, исторический образ Александра должен найти отображение и в версифицированной истории Ирана. На самом деле — это один из наименее историчных, насыщенный легендами и фантазией раздел «Шахнаме». Александр представлен не завоевателем, а законным владыкой Ирана — последним кеянидом. В средневековой мусульманской историографии вообще даны не действительные черты и факты, а эллинистический «роман об Александре» (основная обработка так называемого «Псевдокалисфена») с вариантами местных, специфически иранских и мусульманских легенд. И здесь налицо непримиримое противоречие между персидско-зороастрийской и мусульманской тенденциями в освещении образа мирового завоевателя, противоречие, отраженное в «Шахнаме». Таким образом, в разделе об Александре-Искендере мы видим только известную всем общую схему событий и несколько исторически звучащих имен: Дара (Дарий), Фейлекус (Филипп), Русталис (Аристотель), Фур (Пор — индийский царь). В «Шахнаме» нет упоминания об ахеменидах, исторических предшественниках парфян-аршакидов, селевкидов и Александра. Их место занимают кеяниды, династия, последним представителем которой оказался сам Искендер-Александр, а родоначальником — связанный происхождением с мифическими пишдадидами — Кей-Кобад, лицо, явно неисторическое, как и его преемники Кей-Кавус и Кей-Хосров. Эти первые кеяниды в «Шахнаме» выступают до появления Зороастра, что исключает возможность их сопоставления с ахеменидами. Высказывались предположения, что кеяниды могут быть сопоставлены с древними царями Бактрии. Кеяниды — перс, кейаниан, т. е. «владыки Ирана, титулуемые кей». Их всего десять. За Кей-Кобадом, Кей-Кавусом и Кей-Хосровом (о них говорится еще в Авесте) следуют: Лохрасп, Гоштасп, Бехмен, Хомай (дочь и супруга Бехмена), Дараб и его сыновья Дара[б] II и Искендер. С Гоштаспом связано появление пророка Зердешта (Заратуштры-Зороастра), с Дарабом II — македонское завоевание. Бросается в глаза отсутствие упоминания о Кире, Камбизе, Ксерксе, что одно уже делает невозможным отождествление кеянидов с ахеменидами. Кажущаяся возможность сопоставления Гоштаспа с отцом Дария I Гистаспом-Виштаспой (покровителем Зердешта), на деле отпадает, равно как и сопоставление Дарабов-Кеянидов с Дариями-Ахеменидами. Единственно в некоторых моментах Бехмен с прозвищем «Долгорукий» (Дараздаст) сопоставляется с ахеменидом Артаксерксом («Макрохейр» — у греческих авторов, Longimanus римских и даже некоторых арабоязычных). Это совпадение лишний раз подчеркивает невозможность общего сопоставления исторических «ахеменидов» с кеянидами «Шахнаме». Таким образом, кеяниды должны быть отнесены к героической части поэмы. Основа рассказов о кеянидах — восточные народные сказания, ставшие со временем общеиранским достоянием. Но в повествовании о последних представителях династии мы впервые находим западноиранские сказания и мотивы. Это и естественно, потому что история кеянидов все же смыкается с историей ахеменидов — персидской (из Фарса) западной династии. Первые кеяниды могут быть более четко сопоставлены с исторической жизнью восточного Ирана и Средней Азии, а не мидо-персидского запада. «История» Сиявуша в сопоставлении с новыми археологическими данными утверждает нас в этом предположении, равно как и отмеченный выше, но мифический в целом, характер упоминаний о кави в Авесте и пехлевийских комментариях. Что касается истории Искендера, то она находится, как было отмечено, вне общего цикла эпических сказаний Ирана. Предшествующая кеянидам, первая в «Шахнаме» династия владык Ирана, именуемая описательно — пишдадиды (пишдадиан), по-видимому, в смысле «основоположники справедливости». Это десять царей от Кеюмарса до, не менее туманного, Гершаспа. В «Шахнаме» они все представлены людьми, хотя и обладают еще чертами мифологических персонажей. По существу, в рассказах Фирдоуси о первых царствованиях дается картина постепенного перехода иранцев (человечества вообще?) от первоначальной животной дикости к началу цивилизации, которая, впрочем, вскоре оказывается и вершиной, так как, упомянув в первых рассказах о ношении барсовой шкуры, о добывании огня, о приручении домашних животных, автор в описании царствования Джемшида — «золотого века» — перечисляет все элементы цивилизации и культуры. Ведь после Джемшида ни о каком поступательном движении человечества на пути общего развития в «Шахнаме» не говорится. Если есть периодические колебания, приливы и отливы, то только в сфере морально-этической (периоды справедливости и тирании), а также внешне- и внутриполитической. Интересно отметить, что, если пехлевийские и арабские источники, в общем согласно с данными «Шахнаме» называют «первым царем Ирана» Кеюмарса (иногда с вариантом-уточнением: Кеюмарс — первочеловек, родоначальник, Хушенг—первый царь), то в поздних зороастрийских источниках (впрочем, явно базирующихся на каких-то древних преданиях) говорится о предшественниках Кеюмарса — царях-пророках, даже о четырех династиях, ему предшествовавших. Подобные представления связаны с зороастрийскими схоластическими построениями — теорией «циклов» (периодов, исчисляемых астрономическими цифрами столетий). В каждом цикле появляется особое поколение — народ, завершающий круг развития и оставляющий в конце цикла пару людей, воспроизводящую поколения следующих циклов. Так, по свидетельству «Дабистана» (пехлевийская книга, компиляция позднего мусульманского периода) видно, что происхождение человечества, собственно говоря, терялось в несчетных глубинах истекших столетий. Предания говорят о некоем Мехабаде и его жене (очевидно оставшихся от предшествующего, уже вполне неведомого цикла) — родоначальнике последующих поколений первобытных людей, обитавших в состоянии первоначальной дикости в расселинах скал и в пещерах. Мехабад, представляющийся в ореоле царя-первопророка, следуя «божественному указанию», просветил людей «истинной верой» (в Йездана), организовал их в общество, научил культуре земли, скотоводству, строению жилищ, началам искусства и ремесл... Время правления его преемников рисуется «золотым веком» человечества, но последний, тринадцатый потомок Мехабада — Азерабад отказался от власти и стал отшельником... Отсутствие власти царя-пророка привело к смутам, моральному разложению людей, которые постепенно, то возрождаясь с появлением каждой новой династии, то вновь падая, вернулись в первоначальное животное состояние. Наконец, по воле и милости Йездана был призван к власти Гельшах (гель — глина, прах) Кеюмарс, положивший начало новому циклу под эгидой преемников его — гельшахидов (гельшахиан), в свою очередь распределяющихся на знакомые нам по «Шахнаме» династии пишдадидов, кеянидов, ашканидов и сасанидов. Это искусственное, книжное построение кастовой жреческой мудрости позднего (сасанидского) зороастризма не нашло отражения в «Шахнаме», равно как и в народном предании. Исторические моменты можно найти на протяжении всей поэмы, в том числе и в древнейших, так называемых мифологических разделах-царствованиях. Так, разве в основе мифологического образа Зохака и его тысячелетнего царствования-тирании не лежит народное воспоминание о семитическом ассирийском владычестве над территориями западного Ирана? Или в более позднем образе кеянида Кавуса разве не отразилось исторически реальное распространение политического влияния царей — кави — востока на запад Ирана? Так что все дело, конечно, в степени историчности, в соотношении повествования «Шахнаме» с фактами реальной истории. В этом плане тройное деление «Шахнаме» на части может быть обосновано, тогда как упомянутое двойное деление не могло бы быть с достаточной четкостью проведено. Фирдоуси, конечно, передает не миф или легенду, а в конечном счете, основанное на них историзованное представление источников, но, несомненно, что эти, иногда отдаленные предисточники определяют и существо и, в значительной мере, форму повествования и даже язык поэта. Явно выступает мифическая основа повествования о первых царях — пишдадидах: Кеюмарсе, Хушенге, Тахмуресе, Джемшиде, Зохаке, Феридуне, отчасти и Менучехре. И в первоисточниках — яштах и гатах Авесты — мы находим прототипы имен и образов, а иногда и факты, так или иначе отраженные в поэме. С этими мифическими в основе образами поэмы, естественно, связываются некоторые предисторические представления, в общем виде сохранившиеся в народной памяти: смутные воспоминания о миграциях, о «золотом веке», о войне и мрачном периоде чужеземной тирании и т. п. Несмотря на отдельные реальные моменты, все же главное здесь — мифологическая основа повествования и характера героев. Таким образом, сверхъестественное, чудесное сочетаетсяв «Шахнаме» с элементами реальными — черта, общая для всей поэмы, характерная для ее стилевого своеобразия. Уже в эпизодах, относящихся к царствованию Менучехра, меняется характер повествования и образы действующих лиц — героев поэмы. Если раньше, в мифологической части, основной фигурой событий был сам царь, олицетворяющий собою Иран, то теперь царь часто остается лишь формальным представителем единства страны, а на первое место в действии выходят богатыри-«вассалы», образы которых порой затеняют даже самого «владыку Ирана». Борьба Ирана и Турана представлена (но не заменена) в героической части «Шахнаме» борьбой иранских и туранских богатырей. За богатырями стоят еще аморфные, но уже присутствующие в поэме массы. Некоторые действующие лица эпопеи и здесь имеют свои прототипы в Авесте: цари-кеяниды (Кей-Кобад, Кей-Кавус, Кей-Хосров и др.), герои (Сам, Исфендиар, туранец Афрасиаб и др.), но самых славных и основных имен героической части (Заля, Ростема, Сохраба и т. д.) в Авесте не найти. В былинно-героической, эпической части поэмы, иные предисточники: не мифы, а народные сказания-былины, отразившие и реальные в далеком прошлом события и реальных некогда героев, участников этих событий. Образы некогда живых людей с течением веков теряли индивидуальные черты, превращались в обобщенные народно-эпические образы. И не только отдельные образы народных героев, а даже целые сказания и циклы легли в основу поэмы Фирдоуси. Среди таких циклов особое место занимают так называемый систанский цикл о героях Систана: Саме (Гершаспе), Зале, Ростеме, его сыновьях (Сохрабе, Фераморсе и др.) и внуках. Систан (Сеистан) — древняя Сакастана, страна саков. Саки (т. е. скифы) заняли территории по низовьям реки Хильменд в глубокой впадине географического Ирана (современный Систан разделен политической границей Ирана и Афганистана). Саки принесли свои предания, постепенно оформившиеся в особый цикл. Сам-Гершасп и его внук Ростем — основные образы цикла. В «Шахнаме» образ Сама не получил полного отражения, но ему посвящена особая примыкающая к «Шахнаме» поэма Асади Тусского «Гершасп-наме» (XI в.). Образ же Ростема стал основным в «Шахнаме». С ним связано около трети всей поэмы Фирдоуси. О рождении Ростема повествуется в начале эпической части, а смерть Ростема в «Шахнаме» знаменует собой как бы конец героического былинного периода. Саки, обосновавшись в Иране и в известной мере территориально обособившись, все же вошли в круг объединенных иранских империй: ахеменидов (VI—V в. до н. э.) и сасанидов (первые века н. э.). Равным образом и богатейший систанский цикл влился в общий цикл иранских (преимущественно восточно-иранских) сказаний. Идея единства Ирана, в идеале Ирана сасанидов, определенно проведена в поэме Фирдоуси. Полностью сохранить цикл легенд и сказаний о Саме-Гершаспе означало бы создать образ, затмевавший «Владыку Ирана» Менучехра, а, следовательно, противоречащий принципиальной установке поэмы. Поэтому образ Сама как, «мирового богатыря» остался в «Шахнаме» как бы не раскрытым и противоречивым. С одной стороны, Сам подчиняется своему «суверену» Менучехру, с другой — подчеркивается фактическая самостоятельность Систана, а его владыка Сам выступает как опекун отнюдь не малолетнего и не нуждающегося в этой опеке Менучехра. В развитии образа Ростема, не только «мирового богатыря», но и верного вассала своего не всегда достойного суверена Кей-Кавуса, которого он явно затмевает, сказалась тоже систанская тенденция. Восхваление Ростема за счет снижения образа Кей-Кавуса — это не личная обработка поэта, а тенденция, закрепленная в источниках Фирдоуси. Былинно-героическая, собственно эпическая часть «Шахнаме» одновременно и наиболее изучена и наиболее широко известна. Она включает все подвиги Заля, Ростема, Исфендиара, такие — с мировой славой — эпизоды, как «Ростем и Сохраб», «Заль и Рудабе», «Бижен и Мениже», «Сказ о Сиявуше» и многие другие и выделяется как законченное целое, своего рода богатырская симфония Фирдоуси. Хронологически события этой части укладываются в рамки от правления последних пишдадидов до воцарения первых кеянидов. Появлением Заратуштры, религиозными войнами (новый аспект борьбы Ирана и Турана) и гибелью Ростема и Исфендиара, излюбленных героев народных сказаний, заканчивается эта часть. Иная, былинно-героическая основа повествования Фирдоуси определяет и его характер, оформление и некоторые стилевые приемы автора. В противоположность «мифологической» части, герои здесь не только цари, но даже чаще всего не цари. Персонажи былинной части — не мифические существа, а люди, обладающие сверхчеловеческой, но не сверхъестественной силой. Так, Ростем имеет силу слона. Однако он лишен способности перевоплощаться, делаться невидимкой и т. п. Чудесное, фантастическое здесь сочетается с реалистическим, что характерно для народного творчества. В мире народной фантазии рядом с героями живут и действуют и демоны, и пери, и чудовища-драконы и т. п. Ростем борется с дивами и одолевает их силой, отвагой, умом, хитростью. В его жизни, как и прежде в жизни его отца Заля, важную роль играет чудесная птица Симорг. Но какая разница в «воспитателе» Заля Симорге и «воспитательнице» Феридуна корове Бермайе! Последняя — туманный мифический образ, а Симорг — прямо чудесная птица народных сказаний, сказочный добрый гении рода Сама. Чудес в эпической части много, но они как бы< подчеркивают реальную человеческую сущность героев повествования. Началом последней исторической части «Шахнаме», по нашему мнению, следует считать раздел об ашканидах (аршакидах). Хотя-здесь всего 22 бейта посвящено аршакидам (и вместе с тем, историческим селевкидам), а перечисление нескольких имен не дает еще оснований для сопоставления событий поэмы с реальной историей парфянской державы аршакидов, но эти строки не содержат в себе ничего легендарного, а являются точным отражением раннесредневековых представлений об истории парфян. Большая часть раздела повествует о Сасане-Папаке-Ардешире и, независимо от реальности, в основных моментах полностью сопоставляется с историческими данными, как и вся последующая история сасанидов. Основа исторической части «Шахнаме», как и всех арабоязычных и новоперсидских исторических сводов, восходит к сасанидским анналам-хроникам и, по-видимому, к «Хватай-намак», а это в своей сущности, пусть официальный, приукрашенный, но уже исторический свод[436]. Сасанидская — наименее изученная и малоизвестная в целом часть «Шахнаме». В то время как многие эпизоды мифологической и особенно героической части «Шахнаме» пользуются мировой славой, и, можно сказать, популярностью в широких кругах читателей Запада, из сасанидской части знают только некоторые фрагменты сказов про Ардешира, Бехрама-Гура, Хосрова-Ануширвана, Хосрова-Первиза. Даже потрясающий трагический финал эпопеи — арабское завоевание и гибель династии-империи — почти не известен широким кругам. Надо сказать, что и на Востоке популярность сасанидской части поэмы не сравнима с популярностью, народностью и славой первых двух частей. В сущности говоря, это понятно: во-первых, самая тематика, в которой отразилась сокровищница основных народных сказаний, богатейший былинно-героический эпос народов Ирана и Средней Азии определяет интерес к героической части. Кроме того, блестящая обработка народных эпических сказаний осталась единственной в литературе иранских и других народов Ближнего и Среднего Востока, тогда как чудесные и часто тоже народные сказания, которые мы находим в последней части, кроме Фирдоуси, обрабатывались и позднейшими авторами. Так, циклы легенд и сказаний об Искендере-Александре, Бехраме-Гуре, Хосрове и Ширин, пусть в несколько ином плане, широко известны по гениальным поэмам Низами («Хосров и Ширин», «Семь красавиц», «Искендер-наме») и по блестящим обработкам тех же сюжетов Хосрова-Дехлеви (XIII—XIV в. — в Индии), Джами и Навои (в XV в. — в Герате) и многих других талантливых и широко известных соперников Низами-Хосрова. В науке неоднократно ставился вопрос о том, что по сравнению с первыми частями, последняя часть «Шахнаме» бедна и слаба. Объяснялось это упадком таланта автора, глубокого старца, исчерпавшего якобы себя и привычной рукой штампующего без порыва и вдохновения завершающие главы эпопеи. Надо прямо сказать, что для такого рода предположений, а тем более заключений, не имеется никаких оснований. Ведь отдельные разделы последней сасанидской части могли быть написаны раньше некоторых хронологически более ранних эпических сказаний, следовательно, старость поэта здесь не при чем. Кроме того, сасанидская часть «Шахнаме» отнюдь не придаток, округление, концовка всей книги, а ее существенная, столь же органическая, как и первые две, часть, а в композиционном плане, может быть, и кульминация поэмы. Так, если центральной фигурой и излюбленным героем поэмы (и самого автора) можно считать Ростема, то государственным идеалом поэта, воплощением образа идеального правителя является не столько Феридун или Джемшид, сколько сасанид Хосров (Кисра) Ануширван. Правлению Ануширвана посвящено 4526 бейтов поэмы (максимальный объем раздела — царствования). И вообще историческая (сасанидская) часть «Шахнаме» объемом свыше 18 ООО бейтов, (несколько более одной трети всей поэмы), разумеется, не может быть сочтена дополнением, придатком к основному повествованию. Все же изучена эта часть гораздо менее, чем мифологическая и героическая, и для развернутых окончательных суждений еще слишком мало оснований. Но для понимания поэмы Фирдоуси в целом необходимо и важно изучать сасанидскую часть «Шахнаме». Разумеется, историческая часть имеет свои особенности как внутренние (специфика содержания), так и внешние (язык, стиль), объясняемые в основном характером источников и предисточников Фирдоуси. В целом твердые рамки и схемы официальных исторических хроник ограничивали полет его творческой фантазии; отсюда сухость и однообразие отдельных эпизодов (отражение в версификации официальных штампов и стиля). Но ведь, с другой стороны, некоторые эпизоды блестяще развернуты Фирдоуси и насыщены народно-эпическими и лирическими элементами, что делает их достойными сравнения со ставшими классическими эпизодами первых частей. Думается, что здесь допустимо сравнение с другим великим памятником мировой литературы, бессмертной поэмой Данте Алигьери «Божественной Комедией». Мировая слава и широкая, массовая популярность итальянской поэмы, по существу — слава и популярность ее первой части — «Ада». Вторая часть «Чистилище» и, особенно, третья часть «Рай» не сравнимы по степени известности с «Адом» и как бы остаются в тени. Если можно выделить «Ад» как лучшую, наиболее яркую, пластическую и важную для нас, людей новейшего времени, часть поэмы, то вряд ли возможно ставить вопрос об упадке творческих сил Данте при создании «Рая» и, во всяком случае о второстепенности, дополнительном характере этой третьей части в композиции всей поэмы, в творческих планах и сознании автора — человека, еще только стоящего на грани средневековья и нового времени, а тем более его современников, людей средних веков. Примерно так надо подходить и к вопросу оценки «третьей» части «Шахнаме» и ее месте в поэме Фирдоуси в целом. «Шахнаме» Фирдоуси — монументальное эпическое произведение, героическая поэма, эпопея. Но сказать только так, в сущности не сказать еще основного, что действительно характеризует «Шахнаме». Конечно, эпический рассказ составляет основу поэмы. В нем естественно преобладают героическая тематика, сюжеты, батальные сцены. Однако даже в рамках героического повествования обрисовываются две, взаимно дополняющие друг друга стороны героического быта. Это — бой и пир. Бой (разм) единоборство, поединок, битва, а в широком смысле и подготовка к бою, тренировка (воинские забавы, игры, охота) и последующий заслуженный отдых — пир (базм) получили в поэме Фирдоуси многообразное отражение, не исключающее, однако, и законного эпического стандарта. Бой и пир (базм-о-разм) трактовались иногда как единственно достойное «благородных» героев жизненное дело. Герои Фирдоуси на первый взгляд, только воюют и пируют, пируют и воюют, как и классические европейские феодальные бароны. Такое поверхностное понимание «Шахнаме» свело бы гениальную поэму к произведению, не выходящему за рамки куртуазной литературы. Борьба героев Фирдоуси решает судьбы родины и народа. Вместе с тем в основном — героическом повествовании — поэт изображает различные стороны действительности. В повествовании о жизни, а «Шахнаме» — повествование о жизни, трудно исключить любовь, и в поэме Фирдоуси она занимает свое место. В героических сказах мы нередко видим эпизоды романтические, то как бы случайно вплетенные в кружево сюжета (как некоторые приключения Бехрама-Гура, встреча Сохраба с Гордафрид), то органически связанные с общим развитием повествования (встреча Ростема с Техмине, сказание о любви Хосрова и Ширин и др.). Помимо этих новелл (иногда миниатюр), включенных в основные героические сказы, в поэме встречаются и большие самостоятельные дастаны романтического содержания. Таких дастанов-повестей в «Шахнаме» меньше, чем героических. Но в общей композиции поэмы они столь же закономерны. Именно в этом сочетании элементов героических и романтических — композиционная и жанровая особенность поэмы Фирдоуси. «Шахнаме», как не раз было отмечено, — один из первых, а по цельности и объему — самый ранний памятник феодальной литературы на родном для современных персов и таджиков классическом языке. В последующей классической литературе Востока романтический эпос будет представлен рядом произведений широкой известности и большого значения. Первая из дошедших до нас романтическая поэма «Вис и Рамин», а также фрагменты поэмы младшего современника Фирдоуси — Онсори «Вамек и Азра» свидетельствуют о глубокой сасанидской, а, возможно, еще и парфянской — аршакидской традиции и в этом направлении. Романтический эпос, обособленный от героического и дидактического, занял прочное место в литературах восточного Средневековья, и по отношению к XII в. мы можем говорить о кульминации жанра в творчестве великих поэтов Закавказья — Низами из Гянджи и Шота из Рустави. Романтические дастаны Фирдоуси, обособленные, композиционно законченные, взятые сами по себе, вне рамок «Шахнаме», не являются, конечно, звеньями в общей истории романтического эпоса как особого жанра, но своим существованием утверждают эту традицию. Эти дастаны Фирдоуси можно назвать своего рода романтическими повестями в сопоставлении с романтическими поэмами-романами Низами и других позднейших авторов. Условное, конечно, наименование подчеркивает сравнительную с поэмами Низами простоту, несложность содержания и сюжета романтических дастанов-повестей Фирдоуси. «Романы» Хосрова и Ширин, Тариэла и Нистандареджан, Юсуфа и Золейхи и даже Лейлы и Меджнуна сложнее, прихотливее и в целом глубже «повестей» Фирдоуси. Неоднократно указывалось на статичность образов и характеров «Шахнаме» и на динамичность их у Низами и у так называемых «подражателей» Низами. Эти положения не следует, однако, механически, без оговорок, распространять на Фирдоуси и его «Шахнаме». Если взять первый из дошедших до нас памятников романтического жанра на новоперсидском языке — поэму «Вис и Рамин» Ф. Горгани (середина XI в.), то увидим здесь сложность содержания и элементы динамического развития характеров (несомненно, в отношении образа Вис). Сюжетная основа «Вис и Рамин» восходит к сасанидскому, а вернее всего к парфянскому времени. Следовательно, и в прошлом могла быть и была сложность композиции (сюжета и внутренних коллизий). Разумеется, большей глубины, психологизма, динамичности образов и т. п. отрицать в творчестве величайших представителей более позднего времени не приходится. Так ведь и должно быть. Но дело, конечно, не в том, чтобы защитить или упрекнуть и вообще сравнивать в достоинстве великих представителей разных эпох, а в том, чтобы правильно понять и объективно установить определенные интересующие нас моменты в содержании «Шахнаме» и творчестве Фирдоуси. Дело, конечно, не в особенностях поэтического мастерства Фирдоуси или в степени его таланта и даже не в том, что Фирдоуси жил на рубеже X—XI вв., а не в XII или в XV в. «Романтические повести» Фирдоуси — не самостоятельные произведения особого жанра, а органически входят в ткань всей поэмы — эпико-героической в своей основе и, естественно, подчиняются стилю целого. Отсюда и их сравнительная простота и относительная несложность содержания, отсюда в основном и статичность характеров при большой глубине, тонкости и своеобразной реалистичности описаний. И это один из моментов, характеризующих творческий метод, стиль автора «Шахнаме» и, вместе с тем, особенности самой поэмы в ее жанровой специфике. Действительно, если бы в романтических дастанах ситуации и характеры были углублены, усложнены, динамизированы, то это, несомненно, приблизило бы «повести» Фирдоуси к «романам» Низами, Руставели и других позднейших авторов. Но тогда эти «романы» нарушили бы композиционное и стилевое единство всей поэмы, не были бы органически связаны с эпико-героической основой «Шахнаме». Многообразием дастанов не исчерпывается композиционная характеристика «Шахнаме». Помимо основного повествования, в ткань поэмы введены многочисленные так называемые лирические отступления автора. Они тоже композиционно сочетаются с основным повествованием и являются одной из характерных жанровых особенностей «Шахнаме». Эти лирические отступления многообразны по содержанию и, взятые в целом, могут быть предметом особого пристального внимания: и сами по себе, и как нераздельная часть поэмы. Все лирические фрагменты внешне не выделяются из общего ритма поэмы. Это не вставные газели, касыды (оды, элегии), четверостишия (робаи), а тот же месневийный поток общего повествования. Но они могут быть разделены на группы: во-первых, лирические отступления, связанные с посвящением поэмы; во-вторых, дидактические и философские фрагменты (их можно было бы объединить в одну группу); наконец, в-третьих, отступления личного характера. Лирические фрагменты, связанные с посвящением поэмы султану Махмуду Газневидскому, даже в «Шахнаме» — первой книге иранского средневековья — уже традиционны. Официальные, совершенно обязательные панегирики рассеяны на всем протяжении поэмы. Такая повторяемость, конечно, была необходима, так как огромная поэма могла читаться и читалась не подряд, а отдельными эпизодами, сказами. В силу этого традиция требовала многократного напоминания о посвящении. Прежде всего, следует указать на основное посвящение — касыда в форме месневи, традиционно завершающее общее введение. В этом посвящении Фирдоуси показал свое блестящее профессиональное мастерство, но, отдавая необходимую дань традиции, полностью сохранил собственное достоинство не в пример многим и многим своим современникам и, особенно, позднейшим классическим панегиристам. Далеко не всем из них (речь идет, конечно, о крупных поэтах) удавалось, кланяясь, не пресмыкаться. Во всей поэме, почти в каждом значительном эпизоде, рассеяны посвящения, иногда сочетающиеся с фрагментами философско-дидактическими или личными, иногда являющиеся самостоятельными вставками. Часто объем их очень невелик, всего один-два бейта;О ты, что, как солнце, блестишь в вышине,
Скажи, отчего не сияешь ты мне?
Часть этих оформляющих фрагментов, подобно приведенному, безлична, т. е. могла бы быть обращена как комплимент к любому покровителю, другие являлись прямым обращением к Махмуду или прозрачным намеком на султана. Дидактические и философские фрагменты «Шахнаме» трудно выделить в разные группы, но, по существу, они должны бы четко различаться как по содержанию, так и по формальным моментам. Собственно дидактические фрагменты были традиционными в основном источнике и пехлевийских предисточниках Фирдоуси. Дидактика исключительно богато представлена в пехлевийско-сасанидской литературе. Здесь была масса произведений дидактических жанров, которые переводились или использовались арабоязычной литературой халифата VIII—IX вв. Кроме того, необходимо отметить, что вся пехлевийская литература, независимо от жанров, была насыщена дидактикой. Это имело прочную основу и в традиции книжной и народной мудрости, и в сопутствующих влияниях индийских («Панчатантра», «Калила и Димна» и др.) и греческих (Эзоп) басен и сказок. Дидактические вставки — концовки часто имелись уже в источниках и предисточниках Фирдоуси и просто были сохранены при версификации основного свода. С основным эпико-героическим (порой романтическим) повествованием сочетаются моральные сентенции, иллюстрированные эпическим басенным, большею частью, примером. Таким образом, в героической поэме «Шахнаме» явственно проступают черты дидактического эпоса, столь богато представленного и в позднейшей классической, особенно в суфийской литературе (Сенаи, Аттар, Са'ди, Дж. Руми, Джами). Философские фрагменты примыкают к собственно дидактическим, иногда сочетаются с ними, но так или иначе выделяются и в композиционном плане, и в отношении содержания. В них больше личного, чем в собственно дидактических вставках. Но было бы крайностью утверждать, что философские фрагменты всецело принадлежат автору версификации. В некоторых случаях они были, вероятно, в источниках. Фирдоуси. Во всяком случае, введение их в поэму вряд ли можно рассматривать как новинку, инициативу поэта. Фирдоуси максимально использовал и этот традиционный момент, органически слил отступления с повествованием и, сохранив основное направление, развил, углубил, многое — заострил. Философские отступления Фирдоуси обычно являются завершением раздела: сказа-дастана, «царствования», значительного эпизода. В ряде случаев они даны вначале (как бы философское введение в повествование), а иногда как бы включены в самое повествование. В них автор выражает свое отношение к событиям. Нередко это отношение выливается в яркие протестующие, иногда негодующие строки, хотя преобладающий общий тон их — спокойная объективная мудрость человека, знающего мир и способного и желающего научить других этому знанию и пониманию жизни. Да, Фирдоуси знает мир и чувствует свое право говорить о нем. Силу и спокойную уверенность дает ему великое знание жизни: Фирдоуси прожил долгую жизнь, обладал большим личным опытом и авторитетом почти столетнего старца. Но Фирдоуси прожил еще другую — и неизмеримо большую жизнь. Ведь он жил со своими героями, их мыслями и чувствами. Перед его умственным взором прошли века, тысячелетия; сменялись людские поколения, как лес, ежегодно меняющий листву, да и сам рождающийся, растущий и погибающий, чтобы дать место новому... «Gleich wie Blatter im Walde, so sind die Geschlechter der Menschen»[437] И эта многовековая жизнь Фирдоуси — тоже его личная жизнь, личный опыт поэта-мудреца, каким он остался в памяти народа. В его словах нашли свое отражение мудрость и жизненный опыт людских поколений. А это придает словам Фирдоуси исключительную силу и мощь. Что же составляет содержание философских отступлений? При относительном разнообразии все они, по существу, являются вариантом основной мысли о закономерности вечного круговорота событий, неизбежности конца того, что имело начало здесь, на земле, т. е. мысли о неизбежности смерти. Основное положение — о тщете земного величия, о неизбежности страшного конца, к которому надо быть готовым, — варьируется в различных образах-картинах. Смерть — общий удел, но человек должен остаться в памяти людей, мира в своем добром имени, славе, побеждающей самую смерть, в слове, которое сильнее смерти. Особую силу и убедительность этим мыслям придает постоянно подчеркиваемая всеобщность мирового закона исчезновения, смерти. Закон один и для великого владыки — «пастыря», и для «последней овцы в стаде» — ничтожного раба. Поэма Фирдоуси завершается мрачными аккордами, сопровождающими агонию и гибель страны-государства Ираншехра. Казалось бы, при высоком художественном воплощении это должно сделать «Шахнаме» одним из ярких и монументальных памятников мировой скорби. Действительно, в поэме Фирдоуси много элегической грусти, особенно при описании конца Ираншехра, но, по существу, нет безнадежности, пессимизма, отрицающего смысл существования, борьбу за лучшее, самую возможность этого лучшего. И если элегический пессимизм философских фрагментов поэмы бесспорен, то все же не он является основным в мировоззрении Фирдоуси. В самом деле, элегический пессимизм Фирдоуси не схож с удручающим пессимизмом буддизма, который во всяком возникновении уже видит уничтожение. Основная идея буддизма — это понимание жизни как вечного страдания и принципиальное утверждение идеала небытия. Буддисты не только отрицают дело («карма»), в том числе и доброе дело, но и волю к нему («кама»). Часто встречающиеся в поэме выражения: «тленный мир», «дом бедствий» и тому подобные — не мистическое отрицание ценности мира, какое мы видим уже у близких ко времени жизни Фирдоуси суфиев XI—XII вв., а тем более в позднейшем реакционном суфизме. У Фирдоуси нет этого отрицания жизни, а если порой, на первый взгляд, кажется, что есть, то при сопоставлении отдельных фрагментов со всем контекстом произведения кажущаяся возможность такого предположения исчезает. Разве можно говорить о глубине и безнадежности пессимизма и главное об отрицании стремления к добру, читая такие строки:
Не ангелом был Феридун в небесах,
Не мускус, не амбра — он тот же был прах,
Но щедростью, правдой достиг высоты, —
Будь праведен, щедр — Феридун будешь ты.
или слова Иреджа, обращенные к братьям-убийцам
Букашки не тронь ты под ношей зерна,
Ведь жизнью своей дорожит и она.
Условна грань и между собственно философскими и личными фрагментами поэмы. Личные моменты довольно значительны в философских фрагментах «Шахнаме». Равным образом в личных фрагментах часто появляются философские раздумья. Биографические фрагменты в основном могут быть сведены к двум группам. К первой из них относятся фрагменты, в которых Фирдоуси говорит о себе, большей частью о все возрастающих с годами трудностях жизни. В отступлениях Фирдоуси почти не содержится конкретных фактов личной жизни поэта. Исключением является лишь знаменитая элегия на смерть сына, включенная в главы последней — сасанидской — части поэмы. Это — маленький лирический шедевр, один из лучших образцов подобного жанра в классической литературе восточного Средневековья. Глубина и сила чувства в сочетании с искренностью и простотой выражения трогают и современного читателя. Искренне, без риторики звучат и другие личные отступления поэмы:
Вой бури... земля дрожит...
Благо тому, чье сердце радостно и спокойно,
У кого есть деньги, хлеб, вино и сладость к нему,
Кто может зарезать к столу барана...
У меня нет, а счастлив тот, у кого есть.
Смилуйся, Господи, над бедняком...
..........................................................................................
Я слаб, как хмельной, от своих шестидесяти шести лет.
Вместо поводьев — у меня в руках посох,
Тюльпаноцветные щеки стали желтыми, как солома...
Подобными камфоре, седыми стали мои когда-то черные волосы,
От старости сгорбился прямой стан,
Да и в глазах-нарциссах уменьшился блеск...
Другую группу личных отступлений поэмы представляют отрывки, где Фирдоуси говорит о значении и величии своего труда. Только могущество слова преодолевает общий удел — исчезновение. Слово сильнее смерти, в нем вечность. Память не только о сказанном, но и о сказавшем — авторе книги, завершившем большое и нужное, доброе дело, — не умрет, а будет жить в веках. Наиболее яркое воплощение эта мысль нашла во фрагменте, который называют часто «Памятником» Фирдоуси, имея в виду сходство мотивов и их образного выражения с «Памятником» прежде всего Горация (конец I в. до н. э.), а, следовательно, и с целой серией и предшествующих (Пиндар V—VI вв. до н. э.) и последующих вариантов и отражений «Памятника» в творчестве ряда поэтов мира вплоть др гениального пушкинского: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» У Фирдоуси вставной панегирик султану Махмуду заканчивается стихом, где говорится, что автор служил Махмуду, посвятив ему «Книгу царей», чтобы оставить по себе в мире память:
Придут в разрушенье постройки людей
От яркого солнца лучей и дождей.
Стихами воздвиг я высокий чертог,
Чтоб дождь или ветер осилить не мог.
Века пронесутся над книгой — прочтет
Ее всяк живущий, в ком разум живет...
Мотивы «Памятника», не менее ярко и четко выраженные, встречаются неоднократно на протяжении всей поэмы.
От человека не остается ничего, кроме того, что можно сказать о нем.
Если я умру, сохраняя доброе имя, — хорошо,
Мне имя доброе, слава нужна, так как тело — во власти смерти...
И в конце сказания о Зохаке —
Лишь слову сберечь твое имя дано,
Чти слово, поверь, не бессильно оно.
Мы не знаем точно последовательности обработки отдельных частей «Шахнаме», но, естественно предположить, что «Памятник» в сравнительно раннем разделе книги оформлен и внесен относительно позднее, вероятно, при окончательном оформлении махмудовской редакции 400 г. Хиджры (1010 г.). «Шахнаме» заканчивается повествованием о смерти последнего владыки Ирана и прекращении династии, после чего следует небольшое заключение — концовка поэмы, где мы находим, в частности, указания на возраст поэта (близкий к 80 годам), продолжительность работы над поэмой (35 лет), дату завершения «Шахнаме» (400 г. Хиджры) и количество бейтов. Завершающие поэму горделивые строки звучат:
Труд славный окончен. В родимой стране
Не смолкнет отныне молва обо мне.
Не умер я, жив, — пусть бегут времена —
Недаром посеял я слов семена.
И каждый, в ком разум и мысли светлы,
Почтит мою память словами хвалы.
В некоторых рукописях, а также печатных и литографированных изданиях «Шахнаме» к основному тексту приложен текст так называемой «Сатиры на султана Махмуда». В настоящее время можно считать твердо установленным, что эта «Сатира», приписываемая автору «Шахнаме», в основном грубая подделка, замаскированная стихами, действительно принадлежащими Фирдоуси, имеющимися в тексте поэмы. Если Низами Арузи (XII в.) приводит в «Чехар-Мекале» только шесть бейтов сатиры, «единственно сохранившихся», то в рукописях XIV в. появляется уже 42 бейта и более, а позднее объем сатиры превысил и сотню бейтов... «Сатира» буквально росла на глазах. Каждая новая переписка давала лишние бейты. Иногда контекст предисловий наглядно говорит о последующих интерполяциях. Так, в предисловии одной из старых рукописей «Шахнаме» при рассказе о сатире после слов: ин чанд бейт бегофт, т. е. «сказал следующие несколько бейтов» — даны 42 бейта. Объем, явно не соответствующий слову «несколько» (чанд). Впечатление, что сатира была смонтирована из разных произведений, подкрепляется следующими фактами. В традиционном тексте сатиры мы находим бейты, связанные с панегирическими в честь Махмуда фрагментами поэмы (например знаменитый «Памятник»). В ряде бейтов перечисляются герои «Шахнаме», но сами стихи оказываются нейтральными по отношению к собственно сатире. Их количество могло бы быть безгранично увеличено. Еще существенней то, что остальные стихи в большинстве художественно слабые и никоим образом не могли принадлежать Фирдоуси. Но, отвергая сатиру и как биографический факт и, главное, как произведение Фирдоуси, мы тем самым не снимаем вопроса о глубокой принципиальной сущности конфликта поэта и султана, а вместе с тем, о потенциальной возможности литературного отражения его в словах самого поэта, но, вероятно, в форме, да и по существу содержания не совпадающей с «сатирой». И, по-видимому, не о «сатире», а о каком-то противоречии между поэтом и султаном говорят в высшей степени интересные фрагменты газневидских поэтов ‘Онсори, Феррохи, Мохтари. Фирдоуси в своей поэме остался верен народной основе сказаний и, по-видимому, принципиально не пожелал их приспособить к потребностям и вкусам господ положения, царственных и вельможных меценатов нового феодального типа. В этом смысле знаменательно самое раннее, хоть и краткое, не сравнимое с рассказом автора «Чехар-Мекале», упоминание о Фирдоуси в литературе — в «Истории Систана» анонимного автора XI в. Здесь говорится, что султан Махмуд, слушавший «несколько дней» чтение «Шахнаме», заметил, что вся, мол, поэма — это сказ о Ростеме, а у него, султана, есть в войске «тысячи таких, как Ростем». Фирдоуси почтительно, но твердо возразил, что он не знает, сколько в войске султана героев, но знает твердо: с тех пор как стоит вселенная, всевышний Бог не создал никого, подобного Ростему, поцеловал «землю служения» и вышел. «Что же, этот «человечишка» (мардаке) обозвал меня лжецом?» — воскликнул султан, когда осознал происшедшее. — «Надо убить», — услужливо подхватили везир и окружающие, но Фирдоуси уже покинул город. Автор так заканчивает свое сообщение: «Сказал, даром свой труд загубил, ушел, не получив никакой награды, так и умер на чужбине»[438]. Здесь все значительно, и все возможно и легендарно в одно в то же время. Нам представляется этот рассказ полным глубокого смысла и как бы наглядно резюмирующим сущность конфликта поэта и султана. Не случайно здесь речь идет о Ростеме[439]. Ведь именно он воплощает в поэме Фирдоуси стихийную непреодолимую мощь народа. Он — мировой богатырь, оплот и неоднократный спаситель страны и престола. Он — своевольный и сознающий свое достоинство и силу вассал, верный, в конце концов, законной власти обладателя фарра, но слишком вольно порой, с сознанием своей силы и права обращающийся со своим сюзереном Кей-Кавусом. Такого Ростема, конечно, не мог принять султан Махмуд, утверждавший власть одного самодержца над прочими — рабами. За Ростемом в глазах султана стояли образы не всегда покорных, а порой и прямо не покорных власти героев-повстанцев, вплоть до вождя восставшего народа — Каве.
ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФИРДОУСИ
«Шахнаме» полностью определяет творчество Фирдоуси, но не исчерпывает его. Можно говорить о Фирдоуси, как об авторе поэмы «Юсуф и Золейха», а также отдельных лирических фрагментов. Касаясь вопроса о времени возможного сочинения второй поэмы Фирдоуси, мы уже оговаривали сомнения в принадлежности ее автору «Шахнаме». Действительно, об авторстве Фирдоуси, правда, весьма определенно, как о факте общеизвестном, говорит впервые поздний источник — Байсонкоровское предисловие XV в. (1425—1426 гг.). В самой поэме, как, впрочем, и в «Шахнаме», нет упоминания имени Фирдоуси, но автор во «Введении» говорит, что он «пресытился» Феридуном, Кей-Хосровом и другими героями эпоса, что ему жаль «половины жизни своей», посвященной возвеличению Ростема. Трудно было не признать в авторе Фирдоуси. В дальнейшем, можно сказать «молчаливым согласием», авторство Фирдоуси было закреплено в специальной литературе, в частности, авторитетом Т. Нёльдеке, а из ученых Ирана — Таги-заде, рядом литографированных изданий XIX—XX вв. (Лакнау, Бомбей, Тегеран) и, наконец, европейским сводным критическим изданием Г. Эте (Оксфорд, 1908 г.). К сожалению, опубликован только первый том — примерно половина текста (3697 бейтов) — до кульминационной «сцены обольщения» включительно. Оспорить принадлежность поэмы «Юсуф и Золейха» Фирдоуси, пожалуй, было труднее, чем доказать это. Основной аргумент в пользу авторства Фирдоуси — трудность допустить, что автор такой значительной для раннего Средневековья поэмы остался анонимным. Но отсутствие прямых указаний в тексте поэмы, молчание старых источников, разница в языке, стиле, идеологии новой поэмы порождали сомнения. Сомнение, перешедшее у некоторых иранских ученых в полное отрицание авторства Фирдоуси, — дело почти наших дней. Такая точка зрения, базировавшаяся на использовании нескольких не известных ранее рукописей поэмы (в том числе не известных и издателю текста Г. Эте), была высказана А. Гарибом, М. Минови и закреплена авторитетом Саида Нафиси[440]. Если суммировать их выводы и доводы, то окажется: переписчик, загипнотизированный упоминаниями о Феридуне и других эпических героях, приписал поэму Фирдоуси, но язык поэмы, ее тематика, стиль резко контрастируют с «Шахнаме», являя черты более позднего времени (сельджукского периода XI—XII вв.). Кроме того, в одной из рукописей, не использованных Г. Эте, есть обращение к некому эмиру-покровителю, которого легко отождествить с историческим Тоган-шахом, сыном сельджукида Алп-Арслана, правителем Хорасана в 476 г. Хиджры (1083 г.). Дата явно выходит за возможные пределы жизни Фирдоуси. Объективно ценны указания на значительные расхождения в оформлении рукописей поэмы. В частности, некоторые даты читаются по-иному, упоминавшийся Моваффак отождествляется не с бовейхидским везиром конца X в., а с деятелем сельджукидского периода (XI в.). Одним словом, утверждается, что «Юсуф и Золейха» ни в коем случае не принадлежит Фирдоуси как произведение конца XI в., к тому же слабое, а потому и забытое позднее. Наконец, Саид Нафиси указывает на одно место в лично ему принадлежащей рукописи поэмы, которое, по его убеждению, дает указание на имя автора: где [ ] (не понятое А. Гарибом и М. Минови по своим рукописям) следует понимать [
] (не понятое А. Гарибом и М. Минови по своим рукописям) следует понимать [ ], как имя автора — Амани.
На наш взгляд, все эти интересные соображения не имеют безусловной доказательной силы, и вопрос об авторстве Фирдоуси оставляют открытым.
Совершенно очевидно, что в рукописях и литографированных текстах поэмы имеются существенные расхождения. До окончательного текстологического обследования варианты той или иной рукописи с равным основанием могут считаться интерполяциями, и сейчас трудно разобраться в том, что принадлежит автору, а что переписчику текста.
Указание на то, что язык «Юсуфа и Золейхи» отличается от языка «Шахнаме», ничего не доказывает. И в «Шахнаме» язык «Искендер-наме» отличается от языка мифологической части, и естественно, что религиозно-романтическую поэму, связанную с Кораном, Фирдоуси и не мог писать таким же языком, как эпическое сказание о Ростеме и Феридуне. Так что ссылки на разницу в языке до полного обследования и решения вопроса о языке «Шахнаме» вообще неубедительны (а тем более в сопоставлении с необследованным языком «Юсуфа и Золейхи»),
Наконец, об остроумном чтении имени «Амани» Саидом Нафиси. По-видимому, это — имя, но оно может принадлежать и переписчику, и интерпретатору и т. п. Возможно, это интерполяция. Нам представляется, что если это имя автора, то оно не могло бы быть забыто. Здесь мы подошли к наиболее важному моменту: оценке достоинств поэмы.
По обобщающему суждению Саида Нафиси, в основном совпадающему и с отзывами западноевропейских ученых, поэтические достоинства поэмы невелики, а потому и она, и автор ее «справедливо забыты». В данном случае мы скорее склонны присоединиться к мнению советских исследователей Е. Э. Бертельса и К. И. Чайкина. Е. Э. Бертельс отмечает поэтические достоинства поэмы «даже рядом с таким блестящим созданием, как «Шахнаме» («А. Фирдоуси», стр. 63), и говорит, что «внимательное изучение «Иосифа и Зулейхи» заставляет решительно отклонить утверждения о неудачности этой поэмы» (сборник «Фердовси», стр. 117). К. И. Чайкин (сборник «Восток», стр. 87) считает, что «пренебрежительная оценка, часто даваемая ей европейскими ориенталистами, несправедлива. Поэма написана с большой простотой... и большой силой в драматических эпизодах». Кульминационпый момент поэмы («сцена обольщения») свидетельствует о большом мастерстве в сочетании с известной простотой изложения. Одним словом, поэма «Юсуф и Золейха» могла быть написана Фирдоуси и, будучи написанной им (вспомним возможные обстоятельства написания поэмы до обращения в Газну), никоим образом не снизила бы нашего представления о силе и мастерстве автора «Шахнаме».
Так что, если бы некий Амани, оставшийся безвестным, и написал поэму об «Иосифе и Золейхе», то вряд ли бы он мог не упоминаться в преданиях и в классической литературе, в то время как тазкире порой сообщают нам имена авторов нескольких удачных бейтов.
В XV в. Джами, «последний классик Ирана», создал блестящую и весьма популярную поэму «Юсуф и Золейха», не упоминая о своем предшественнике, будь то Фирдоусй или Амани. Это была книга, использовавшая тот же библейско-коранический сюжет, но написанная на иную тему. У Джами — философски-суфийская тема всепобеждающей любви, рожденной отблеском извечной красоты. У Фирдоуси (?) основная тема — внутренний рост чистого юноши Иосифа. И раскрыта она, на наш взгляд, с поэтической силой в мастерством.
Можно еще отметить, что успех и популярность обработки Джами не исключили более позднего обращения к поэме Фирдоуси как к источнику подражания. Так, интересная и в наши дни, популярная одноименная поэма Назима Хератского (XV в.) отталкивается в своем «подражании-соперничестве» от поэмы, по-видимому, написанной Фирдоуси.
Кроме поэмы «Юсуф и Золейха», автору «Шахнаме» приписываются еще отдельные лирические фрагменты и даже целые стихотворения — «касыды». Речь идет не об отдельных стихах из «Шахнаме» (или якобы из «Шахнаме»)[441] и не о фрагментах какого-либо иного эпического месневи, а о лирических по форме (монорифмических) строках и цельныхстихотворениях. Разумеется, Фирдоуси мог и должен был вообще писать подобные, не связанные с «Шахнаме», стихи. Так что нельзя a priori отрицать его авторство на том основапии, что Фирдоуси не был автором «Дивана». Последнее бесспорно: мы уже говорили, что Фирдоуси не выступал как профессиональный поэт и своего «Дивана» не имел. Никто ему этого и не приписывает, но источники и ранние и поздние дают лирические отрывки с именем Фирдоуси. Еще в конце прошлого века неутомимый библиограф, знаток и исследователь рукописей Г. Эте выбрал из различных рукописных источников (антологии, биословари, тазкире и т. п.) пятнадцать таких стихотворений и опубликовал в 1872 и 1873 гг. в Мюнхене под заголовком «Firdawsi als Lyriker». Если к ним прибавить еще несколько фрагментов, опубликованных в персидском журнале «Эрмеган» в 20—30-е годы и извлеченных из старых рукописных сборников Бехаром, Вехидом Дестгерди и другими, то в нашем распоряжении будет около двух десятков лирических фрагментов, приписываемых Фирдоуси.
Среди, этих фрагментов и цельных стихотворений (четверостиший и даже касыд) часть явно и по языку, и по содержанию, и по стилю не могла быть написана автором «Шахнаме», часть производит впечатление поздних отзвуков анонимных стихотворцев на легенду о Фирдоуси и на «мотивы» «Шахнаме». И только единичные фрагменты могут с известной долей вероятия быть признаны принадлежащими Фирдоуси. Так, трудно отрицать принадлежность Фирдоуси следующего, основанного на указании нескольких источников (иногда дополняющих друг друга) лирического стихотворения, написанного, как и «Шахнаме», размером «мутакариб» и опубликованного еще в 1774 г. с именем Фирдоуси[442]:
], как имя автора — Амани.
На наш взгляд, все эти интересные соображения не имеют безусловной доказательной силы, и вопрос об авторстве Фирдоуси оставляют открытым.
Совершенно очевидно, что в рукописях и литографированных текстах поэмы имеются существенные расхождения. До окончательного текстологического обследования варианты той или иной рукописи с равным основанием могут считаться интерполяциями, и сейчас трудно разобраться в том, что принадлежит автору, а что переписчику текста.
Указание на то, что язык «Юсуфа и Золейхи» отличается от языка «Шахнаме», ничего не доказывает. И в «Шахнаме» язык «Искендер-наме» отличается от языка мифологической части, и естественно, что религиозно-романтическую поэму, связанную с Кораном, Фирдоуси и не мог писать таким же языком, как эпическое сказание о Ростеме и Феридуне. Так что ссылки на разницу в языке до полного обследования и решения вопроса о языке «Шахнаме» вообще неубедительны (а тем более в сопоставлении с необследованным языком «Юсуфа и Золейхи»),
Наконец, об остроумном чтении имени «Амани» Саидом Нафиси. По-видимому, это — имя, но оно может принадлежать и переписчику, и интерпретатору и т. п. Возможно, это интерполяция. Нам представляется, что если это имя автора, то оно не могло бы быть забыто. Здесь мы подошли к наиболее важному моменту: оценке достоинств поэмы.
По обобщающему суждению Саида Нафиси, в основном совпадающему и с отзывами западноевропейских ученых, поэтические достоинства поэмы невелики, а потому и она, и автор ее «справедливо забыты». В данном случае мы скорее склонны присоединиться к мнению советских исследователей Е. Э. Бертельса и К. И. Чайкина. Е. Э. Бертельс отмечает поэтические достоинства поэмы «даже рядом с таким блестящим созданием, как «Шахнаме» («А. Фирдоуси», стр. 63), и говорит, что «внимательное изучение «Иосифа и Зулейхи» заставляет решительно отклонить утверждения о неудачности этой поэмы» (сборник «Фердовси», стр. 117). К. И. Чайкин (сборник «Восток», стр. 87) считает, что «пренебрежительная оценка, часто даваемая ей европейскими ориенталистами, несправедлива. Поэма написана с большой простотой... и большой силой в драматических эпизодах». Кульминационпый момент поэмы («сцена обольщения») свидетельствует о большом мастерстве в сочетании с известной простотой изложения. Одним словом, поэма «Юсуф и Золейха» могла быть написана Фирдоуси и, будучи написанной им (вспомним возможные обстоятельства написания поэмы до обращения в Газну), никоим образом не снизила бы нашего представления о силе и мастерстве автора «Шахнаме».
Так что, если бы некий Амани, оставшийся безвестным, и написал поэму об «Иосифе и Золейхе», то вряд ли бы он мог не упоминаться в преданиях и в классической литературе, в то время как тазкире порой сообщают нам имена авторов нескольких удачных бейтов.
В XV в. Джами, «последний классик Ирана», создал блестящую и весьма популярную поэму «Юсуф и Золейха», не упоминая о своем предшественнике, будь то Фирдоусй или Амани. Это была книга, использовавшая тот же библейско-коранический сюжет, но написанная на иную тему. У Джами — философски-суфийская тема всепобеждающей любви, рожденной отблеском извечной красоты. У Фирдоуси (?) основная тема — внутренний рост чистого юноши Иосифа. И раскрыта она, на наш взгляд, с поэтической силой в мастерством.
Можно еще отметить, что успех и популярность обработки Джами не исключили более позднего обращения к поэме Фирдоуси как к источнику подражания. Так, интересная и в наши дни, популярная одноименная поэма Назима Хератского (XV в.) отталкивается в своем «подражании-соперничестве» от поэмы, по-видимому, написанной Фирдоуси.
Кроме поэмы «Юсуф и Золейха», автору «Шахнаме» приписываются еще отдельные лирические фрагменты и даже целые стихотворения — «касыды». Речь идет не об отдельных стихах из «Шахнаме» (или якобы из «Шахнаме»)[441] и не о фрагментах какого-либо иного эпического месневи, а о лирических по форме (монорифмических) строках и цельныхстихотворениях. Разумеется, Фирдоуси мог и должен был вообще писать подобные, не связанные с «Шахнаме», стихи. Так что нельзя a priori отрицать его авторство на том основапии, что Фирдоуси не был автором «Дивана». Последнее бесспорно: мы уже говорили, что Фирдоуси не выступал как профессиональный поэт и своего «Дивана» не имел. Никто ему этого и не приписывает, но источники и ранние и поздние дают лирические отрывки с именем Фирдоуси. Еще в конце прошлого века неутомимый библиограф, знаток и исследователь рукописей Г. Эте выбрал из различных рукописных источников (антологии, биословари, тазкире и т. п.) пятнадцать таких стихотворений и опубликовал в 1872 и 1873 гг. в Мюнхене под заголовком «Firdawsi als Lyriker». Если к ним прибавить еще несколько фрагментов, опубликованных в персидском журнале «Эрмеган» в 20—30-е годы и извлеченных из старых рукописных сборников Бехаром, Вехидом Дестгерди и другими, то в нашем распоряжении будет около двух десятков лирических фрагментов, приписываемых Фирдоуси.
Среди, этих фрагментов и цельных стихотворений (четверостиший и даже касыд) часть явно и по языку, и по содержанию, и по стилю не могла быть написана автором «Шахнаме», часть производит впечатление поздних отзвуков анонимных стихотворцев на легенду о Фирдоуси и на «мотивы» «Шахнаме». И только единичные фрагменты могут с известной долей вероятия быть признаны принадлежащими Фирдоуси. Так, трудно отрицать принадлежность Фирдоуси следующего, основанного на указании нескольких источников (иногда дополняющих друг друга) лирического стихотворения, написанного, как и «Шахнаме», размером «мутакариб» и опубликованного еще в 1774 г. с именем Фирдоуси[442]:
Когда хоть ночь одну с тобой покой узнал бы,
Я б гордой головой свод неба подпирал бы,
И Тира[443] — звездного писца — сломил калем,
И царственный венец луны себе забрал бы.
Я б к небу горнему — девятому б взлетел
И голову небес пятою попирал бы.
Когда б красы твоей имел я ореол,
Когда б на троне на твоем я побывал бы —
Беспомощным в беде я б руку протянул,
Измученным душой я силы ниспослал бы.
Один из старейших наших источников — тазкире XIII в. «Лобаб-аль-Альбаб» М. 'Ауфи — приводит известный отрывок (тоже метром мутакариб, но полным) как принадлежащий Фирдоуси:
Много труда, забот я видел, много прочел
Из сказаний арабских и староиранских;
Шестьдесят два года я отдавал свои таланты и знания,
Чтобы унести запас [свою долю] и явного и скрытого;
И [вот] — кроме тоски и тягости прегрешений —
У меня нет ничего от прошедшей юности.
Теперь я плачу, вспоминая свою молодость,
Над этим бейтом Бу-Тахера Хосревани:
«Я помню себя молодым — с детских лет
Увы! [моя] юность — увы! [моя юность]».
Кое-что из приписанного Фирдоуси равно могло еще действительно принадлежать, как и не принадлежать, например, фрагмент, опубликованный Вехидом Дестгерди (по своей рукописи сборпика «Маджма‘-аль-бахрейн»)[444]:
сали барахне будан о горсане гонудан
бех ке бе там-е донйа софлеира сотудан.
Годами босым быть, нагим и голодным порой засыпать —
Не лучше ль, чем низких душою мирских ради благ воспевать.
Указывалось, между прочим, что язык лирики Фирдоуси — иной, с большим количеством арабизмов, что в «Шахнаме». Но подлинные лирические фрагменты Фирдоуси и должны были бы отличаться от языка поэмы. Основное же состоит в том, что мы не можем судить о лирике Фирдоуси на основании упоминавшихся фрагментов. Их слишком мало, и тем более ничтожен процент возможно принадлежащих Фирдоуси. Да это и лишнее в решении вопроса о лиризме поэта. «Шахнаме», как мы уже видели, насыщена до пределов лиризмом. Лирические отступления автора дают огромный материал для того, чтобы отвести Фирдоуси почетное место в ряду великих лириков таджикской и персидской классической литературы. Фирдоуси как лирик еще в монографическом плане не изучался, и это одна из почетных и интересных задач будущего. В поэме мы находим блестящие лирические вставки, например, известный философски-гедонический фрагмент «о вине»:
Коль слово заржавело в скорби давно,
Знай: ржавчину старое снимет вино.
Коль старость нежданно постигнет бойца,
Вино вновь вселит в него душу юнца.
Коль сгорбится стан и спина у кого,
Главу до Кейвана[445] поднимет его.
Коль трус его выпьет — глядит храбрецом,
Лиса же на льва смелым выйдет ловцом.
Фирдоуси — автор «Шахнаме» и это одно вполне определяет творческий облик великого поэта своего народа. Все остальное может нам быть интересно и нужно прежде всего потому, что Фирдоуси — создатель гениальной поэмы.
V. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО ФИРДОУСИ.
ЯЗЫК И СТИЛЬ «ШАХНАМЕ»
«Шахнаме» в основе своей — поэтическая обработка прозаического мансуровского свода. Принципиальная верность Фирдоуси своим источникам (в целом) несомненна и, в конечном счете, является одной из творческих особенностей автора. Фирдоуси сознательно подчиняет себя материалу, говорит во «Введении» к поэме о «переложении в стихи... времен минувших книги». Следовательно, он сам считает себя версификатором. Здесь надо иметь в виду, что в этом вовсе нет какого-либо самоунижения или скрытого лицемерия поэта. На Востоке во времени Фирдоуси и весь последующий классический период феодальной литературы культ формы занимал первое место в определении авторской оригинальности и значения произведения. Отсюда и ряд подражаний — однотемных произведений и вариаций традиционных мотивов и образов. Отсюда и иное, не совпадающее с нашими привычными определениями, понимание заимствования. Думается, что современники и классические литературные потомки Фирдоуси охотно подписались бы под известными словами В. А. Жуковского, что переводчик в стихах — соперник автора. Таким образом, вопросы художественного мастерства Фирдоуси как автора «Шахнаме», с точки зрения его современников и многочисленных поколений феодального Востока вплоть до наших дней, занимают основное место. По существу, это важнейший момент и для нас, так как он неразрывно связан с идейным содержанием поэмы, в конечном счете определяет литературную ценность произведения. Авторская индивидуальность Фирдоуси прежде всего выразилась в известном подборе материалов, дополнительных к основному источнику — «Ходай-наме». Выбор вариантов отдельных сказаний (часто противоречивых) в целом подчинялся принципиальным установкам автора и определял единство содержания и устремленность всей поэмы, а не был случайностью. Обратимся непосредственно к вопросам художественного мастерства Фирдоуси как автора «Шахнаме». Огромная поэма «Шахнаме» представляется композиционно законченным, отработанным в деталях произведением, и это прежде всего обусловило успех поэмы и ее жизнь в веках. В свете сказанного несколько выше о культе формы и о подражании-соперничестве поэтов феодальной эпохи, выражавшемся в многократной обработке одних и тех же сюжетов («Лейла и Меджнун», «Хосров (Ферхад) и Ширин», «Похождения Бехрама-Гура», «Иосиф и Золейха» и мн. др.)» обращают на себя внимание следующие факты. 1) Ни поэма в целом, ни почти все ее отдельные части, не были повторены соперничающими поэтами на протяжении классического и послеклассического периода. Если другие авторы и разрабатывали некоторые сюжеты, имевшиеся в «Шахнаме», то эта обработка проводилась в ином плане, как, например, использование Низами сюжета о любви Хосрова и Ширин, о Бехраме-Гуре, об Искендере. Действительно, никто из последующих поколений поэтов и не пытался соперничать с Фирдоуси, обработать основные дастаны-эпизоды «Шахнаме»: сказания о Феридуне, Каве, Зале и Рудабе, Ростеме и Исфендиаре, Бижене и Мениже, Сиявуше. Невольно «напрашивается вывод, что, по крайней мере, одной из основных причин было художественное совершенство «Шахнаме». 2) До нас не дошли рукописи предшествующих и современных Фирдоуси, «исторических» сводов и их версификаций, в том числе и «Ходай-наме», версификаций Мас'уди и др. По-видимому, «Шахнаме» Фирдоуси и по своей полноте и, главное, по своим художественным достоинствам сделала излишним труд по переписке рукописей указанных книг, что и привело к их исчезновению. Положению о художественной законченности поэмы Фирдоуси не противоречит общеизвестное наличие в «Шахнаме» слабых, иногда нескандируемых или непонятных стихов, а также повторений, не «служащих украшением текста. В такой огромной поэме повторения, стандарты, общие места неизбежны, как и относительно слабые, бледные строки. Многое ведь зависит от материала, часто сухого перечня имен, дат и т. п., отнюдь не способного вдохновить автора. Наконец, и сам Фирдоуси мог любить одно и не любить другое. Однако в тексте поэмы встречаются и технически слабые бейты. Они, эти бейты, чаще всего варьируют стихи, расположенные рядом. Нередко в поэме можно встретить и тавтологические образы. Подобные места, на первый взгляд, не свидетельствуют о законченном мастерстве исполнения. Дело в том, что мы вообще не имеем авторизованного и даже близкого к нему текста «Шахнаме» (как не имеем пока и критического в полном смысле слова издания). Многочисленные переписчики в течение не одного столетия засорили основной текст вставками, купюрами, исправлениями иногда случайными (описки), иногда «добросовестными» (некритическое использование параллельных материалов и апокрифов), а иногда сознательными, злостными (например антишиитскими). Этому, конечно, способствовала архаичность языка (лексики) «Шахнаме», в ряде случаев затруднявшая понимание отдельных слов. Переписчики часто заменяли такие слова более понятными, современными им, искажая стиль автора. При анализе прозаических рукописей — «Истории Бал'ами-Табари», «Кабус-наме» и других — наглядно видно, как при сохранении общего смысла текст в результате переписок изменялся до неузнаваемости. «Шахнаме» в целом от подобного искажения спасала стихотворная форма изложения и огромный размер поэмы. Но отдельные строки менялись, добавлялись, выбрасывались случайно ли, сознательно ли — не так важно. Причем неграмотные-переписчики были менее опасны, чем полуграмотные или грамотные — высокой квалификации. Неграмотный переписчик иногда исказит простые слова (и это легко установить сличением или скандировкой строки). Грамотный же заменит, да еще, «подогнав» под размер, порой впишет свой «лучший» вариант и т. д. И если в современном условно-критическом тексте «Шахнаме» попадаются явно слабые или излишние бейты, это не ставит под сомнение художественное мастерство автора и законченность его произведения. О стиле «Шахнаме» как выражении мастерства Фирдоуси, авторской индивидуальности поэта говорить трудно. Это большая тема еще не поставлена и тем более не разрешена в специальных исследованиях. Причина такой медлительности ясна: нельзя с уверенностью охарактеризовать стиль поэмы и художественное мастерство автора, не отдавая себе полного отчета в том, что в «Шахнаме» традиционно (в частности, от народного эпоса), а что свое, авторское». Другими словами, специальное исследование стилистических особенностей «Шахнаме» предполагает одновременное (если не предшествующее) сравнительно-историческое изучение и характеристику не только персидской и таджикской литературы (до и после X в.), но в известной мере и арабской и других литератур восточного Средневековья, о чем пока можно только мечтать. Мастерство Фирдоуси многогранно. Оно очевидно и в основном эпическом повествовании, в свою очередь, многообразном: здесь и батальные и мирные сцены (базм о разм), романтические сюжеты и эпизоды, описания пиров, природы, людей, животных и быта, диалоги, письма. Но так же художественно выразительны и лирические фрагменты — превосходные образцы философской, дидактической, любовной, гедонической и, наконец, оформляющей хвалебной лирики. Лучшие фрагменты Фирдоуси выдерживают сравнение с произведениями, написанными на ту же тему прославленными представителями позднейшей классической литературы. Фирдоуси в совершенстве владел всем арсеналом средств художественной выразительности. И в то же время его поэтические приемы подчинены общему стилю. Основная мысль не затемняется блеском звуковых и зрительных повторов, обилием метафор и т. п., а особенно подчеркивается ими. У Фирдоуси всегда уравновешены в бейте мысль и форма выражения ее. К поэме Фирдоуси в целом может быть отнесен термин «тафвиф», определяемый Шамси-Кайсом Рейским (ар-Рази), автором замечательного сочинения по просодии и поэтике XIII в., как выдержанное в одном стиле стихотворное произведение, сочетающее изысканность формы в гармонии с содержанием, не требующее для своего восприятия усилия мысли, что достигается известной простотой изложения, не загроможденного обилием поэтических украшений и т. д. Шамси-Кайс ставит «тафвиф» во главу угла при описании поэтических жанров, но характерно, что в некоторых позднейших поэтиках этот термин отсутствует: в послеклассический феодальный период так уже не писали! Сказанное о равновесии мысли и формы справедливо как общая характеристика стиля «Шахнаме». Но если обратиться к сравнению отдельных частей огромной поэмы, то иногда заметны следы увлечений некоторыми формальными приемами. Например, в тексте «Сказа о Бижене и Мениже» автор увлекся риторическими восклицаниями. Подобные случаи, однако, не характерны для поэмы вообще, а показывают только, как Фирдоуси за десятилетия своей работы искал, создавая свой стиль. Присущее поэту чувство меры и формы ограничивало эти колебания и всегда возвращало художника на прямой путь. Как уже отмечалось, стиль «Шахнаме» нельзя изучать без уяснения вопроса о традициях и новаторстве. Здесь трудно высказаться с полной определенностью, так как памятники, непосредственно предшествовавшие периоду создания поэмы, не сохранились. Элементы художественного мастерства Фирдоуси (образы, метафоры, сравнения) полностью были унаследованы классической литературой последующего периода. С другой стороны, очевидно, что не Фирдоуси лично их изобрел, ввел в литературу и т. д. «Шахнаме» — одна из самых ранних книг восточного Средневековья — уже отмечена печатью традиционности. Да иначе и быть не могло: ведь это в основе эпическое народное произведение. Традиция, лежащая в основе стилевых приемов и образов Фирдоуси, могла быть и книжно литературной и устной народной. О книжной традиции можно составить примерное суждение по сохранившимся обломкам сасанидской и пехлевийской (мусульманского периода) литературы. О фольклоре — только по отражениям в литературе, т. е. еще меньше. Ведь памятников современного эпохе Фирдоуси народного творчества пет. Но мы знаем, что ранние таджикские и персидские поэты в период возрождения литературы на родном языке (фарси-дари) усиленно черпали материал в народной лирике. Это относится и к Фирдоуси, роль которого была особенно <велика в период становления национального (условно) языка. То, что поэт закрепил авторитетом своей «вечной книгн», имело решающее значение в деле стабилизации литературного языка и стиля. При чтении поэмы обращаешь внимание на повторяемость, сходство известных сюжетов, стандартов и общих мест. Известно, что это одна из характерных черт народного эпического творчества. В «Шахнаме» много повторений ситуаций, характеристик, описаний, особенно в дополнительных сценах-эпизодах. Даже в основных эпизодах встречаются «штампы», но, всматриваясь пристальней, мы видим и то, как постоянно варьирует эти стандарты автор, как часто оживляет их каким-нибудь новым штрихом. Вот в этом и сказывается действительное мастерство Фирдоуси и результаты его большой работы над поэмой. Действительно, если взять основные сходные эпизоды поэмы, то нельзя не признать их внутреннего разнообразия. Сцены боя Ростема с Сохрабом, Исфендиаром, Эшкебусом, Афрасиабом настолько внутренне различны и динамичны, полны огня, что забывается стабильность частностей. А массовые сцены — при неизбежности эпических стандартов — как они разнообразятся автором, эти сражения Феридуна, Менучехра, Кей-Хосрова, Кадисия! Многообразны и дидактические варианты и лирические вставки. Как различны основные романтические эпизоды о Зале и Рудабе, Бижене и Мениже, Сиявуше и Судабе, Хосрове и Ширин! А как многообразно описывает Фирдоуси пиры или природу! Вот как, например, варьирует Фирдоуси описания прихода ночи (часто мы встречаем первую строку, говорящую о заходе солнца):Чо хоршид-е шабанде шод на падид,
1) дар-е ходжре бастанд о гом шод калид,
2) шаб-е тире бар чарх лашкар кашид,
1) джехан хасти йафти хун мариз
2) бе рандж андар аст эй херадманд гандж
на йабад каси гандж на борда рандж
3) тавана бовад хар ке дана бовад
зе данеш дел-е пир барна бовад
4) на хар кас ке у мехтар у бехтараст...
Наконец, несколько слов о стихотворном размере «Шахнаме» — эпическом мутакарибе. Мутакариб (или такаруб) в арабо-персидской метрической системе стихосложения (‘аруз) — технический термин, обозначающий стихотворный метр, в основе которого лежит сочетание основных стоп
 . «Шахнаме» написано четырехстопным усеченным
вариантом мутакариба[447] с парадигмой:
. «Шахнаме» написано четырехстопным усеченным
вариантом мутакариба[447] с парадигмой:
Главное ритмическое ударение падает на первый долгий в метрической стопе (средний) слог (
 ). Подобная парадигма в нашем силлабо-тоническом восприятии соответствовала бы одиннадцатислоговому, с мужским окончанием, стиху
). Подобная парадигма в нашем силлабо-тоническом восприятии соответствовала бы одиннадцатислоговому, с мужским окончанием, стиху
 ) так что на деле в строке бывает и меньше одиннадцати слогов. Стяжение двух краткостей в долготу в данном варианте мутакариба не имеет места.
В «Шахнаме» мы встречаем и одиннадцатислоговые строки:
) так что на деле в строке бывает и меньше одиннадцати слогов. Стяжение двух краткостей в долготу в данном варианте мутакариба не имеет места.
В «Шахнаме» мы встречаем и одиннадцатислоговые строки:
1) бе нам-е ходаванд-е джан о херад...
2) ченан буд рузи ченан кард рай...
VI. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПОЭМЫ
«Шахнаме» Фирдоуси — цельная и внешне и по содержанию книга. Несколько основных идей, проходящих через всю поэму, обеспечивают ей внутреннее единство. Наиболее четко выражена в «Шахнаме» идея извечной борьбы двух начал — добра и зла. Она во многом определяет содержание, а также композицию поэмы. Законченное выражение идея борьбы добра со злом нашла в зороастризме — государственной религии сасанидского Ирана. Дуалистический характер этой религии широко известен, хотя иногда неправильно трактуется как двоебожие. На деле зороастризм — монотеистическая религия, покоящаяся на почитании светлых сил. Дуалистическим же зороастризм называется потому, что диалектика борьбы и противопоставления двух начал, свойственные мировоззрению древних иранцев, в официальном парсизме сасанидов получили особое, подчеркнутое выражение. Добро и зло, Ормузд и Ахриман равно создают мир противоположностей, борются за власть. В будущем, через циклы тысячелетий и перипетии борьбы, по догматике зороастризма, добро окончательно победит, и мир очистится огнем от зла. Люди, народы принимают активное участие в этой извечной борьбе на стороне добра или зла в зависимости от своей способности различения этих начал. Последовательно и многообразно борьба Ормузда и Ахримана показана в поэме Фирдоуси. В первых сказаниях мифологической части — это непосредственная схватка с полчищами Ахримана при его прямом участии в подготовке и течении событий. Но уже при Джемшиде Ахриман выдвигает основным бойцом против страны добра — Ирана своего ставленника Зохака (образ сложный, с чертами космического змея и доисторического тирана-завоевателя). Рука Ахримана направляет также заговор Сельма и Тура против Иреджа. Далее, в развертывании.событий героической части, борьба добра и зла символизируется и конкретизируется в борьбе Ирана и Турана. Что такое Туран «Шахнаме»? Это царство, или, лучше сказать, «сфера влияния» Ахримана. Туранцы — политические противники Ирана, его извечные враги. Фирдоуси тонко и реалистично показывает возможность мира между иранцами и туранцами. Но эта возможность все время нарушается из-за «злобы Ахримана» и основного психического дефекта туранцев — неспособности различать добро и зло, что в ряде случаев ставит их в положение как бы добросовестно заблуждающихся. Кто же на деле эти туранцы и где их страна? Несомненно, на северо-востоке Ирана. Граница точно указана: Джейхун (Аму-Дарья). Следовательно, Туран — это Заречье, Мавераннахр, Туркестан! Не означает ли это, что туранцы — тюрки, противопоставленные иранцам? Но такое сопоставление не имеет никаких оснований. Заречье — Мавераннахр, как и Хорезм, — ныне в основном тюркоязычные территории, но в древности это исконные земли иранцев (возможно, и колыбель иранцев!), страна давней земледельческой культуры восточных среднеазиатских иранцев, предков таджикского (а в известной мере и узбекского) народа. Население этих территорий всегда было смешанным, но с определенным преобладанием иранцев, примерно до X—XI вв., после чего тюркские элементы (и язык) постепенно оказываются преобладающими на большей части территории Заречья, за исключением современного собственно Таджикистана, как бы «острова» иранцев в тюркском море. Выходит, что туранцы это — кочевники, грозящие с северо-востока оседлому Ирану. Такое предположение возможно, но только отчасти. Ведь в «Шахнаме» Туран по своему внутреннему устройству явно подобен Ирану. Туран — страна с городами, жители ее не кочевники, а земледельцы. В «Шахнаме» Туран отчасти осмысляется как удел сына Феридуна — Тура, но из контекста очевидна несообразность этого утверждения. По-видимому, первоначально в Авесте речь шла о стране в пределах Ирана, с населявшими ее иранскими племенами, но в религиозном отношении чем-то отличавшимися от общего иранского культа Йездана, а следовательно, зачисленными в число врагов — слуг Ахримана. В дальнейшем противопоставление Ирану Турана осмыслялось различно, но всегда в плане сопоставлений с внешнеполитическими врагами на северо-востоке, будь то кочевники-иранцы, будь то действительно тюрки, угрожавшие и среднеазиатским и иранским (Хорасан) земледельцам, как это, в частности, имело место и в X—XI вв. В борьбе Ирана с Тураном нашла свое воплощение и конкретизацию идея борьбы добра и зла. Позднее борьба Ирана с Тураном приняла характер религиозных войн Гоштаспа, Зарира, Исфен-диара против врага «новой веры» туранца Арджаспа. Идея борьбы добра и зла получила в «Шахнаме» глубокую художественную разработку. Вот, например, как эта идея воплотилась в знаменитом эпизоде «Ростем и Сохраб», в частности, отсутствовавшем в мансуровском своде и введенном Фирдоуси дополнительно «со слов одного дехкана»: Иран побеждает в борьбе с Тураном. Этим он обязан Ростему, с которым Афрасиаб и туранские богатыри не в силах справиться. Только погубив Ростема, можно спасти дело Турана, но все попытки Ахримана убить богатыря не достигают цели. Ахриман готовит ему последний удар. Ростем должен пасть от руки своего сына — могучего Сохраба. Целый ряд «случайностей», казалось бы, неизбежно ведет к роковой развязке. Бой, трагический по своим перипетиям и исходу для Сохраба, не приводит, однако, Ахримана к цели: Ростем, готовый в безумном порыве убить себя, спасен и вновь разрушает все надежды туранцев. До конца поэмы — трагического финала Ираншехра — сквозная идея борьбы добра и зла подчеркнута автором. Разумеется, трудно было мусульманину Фирдоуси, в мусульманском окружении особо подчеркнуть связь мусульман-арабов с Ахриманом-Иблисом. И, конечно, самым ярким воплощением этой идеи остаются мифологическая и основная — героическая — части «Шахнаме». Другая, по существу переплетающаяся с первой идея мотивированности, обусловленности событий, их взаимной связи, пожалуй, еще отчетливей и равномерней подчеркнута на протяжении всей поэмы. Здесь не просто фатализм с его чувством обреченности, неизменности предопределения, иногда бессилия, а нечто иное: сознание внутренней, может быть, и не всегда понятной закономерности всеобщей смерти и исчезновения. Эта мысль четко выявляется в философских и дидактических отступлениях автора, рассеянных на всем протяжении поэмы. Предопределенность у Фирдоуси переходит в идею нравственного закона, возмездия, с роковой неизбежностью преследующего вольного или невольного преступника. В борьбе добра и зла нарушается нравственный закон. Акты борьбы — цепь насилий, преступлений, нарушений закона жизни. В этом ярко отражается гуманизм Фирдоуси, описывающего войну, но любящего мир. Еще одна связующая поэму идея — идея законной преемственности царской власти. От Кеюмарса до Йездегерда все владыки Ирана — это один род, отмеченный призванием; все они — владыки «милостью Йездана», носители «фарра» (исключая правление узурпатора Зохака — «похитителя фарра» и неопределенный период «царей племен» — аршакидов). Термин «фарр» (фарр-фарре), восходящий к авестийскому Xvarenah, постоянно встречается в тексте «Шахнаме». И он имеет более глубокое значение, чем дословно переводное «царское величие, слава» (фарр-е шахи и т. п.). Фарр — не просто блеск, слава, величие, как бы отражение царского сана, пышность и т. д., а некая благодать, ниспосланная свыше и отмечающая избранника ореолом. Фарр может быть ниспослан, может быть потерян и вновь возвращен (как у Джемшида и Кей-Кавуса), может быть унаследован или вообще дается роду и переходит в пределах того же рода. Реальным, видимым воплощением фарра в предисточниках оказывалась то птица (царственный сокол, орел), витающая над избранником, то баран (символ силы, могущества). На позднейших — сасанидских — барельефах мы видим фарр в виде нимба, ореола лучей вокруг головы «владыки». В настоящее время слово фарр потеряло свое особое, сокровенное терминологическое значение; фарр (фарре) обозначает просто понятие блеска, пышности, величия (шокух, джалал, шоукат и др.), но в «Шахнаме» фарр сохраняет свое глубоко традиционное и специальное значение. Фарром в поэме отмечены не только владыки Ирана, но и избранная страна — благодатная Айриана (Иран). Теория фарра была особенно развита и популяризована, можно сказать прямо внедрена в сознание народа, при сасанидах, разумеется, в целях упрочения династии потомков Сасана. В конечном счете это было основой идеологического оформления и укрепления классовой военно-аристократической и жреческой державы сасанидов. И в «Шахнаме» Фирдоуси такая сасанидская традиция несомненно является основным выражением аристократической тенденции ее автора. Аристократическая тенденция совершенно определенно, ярко и многообразно выражена в поэме Фирдоуси на всем ее протяжении. Можно сказать, что эта тенденция (в сочетании с борьбой добра и зла) — первое, что бросается в глаза при чтении поэмы. Сасанидское благоустроенное государство — военно-аристократическая империя во главе с наследственными владыками Ирана, осуществляющими справедливость и порядок — идеал Фирдоуси. Вся поэма, каждый эпизод ее является живым подтверждением этой мысли (даже, как мы увидим, места поэмы, связанные с иной — народной — тенденцией). Здесь можно было бы перечислить многое, неоднократно отмеченное исследователями «Шахнаме»: идеализацию в целом рыцарской военной среды, внимание к мелочам аристократического быта, неоднократно подчеркнутое положение, что только аристократ — благородный потомок славного рода может быть действительным героем. Все это положения, вытекающие из идеи благодатного ореола (фарра) и наследственности царской, а в конечном счете, всякой традиционной власти. То, что в «Шахнаме» является выражением аристократической тенденции, может быть точно и доказательно сформулировано. Однако в «Шахнаме» отражена и иная, противоположная аристократической — народная тенденция. Отражение, а порой и выражение народного сознания несомненно в поэме Фирдоуси, но оно формально менее отчетливо выражено. Аристократическая тенденция выступает как оформляющая, тогда как народная тенденция композиционно подчинена первой. Хотя народная тенденция и не всегда лежит на поверхности, но именно она определяет само существо произведения. Народна, прежде всего, сама основа «Шахнаме» — история Ирана, егонарода, по существу лишь представляемого цепью «законных» владык. Древнейший период истории Ираншехра представлен народными мифами, легендами, эпическими сказаниями. В «Шахнаме» эти народные в основе сказания занимают не менее половины всей поэмы. И никакое аристократическое оформление не могло бы уничтожить народность основы «Шахнаме». Выше уже говорилось, что авторская индивидуальность Фирдоуси, наряду с другими моментами, проявлялась и в выборе вариантов, главным образом дополнительных, к основному мансуровскому своду эпизодов и, конечно, в их обработке. То, как поэт широко использует в своей поэме материал народных сказаний, свидетельствует об отношении Фирдоуси к фольклору. Есть сказания — эпизоды, которые не могут быть пропущены в сводном историческом изложении. А потому особенно важно, как излагает данный эпизод автор. Ограничимся здесь двумя-тремя примерами. У Фирдоуси мы находим сказание о восстании кузнеца Каве против тирана Зохака. Это сказание, разумеется, не могло бы быть исключено из свода — так широко оно известно, стало органической частью кодифицированных преданий. Народная основа сказания о кузнеце-вожде, революционная сила Каве, восставшего против тирании владыки, полностью сохранена и не только сохранена, но и выделена блестящим мастерством художника, любящего и чувствующего изображаемого им героя. Мы не знаем, в каком соотношении бейты Фирдоуси, посвященные Каве, были к его тексту-основе, но несомненно в авторской воле и возможности было сохранить, опустить, ослабить, усилить, выделить тот или иной момент и тем самым в том или ином виде нарисовать образы участников действия, сохранить или, наоборот, ослабить, свести на нет несомненно народную первоначальную тенденцию сказания. Поэт возвеличивает народное восстание под импровизированным знаменем — кожаным передником кузнеца, водруженным на пику. Подчеркнуты смелость, благородство простолюдина и, вместе с тем, разоблачено пресмыкательство вельмож, подписавших лакейскую грамоту, которую Каве топчет ногами. На страницах «Шахнаме» народные герои сказания живут полной жизнью, и даже последующее «растворение» образа Каве в лучезарном ореоле законного владыки Ирана Феридуна не снижает его боевого пафоса и значения. Равным образом общеизвестна благоприятная (во всяком случае, объективная) трактовка образа Маздака в сасанидской части «Шахнаме», что не менее знаменательно для уяснения позиций Фирдоуси. Маздак, вождь социального движения народных, крестьянских масс с лозунгами религиозного коммунизма, само собой разумеется, — наиболее одиозная фигура в представлении позднесасанидской и феодальной халифатской государственности[448]. Из восточных средневековых авторов только у Фирдоуси мы находим благожелательное отношение к Маздаку, как мужу, преисполненному добрых намерений, стремившемуся к справедливости и т. п. Это отношение ярко контрастирует со злобным искажением образа Маздака, с издевательским изображением его коммунизма как общности жен и т. п. Такая клеветническая оценка Маздака содержалась в официальной сасанидской «Хватай-намак», а также и в новоперсидских сводах. Но народ не так относился к памяти своего вождя, потерпевшего поражение. Ведь еще не догорели, а кое-где вновь готовы были вспыхнуть с новой силой огни восстаний крестьян и ремесленников. Известно также о существовании маздакитской литературы позднего, уже халифатского времени. До нас не дошли уничтоженные злобствующей реакцией рукописные памятники, но из устного предания нельзя было вытравить образ народного вождя. Он-то и был воспринят Фирдоуси. И в сказаниях о шахе Бехраме-Гуре ряд вставных эпизодов фольклорного содержания (Ломбек-водонос, дочери мельника и др.) тоже отчетливо подчеркивают народное отношение поэта к шаху-ловеласу. В поэме много таких мест, которые могли быть обработаны в тенденциозно-аристократическом плане, а у Фирдоуси сохраняют народный характер, что свидетельствует о закономерности, органичности этой, может быть, и не всегда сознаваемой автором народной тенденции. Не менее убедительно об этом свидетельствуют и лирические, дидактические отступления Фирдоуси, о которых шла речь выше. Не случайно обилие подчеркнутых и искренне звучащих сентенций о труде как основе жизни и добродетели. Наконец, народность «Шахнаме» нашла свое выражение и в языке поэмы. Язык Фирдоуси, конечно, не простонародный язык и не псевдонародный. Но язык Фирдоуси и не замкнутый аристократический жаргон, а литературная форма общенародного языка. Истинная народность «Шахнаме» доказана тысячелетней историей. Поэма Фирдоуси всегда была и в наше время остается народной книгой. Ее не только читают, но и рассказывают популярные и в Иране и в Таджикистане сказители, «чтецы Шахнаме». Поэма Фирдоуси была и остается понятной широким кругам простых людей Ирана и Таджикистана. Итак, в «Шахнаме» Фирдоуси налицо две противоположных тенденции: феодально-аристократическая и народная. Закономерно встает вопрос о противоречиях в творчестве поэта, в содержании произведения. Своеобразием «Шахнаме» является известная (пусть внешняя) гармония двух противоположных тенденций, или, лучше сказать, стремление к ней. В конечном счете они непримиримы, но в творчестве автора поэмы естественно сочетаются. Оставаясь, таким образом, представителем своего класса, поэт выходит за его пределы, отражая и выражая более глубокие — общенародные — идеи и чувства. Особые, исключительные моменты переходного периода исторически обусловили эту органичность сочетания противоречий поэмы: политическими и экономическими врагами дехкан оказались халифат, ленная система. Но ведь и для широких народных масс врагами, эксплуататорами были халифат[449] и тюркские наемники, хозяйничавшие в последние десятилетия X в. в стране, особенно в Хорасане. Их вожди-эмиры и становились прежде всего ленными владельцами земель и закрепощаемых крестьян. Поэтому если дехканство, недовольное своим настоящим и перспективами будущего, идеализировало прошлое — Иран сасанидов, то эта идеализация воспринималась положительно и в народных (крестьянских) кругах. Тем более, что идеализировались прежде всего образы древних эпических царей: Феридуна, Джемшида и других, образы, народные в своей основе. Ведь и сасаниды, эксплуататоры в прошлом, изображены Фирдоуси в ореоле справедливости, а идеал справедливого царя был общим для средних веков идеалом крестьянства. Далее, зороастризм, или, лучше сказать, традиционный культ Йездана, противопоставленный официальному исламу, как и шиизм автора, не могли не найти отзвука в народном сознании (выше мы отмечали, что значительная часть сельского населения в X—начале XI в., по-видимому, еще сохраняла старый культ). Также антитуранские, в данный момент X—XI вв. воспринимаемые как антитюркские тенденции поэмы не могли не находить отзвука и в народном крестьянском сознании. В этой связи необходимо особо отметить политическую актуальность поэмы Фирдоуси. Настоящее, живая современная действительность находит отражение в поэме Фирдоуси, когда он говорит, казалось бы, о далеком, иногда мифическом прошлом. И это придает особую силу, остроту и своеобразие эпическому повествованию. Восточный Иран, особенно Хорасан, в последние десятилетия X в. был ареной междоусобий саманидских эмиров и вторжений тюрских наемных отрядов и племен. От этого страдали и сидящие на земле вотчинники-дехканы и крестьяне-земледельцы. Так, кстати, возникает и отождествление поэтом и его современниками туранцев с тюрками, не обоснованное исторически. И вот, когда Фирдоуси описывает вторжения в Иран то туранских полчищ Афрасиаба, то арабов С‘ада ибн-Ваккаса, его описание прошлого подсказано настоящим, живым ощущением этих иноземных вторжений, несущих страдания и гибель родине. Когда Фирдоуси говорил о бедствиях, которые несут народу и стране страшные нашествия туранцев и Афрасиаба, современники поэта понимали, что эти горячие слова относятся к их времени:Горе Ирану — грозит ему гибель,
Логовищем хищных барсов и львов он будет...
Повсюду были славные, воинственные всадники (рыцари),
Он был престолом великих государей...
Теперь же это место страданий и бедствий,
Престол острокогтистого дракона...
Двумя вещами власть берут себе над миром
Одна — что белый шелк, другая — как шафран...
Одна — что сталь меча, другая — золотая
Монета, и царей на ней стоит чекан.
Тому, кто власти ждет, тому необходимо,
Чтоб в этом добрый знак ему был небом дан,
Чтоб щедрая рука и красноречье были,
А в сердце — с ласкою жестокость и обман...
Удел немногих власть — орел, парящий в небе.
Не в силах взять ее и лютый лев, кабан...
Мечом ее берут и золотом, кто может,
Чтоб удержать, ее привязывают стан.
Когда удача есть и золото без счета,
Излишни красота тому и царский сан.
Отвага, щедрость, ум нужны при этом деле,
Судьба не даром ведь дает на то фирман!
И, конечно, вспоминаешь благородные в своей мужественной простоте строки Рудаки:
В дни испытаний суровых узнаешь
Доблесть, величье и силу вождя.
Таким образом, Фирдоуси — не исключение по своей идеологии в богатой талантами литературе таджиков и персов того времени. Но вместе с тем, Фирдоуси настойчиво подчеркивает идею равенства всех перед законом и великих и малых, пастырей и пасомых (стада — раме). А в некоторых случаях, например словами мятежника-повстанца, говорит: «Не всякий, кто больше, — лучше...» (на хар кас ке у мехтар у бехтар аст). Так просто и естественно сливались в творчестве Фирдоуси противоположные тенденции, создавая своеобразие поэмы: аристократической, и народной одновременно. Как великий поэт, он выразил то, что мог слышать, хотел слышать и слышал в годы ужаса и гнета. И еще одна общая характерная черта мировоззрения, творчества и, по-видимому, личности Фирдоуси. Это его глубокая человечность, гуманизм, очевидный при чтении любого эпизода «Шахнаме»: «Того, кто ушел с пути человечности, считай дивом-демоном, не считай его человеком». В источниках были общие моральные сентенции, прописи добродетели. В «Шахнаме» они получили новую силу, искренность звучания, поэтическое наполнение. Имя гуманиста Фирдоуси стоит в одном ряду с великими именами других человеколюбцев — Низами, Са‘ди, Шота Руставели, Хафиза, Навои. Особенно заслуживает внимания галлерея чудесных женских образов «Шахнаме». Не следует, как это часто бывает, искажать исторической перспективы и распространять представление о женщине-гаремной затворнице, темной, забитой, лишенной прав, на все периоды жизни даже и мусульманского Востока. То, что было верно, типично для периода упадка, разложения феодализма, не вполне соответствовало периодам подъема, развития феодализма, еще исторически прогрессивного в X—XII и даже в XIV—XV столетиях. И жизнь и литература нередко давали образы женщин, принимавших деятельное участие в жизни, занимавших почетное место и в ряду господ положения — мужчин. Характерна известная надпись на медресе Улуг-бека в Самарканде: «Стремление к знанию есть обязанность каждого мусульманина и мусульманки» (XV в.). Тем не менее, реакционные тенденции, взгляды, впоследствии ставшие господствующими, имелись и в раннее время расцвета феодализма. И, может быть, ничто другое так не подчеркивает гуманизм творчества Фирдоуси, как создание образов женщин, героических в своей женственности и женственных в своем героизме. Их много — и героинь больших сказаний и эпизодических фигур повествования: Рудабе, подруга Заля и мать Ростема, Техмине — мать Сохраба, иранская героиня Гордаферид, пленительная Мениже, дочь Афрасиаба, глубоко женственная коварная Судабе и многие другие. Порой они заслоняют фигуры основных героев — Ростема, Исфендиара, Заля, Сама, Сохраба, Сиявуша и других исполинов народной эпопеи. Как тонко и по-рыцарски целомудренно, благородно рисует Фирдоуси своих героинь (и героев) в моменты, казалось бы «рискованные» (свидание влюбленных Заля и Рудабе в ее девичьем чертоге, ночное посещение Ростема влюбленной Техмине)! То, что поэт, запечатлев на страницах своей книги чудесные образы женщины-подруги, женщины-матери, женщины-героини и, наконец, просто женщины-человека, пронес их сквозь столетия вместе с немеркнущим светом человечности и благородной любви, представляется одной из великих заслуг автора, одной из основных причин бессмертия поэмы.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Шахнаме» — самое значительное произведение братских таджикской и персидской литератур, переплетавшихся в своем развитии вплоть до конца классического периода (рубеж XV—XVI столетий). Фирдоуси остался первым и любимым классиком, а его поэма — основной народной эпопеей и после обособления друг от друга персидской и таджикской литератур. И поныне поэму любят и читают и колхозники Таджикистана, и интеллигенты Тегерана, Мешхеда, Сталинабада, и крестьяне Хорасана, Фарса, Гиляна и Ирака. «Шахнаме» сохраняла (и это одно из доказательств народности и величия поэмы) политическую актуальность и после смерти поэта, не утратив ее вплоть до наших дней. В течение столетий были периоды, когда вопросы объединения территорий, создания своего национального государства становились в порядок дня. И каждый раз активизировалось отношение к поэме Фирдоуси, «Шахнаме» становилась как бы знаменем объединения. Разумеется, различны были в разные моменты исторической жизни реальные формы этого намечающегося объединения, а также социальные группы, стремящиеся использовать «Шахнаме» в своих целях. Так, например, интерес к Фирдоуси и его поэме обострился в XVI в., в период сложения сефевидской, еще феодальной государственности Ирана. Об этом, в частности, свидетельствует обилие я многообразие рукописей «Шахнаме» как полных, так и антологий. Даже в Индии XVI—XVII вв. в период образования могольской державы можно отметить известную активизацию интереса к «Шахнаме». И позднее в Иране, начиная с буржуазной революции 1906— 1911 гг., растет интерес к гениальной поэме как со стороны правящих кругов, так со стороны широких- демократических масс. В попытках феодального, а затем буржуазного объединения страны были элементы протеста против чужеземного засилья, обращение к национальному чувству, что не могло не найти отклика в народе. Для широких масс ираноязычных персов и таджиков всегда и особенно сильно в периоды феодальных усобиц и сепаратизма поэма Фирдоуси становилась воплощением идеала народного единства в рамках идеализованного справедливого своего государства. Таким образом, поэма «Шахнаме» Фирдоуси прошла испытание временем и через тысячу лет осталась народным и величайшим классическим произведением таджикской и персидской литературы. Общим местом, конечно, будет утверждение, что все героикоэпические произведения классического и послеклассического периода носили явные следы подражания «Шахнаме». Подражание проявлялось и в использовании метра (традиционного мутакариба), и в обращении к архаической лексике, и в приемах описаний, принципах композиции и т. д. В широком смысле в число так называемых «подражаний» Фирдоуси включаются иногда произведения иного жанра (например «Искандер-наме» Низами и др.). Относятся сюда и поэмы на современные авторам темы, не связанные с былинной и исторической тематикой «Шахнаме» (например произведения Хосрова Дехлеви). В данном случае нас интересуют произведения, непосредственно примыкающие к «Шахнаме», переплетающиеся и сюжетно со сказами «Шахнаме». В литературе XI в. эта иранская былинная старина занимает видное место. Несомненно, завершение работы над «Шахнаме» дало новый толчок к появлению таких произведений. Но они не дублируют Фирдоуси, а как бы дополняют его повествование рассказом большей частью о сыновьях и внуках Ростема, о сыне Сохраба и других. На наш взгляд, эти примыкающие к «Шахнаме» былинно-эпические поэмы XI—XII вв. еще не настолько изучены, чтобы можно было решительно высказать о них свое суждение. Но некоторые моменты все же следует отметить. Можно ли говорить, что эти произведения появились на свет после успеха «Шахнаме», что «Шахнаме» пробудила интерес к иранской эпической старине? Думается, нет. Они появились бы и независимо от «Шахнаме», в связи с закономерным созданием прозаических сводов X в., знаменующих особый и понятный в это время интерес к историческому прошлому. Нельзя также думать, что эти сказания могли интересовать только деклассирующееся в X в., старое дехканство и уже ушедших саманидов. С точки зрения сюжетной занимательности этих сказаний, интерес к ним был давний и общий и не только в Иране. Действительно, какое богатство сюжетов, тем, образов! По известной легенде, сам ‘Онсори — «царь поэтов» при дворе Махмуда блестяще обработал сказания об Исфендиаре, по-видимому, в соперничестве с другими поэтами окружения Махмуда, но и его затмил Фирдоуси, эффектно появившийся при дворе с готовой поэмой [452]. Таким образом, и легенда говорит об обработке этих сказаний в среде придворных поэтов XI в. и до «Шахнаме». Но уже не легендой, а реальным фактом являются «Гершасп-наме» Асади Тусского (середина XI в.), «Фераморз-наме» неизвестного автора (начала XI в.), «Куш-наме» (или «Повесть о Куш-Пиль-Дендане» начала XI в.), «Бану-Гошасп-наме» неизвестного автора (XI в.), «Барзу-наме» — большая поэма о сыне Сохраба, часто включаемая в текст «Шахнаме», «Шахриар-паме» Мохтари, известного придворного поэта газневидов (середина XI в.), «Азер-Борзин-наме» — о сыне Фераморза, «Джехангир-наме» — о сыне Ростема и ряд других, включая позднюю «Сам-наме» (на рубеже XIII—XIV вв.). В суждениях о поэмах, примыкающих к «Шахнаме», обычно подчеркивается их тяготение к жанру сказочного авантюрного («рыцарского») романа. Это правильно, если говорить об итогах развития жанра, но требует уточнения. В основе своей названные поэмы тоже были версифицированными обработками народных эпических сказаний, но твердо придерживался источников своей поэмы лишь Асади Тусский (XI в.) в «Гершасп-наме», в то время как другие авторы в большей или меньшей степени отклонялись от народного оригинала, приспособляя использованный материал к вкусам заказчиков. Эти по большей части придворные поэты-профессионалы заменяли народные тенденции сказаний феодально-аристократическими, т. е. вольно или невольно искажали народные сказания. Так что дело в характере обработки народных по происхождению сказов. Если действительно ‘Онсори обработал сказания об Исфендиаре и если бы эта обработка дошла до нас, мы бы убедились, что при несомненных высоких художественных достоинствах ее «царь поэтов» при дворе Махмуда не дал бы ничего, что могло бы не понравиться султану. Труднее всего было бы обработать в придворном вкусе образ Ростема (слишком сильны в нем черты народного героя), но для большого мастера и это возможно. Такая фальсификация образа неизбежно повлекла бы за собой вольное обращение с традиционным народным сказом, уход в область ложной фантастики, полный отрыв от действительности, лежащей в глубокой основе народных сказов. Получившие признание владык обработки былинных сюжетов, сделанные в XI и последующих веках, ныне по существу забыты и привлекают нас главным образом как материал, косвенно характеризующий поэму Фирдоуси. А народная эпопея «Шахнаме» — величайший памятник национальной литературы — осталась жить в веках. У А. М. Горького имеется следующая оценка творчества Пушкина: «Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и личными унаследованными качествами... Но именно тогда, когда мы откинем все это в сторону — именно тогда перед нами встанет великий русский народный поэт.. . поэт, до сего дня никем не превзойденный, ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы»[453]. Эти горьковские слова полностью применимы и к великому иранскому народному поэту Абулькасему Фирдоуси. Как всякое истинно народное и высоко художественное произведение, «Шахнаме» выходит за рамки национальных иранских литератур. Сложившийся и оформившийся на востоке к X в. фарси в XI в. вытесняет местные диалекты и на западе Ирана, т. е. становится общим литературным языком иранцев. В последующие периоды (сельджукский — XI—XII и монгольский — XIII—XIV вв.) фарси стал литературным языком обширных территорий, далеко выходивших за пределы сасанидского Ирана. Другими словами, стал литературным языком народов и не иранских. Фарси — язык литературы Азербайджана в блестящий период XI—XII вв. (Хакани, Низами). Литературный фарси — язык литературы феодальных верхов и тюркоязычной Средней Азии, наряду с развившимся и возобладавшим с XV в. (Алишер Навои) староузбекским в основе («чагатайским») литературным языком. До XIII в. фарси был языком литературы и в сельджукидской Малой Азии (Рум). С XI в. фарси стал языком литературы и мусульманской части Индии, впредь до перехода литературы на национальные новоиндийские языки хинди и урду, т. е. до XVIII в. И до нашего времени фарси сохранился в Индии. В течение долгого времени в тюркоязычных странах Востока фарси сохранял значение второго литературного языка. Наконец, в христианских литературах восточного Средневековья — грузинской и армянской — литература на фарси в результате культурного общения была широко известна. Совершенно очевидно, что основополагающее произведение литературы иранских народов не могло не стать достоянием прежде всего и этих связанных в своем развитии литератур Закавказья, Средней Азии, Индии. Действительно, мы располагаем множеством фактов о литературных связях и отражениях «Шахнаме» в художественном творчестве этих народов[454]. Очень ярко отразилось «Шахнаме» в грузинской литературе. Уже в древней летописи «Картлис Цховреба» мы находим указания на народные грузинские варианты ряда сюжетов «Шахнаме» (т. е. иранского эпоса). Многочисленны рукописные грузинские версии подобных сюжетов (в том числе и интерполированных в поэму Фирдоуси). К XVI—XVII вв. относится грузинская стихотворно-прозаическая версия, иногда именовавшаяся переводом «Шахнаме», — «Ростомиани», т. е. поэма о Ростеме (смертью Ростема и заканчивается грузинская поэма)[455]. «Шахнаме» широко известна и любима в различных слоях грузинского народа. Поэма читалась в подлиннике и в обработках в литературных кругах при дворах грузинских царей (Давида Возобновителя, Тамары) и феодалов. В грузинских вариантах поэма сказывалась и пелась в широкой народной аудитории. О популярности «Шахнаме» говорит обилие имен героев иранского эпоса, ставших грузинскими именами (Ростоми, Бизани, Придони и др.). В песнях закавказских певцов — ашугов были обычны сюжеты, мотивы, имена, сентенции («хикметы») «Шахнаме». В XVIII в. Саят-Нова — знаменитый армянский ашуг, слагавший и грузинские и азербайджанские стихи, пел о бессмертии Фирдоуси. Мало обследованы литературно-фольклорные связи иранского и кавказского мира. Но и здесь мы видим многочисленные и подчас оригинальные варианты осетинских, пшавских, сванетских и других народных сказаний, в которых встречаются имена и основные моменты сюжетов, связанные с Ростемом, Биженом, Афрасиабом и некоторыми другими. Здесь может быть отмечено и особое сплетение местных грузинских и осетинских сказаний об Амиране (Амране) и других со сказаниями «Шахнаме». В этих фольклорных наслоениях главное, однако, состоит в том, что они образуют зачастую новое идейно-художественное единство с антииранской тенденцией. Она возникает как отражение политической борьбы Закавказья с иранскими империями древности. Ростем иногда обращается в борца против Ирана, а соответственно Афрасиаб — в иранского царя. Тщательное изучение кавказских и тюркских отражений иранского эпоса особенно важно еще и потому, что здесь мы часто находим иные иранские варианты, чем зафиксированные в «Шахнаме», варианты, нам не известные. Все эти многообразные факты свидетельствуют о живой связи сюжетов и образов «Шахнаме», иранского эпоса вообще, с местными народными сказаниями соседних стран. Можно говорить не только о взаимосвязях народного творчества близких и культурно общающихся народов, но и о влиянии «Шахнаме» Фирдоуси как высокохудожественной, мастерской обработки аналогичных сюжетов. Отражения этого влияния можно проследить и в литературах и в самом народном творчестве многочисленных кавказских и тюркских соседей персов и таджиков. Живые взаимосвязи прежде всего определяли литературный успех и народную популярность поэмы Фирдоуси за пределами собственно иранского мира. В чудесных сказах «Шахнаме» многие из них видели свои мифы предания, мотивы, узнавали их — как бы в новой оправе. «Шахнаме» — одно из основных классических произведений Востока, одновременно и замечательный памятник мировой литературы. Об этом наглядно свидетельствуют многочисленные переводы поэмы на многие языки современного мира, а также научные и научно-популярные работы ученых Старого и Нового света. О мировой известности поэмы Фирдоуси ярко свидетельствуют повсеместные (в 1934—1935 гг.) празднования тысячелетия со дня рождения поэта, в которых принимали участие ученые, литераторы, а также представители прогрессивной общественности всего мира. В Тегеране собрался международный конгресс. На родине поэта — в Тусе состоялось открытие памятника на могиле Фирдоуси. С большой торжественностью отмечена была память великого поэта в Москве. В нашей стране широкие массы трудящихся приняли участие в чествовании памяти одного из крупнейших поэтов мира. Литературные связи и отражения «Шахнаме» и образов иранского эпоса вообще в мировой литературе (не касаясь прямых переводов) — особая и еще далеко не раскрытая тема. Мы коснемся ее в нескольких словах. «Шахнаме» — литературная обработка народного эпоса Ирана, одного из богатейших в мире. Это богатство объясняется и глубокой древностью, и географическим положением, и широкими международными связями, и культурно-исторической ролью иранских народов в древности и в Средние века. Таджики и персы отразили в своем эпосе, а позднее и в литературе разнообразные сказания и других соприкасавшихся с ними народов — Индии, Китая и Восточного Туркестана, Восточной Европы и Сибири, Кавказа, стран классического Древнего Востока и европейского Средиземноморья. Процесс этот, разумеется, имел и обратное течение — отражение в разных формах и степени иранских сказаний в эпосе этих народов, где мы находим аналогичные мотивы, сюжеты, образы. Это прежде всего результат закономерного параллелизма возникновения и оформления их в соответствии с конкретными условиями жизни народов. Но могло иметь место и творческое восприятие гениального произведения Фирдоуси. Мотивы и образы зачарованных неуязвимых героев — «меднотелого» Исфендиара иранцев, Ахиллеса эллинов, Зигфрида «Песни о Нибелунгах», Ильи Муромца, которому «смерть в бою не написана», и Ростема, которому не суждено пасть в бою, мотивы боя отца с неузнанным сыном и другие в основе своей были независимы, но в отдельных подробностях возможны и неизбежны взаимовлияния. Блестящая литературная обработка таких мотивов и сюжетов в «Шахнаме» Фирдоуси нашла отражение в литературных произведениях и поздних литературных обработках фольклорных сказаний. Причем это отражение могло быть не только результатом книжного влияния, непосредственного знакомства с «Шахнаме», часто оно возникало как следствие фольклорных связей общавшихся между собой народов. Одним из многочисленных примеров влияния «Шахнаме» на оформление народных в своей основе образов может служить русская книжная сказка XVI—XVII вв. о Еруслане Лазаревиче и ее лубочные варианты. Самое имя Еруслан Лазаревич сопоставляется с именем Ростема, сына Заля (Зал-и Зара), переосмысленного в «Лазаря», некоторые эпизоды сказки также имеют сходство со сценами «Шахнаме». Это — закономерная аналогия[456], разумеется, не имеющая ничего общего с попытками объяснить происхождение русского былинного эпоса влиянием «Востока» и «Шахнаме», в частности. Правомерны сопоставления некоторых частных моментов, но попытки сравнения русского былинного Ильи Муромца — крестьянского сына с владетельным князем Ростемом «Шахнаме» (и аналогичное сравнение Кухулайнена «Калевалы» с тем же Ростемом) не имеют под собой никакой почвы. Вместе с тем не многообразие литературных и фольклорных связей определяет значение «Шахнаме» как памятника мировой литературы, а содержание и идеи поэмы в сочетании с художественным мастерством ее автора. «Шахнаме» — национальное произведение иранских народов прежде всего, но именно потому, что Абулькасем Фирдоуси с такой полнотой, глубиной и мастерством художественного воплощения выразил в поэме свое народное, национальное, он занимает достойное место и в ряду великих поэтов мира. «Шахнаме» — глубоко правдиво, прогрессивно, человечно и оптимистично. Все эти черты роднят поэму Фирдоуси с другими великими произведениями искусства. Именно здесь следует искать основу бессмертия и мирового значения поэмы. Если говорить о величайших произведениях мирового искусства, всегда будут названы в соответствующей области несколько имен, несколько произведений, которые не могут быть забыты. Исключительные, монументальные, эти произведения бессмертны. Гениальный грузинский поэт Шота Руставели (XII в.) в предисловии к «Витязю в тигровой шкуре» говорит о внутренней значительности темы в соединении с высоким мастерством как о непременных условиях создания великого произведения: «Дар напевов — это область в царстве мудрости высокой», «Не поэт, кто где-то, как-то стих-другой случайно скажет ... кто сразить не смея зверя ... дичине мелкой рад»[457]. Высокое художественное мастерство в сочетании с идейностью, народностью как раз и определяют монументальность «Шахнаме». Монументальность содержания гармонически сочетается здесь с монументальностью формы. Действительно, поэма грандиозна, тем более что это произведение одного автора, а не свод различных народно-эпических и литературных материалов, оформлявшийся иногда в течение столетий, как, например, индийская «Махабхарата»[458]. В смысле широты охвата событий ни один народ мира не имеет такой грандиозной эпопеи, как «Шахнаме». В самом деле, если бы, например, какой-нибудь греческий автор — Гомер позднейшего времени — отразил в единой поэме (в десятки раз превышающей объем «Илиады» и «Одиссеи») весь цикл греческих сказаний, включая ранний исторический период, эпопею персидских войн, расцвет и падение Афин, возвышение Македонии, чудесный поход Александра на восток, перипетии борьбы диадохов и эпигонов и закончил бы эпопею битвой при Пидне и обращением Эллады в римскую провинцию (168 г. до н. э.), то мы имели бы подобие «Шахнаме» Фирдоуси в древнегреческой литературе. Аналогичные сопоставления можно было бы дать и на материале литератур других народов мира. Дело в том, что ни в одной из этих литератур эпопея не вбирает в себятак органически всю мифологию, народные эпические сказания и историю, не объединяет их в композиционное единое законченное целое, как это имеет место в «Шахнаме» Фирдоуси. То, что именно иранцы создали такое исключительное в мировой литературе произведение, как «Шахнаме» Фирдоуси, представляется фактом закономерным и понятным в силу сочетания особых исторических условий, сделавших возможным появление и завершение поэмы. Все это, разумеется, не определяет общего превосходства литератур Ирана над древнегреческой, древнеиндийскими, китайской и другими (в том числе и европейскими), но лишь свидетельствует о специфике их развития. Творчество Фирдоуси, таким образом, является предметом законной гордости современных таджиков и персов, для которых «Шахнаме» — основное классическое произведение родной литературы. Вместе с тем, «Шахнаме» — одно из наиболее значительных произведений мировой литературы. Л. СтариковОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Завершая свою бессмертную поэму «Шахнаме», Абулькасим Фирдоуси писал:Труд славный окончен, в родимой стране
Не смолкнет отныне молва обо мне.
Не умер я, жив — пусть бегут времена.
Недаром рассыпал я слов семена.
И каждый, в ком разум и мысли светлы,
Почтит мою память словами хвалы.
Потомки по достоинству оценили творческий подвиг великого поэта: молва о нем распространилась далеко за пределами родины. Впервые услышав строки «Шахнаме» на земле советского Узбекистана, — в древнем Самарканде, — я в дальнейшем узнала, что это великое творение известно в подлиннике не только в Иране и в советской Средней Азии, но и в Афганистане, Пакистане и в Индии, где языком фарси владеют десятки миллионов людей. В самых отдаленных селениях люди собираются для того, чтобы послушать народных певцов, по памяти воспроизводящих сказы любимого эпоса. Поистине удивительна популярность этой «Илиады Востока» среди широчайших народных масс. Звучные строки одного из первых поэтических переводов «Шахнаме», с которым мне довелось познакомиться, я услышала из уст казахского акына Джамбула. Грузины, узбеки, армяне и другие народы Советского Союза также знают «Шахнаме» в переводах на свои родные языки. Немало отрывков из поэмы было переведено на русский язык, особенно в последние годы. Советский читатель ждет полного поэтического перевода «Шахнаме» на русский язык, осуществленного непосредственно с подлинника. Сделать хотя бы первые шаги в этом направлении — такова задача, поставленная перед собой автором и редактором настоящего перевода. При выполнении этой задачи нас ждали трудности двоякого рода: во-первых, следовало бережно, без искажений воспроизвести мысли и образы литературного памятника тысячелетней давности; во-вторых, предстояло дать читателю хотя бы отдаленное представление о музыке стиха Фирдоуси. Как шла работа в этих двух направлениях, можно показать на следующих примерах: Известное высказывание Фирдоуси о науке обычно трактовалось в переводах таким образом: «Увидев ветви науки, поймешь, что знанию не дано дойти до корня». Внимательный анализ текста дал возможность установить подлинный смысл этих строк. Чисто внешняя, языковая игра слов—ветвь и корень — была привлечена поэтом лишь для того, чтобы подчеркнуть противопоставление двух частей данного бейта (двустишия). Поэтому при переводе следовало выделить главную часть, а к ней подобрать другую, которая на русском языке сочеталась бы с главной так же логично, как и в подлиннике. Основная мысль в данном бейте — знанию нет предела. Слово бон, имеющее два значения — «корень» и «предел (конец)», здесь явно употреблено во втором значении, поскольку словосочетание найайад бе бон означает «не имеет предела (конца)». Но слову «конец» естественней всего противопоставить «начало», в данном случае «начала наук», «первые познания». Отсюда возникла трактовка:
Лишь первых познаний блеснет тебе свет,
Узнаешь: предела для знания нет.
Принципиальное различие двух приведенных толкований очевидно. Мы убеждены, что второе отражает подлинный взгляд Фирдоуси, его веру в могущество человеческого познания. Другой пример. Во вступлении к поэме первые строки раздела «О происхождении Шахнаме» прозвучали в переводе с достаточной убедительностью лишь после того, как стал ясен внутренний смысл образа: в саду поэзии плоды уже обобраны другими — неведомых преданий не осталось. Но если поэту не дано сорвать плоды — найти новые сюжеты, — то он готов обратиться к сюжетам уже известным — к преданиям древности; они, как тень густолиственного дерева, спасут от гибели, дадут возможность поэту обрести бессмертие в поэме, увековечивающей эти старинные предания. Таким образом, при переводе мы стремились идти по линии отказа от внешнего, механического копирования в пользу более глубокого проникновения в смысл подлинника. Давая оценку своему творению, его неувядаемой художественной силе, Фирдоуси говорит:
Рассыплются стройных дворцов кирпичи,
Разрушат их ливни и солнца лучи.
Но замок из песен, воздвигнутый мной,
Не тронут ни ветры, пи грозы, ни зной.
Анализ художественных средств, системы образов, языка поэмы — одновременно и простого, и величавого — предмет специального исследования. Здесь ограничимся лишь указанием на то, что Фирдоуси активизирует мысль читателя, он не преподносит образы готовыми; а заставляет как бы додумывать их. Например, если о герое сказано: «в руке его — пламя, в другой — ураган», то, как можно догадаться, пламя это — меч, а ураган — конь, которым управляет герой. Образы подлинника мы старались сохранять в переводе, даже если они звучат непривычно для русского читателя (напр., сравнения войска с нарядной невестой, с весенним садом). Нашей задачей было не приноравливать подлинник к своему вкусу, а передать его таким, как он есть. Стремление сохранить своеобразие подлинника, разумеется, не распространялось на идиомы. Например, выражение «испустил из печени холодный вздох» переведено: «и вырвался горестный вздох из груди»; фраза «не нашел в сказанной речи ни конца, ни начала» переведена: «ни складу, ни ладу в речах не сыскал» и т. д. Передать в переводе звучание стиха Фирдоуси — задача нелегкая. Следует прежде всего пояснить, почему был выбран именно амфибрахий, а не другой стихотворный размер. Основную роль здесь сыграли личные впечатления переводчика от устного воспроизведения поэмы как персами, так и таджиками. Как бы субъективно ни было отношение поэта к тому или другому размеру, трудно отрицать, что амфибрахий с мужской рифмой достаточно верно передает энергичный стих «Шахнаме»:
«Я — туча, — в ответ раздаются слова, —
Но туча с когтями свирепого льва,
Струящая стрелы, несущая меч,
Сносящая дерзкие головы с плеч».
Ритмическая близость данного размера к размеру подлинника (при всем различии между русской и персидской системами стихосложения) особенно ощущается в строках, подобных следующим, которых в поэме немало:
Бе тадж-о бе тахт-о бе мах-о бе мёхр..
Престолом, короною, солнцем, луной...
Дарид-о борид-о шекаст-о бебаст...
Связал, и сломал, и пронзил удалец...
Отмечу также, что русский перевод, осуществленный данным размером, ложится на все мелодии, которые мне довелось слышать при исполнении «Шахнаме» народными певцами. Избранный переводчиком размер позволяет сохранить строфику поэмы, в которой бейты (двустишия) являются как бы самостоятельными, однородными строфами. (В отдельных случаях, там где это необходимо для лучшего донесения смысла, в переводе допущена перестановка в пределах двух бейтов). Разнообразие и богатство звучания стиха в подлиннике достигается путем мастерской организации звукового материала внутри бейта. Средствами для этого служат различные приемы восточной классической поэзии, широко используемые Фирдоуси и по мере сил воспроизводимые в переводе, как, например: 1) Внутренние рифмы, звуковые повторы, аллитерации:
Игривы, ретивы, бегут скакуны,
И гривы их мускусом умащены.
Скажу: «О бесценные братья мои,
Люблю вас, придите в объятья мои».
Они приближались, поклоны творя,
И всем возвещались законы царя.
Склоненную видел страну пред собой,
Бездонную видел казну пред собой и т. д
Ростем отличился в сражении том:
Арканом своим, булавою, мечом
Немало и рук, и хребтов, и сердец
Связал, и сломал, и пронзил удалец.
Ц. Б. Бану
БИБЛИОГРАФИЯ[459]
I. ИЗДАНИЯ ТЕКСТА
Jones W. Poesos Asiaticae commentariorum libri sex. London, 1774. [Первая европейская публикация фрагментов текста «Шахнаме» с латинским переводом]. Lumsden М. The Shah Nainu Being a Series of Heroic Poem of the Ancient History of Persia, from the Earliest Times... by the Celebrated Abool Kousim i Firdousee of Toos, in eight volumes. Vol. first. Calcutta, 1811. [Первый незаконченный опыт издания полного текста]. Turner Масan. The Shah Nameh: An Heroic Poem... by Abool Kasim Firdousee... vol. I—IV. Calcutta, 1829. [Первое европейское издание полного критического текста «Шахнаме» с введением]. Vullегs J.-A. Chrestomathia Schahnamiana... Bonnae, 1833. [Сводное издание — хрестоматия ранее опубликованных фрагментов с комментарием и словарем]. Моhl J. Le Livre des Rois par Abou’l Kasim Firdousi, publie, traduit et cominente par.. . Paris, t. I (1838), t. II (1842), t. III Д846), t. IV (1855), t. V (1866), t. VI (1868), t. VII (1878). [Полное издание текста с французским прозаическим переводом en regard и научным историко-литературным введением]. Riickert Fr. Bemerkungen zu Mohl’s Ausgabe des Firdousi. ZDMG Bd. VIII (1854), S. 239—329; Bd. X (1856), S. 127—282. Ethe H. Firdusi als Lyriker. Sitzungsber. d. Akademie d Wissensch. (Philos.-Histor. Klasse) H. III, 1872, H. V, 1877. Munchen. Vullers J.-A. Firdusii Liber Regum qui inscribitur Schahname... t. I (1877), t. II (1879), t. III (1884), Lugduni Batavorum. [Незаконченное (без IV тома) издание сводного текста по публикациям Ж. Моля и Т. Макана до последнего времени условно принимавшееся за стабильное критическое]. Рizzi I. Antologia Firdusiana con un compendio di grammatica persiana e un vocabulario... 2 ed. Lipsia. 1891. Ethe H. «Yusuf and Zalikha» by Firdawsi of Tus... Fasc. I. Oxford, 1908 Гаффаров М. А. Образчики персидской письменности с X в... ч. II Поэзия. Москва, 1906, [Антология]. Шахнаме, т. I—V, Тегеран, изд. «Хавер» (Рамазани), 1931—1933. [Переиздание текста Вуллерса]. На персидском языке. Шахнаме, т. I—X, изд. Берухим, Тегеран, 1934—1936 [Юбилейное издание текста Вуллерса (I—III) — дополненное С. Нафиси (IV т.); основной — справочный текст «Шахнаме». На персидском языке]. Абуль Касим Фирдауси. Шах-Намэ. Сталинабад—Ленинград, Гос. изд-во Таджикистана, 1938. [Антология в таджикской латинизированной графике; составил А. Н. Болдырев]. А. Фирдавси. Достонхо зл Шохнома. I. Сталинобод, 1955 [антология]II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛОВАРИ К «ШАХНАМЕ»
Vullers J.A, Lexicon Persico-Latinum Etymologicum... t. I—II. Bonnae ad Rhenum, 1855—1864. [Полный словарь, — в основе компилятивный свод указаний персидских ферхенгов]. Abdulqadiri Baghdadensis Lexicon Sahnamianum... ed. Carolus Salemann Petropoli, 1895. [На турецком языке]. Wolff F. Glossar zu Firdusis Schahname... Berlin, 1935. [Новейший полный словарь к «Шахнаме»]. Шафак Р. Ферхенг-е Шахнаме. Тегеран, 1942. [Краткий словарь с введением о Фирдоуси и его поэме]. На персидском языке.III. ОСНОВНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «ШАХНАМЕ» И ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФИРДОУСИ
Champion J. The Poems of Ferdosi Translated from the Persian by v I., Calcutta, 1785 (4 ed., London, 1788). [Первая попытка дать полный перевод «Шахнаме»]. Gorres Joh.-Jos. Das Heldenbuch von Iran aus dem Schah-Nameh des Firdussi... in zwei Banden. Berlin, 1820. Atkinson J. The Shah Nameh of the Persian Poet Firdausi translated and abridged in prose and verse... London, 1832 (1886, 1892). Ruckert Fr. Rostem und Sohrab. Eine Heldengeschichte in zwolf Buchern... Erlangen, 1838. Жуковский В. А. «Рустэм и Зораб, персидская повесть из царственной книги («Шах-наме»)». Новые стихотворения... т. I. СПб., 1849. [Вольная обработка эпизода с вольного немецкого варианта Ф Рюккерта]. Shаск A. F., von... Heldensagen des Firdusi — 1. Lief., Berlin, 1865; l Lief., Stuttgart, 1877. Mohl J. Le Livre des Rois... vol. I—VII. Paris, 1877—1878. [Перевод и введение; так называемый Petit МоЫ]. Schlechta-Wssehrd O. Firdousi. «Jusuf und Suleicha» Romant. Heldengedicht. Aus dem persischen zum 1 Male iibertragen... Wien, 1889. Ruсkert Fr. Firdosi’s Konigsbuch (Schahname) ubersetzt von... Berlin. Sage I—XIII, 1890; Sage XV—XIX, 1894; Sage XX—XXVI, 1895. Pizzi I. Il Libro dei Re. Poema epico redato dal persiano in versi italiani... v I—VIII. Torino, 1886—1888. Крымский A. E. «Шаг-наме» або ipaнськa кнiгa царив, нашсав Абуль-Касим Фирдовсий Туський. С перськой мови переложив... «Життя и Слово», Львов, 1895. Дополнительное издание с введением и библиографией в серии «Литер.-научн. Биб-ка». Львов, 1896. [Украинский перевод белыми стихами с начала поэмы до Менучехра]. Соколов С. Абулькасим Фердовси «Книга о царях» («Шахнаме») с персидского перевел... [белые стихи]. Вып. первый. Москва, 1905. [С начала поэмы до Менучехра]. Warner A. G. The Shahnama of Firdausi vol. I—VIII. London, 1905— 1923 [белые стихи]. Соколов С. «Ростем и Сохраб» — «Восточный сборник» (в честь Алексея Ник. Веселовского). Москва, 1915. См. также: в т. II, вып. 2 «Истории Персии» А. Е. Крымского — Москва. 1916. Фирдоуси. Шахнаме — Перевод Бундари, предисловие док-pa Аззам. На арабском языке. Каир, 1932. [Древнейший перевод «Шахнаме» XIII в.]. Абу-л-Касим Фирдоуси Тусский. Шах-намэ. Под ред Ю. Абуладзе и др., I т. Тифлис 1916, II т. Тбилиси 1934 г. — на груз языке [Грузинские версии-обработки «Шахнаме». («Ростомиани» и др.)]. Фирдоуси. Книга царей (Шахнаме) — избр. места. Перевод М. Лозинского под редакцией, с примечаниями и вступит, статьей Ф. А. Розенберга. М.—Л. Academia, 1934. [Поэтический перевод с пересказом содержания фрагментов поэмы]. Орбели И. и Тревер К. «Шатранг» — Книга о шахматах. Л., Гос. Эрмитаж, 1936. [Включен отрывок из «Шах-намэ» «Гав и Талханд» в пер. М. М. Дьяконова]. Фирдоуси. Фрагменты в переводах Державина, вступит, заметка Ю. Явич. Серия «Классики таджикской литературы». Сталинабад, 1940. Фирдоуси. «Сказание о Бахраме Чубина». Перевод С. Липкина, вступит. заметка проф. А. А. Семенова. Сталинабад, 1952. Фирдоуси. Шах-намэ. Поэмы. Перевод с таджикского С. Липкина. VI , Детгиз, 1955 [антология].IV. ЛИТЕРАТУРА О ФИРДОУСИ И «ШАХНАМЕ»
Wailenbourg J. R. Notice sur le Ghah Nameh de Firdoucy...Vienna, 1812. [Здесь впервые опубликован перевод «добайсонкоровского» предисловия]. Hammer J., von... Geschichte der schonen Redekunste Persiens. Wien, 1818. Spiegel F. — Die Sage von Sam und das Shahnameh. ZDMG, III, 1849. Назарианц С. Абул-Касим Фердоуси Тусский, творец Книги царей, известной под названием «Шах-наме»... Сочинение Доктора Вост. Словесности... Книжка 1. Казань, 1849. [Первая (не считая публицистической статьи мирзы Казембека «Мифология персов по Фирдоуси» — «Северное обозрение», т. III, стр. 1—12, 1848 г.) русская специальная работа, сохраняющая ныне только историческое значение. В конце книжки интересно отметить desiderata автора — мечту о полном русском переводе с подлинника в связи с появлением перевода В. А. Жуковского]. Зиновьев И. Эпические сказания Ирана. Рассуждение, написанное для получения степени магистра... СПб., 1856, стр. 125. [Сохраняет значение подробного пересказа содержания героической части «Шахнаме» с цитатами из текста]. Деларю Ф. — О происхождении и постепенном развитии первоначального персидского эпоса. «Универс. Известия», № 5, Киев, 1867 г. [публичная лекция]. Spiegel Fr. Eranische Altertumskunde, Bd. I. Leipzig, 1871. Darmsteter J. Etudes Iraniennes, t. II. Paris, 1883. Жуковский Вал. Ал. Толкование притчи в сатире Фирдоуси ЗВО, VI, 1891; его же: Могила Фирдоуси (из поездки в Хорасан летом 1891 г.). ЗВО, VI, 1891; его же: Мусульманство Ростема Дастановича, «Живая Старина», 1, вып. IV. СПб., 1891. Spiegel F. — Avesta und Shahname. ZDMG, XLV, 1891. Pizzi I. Storia della poesia persiana. Torino, 1892. Розен В. P. К вопросу об арабских переводах «Худай-Намэ». Сб. «Восточные заметки» (фак. Вост. яз. СПб. ун-та). СПб., 1895. Geldner К. — Avestaliteratur. Grundriss d. Iran. Phil., II [см. ран дел V] — 1896/1904. West Е. W. — Pahlavi Literatur [там же]. Noldeke, Th. Das Iranische Nationalepos. Grundriss der Iran. Philologie, Bd. II. Strassburg, 1896—1904. [В отдельном издании: Berlin—Leipzig, 1920; на англ. языке — translated by L. Bogdanov, Bombey, 1930]. Ethe H. Neupersische Literatur. Grundriss der Iranischen Philologie, Bd II. Strassburg, 1896—1904. Dawlat-Shah Samarkandi. Tadhkiratu ’IShu'ara. Persian Text Ed. by E. Browne. London 1900 (2 изд- — 1921). Крымский A. E. Фирдоуси. Энциклопедический словарь, т. XXXVI, 71 полутом, стр. 30—35. СПб., Брокг. и Эфрон, 1902. 'Aufi М. Lubabu ’lAlbab. Persian Text, Ed. by E. Browne. Persian Histori cal Texts, v. XII. London—Leiden, 1903. Horn P. — Die Sonnenaufgange in Shahname. («Orient. Studien Th. Noldeke zum 70-sten Geburtstag gewidmet», В. II, Giessen, 1905). Browne E. G. A Literary History of Persia, v. I and v. II, Cambridge, 1906 (и последующие переиздания). Крымский А. Е. История Персии, ее литературы и дервишеской теософии, т. I, М., 1906 (литография). Nizami Arudi Samarkandi. Chahar Makalah. Persian Text, Ed. by E. Browne and M. Kazwini. Gibb Memor. Ser., v. XI. London—Leiden 1909. Christensen A. Recherches sur Thistoire legendaire des Iraniens Stockholm, 1915. Christensen A. Les types du premier homme et du premier roi dans I’histoire legendaire des Iraniens. Stockholm, 1917. Розенберг Ф. А. О вине и пирах в персидской национальной эпопее. Сб. Музея антропол. и этнографии при Росс. Акад. наук, т. У. Петроград, 1918. Lentz W. Die Nordiranischen Elemente in der neupersischen Literate ursprache bei Firdosi. Zeitschr. fur Indologie und Iranistik, 4, 1926. Шибли Ну'мани. История поэтов и литературы Ирана, т. 1—2. Лахор, 1924. На языке урду. [Тегеран, 1948 — в персидском переводе с языка урду]. Бертельс Е. Э. Очерк истории персидской литературы. Ленинград, 1928. Хомай Исфагани. История литературы Ирана с древнейшие времен, ч. I и II. Тебриз, 1929—1930 г. [на персидском языке]. Christensen A. Les Kayanides. Kobenhavn, 1931. Nyberg H. S. La Legende de Keresaspa. «Festschrift fur Pavry», 1933. «Фердоусинаме», журнал «Мехр», Тегеран, 1934. [На персидском языке]. «Фердовси (934—1934)» Сборник ИВАН и Гос. Эрмитажа. Л., АН СССР 1934. Ромаскевич А. А. — История изучения Шах-намэ [см. сб. «Фердовси (934—1934)»]. Самойлович А. Н. — Иранский эпос в тюркских литературах Средней Азии [там же]. Тревер К. В. — Сасанидский Иран в Шах-намэ [там же]. Орбели И. А. Шах-намэ [там же]. Гюзальян Н. Т. и Дьяконов М. М. Рукописи «Шах-намэ» в ленинградских собраниях. Изд. ИВАН и Гос. Эрмитажа. Л., 1934. Masse Н. Firdousi et L'epopee nationale. Paris, 1935. Гюзальян H.T. — Дьяконов М. М. Иранские миниатюры в рукописях «Шах-намэ» ленинградских собраний. М.— Л, Гос. Эрмитаж в изд. «Academia», 1935. Бертельс Е. Э. Абу-л-Касим Фирдоуси и его творчество. Л. —М., АН СССР, 1935. [Юбилейный очерк: эпоха, жизнь, творчество]. «Восток». Вып. 2, Ленинград—Москва, изд-во «Academia», 1935. [Сборник] Christensen А. — Les gestes des rois dans les traditions de l'lran antique, Paris 1933. Mapp Ю. H. Статьи и сообщения, т. II. М.—Л., АН СССР, 1939. [Статьи о «Шахнамз» и Фирдоуси, в частности, доклад на конгрессе в Тегеране: «Стихотворный размер Шахнаме»]. Дьяконов М. Фирдоуси — жизнь и творчество. АН СССР, 1940. Айни, Садридин. Дар бораи Фирдавси ва Шохномаи у. Ленинград-Сталинабад, 1940. [На таджикском языке латинизированным алфавитом]. Тarikh-i Sistan. Persian Text Ed. by M. Bahar. Teheran, 1941. Шафак P. История литературы Ирана. Тегеран, 1942. [На персидском языке]. Юбилейный сборник «Хэзарейе-Фирдоуси». The Millenium of Firdawsi— the Great National Pot of Iran. Teheran, 1322 (1944). [На персидском и западноевропейских языках]. [Сборник содержит выступления персидских, иностранных, советских (И. Орбели. А. Фрейман, А. Ромаскевич, Ю. Марр, Е. Бертельс) ученых на Всемирном конгрессе в 1934 г. в Тегеране в память тысячелетия со дня рождения поэта]. Сафа 3. Героические сказания в Иране. Тегеран, 1946. [На персидском языке]. Птицын Г. В. — К вопросу о географии Шахнамэ. ТОВЭ, IV. Л., 1947. Тагирджанов А. Т. — К вопросу о поэме Фердоуси «Юсуф и Зулейха». «Сов. Востоковедение», V, 1948. Бертельс Е. Э. — Роман об Александре и его главные версии на Востоке. ИВАН, М.—Л., 1948. Нафиси С. Несколько слов о Фердоуси. Журнал «Пеяме-Ноу», № 5 Тегеран, 1949. [На персидском языке]. Wilender S. — Sur le fond commun indoiranien des epopees de Ь Perse et de l’lnde. «La nouvelle Clio», № 7, 1950. Kowalski T. Studia nad Sahname. Etudes, vol. I. Krakow, 1952. Османов H. О народной тенденции в «Шахнаме». Краткие сообщения Ин-та востоковедения АН СССР, вып. IX, М., 1952. Бертельс Е. Э. — Праздник Джашни сада в таджикской поэзии (Сборн., посв. 80-летию А. А. Семенова). Сталинабад, 1953. 3анд М. — Оид ба масхалахои тенденцияи халки дар адабиёти точик дар асрхои VIII—IX. — «Шарки сурх», № 6, 1953. 3анд М. — Антихалифатские и социально-обличительные мотивы в таджикской поэзии X века. «Труды АН Тадж. ССР», XVIII, Сталинабад, 1954. Воусе М. Zariadres and Zarer. BSOAS, XVIII, 3. London, 1955. Бертельс E. Э. — Шах-наме и критика текста. «Сов. Востоковедение», № 1, 1955. Османов Н. Из истории литературы народов Хорасана и Мавераннахра VIII-IХ вв «Сов. Востоковедение», № 2, 1956. Брагинский И. С. Из истории таджикского народного творчества М , АН СССР, 1950V. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КРОМЕ УПОМЯНУТЫХ В РАЗД. IV) РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИЕМ «ШАХНАМЕ».
Григорьев В. В. — О скифском народе-саках. СПб., 1871. Chronique de Tabari, traduite sur la version persane d’ Abou ‘Ali Mohammad Bel'ami par М. H. Zotenberg, I—IV, Paris, 1867—1874. Noldeke Th. — Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden aus,.. Tabari. Ubers von... Leiden, 1879. Бapтoльд В. В. — Туркестан в эпоху монгольского нашествия СПб., I (тексты), 1898; II (исследование), 1900. Al-Tha‘alibi, — Histoire des rois de Perse par... Texte arabe publie et traduit par H. Zotenberg. Paris, 1900. Marqnart J. — Eransahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenaci. Berlin, 1901. Бартольд В. В. — Историко-географический обзор Ирана. СПб., 1903 Grundriss der Iranischen Philologie, hgg. von W. Geiger und Ernst Kuhn Zweite Band (Literatur, Geschichte und Kultur). Strassburg, 1896—1904. Le Strange G. — The Lands of Eastern Caliphate. Cambridge, 1905 Mez A. — Die Renaissance des Islams. Heidelberg, 1922. Бартольд В. В. — История культурной жизни Туркестана. Л., 1927 Энциклопедия Ислама (параллельное издание на языках: английском, французском и немецком). Основные тома I—IV. Лейден—Париж, 1913—1934 (1-ое изд.). Якубовский А. Ю. — Махмуд Газневи. К вопросу о происхождении и характере газневидского государства. Сб. Фердовси (934—1934)» (см разд. IV). Заходер Б. Н. — Иран при Сасанидах. «Истор. журнал», № 12, 1938 Бокщанин А. Г. — Восточно-эллинистические государства III—II вв. до нашей эры. «Истор. журнал», № 6, 1941. Заходер Б. Н. — История восточного Средневековья (Халифат и Ближний Восток). М., 1944. Christensen А. — L'Iran sous les Sassanides. Copenhague, 1944. Заходер Б. H. — Хорасан и образование государства Сельджуков «Вопросы истории», № 5—6, 1945. Фрейман А. А. — Задачи Иранской филологии. «Изв АН СССР. Отд. лит. и яз.», т. V, вып. 5, 1946. Пигулевская Н. В. — Византия и Иран на рубеже VI—VII веков. М.—Л, 1946. Пигулевская Н. В. — К вопросу об общественных отношениях на Ближнем Востоке перед арабским завоеванием. «Вестн. Лен. ун-та», № 4, 1948. Струве В. В. — Родина зороастризма. «Сов. Востоковедение», V, 1948 Толстов С. П. — Древний Хорезм. М., 1948. Толстов С. П. — По следам хорезмийской цивилизации. М.—Л., 1948 Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор, т. I. М.—Л., 1949. Низам-ал-Мольк. — Сиасет-намэ. Книга о правлении вазира XI столетия... Перевод, введение и комментарий Б. Н. Заходера. «Литерат памятники», М.—Л., 1949. Spuler В. — Iran in fruh-islamischen Zeit. Wiesbaden, 1952. Нафиси С. —Тарих-е тамаддон-е Иран-е Сасани. Тегеран, 1331/ 1953. [на персидск. языке]. Семенов А. А. — К вопросу о происхождении Саманидов. «Труды АН Тадж. ССР», т. XXVII. Сталинабад, 1954. Гафуров Б. Г. — История таджикского народа в кратком изложении т. 1,3 изд. Сталинабад, 1955. [1-е изд. на тадж. языке. Сталинабад, 1947]. История Узбекской ССР, т. I, кн. 1. Ташкент, 1955. Абаев В. И. — Скифский быт и реформа Зороастра. «Archiv Orientalni», \XIV, Praha, 1956. Pfister Fr. — Alexander der Grosse in der Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen. Akademie — Verlag. Berlin, 1956. Дьяконов И. М. — История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н. э. М.—Л., АН СССР, 1956. Пигулевская Н. Города Ирана в раннем Средневековье. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1956.*
ИМЕННОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛИ ОПУЩЕНЫ, т.к. ссылаются на страницы бумажной книги и без перевода номеров страниц в номера стихов бесполезны.
КОММЕНТАРИИ
Данный перевод поэмы Фирдоуси сделан с подлинного текста «Шахнаме», имеющегося в сводном издании Вуллерса—Нафиси, точнее — в тегеранском юбилейном переиздании поэмы (1934—1936 гг.). Текст Вуллерса—Нафиси свободен от большинства интерполяций, характерных для многочисленных изданий поэмы, и считается наиболее точным текстом «Шахнаме». Единичные, не имеющие существепного значения отступления от текста, допущенные переводчиком (опущения отдельных дублирующих бейтов или их перестановка), в комментарии, как правило, не оговариваются. Настоящее издание не ставит перед собой задачи установления критического текста поэмы. Эта работа проводится Институтом востоковедения Академии наук СССР. Перевод Ц. Бану осуществлен рифмованными попарно стихами четырехстопного усеченного амфибрахия, в известной мере, принимая во внимание разницу систем стихосложения, передающими ритм подлинника. Личные имена героев, географические и другие названия, встречающиеся в тексте, даются в переводе по установившейся научной и литературной традиции в соответствии с современным персидским произношением общеиранских и арабских имен и слов (Заль, Рудабе, Зохак, Каве, Сохраб и т. п.). Имя поэта — Фирдоуси — дается в наиболее известном, традиционном русском написании. .Ближе к персидскому произношению формы Фердоусй или Фер-довсй, к таджикскому (и арабскому) — Фирдаусй, Фирдавсй. Эти и другие формы (Фирдовсйй, Фирдусй) применялись и применяются иногда в общей и специальной русской литературе (см. Библиографию). В переводе обычно выдерживается единая система упрощенной транскрипции, как она официально принята в государственной картографии СССР. Отдельные отступления от нее оговариваются в примечаниях. Постоянно встречающиеся в тексте примечаний названия языков даются в обычном сокращении: авест. (авестийский), араб, (арабский), др.-перс, (древнеперсидский), ср.-перс, (среднеперсидский), пехл. (пехлеви), парф. (парфянский), санскр. (санскрит), перс, (современный персидский), тадж. (современный таджикский), арм. (армянский), арам, (арамейский). Заголовки подразделов (глав) поэмы заключены в квадратные скобки ввиду того что в значительной мере являются условными. Некоторые рукописи поэмы (в том числе и старейшая — Лондонская) не содержат в тексте подзаголовков, а имеющиеся в большинстве других рукописей и изданий «Шахнаме» подзаголовки часто не совпадают как по месту расположения, так и по редакции. Такие заголовки, несомненно облегчающие восприятие огромной поэмы Фирдоуси, условно сохранены в переводе в соответствии с основным текстом Вуллерса—Нафиси.Примечания
1
Эти стихи являются традиционным авторским предисловием, предшествующим собственно повествованию — истории царей. (обратно)2
Естественное, для представителя глубокого средневековья обращение к Богу в начале труда. Поэты Востока, как правило, начинали произведение кратким (10—15 бейтов) обращением к Богу, обычно именуемом «дибаче» (от «диба», «дибач» — парча), поскольку эти вступительные бейты при оформлении рукописи украшались красочными заставками с золотом и серебром, составляя как бы «парчевую страницу» книги. Независимо от авторского поэтического» вступления, средневековые переписчики по традиции начинали свой труд с основной формулы мусульманского благочестия: «Во имя Бога милостивого, милосердного» — вступительными словами к Корану в целом и к каждой его «суре» (главе) в частности. Вступительная формула переписчика предшествует поэтическому тексту «Шахнаме» в большинстве рукописей и изданий поэмы. (обратно)3
Кто место всему и названье дает — В подлиннике дословно: «владыка имени» (ходаванд-е нам) и «владыка места» (ходаванд-е джай). (обратно)4
Нахид — персидское название планеты Венеры. (обратно)5
Этот бейт постоянно приводился врагами поэта в доказательство его еретических, в данном случае рационалистических, воззрений на природу Бога. (обратно)6
Восхваление разума — первое, к чему обращается великий поэт. Эти строки традиционны, они характерны для поэзии сасанидского Ирана, но оригинальны по сравнению с большинством позднейших классических авторов, изощрявшихся в многословном восхвалении Аллаха, Мухаммеда, его сподвижников, первых халифов и т. д. Восхваление разума, будь то философская категория греческого неоплатонизма или традиция сасанидского зороастризма, не может не рассматриваться как своеобразное выражение религиозного свободомыслия Фирдоуси. (обратно)7
Заключенное в скобки двустишие является, по всей вероятности, вариантом предыдущего бейта (одна и та же рифма с херад в смежных стихах), хотя и сохраняется в большинстве рукописей и изданий. (обратно)8
Изед (авест. Язата — достойный) — основной домусульманский термин для обозначения светлого божества. (обратно)9
В земной нашей жизни, и в мире ином, т. е. в мире земном и в мире небесном. Представление о двух мирах — общее для восточного средневековья. У Фирдоуси мы, естественно, встречаем идеалистическое представление о загробном мире, но ему чужда и позднейшая реакционная (в основном суфийская) трактовка чувственного мира как лишенного реальности, являющегося лишь тусклым отражением, тенью истинного мира идей. (обратно)10
Встречалась и несколько иная трактовка данных бейтов в связи с двойным написанием: се пас и сепас. Се пас — три стражи (vigilia), сепас — хвала, например, в старом опыте перевода «Шахнаме» С. Соколова :Да будет ведомо, что ум был создан первым.
Души он нашей страж — воздай ему хвалу,
Хвалу и языком, и слухом, и глазами,
Затем, что чрез него добро и зло тебе.
(обратно)
11
Фирдоуси имеет в виду четыре изначальные элемента — стихии: огонь (аташ), воду (аб), воздух (или ветер — бад) и землю (прах — хак), отражая общие религиозно-философские представления мусульманского средневековья, переплетающиеся с философскими концепциями греков, народными верованиями и религиозными догмами маздаизма. (обратно)12
И семь над двенадцатью власть обрели, т. е. семь планет (в том числе Солнце и Луна) расположились в двенадцати созвездиях Зодиака. Образ связан с астрологическими представлениями средневековья, по которым планеты, располагаясь в том или ином сочетании, в различных созвездиях определяют судьбы людей, (обратно)13
Воздвиглись одно над другим небеса. — Здесь Фирдоуси точно отражает общие античные и средневековые представления о небесах как о хрустальных концентрически вращающихся сферах (система Птолемея). Таких сфер-небес обычно насчитывалось семь (по числу планет, включая Солнце и Луну). Над ними мыслилось восьмое небо — сфера неподвижных звезд и, наконец, всеобъемлющее неподвижное «горнее небо», рай — место пребывания Божества. Таким образом, в древности исчисляли и семь, и восемь, и девять небес. (обратно)14
Эта мысль представляет собой отражение господствовавших в средневековье геоцентрических представлений о мире (система Птолемея). (обратно)15
По-видимому, здесь Фирдоуси намекает на наличие иных взглядов, принижающих достоинство человека, в том числе и на представление о человеке как о рабе в официальной религии. (обратно)16
Новруз — первый день персидского Нового года,—день весеннего равноденствия (21—22 марта нашего календаря). По персидскому солнечному календарю Новруз празднуется в первый день месяца Фервердина. Праздник Новруза, сохранившийся и в мусульманское время, основной и любимый народный праздник Ирана. Следует отметить, что в глубокой древности Новруз отмечался не в день весны, а летом, в день солнцестояния, первый день месяца Огня (Азер). (обратно)17
Образы месяца и солнца широко использовались и в народной поэзии и в классической литературе таджиков и персов. Полной луне — символу совершенной красоты и все затмевающего блеска, как правило, противопоставлялся новый месяц (полумесяц) — эмблема скорби, уныния, ущерба. (обратно)18
Традиционное для мусульманского средневековья обращение к пророку (Мухаммеду) и — в зависимости от религиозного толка — к его главным сподвижникам и непосредственным преемникам: у суннитов — к четырем праведным халифам (Абу-Бекр-Бубекр, Омар, Осман и Али), у шиитов — к Али, мужу Фатимы, дочери пророка, с умолчанием или выпадами против узурпаторов и врагов семьи пророка (т. е. трех первых халифов). В дошедшем до нас тексте «Шахнаме» при подчеркнутом воспевании Али помянуты добром и его три предшественника. Однако в сопоставлении с последующими стихами (211—212) это упоминание производит впечатление какой-то случайности, нарочитости. Во всяком случае, подлинность ряда указанных бейтов — сомнительна, и в тексте они заключены в квадратные скобки. (обратно)19
Суда отплывают — их семьдесят там. — Семьдесят судов, носящихся по бурному океану бытия, по учению мусульманских богословов символизируют семьдесят религиозных вероучений. Образ, традиционно использовавшийся в мусульманской богословской и художественной литературе. По объяснению позднейших богословов (суфиев), все эти толки (суда) с большей или меньшей легкостью должны привести к спасению (к берегу), так как в основе их — вера в Бога. Лишь материалисты-философы (дахри) с их отрицанием веры безусловно погибнут. В частности, к таким осужденным на гибель материалистам в качестве главы их причислялся и знаменитый ученый и поэт — вольнодумец XI—XII в. Омар Хайям. Фирдоуси образно подчеркивает надежность судна пророка и Али (т. е. шиитского направления) и свою верность ему. (обратно)20
Здесь в переводе использованы арабские термины подлинника. Неби — пророк, Веси — душеприказчик, исполнитель воли пророка, законный наследник его в представлении мусульман-шиитов, т. е. Али. (обратно)21
Лев (хейдер — араб.) — эпитет Али. (обратно)22
В данном разделе речь идет о собирании древних преданий в одну книгу («Ходай-наме», так называемое мансуровское прозаическое шахнаме) — являющуюся основой версификации Фирдоуси. (обратно)23
По-видимому, имеются в виду пехлевийские сасанидские хроники, включавшие и древние эпические сказания Ирана. По преданию, в конце правления сасанидов они были сведены в одну обширную «книгу владык» (пехл. — «Хватай-намак»). «Хватай-намак» (а также ее арабские переводы VIII—IX вв.) легла в основу новоперсидских прозаических сводов X в. (ходай-наме — шахнаме), в свою очередь послуживших основою для последующих версификаций. Не лишено вероятия, что речь идет и прямо о новоперсидском мансуровском шахнаме. (обратно)24
Мобеды (мубеды) — служители зороастрийского культа, представители господствовавшей, наряду с военной земельной аристократией, жреческой касты сасанидского государства. В эпоху создания «Шахнаме» зороастризм еще не был изжит, особенно в сельских местностях Средней Азии и восточного Ирана. Термин мобед, мубед (фарси) — собственно, «старшина магов-жрецов» (др.-перс. магупати). В «Шахнаме» мобеды выступают уже как мудрые советники, знатоки и хранители традиций, а не как собственно служители культа. (обратно)25
Рода дехканского витязь-мудрец, — т. е. принадлежавший к старинной земельной аристократии. Оппозиционно настроенные к новым феодальным порядкам и халифату, дехканы того времени являлись наряду с мобедами главными хранителями и ценителями старинных преданий. Под словами «витязь-мудрец», несомненно, имеется в виду Абу-Мансур ибн Абд-ар-Реззак — крупнейший земельный магнат и правитель Туса, а позднее и всего Хорасана, принимавший активное участие в сложной политической борьбе середины X в. С именем Абу-Мансура связано создание мансуровского прозаического шахнаме. Фирдоуси не называет здесь имени Абу-Мансура, одиозного для Махмуда Газневидского. (обратно)26
По-видимому, в данных бейтах речь идет уже прямо о создании новоперсидского (на языке фарси) свода, известного под именем «Ходай-наме» или мансуровского шахнаме. (обратно)27
Дакики — талантливый поэт, современник Фирдоуси, убитый в расцвете сил и таланта своим рабом. От Дакики сохранилось несколько ярких лирических фрагментов и тысяча бейтов эпической версификации о появлении Зердешта (Зороастра), включенных Фирдоуси от имени Дакики в текст «Шахнаме». Можно, однако, предположить, что Дакики, версифицируя мансуровский свод, написал более чем тысячу бейтов, сохраненных в тексте «Шахнаме». (обратно)28
Лишь только воспел он в двух тысячах строк Гоштаспа с Арджаспом — пришел ему срок. Данный бейт взят переводчиком не из основного текста Вуллерса, а из примечаний. Гоштасп — шаханшах Ирана, покровитель и последователь учения Зердешта, Арджасп — его политический противник и ожесточенный враг новой веры (зороастризма). (обратно)29
Традиционный раздел стихотворного введения в классических таджикских и персидских поэмах средневековья, обычно проливающий свет на личность автора поэмы и обстоятельства, связанные с началом работы над книгой. Из данного подраздела мы узнаем, что Фирдоуси обратился к мысли о стихотворном воплощении мансуровских сказаний о царях после трагической гибели Дакики, уже в зрелом возрасте. В этом разделе содержатся также многие другие ценные для исследователя моменты. (обратно)30
В оригинале дословно: «к трону царя мира», что может быть понято и как обращение к Махмуду Газневидскому. (обратно)31
Речь идет о смутах и междоусобицах в последние годы распада государства саманидов (конец X в.). (обратно)32
Имеется в виду мансуровское шахнаме, т. е. книга, пехлевийская разве только по своему первоисточнику. Есть серьезные основания предполагать, что Фирдоуси не знал пехлевийского языка (точнее, графики пехлеви). (обратно)33
В ряде старых рукописей Шахнаме этот подзаголовок вообще отсутствует или дается просто — Абу-Мансур Мухаммед. Абу-Мансур — скорее всего один из рядовых редставителей старой (дехканской) аристократии Туса, безвестно погибший в разгар междоусобиц. (обратно)34
Ни мертвым не найден он был, ни живым. — Это указание Фирдоуси на безвестную гибель Абу-Мансура Мухаммеда исключает возможность отождествления его с историческим Абу-Мансуром — правителем Туса, отравленным саманидами в 963—964 г. (обратно)35
Имеется в виду султан Махмуд Газневидский. (обратно)36
Эти заключительные бейты стихотворного «Введения» к поэме представляют собой панегирик султану Махмуду Газневидскому. (обратно)37
Абулькасим (Абу-ль-Касем) — одно из почетных имен Махмуда Газневидского. (обратно)38
Речь, по-видимому, идет о том, что Махмуд Газневидский, прочно закрепивший за собой восток Ирана и Индию, успешно укреплял свои позиции и на подступах к западу Ирана, т. е. выступал в ореоле восстановителя древней государственности. (обратно)39
Использованиев войске боевых слонов, этих «танков древности», вывезенных Махмудом из Индии, произвело на современников большое впечатление, хотя и в древнем Иране были случаи использования слонов. В решающей битве близ Балха (1008 г.) пятьсот слонов Махмуда принесли ему победу над караханидами. (обратно)40
У трона советник, в ком мудрость живет. — Имя советника — везира Махмуда — не названо. Скорее всего, мог подразумеваться основной везир Махмуда Газневидского до 1011 г. — Фазл Исфераини. (обратно)41
Рум — Римская империя, Византия, точнее малоазиатские владения Римской империи; Хинд — Индия. (обратно)42
Каннудж (или Канаудж — арабизованное от санскр. Каньякубджа) — столица одного из крупных индийских государств в период мусульманских завоеваний Махмуда Газневидского, ныне небольшой городок на реке Ганг. Синд — имеется в виду долина нижнего Инда, где рано и прочно утвердились мусульмане. Старые мусульманские авторы обычно различали Хинд (Индию — немусульманскую страну индусов) от Синда — долины Инда и Мекрана. (обратно)43
Туран, как Иран, перед ним преклонен. — В данном случае речь идет о суверенитете Махмуда над владениями караханидов, т. е. о саманидской Средней Азии. (обратно)44
Кашмир — город в Индии; Чин — Китай. (обратно)45
Джебраил (Гавриил) — библейский и христианский образ архангела-благовестника. У мусульман Джебраил — вестник, передающий избраннику Мухаммеду подлинные слова Аллаха (суры Корана). (обратно)46
И первый из них — брат владыки меньшой. — Младший брат Махмуда Газневидского, Наср. Наместник Хорасана, — основных иранских областей саманидов. По-видимому, являлся покровителем и ценителем литературы. Поэты так называемого литературного круга Махмуда посвящали Насру свои лучшие касиды. (обратно)47
Первин (авест. paoiryaeinyas) — созвездие Плеяд. Известно также под арабским названием Сурейя. (обратно)48
В тексте неясно, о ком идёт речь. Можно было бы предположить Абу-Мэнсура, но в редакции, посвященной Махмуду Газневидскому, это представляется невозможным. (обратно)49
Кеюмарс — в поэме Фирдоуси первый владыка Ирана, родоначальник всех последующих владык, первоцарь-первочеловек. Образ Кеюмарса восходит к древним космическим мифам о первозданной корове и о первочеловеке-полуживотном. По Авесте и пехлевийским источникам, Кеюмарс порождает Машйа и Машйана, что соответствует библейским Адаму Еве. В «Шахнаме» Машйа и Машйана не упоминаются. (обратно)50
В своей поэме Фирдоуси неоднократно ссылается на таких безыменных дехканов (или мобедов) — сказителей, лишь в очень редких случаях называя имя хранителя древних сказов. (обратно)51
Столь маленький срок правления первого царя (равно как сорок лет правления его внука Хушенга и тридцать лет правления сына последнего — Тахмуреса) в сравнении с многовековыми царствованиями последующих владык Ирана — Джемшида (700 лет), Зохака (1000 лет), Феридуна, Менучехра и других, полностью соответствует указаниям литературных источников Фирдоуси. В Авесте и в пехлевийской литературе о тридцати годах жизни Кеюмарса говорится как о завершающем периоде борьбы с Ахриманом, а вообще для жизни ему отводится мифологический срок — 3000 лет. (обратно)52
Традиционный образ средневековой поэзии: сочетание стройного стана (кипарис) и красивого лица (полная луна). Сравнение многократно обыгрывалось в стихах последующих классических поэтов Ирана (обратно)53
Сиямек — в «Шахнаме» имя сына и погибшего наследника Кеюмарса. В пехлевийской литературе — Сиямек — сын Машйа и Машйана. (обратно)54
Ахриман — олицетворение зла в древнеиранской мифологии и позднейшем зороастризме. Общеизвестен подчеркнуто дуалистический характер иранской мифологии и религии, где извечно существующие два начала — доброе (авест. спента-майньо — святой дух), в позднейшем зороастризме светлое верховное божество Ахура-мазда (Ормузд) и Ангра-майньо (злой дух, Ахриман) — почти равносильны. В будущем победа светлых сил обеспечена в эсхатологии зороастризма, а пока злое начало равно принимает участие в создании мира и борется за власть над ним. Люди активно участвуют в борьбе за власть на стороне добра или зла. Эта борьба, принимающая разные формы, красной нитью проходит через всю поэму Фирдоуси. (обратно)55
В современном языке «соруш» означает: вестник, ангел. В «Шахнаме» — собственное имя вестника Ахура-мазды. Имя Соруш (пехл. Серош) восходит к авест. Сраоша (послушание). Он — один из семи божеств-аллегорий зороастризма В мусульманском Иране образ Соруша, естественно, уступил место Джебраилу. (обратно)56
Синий цвет на Востоке — по преимуществу цвет траура. (обратно)57
Кей (авест. Кави) — господин, владыка, царь. У Фирдоуси преимущественно титул и, вместе с тем, составная часть имени позднейших шахов Ирана (Кей-Кобад, Кей-Кавус и др.) из династии так называемых кеянидов. В ранних, мифологических частях поэмы — кей, кейани — царь, царский. (обратно)58
Хушенг — внук и преемник Кеюмарса — родоначальник древней династии так называемых пишдадидов, получившей свое название от титула Хушенга — пишдад (по-видимому, в смысле «основоположник справедливости», «первый законодатель»), В Авесте Хушенг (Хаошйанха Паразата) упоминается как борец с дивами, первый царь и законодатель Ирана, родоначальник ариев-иранцев. (обратно)59
В общих географических представлениях восточного средневековья, восходящих к античным делениям Эратосфена и Гиппарха, вся земля делилась на семь климатических зон, или поясов. С другой стороны, древние иранцы делили мир на семь островных областей — стран («кешверов») с Ираном посредине. В эпоху Фирдоуси выражения «семь кешверов» и «семь климатов» уже смешивались, равно означая весь обитаемый мир. Править семью поясами земли — быть владыкой мира. (обратно)60
По общемусульманским преданиям, ковка железа связывается с кораническим образом Давуда, в руках которого железо стало мягким воском. Здесь, как и в ряде других мест «Шахнаме», отражена эпическая, т. е. домусульманская традиция, по которой первым кузнецом был Хушенг. (обратно)61
Здесь подчеркивается, что Хушенг, а вместе с ним древние иранцы вообще были поклонниками светлых сил (почитателями Йездана), т. е. по существу теми же зороастрийцами, задолго до утверждения новой веры (зороастризма), (обратно)62
Зороастрийский праздник в память открытия огня, установленный в десятый день месяца Бехмен (одиннадцатый месяц персидского солнечного календаря, соответствующий январю-февралю нашего календаря). (обратно)63
Тахмурес — в Авесте — Тахмаурупа («мощный»). В «Шахнаме» — третий царь династии, сын Хушенга (титул — Дивбенд, т. е. связывающий дивов). (обратно)64
В данном случае — анахронизм. Мобеды — жрецы зороастрийского культа — появились значительно позднее. (обратно)65
Шейдасп — первый советник Тахмуреса, мудрец-аскет. Его имя сопоставляется с именем, упоминаемого средневековыми арабоязычными авторами Будаспа (Юдасфа), легендарного основоположника астрономии. (обратно)66
Победа Тахмуреса над Ахриманом знаменует полную победу над миром зла и является как бы предпосылкой грядущего «золотого века». (обратно)67
Интересно отметить, что по народным преданиям искусство письма получено человечеством от... Ахримана! По этим преданиям, дэвы скрывали его от людей, но после победы Тахмуреса были вынуждены поделиться с ними своими знаниями. (обратно)68
Фирдоуси перечисляет важнейшие из упомянутых тридцати языков: современный ему персидский язык (фарси), литературный язык старого Ирана (пехлеви), литературный язык Средней Азии — согди, греческий язык (руми), арабский язык (тази) и китайский язык, (обратно)69
Джемшид — в «Шахнаме» четвертый царь древней династии пишдадидов, сын Тахмуреса. Один из основных и древнейших образов иранской мифологии, восходящий еще к пастушеской индо-иранской древности. Имя Джемшид может быть разложено на эпитет «шид» (авест. Хшаета, пехл. — Шет) — лучезарный и собственное имя Джем, авест. Йима. Йима — патриархальный царь-пастырь, первый поклонник светлого божества, обеспечивший людям полную власть над миром, покорность злых сил (дэвов и Ахримана) и безмятежное существование («золотой век»). С образом Йимы связаны сказания-мифы о тысячелетнем блаженстве людей, прерванном наступившей зимой (по другим вариантам — ливнем, потопом), и о спасении избранных во главе с Йимой в далеком селении блаженных. Есть в Авесте указания и на грехопадение Йимы, вследствие его гордыни, и на гибель в борьбе с драконом Ажи-Дахака. В позднейшей пехлевийской литературе к мифическим чертам Йимы, по-видимому, присоединились предания о государственной деятельности Джемшида. В период мусульманского средневековья образ Джемшида и в литературе и в народном представлении всё больше переплетался с кораническим образом мудрого царя Сулеймана (библейского — Соломона). (обратно)70
Изеда благодать в подлиннике — фарре йе Изади. Слово «фарре», или чаще «фарр», в современном значении — пышность, блеск, великолепие. В этом значении встречается оно и у Фирдоуси — царственное великолепие. В данном тексте, как и по большей части во всей поэме, имеет особое терминологическое значение, восходящее к авест. хварено — царская слава; фарр — это божественная благодать, эмблема царственного происхождения и призвания. Фарр сопутствует царям то в виде ореола (нимба), то в образах барана, парящего орла и т. ц. (обратно)71
Разделение людей на сословия отражено в пехлевийских предысточниках «Шахнаме». Описанное Фирдоуси деление общества на четыре сословия соответствует в основе своей сословному (кастовому) делению сасанидского Ирана на жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников. Следует отметить подчеркнутое восхваление Фирдоуси третьего сословия — земледельцев, что вполне соответствует идеологической концепции поэмы. Названия сословий — катузи, нисари, насуди и ахтухаши перенесены в Шахнаме из пехлевийских источников с грубым искажением. (обратно)72
В подлиннике сказано «див», что можно понять и как Ахриман (главный див), и как рядовой див. Див, дивы (в старом произношении — дэвы) — духи зла и тьмы, демоны, — создания и слуги Ахримана. В «Шахнаме» выступают и рядовые и особо опасные, могучие, имеющие личные имена дивы. Современное див (авест. daeva) сопоставляется с санскр. deva (бог). Это сопоставление дало основание гипотезе о древней — доисторической — вражде, разделившей некогда арийцев Индии и Ирана. (обратно)73
Дословный перевод данного бейта: «Когда это было сказано, благодать (фарр) Йездана отошла от него, и мир стал полон разговоров (толков)». (обратно)74
Собой пред всевышним творцом возгордясь. — Оборот «собой возгордясь» передает слово «мани», стоящее в подлиннике и являющееся непереводимым на русский язык образованием отвлеченного понятия от местоимения «я». (обратно)75
Зохак (Заххак, в арабизованном написании — араб. — Даххак) — имя и образ Зохака восходят к авестийскому Ажи-Дахака — трехглавому демону-дракону (ср. совр. аждаха — змей, дракон), т. е. еще к космическим мифам о черной туче — драконе, побежденном солнцем — светлым божеством. В образе Зохака отразились и смутные оспоминания о вторжениях с запада в Иран семитов (ассиро-вавилонян). Персидская историческая традиция приписывает Зохаку даже основание Вавилона. Мифология делает Зохака прямым потомком Ахримана и одним из родоначальников арабов, связывая его и с потомками Таза из рода Кеюмарса. В поздней литературе Зохак — символ тирании чужеземца-завоевателя, образ, противопоставляемый Феридуну — тираноборцу и освободителю.
(обратно)
араб. — Даххак) — имя и образ Зохака восходят к авестийскому Ажи-Дахака — трехглавому демону-дракону (ср. совр. аждаха — змей, дракон), т. е. еще к космическим мифам о черной туче — драконе, побежденном солнцем — светлым божеством. В образе Зохака отразились и смутные оспоминания о вторжениях с запада в Иран семитов (ассиро-вавилонян). Персидская историческая традиция приписывает Зохаку даже основание Вавилона. Мифология делает Зохака прямым потомком Ахримана и одним из родоначальников арабов, связывая его и с потомками Таза из рода Кеюмарса. В поздней литературе Зохак — символ тирании чужеземца-завоевателя, образ, противопоставляемый Феридуну — тираноборцу и освободителю.
(обратно)
76
Мердас (этимология неясна) — имя отца Зохака. В «Шахнаме» Мердас — царь кочевников-арабов. Он назван поклонником Йездана скорее в морально-этическом плане (богобоязненный царь), чем по принадлежности к этому религиозному культу. (обратно)77
В подлиннике слово «арабский» передано термином «тази», который, с одной стороны, может рассматриваться как относительное образование от собственного имени Таз (мифический родоначальник арабов). С другой стороны, слово тази, вероятно, иранское название арабского пограничного племени таи (таиты), распространяемое на арабов в целом. Словарные значения слова тази в языке фарси: 1) араб, арабский; 2) гончая собака. (обратно)78
Бивересп — эпитет, восходящий к авестийским и пехлевийским источникам. «Обладатель 10 000 коней» — человек, несметно богатый табунами. (обратно)79
Дэри — лингвистический термин, часто сопутствует термину фарси (название новоперсидского литературного языка). Фирдоуси не противопоставляет дэри и фарси, но противополагает их языку пехлеви. Следует заметить, что среди специалистов нет ясности в этом вопросе. (обратно)80
Имеется в виду не ритуальное мусульманское омовение, а обыкновенное умыванье. (обратно)81
На Китайском море, находящемся якобы на краю земли. О нем, как и о самом Китае, во времена Фирдоуси у персов были лишь смутные представления. (обратно)82
Точное отражение авестийских и пехлевийских источников, но без характерного для последних рассказа об участии в расправе брата Джемшида — Спитйура. (обратно)83
В подлиннике: «кахроба» похищающий (притягивающий) солому. Магнитное действие янтаря было известно в глубокой древности. (обратно)84
Время правления Зохака — тысяча лет — в основном соответствует пехлевийской литературной традиции. (обратно)85
В некоторых рукописях речь идет о дочерях Джемшида. — В пехлевийской литературе говорится о трех сестрах Джемшида. Однако их имена не совпадают с именами сестер, данными в поэме, — Шехрназ и Эрневаз, восходящими, по-видимому, к пехл. Саванхавач и Эренавач. (обратно)86
Легенда об Армаиле и Кармаиле, по-видимому, более позднего народного происхождения. (обратно)87
Армаил (Азмаил) — легендарный предок правителей округа Демавенд в мусульманское время, так называемых масмоганов. Армаил, как и его брат Кармаил (Гармаил) в Авесте и пехлевийской литературе не встречаются, но упоминаются у Бируни. (обратно)88
В данном случае Фирдоуси основывается как на народных преданиях, так и на литературных источниках. Так, арабоязычный автор X в. Мас'уди связывает происхождение курдов с иранцами, уцелевшими от истребления их Зохаком. Даже в 1812 г. английский путешественник Морьер отмечает празднование у Демавенда дня освобождения от тирании Зохака — Курдский праздник (эйд-е корди). (обратно)89
В подлиннике от «луны до рыбы» с непередаваемой игрой слов: мах (луна) и махи (рыба). Образ традиционный в классической литературе, означающий «от небесных высот до глубины преисподней». Луна — светило, планета первой небесной сферы; Рыба — гигантская рыба, плавающая в океане преисподней и несущая на себе быка, который, в свою очередь, служит опорой земле. (обратно)90
Перстень — на востоке эмблема власти. Возможно, что в данном контексте имеется в виду перстень Джемшида («сулейманов перстень»), находившийся во власти узурпатора-Зохака. (обратно)91
Пери (пехл. пайрик, авест. пайрикаи) — дивы женского рода, в народных представлениях добрые, хоть и коварные, обольстительной наружности. Противопоставлялись друджам (ложь, обман) — т. е. всегда злым демонам женского рода. (обратно)92
Советник Зохака. Зирек — проницательный, смышленный. (обратно)93
Речь идет о палице, увенчанной изображением коровьей головы, которую закажет себе Феридун (см. стихи 1810 и сл.). (обратно)94
Этимология этого образа не совсем ясна. В Авесте и пехлевийских источниках не встречается. (обратно)95
Атбин (Абтин) — имя потомка Джемшида, в Шахнаме — отца Феридуна. По-видимому, представляет собой искажение родового имени Athbiya (атбия), так как иначе не совпадает с генеалогией пехлевийских источников, по которой отец Феридуна — Пуртур или Пургав (в пазендском чтении арамейской идеограммы). Имя Пургав состоит из двух частей: Пур — сын, Гав — бык, корова, что позволяет допустить сопоставление с коровой, вскормившей Феридуна. (обратно)96
Феранек — имя супруги Атбина (Абтина) и матери Феридуна. По преданию, Феранек (авест. Freni) была дочерью Тахура, властителя острова, находящегося в далеком море Чин. (обратно)97
Эльборз (Эльбурс) — горная система в Иране по южному побережью Каспийского моря. Эльборз (пехл. Альбурдж, Бурдж) — восходит к авест. Berezato Hairi («высокая гора») и занимает важное место в космологических преданиях иранцев. Гора Эльборз являлась местом отдыха солнца, луны и созвездий, а также началом пути в обитель блаженства. Первоначально гора Эльборз ассоциировалась с вершинами у истоков Оксуса (Аму-Дарьи). Позднее название Эльборз, по мере общего продвижения иранцев к западу, переносилось на различные горы северного в западного Ирана, вплоть до Кавказа и Загроша. (обратно)98
В оригинале сказано наханг — т. е. чудовище, обитающее в воде. Обычно переводят крокодил или кит. (обратно)99
Кузнец Каве — кузнец, поднявший народное восстание против тирана Зохака — наиболее яркий и героический образ народного борца в «Шахнаме» В Авесте и пехлевийской литературе имя Каве не встречается. Вместе с тем, это не свидетельствует о позднем происхождении сказанья, а, наоборот, в какой-то степени подчеркивает его народную основу. В дальнейшем Каве окажется родоначальником знатнейших аристократических фамилий аршакидского и сасанидского времени. Сопоставление имени Каве с авест. Кави (диалект. — Кави) — «царь» представляется неубедительным. (обратно)100
Кавеянское знамя (в подлиннике кавейани дерафш) — государственное знамя Ирана при сасанидах (а возможно еще и в парфянское время, поскольку его изображение встречается на аршакидских монетах), уничтоженное арабами после победы при Кадисии в 637 г. По-видимому, официальное его название было знамя кеянидов или царское знамя. Но, вероятно, уже в пехлевийских первоисточниках Фирдоуси название знамени (кеянское) смешивается с именем Каве, поскольку народное сказание о кузнеце уже нельзя было исключить из общего цикла преданий. Сам «Сказ о кузнеце» в Шахнаме и его обработка Фирдоуси — одно из ярких проявлений народной тенденции поэмы. (обратно)101
Пормайе и Кеянуш — старшие братья Феридуна. В пехлевийских предисточниках — Бармайун и Катайун. Первое имя этимологически может быть сопоставлено с именем коровы Бермайе — кормилицы Феридуна, а второе является искажением пехлевийского имени. (обратно)102
Хордад — третий месяц солнечного календаря иранцев (май—июнь нашего календаря) и, вместе с тем, шестой день каждого месяца. (обратно)103
Вероятно речь идет о Йемене (Южная Аравия), связанном с Ираном через море еще до мусульманского завоевания. (обратно)104
В данном контексте слово «соруш» может быть переведено как «вестник» (из райского сада). (обратно)105
Эрвенд — судя по контексту, река Тигр. Название Эрвенд восходит к Авесте (поток Аруамда, берущий начало на Эльборзе). По мере продвижения иранцев на запад название Эрвенд относилось к различным рекам, иногда вершинам гор (река Оронт — в Сирии, гора Эльвенд — близ Хама дана и др.). (обратно)106
Диджла — совр. арабское и вместе с тем персидское (Деджле) название реки Тигр. Диджла в переводе означает «стрела», т. е. «быстротекущая», «стремительная». (обратно)107
Багдад — город в современном Ираке, возникший в VIII в. на месте старого сасанидского Ктесифонта (араб. Медаин). Упоминание о Багдаде, даже если предположить, что этим именем назван Ктесифонт, безусловно анахронизм для времени первых мифических владык Ирана. (обратно)108
Священный город (араб, дословно — священный дом). Так мусульмане первоначально именовали Иерусалим, по-видимому, переводя еврейское название храма Соломона (бетха-микдаш). (обратно)109
Гангдежгухт — по указаниям средневековых словарей, крепость близ Вавилона. (обратно)110
В оригинале «Головою доставал до Кейвана». Кейван персидское название Сатурна (араб, зохал). Кейван — светило седьмой небесной сферы, «последнего неба», за которым находилась сфера неподвижных звезд и горний рай. В этом смысле Кейван был своего рода пределом допустимой гиперболизации. (обратно)111
Моштери — арабское слово, имеющее два значения: покупатель и Юпитер (планета). В позднейшей классической поэзии часто обыгрывались оба эти значения. (обратно)112
В подлиннике: «крепость-талисман», т. е. заколдованный, волшебный замок. (обратно)113
Хиндустан — Индия. В данном случае, по-видимому, имеются в виду Гималаи. (обратно)114
Кондров — прихрамывающий, спотыкающийся, т. е. идущий неправильным путем, не способный различать добро и зло. Возможно, что здесь имеет место искажение первоначального имени Kundarv, которое может быть сопоставлено с инд. Гандарва, греч. Кентавром, слав. — Китоврасом. В некоторых армянских источниках имя Кундарв относили и к Зохаку. Таким образом, див, в древнем предании боровшийся с солнцем вместе с Зохаком, мог, постепенно отойдя на второй план, стать помощником — домоправителем (обратно)115
Заставляя появиться ангела-вестника, Фирдоуси вводит повествование в рамки основного сказания о Зохаке, в соответствии с которым Зохак не должен погибнуть от руки Феридуна, ведь ему еще предстоит сыграть свою страшную роль в будущем, когда он примет участие в последней борьбе зла против добра и будет побежден Самом. (обратно)116
Ширхан — по контексту город в районе горы Демавенд. (обратно)117
Демавенд — высочайшая вершина Ирана в горах Эльбурса, полупотухший вулкан. С горой Демавенд связаны народные предания, в том числе и древние сказанья о Зохаке, стоны и вздохи которого якобы слышались в недрах горы. (обратно)118
Эти два бейта о Феридуне превратились в поговорку, часто употребляемую без осознания их принадлежности Фирдоуси. (обратно)119
Феридун — в Шахнаме освободитель Ирана от тирании Зохака, новый законный владыка Ирана (т. е. — из рода Джемшида). В основе образа Феридуна — древнейший космический миф о борьбе лучезарного солнца с черной тучей-драконом. Основные черты мифологического образа отчетливо выступают в «Шахнаме». Светлый и солнечный образ Феридуна и доныне один из наиболее любимых в памяти народа и в литературе, как символ победы, освобождения от иноземного гнета, как идеал справедливости и внутреннего достоинства. Отсюда выражения: «Феридун нашего времени», «новый Феридун» и др. (обратно)120
Мехр — 7-й месяц солнечного персидского календаря, соответствующий сентябрю-октябрю нашего календаря. День Мехра — 16-й день каждого месяца. (обратно)121
Мехрган — праздник осеннего равноденствия в 16-й день месяца Мехр. После Новруза — дня весеннего равноденствия, — самый чтимый день персидского календаря (день воцарения Феридуна). (обратно)122
Теммише — название леса близ Амола, города к северу от горы Демавенд близ побережья Каспийского моря; в мусульманское время особенно возросло его значение как центра Мазендерана. (обратно)123
Кус — вероятно название урочища или небольшого населенного пункта. (обратно)124
В «Шахнаме» описываются лишь первые десятилетия 500-летнего правления Феридуна. (обратно)125
О трех сыновьях Феридуна говорится в Авесте, как и в «Шахнаме» в связи с разделением страны на три части. Встречаются они и в пехлевийской литературе. (обратно)126
Здесь, возможно, имеется в виду обычай, по которому имена следовало давать не сразу при рождении ребенка, а позднее, в соответствии с определившимися чертами его характера, иногда во избежание «дурного глаза». (обратно)127
Серв — кипарис. В данном контексте — собственное имя. (обратно)128
Выражение «с кольцом в ухе» в классической поэзии — синоним раба. (обратно)129
Пирамидальный тополь или кипарис многообразно использовался в народной и в классической поэзии как символ одинокого, гордо возвышающегося, вечно зеленого, стройного и мощного дерева. (обратно)130
В оригинале: «подобны райскому саду» (баг-е бехешт). (обратно)131
Последующее наречение имен в соответствии с личными качествами каждого из трех сыновей Феридуна восходит, по-видимому, к относительно позднему народному преданию. Эти имена по всей вероятности, явились осмыслением названий стран, полученных при разделе каждым сыном. (обратно)132
Сельм — старший сын Феридуна (от Шехрназ). По-видимому, в основе этого имени — арабский корень слм, что означает: безопасность, целость, благополучие. Через пехл. Сарм восходит к авест. Сайрима. (обратно)133
Тур — средний сын Феридуна (от Шехрназ). Имя Тур восходит к авест. Тура (thura), что может быть сопоставлено с арабск. thaur, иранским гав — бык. (обратно)134
Иредж — младший сын Феридуна (от Эрневаз). Имя Иредж восходит к авест. Аирйава-Аирйу, т. е. к корню слов: Иран, Ариана, арийский — благородный, верный и т. п. (обратно)135
Арзу — желание; Азаде — благородная. В оригинале имя жены Тура — Мах-е азадеху («Луна с благородным нравом»). (обратно)136
Сехи — стройная. (обратно)137
Сохейль — арабское название одной из наиболее ярких звезд — Канопуса. (обратно)138
Стрелец — созвездие Зодиака. Данное положение самой счастливой планеты — Моштери — одно из наиболее благоприятных в представлении средневековых астрологов. (обратно)139
Положение Солнца в созвездии Льва предвещало судьбу мощного человека. (обратно)140
В представлении средневековых астрологов, одно из неблагоприятных положений меланхолической планеты — Луны. (обратно)141
В этом делении Феридуном мира на три части: середина (Иран), запад и восток нашло отражение авестийское деление стран. В результате исторического продвижения основных масс иранцев на запад конкретные представления об этих трех частях-уделах естественно менялись. (обратно)142
Скорее всего это территории, примыкающие к Армении и Ираку. (обратно)143
В подлиннике: «Еще Туру дал туранскую землю (туран замин), сделав его главой тюрок (торкан) и Китая». Представление о том, что Туран — земля тюрок является позднейшим переосмыслением фактов. В дальнейшем в тексте поэмы чередуются и смешиваются понятия «Туран», «туранская земля» и «земля тюрок». (обратно)144
Получается, что Тура стали именовать Тураншахом по названию страны, которая должна была бы, казалось, получить свое имя от... Тура! (обратно)145
Удел Иреджа в «Шахнаме» в целом соответствует Аирйане, т. е. «стране ариев» — срединной земле, владыка которой представляется владыкой мира; Страна копьеносцев — по-видимому, курдские земли западного Ирана и Ирака. (обратно)146
Младший из братьев, Феридун, был также главой царства. Это явление, когда младший из сыновей наследовал отцовский удел, отразилось в фольклоре разных народов и связано с так называемым миноратом, системой наследования, имевшей место в средневековом крестьянском хозяйстве. (обратно)147
В подлиннике непереводимая обычная в позднейшей классической поэме игра слов: Чин — Китай и чин — складка, морщина. (обратно)148
Знаменитый, ставший поговоркой бейт. Дословный перевод: «Не наноси вреда муравью, что тащит зернышко, ведь он живет, а сладостная жизнь приятна». (обратно)149
Руд — струнный музыкальный инструмент, типа лютни. (обратно)150
Махаферид (Махафрид) — имя наложницы (или жены) Иреджа. Слово этимологически восходит к авест. мах (луна) и африта (благословенная). В современном языке, скорее, воспринимается как «созданная луной». Некоторые источники делают Махаферид дочерью Тура, а иногда даже Иреджа. (обратно)151
Пешенг — в «Шахнаме» племянник еридуна, сын его брата Пормайе. В пехлевийских источниках Пешенг иногда отождествляется с Иреджем, как отцом Менучехра. (обратно)152
Чач (Шаш) — историческое название Ташкента (VII в.). Чачские луки славились своей гибкостью. (обратно)153
В подлиннике: «волк, мирно сопутствующий овце» — традиционный в классической поэзии образ, символ совершенного порядка и соблюдения законности. (обратно)154
Карен — родовое имя одного из наиболее знатных парфянских родов. В данном контексте Карен выступает как сын кузнеца Каве, полководец Менучехра, что, несомненно, является позднейшим осмыслением. Шируй (Шируйе) — в «Шахнаме» — один из военачальников Менучехра. Это имя будет неоднократно встречаться в тексте поэмы в применении к разным лицам. (обратно)155
Гершасп — один из основных героев эпических сказаний Ирана, лишь попутно отраженный в поэме Фирдоуси (см. вводную статью). По существу тот же Сам, участие которого в празднестве, а позднее в битве (стих 3954), противоречит стиху 4536, где рассказывается о приезде богатыря из Индии. По-видимому данный бейт является интерполяцией. (обратно)156
Гошвад (Гешвад) — по-видимому, в «Шахнаме» упоминается как сын Карена, внук Каве. По некоторым источникам, Гошвад — потомок Менучехра. Кобад (арабизованное от авест. Кавата) — в «Шахнаме» — второй сын кузнеца Каве, брат Карена. (обратно)157
Речь, конечно, идет не о воцарении Менучехра (владыкой Ирана остается престарелый Феридун), а о передаче ему, как соправителю, дел и войска для борьбы с убийцами его деда. (обратно)158
Шапур — витязь, сын Нестуха и внук Годерза. (обратно)159
Шейдуш (Шидуш, пехл. Шедош — обладающий светлым разумом) — сын Годерза. (обратно)160
В подлиннике: чо шах-е талиман-о сарв-е йаман. Переводчик осмыслил имя Телиман (Телейман) как географическое название, принимая во внимание изафет. По словарным указаниям, это — личное имя героя или царя — сподвижника Менучехра (см. ниже примеч. к стиху 3964). (обратно)161
В данном контексте Серв как близкий родственник (тесть Менучехра) назван советником (дестуром). Гершасп — казначей (ганджвар) шаха Феридуна. Отождествлять его с Самом в данном случае нет оснований. (обратно)162
Джейхун — арабское и персидское средневековое название реки Аму-Дарьи. (обратно)163
Теммише — в данном контексте, по-видимому, город, резиденция Феридуна. (обратно)164
Нарвен — лес в окрестностях города Амола. (обратно)165
Здесь снова в переводе Телиман — географическое название. В подлиннике мы имеем горд-е талиман нежад, что можно было бы осмыслить также как герой из рода Телимана, если пренебречь словарными указаниями, что Горд (Гордар, Кердар) — личное имя иранского витязя, сына Телимана. (обратно)166
Эланан — в «Шахнаме» название крепости. По-видимому, в основе этого названия корень алан — название иранской народности аланов (позднее — осы, русск. — осетины). Таким образом, деж-е аланан означает «крепость аланов». По всей вероятности речь идет о Дербендском проходе на Кавказе. (обратно)167
Этот необычный образ — дословное отражение подлинника. (обратно)168
Отражение мусульманского представления, согласно которому запекшаяся кровь павшего бойца — живое свидетельство его права на райское блаженство. (обратно)169
Тройное расчленение боевого порядка лежало в основе тактики и античного мира, и средневековья. В поэме Фирдоуси четкость тактического построения войска, характерная для сасанидской эпохи, перенесена в доисторические мифические времена. (обратно)170
В некоторых рукописях «Шахнаме» после данного бейта следуют 36 бейтов с описанием туранского витязя Ширу (Шируй), пораженного Гершаспом. Указанные 36 бейтов попали в текст «Шахнаме», по всей вероятности, из цикла сказаний о Гершаспе. В переводе они опущены как явная интерполяция. (обратно)171
В оригинале: «Когда ночь сменилась днем, никто (из них) не вышел в бой. Оба воителя решили помедлить». (обратно)172
Хомай (Хома) — крупная хищная птица (гриф, кондор), живущая на вершинах гор, обычно на большой высоте. В народном представлении и в литературе тот, на кого упадет тень птицы Хомай, будет царствовать. Отсюда средневековый и современный термин хомайун (царственный). Хомай может быть сопоставлен с «Гамаюн — птицей вещей» русских сказок. (обратно)173
Данный бейт взят переводчиком из вариантов текста Вуллерса. (обратно)174
Эти бейты, как и стихи 4252—4256, представляют собой дидактическую вставку, интересную по своей форме басни-притчи. Аналогичные басни мы находим у Аттара, Сенаи, Дж. Руми, Саади и других позднейших эпиков классической литературы. (обратно)175
Какуй — по преданиям, сын одной из дочерей Зохака от царя Феридуна. (обратно)176
В оригинале сказано «перо (крыло) коршуна» — каргас стрелы оперяли именно перьями коршуна. (обратно)177
Видимо, река Тигр близ Вавилона, вероятная резиденция потомка Зохака. (обратно)178
Менучехру. (обратно)179
Гилян — территория, историческая провинция у юго-западного побережья Каспийского моря, в «Шахнаме» — Гилянского моря. Сари — город в области Мазендеран близ юго-восточного побережья Каспийского моря. (обратно)180
Гилянцы. — В оригинале: Гил мардом. Гил — название народности «гилы». С прибавлением суффикса ан — страна, получившая свое название по имени народа (ср. Иран, Туран и др.). (обратно)181
Речь идет о Саме. В «Шахнаме» — богатырь, отец Заля и дед Ростема, прибывший по приглашению Феридуна. Образ Сама — один из наиболее противоречивых и туманных как в «Шахнаме», так и в предисточниках поэмы Фирдоуси. По-видимому, еще в Авесте из одного первоначального образа Сам-Кересаспа (т. е. вам, обладающий стройными конями) выделились два образа: 1) бессмертный Сам — победитель змея Срувара, ему в эсхатологии зороастрийцев суждено одержать окончательную победу над Зохаком и 2) Кересаспа, в некоторых источниках повторяющий подвиги Сама и совершающий ряд других подвигов, составивших особый цикл сказаний о Гершаспе — богатыре Систана. Раздвоение первоначального образа Сама-Кересаспы повлекло за собой дальнейшую путаницу, так что иногда Сам и Гершасп (Кересаспа) оказываются взаимно предками один другого. Некоторые источники делают Сама даже владыкой Ирана. И в «Шахнаме» Гершасп, не совпадающий с образом Сама, оказывается тоже владыкой Ирана — последним из династии пишдадидов. Объясняются эти противоречия, по-видимому, тем, что в Авесте Sama — имя родовое, а не личное. (обратно)182
Препоручение Менучехра, уже прославленного подвигами героя и соправителя Феридуна, — очевидная натяжка, не оправданная дальнейшей ролью €ама при Менучехре. (обратно)183
В оригинале употреблен специальный зороастрийский термин дахме означающий выставление тел умерших в так называемых дахмах, или башнях молчания. У Фирдоуси дахме чередуется иногда с сотудан (усыпальница), т. е. употребляется в общем смысле — гробница, могила. Описание погребения Феридуна (еще не зороастрийца) свидетельствует о предании земле, а не о сожжении, этом древнем арийском способе погребения, особенно оскверняющем стихию-огонь в глазах огнепоклонников-зороастрийцев. (обратно)184
Менучехр — в «Шахнаме» шестой владыка Ирана, потомок Феридуна, внук Иреджа. Таковым Менучехр представляется и в пехлевийских предысточниках (по различным вариантам: сын, внук, потомок Иреджа). Основное расхождение предысточников с «Шахнаме» состоит в том, что Фирдоуси относит войны с Афрасиабом и Тураном, а также эпизод пленения Менучехра к правлению его сына Новзера. Имя Менучехр восходит к авест. Манушчитра, — где Мануш — название горы, а читра — род, происхождение, и что значит — рожденный на горе Мануш. Во время Фирдоуси имя Менучехр утеряло свой первоначальный смысл и воспринималось как «обладатель райского облика» (мину — небо; чехр, чех ре — лицо, облик). Местом рождения Менучехра считались окрестности древнего Рея. В народном представлении Менучехр, как и Феридун, — символ борца за справедливость.(обратно)
185
Клятва Менучехра — своего рода тронная речь идеального правителя. (обратно)186
В подлиннике: кафш — золотая обувь. (обратно)187
В подлиннике: джехан пахлаван, т. е. мировой богатырь, титул, увенчавший, кроме него, и его внука Ростема. (обратно)188
Нейрем — по-видимому, сокращенная форма от Нериман, осмысляется как имя отца Сама. В «Шахнаме» Сам называется сам-е нариман (или Нейрам), что обычно толкуется как Сам, сын Наримана. По-видимому, мы имеем здесь превращение эпитета nairi-mana (авест. — мужественный) в самостоятельное лицо. Таким образом, первоначальное сочетание Сам-е Гершасп-е Нариман, т. е. «Сам — сын мужественного Гершаспа», стало восприниматься как «Сам, сын Наримана». (обратно)189
Заль, Заль-Зер (зал-е зар, где заль — старик, а зар — старый, седой (Современное значение зар — золото.)) Заль — сын Сама, воспитанный птицей Симорг, которая дала ему имя Дестан (хитрость, уловка). Сочетание «Дестан, сын Сама» (дастан-е сам), или просто Дестан чередуется в «Шахнаме» с «Заль» или «Заль-Зер». (обратно)190
В подлиннике вместо «дух лесной» сказано «пери». (обратно)191
Симорг — чудесная птица иранских мифов и преданий, живущая в горах Эльборз. Название Симорг восходит к авестийскому сочетанию Saenomerego — примерно «орел-птица». (обратно)192
В подлиннике дословно: «Владыка дал чувство любви Симоргу, который и не помыслил о том, чтобы съесть ребенка...». (обратно)193
Прискакавший из Индии гонец рассказывает о чуде, виденном на Эльборзе, т. е. в Индии. (обратно)194
В представлениях древних иранцев и вообще астрологов средневековья Кейван (Сатурн) — самая злосчастная планета. (обратно)195
В подлиннике: «до звезды Самак» (Арктур). (обратно)196
В подлиннике: шах-е морган — «царь птиц». В иранском эпосе существуют два Симорга: один — добрый (о котором идет речь в данном сказании, покровитель Заля и Ростема), а другой — злой, которого впоследствии убьет Исфендиар. (обратно)197
В подлиннике: «на поле брани подобно Азаргошаспу», это может быть переведено и как «молния», но также и как «гений огня Азергошеспж». Новзер и Зересп — сыновья Менучехра. (обратно)198
Забулистан (Забол) — в «Шахнаме» родовой удел властителей Систана. Может быть сопоставлен с Бактрианой античных писателей (примерно территория современного Балха). (обратно)199
Кабул (Кабол) — город или область, примерно соответствующие современному Кабулу. Денбер, Май (май-е-хенд, т. е. «индийский Май») — города в Индии, определение географического положения которых в настоящее время затруднительно. «До берега Синд» (та бе дарйайе Сенд), т. е. до реки Инд. (обратно)200
Нимруз, дословно «полдень» (юг). Под Нимрузом имеется в виду Систан — т. е. полуденная страна по отношению к Хорасану. (обратно)201
Систан (Сеистан, Седжестан) — примерно территория современного Систана в низовьях реки Хильменд. Засушливые ныне земли Систана в далеком прошлом обильно орошаемые, отличались плодородием и были плотно заселены. Название Систан восходит к Сакастана (страна саков-скифов). (обратно)202
Дирхемы (дерхам, дерам) — серебряные и динары (динар)— золотые монеты мусульманского средневековья. Упоминание о дирхемах применительно к мифологическим временам является анахронизмом. (обратно)203
В оригинале: «Отовсюду в мире (гити), где только был какой-либо властитель (мехтар) — к Саму (все они) обратились». (обратно)204
Мазендеран — в «Шахнаме» приблизительно совпадает с современным Мазендераном, территорией южного побережья Каспия на склонах гор Эльбурс. Исторический Мазендеран (Табаристан раннего средневековья) изолированный трудно проходимыми горами, всегда сохранял свою независимость, в частности при мусульманском завоевании. Может быть, его обособленность и давала основания отождествлять «страну дивов» с реальной территорией Мазендарана. (обратно)205
Кергесаран (Каргсаран)—может быть осмыслено как страна «коршуноглавых», т. е. страна дэвов (как Мазендеран). Возможно также, что Каргсаран восходит к названию народа Карка, упомянутого в Бехистунской надписи Дария. По некоторым предположениям, карки — предки современных грузин (картли). (обратно)206
Мерг — город в Индии, определить точно его местонахождение затруднительно. (обратно)207
Мехраб — имя наследственного властителя территории Кабула, вассала Сама и Заля (владык Забула). В «Шахнаме» — потомок «араба Зохака», по преданиям вообще — потомок Таза от дочери Феридуна. (обратно)208
Тараз — в древности город в Средней Азии, славившийся своими красавицами, а также искусным изготовлением боевых луков. (обратно)209
В подлиннике образ более сложный: бот параст, дословно — «почитатель кумира», этимологически — почитатель Будды. Эта этимология объясняется тем, что внешним проявлением буддийского культа было почитание статуэток, изображающих Будду. Изящество многих буддийских живописных и скульптурных изображений вошло в поговорку. В данном контексте нет оснований считать Мехраба Кабульского буддистом. (обратно)210
Для Мехраба, человека иной веры, Заль — такой же «нечестивец», как и Мехраб для Заля. Но дело в том, что Фирдоуси, объективно отмечающий разницу в вере, нигде и ничем не показывает действительного различия «истинной» и «ложной» веры: Мехраб — образ положительный и в моральном плане. По-видимому, такое противопоставление двух вер — результат позднейшей обработки преданий, ввиду того что Кабул и другие территории долгое время не принимали зороастрийской веры. (обратно)211
Рудабе — примерное значение имени — рослая, стройная. В будущем — мать Ростема. (обратно)212
Синдохт — мать Рудабе, жена Мехраба Кабульского. Примерное значение имени — дочь орла, орлица (от авест. Saeno и дохт — дочь, девушка). (обратно)213
Нил — обычный в восточной поэзии символ щедрости. (обратно)214
Четвертое небо, четвертая сфера (от земли) — сфера солнца. (обратно)215
Здесь в тексте непереводимая игра слов: голь (роза) и гель (глина), в написании не различаются: Использование этого образа обычно и в ранней и поздней поэзии.
Использование этого образа обычно и в ранней и поздней поэзии.
(обратно)
216
Уксус и мед — обычные и противоположные по действию лекарства средневековой медицины. Подобное использование образа нередко встречается в классической поэзии. (обратно)217
Кейсер — в литературе мусульманского Востока — титул византийских и римских императоров, по существу, цезарь (кесарь). В устах Рудабе — неоправданный анахронизм. Хакан — титул владыки Востока, в частности Китая. (обратно)218
Калям (калам) — тростниковое перо. В данном случае метафорическое обозначение носа красавицы, что обычно в классической поэзии. Вообще описание красоты Рудабе дано Фирдоуси в образах, в значительной части общих Для народной и придворной поэзии. (обратно)219
В подлиннике игра на двойном значении слова: танг — узкий, сжатый и опечаленный. (обратно)220
Данный бейт оригинала темен и потому переведен по общему смыслу. (обратно)221
В подлиннике указана определенная звезда — Сохейль, звезда счастья; Йемен — нарицательное значение также «счастливый». Таким образом, подразумевается, что очи — не только сверкающие, но и сулящие счастье. (обратно)222
Традиционное сравнение классических поэтов. (обратно)223
В оригинале: «и от них сердце шаха полно [ал]химии» (хитрости). (обратно)224
Послание Заля Саму приводится Низами Арузи Самаркандским как образец несравненного искусства поэта. При этом Низами цитирует шесть бейтов (стихи 6113—6124). (обратно)225
Бехрам — планета Марс, коварная в представлениях восточных средневековых астрологов, так как в сочетании с благоприятными планетами Бехрам — счастливое светило, а в сочетании с неблагоприятными — злое. Название Бехрам восходит к авест. Verethragna — гений победы. (обратно)226
Сегсар — в данном бейте название страны (Сагсаран) и народа. Сегсарцы — это название осмыслялось словарями как псоглавые (по аналогии с Кергсараном — страной коршуноглавых). В «Шахнаме» Сегсар, наряду с Мазендераном, — область дивов. (обратно)227
Рум, Хинд и Иран, т. е. весь мир. (обратно)228
Дехестан — населенный пункт или область у восточного побережья Каспийского моря. По-видимому, это страна Даев, о которой упоминают античные авторы. Здесь примерно была граница оседлых и кочевых племен. Ко времени Фирдоуси Дехестан находился скорее всего в полном упадке. (обратно)229
Кандагар — город в центре современного Афганистана, на подступах к Индии; Ахваз — город на самом юго-западе современного Ирана, на реке Карун. Здесь как бы определяются границы Ирана в «Шахнаме», и вместе с тем уточняется условное представление об Индии. (обратно)230
Интересно отметить, что Мехраб (если он потомок Зохака, тесно связанного с Ахриманом) говорит странную, казалось бы, в его устах фразу о неуместности для пери (здесь в смысле просто чарующей красавицы) быть женой Ахримана. (обратно)231
Кахтан — легендарный родоначальник южных арабов йеменцев. В данном контексте кахтанская пустыня — вообще аравийская пустыня. (обратно)232
Керкуй (новоперсидское Каркуи от пехл. Gurgoe) — по преданиям, сын Сельма и дочери Зохака. (обратно)233
В подлиннике: «муравьи и саранча». (обратно)234
Кешеф (руд-е Кашаф) — приток реки Герируд в современном иранском Хорасане. На левом берегу Кешефа находилась и старая столица Хорасана, родина Фирдоуси — город Тус. На этой реке Сам одержал победу над страшным драконом (в Авесте над змеем Срувара). (обратно)235
В оригинале: «Когда счастливый Заль отправился из Кабулистана, остался Сам в Голестане». Голестан — цветник (и название всемирно известного произведения Са'ди), по-видимому, разумеется цветущий Забул — столица Сама и Заля. (обратно)236
В подлиннике Мехраб именуется марзбан. Марзбан — в переводе просто «вождь» — феодал, владетель окраинного удела (ср. средневековое нем. «Марка» — «маркграф»). (обратно)237
Бадахшан (Бадахшан) — горная страна в верховьях р. Пяндж (в северо-восточной части современного Афганистана), издревле славилась рубинами. Выражение «бадахшанский рубин» (или просто «Бадахшан») — традиционно в классической восточной поэзии. (обратно)238
Раш (в оригинале раш-е-хосрави) — мера длины, столь же малоопределенная, как русский локоть или охват. (обратно)239
В подлиннике шах-е раме, т. е. шаха (повелителя) стада (подданных, пасомых). (обратно)240
В оригинале: «яхонт» (йакут). (обратно)241
Так переведено по основному тексту Вуллерса, а в вариантах сказано: «румийская таблица». (обратно)242
Так и в подлиннике: «парси» вместо «фарси». Обе формы различаются терминологически: фарси — это классический и современный язык (у лингвистов новоперсидский); язык же парси — это язык еще среднеперсидский (пехлеви), но в графике уже арабской. Термин «парси» имеет также значение персидский домусульманский. (обратно)243
Месяц персидского солнечного календаря определялся периодом полного оборота луны (от новолуния) и имел условно равное число дней — каждый 30, что составляет в году 360 дней. Недостающие до годового счета дни (так называемые андаргахан — вставные) включались в календарь в конце или в середине года. Древнейший — авестийский (халдейский) — год иранцев был еще лунным в своей основе, но сопоставлялся с солнечным. Позднейший — мусульманский лунный год — с солнечным не сопоставлялся. Следовательно отпадала необходимость во «вставных» днях. Недочет на сутки, о котором говорится в тексте, возникает из-за того, что месячный оборот луны, равно как и годовой оборот солнца, выражается числом с дробью. (обратно)244
Кеянский престол (тахт-е кейан), трон царей, царский вообще, а не только кеянидский. (обратно)245
Здесь в оригинале непередаваемая внутренняя рифма: светозарный, победоносный — фируз и полуденная земля Нимруз (другое название Систана). (обратно)246
Ростем, сын Заля и Рудабе — основной и любимый герой народных сказаний. С подвигами Ростема связана вся былинно-эпическая часть «Шахнаме». Имя Ростема в Авесте не встречается, но этимологически может быть возведено к сочетанию авестийских корней raoda — «стан», «облик» и tahma — «сильный». Общее значение имени — «мощный» (обликом), «могучий», с чем полностью сопоставляется основной эпитет Ростема в «Шахнаме» — «техемтен» («мощнотелый»). Мы имеем пехлевийские прототипы имени Ростем Rotastahm и даже Rodas-tam-i Dastan. Почему же нет прямого сопоставления с авестийским именем? Это может быть объяснено недоразумением: одна и та же графема могла быть прочтена и как Ростем и как Заешм. Заешм (в «Шахнаме» — Задшем) по преданиям — потомок Тура, дед Афрасиаба (в частности именуемый Табари прямо Рустамом!). Неудивительно, что в эпосе тюркских народов Ростем иногда выступает как защитник Турана в борьбе с Ираном. С другой стороны, то же имя Заешм в преданиях носит Нариман — прадед Ростема. (обратно)247
Здесь Фирдоуси дал точное описание хирургической операции, известной под названием «кесарево сечение», и произведенной по указанию Симорга «под наркозом» (опьянение вином). (обратно)248
В подлиннике непереводимая игра созвучных слов: «(Рудабе) воскликнула: берастам — освободилась, кончилась мука, и мальчику дали имя Ростем (ростам)». (обратно)249
Эпизод с куклой, хотя и отражает возможный обычай, все же возбуждает сомнения. Скорее всего — поздняя интерполяция. (обратно)250
Дословно: «устроили праздник в голестане». (обратно)251
Гурабе — по-видимому, населенный пункт или замок, где, по преданию, находилась семейная усыпальница предков Ростема. (обратно)252
Перевод строки подлинника: бепай машк-е сара конам хак ра, т. е. «ногами изотру землю так (мелко), как растирают мускус». (обратно)253
В оригинале сложнее: сар-е мах-е ноу хормоз аз мехр мах, т. е. «в начале нового месяца, в день Хормоза (1-го дня) месяца Мехр». (обратно)254
Исходя из старых рукописей, этот популярный эпизод представляется сомнительным. Возможно позднейшая вставка. (обратно)255
Гора Бисотун — массивная скала с знаменитой высеченной на ней клинописной надписью Дария I (Бисотунская, или Бехистунская надпись). Бисотун (букв, «без колон») — это позднейшее народное осмысление древнего названия скалы Bhagastana, по-видимому в первоначальном значении «место богов» (Bhaga — податель благ, Бог). (обратно)256
Сепенд — гора, упоминаемая и в Авесте и в пехлевийских источниках. Этимологически связана с именем Исфендиара — Спенто-дата, Спендад. (обратно)257
В оригинале: Нериман, который «похитил мяч у смелых» — (термины игры в поло), т. е. выиграл = победил отважных противников. (обратно)258
Характерный для многих народов Востока жест, выражение крайнего удивления. (обратно)259
Хервар — мера веса, не вполне определенная, — собственно, вьюк осла (около 300 кг). (обратно)260
Имеется в виду появление Зердешта (Зороастра). (обратно)261
Речь идет об Афрасиабе. (обратно)262
Т. е. от Афрасиаба. (обратно)263
В конце сказания о Менучехре нет философского лирического отступления (обычного в конце других сказов). Но самое содержание наставлений Менучехра делает излишним подобную концовку. (обратно)264
Новзер (ноузар — ) — в «Шахнаме» — владыка Ирана, старший сын Менучехра. В Авесте Naotara — эпоним рода Naotariya и тоже сын Менучехра. В ряде источников (арабских) короткое и неудачное правление Новзера выпадает из изложения (после Менучехра следует прямо Заб-Зов).
) — в «Шахнаме» — владыка Ирана, старший сын Менучехра. В Авесте Naotara — эпоним рода Naotariya и тоже сын Менучехра. В ряде источников (арабских) короткое и неудачное правление Новзера выпадает из изложения (после Менучехра следует прямо Заб-Зов).
(обратно)
265
Так и в подлиннике, дословно рах-е мардоми — «путь человечности». Описание смуты и анархии в следующих стихах возможно не только почерпнуто из источников, но и отражает события современной автору действительности. (обратно)266
При шахе, т. е. при Менучехре, которого престарелый Феридун поручил заботам Сама. (обратно)267
Пешенг — здесь владыка Турана (в тексте: салар-е ту ран пашанг). В «Шахнаме» — сын родоначальника владык Турана и брат Висе. В «Шахнаме» встречаются и другие персонажи с именем Пешенг. (обратно)268
Барман — один из сыновей Висе, брат Пирана. Герсивез — брат Афрасиаба — главный виновник гибели Сиявуша, павший позднее от руки мстителя Кей-Хосрова. В том же плане его имя (в форме Keresavazda) встречается и в Авесте. Агрирес — другой брат Афрасиаба. В «Шахнаме» дан в положительном плане, это — мудрый и гуманный туранский витязь. Агрирес будет убит братом за освобождение пленников-иранцев. Равно упоминается и в Авесте (Aghra-ratha). В подлиннике его имя дано в форме «Агрир», но полная форма — Агрирес. В дальнейшем изложении встречается, чередуясь, в обоих формах. Гольбад — сын Висе, брат Пирана. Висе — сын Задшема (Заешма), брат Пешенга, отец Пирана, Гольбада, Бармана и других, отмеченных в «Шахнаме» витязей Турана (старые формы имени: пехл. Wesa, авест. Wesak, Waesa). (обратно)269
Афрасиаб (Афрасьяб) — в «Шахнаме» потомок Тура, сын Пешенга, самый мощный богатырь и (позднее) владыка Турана, временно как захватчик владевший и престолом Ирана. Ожесточенный враг «истинной веры», — добра и, следовательно, Ирана. Ревностный поклонник Ахримана, иногда даже с ним отождествляемый. Афрасиаб отчетливо выступает в Авесте как претендент на власть в Иране (троекратная попытка овладеть фарром — ср. его три боя с Ростемом). В злобе против светлых сил, не поддержавших его притязаний, он поклялся «смешать на земле» грех и святость, величие и низость, красоту и безобразие. Образ Афрасиаба, наряду с образом Зохака (а в зороастрийской литературе и Искендера-Александра), стал синонимом зла, символом тирании. В связи с этим в классической, а традиционно и в новой персидской литературе, Афрасиаб часто именуется просто торк, т. е. «туранец», «тюрк». (обратно)270
В предыдущем воинственном и патриотическом (туранском) выступлении Афрасиаба, этом своеобразном гимне мести, мы находим также и отражение идей возмездия, нравственного закона, господствующего у туранцев. (обратно)271
Имеется в виду Менучехр (но, возможно, и Феридун). (обратно)272
Амол — резиденция кеянидов Ирана. (обратно)273
Гершасп — по-видимому, здесь у Фирдоуси имеется в виду именно Сам. (обратно)274
В подлиннике: ченан бод ке хоршид шод на падид. Речь идет о солнце, которое затмила пыль, поднятая иранским войском. (обратно)275
Арман — в тексте поэмы арман замин (земля Арман). Территория судя по контексту, в восточном Иране. (обратно)276
Хезерван и Шемасас — туранские витязи, павшие последствии в бою с Залем и Кареном. (обратно)277
Фарсанг — иначе фарсах — мера длины, равная расстоянию, проходимому за час пути (в среднем 5—7 км). (обратно)278
В подлиннике: до лашкар бесан-е до дарйайе чин — Два войска, подобно двум морям Чин. (обратно)279
В оригинале еще дигар бар — «вторая битва», если считать первой описанный выше бой Бармана с Кареном и Кобадом. (обратно)280
Тус с Гостехемом — сыновья Новзера; Тус — старший сын и, казалось бы, бесспорный наследник престола Ирана, но он был отвергнут Залем и «народом». Имя Тус в формах Tusa, Taosa встречается в предысточниках «Шахнаме». Гостехем, точнее Гостехм от авест. Wistaxma (примерно в значении «насильник»). Здесь брат Туса, но ниже будут отмечены и другие лица с именем Гостехем — и при Кей-Кавусе и в сасанидское время. (обратно)281
Парс — так в оригинале. Очевидно, в смысле Фарс. (обратно)282
Заве (в основном варианте Вуллерса Зав) — гора (завкух). Форма Заве взята из вариантных бейтов и как название населенного пункта указана в средневековом географическом словаре Якута. (обратно)283
В оригинале — третья: бар-е саевом (см. прим. 279). (обратно)284
Здесь переводчик частично использовал вариант текста Вуллерса. (обратно)285
Можно предположить, что воины идут на Фарс прямым путем через пустыни центрального Ирана: Деште-Кевир и Деште-Лут. (обратно)286
Далее бейт Вуллерса: расиданд андар шабестан фераз йалан о бозорган-е гардан фераз. «Пришли в (его) покои витязи и горделивые вельможи» пропущен в переводе, так как, по мнению переводчика, приход в «шебестан» (внутренний покой) мало вероятен. На наш взгляд, можно было бы сохранить, по связи со стихами 9305—9306 (уход из шатра Ноузера). (обратно)287
Месяц Бехмен — 11-й месяц персидского солнечного года (соответствует январю-февралю). Здесь отражена мысль об изливающем влагу весеннем облаке абр-е бахман, с которым сравниваются глаза героев. (обратно)288
Также возможно осмысление: «ожесточись сердцем» (дель сахт гардан). (обратно)289
В тексте дерафш-е сиах (знамя Турана). Позднее черное знамя окажется исторической эмблемой Аббасидов. (обратно)290
Хирменд — река Хильменд (фонетический вариант). (обратно)291
Гурабе — могилы предков Ростема. (обратно)292
На наш взгляд, настоящее выражение, возможно, свидетельствует не о быстроте движения, а об отсутствии колебаний перед отправлением в путь. (обратно)293
Здесь речь идет о фактическом воцарении Афрасиаба, завладевшего регалиями иранских царей — носителей фарра. (обратно)294
Подобная устремленность резко и принципиально отличает захватчика Афрасиаба от избранников — «законных» владык Ирана. Последние, всегда «преисполнены благих намерений», если даже и уклоняются позднее от прямого пути. (обратно)295
Борзин — здесь сын Гершаспа, потомка Джемшида. Его имя мы встретим и дальше в царствования Кей-Кобада и Кей-Кавуса, но имя Борзин носили и другие персонажи сасанидской части «Шахнаме». Хоррад — иранский витязь: это имя будет еще раз отмечено при кеянидах. (обратно)296
Это несколько неожиданно звучит в устах туранца Агриреса. Дело, конечно, в том, что Агрирес, наделенный чертами благородства и гуманности и как бы «иранец душой» (как и некоторые другие туранцы в «Шахнаме»), противопоставлен активно воплощающему зло туранцу же Афрасиабу. (обратно)297
Здесь Агрирес уже предстает в ореоле служителя Йездана, на что ему дает право способность различения добра и зла. (обратно)298
Зов — новоизбранный владыка Ирана из рода Феридуна. У Фирдоуси Зов, 86-летний старец, сохраняет традиции «носителей фарра». (обратно)299
Здесь в речи Заля звучит «глас народа»: бесспорно законный наследник Тус, как и его брат, не удовлетворяют требованиям идеального справедливого государя. С другой стороны, здесь и общая тенденция систанского цикла — примат героев Систана из рода Сама. (обратно)300
Здесь в подлиннике имя Зов, рифмуясь с «у» (местоимением «он»), звучит как Зу:надиданд джоз пур-е тахмасп зу
ке зур-е кейан дашт (о) фарханг у
301
Строки, посвященные голоду в стране, звучали актуально в современной поэту действительности, отражали реальные бедствия в жизни народа. (обратно)302
Джейхун (Аму-Дарья) — основной рубеж Ирана и Турана, тюркоязычных (в основном) и ираноязычных территорий средневековья. (обратно)303
Хотан — город в восточном (Китайском) Туркестане, некогда центр буддизма, упоминаемый в источниках с III в. н. э., а с названием Йоткан (Yu Tien в китайской передаче) и ранее — во II в. до н. э. (обратно)304
Хергах — в нарицательном значении — дворец, резиденция. Здесь — населенный пункт, город. (обратно)305
Характерна тенденция возвеличения Фарса-Персиды — будущего исторического центра Ираншехра. (обратно)306
В подлиннике точно — 86 лет. (обратно)307
Гершасп — в «Шахнаме» владыка Ирана, последний в династии пишдадидов. Образ Гершаспа как шаханшаха неясен, и самое появление его в этом качестве представляется как бы долгом традиции и не вполне совпадает с предысточниками. (обратно)308
Сепиджаб (эсфиджаб-эспиджаб) — город в Мавераннахре. (обратно)309
Обоснование преданности иранцев «древнему престолу» — выражение народной мечты о справедливом царе. (обратно)310
Так и в подлиннике: тази аспан. Арабские кони издавна славились своим бегом, но возможно, что здесь тази означает просто «скаковой», «гончий» от основного значения корня тахтан-таз — гнать. Тогда асп-е тази, возможно, просто «скаковая лошадь» — «скакун» — необязательно арабский! Ведь парфянские всадники, хорезмийские конные латники имели свои породы скакунов (как и теперь породы среднеазиатские: туркменские кони и др.). (обратно)311
Рехш — имя богатырского коня Ростема с нарицательным значением — алый, огнистый (о масти коня — золотисто-рыжий с белыми подпалинами) ; часто в оригинале дается в тавтологическом сочетании рахш-е рахшан — «блистающий Рехш» (корень рахш — блеск, солнце, сияние). (обратно)312
Стихи 10257—10258 в тексте Вуллерса включены в предшествовавший эпизод. В переводе оформлены как начало эпизода о походе Заля против Афрасиаба. Удары камня, молота в чашу (котел и т. п.), как и бой барабана, на Востоке — сигнал к отправлению (каравана, войска). (обратно)313
Точнее говорить о приходе Заля с войском из Забулистана, а не о выступлении в поход. (обратно)314
Реалистическая подробность похода конного войска, ориентирующегося в пути на пастбища. (обратно)315
Под Ираном разумеет здесь уже собственно запад страны — Фарс. Заль и его дружины переходят пустыню Дашт-е кавир, и приближаются к Рею, где обе стороны готовятся к решающей встрече. (обратно)316
Из Кеев, т. е. «царственного происхождения». Готовый к трудам — дословно: «на царском троне препоясанный», (завязать пояс — камар бастан — означает готовность к делу...). (обратно)317
Дословно: «с блеском-ореолом (фарр) и обликом-станом (борз) царей (кейан)». (обратно)318
Колун — имя ту райского витязя. Возможно и чтение Калун. (обратно)319
Перевод по общему смыслу. Дословно: «и отсюда ступай до двери (дворца) государя» — ваз эйдар бероу та дар-е шахриар. (обратно)320
Интересное сочетание в смысле «Божией милостью и волею народа». (обратно)321
В подлиннике говорится не о ладах, а сказано «зир» и «бем» — названия самой высокой и самой низкой («басок») струн тара. (обратно)322
Характерный момент, особенно часто отмечаемый в «героической части» поэмы. Царь должен царствовать, богатыри — сражаться. (обратно)323
Кей-Кобад — новый владыка Ирана, основатель династии кеянидов, давший ей свое имя. Кей-Кобад — составное имя, — сочетание титула кей, кави (царь) с личным именем Кобад — арабизованная и новоперсидская форма, авест. Кави-Кавата (пехл. Кав[б]ад). Авеста знает Кей-Кобада как обладателя «фарра» и эпонима династии. Из восьми его преемников — «Кави», упомянутых в Авесте, некоторые отсутствуют, а некоторые не совпадают с именами кеянидов «Шахнаме». Авеста и пехл. литература не дают точной генеалогии Кей-Кобада. несомненно связанного родством с предшествующей династией Феридуна-Менучехра. Арабоязычные авторы противоречиво говорят о Кей-Кобаде, устанавливая его родство даже с систанским домом: Кей-Кобад муж сестры Шехрбану-Ирем, — жены Ростема (матери Фераморза). В последнем случае любопытно отметить возможность осмыслить поездку Ростема на Эльборз как водворение на престоле своего ставленника-родственника. Кстати, эпизод пребывания Кей-Кобада в замке на Эльборзе отсутствует в предысточниках Фирдоуси. В «Шахнаме» царствование Кей-Кобада продолжается 100 лет, в пехлевийской литературе — 15 лет. Вообще образ Кей-Кобада у Фирдоуси несколько возвеличен по сравнению с предысточниками.(обратно)
324
Мехраб — дед Ростема. (обратно)325
Гостехем — сын Новзера. (обратно)326
Истоптанная на огромном пространстве яростного боя земля обратилась в пыль, повисшую в воздухе. В результате этого земных поясов-кешверов стало шесть (вместо семи), а в небе прибавилась новая — восьмая сфера. Образ, широко использовавшийся ранними классическими поэтами (Онсори, Моэззи и др.). (обратно)327
Муган — территория в северо-западном Иране; Дамган — территория и город в восточном Иране. (обратно)328
Эрженг, или Эртенг обычно переводится как «картинная галерея», создатель которой Мани — религиозный реформатор Ирана III в., основатель манихейства, вошел в литературу как образ величайшего мастера-живописца. Основанием такого образа-словоупотребления служат манихейские рукописи, обильно украшенные миниатюрами, в частности изображениями людей. (обратно)329
В оригинале: «голова рожденного седым Заля побелела, как снег (чо барф гашт). (обратно)330
Здесь Кей-Кобад по существу не устанавливает, а как бы подтверждает инвеституру на владение Систаном-Нимрузом, данную еще Менучехром Саму. (обратно)331
Пулад — иранский витязь. Ниже будет отмечен другой Пулад — туранец. (обратно)332
Истахр — столица первых Кеянидов; один из анахронизмов «Шахнаме». Основание Истарха (пехл. Стахр), по-видимому, связано с разрушением столицы и дворца ахеменидов в Персеполисе Александром. Неподалеку от развалин Персеполиса и возник Истахр, бывший в сасанидское время религиозным центром Ирана. Мусульманская легенда говорит о неугасимом огне Истахра, погасшем внезапно в ночь, когда родился Мухаммед. (обратно)333
Рей (древняя Ragha) — один из древнейших городов Ирана. Упоминается еще в Авесте как одно из мест, созданных Ахурамаздой. В др.-перс. клинописи о нем говорится как о мидийском городе. Упоминается Рей также в библейских апокрифах. Развалины Рея сохранились в нескольких километрах к северу от современного Тегерана. (обратно)334
Кей-Ареш — авест. Kavi Arsan, упомянутый как правитель Хузистана и родоначальник парфян-аршакидов; Кей-Пишин — авест. Kavi Pisina, Pisinanh — правитель Парса; Кей-Армин — правитель Кермана. Таким образом все они упоминаются в предысточниках «Шахнаме» как внуки Кей-Кобада, сыновья его преемника, Apiwanhu, который отсутствует в «Шахнаме». (обратно)335
Шах Кавус — (Кей-Кавус) — владыка Ирана. В «Шахнаме» сын и преемник Кей-Кобада, в предысточниках, — его внук или брат. Но дело не только в некотором «генеалогическом» несоответствии «Шахнаме» и предысточников, но в существенном изменении, безусловном снижении образа Кей-Кавуса в «Шахнаме». Кей-Кавус — в Авесте Кави Усазан — известный и ведам (Усанас Кавйа) — образ значительный. Кей-Кавус — храбрый и мощный носитель фарра, строитель семи чудесных дворцов на Эльборзе, повелевавший дивами Мазендерана. Кей-Кавус, побуждаемый желавшими его гибели дивами, выступает в гордыне против Йездана и временно лишается «фарра». В «Шахнаме» — Кей-Кавус в известном смысле принесен в жертву систанской тенденции вообще, величию Ростема — в частности. Нет чудесных дворцов на Эльборзе. Поход в Мазендеран — выражение безрассудства Кей-Кавуса, а победа над дивами — заслуга только Ростема. В полете Кей-Кавуса на небо больше тщеславия, чем богоборчества. При наличии положительных моментов в образе Кей-Кавуса (величие, справедливость и др.) — подчеркивается его легкомыслие, тщеславие и другие черты, как фон, особенно выделяющий истинную силу и величие систанского дома. Возвеличенье «спасителя Ирана» — Ростема и снижение образа Кей-Кавуса — косвенное отражение народной тенденции Фирдоуси. (обратно)336
Название месяцев солнечного персидского года: Дей — 10-й месяц, соответствующий декабрю-январю, а также 8-й, 15-й и 23-й дни каждого месяца. Бехмен — 11-й месяц, соответствующий январю-февралю. Азер — 9-й месяц — ноябрь-декабрь, Фервердин — 1-й месяц — март-апрель. (обратно)337
Явная натяжка. На дивов войной ходили и Хушенг и Тахмурес. При Феридуне и Менучехре в Мазендеране и Кергесаране совершал свои подвиги Сам. У Фирдоуси возможна еще тенденция возвеличить будущий подвиг Ростема. Может быть с этой елью подчеркивается особая «лютость» дивов Мазендерана. (обратно)338
В оригинале «глины не смыв», но речь идет о мыльной (благоухающей — хошбуй) глине, и перевод верен по существу. (обратно)339
Дословно: не испробовав из рук судьбы «горячего и холодного» сард о гарм. Обычное народное, закрепленное в литературе, выражение-образ. (обратно)340
Характерное положение: владыка Ирана — в своем роде primus inter pares — «первый среди равных» (обратно)341
Милад — иранский богатырь, сын Горгина. (обратно)342
Эсперуз — название горы, «очень высокой», как говорят средневековые словари, но не сопоставляемой с какой-нибудь реальной вершиной. (обратно)343
Стих дан в переводе по варианту. В основном тексте Вуллерса говорится не о слонах, а о дивах. (обратно)344
В оригинале ботхане — кумирня с изящными статуэтками-кумирами. (обратно)345
Резван — в Коране имя хранителя-привратника райских садов. (обратно)346
У Фирдоуси в ряде мест сквозит осуждение этой «агрессии» Ирана, войны без повода, ради войны хотя бы против дивов. (обратно)347
Сендже — собственное имя демона. (обратно)348
Эрженг — здесь мазендеранский предводитель, причисляемый к демонам. (обратно)349
В оригинале: пулад-е ганди, что обычно осмысляется как Пулад, сын Ганди. Может быть, вернее было бы перевести «облачный — подобный облаку, туманообразный Пулад» (ганди в нарицательном значении — облако), что подходит для демона. (обратно)350
Эпизод прощания Ростема и Рудабе дан в соответствии с эпической традицией (ср., например, прощание Феридуна с матерью). (обратно)351
В оригинале хафт х[в]ан, что можно было бы перевести «семь привалов Ростема». Обычно переводится «семь подвигов», но, как видно, не все «приключения» — подвиги лично Ростема: «герой» первого —Рехш, эпизод с колдуньей — не подвиг и т. д. Подвиги Ростема во многом совпадают с семью подвигами другого любимого героя народных сказаний — Исфендиара. Можно предположить, что цикл подвигов Ростема — повторный. (обратно)352
Для наименования боевого одеяния Ростема в оригинале используется специальный термин бабр-е бейан. Это — панцирь из шкур барса или леопарда, шлем в форме головы зверя. (обратно)353
В «Шахнаме» витязи обычно начинают бой даже с драконами с вопросов о противнике и с самовосхваления в целях устрашения врагов. Это — общепринятый эпический прием (ср., например, русские былины, песни, диалоги героев Илиады). (обратно)354
В подлиннике: чун руй-е занги («подобно лицу занзибарца — зенги», чернокожего, уроженца Африки вообще). (обратно)355
Авлад (оулад) — туранский богатырь, поставленный впоследствии Ростемом правителем Мазендерана. (обратно)356
Образное выражение, обычное у классических поэтов, — повидимому, народного происхождения. (обратно)357
Белый див (див-е сапид) — собственное имя владыки дивов Мазендерана. Образ Белого дива у Фирдоуси сохранил черты глубокой мифологической древности. (обратно)358
Он десять ресенов имеет в плечах, — Здесь ресен — мера длины. Вообще означает «веревка, нить, шнур». (обратно)359
Бозгуш и Нермпай — название чудовищ. Бозгуш — козлоухие; Нермпай — мягконогие, или по существу «ремненогие» (пай аз довал). В основе мифа о ремненогих сказочных чудовищах лежит, вероятно, представление об осьминогах. (обратно)360
Слоны, разумеется, не могли быть в географическом Мазендеране. Это — фантастика, основанная на реалиях Индии. (обратно)361
Ржание Рехша, возвещающее о приближении спасителя Ирана Ростема, становится символом, нередко использовавшимся поэтами Ирана, в том числе и XX в. (обратно)362
Бехрам — иранский витязь, здесь сын Гудерза (в «Шахнаме» будут отмечены и другие герои, носящие имя Бехрам). (обратно)363
Фериборз— иранский витязь, сын Кей-Кавуса; Роххам — иранский витязь, сын Гудерза. (обратно)364
Ферхад — имя иранского героя, здесь — сына Зеваре, брата Ростема. Имя Ферхад восходит к др.-перс. Frahata, пехл. Frahat и было очень распространено в парфянское время (Фраат). (обратно)365
Здесь в переводе дано примерное осмысление не вполне ясного — с игрой слов — стиха: ке дар джам-е тир аст би аб мей. Дословно стих может быть переведен двояко: 1) «в чаше Тира (планета Меркурий) вино без воды (или блеска?)», что мало вероятно в контексте, и 2) «в темной чаше (тир-тире) и вино без блеска», что можно понять как поношение лично Кей-Кавуса, в связи с последующим самовосхвалением «царя Мазендерана». (обратно)366
Келахур — мазендеранский богатырь, имя его иногда встречается в форме Келахун. (обратно)367
Горгин (т. е. «волчий») — иранский витязь, отец Милада. С его именем связано название территории Горган. «чей родитель Азад» — в переводе отражается оригинал: бе горгин-е азадеган, т. е. Горгин потомок (из рода) Азаде (или Азада), но на соответствующего предка нет указаний источников. Возможно иное толкование, тем более, что калькуттский текст дает сочетание этих слов с союзом «и», тогда вся фраза может быть переведена следующим образом — «Горгин и (другие) «благородные»!. (обратно)368
В подлиннике игра слов: ке джуйа бодаш нам о джуйанде буд, т. е. «имя его было Джуя (ищущий) и он был ищущим (джуйанде) имени (т. е. славы)». (обратно)369
Зенге — сын Шаворана (брат Ревниза) — иранский витязь времен Кей-Кавуса и Кей-Хосрова. (обратно)370
В подлиннике непереводимая игра слов (повтор): Горазе и гораз (вепрь, кабан). В виде исключения в стихе 13603 встречаем Гораз как имя собственное. С орлами на стяге... — в тексте Вуллерса и вариантах — дерафши бар афрахте хашт баз и перевод этой фразы правилен. Но на наш взгляд, десь возможна графическая ошибка, закрепленная поколениями переписчиков (написание вм.
вм.  т. е. баз вм. йаз). Йаз — это мера длины, примерно шаг, фут. В таком случае, стих надо переводить: «стяг возвышался на восемь футов» (т. е. Горазе с огромным восьмиметровым знаменем).
(У составителя примечаний, по-видимому были сложности с английской системой мер, шаг ближе к ярду(91,44 см), а лучше сразу ко всем понятному метру, но никак не к футу(30,48 см). Всё таки восемь футов и восемь метров это очень даже неравнозначные величины. — ithis.)
(обратно)
т. е. баз вм. йаз). Йаз — это мера длины, примерно шаг, фут. В таком случае, стих надо переводить: «стяг возвышался на восемь футов» (т. е. Горазе с огромным восьмиметровым знаменем).
(У составителя примечаний, по-видимому были сложности с английской системой мер, шаг ближе к ярду(91,44 см), а лучше сразу ко всем понятному метру, но никак не к футу(30,48 см). Всё таки восемь футов и восемь метров это очень даже неравнозначные величины. — ithis.)
(обратно)









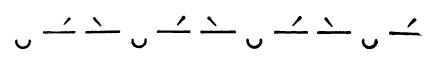
Последние комментарии
2 дней 5 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 14 часов назад