Южный Урал, № 6
Елена Хоринская СТИХИ
УРАЛЬЦЫ — СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА
I
В Туркмении есть мыс Тахиа-Таш…
О нем мы раньше думали едва ли,
Но он теперь знакомый, близкий, наш,
Как будто там мы сами побывали.
Прохлада горных рек у нас с тобой,
Густой травой заросшие поляны,
А там — пески, сухой, колючий зной,
Валами поднимаются барханы.
Когда-то расцветали там сады
И виноградные качались лозы;
Все меньше в реках делалось воды,
Озера стали солоны, как слезы…
И люди уходили от беды,
И люди отступали пред пустыней.
Им снились реки, полные воды,
Разлив озер, волнующий и синий…
Угрюмо смотрят русла мертвых рек.
Бредет верблюд чуть видною тропою…
И вот сюда приходит человек,
Простой, совсем такой, как мы с тобою.
II
В своей палатке он тревожно спит,
Идет чуть свет песчаным бездорожьем.
Кто он, кто этот смелый следопыт?
Он — большевик. Он отступить не может.
В горячие и памятные дни —
Это ему доверила Отчизна —
Вернуть реку, зажечь над ней огни,
Построить светлый город коммунизма.
И мы с тобой шагаем рядом с ним
По руслам, там, где соль блестит, как льдины.
Пройдем, пробьемся, вместе победим,
Пошлем на помощь во-время машины.
Чтобы в пустыне новый город рос,
Чтобы воде звенеть на перекатах,
Мы в срок дадим уральский землесос,
Мы в срок дадим уральский экскаватор.
Их повезем, быть может, мы с тобой,
Через пустыню прорываясь с боем,
Чтоб животворною, живой водой
Наполнить русло древнего Узбоя.
Хлебам расти, садам цвести навек
Над ширью полноводного канала.
В нем будут струи наших горных рек,
В нем будет сила нашего Урала!
УРАЛЕЦ
Чтоб до краев налить водой
Арыки смуглому туркмену,
Уральский мастер молодой
Уже с зарей спешит на смену.
Искрится и сверкает сталь,
Лучи сверкают тоже сталью…
А поезда увозят вдаль
Компрессоры с его деталью.
Вот перед ним его станки,
Их три, а иногда четыре…
И руки ловкие крепки,
И стал в плечах теперь пошире.
Он поспевает здесь и там
И новичку еще поможет.
Он по-хорошему упрям,
На многих, может быть, похожий,
Но вспоминаются не раз
И взлет бровей, и русый волос,
И мягкий отсвет серых глаз,
И по-ребячьи звонкий голос,
Его уральский говорок,
Неторопливая походка…
Колонкой цифр и сжатых строк
О нем рассказывает сводка:
За месяц втрое выдал он,
Лишь сердца подчиняясь зову…
…А эшелон идет на Дон,
На Волгу, в Крым или в Чарджоу…
В КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО
Над сонным городом встает рассвет.
В конструкторском бюро не гаснет свет.
За окнами отроги дальних гор.
Седые сосны. Снеговой простор.
Покрыла снегом скверы и дома
Морозная уральская зима.
Шуршат листы. Чертежных досок ряд.
Здесь в эту зиму до зари не спят.
От чертежей, не отрывая глаз,
Вникают люди в тот большой заказ,
В котором и мечты их и дела,
Который нынче Родина дала.
На окнах тонко выведен узор.
Зима. Мороз. В снегу заводский двор.
А люди здесь, склоняясь у доски,
Как будто видят желтые пески…
Над сонным городом встает рассвет.
В конструкторском бюро не гаснет свет.
Торопит время, говорит: — Спеши!
…Они до срока сдали чертежи.
НАМ МИР РАСКРЫВАЕТСЯ ШИРЕ
На гребне бархана оставленный «ГАЗ»,
Ни птиц, ни огня, ни дороги.
Вдали за барханами вечер погас,
И ноют усталые ноги…
В походах давно ты привык ко всему,
Бывал ты в краю этом прежде.
В походной палатке, раскинув кошму,
Ты спишь в запыленной одежде.
А утром, лишь только забрезжит рассвет,
Уйдешь по неведомым тропам,
Туда, где за гребнем теряется след
Мелькнувшей вдали антилопы.
На гребне бархана оставленный «ГАЗ» —
Не взять ему этой вершины.
Но ты пробирался, бывало, не раз
И там, где не ходят машины.
И там, где стремительных речек разбег
Да холод глубоких ущелий,
Ты жил на зимовках, облазил Казбек,
Свинцовые помнишь метели…
Поля Подмосковья… окопы и снег…
И голос вождя на привале…
Он в сердце глядит тебе, тот человек,
Чьим именем стройки назвали.
И к цели ты шире шагаешь, солдат,
И мир раскрывается шире…
…А белые голуби к солнцу летят,
Как песня о счастье и мире.
В. Наумов СТИХИ
ТРАССА ЖИЗНИ
Когда над степью экскаватор
В ковше поднимет чернозем,
Мы вспоминаем —
Здесь солдатом
Ты проходил в сорок втором.
Здесь пролегала
Трасса смерти,
Видны еще войны следы.
Дорогу экскаватор чертит
Для голубой донской воды.
На трассе нового канала
Моторы мощные гудят —
Здесь трасса жизни,
Здесь начало
Второго подвига солдат.
СЧАСТЬЕ
Не забыть нам лет,
Когда в России,
В ожиданье
Истомясь с утра,
Старики с ребятами босыми
За селом
Встречали трактора.
Свежий ветер будто стал теплее,
Поколенья
Встретились с мечтой:
Дед всю жизнь
С лукошком жито сеял,
Внук ведет машину бороздой.
Знаем мы:
И вас дороги те же,
Что и нас,
Ведут из года в год
Тракторами
Сравнивает межи
В Венгрии,
В Болгарии народ.
И, быть может,
Вот сейчас вприпрыжку
Выбегает со двора
Венгра безлошадного сынишка
За околицу
Навстречу тракторам.
И апрельским утром,
Теплым, синим,
Принимает на свои поля
Помощь братскую
Родной России
Древняя венгерская земля.
И, взглянув
На вспаханное поле,
Говорит седой мадьяр сынам;
«Дождались и мы
Хорошей доли,
Завернуло счастье
В поле к нам!»
С. Лаптев ГОЛОС МОСКВЫ Стихотворение
В далеком Вьетнаме, горячем от зноя,
В Корее весеннею ночью холодной,
В момент передышки от боя до боя,
На кратком привале приемник походный
Кругом обступили друзья боевые.
И тихо. И лица становятся строже.
Настойчиво ловит Москвы позывные
В защитной фуражке радист смуглокожий.
В коробке трещат грозовые разряды,
Волна на волну набегает сначала.
Но вот устранились помехи, и рядом
Далекая русская речь зазвучала.
Далекая речь!.. Но такая родная,
И ближе ее не найдется на свете.
Она как в пустыне вода ключевая,
Она как уверенность в скорой победе.
И голос правдивый, пройдя все преграды?
И даль расстояний, звучит из эфира:
«Сжимая винтовки, уходят отряды
На битву во имя свободы и мира!..»
И. Якимов НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ Пьеса в девяти картинах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
О г н е в Д м и т р и й С е м е н о в и ч — агроном. О г н е в а Е л е н а П а в л о в н а — агроном-семеновод и лаборант. С а м о х и н В а с и л и й И в а н о в и ч — секретарь партийной организации совхоза. М а к а р Т р о ф и м о в и ч — секретарь обкома партии. Х л е б н и к о в А л е к с е й И в а н о в и ч — директор совхоза. Д о л г о п о л о в Ф е р а п о н т К о н с т а н т и н о в и ч — инженер-механизатор. С е р е д к и н К у з ь м а П е т р о в и ч — управляющий отделением совхоза. С у х о в е р х о в Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч — профессор, доктор сельскохозяйственных наук. П а в е л Т у р о в } Л и з а М о л о д ц о в а } П р о х о р М а л я в и н } трактористы. Н и к о л а й — шофер директора совхоза. Е р м и л ы ч — сторож. Рабочие, трактористы и трактористки, комбайнеры, поварихи, подросткиКАРТИНА ПЕРВАЯ
Конец зауральской весны. Степь. Полевой стан тракторной бригады у одинокого березового колка. Слева и справа два спальных тракторных вагончика. В левом вагончике через открытую дверь видна тумбочка, на ней телефон. Впереди самодельный стол и скамейки на врытых в землю столбах. Около берез Николай обтирает легковую автомашину «М-1». Он сильно прихрамывает на левую ногу. Заход солнца. Издали доносится гул работающих тракторов. Две поварихи накрывают стол. К Николаю подходит Ермилыч с берданкой за плечами.Е р м и л ы ч. Ну, как, Никола!.. Не надоело директора возить? Н и к о л а й. Нет! Интересно: все видишь и обо всем свое мнение имеешь… Е р м и л ы ч. Мнение? И на трактор обратно не тянет?.. Н и к о л а й. Еще как тянет-то: весной на трактор, осенью на комбайн. Все бы, кажется, отдал! А вот намедни попробовал на «дизеле» проехать (показывает на левую ногу) — не выжимает! Е р м и л ы ч. Зато на выдумки горазд, голова, стало быть, варит. А нога пройдет, Никола. Я вот тоже лет шесть тому назад, во время бурана, простыл — три года нога волочилась, а потом ничего — отошла… Н и к о л а й. С тех пор и сторожишь все? Е р м и л ы ч. Да… И до чего надоело… Зимой на отделении, а летом здесь сторожу да молодым завидую. Скучища! (Смотрит из-под руки в степь.) Что это? Никак управляющий наш верхом с поля несется? Кузьма Петрович! Уж не беда ли какая стряслась?
(Середкин, взволнованный, сердитый, вбегает и тяжело опускается на скамейку около стола, все вопросительно смотрят на него.)
С е р е д к и н (хватаясь за голову). Зарезали, подвели управляющего… Чуяло мое сердце. Эх, Кузьма, Кузьма, быть тебе опять битым! (Задумывается. Резкий звонок телефона. Середкин вздрагивает и бросается к телефону.) С е р е д к и н (в трубку). Управляющий отделением Середкин… (Оживляясь.) Здравствуйте, товарищ Долгополов… Дела? Хуже не придумаешь. (Удивленно.) Мне премию за выработку на трактор? (Горько смеется). Какие там премии, товарищ инженер… Меня агроном под суд хочет укатать… Беда! Налетел, как коршун, а у меня Прохор Малявин заовсюженную пустошь без предплужников пахал, а дед Панфил втихаря пшеницу вручную сеял. Скандал! (Кладет трубку на место.) И до чего мне не везет: третий год неурожаи мучают — сушь. В кои-то веки выскочил по выработке на трактор — так нет, опять заминка. Ну что особенного! Ведь дождик должен быть. Имел я право под дождичек рискнуть. (Смотрит на небо. В испуге.) Беда! Угробит меня этот агроном, чувствую. (Что-то вспомнив, срывается с места и бежит через стан в степь.) Е р м и л ы ч (провожая глазами Середкина). Обратно в степь погнал. (Николаю.) Лаптем щи хлебает наш Кузьма, да и мы вместе с ним. Н и к о л а й. Неосновательный, легкий человек. Е р м и л ы ч. Да уж куда легче… Сеем — только гектары считаем, жнем — корешки собираем: деда Панфила слушает — агронома нашел. По Сеньке и шапка! А наш-то орел возьми и нагрянь, как снег на голову… Н и к о л а й. Огнев? Боевой, как видно, агроном. Это же я его с парторгом и привез. Е р м и л ы ч. В корень смотрит агроном. У нас ведь как: мягких гектаров много, а хлеба мало. А земля-то, она матушка, старанье любит. Ты к ней волком — она к тебе мачехой. Нет! При товарище Макаре этого баловства не было. Ферапонт Долгополов такие порядки завел. Ученый человек, слышь-ка: два института окончил, за границей был, говорят, шесть лет здесь за агронома и механика работал, а вот поди ж ты… Н и к о л а й. Ученый, да не той науке, как видно. Е р м и л ы ч (испуганно). Не той! Так их сколько наук-то? Н и к о л а й (твердо). Две! Одна настоящая — наша, а другая фальшивая — из-за океана. Е р м и л ы ч (в смятении). Из-за океана? Это, значит, чтобы помешать нам? Счастье-то наше им, стало быть, поперек горла костью встряло! (Немного подумав.) А… а не думаешь ты, Никола, что Ферапонт этот подведет нас?.. Н и к о л а й. Долгополов-то? Не пойму я его никак… Искры в нем нет, по-моему, настоящей! Е р м и л ы ч. Искры? Н и к о л а й. Ну сам посуди: изобрел я с кузнецами стогомет тракторный, сделали его в кузне. Идет, но на поворотах ломается: из утиля ж смастерили. Говорю инженеру: «Помогите, вещь нужная… Косим мы, мол, сено тракторными сенокосилками, а убираем на волах и вручную… Сколько добра гноим!» — А он: «Фантазии, говорит, глупости, пусть институты изобретают, а нам некогда». Е р м и л ы ч. А ты бы к директору, к Алексею Ивановичу… Н и к о л а й. Некогда ему. Подумываю я товарищу Макару написать. Хорошо о нем народ говорит… Я-то его не помню. Е р м и л ы ч. Товарища Макара? Ты еще пацаном тогда был… Вот человек — огонь, сила. Из наших трактористов, здешний. Три года здесь директорствовал, а потом и пошел, и пошел в гору… Сначала в райком взяли первым, потом в другой, бо́льший район перевели, а теперь — секретарь обкома! Вот ужо доберется он до нас… Н и к о л а й. Вот бы приехал!.. Е р м и л ы ч. К новому агроному со стогометом подайся… Раз он землю хочет прибрать к рукам, по-хозяйски — ему эта механика вот как нужна! Н и к о л а й. И то правда. Сделаю модель — к нему понесу. (Таинственно.) А сегодня хочу бригаду обрадовать. (Достает из кабины аккумулятор с переносными лампочками на подставках.) Сам сделал. Светить можно и на полевом стане, и в лесу, где угодно… Зарядка на четыре часа, а потом опять можно зарядить от трактора. (Оглянувшись, включает и выключает лампочки). Е р м и л ы ч (в восхищении). Ну и голова у тебя, Никола, ну и руки — золотые… Ведь это же какое удобство в отдаленности! Н и к о л а й (прячет агрегат в кабину). Сойдется смена на ужин — зажжем! Люблю, когда люди радуются, поют, пляшут; газеты и книжки после ужина можно читать… Только ты, Ермилыч, пока… молчок. Е р м и л ы ч (смотрит куда-то вдаль). Сколько в народе смекалки этой? Собрать бы ее всю да в дело… Эх-ма, соколики мои! (Слышен гонг). Н и к о л а й (волнуясь). Слышишь, дневная смена кончилась. Сейчас придут.
(Подходят с поля люди. Они поют:
Солнце село. В небе чистом
Зорька алая зажглась.
Нажимайте, трактористы,
И над ночью наша власть.
Торопись, ночная смена,
Заводи моторы все.
К вам придем на пересмену
Мы по утренней росе.)
Входит Лиза, ее догоняет Павел.
П а в е л. Поздравляю, Лиза. (Берет обе ее руки в свои.) Л и з а (смущаясь, пытается высвободить свои руки). И я тебя поздравляю… П а в е л (любуясь Лизой). В борозде, когда ты меня догоняла по выработке, я злился, жал во всю, а сейчас рад, что мы рядом. А ты? Л и з а. А мне все кажется: время несется быстро, а я ползу медленно. Скажи, у тебя за рулем не бывает такого чувства? П а в е л. За рулем я жаден, Лиза… Я все думаю: «Эй, Павел, смотри в оба, не упускай счастья из рук. Видишь, как оно бежит за плугом — еще корявое и сырое. Но подожди — какие здесь сады зацветут, какие хлеба поднимутся!» И кажется мне иногда: машина уже не коптит, вместо дизельного бака установлен на ней сверхмощный аккумулятор и вся она чистая, строгая, электрическая. А рядом на такой же машине — светлая, сияющая, как сейчас, мчишься ты, Лиза! И так мне хорошо, так радостно рядом с тобой. Л и з а (отстраняясь). Павел, об этом не надо… П а в е л (горячо). Лиза! Почему ты избегаешь меня? Нам надо объясниться… Л и з а (совсем смущаясь). Хорошо, только после…
(Справа вваливается шумная ватага трактористов и трактористок. Последним, переваливаясь, идет большой, медлительный и степенный Прохор Малявин. Лиза подходит к Малявину.)
Л и з а. Отгадай, Прохор, что это такое: маленький, да удаленький, не жнет и не сеет, только верхушки снимает и сор убирает; а дает урожаи. П р о х о р (застенчиво, почесывая в затылке). Это? Это… (решительно.) Плуг. (Всеобщий хохот. Все обступают Прохора. На сцене не замечаемые никем появляются Самохин и Огнев.) Г о л о с а. То-то и хлеб на твоей пахоте не растет, что ты плугами верхушки сшибаешь. — Это же бракодел, братцы! — Вы посмотрите, какая рожь на его прошлогодней загонке растет. — Колос от колоса — не слыхать девичьего голоса.. — Ты это кому, Прохор, мины подкладываешь, кому? — Эх ты, горе луковое, не угадал. Не плуг, а предплужник: он семена сорняков со стерней на дне борозды хоронит. Л и з а (Прохору гневно). Почему ты сегодня опять без предплужников пахал? Ты о чем думаешь, когда пашешь? П р о х о р. О заработке. (Смелея.) Я вчера на сто тридцать норму выполнил. Ч е й-т о г о л о с. И на пятнадцать сантиметров пахал… Липа! П а в е л (подступая к Прохору, гневно). А что вырастет на такой пахоте, ты не думал? Тебе все равно?
(Все смотрят на Прохора в упор, осуждающе. Прохор, растерявшись, пятится. Самохин и Огнев подходят, наблюдая. Все поворачиваются к ним. Прохор, воспользовавшись этим, исчезает.)
Л и з а. Ишь! Увидел начальство — и сразу в кусты… С а м о х и н (кивая вслед ушедшему Прохору). Вот почему мы с вами в обозе! И дело не только в Прохоре… Такие факты вскрыты и в других бригадах. Это зло живучее. Оно угрожает срывом задуманного нами большого дела. А ведь задумали мы не легкое. Товарищ Огнев говорил вам… О г н е в (горячо). Да! Побороть засухи, суховеи, сорняки, покорить стихию мы не сможем, если каждый не обуздает в себе такого вот… Прохора. Слепой человек не видит цели и не может победить. А цель-то какая! Сегодня ночью мы начинаем здесь, на Волчьих ямах генеральное, я бы сказал, наступление. (Показывает в степь.) Там больше двух тысяч гектаров. Когда-то массивы эти давали стопудовые урожаи. Г о л о с а: — Правильно. При товарище Макаре это было. — Земля была что надо… О г н е в. Но ее запакостили, засорили, распылили. Появились кое-где солонцы — ее забросили… А мы с вами сделаем эти поля вновь плодородными, соберем здесь невиданные урожаи, посеем травы, новую пшеницу с «Горок Ленинских». Семена уже зреют на нашем опытном поле. Елена Павловна нам обещает… (Оглядываясь.) Где же она? Л и з а. Елена Павловна на Сухом болоте пробы берет. О г н е в. Все продумано. Вот только для удобрения нехватает навоза, скота мало держим. Это единственное узкое место в нашем плане…
(Все окружают Огнева.)
Г о л о с а: — Почва уж очень бедная на наших Волчьих ямах!.. — Волки детенышей там теперь выводят!.. — Да и лес вы рубили как раз с той стороны, откуда суховей летом бьет… — Трудная земля, порченая!
(Радостно взволнованная вбегает Елена Павловна. У нее в руках кулек, наполненный землей.)
Е л е н а П а в л о в н а. Товарищи! (Огневу.) Митя! Вы посмотрите — какое богатство! Его там тысячи тонн.
(Торжественно высыпает из кулька половину содержимого на землю. Огнев склоняется к земле и, достав из кармана лупу, рассматривает пробу, все напряженно следят за ним.)
О г н е в (с досадой). Совсем темно. Ничего не видно. Н и к о л а й (появляясь вместе с Ермилычем, помогающим нести лампочки). Дайте-ка я посвечу. (Расставляет лампочки на земле, щелкает выключателем. Яркий свет. Все ошеломлены. Только Огнев, словно не замечая, откуда появился свет, рассматривает напряженно, через лупу, пробу.) О г н е в (вскакивая, радостно). Да вы знаете, что это такое? Изумительное открытие! Узкого места больше нет… Нет, вы скажите, что это такое? (Елена Павловна счастливо смеется. Все склоняются над пробой.) Г о л о с а: — Навоз вроде старый, товарищ Огнев. — Навоз? Разве в навозе коренья бывают? — Нет, братцы, не навоз… Е р м и л ы ч (рассматривая пробу). Торф, соколики мои, самый настоящий торф!.. О г н е в. Вот именно — торф! Тысячи тонн! Вы говорите — почва бедная. А разве нельзя новую богатую почву сделать? Торфование проведем — две подкормки, всем народом навалимся на землю… Лес? Пока взрослые деревья пересадим из лесной дачи, а потом саженцы подрастут. Поставим на сухом болоте мельницу — крошку торфяную делать… А? Сколько тогда можно с гектара взять? (Все с волнением смотрят на Огнева.) На первый случай — двести пудов на круг наверняка. Механиков возьмем за бока… Механиков… П а в е л (взволнованный). Возьмемся, товарищи. Нас двадцать трактористов… Если каждый даст полторы нормы за смену, а на подкормку родню созовем — осилим Волчьи ямы в срок!.. Я первый берусь две нормы вырабатывать и своих домашних на помощь бригаде поднять… Г о л о с а: — И я. — И я тоже. — Меня запишите. — Меня с прицепщиком Василием Грудковым, тещу Лукерью, Егорку — сынка (Самохин записывает). С а м о х и н. Правильно! Весь народ поднимем! Н и к о л а й (торжественно). Ужин, товарищи, подан. (Все шумно рассаживаются. Николай достает из кабины патефон, заводит его.) О г н е в. Ну теперь мы на линии, друзья… Теперь… Пусть уж волки с волчатами потеснятся.
З а н а в е с.
КАРТИНА ВТОРАЯ
Декорация та же. Ночь. Луна. Гул работающих тракторов. У левого края стола Самохин беседует с Лизой, у правого — Огнев с Николаем. Николай с увлечением рассказывает о чем-то, рисуя в воздухе рукой воображаемые линии. Огнев, слушая Николая, набрасывает чертеж в своем блокноте. Елена Павловна дремлет в кабине автомашины. Говорят полушопотом, чтобы не разбудить спящих в вагончиках людей.О г н е в (вставая). Так, так… Значит прямо на ходу скирдуют, а стожки можно впритирку рядом ставить? Н и к о л а й. Вот именно. (Встает.) В одну шеренгу. (Жестикулируя, Огнев и Николай уходят в степь.) Л и з а. Василий Иванович, помогите мне осенью поступить в институт. С а м о х и н. Что это ты как на пожар — так вдруг! Л и з а. Я колебалась, но сегодня товарищ Огнев, вы, Николай и Елена Павловна заставили меня решиться. С а м о х и н. При чем же тут институт? Мы говорили о Волчьих ямах. Ты наша лучшая трактористка, только что избрана комсоргом отделения, самого отстающего… Тебе и карты в руки! Л и з а. Но время летит так быстро! Сегодня мне исполнилось семнадцать лет, десять месяцев и двадцать дней. С а м о х и н (взглянув на ручные часы, смеется). Двадцать три часа и тридцать минут… Л и з а. А разве минутами не надо дорожить? Ведь из них возникают дни, месяцы и годы. А я хочу быть такой же, как Елена Павловна, как… С а м о х и н. А комсомольцы, отделение?.. Л и з а. Да, я очень беспокоюсь. Управляющий, Кузьма Петрович, такой тяжелый человек. Мы пришли к нему посоветоваться, как вытянуть отделение, наметили кое-что… А он отделался шуточками, высмеял нас. Ему бы только нажимать, а что будет через год, два — его не интересует. А мы обязательства взяли… С а м о х и н. И ты тоже? Л и з а. Ну, конечно! Берусь удвоить выработку в этом сезоне, делать вое на «отлично», подготовить себе смену, поехать в вуз и окончить его с отличием. С а м о х и н. О, вот ты какая! Л и з а. Уезжать сейчас отсюда очень не хочется… Но надо учиться, надо быть во всеоружии. А, Василий Иванович! Ведь надо?.. С а м о х и н. Надо! Л и з а. Как Павел Туров, например. (Мечтательно.) Во время штурма рейхстага нес знамя и был ранен… Гвардеец! И тысячник. Он уже третий год заочно в институте учится. Инженером будет… Ведь будет?.. С а м о х и н (смеется). Будет!.. Готовься и ты к экзаменам. Л и з а. Я готова… С а м о х и н. Тем лучше А о том, как вам сейчас на отделении помочь, — подумаем. Л и з а (обрадованная). Спасибо. (Быстро идет к правому вагончику и сталкивается с Павлом.) П а в е л. Лиза! Л и з а (растерявшись). Павел! (Молча уходит, Павел, удивленный, смотрит ей вслед, потом подходит к Самохину.) П а в е л. Мои партийные документы уже получены в райкоме… С а м о х и н. Знаю. Значит от отдыха ты отказался!.. П а в е л. Отдыхать в таких условиях я не могу. С а м о х и н (насторожившись). Что-нибудь случилось? П а в е л. Руки чешутся. С а м о х и н. С управляющим говорил?.. П а в е л. Уже и поссориться успел. У меня теперь, товарищ Самохин, такая жадность к земле, к работе, такое нетерпение! После Берлина почти два года на сверхсрочной пробыл, в армии заочником стал, а как прочитал в газетах о февральском Пленуме — потянуло в совхоз. Я Кузьме Петровичу прямо сказал, по-солдатски: «Теперь такое бескультурье на полях — позор!..» А он обиделся: «Какой ты, говорит, беспокойный!..» С а м о х и н. Тогда вот что: партийное поручение тебе. Помоги Лизе Молодцовой поднять молодежь на соревнование. Самое крупное отделение и самое отстающее. Здесь половина совхозных посевов. Предстоит огромная работа, особенно на Волчьих Ямах. П а в е л. Знаю. План товарища Огнева. Когда и как начнем? С а м о х и н. Завтра собирай с Лизой комсомольское собрание и… будь беспокойным, товарищ Туров, действуй! П а в е л. Есть! (Быстро уходит). С а м о х и н (один). Какая закалилась молодежь!
(Из темноты появляется Ермилыч.)
Е р м и л ы ч (таинственно). Хочу я, Василий Иванович… С а м о х и н (оглянувшись). А, Ермилыч… что? Е р м и л ы ч. По личному делу посоветоваться с тобой… С а м о х и н. Да. Е р м и л ы ч (подсаживаясь к столу). Из сторожей в звеньевые решил податься, по арбузам. (Показывает в степь.) Эвон там, на гриве, у речки песочек, легкость в земле необыкновенная — дыни и арбузы будут мировые. С а м о х и н. Но ведь тебе поди уже под семьдесят, Ермилыч? Е р м и л ы ч. Ну и что ж… В сторожах-то помирать неохота!.. С а м о х и н (обнимает Ермилыча за плечи). Ну, зачем, Ермилыч, помирать!.. Мы еще с тобой до коммунизма дойдем. А?.. Е р м и л ы ч. А что? Это ты, пожалуй, правильно рассудил, Василий Иванович, — дойдем! Значит действовать? Эх-ма, соколики мои, тряхнем, как бывало… Берегись, которые!
(Уходит. Входит Середкин. Он мрачен. Самохин, задумавшись, не замечает его. Середкин кашляет.)
С а м о х и н. Кто здесь? С е р е д к и н (мрачно). Вызывали? (Садится.) С а м о х и н. С твоими подчиненными беседовал. С е р е д к и н (испуганно). Опять на меня жаловались? С а м о х и н. И откуда у тебя, Середкин, эта боязнь людей.. Такие люди!.. Старичок этот, Ермилыч, говорил тебе об арбузах и дынях? С е р е д к и н. Ну разве мне до дынь, Василий Иванович. Они все точно белены объелись — им и травы, и корнеплоды, и пасеку, и бахчи — вынь да положь. Леса, видишь ли, сажать желают, пруды строить, фацелию какую-то сеять для пчел… С а м о х и н. А ты? С е р е д к и н. Легко сказать, а где сил взять? Нам бы посевную, пары не провалить, скот зимой живым сохранить — и то ладно. Нам бы в середнячках кое-как продержаться, а звезды с неба хватать да новшества вводить — силенок нет. Начальство об этом знает. Пусть оно, значит, и думает и плантует… С а м о х и н (гневно). Начальство! А ты? С е р е д к и н (беспомощно разводя руками). Ну, что я могу, Василий Иванович. Кампании заедают. Сев, пары, прополка, силосование, сенокос, опять сев, хлебоуборка. Строительство! А рабочая сила в дефиците. Вот и вертись, как белка в колесе, на восьми-то тыщах гектаров… Они бы попробовали на мое место сесть, да эти, как их, севообороты на Волчьих ямах вводить. С а м о х и н. Кто они? С е р е д к и н. Критики… С а м о х и н (гневно). Стыдно, Середкин! Это же лучшие люди — стахановцы! У каждого из них нам с тобой есть чему поучиться. (Стараясь быть спокойным.) Почему учиться не хочешь? Почему на курсы не поехал?.. С е р е д к и н (усмехаясь). Да разве я могу?.. Все дни заняты, а ночью какая же наука в голову полезет? Раз шесть за «Краткий курс» принимался. Дойду до четвертой главы и… (Ударяет ладонью по столу.) Стоп машина. Забуду, опять с первой начинаю, снова споткнусь на четвертой и… все. Как белка в колесе… А потом я так смотрю. Василий Иванович… Землю пахать да коров доить можно и без этого… Двадцать лет я работаю, десять лет руковожу. Был и в передовиках. Авось и сейчас поправимся как-нибудь… С а м о х и н. Авось да как-нибудь? Не выйдет, товарищ Середкин. Пойми — в какое время мы живем. Мы коммунизм строим, понимаешь ты или нет, коммунизм? А ты тормозишь!.. С е р е д к и н (задетый за живое). Я? торможу? Товарищ Самохин! Я десять лет управляю, я это хозяйство строил, я… С а м о х и н. Тебя сама жизнь выталкивает из колеи, потому что ты отстал, учиться не хочешь. (Задушевно.) Сделаем так: два раза в неделю, по вторникам и пятницам, приходи ко мне с конспектами… Буду сам тебя вытягивать… С е р е д к и н. Конспекты? Ну что ж, постараюсь подтянуться. (Быстро уходит.) С а м о х и н (глядя ему вслед). Эх, Середкин, сколько раз ты обещал. Сколько раз? (Задумался, входят Огнев и Николай и садятся справа к столу.) О г н е в (продолжая разговор с Николаем). Постой, повтори… Стожок-то с платформы на землю как попадает? Н и к о л а й (уверенно). Проще пареной репы. Стожок — он, извините, как готовая шаньга из русской печи, прямо на луг садится — с ходу. Вот так… (Зажигает спичку и показывает по чертежу в блокноте Огнева). Заднюю стенку платформы откидываем и… стожок сползает. О г н е в (горячо пожимает руку Николаю). Молодец! Выйдет! Кончай скорей модель и приноси, а сейчас… заводи. (Николай бежит к машине, Елена Павловна вылезает из кабины.) О г н е в (Самохину). Изобретение Николая устраняет еще одно узкое место в нашем плане. Механизируется уборка сена. Теперь дело пойдет. С а м о х и н. Как много нами упущено! Факт! И чтобы наверстать быстрее, надо засучив рукава работать и учиться… Всем учиться… А кое-кому переучиваться… Как вы думаете? О г н е в. Ты прав. (Елене Павловне.) Помнишь, Лена, Никодима Витальевича… генетика институтского, с которым мы спорили о бессмертных генах… Сегодня я получил письмо от Виктора! — он кончает нынче. Виктор пишет, что Никодим этот совсем обнаглел. Требует изгнания мичуринской науки из института, отказывается рецензировать дипломные работы студентов на мичуринские темы. Никодим и его присные открыли прямо крестовый поход против президента Академии Лысенко… (Самохину.) Ты прав, кое-кому переучиваться придется… С а м о х и н. Будьте уверены: партия положит конец этим дезорганизаторам от «науки». А мы… давайте будем вместе дерзать! Е л е н а П а в л о в н а (гневно). Это диверсионный акт какой-то… Студентов, будущих строителей коммунизма, воспитывать в духе, чуждом советской науке и практике! Не пора ли за это отвечать кому следует перед партией и народом! С а м о х и н. Пора! А нам на деле надо доказать свою непримиримость к ним. О г н е в. И мы внесем свой вклад в эту борьбу делом… Наш план окончательно созрел. (Идет к машине, за ним Самохин и Елена Павловна. Садятся все в машину и уезжают. Входит Лиза. Садится. Задумчиво смотрит вдаль. Появляется Павел.) П а в е л. Лиза, ты? (Любуется Лизой.) Какая ты… Чудесная! Л и з а (смущаясь). Я? Нет, Павел, это ночь — чудесная!.. П а в е л (решительно). Лиза! Я хочу все выяснить до конца. Я не дипломат и… прошу тебя быть моей женой… Л и з а (делает движение к Павлу, но спохватившись, отодвигается от него). Женой? Нет! Это невозможно!.. П а в е л (ошеломленный ответом Лизы). Невозможно? Значит не любишь?.. Или, может, другого любишь?.. Тогда, конечно! Л и з а (порывисто). Нет! Только не это. Я тебе честно говорю. П а в е л (радостно). Ну вот — я же знал, я чувствовал — любишь? Почему ты молчишь? Л и з а (вскакивая, взволнованная). Павел… Пойми… Я должна… (Слышны голоса.) Сюда идут. (Хочет уйти, Павел ее удерживает.) Павел! Я уезжаю учиться в город, в институт, надолго… Ты будешь ждать меня, Павлуша?.. П а в е л (радостный). Лиза! Я буду ждать и буду любить тебя еще больше!.. Л и з а. Ты будешь мне писать и о себе, и о них, и обо всем, что здесь… (Показывает в степь.) П а в е л. И буду работать за себя и за тебя. А о Волчьих ямах ты услышишь. (Гул тракторов прорывается сильнее, ярче сверкают огни, работающих машин.) Л и з а (склоняя голову на плечо Павла, показывает вдаль). Смотри: там уже началось… Наступление! П а в е л. Это начинается наша новая большая жизнь… И мы пройдем по ней с тобою вместе, дорогая, рука об руку, и будем инженерами, творцами этой жизни!..
З а н а в е с.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Служебный кабинет Хлебникова. На стене план совхоза и несколько схем. Около них стоят Огнев и Долгополов.Д о л г о п о л о в. На бумаге выходит гладко, бумага все терпит, но есть объективные обстоятельства, коллега.. О г н е в. Они за нас, а не против нас, товарищ Долгополов. Д о л г о п о л о в. А засухи? А осадки? А суховеи? О г н е в. Не так страшен чорт, как его малюют. (Показывает на план.) Если бы здесь сеялись травы, лес не рубили нещадно, занимались бы всерьез семеноводством, засухи не влияли бы так сильно на урожайность. Д о л г о п о л о в. Каменной стены лбом не прошибешь. О г н е в. А в Каменной степи вы не бывали? Д о л г о п о л о в. Нет. Но я знаю, если не было осадков летом — урожаю не быть. О г н е в. А зимние осадки? Почему вы о них забываете?.. На первом отделении, у Середкина, за последнюю зиму выпало 350 миллиметров осадков… Каждый миллиметр десять тонн воды на гектаре, а всего 3500 тонн. Так? Д о л г о п о л о в. Допустим… Признаюсь, об этом я просто не подумал. О г н е в. Для того чтобы получить сто пудов зерна с гектара в самое засушливое лето, достаточно полутора тысяч тонн воды… Сто пудов! А вы с Середкиным сколько получили? Сто килограммов!.. Д о л г о п о л о в. А сорняки? а распыление почвы? а весенние потоки? Вы об этом забываете?.. О г н е в. Так об этом же я вам и толкую. Если бы шесть лет назад, вступив в должность агронома, вы занялись на тех же Волчьих ямах, скажем, созданием хорошего водного режима почв, сеяли бы для этого травы, — девяносто процентов зимней влаги не скатывалось бы с пашни весной… Но вы этого не делали! Д о л г о п о л о в. Если бы да кабы… Но для этого же не было условий. А по-вашему, выходит: в плохих урожаях этих лет виновата не засуха, а я — Долгополов! О г н е в. Именно! Шесть лет — достаточный срок для того, чтобы перестроить почвы. Д о л г о п о л о в. Чудовищно! Даже в Америке не додумываются до таких сверхчеловеческих замахов на природу. О г н е в. В Америке? Вы были там на практике?.. И не видели, что миллионы простых американцев бедствуют от варварской эксплоатации земли крупными хищниками, а монополисты наживают огромные прибыли, сжигая леса и дернину, по-волчьи хватают у земли блага, а потом обессиленную, выжатую, как лимон, забрасывают ее. И сами же кричат после этого о перенаселении и убывающем плодородии. Они действуют по «принципу»: после нас хоть потоп. Д о л г о п о л о в. Вы имеете в виду, вымывание и выветривание почв. Так ли это? О г н е в. Плохо же вы смотрели Америку, если этого там не заметили. Там только в Западных Штатах около 35 миллионов гектаров земли в результате эрозии вышло из строя — заброшено. Сам Трумэн вынужден был сознаться в этом публично не так давно. А вы говорите — в Америке! Д о л г о п о л о в. Я изучал в Америке сельское хозяйство, а не политику. О г н е в. Жаль… А я был на практике в Каменной степи, где мертвую, когда-то бесплодную землю опоясали лесными полосами наши советские агрономы. Там сохранились и разрослись рощи, посаженные еще в прошлом веке Василием Васильевичем Докучаевым… Там, на опытной станции, раньше больше семи-десяти центнеров зерна с гектара в хорошие годы не получали, а в прошлогоднюю засуху по 24 центнера сняли на круг… Такого в Америке вы не найдете, товарищ Долгополов! Монополисты сознательно насаждают бескультурье в сельском хозяйстве. А нам это бескультурье, которое гнездится еще кое-где в отстающих хозяйствах, надо выкорчевывать… Д о л г о п о л о в. Зачем же избрали вы одно из таких отстающих хозяйств? О г н е в. Зачем? Затем, чтобы одним плохим совхозом стало меньше в Советском Союзе. Д о л г о п о л о в. А одним знаменитым агрономом больше… Но я здесь ни при чем. О г н е в. Нет, очень даже при чем… Нам надо вместе работать. И вы должны изменить свое отношение к делу. Д о л г о п о л о в. Унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла, я не буду.. О г н е в (гневно). Просто не надо жить чужим умом. У нас своего русского, советского ума хватит. Д о л г о п о л о в. Ну, знаете, уж ума-то у вас я занимать не собираюсь! О г н е в. Напрасно! Ложное самолюбие! (Долгополов в бешенстве хочет еще что-то сказать, но умолкает, увидев Хлебникова, стоящего в дверях и качающего укоризненно головой.) Х л е б н и к о в (проходит к столу, садится в кресло). Опять сражаетесь, словно два медведя в одной берлоге!..
(Входит Николай.)
Н и к о л а й. Можно заводить? Х л е б н и к о в. Да. На четвертое поедем. (Николай хочет итти.) Постой, Николай. Как стогомет? Н и к о л а й. Затруднение. Х л е б н и к о в (тревожно). А что? Н и к о л а й. На повороте с грузом крепления летят и ось полевого колеса гнется… Х л е б н и к о в. Постой. Так у тебя крепление-то жесткое, что ли? Н и к о л а й (волнуясь). Жесткое. А что? Х л е б н и к о в. Ну разве при повороте такой махины со стогом и людьми жесткое крепление выдержит? Мягкое надо, чтоб пружинило, резких толчков не давало, нагрузку равномернее распределяло, — тогда и ось не будет гнуться… Н и к о л а й (подумав, радостно). И верно ведь, Алексей Иванович. Правильно: мягкое крепление надо! О г н е в. Ну вот, а ты говоришь… Н и к о л а й. Разрешите заводить? Х л е б н и к о в. Нет, подожди. Скажу…
(Николай уходит.)
Д о л г о п о л о в (решительно встав). Я так не могу, товарищ директор. Агроном обвиняет меня во всех смертных грехах. Я виноват в том, что засухи губят урожаи, я о водном режиме почв не заботился, я… Прошу разрешить подать рапорт в трест о переводе… Я имею самолюбие, я не могу позволить… Х л е б н и к о в. Не разрешу. Надо работать… Д о л г о п о л о в. Но я настаиваю. Х л е б н и к о в (строго). Ферапонт Константинович! (Долгополов покорно опускает голову.) Зайдите в мастерскую — динамомашина капризничает. Д о л г о п о л о в. Слушаюсь. (Быстро уходит, не глядя на Огнева.) Х л е б н и к о в (медленно прохаживаясь по кабинету). Скажу вам откровенно, товарищ Огнев, ваши предложения меня заинтересовали и даже взволновали. Я ведь не агроном. Я экономист. В свое время собирался на научную работу, но хозяйственные дела захлестнули. Текучка нас угнетает — вот беда. Мичурина, признаюсь, не читал, Вильямса — тоже… О г н е в (в изумлении). Вы, Алексей Иванович, возможно ли? Х л е б н и к о в (берет со стола рукопись). И многое из того, что здесь изложено вами, для меня откровение. Я обеими руками за… (Поднимает обе руки вверх.) Но, Дмитрий Семенович… Я прежде всего администратор и политик. Поэтому, соглашаясь с планом, не могу принять его вводную часть, или преамбулу, как говорят дипломаты. О г н е в (в волнении, поднимаясь). Как? Вы полагаете, что можно возродить земледелие в совхозе, не вскрывая гласно причин его запустения, не разоблачая Середкиных и Долгополовых, упорствующих в своей косности. И вы серьезно… Х л е б н и к о в. Вполне. Я понимаю — мы отстали, предстоит большая работа. Согласен, что надо обуздать, как вы пишете, стихии и все такое, но… (подходит к Огневу) зачем же стулья ломать, Дмитрий Семенович. О г н е в (горячо). Стулья, да! Но корни, которые питают всю эту дикость, нужно выкорчевывать без остатка. Х л е б н и к о в (раздражаясь). Вы утверждаете, что примерно на одну четверть виновата в неурожаях засуха, а на три четверти — неправильная система, вернее, отсутствие правильной системы земледелия… Так? О г н е в. Точно. Х л е б н и к о в (повышая голос). Что для успеха дела надо, грубо выражаясь, прогнать Середкина и еще кое-кого с руководящих постов. О г н е в. Так. Х л е б н и к о в (читает по рукописи, с возмущением). И открыто, напрямик рассказать рабочим, всему коллективу о тех ошибках руководства совхоза, которые привели к резкому снижению урожайности совхозных полей. О г н е в. Безусловно! Все должны понять вред того, что до сих пор допускалось этими руководителями…
(Входит Самохин, останавливается в дверях.)
Х л е б н и к о в (с трудом сдерживаясь). Больше того: на первом отделении вы уже атакуете нас под этим лозунгом и люди в панике. С а м о х и н. Виноват, я перебью. На первом отделении товарищ Огнев начал работу вместе со мной и по заданию партийной организации. И то, что там уже сделано, — замечательное начало! Х л е б н и к о в. Мне уже сообщили об этом Середкин с Долгополовым и устроили при этом истерику… С а м о х и н. Ну и что же? Вполне закономерно… Х л е б н и к о в. Василий Иванович, но ты читал вступительную часть огневских предложений? С а м о х и н. Читал и полностью разделяю, даже больше… Х л е б н и к о в (прерывая Самохина). А я не согласен. (Нервничая.) На три четверти виновата засуха и на одну четверть — мы… Это еще туда-сюда! Середкин — человек с рукой, его можно еще раз подправить, а с Долгополовым надо сработаться. (Огневу.) Это — мое категорическое требование. Он, правда, плохой агроном, но опытный механизатор, хотя и самолюбив излишне…. О г н е в (волнуясь). Не в этом главное, Алексей Иванович. Середкины возводят свои пороки в степень добродетели, а Долгополовы их окрыляют. Мириться со всем, что здесь творят Середкин и Долгополов, значит, обречь совхоз на прозябание и в будущем. С а м о х и н (горячо). Факт! Ас Долгополовым надо разобраться, Алексей Иванович. Откровенно говоря, и я и ты слишком многое ему передоверили… И я думаю, что дело не только в раздутом Долгополовском самолюбии, а гораздо сложнее… Факт! Х л е б н и к о в (с досадой). Так. Значит двое против одного? Ну что ж, давайте разберемся подробнее (иронически) в наших разногласиях… Хотя я считаю их второстепенными. Главное — план, он одобрен. С а м о х и н. План только начало. А люди? А руководители? О г н е в (горячо). План требует упорного труда. Идея плана должна дойти до сознания, до сердца. (Телефонный звонок. Хлебников берет трубку.) Х л е б н и к о в (отрываясь от трубки). Вот пожалуйте: завтра мой доклад на бюро райкома о состоянии совхоза, будут, конечно, ругать… а предупреждают накануне. Ну, я сажусь за доклад. Работы на всю ночь. Придется наш разговор отложить… Сейчас мне схему отчета будут передавать по телефону. (Берет трубку.) О г н е в (Самохину в дверях). Не нравится мне такая… преамбула. Боюсь за последствия… С а м о х и н (Огневу). Ничего, Алексея Ивановича уломаем.. А если потребуется, то и сломаем… Факт! Н и к о л а й (появляясь в дверях). Разрешите завод…
(Хлебников, прижимая телефонную трубку плечом к уху, машет на него обеими руками. Николай, Самохин и Огнев уходят.)
Х л е б н и к о в (в трубку). Здравствуйте! Большая схема? (В ужасе.) Шестьдесят вопросов?! (Подвигает к себе торопливо лежащую на столе стопу бумаги и берет несколько карандашей, продолжая придерживать трубку телефона у уха плечом.) Есть! Та-ак. (Записывает.) Наличие, валсбор, в гектарах, в центнерах. Лошадей, волов, тракторов, автомашин, людей, прибылей, убытков. (В сторону.) Самая страшная графа — убытков! (В трубку.) Так… По видам работ, по месяцам, по декадам, по дням. У-уф! (Вытирая вспотевший лоб рукавом, отрываясь от трубки, в сторону.) Вот она как нас заедает — текучка-то эта, проклятая!
З а н а в е с.
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Большое поле. Кругом много пней. На переднем плане две кудрявые березки.. Долгополов и Середкин выходят, разговаривая.С е р е д к и н. Изобьют меня опять, Ферапонт Константинович, чувствую. За предплужники и ручной сев строгий выговор по партийной линии имею. Теперь за хлебосдачу потянут. Ну, что я сделаю, если хлеб не родится? Эх, подвел меня дед Панфил своими прогнозами. (В сторону.) А тут еще Самохин наседает с конспектами, как будто они в бурьянах растут. Д о л г о п о л о в (доставая и развертывая тетрадь). А по выработке на трактор в переводе на мягкую пахоту вы на первом месте, Кузьма Петрович. С е р е д к и н (оживляясь). На первом? Я? Д о л г о п о л о в. И по существу премия-то вам все-таки причитается. С е р е д к и н. Ну, вот! Принесло же на мою голову этого Огнева в совхоз. Теперь еще с Волчьими ямами канитель развел. Болотом гриву удобрять — где это видано? Земли что ли нехватает?! Одних пастбищ сколько! И что думает директор? В рот, говорят, смотрит Огневу. Д о л г о п о л о в. Алексей Иванович? Не сказал бы… (Трусливо оглядываясь.) Замечаю я: черная кошка между ними прошмыгнула. И началось, между прочим, из-за вас, Кузьма Петрович. С е р е д к и н (в испуге). Из-за меня? Д о л г о п о л о в. Огнев потребовал вашего снятия, а директор против. С е р е д к и н. Меня! Да я этот совхоз начинал строить, первым трактористом был… на «фордзоне»! Д о л г о п о л о в. А Огнев: ну и пусть, мол, опять в трактористы идет, на колесник… С е р е д к и н (гневно). Я? трактористом? на колесник? (Вне себя.) Да я в обком буду жаловаться, до самого министра, до Верховного Совета дойду! Д о л г о п о л о в (пристально наблюдая за Середкиным). Но Алексей Иванович говорит: «Стоп, отставить, не позволю!» С е р е д к и н (с нетерпением.) Ну! Д о л г о п о л о в. С тех пор и началось между ними. Но я, между прочим, думаю, Кузьма Петрович, вам, как коммунисту и ветерану, надо… (Мнется). С е р е д к и н (с тревогой). Что? Д о л г о п о л о в (твердо). Выступить! С е р е д к и н (отмахиваясь обеими руками). Нет, я не речист. Да и сделают они из меня яичницу! Нет, нет — на собраниях я говорить не умею!.. Д о л г о п о л о в. Чтобы! Зачем на собраниях? (Таинственно оглядываясь.) Заготовлено мной такое заявленьице в литературном стиле… от имени старых кадров… подпишите, скажем, вы и еще несколько человек. С е р е д к и н (недоверчиво). Это для чего же? Д о л г о п о л о в (достает бумагу, вложенную в тетрадь). Описаны тут все огневские авантюры, все гонения… И пошлем мы его в областную газету, в обком, министру, можно и в Верховный Совет, а я тем временем… С е р е д к и н (колеблется). Коллективное заявление! А вы? Д о л г о п о л о в. А я тем временем Алексея Ивановича подготовлю. (Шопотом.) Ведь Огнев куда гнет: Алексея Ивановича спихнуть и на его место сесть — директором! С е р е д к и н (в ужасе). Ну, тогда мы вместе с вами пропали, Ферапонт Константинович! Д о л г о п о л о в. В том-то и дело! С е р е д к и н (решительно). Давайте бумагу. Подпишу. Д о л г о п о л о в (берет Середкина под руку и ведет влево). Сейчас я вам все разъясню: главное — больше подписей… (Уходят. Где-то близко тарахтит трактор, потом мотор глохнет. С топором в руках входит Прохор.) П р о х о р. Чистая беда — опять задний предплужник землю роет. (Осматривает березки.) Лесину на жердь срубить — корпус приподнять? (Чешет в затылке.) Верно! (Срубает одну из березок и отесывает. С поля подходит увешанная кульками Елена Павловна.) Е л е н а П а в л о в н а. Здесь было две березки. (Увидев жердь в руках Прохора.) Это вы срубили кудрявую? Что вы сделали, Прохор! П р о х о р. (В замешательстве, роняя топор). Пришлось так. Жердь надо. (Чешет в затылке.) Да и не знал я, что она у вас на примете. (Взглянув на Елену Павловну.) Экая беда! Дернуло меня… Опять в историю попал. Е л е н а П а в л о в н а. Почему вы такой? В тот раз пахал без предплужников. Сейчас последние березы рубит. П р о х о р. В тот раз приказали, а сейчас… сам недодумал. Е л е н а П а в л о в н а. А мы здесь березы и сосны сажать собираемся. Как вы думаете, Прохор, для чего? П р о х о р. Известно, чтобы мягче воздух у хлебов был. Е л е н а П а в л о в н а (оживляясь). Вот! Чтобы мягче воздух у хлебов был, чтобы не сохли они летом, чтобы река не мелела. А знаете, сколько здесь раньше берез было? П р о х о р (бойко). Да мы тут пацанами в войну играли. Роща была… (Печально.) Повырубали. Е л е н а П а в л о в н а (мечтательно). Рассказывают, собрал, будто, недавно товарищ Сталин самых главных агрономов в Москве и говорит: давайте леса сажать на Волге, чтобы суховеи урожаев не губили. И составляет, говорят, такой план. П р о х о р. Сталин?! Е л е н а П а в л о в н а. Да. А мы? П р о х о р (роняя жердь). Эх и башка у меня непутевая! Ну, что ты сделаешь? И всегда вот так: потом одумаюсь, а уж поздно! Е л е н а П а в л о в н а. Сделаем так: во-первых, вы больше деревьев рубить не будете… П р о х о р. Навек закаюсь!.. Е л е н а П а в л о в н а. Во-вторых, завтра после смены придете в лабораторию — я расскажу вам о лесе, как его сажать, беречь. А? П р о х о р. Приду! (Берет жердь и топор, идет в поле, оборачивается). Спасибо вам! (Быстро уходит.) Е л е н а П а в л о в н а (задумчиво). Этот Прохор понимает главное… Воздух будет мягче у хлебов. (Мимо проходит довольный, потирая руки, Долгополов, что-то напевая.) Е л е н а П а в л о в н а (громко). Ферапонт Константинович! Д о л г о п о л о в (в сильном испуге, вздрагивая). А? Кто? (Увидев Елену Павловну). Здравствуйте, многоуважаемая Елена Павловна, я весь к вашим услугам. Е л е н а П а в л о в н а (показывая на пеньки). Ваши подчиненные вырубают последние деревья… Примите меры! Д о л г о п о л о в. Охрана леса, Елена Павловна, в мои функции не входит. Е л е н а П а в л о в н а. Но воспитание трактористов… Д о л г о п о л о в. А это по линии товарища Самохина. И потом мои интересы, как механизатора, в данном случае в некотором роде антагонистичны вашим. Е л е н а П а в л о в н а. Вы говорите загадками. Д о л г о п о л о в. Мне нужны долгие гоны, и колки мешают — хоть корчуй. Е л е н а П а в л о в н а. Вам не ясно значение леса? Д о л г о п о л о в (упрямо). Мне нужны долгие гоны… на Волчьих ямах, например, гоны на пять километров — вот это я понимаю… За один гон без поворота и остановки машины я делаю почти два гектара в переводе на мягкую пахоту. Е л е н а П а в л о в н а. Это не всегда правильно. Под семенной участок на Волчьих ямах отведено триста гектаров с угла. Его надо вспахать, имейте в виду, глубже, чем весь массив, и не вдоль, а поперек общих гонов. Этого требует рельеф и особенности почвы. Д о л г о п о л о в (испуганно). Поперек? Значит — уменьшить гоны на целый километр? Невозможно! Е л е н а П а в л о в н а (гневно). Но нам хлеб нужен, а не только долгие гоны. Там будет сеяться «пшеница будущего». Д о л г о п о л о в (иронически). Пшеница будущего? Это — еще журавль в небе! (Уходит.) Е л е н а П а в л о в н а (вслед Долгополову). Чинуша! Функция! (Задумывается. Издали слышен голос Огнева: «Лена, Леночка!».) Е л е н а П а в л о в н а. А-у, а-у! Я здесь, Митенька! (Машет рукой. Входит Огнев усталый и мрачный, садится рядом с женой). О г н е в. Тяжело, Лена, со скрипом идет дело. Много еще равнодушных людей. Из десяти один, но, ох, как это много. Они сбивают с толка других. (Пауза.) Сегодня иду стороной у пашен — то один, то другой трактористы увидят меня и предплужники включают. Как будто мне одному они нужны! Е л е н а П а в л о в н а. Но раньше здесь совсем без них обходились. О г н е в. Алексей Иванович после того заседания бюро райкома, на котором я его критиковал, волком смотрит. Долгополов совсем нетерпим. Е л е н а П а в л о в н а (гневно). Чинуша! Функция! О г н е в (трогает руками кульки). Все пробы взяла? Е л е н а П а в л о в н а. Все. (Хочет подняться, но со стоном опускается.) Не могу!.. О г н е в (испуганный, вскакивая). Что с тобой, Леночка? Ты побледнела!.. Е л е н а П а в л о в н а. Ничего… Сейчас пройдет!.. Вот уже хорошо. О г н е в (торопливо снимает с нее кульки и навешивает их на себя). Что с тобой, Лена? Е л е н а П а в л о в н а (ласково притягивает руками голову Огнева к себе и что-то шепчет ему на ухо). О г н е в (радостно). Это правда, Леночка? Дорогая! (Пауза.) Не сметь больше по полям пешком расхаживать, слышишь, Лена, не сметь! Е л е н а П а в л о в н а (счастливо улыбаясь). Есть не сметь, товарищ муж! О г н е в. Мой ходок недалеко… Пойдем! (Помогает Елене Павловне подняться, смотрит на свежий пень.) Что это? Куда вторая береза исчезла? Е л е н а П а в л о в н а. Прохор срубил. О г н е в (в гневе). Опять Прохор. Ну уж теперь я доберусь до него. Е л е н а П а в л о в н а. Не надо. Я его так пристыдила. На него легко влиять. Он понимает главное. После смены он будет приходить в лабораторию, и мы сделаем его самым горячим защитником леса. О г н е в. Прохора! Е л е н а П а в л о в н а. Ну, конечно. О г н е в (подумав). А что? Мысль неплохая: самого отсталого сделать лучшим. (Смотрит на Елену, любуясь ею.) Какая ты у меня хорошая! Е л е н а П а в л о в н а. Но трусиха. А что, если нас из совхоза выкурят? Страшно тяжело будет отрываться от дела, которое начато здесь!.. О г н е в. Да. Это было бы тяжело. Но мы ведь не одни. Мы часть большого, сильного, непобедимого всенародного потока, который стремится вперед… А разве можно оторвать, ну, скажем, одну быструю струю у реки или один яркий луч у солнца? Нет! Это невозможно!
(Слева появляется Самохин. Он слышит последние слова Огнева, подходит к нему и горячо жмет ему руку.)
С а м о х и н. И, кроме того, этого не допустим мы — коммунисты! Факт!
З а н а в е с.
КАРТИНА ПЯТАЯ
Служебный кабинет Хлебникова. Хлебников разговаривает по телефону. Он взволнован и испуган.Х л е б н и к о в. К нам? Комиссия из обкома? Коллективное заявление на действия Огнева? (Слушает напряженно, потом потрясенный кладет трубку на место. Нервничая, ходит по кабинету.) А где, скажут, вы были, товарищ директор?.. Единоначальник? (Останавливаясь.) Да, Самохин отчасти прав. Я механически доверяю другим в таких делах, в которых сам не разбираюсь. Может быть, я действительно… (Подходит к шкафу с книгами.) Я к книгам не прикасаюсь уже несколько лет. (Открывает шкаф и перебирает книги, читая заголовки.) Забытые, далекие друзья? (С досадой закрывает шкаф и задумывается, потом отмахивается обеими руками от чего-то назойливого.) Ерунда! Слабость. Я же двенадцать лет руковожу. Мой опыт тоже многого стоит. (Быстро входит Долгополов. Хлебников садится в кресло, властный, самоуверенный.) Д о л г о п о л о в (волнуясь). Говорят, комиссия к нам. Х л е б н и к о в. А вы-то как узнали? Д о л г о п о л о в. Слухи из района дошли, Алексей Иванович. Х л е б н и к о в. Ох, уж эти слухи! Д о л г о п о л о в. И я считаю долгом поставить перед вами вопрос… Х л е б н и к о в (насмешливо). Опять об откомандировании вас. Д о л г о п о л о в. Нет. О поведении агронома Огнева… Учтите: у меня тоже есть самолюбие. Х л е б н и к о в. Измучили вы меня этой грызней. Как петухи: или я, или он… Д о л г о п о л о в. К сожалению, дело зашло гораздо дальше, чем думаете вы, Алексей Иванович… (Хлебников встает и ходит по кабинету. Входит Николай.) Н и к о л а й. Приказано подать машину. Разрешите заводить? Х л е б н и к о в (Николаю). Не поедем. Поставь машину в гараж. (Николай мнется, не уходя.) Что еще? Н и к о л а й. Алексей Иванович, модель стогомета лежит в мастерской, но никто и не думает делать пробные машины. Ссылаются на инженера, говорят — он запретил. (Хлебников вопросительно смотрит на Долгополова.) Д о л г о п о л о в (Хлебникову). Выполняется ваше срочное задание о поделке решет для третьей очистки к комбайнам, людей нехватает, да и потом… Н и к о л а й (резко Долгополову). А как будем скошенное сено убирать? (Хлебникову.) Я знаю: инженер против, он говорит, что это «журавль в небе»… Но, Алексей Иванович, ведь сенокос в разгаре, надо дать стогометы отделениям. Вы же сами говорили.. Х л е б н и к о в (продолжая ходить). Да, говорил, да, надо. (Подходит к Николаю.) Но сейчас мне не до этого, есть другие дела, более важные, понятно? Н и к о л а й (с досадой махнув рукой, быстро идет к выходу и останавливается в дверях). Эх, Алексей Иванович, нет у нас этого… как его… (смотрит с возмущением на Долгополова) искры настоящей… (Уходит.) Х л е б н и к о в (пристально смотрит вслед Николаю). Вот как! Странно. (Круто повернувшись к Долгополову, спрашивает его в упор.) Вы сказали: дело зашло дальше, чем я думаю. Извольте объясниться!.. Д о л г о п о л о в (избегая смотреть в глаза Хлебникову). Видите ли, Алексей Иванович, Огнев, как я замечаю, ставит ни во что не только меня, но и вас. Он считает себя выше всех. Х л е б н и к о в (с досадой). Это все слова. Факты, факты!.. Д о л г о п о л о в. Он хочет подмять под себя всех. А отвечать за его рискованные опыты придется, в конце концов, нам с вами. Кузьму Петровича он называет халтурщиком и, не стесняясь, заявляет, что Середкин остается управляющим только при вашей поддержке. Да что говорить, этот человек и с вами хочет воевать. Х л е б н и к о в (колеблется). Та-ак. А мне кажется: просто вам двоим тесно на одном поле — столкновение самолюбий… Д о л г о п о л о в. Я «на мировое господство» не претендую. Хотя и говорится: плох солдат, если он не хочет быть генералом, — я не хочу. Х л е б н и к о в. Ну это, пожалуй, не сильное место в вашем характере. Д о л г о п о л о в (стараясь быть убедительным). И я ручаюсь, если вы поговорите с Огневым крупно и круто, сами убедитесь, что он и вас ни во что не ставит. Голову даю на отсечение! Х л е б н и к о в (в раздумье, медленно идет к столу, в сторону). Ну что ж, попытаемся прощупать Огнева с этой стороны. (Садится.) Искры. У меня нет искры настоящей!? Нет! Сам Николай до этого не мог додуматься. Это подсказано ему кем-то…
(Входит Огнев.)
О г н е в. Разрешите. (Хлебников, молча, показывает ему на стул.) Д о л г о п о л о в (потирая руки, в сторону). На ловца и зверь бежит. О г н е в (стоя). У меня срочное дело. Х л е б н и к о в (сухо). Я слушаю. Инженер не помешает? О г н е в. Наоборот. Я хочу, чтоб вы призвали именно его к порядку. (Долгополов вздрагивает.) Он срывает утвержденный вами график работ на Волчьих ямах. Вспашка затянулась, все сроки прошли. Я требую… Х л е б н и к о в (раздражаясь). Требую? А почему не прошу. Мне кажется, требовать могу здесь только я, как единоначальник. (Резко и громко.) Запомните это раз и навсегда. О г н е в (спокойно). Извольте не повышать голоса. Х л е б н и к о в. Вы позволяете себе слишком много! О г н е в. Позвольте… Х л е б н и к о в (не владея собой). Нет, не позволю! Знаю о ваших интригах. Одни неприятности с вами. (Встает и ходит по кабинету.) Достукались! На вас жалуются в область, в Москву. Дело чуть не до правительства дошло. Специальная комиссия обкома по вашим делам в совхоз выезжает. О г н е в. Я лично никого не вызывал, но думаю — никакая комиссия вреда совхозу не принесет, наоборот… Х л е б н и к о в. Вот, вот! Вы рады случаю, воевать хотите с директором? О г н е в (гордо). Если потребуется для пользы дела, я готов воевать и с вами, и с кем угодно. (Долгополов всплескивает руками, многозначительно взглянув на Хлебникова.) А в интригах попрошу партбюро разобраться. Я догадываюсь: кое-кто в мутной воде рыбу удит. (Смотрит на Долгополова.) Д о л г о п о л о в. Я никогда не скрывал, коллега, своего несогласия с вами по многим вопросам. Но если по ряду непредвиденных обстоятельств я не смог выполнить задание директора, это не дает вам право подозревать… Это недобросовестно!.. О г н е в. А срывать работу, от которой зависит буквально судьба хозяйства на многие годы вперед, — добросовестно? Х л е б н и к о в (едва сдерживая себя, ходит по кабинету; Огневу и Долгополову). Да перестаньте вы, наконец, пререкаться! (Входят Самохин и Елена Павловна с бумагой в руках.) Е л е н а П а в л о в н а. Вот кстати все здесь. (Хлебникову, подавая бумагу.) Прошу подписать, Алексей Иванович, приказ об обработке паров под лесополосы, о создании бригады по посадке леса, о вспашке семенного участка не вдоль, а поперек общих гонов. Инженер отказался выполнить мое требование. Ему нужны только долгие гоны. Кроме того, мы включаем пункт об установке движка и универсала для механизации дробления и подачи торфяной крошки, иначе торфование сорвется. Х л е б н и к о в (отстраняя бумагу). Не подпишу. Е л е н а П а в л о в н а (удивленно). Как? Это же предусмотрено планом. С а м о х и н. И одобрено всей партийной организацией. Х л е б н и к о в. Не могу. План Огнева опротестован, его действия тоже. К нам выезжают товарищи из обкома для расследования коллективного заявления. Пока комиссия не примет решения — не могу… О г н е в. Но это срочное дело, мы пропустим агротехнические сроки. С а м о х и н (одному Хлебникову). Я больше чем удивлен, Алексей Иванович. Я тебя не узнаю. При чем здесь комиссия? Твой отказ равносилен срыву принятого плана. Ты открыто переходишь на сторону его противников. Ты не хочешь понять принципиальной остроты конфликта между нами и Долгополовым… Х л е б н и к о в (удивленно). Вот как! Ты считаешь грызню Огнева с Долгополовым острым принципиальным конфликтом, а я, по-твоему, слепой человек? Мило! Ты прислушиваешься к голосу нетерпеливых и малоискушенных людей, а мой опыт для тебя ноль… Ты у них учишься? С а м о х и н. Я учусь у жизни, у партии, у лучших людей. А твой опыт, Алексей Иванович, уходит корнями в прошлое — он устарел во многом… Х л е б н и к о в (Самохину). Давайте не будем тогда зря копья ломать. Пусть уж теперь комиссия разберется. С а м о х и н (Хлебникову тихо). Учти: члены бюро и все коммунисты, за единичными исключениями, возмущены твоим примиренческим отношением к Долгополову и Середкину. (Подчеркнуто официально и громко.) Я считаю ваши действия неправильными, товарищ, директор. (Хлебников демонстративно молчит.) Это — потеря линии в работе! Д о л г о п о л о в (отходит в сторону, разговаривая с собой). Вы подумайте, этот Огнев всех перетянул на свою сторону! А вдруг он возьмет верх и все его затеи будут признаны… Подумать страшно! Что делать? Что делать! (Решительно подходит к Хлебникову, спорящему с Самохиным.) Алексей Иванович! Я думаю, что приказ все-таки надо подписать, сейчас возможности есть! (Все смотрят на него с нескрываемым изумлением.) Х л е б н и к о в (рывком подавая приказ Долгополову). Завизируйте! Д о л г о п о л о в (смутившись). Слушаюсь. (Расписывается на уголке листа.)
Хлебников с еле сдерживаемым раздражением, размашисто подписывает приказ, отдает его Елене Павловне и, ни на кого не взглянув, демонстративно уходит из кабинета. Долгополов выскальзывает в дверь за ним.
О г н е в (удивленно смотрит на Самохина и Елену Павловну). Похоже на разрыв дипломатических отношений.
З а н а в е с.
КАРТИНА ШЕСТАЯ
Лаборатория с примыкающей к ней теплицей. Стол, заставленный пробирками, почвенными пробами, приборами. Весы, микроскоп. Слева письменный стол, на нем телефон. Над столом надпись: «Старший агроном совхоза». В глубине сцены секции теплицы. В ящиках ветвистая пшеница, она уже созрела. Кусты люцерны. Саженцы тополя. Прохор напряженно рассматривает в микроскоп кусочек почвенной пробы. Елена Павловна улыбаясь наблюдает за ним.П р о х о р. У-ух! Сколько козявок махоньких… Мильон! (Отрываясь от микроскопа, берет щепотку пробы на палец и рассматривает.) А так посмотришь — ничего будто бы и нет. Так это они, Елена Павловна, и склеивают комочки почвы? Е л е н а П а в л о в н а. О, эти малютки — большие мастера! Они превращают в пищу для растений остатки корней и стеблей, они вырабатывают перегной и склеивают им комочки. Без них плодородия нет. И мы их заставим работать по-настоящему! П р о х о р. Помню, об этом вы третьего дня говорили… Но их же надо тогда в хорошем теле держать — пусть плодятся. Е л е н а П а в л о в н а (довольная). В хорошем теле? (Смеется.) Так мы ж их и подкармливаем: навоз для них вносим, торф… П р о х о р (встает). Спасибо, Елена Павловна. Е л е н а П а в л о в н а (удивленно). Это за что же? П р о х о р. За науку. (Одевает картуз.) А за березку на меня не серчайте. На полосе этой, что я вспахал, большая роща будет… (Прощается). Обязательно будет роща! Вы не подумайте, что я такой уж непутевый… (Идет, к дверям, но останавливается.) И Ферапонту Долгополову не верьте… Они с Кузьмой против Дмитрия Семеныча плохое замышляют. Я вчера сам слыхал — Долгополов Середкину говорил: «Выживет, мол, директор Огнева из совхоза. Пошло, говорит, наше заявление в ход». Е л е н а П а в л о в н а. Какая низость! Только вы, Прохор, никому не говорите об этом, особенно Дмитрию. Он так переживает! Я сама пойду к товарищу Самохину и мы… П р о х о р. Вот, вот… А в случае чего, Елена Павловна, скажите. Я хоть с виду тихий, а силы во мне хоть отбавляй, и если за правду постоять нужно, в обиду не дам… Я Елена Павловна… (Махнув рукой.) До скорого. (Уходит.) Е л е н а П а в л о в н а (волнуясь). Чего хочет этот Ферапонт? Бороться? Ну, хорошо! (Звонит по телефону.) Секретаря партбюро. Василий Иванович? Срочное дело! Минут через десять? Хорошо! (Встревоженный, вбегает Огнев и сразу берется за трубку телефона.) Е л е н а П а в л о в н а (одеваясь поспешно). Я ухожу по срочному делу, Митя. (Кладет на стол ключ.) Вот ключ: будешь уходить — замкнешь! (Убегает.) О г н е в (в трубку). Главную контору! Нет там инженера. Долгополова? (Долгополов входит, останавливаясь в дверях.) Д о л г о п о л о в. Я весь к вашим услугам, коллега:. О г н е в (оборачиваясь, с трубкой в руке). Машины с других отделений не прибыли, движок на Сухом болоте работает с перебоями. Д о л г о п о л о в. Половина машин работает, остальные будут завтра, движок тоже. О г н е в. Но по графику все должно быть сегодня! Д о л г о п о л о в. Ну, мало ли всяких случайностей и неожиданностей в нашем деле бывает, товарищ Огнев. О г н е в (резко). Случайности и неожиданности сегодня наши враги, товарищ Долгополов. Д о л г о п о л о в (решительно). Дмитрий Семенович! Я пришел к вам не ссориться, а найти общий язык. О г н е в (с интересом). Очень рад. Садитесь. (Оба садятся.) Д о л г о п о л о в (иронически осматривая лабораторию и теплицу). И для ясности хочу задать один вопрос. О г н е в. Хоть двадцать. Д о л г о п о л о в (показывая на план устройства Волчьих ям, висящий над столом). Только откровенно. Вы сами верите в это? О г н е в (с любопытством смотрит на Долгополова). Отвечу, но сначала хочу вас спросить, О чем вы думаете, Ферапонт Константинович, работая… Какую цель в жизни имеете? Д о л г о п о л о в (смущаясь). Вопрос странный. Однако извольте. (Твердо.) Моя мечта — добиться самой высокой выработки на трактор в переводе на мягкую пахоту. О г н е в. А дальше. Д о л г о п о л о в. Ну, конечно, изобрести что-нибудь этакое по механизации — модное, получить премию, перевестись в большой город… М-да… О г н е в (с еле заметной иронией, в тон Долгополову). Лучше всего, конечно, в Москву. А там планировать в каком-нибудь главке, изредка выезжать в заграничные командировки, обзавестись уютной квартиркой. Не так ли? Д о л г о п о л о в (неуверенно). Вы иронизируете, кажется? По-вашему, что же — к личному благополучию человек не должен стремиться? О г н е в. Должен. Но из вашего плана выпадает благополучие совхоза и государства. Скажите… Ну, а директором крупного хозяйства, скажем, вы бы не хотели? Д о л г о п о л о в (в испуге). Нет, что вы, что вы — такая ответственность, особенно в наше время, когда планы растут, как грибы после дождя. Нет! Да и потом — ведь я же беспартийный. О г н е в (горько смеется). Беспартийный… Да, это, пожалуй, главное. Вы действительно во всех отношениях беспартийный, редкий в наше время человек. Д о л г о п о л о в (обижаясь). Вы все как-то по-своему перевертываете. О г н е в. Извините за прямоту… Я буду тоже откровенным до конца, отвечая на ваш вопрос. (Показывает рукой на план и все окружающее.) Я не поп, которому для пропитания вера нужна. Я мечтаю о том, чтобы все это, созданное здесь в зародыше и на плане, выросло в грандиозных масштабах, чтобы мы, практики, одновременно были бы и учеными. Чтобы наш коллектив был первым из первых в этом великом походе за изобилие, за коммунизм… Да, да — за коммунизм, когда у каждого будут крылья орла и исчезнут такие искалеченные морально люди, как вы, Ферапонт Константинович. Д о л г о п о л о в (вскакивая, оскорбленный). Позвольте… Я себя калекой не считаю. О г н е в (увлекаясь). Я хочу, чтобы все мы в совхозе ясно видели перед собой цель, сделали ее своей мечтой, своей страстью в жизни, видели бы пути к ней и шли по ним смело, не оступаясь. И ставили бы ее, эту цель, выше всех личных маленьких дел. Д о л г о п о л о в (с обиженным видом). М-да. О г н е в (страстно). Скажите, Ферапонт Константинович, неужели вам не ясно, что путь к личному счастью лежит через великую энергию, рожденную для великой цели? Д о л г о п о л о в (пряча глаза). Видите ли, Дмитрий Семенович, меня-то можно, конечно, сагитировать, но природу… (Усмехаясь.) Живущую по своим законам природу, которая и тысячи лет тому назад была такой же, как сейчас, ее агитацией не проймешь. От нее, как горох от стены, отлетают и страсть, и героизм, и великая энергия даже… (Спохватившись.) Вы не поймите меня превратно, я имею в виду только природу. Я готов сделать все от меня зависящее… О г н е в (тяжело вздохнув). Да. Но вас, я вижу, вылечить трудно. Знаете, что хуже всего? У вас нет ясной цели, вы в плену пассивного, чуждого нам отношения к природе и жизни. У вас в душе пусто. Это же страшно: так можно сделаться не только чинушей, но и пьяницей, развратником, подлецом и чорт знает еще кем… Д о л г о п о л о в (чувствуя себя пойманным, в смущении). Зачем же обострять вопрос, коллега. Мы просто не сходимся характерами, и поверьте, это не имеет никакого отношения к нашей службе. О г н е в. Да, если понимать ее, эту службу, по-вашему… Но я думаю иначе. (Сухо.) Ну что ж, поживем, увидим. Значит, завтра все будет? Д о л г о п о л о в. Будет. (Подчеркнуто вежливо кланяется и уходит.) О г н е в (один, ударил кулаком по столу). Мамонт! Ну, разве можно на него положиться. Нет! Пока не выведутся такие узколобые деляги, нельзя работать наверняка, без осечки. Случайности и неожиданности будут подстерегать из-за угла, на каждом шагу.
(Входит Никодим Витальевич, среднего роста, пожилой человек в пенсне и с портфелем подмышкой. Огнев, задумавшись, не замечает его.)
Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч. Случайности, молодой человек, неотвратимы и неизбежны. (Огнев, вздрогнув, оборачивается.) Здравствуйте. Не узнаете своего бывшего учителя? О г н е в (изумленный, вставая). Вы? Здесь? Никодим… Никодим Витальевич…
(Здороваются.)
Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч. Удивляетесь, что я покинул спокойную тишь кабинетов и лабораторий и пустился в далекое плавание? О г н е в (подавая стул гостю). Какими судьбами? Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (садится). Обстоятельства, молодой человек… Воюем с президентом и хочется хоть одним глазком взглянуть на чудеса, которые он обещает. О г н е в. Президент? Обещает? Он, по-моему, делает, а не обещает. Сила его учения — в фактах. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч. Ха, ха! Вот факты-то мы и думаем ковырнуть этак под девятое ребро. О г н е в. Ага. Значит, подкапываетесь. Не завидую вам. Факты — упрямая вещь. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (опешив). То есть как? (Спохватившись.) Ах, да я же забыл, вы в институте тоже с этими мичуринцами дружили. Как же, как же — припоминаю. (Смотрит в теплицу.) И теперь, верно, природу наизнанку вывертываете. (Показывает на ветвистую пшеницу.) Мичуринскими сортами увлекаетесь? Провалитесь, молодой человек… (Пауза. Подходит к плану, внимательно всматривается. Входят Николай с чемоданом, Павел и Ермилыч.) Вы тут, молодой человек, я вижу, катавасию большую затеяли. Вишь накрутили-то чего!.. И новую почву создать, и новые, да кстати сказать, не проверенные достаточно в потомстве сорта… И новый климат. Э-эх! Скромности у вас, нынешних агрономов, нет. Все вам нипочем. Сами себе боги! (Качает головой.) А впрочем посмотрим. (Обернувшись, Огневу.) А эти люди… уж не ассистенты ли ваши? (Опять смотрит на план.) О г н е в. Пожалуй, в некотором роде. (Обращаясь к вошедшим.) Что у вас, товарищи? П а в е л (Огневу, тихо). Слух на отделении прошел, что хотят вас выжить из совхоза. Мы не допустим. Мы взялись вместе с вами за большое дело и не остановимся ни перед чем. Мы коммунисты! Н и к о л а й. И примем меры. Е р м и л ы ч (любуясь окружающим). Научность какая необыкновенная. (Огневу). Арбузы и дыни поспевают. А с краю припахал мне Прохор гектара три… Люцерны бы посеять на семена. (Показывает в теплицу.) Очень уж хочется структуру эту поскорее смастерить. О г н е в (смеется). Правильно. У Елены Павловны получишь семена. И сейчас же, слышишь! Под зиму! (Ермилыч понимающе кивает головой.) П а в е л (с тревогой). Вы нам скажите в случае чего, Дмитрий Семеныч?! О г н е в (Павлу, тихо). Ничего. Выстоим! Не поддадимся! Н и к о л а й. Вам, я вижу, теперь некогда, Дмитрий Семеныч, насчет модели стогомета? Инженер делать пробные машины запретил. Алексею Ивановичу некогда. О г н е в. Давай, давай. Да где же она? Н и к о л а й (раскрывая чемодан). А вот в чемодане. О г н е в. Модель? В чемодане? Н и к о л а й. Она у меня складная. Держу в чемодане на всякий случай. Заместитель министра, говорят, в области будет. Я ее и упаковал. Как приедет, думаю, сяду на поезд и к нему с чемоданом. (Устанавливает модель на полу. Все, в том числе Никодим Витальевич, смотрят.) Работает как часы. Здесь впереди, значит, трактор. (Показывает.) Это сеноподборщик, а тут — на платформе три человека скирдуют на ходу. (Двигает модель на полу, слышен звук работающих механизмов.) Сорок пять тонн за смену — проверено. П а в е л. Ай да Николай! Е р м и л ы ч. Ну ни дать, ни взять — комбайн! О г н е в (крепко жмет руку Николаю). Спасибо. Нам надо поголовье скота раз в пять увеличить в ближайшее пятилетие… Твоя машина — клад. Я ее сам повезу в область, а если нужно будет — и в Москву. Н и к о л а й. И включите в свой план? О г н е в. Ну, конечно. Н и к о л а й (радостно). Тогда… Тогда я такое придумаю еще… П а в е л (Николаю). Ты сначала то, что придумал, покажи! (Огневу.) Это же такой человек, Дмитрий Семенович. Недавно он изобрел веялку — ее кузнецы на пятом отделении делают… А он молчит. Веялка вроде американского «клейтона», но только с русским размахом: в два раза шире, длиннее и выше, с продольным, а не поперечным качанием грохота, с двумя мощными вентиляторами, с полным набором сит, со шнеками для механической погрузки и разгрузки зерна, с приводом для электромотора. Производительность за смену — не восемь тонн, как у «клейтона», а сто… Полная механизация! О г н е в (напряженно слушавший, с возрастающим вниманием Николаю). И ты молчишь! А мы горюем: при хорошем урожае будет на каждый ток во время уборки до пятисот тонн в день зерна от комбайнов поступать… Шестьдесят «клейтонов» надо и двести рабочих! Где взять? А ты молчишь. Пойми: если твоя машина окажется подходящей — это находка! Н и к о л а й. Так ведь я ее когда придумал? Когда вы сказали, что надо механикам к большим хлебам готовиться. Она еще в кузне. О г н е в (с досадой). В кузне, в кузне. Инженерам, конструкторам ее покажем, они помогут: за зиму на заводах ее сделают и дадут совхозам. А то уже в будущем году с «клейтонами» на мель сядем — дело срочное. Н и к о л а й (виновато улыбаясь). Ну, кто ж это знал! Вот промашка какая вышла. Надо ж было тогда раньше мозговать. П а в е л (хлопая Николая по плечу). Не горюй, дружище, наверстаем. О г н е в (всем, весело). Видите, как обрастает мускулами наш план. (Бежит в теплицу и приносит ящик с ветвистой пшеницей.) Вот она — пшеница будущего! Для нее и почвы невиданные и машины сверхмощные нужны. Она нам даст сказочные урожаи! Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (прерывая Огнева). Это еще спорный вопрос, молодой человек, очень спорный… Пшеничка-то вас и подведет! О г н е в, Споров мы не боимся, но решать их будем на полях. Милости просим к нам туда (показывая вперед), на передний край!
З а н а в е с.
КАРТИНА СЕДЬМАЯ
У арбузного поля. Шалаш и недалеко от него одинокая березка. Прохор роет яму на месте срубленного когда-то им деревца. Ермилыч ему помогает. Вдали сверкает молния, слышны раскаты грома. Издалека доносится пение:И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали…
(Пауза. Потом слышен гул запущенных моторов и голос поющей Лизы:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространства и простор…»
О г н е в (подступая к Долгополову вплотную, в сильном гневе). Так-то вы выполняете свое обещание. Это и есть ваш общий язык? Д о л г о п о л о в. Я вас не понимаю, коллега. О г н е в. И, видимо, никогда не поймете. Мы должны в пятидневку закончить вторую глубокую вспашку и торфование этих массивов, а вы… Машины стянуты не все, половина прибывших не работает, движок на Сухом болоте вы установили небрежно. Он через каждый час ломается, подача крошки задерживается. Д о л г о п о л о в. Из-за чего вы волнуетесь? Ну вспашем не в пять, а в десять дней — ничего страшного не случится. О г н е в. Случится! Через пять дней у корневищ многолетних сорняков новые побеги окрепнут, мы с ними хлопот не оберемся. Вас об этом предупреждали… Д о л г о п о л о в. Ну, что я могу сделать, раз… непредвиденные обстоятельства? О г н е в. В решающие моменты у вас всегда сюрпризы… Ферапонт Константинович, поймите: потеря темпов сейчас равносильна срыву всегда задуманного дела. Мы упускаем время. Это предательство, наконец! (Никодим Витальевич выглядывает из шалаша и прислушивается). Д о л г о п о л о в (раздражаясь). Опять оскорбления? Я имею самолюбие, я… В таком случае — делайте сами как знаете! О г н е в, И сделаем, обойдемся без вас. (Решительно.) Моя лошадь здесь — едемте вместе к директору. (Долгополов в нерешительности, глаза его испуганно бегают по сторонам. Никодим Витальевич выходит из шалаша.) Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (Огневу). Директор здесь где-то ходит. (Долгополову.) С кем имею честь? Д о л г о п о л о в (подобострастно кланяясь.) Старший инженер Долгополов. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч. Доктор сельскохозяйственных наук профессор Никодим Витальевич Суховерхов. (Здоровается за руку с Долгополовым, затем показывает Огневу на шалаш, откуда выглядывают гневные лица Ермилыча и Прохора.) Ну, молодой человек, вы тут всех с толку сбили. О какой заокеанской науке говорят они, да еще так неуважительно? Наука одна. Это возмутительно: малограмотные люди высмеивают бессмертные законы природы, открытые мировыми учеными. Они просто не ведают, что творят!… Да я что же, по-вашему, в коммунизме пожить не хочу… О г н е в. Вы отстали от жизни, доктор. Это уж не малограмотные люди. Это земледельцы нового времени, вступившие в борьбу со стихиями, вооруженные замечательной техникой. Это преобразователи природы. Прислушивайтесь к ним. У них есть чему поучиться. Они вам помогут быстрее попасть в коммунизм. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (надменно). Что? Прислушиваться к ним только потому, что вы и ваши наставники несколькими эффектными опытами расшатали у них чувство уважения к природе? Авантюра! О г н е в. Не авантюра, а революция, профессор! Нам некогда ждать милостей у стихий. Мы их обуздаем! Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч. Покорить природу? Это извечная и законная мечта, молодой человек. Но учтите, законы природы вечны и неизменны. Они не подчиняются нашим желаниям, через них прыгать опасно! О г н е в. Есть только один неизменный закон — это закон о постоянном и непрерывном изменении живой природы и ее свойств под влиянием условий, под воздействием человека… Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч. И это говорите вы мне, верному ученику Дарвина и продолжателю незыблемого учения о наследственности, мне, доказавшему как дважды два четыре не только в нашей, но и в заграничной печати независимость наследственных признаков от условий жизни и непередаваемость по наследству тех случайных эффектных изменений в природе растений, которыми так любят щеголять ваши учителя. Да я за разработку этой теории степень доктора получил, я на основании ее новые сорта пшениц вывожу с богатейшим набором генов. О г н е в (иронически). Но с беднейшим набором хороших зерен. Помню! Ха-ха, вас бы с теми домохозяйками свести, которые пытались, но так и не смогли выпечь из вашей пшеницы съедобного хлеба… Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (раздражаясь). Ну, молодой человек, тому, кто присуждает ученые степени, я думаю, виднее. О г н е в (спокойно). Не всегда. Факты — это жизнь. Если хотите еще фактов, приезжайте к нам через год-два — подведем итоги. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (зло). Сомневаюсь, молодой человек. Судя по тому, что я здесь видел, едва ли вам придется подводить итоги. (Долгополову.) Как вы полагаете, уважаемый? Д о л г о п о л о в (с первых же слов профессора оправился от растерянности). Во всяком случае, многое из того, что делает здесь коллега Огнев, кажется мне бесплодной затратой сил и средств. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (поучительным тоном Огневу). Вот видите! Природа, молодой человек, мстит за легкомыслие — да-да, и вы будете биты. Надо быть реалистом, молодой человек! О г н е в. Сидеть у моря, пока не расщедрится природа — это бы хотите сказать? Вы, что же, Никодим Витальевич, как эксперт такое заключение делаете? Разоружить нас хотите? Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (надменно). Во всяком случае я намерен осудить ваши опыты и бесплодный риск.. Надо знать меру, молодой человек. Считаться с тем, чему вас когда-то учили мы… (Пауза). Да. Я намерен осудить…
(Протяжный звук гонга. Прохор стремглав бросается из шалаша с криком: «Пересмена!». Никодим Витальевич шарахается от него в сторону.)
О г н е в. В таком случае, повторяю, не завидую вам, доктор. Не мы, а вы будете биты! Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (теряя самообладание). Нет — это изумительно! Вы обвиняемый, а ведете себя, как прокурор.
(Из глубины сцены, справа от шалаша появляются и останавливаются не замеченные Огневым и Никодимом Витальевичем Хлебников и Середкин. С левой стороны шалаша подходит Макар Трофимович, Самохин, Павел, Лиза, Николай, окруженные трактористами и трактористками. Они тоже останавливаются, не замеченные спорящими. Хлебников и Середкин также не видят подошедших с другой стороны людей.)
О г н е в (гневно, делая шаг к Никодиму Витальевичу). Кто что, разрешите спросить, нас обвиняет? Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (важно). Наука. О г н е в. Какая наука? Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч. Мировая! О г н е в. Такой науки нет! А суда лженауки, разоружающей практиков, мы не признаем. Мы сами ее судим — науку предельщиков. Кабинетчики, зарабатывающие себе ученые звания на бесплодной возне с генами, делающие смехотворный подкоп под настоящую науку, хотят быть прокурорами и судьями?! Или бесхребетные и беспомощные деляги, утратившие чувство цели, вроде уважаемого «коллеги» Долгополова, люди без страсти и дерзаний? Или Середкины, у которых вы с помощью Долгополовых разжигаете допотопные инстинкты рабского преклонения перед стихиями — не они ли прокуроры? Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (увидев группу людей и Макара Трофимовича). Но позвольте, тут народ кругом и, кажется, комиссия… О г н е в (никого не замечая, в пылу негодования). Или дилетанты, желающие комиссарить, но считающие ниже своего достоинства изучать закономерности, без знания которых царствовать над природой невозможно, — они прокуроры и судьи? Такие авторитеты мы признать не можем? У нас есть своя, подлинная наука — наука Тимирязева, Сеченова, Докучаева, Костычева, Павлова, Мичурина, Вильямса, Лысенко! У нас есть свой судья — партия, Руководимая самой передовой сталинской теорией и победоносно ведущая за собой самый героический и талантливый народ. (Никодиму Витальевичу и Долгополову.) А вы только в ногах путаетесь!.. Это про вас великий Павлов сказал: вы не видите фактов, потому что у вас нет в голове идеи… (Говоря, Огнев наступает на Никодима Витальевича и Долгополова, которые пятятся от него в сторону, где стоят Хлебников и Середкин.) Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (в крайнем возбуждении). Вы не имеете права шельмовать заслуженных деятелей науки… Мальчишка! Молокосос! Авантюрист!
(Долгополов, увидев Хлебникова, бросается к нему и о чем-то горячо говорит.)
Х л е б н и к о в (выступая впереди Никодима Витальевича, Огневу). Здесь не митинг, я полагаю, и по отношению к представителю центра вы не имеете права…
(Середкин, вставая рядом с Хлебниковым, хочет что-то сказать, но ничего, кроме угрожающего жеста, у него не получается. В это время Самохин, Павел, Николай, Лиза, Ермилыч и за ними трактористы и трактористки подходят и становятся плотной группой за спиной Огнева. Макар Трофимович остается на месте, наблюдая.)
П а в е л (резко Никодиму Витальевичу). Товарищ Огнев прав и оскорблять его мы не позволим. Народ не разрешит вам проповедывать свои вредные теории. Л и з а. Это еще вопрос — кто авантюрист! Н и к о л а й. И какая наука настоящая! Е р м и л ы ч. Хватит с нас лаптем щи хлебать. Хватит! С а м о х и н. Как? Алексей Иванович? Ты все-таки с ними? О г н е в (изумленно оглядываясь). Извините, товарищи, мы кажется, немного увлеклись… М а к а р Т р о ф и м о в и ч (подходит к Огневу). Товарищ Огнев? (Протягивает ему руку.) Будем знакомы. Секретарь об кома партии… О г н е в (радостно, пожимая протянутую руку). Товарищ Макар! (Спохватившись.) Извините, в совхозе вас так зовет народ. М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Мы ведь давно знакомы. Я здесь вырос, работал трактористом вместе с Кузьмой Середкиным. Отсюда меня на учебу послали и здесь же я работал агрономом, а потом директором. И я искренне рад за вас, товарищ Огнев, за вас и за хозяйство. О г н е в. За меня еще рано. Я еще… М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Дело вы начали большое, партийное. Спасибо! Я лет тринадцать тому назад, директорствуя здесь, только нащупывал то, что вы сегодня делаете. Смело, дерзко, настойчиво, — так и надо! Используем ваш опыт во всех районах. О г н е в (вне себя от радости). Значит, на нашей улице праздник! Значит, наше дело будет расти, шириться? М а к а р Т р о ф и м о в и ч (твердо). Да! Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (Макару Трофимовичу). Но, позвольте, должна же быть какая-то комиссия, говорят. Надо заседание провести. М а к а р Т р о ф и м о в и ч (показывая на людей, стоящих за Огневым). А это чем не комиссия? Народ?! Остается только выводы сделать. Да это и не трудно… Ведь речь идет о чем: за или против подлинной науки, за или против сталинского плана преобразования природы. Х л е б н и к о в. Макар Трофимович! Но ты еще с нами не говорил… Д о л г о п о л о в (робко). Надо же в узком кругу разобраться! М а к а р Т р о ф и м о в и ч (иронически). В узком? Ишь как хитер твой помощник, Алексей Иванович… Безобразничал и подличал в широком кругу, а отвечать хочет в узком. Х л е б н и к о в. Но у меня есть свои соображения… М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Знаем. Люди и в бригадах и в конторе мне все рассказали, и имей в виду, очень много нелестного для тебя, Алексей Иванович. Твой рапорт в трест и главк, например, с требованием — убрать Огневых из совхоза… тоже соображение? А вот о том, чтобы расчистить этим людям дорогу вперед (показывает на народ) — об этом ты не думал? Ну что ж, придется нам за это дело взяться!.. Х л е б н и к о в. Но разве я не могу сам, разве я… М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Нет. Ты уже не можешь! Ты привык, действительно, комиссарить и келейно решать все вопросы, а неприятные, острые — откладывать. Ты возомнил, что украшаешь собой пост, на который поставила тебя партия. Ты забыл, что руководить — значит предвидеть… Ты разучился отличать новое от старого, здоровое от гнилого. И поэтому оказался в плену у… Долгополовых, потворствуешь Середкину Кузьме. С е р е д к и н. Макар Трофимович, я теперь сам вижу: виноват. Я обещаю исправиться. М а к а р Т р о ф и м о в и ч (Середкину). А я теперь не верю. Сколько раз ты обещал партбюро и райкому взяться за учебу и до сих пор только собираешься… От курсов отказался. На авось надеешься?.. Думаешь, кривая вывезет?.. Д о л г о п о л о в (заикаясь от испуга). Я не могу принять на себя таких обвинений. У нас были разногласия, но я честно, открыто…
(Запыхавшись вбегает Елена Павловна. Она слышит последние слова Долгополова.)
Е л е н а П а в л о в н а. Ложь! (Макару Трофимовичу.) Я только что проверила, товарищ секретарь обкома… Все подтвердилось. Вот документы. (Протягивает бумаги Макару Трофимовичу, он берет.) Долгополов обманом собрал подписи под заявлением. Инженер клеветал на Огнева, чтобы поссорить его с директором. Он двурушник! С а м о х и н. Пустой и жалкий трус! Д о л г о п о л о в. Я не могу… Я… Разрешите уйти, Макар Трофимович. М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Как-нибудь и без вас разберемся…
(Долгополов уходит.)
С е р е д к и н (в ужасе). Все. Кончено. Эх, Кузьма, Кузьма — быть тебе опять битым… И поделом: Долгополова Ферапонта не мог раскусить. Долгополову поддался Ферапонту! Х л е б н и к о в (хватаясь руками за голову). Позор! (Вслед Долгополову.) Этот человек просто подлец. Он действительно двурушник, он… М а к а р Т р о ф и м о в и ч (Хлебникову). Только ли в этом дело, Алексей Иванович? А почему этот Долгополов так распоясался и долгополовщина, как здесь говорят, не вырвана с корнем? Ты забыл, видимо, урок, преподанный Центральным Комитетом партии некоторым руководителям нашей области за то, что они не поддержали, не подхватили, а, наоборот, преследовали новаторский почин знаменитого колхозного полевода, объявившего войну косности и шаблону. Ты забыл о судьбе формалистов-чинуш, тормозивших инициативу мичуринца? Почему Кузьма Середкин «лаптем щи хлебает», как говорит Ермилыч? Почему они в поход против новаторов и партийной организации ополчились. Кто им палец в рот положил? Ты! А они тебе всю руку оттяпали. Такова судьба примиренцев… Х л е б н и к о в. Я ничего не понимаю, я должен обдумать… М а к а р Т р о ф и м о в и ч. В том-то и беда… Как же можно понимать, не вникая глубоко в суть дела и не обдумывая его вперед, надолго вперед? (Пауза.) Тебе придется вместе с Середкиным посторониться, товарищ директор, пока не подтянешься до уровня жизни, отстал ты… Х л е б н и к о в. Но я прошу обком разобраться… М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Разберемся послезавтра на заседании бюро обкома в вашем присутствии (Хлебников опускает голову.) О позиции же уважаемого профессора доведем до сведения президиума Академии сельскохозяйственных наук, престиж которой подобные «доктора» подрывают… Вы реакционер в науке, профессор, и сами, видимо, этого не понимаете. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (выступая вперед). Я протестую… Это зажим! Партия еще не сказала своего окончательного слова о том направлении в науке, которое я представляю… Мы еще посмотрим! Е л е н а П а в л о в н а (срываясь с места, с развернутой газетой в руке). Неверно! Партия уже сказала это слово! (Подавая газету Макару Трофимовичу.) Вот почитайте.
(Все, за исключением Хлебникова, Середкина и Никодима Витальевича, потрясенных и растерявшихся, окружают Макара Трофимовича тесный полукругом).
М а к а р Т р о ф и м о в и ч (взволнованный). Товарищи! Совершилось большой исторической важности событие! (Читает.) Вчера на сессии Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина закончилась многолетняя битва между революционным крылом и реакционным течением в биологической науке. После заключительного слова президента Академии Трофима Денисовича Лысенко, доклад которого был предварительно рассмотрен и одобрен ЦК ВКП(б), принято единогласное постановление, знаменующее собой окончательную и полную победу мичуринской науки и разгром вейсманизма-морганизма. Н и к о д и м В и т а л ь е в и ч (в полной растерянности). Непостижимо! Поразительно! Феноменально! О г н е в. Это… Это, товарищи, великий этап. Ну, уж теперь-то мы развернемся с вами! Е л е н а П а в л о в н а. Теперь все агрономы будут мичуринцами! П а в е л и Л и з а (вместе). И все инженеры! Е р м и л ы ч. И будем мы, соколики мои, по-настоящему свой маневр совершать, по всей научности. Н и к о л а й. И такие машины придумаем, что небу станет жарко. М а к а р Т р о ф и м о в и ч (радостно). Поздравляю, друзья! (Показывает рукой на поля.) Ну, товарищи агрономы и инженеры — путь свободен!
З а н а в е с.
КАРТИНА ВОСЬМАЯ
Декорация та же, что и в седьмой картине. Ночь. Вдали видны многочисленные огни работающих тракторов. Слышен отдаленный гул. Ермилыч и Макар сидят у костра, около шалаша. Макар Трофимович пробует арбуз и дыню.Е р м и л ы ч. Так ведь аппетит приходит не сразу, товарищ Макар. Сначала на арбузы и дыни, а потом на люцерну меня потянуло… М а к а р Т р о ф и м о в и ч (поднимаясь). Хороши твои фрукты! А люцерну ты мне пришли, Ермилыч… А впрочем не надо. Сам прилечу к вам. Да! Стахановку Лизу Молодцову я обещал увезти до города. Она на моей машине домой за вещами поехала. Вернется, скажи — пусть подождет. Я на пахоту загляну… (Прощается с Ермилычем, идет и возвращается, говорит тихо.) Как ты думаешь, Ермилыч, тебе снизу виднее: потянет товарищ Самохин… директором? Е р м и л ы ч. Василий Иваныч вместо Алексея Иваныча? (Прищуривается, почесывая бородку.) М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Да. Алексея мы снимем, за парту года на два засадим, а потом увидим… Е р м и л ы ч. И то дело — мозги проветрить, а то они у него тово… А гордости — хоть отбавляй. Вот оно и не получается… А народ, он ныне, ох, строг! Самостоятельный народ! М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Огнев в большого агронома растет, а Самохин? Е р м и л ы ч. В самую точку! Он хоть и не так уж учен, но усваивает суть, оперяется, к народу чуток, но и потачки не дает… Орел! Это ты верно, товарищ Макар. Снизу-то все видать: кто орлом подымается, а кто вороной… М а к а р Т р о ф и м о в и ч (смеется). Да еще в павлиньих перьях иногда… Так я подъеду. (Быстро уходит. Вбегает одетая по-дорожному Лиза с чемоданом в руках. Она сильно взволнована.) Л и з а. Ермилыч, родной, помоги… Позови его… Еду. Сейчас! Е р м и л ы ч (ищет опояску, волнуясь). Павлушу? Сейчас, голубушка, сейчас, милая, позову. (Опоясывается.) Л и з а. Ермилыч! Е р м и л ы ч (подпоясываясь). Что, доченька? Л и з а. Ты ему скажи… Нет. Ничего не говори. Пусть придет. Е р м и л ы ч. А ты не волнуйся. Товарищ Макар свой человек… Подождет. (Бежит влево.) Сейчас. Мигом…
(Уходит. Быстро входит Елена Павловна.)
Е л е н а П а в л о в н а. Лиза, это правда? Уже? Л и з а (упавшим голосом). Да… Машина… Сейчас. (Нервничает.) Е л е н а П а в л о в н а. Ты вся дрожишь, Лиза, что с тобой? Л и з а. Я боюсь… Он… Павел… забудет… Е л е н а П а в л о в н а. Павел? (Обнимает Лизу.) Если Павел полюбил — не забудет, Лиза. Павел — настоящий человек!.. Л и з а. Но четыре года, Елена Павловна, вы подумайте! Е л е н а П а в л о в н а. Настоящая любовь, Лиза, бывает только раз и навсегда. Мы с Митей ведь тоже полюбили друг друга до войны, а поженились после войны. Он, как богатырь, на моих глазах растет, и люб мне все больше. И я знаю: чем больше я работаю, смелее, лучше для общего дела — тем сильнее любит меня и он. Понимаешь? Павел такой же. Вы оба такие, Лиза, и любовь у вас будет крепкой, большой!.. Л и з а (успокаиваясь). Да? Будет! Спасибо вам, Елена Павловна. Какая вы… (Целует ее. Появляется Павел.) Он… (Елена Павловна уходит в степь, поцеловав Лизу.) П а в е л. Лиза! Неужели… сейчас? Л и з а. Да, Павлуша, сейчас подъедет машина. (Порывисто.) Обещай мне, Павел, слышишь? П а в е л (берет Лизу за руки). Голубка, ты же знаешь: я мечтал о тебе еще там, в боях, не зная тебя, и когда товарищи несли меня раненного, а наверху сияло наше красное знамя, мне казалось, что рядом с ним стоишь ты и… ждешь меня. Л и з а (радостно). Как хорошо! (Склоняет голову на плечо Павлу и говорит шопотом.) А помнишь, ты мне сказал: и мы с тобой, любимая, пойдем рука об руку и будем этой жизни инженеры… Помнишь? П а в е л. Да, мы пойдем по дороге, которую открыла нам партия, и будем вместе.
(Сигнал автомашины. Слышен взволнованный голос Елены Павловны: «Лиза, пора! Лиза!».)
Л и з а (целует Павла). Павлуша, мне пора, прощай.
(Хочет взять чемодан. Павел нежно отстраняет ее руку, берет чемодан и ведет Лизу под руку. Оба уходят. Пауза. Потом молча выходят оттуда, где видны полосы света от фар автомашины, Огнев, Елена Павловна, Самохин и Ермилыч.)
Е р м и л ы ч. Голубушка, комсомолочка наша, как птичка из гнезда… улетела! О г н е в (Елене Павловне). Леночка, тебе надо беречься… Уж поздно, да и прохладно по ночам. С а м о х и н (не отрывая глаз от света фар уходящей автомашины). Вы слышали, он сказал: надеюсь лично поздравить вас с победой здесь — у Волчьих ям. О г н е в (укутывая Елену Павловну платком). Леночка, тебе надо с Василием Ивановичем домой. (Оглянувшись на задумавшегося Самохина, целует Елену Павловну.) Спокойной ночи. Е л е н а П а в л о в н а. А ты? О г н е в. К утру подъеду. Срочное дело с ночной сменой. (Елена Павловна и Самохин уходят. Огнев смотрит в поле, любуясь.) Какие горизонты, и путь свободен! (Невольно закрывает глаза от усталости.) Эх, если бы человек мог не спать подольше! Е р м и л ы ч (наблюдая за Огневым). Так-ить человек-от не железо. Вчера до утра хлопотал ты, сегодня — до ночи. Ехал бы домой отдохнуть… О г н е в. Знаешь, что, Ермилыч? Сосну-ка я у тебя в шалаше, а часика через полтора ты меня толкни: ночную пахоту проверить надо. Разбудишь? Е р м и л ы ч. Да уж что с тобой делать, ладно! (На ходу засыпая, Огнев идет в шалаш.) Е р м и л ы ч (один). Лет бы мне этак сорок или пятьдесят сбросить с плеч. Сам бы вот этак же на агронома учиться поехал. А потом по дороге этой столбовой, о которой товарищ Макар говорил давеча, во всю бы прыть, во всю ивановскую… Эх-ма! Везет молодым нынче. Большое выпало им, великое счастье!
З а н а в е с.
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ
Август. Полевой стан около Волчьих ям. Вдали видна извилистая лента реки. Слева вагончик, в нем телефон. На переднем плане в тени берез несколько удобных скамеек. Слышен гул тракторов и шум работающих комбайнов. На стане веселая суета. То и дело пробегают поварихи с посудой. Самохин и Николай выходят с разных сторон, оба взволнованные и хлопотливые.Н и к о л а й (Самохину). Разрешите доложить, товарищ директор?.. С а м о х и н (останавливаясь). Я слушаю… Н и к о л а й. Через час уборка на Волчьих ямах заканчивается. По всем данным обязательства перевыполнены намного. Веялки моей конструкции работают безотказно. Задержка за автопарком, для вывозки зерна на элеватор нехватает машин. Старший инженер совхоза товарищ Туров поручил мне просить три «ЗИСа» из вашего резерва. С а м о х и н. Разрешаю. (Николай поворачивается и хочет итти) Подожди, Николай. (Николай останавливается.) Идет, значит, твоя веялка во всю? Н и к о л а й. Как по маслу. С а м о х и н (достает из бокового кармана бумагу). Вот слушай. Распоряжение министра… (Читает.) «Начальника механической ремонтной мастерской совхоза Николая…» (Передает бумагу Николаю.) Сам читай. Н и к о л а й (читает, сильно волнуясь). «…за разработку конструкции мощной веялки и тракторного стогомета на ходу, давших блестящие результаты на уборке сена и хлеба в совхозах Сибири и Зауралья в этом году, представить к правительственной награде и командировать для получения высшего образования по профилю инженера-конструктора…» С а м о х и н. Поздравляю, Николай. (Крепко жмет ему руку.) Доволен? Н и к о л а й (заикаясь от радости). Еще бы, Василий Иванович, такое счастье. Но я же не один изобрел. А кузнецы? Они делали первую машину, вносили предложения… Многое подсказали… С а м о х и н. О кузнецах будет особый приказ по тресту (Резкий продолжительный звонок телефона. Самохин бежит к аппарату, на ходу говорит Николаю.) Область вызывает… Три машины в распоряжение товарища Турова из моего резерва — дай команду! Н и к о л а й. Есть. (Убегает. Пауза. За сценой слышен гул заведенных моторов, слышно, как машины срываются с места и уходят.) С а м о х и н (в трубку). Директор совхоза Самохин у телефона. Что? Секретарь обкома вылетел? Есть. Встречаю. (Бежит через стан за сцену, слышен его голос: «Эй, на аэродроме — костры зажигай, костры. Самолет из области!» Голоса вдали: «Эй костры давай, эй, костры! Товарищ Макар летит!» Слышен отдаленный шум мотора самолета. Засыпанный мякиной, со снопом люцерны в руках, появляется сияющий Ермилыч.) Е р м и л ы ч. Вот это работка… На каждом круге два бункера полных! (Рассматривая сноп.) И люцерны взяли по шесть центнеров с гектара! Сейчас бы сюда этого… доктора — Витальича… (Рабочие проносят через стан большой стол с арбузами и дынями, на котором в раме укреплен портрет Ермилыча. Ермилыч ошеломлен.) Что это? Р а б о ч и й. К торжественному ужину для победителей… десерт! Е р м и л ы ч (идет рядом с рабочими). А это… никак я? Собственной персоной! (Рабочие добродушно смеясь, уходят.) Я! И арбузы мои, и дыни мои, и люцерна… Все, все мое. (Задумывается.) А что? Прав, пожалуй, Василий Иванович, быть нам на той станции до срока… Ведь он, Иосиф Виссарионович-то, как сказал: три пятилетки, если не больше… Если — это понимать надо! Можно стало быть и не больше… С таким-то народом, соколики мои!
(Быстро уходит вправо — туда, откуда доносится еле слышная вначале, а потом все громче песня. Хоры мужских и женских голосов.
Ты зачем, суховей,
Из голодных степей
По-над пашнями коршуном вьешься,
И в бездонную топь,
Многоводная Обь,
Ты зачем через тундры несешься?
Мы пройдем по полям,
По дремучим лесам,
Обуздаем великие реки.
И сибирской воде
К ледовитой волне
Загородим дорогу навеки!
От полярных мерзлот,
Обь назад потечет
На пески кара-кумские хлынет.
И восстанут сады
У сибирской воды
В обожженной веками пустыне!
Л и з а (волнуясь, напряженно всматривается туда, откуда слышна песня). Это они идут — победители! И с ними Павел! Всего два года прошло, а кажется, целая вечность. Подумать только: он — уже инженер совхоза, а я — на третьем курсе. И Волчьи ямы стали знаменитыми. Удивительно хорошо все сложилось: наша студенческая экскурсия так кстати попала сюда, Макар Трофимович собрался лететь на Волчьи ямы именно в этот момент и сразу узнал меня — на приеме в обкоме партии… А Павел не ждет. Я даже телеграмму не успела ему послать. И так волнуюсь… М а к а р Т р о ф и м о в и ч (Лизе). Ну что, Лиза. Пойдем смотреть, как твой жених с товарищем Огневым Волчьи ямы атакует… С а м о х и н. Уборка закончена. Все люди будут скоро здесь. Слышите? (Песня слышна сильнее.) Л и з а. Я… пойду к ним навстречу… (Подбегает к вагончику, оставляет там чемоданчик и бежит вправо. Песня совсем близко.) М а к а р Т р о ф и м о в и ч (по-отцовски смеется). Какова молодежь! (Прислушиваясь, Самохину.) Что это? Кто эту песню сочинил? С а м о х и н. Слушали лекцию о сибирских реках. Ну и… коллективно сочинили. М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Да? Мы еще только готовимся, а они уже песню сложили. (Слушает песню.)
(Большая пауза. Из глубины поля, справа выходят окруженные юношами и девушками, взявшись за руки, Огнев и Елена Павловна, рядом с ними Лиза и Павел. В руках Огнева и Елены Павловны по снопу золотой пшеницы.)
О г н е в (поднимая сноп вверх, громко). Вот она, царица полей, пшеница коммунизма. По двести пятьдесят пудов на круг.
(Увидев Макара Трофимовича все останавливаются, песня обрывается, Огнев, за ним Елена Павловна, Павел, Прохор, Николай подходят к Макару Трофимовичу.)
Г о л о с а: Здравствуйте, товарищ Макар!.. О г н е в. Разрешите доложить, товарищ секретарь обкома… На Волчьих ямах уборка закончена. Собрано по 250 пудов с гектара в среднем. (Передает Макару Трофимовичу сноп.) Е л е н а П а в л о в н а. А с семенного участка по триста пудов! (Передает Макару Трофимовичу сноп.) Е р м и л ы ч. И семян люцерны по шесть центнеров… на том самом месте, товарищ Макар. (Передает Макару Трофимовичи сноп.) Вот! П р о х о р (указывая рукой в поле). А берез-то сколько подрастает… Берез-то! О г н е в. И это только начало! С будущего года мы начнем сеять эту пшеницу по структурным почвам, по пласту многолетних травосмесей и она будет давать нам по четыреста-пятьсот пудов с гектара. А когда подрастут саженцы и везде электричества появится… Г о л о с а: Правильно! Будет по шестьсот! Слово даем товарищу Сталину. М а к а р Т р о ф и м о в и ч (здороваясь с Огневым, Еленой Павловной, Павлом, Николаем, Прохором, Ермилычем и другими). Радуюсь вашим успехам. А еще больше радуюсь тому, что вы смотрите вперед. Правильно! Мы не герои на час, мы — мастеровые коммунизма! И то, о чем вы поете, — сегодня уже не мечта. Я вас обрадую, друзья. Дошла очередь и до нас. Грандиозный сталинский план переделки природы, который осуществляется с таким успехом в Европейской части СССР, вступает в действие и у нас. Работы по переброске вод сибирских рек в Каспийское море начались. Величайший в мире канал пройдет через нашу область и через ваш совхоз. В Сибири и Зауралье будут построены еще невиданной мощности гидростанции. Они зальют электрическим током все наши города и села, колхозы и совхозы. Л и з а (встав рядом с Макаром Трофимовичем, говорит всем, показывая на реку). Здесь потекут на юг воды Оби, Иртыша, Енисея и Тобола. Вы знаете, сколько будет электричества? Миллиарды киловатт!.. Здесь пойдут океанские пароходы в Баку, к Астрахани. П а в е л. Неужели это будет?.. Л и з а и М а к а р Т р о ф и м о в и ч (вместе). Будет!.. П а в е л. Значит, можно будет и здесь пускать электрические тракторы и комбайны? М а к а р Т р о ф и м о в и ч. Можно!.. П р о х о р. И суховеи будут уничтожены там (показывает на юг), где родятся? Е р м и л ы ч (восторженно). И будем мы, соколики мои, в полной форме! Л и з а (волнуясь). Нас из области в институте учится пять человек, мы перешли на третий курс. И мы, студенты-земляки, решили специализироваться на строительстве гидростанций, а потом приехать сюда эти станции строить. Мы дали комсомольскую клятву товарищу Сталину.
(Издалека с пением той же песни подходит еще группа юношей и девушек.)
О г н е в. Вы подумайте: вся Сибирь и Зауралье вместе с нами на переднем крае!.. Мечты и сказки становятся былью, песни догоняют жизнь, и сама жизнь как песня!.. И нет предела нашим дерзаниям, никакие силы нас не остановят, потому что дело наше правое. Потому что есть у нас испытанная в боях партия большевиков и великий Сталин!
(Песня совсем рядом, она звучит мощно, и все присутствующие подхватывают ее:
От полярных мерзлот
Обь назад потечет,
На пески кара-кумские хлынет…
И восстанут сады
У сибирской воды
В обожженной веками пустыне!)
З а н а в е с.
Л. Татьяничева ОТСТОИМ МИР Стихотворение
Едва проснувшись, включаю эфир:
Доброе утро, земля!
— Мама, а что это значит мир? —
Сынишка спросил меня,
Теплый, розовый весь от сна.
Возьму его, обниму.
— Видишь, малыш, за окном весна,
Яблони в белом дыму?
Синее небо нежней, чем шелк.
Птицами полон сквер.
Папа твой на работу ушел —
Строитель он, инженер.
На пустыре здесь будет детсад —
Красивый лепной дворец.
Его для таких вот, как ты, ребят
Выстроит твой отец.
Строит дома он на сотни квартир
С окнами на зарю…
— Мама, ты расскажи про мир!..
— А я о чем говорю?
Чтоб ты лучше понял, малыш,
Я поясню тебе так:
Мир — это значит в рассветную тишь
Бомбу не сбросит враг,
Хлеб не посмеет у нас отнять,
В огонь не швырнет детей…
…Мир — это счастье.
Его отстоять —
Долг всех простых людей.
Я. Вохменцев СТИХИ
У КАРТЫ
С той поры, как этой картой
Залепили полстены,
Вся семья зубрит с азартом
Географию страны.
Даже дед по просьбе внука
К ней подходит иногда.
— Что ж… полезная наука!
Да не вижу… вот беда…
И не впрок твои старанья,
Возвращай в начальный класс…
— За такие, дед, признанья
Двойку схватишь в самый раз!
Коль забыл — начнем сначала…
И толкуют полчаса,
Где должны пройти каналы,
Где лесная полоса.
— А вот здесь ковром зеленым
Мы покроем все пески.
Тут сольются Волга с Доном —
Две огромные реки.
Здесь вот, кверху от Ростова,
Много верст займет вода —
Будет море.
— Что ж такого,
Если есть в морях нужда?
Сделать миром все возможно, —
Дед кивает головой, —
Только б не было тревожно
В смысле третьей мировой.
Внук на деда смотрит зорко:
— Значит, понял что к чему!
…Надо думать, что пятерка
Обеспечена ему.
ПРАЗДНИК
Сияют ребята. Еще бы!
У каждого в сердце светло.
Недаром за годы учебы
Сумели постичь ремесло.
Для них и станки, и моторы
Поют о величье страны.
А в цехе такие просторы —
Верста от стены до стены.
И боязно как-то сначала…
Вот сверху спустившийся тросс
Не связку, а гору металла
Шутя подхватил и понес.
Но мастер, бывалый и ловкий,
Нередко видал на веку,
Как юность в хрустящей спецовке
С волненьем подходит к станку.
— Ну что ж, пожелаю успеха.
Смущен? Ничего! Ничего! —
И кажется парню — полцеха
С надеждой глядит на него.
Он скоро высокой ступени
Достигнет в искусстве труда,
Но этот прибой впечатлений
В душе сохранит навсегда.
Знамена сюда принесите,
Оркестр приведите сюда —
Грядущего мира строитель
Вступает на вахту труда.
КОМБАЙНЕРЫ
Уже за дремлющим Тоболом,
Сгоняя росы по утрам,
Пшеница колосом тяжелым
Кивает ласковым ветрам.
Пора желанная настала.
И вот под шорох желтых нив
Встают комбайнеры к штурвалам,
По локоть руки обнажив.
В осеннем золоте равнины.
Пшеница нынче хороша.
В массив врезаются машины,
Стальными жабрами дыша.
Мелькают крашеные крылья,
Сгибая буйные хлеба.
И стала рогом изобилья
Четырехгранная труба.
Все рады ведреной погоде —
Такая бы на всю страду!
Комбайнер знак дает подводе
Пришвартоваться на ходу.
Возница скомкал папироску,
А вожжи — на локоть руки.
И кувыркаются в повозку
Отяжелевшие мешки.
Идет гнедуха в ряд с машиной,
Косясь доверчивым зрачком;
Ей трактор, пахнущий бензином,
Еще с рождения знаком.
Простор полей — не видно края.
Люблю я свой богатый край!
На гулкий хедер, не смолкая,
Волнами плещет урожай.
Что косы в месяц не скосили б —
Комбайны выжнут до темна.
Итоги их дневных усилий —
Гора ядреного зерна.
И если вам узнать охота
Героев наших имена,
Прошу, друзья, к Доске почета —
У входа в сад стоит она.
А. Гольдберг СТИХИ
БАЛЛАДА ОБ УГОЛЬКЕ
Провожая сына, горняка,
Дал отец ему
Кусочек уголька.
— Сбереги его ты на войне,
Распишись в Берлине на стене!..
Шел солдат.
Сквозь вой и свист металла
Смерть не раз
В лицо ему дышала.
Обагренный кровью уголек
Как зеницу ока
Он берег…
Шел вперед солдат,
Порою было тяжко…
Но уже Дунай
В помятой фляжке,
Женщины
С цветами у дорог
Приглашают
В гости на чаек.
Но, солдат,
Об устали забудь!..
Уголек торопит
Дальше в путь…
Переправы,
Штурмы,
Переходы…
Вот уже у ног солдата Одер.
Что устал в боях,
О том, солдат, забудь!
Дальше, дальше!
На Берлин твой путь!
…Кончено!
Советская пехота
Входит в Бранденбургские ворота.
Над рейхстагом реет алый флаг,
Крупно пишет на стене горняк:
«Я — солдат страны социализма,
Завершил у этих стен поход.
Горе тем, кто вновь мою Отчизну
Оторвать от мирных дел рискнет!..»
* * *
На копрах сияют звезды ярко,
Лемешев поет в шахтерском парке…
Но горняк на случай приберег
Тот родной, отцовский уголек.
САНКИ
Сыну — санки
С плюшевыми кисточками по бокам.
— Нравятся?
— Очень!
— Беги на горку!..
Ног не чуя бежит Егорка
К горке,
К мальчишеским голосам…
Сел шахтер
И набил свою трубку.
Кружится, падает
Белый снежок.
В новых валенках,
В заячьих шубках
Мчится детство
С горы в лесок.
Санки… Санки…
И вдруг издалека
Тяжелое прошлое
Ожило в нем.
…Санки… Санки
В забое глубоком,
Плечи, натертые узким ремнем…
В голые пятки врезается уголь,
Уголь на санках лежит, как скала…
Мальчики тянут их,
Друг за другом
На четвереньках ползут до ствола.
Санки… Санки
Летят, как птица!
У ребятишек счастливые лица.
Кличет Егорка
Отца на горку:
— Папа, поедем,
Не страшно ничуть!..
С улыбкой подумал:
«И впрямь почему бы?
Хоть с опозданьем,
А все ж прокачусь!..»
МУЗЫКАНТ
Поднял палочку маэстро,
И притих огромный зал.
На трубе солист оркестра
Вдохновенно заиграл.
Люди слушали с восторгом:
Чистый звук! Душа! Талант!..
Аплодировали долго —
Настоящий музыкант!..
Опустели зал и сцена,
Спит труба,
Уложен фрак.
Входит в шахту
С третьей сменой
Молодой трубач-горняк.
За троих он рубит лаву,
Смелый, опытом богат,
Говорят шахтеры: — Браво!
Настоящий музыкант!..
Пласт читает он, как ноты,
Под рукой мотор поет,
Как и в музыке,
В работе
Против фальши восстает.
В шуме шахты
Слышит песни,
Звуки маршей и кантат.
Молодой горняк — известный,
Настоящий музыкант!
Б. Раевский ГРАЖДАНИН СТРАНЫ СОВЕТОВ[1] Глава из романа
Уже за неделю до международных состязаний пловцов, в которых участвовала и советская команда, над кассой бассейна «Этуаль» висели огромные аншлаги:Это была ложь. В кассе билетов действительно не было. Но в то же время они вовсе не были проданы. Больше того — продажа билетов еще даже не начиналась. Все 65 тысяч отпечатанных на тонком картоне ярких сине-красно-желтых билетов лежали пачками по 100, 200, 500 и 1000 штук, туго перевязанные бечевкой в левом верхнем ящике громадного стола в кабинете хозяина бассейна. Перед хозяйским столом стояли два полных невысоких человека, удивительно похожих друг на друга. У обоих были обрюзгшие, морщинистые лица и отвислые щеки, тремя складками сползавшие на стоячие воротнички, что придавало этим людям необычайное сходство с бульдогами. И одеты они были оба одинаково: под модными в крупную клетку пиджаками из нарочито грубой, но дорогой шерсти и у того, и у другого были яркие малиновые жилеты. В руках господа держали одинаковые шляпы, с одинаково загнутыми полями. И даже выражение лиц у них былоодинаковым: глаза смотрели просительно, выжидающе, с собачьей преданностью; на губах застыли одинаковые угодливые улыбки. Это были два профессиональных спортивных барышника. Хозяин бассейна, маленький, сухонький седой старик, господин Якоб Кудам сидел за столом, неестественно выпрямив спину. От старости и болезней все его тело непрерывно дрожало, как студень. Дрожали тонкие, как у ребенка, ноги; тряслись сморщенные маленькие ручки; непрерывно качалась, дергалась из стороны в сторону, как на шарнирах, голова, а губы все время подпрыгивали, будто господин Якоб Кудам безостановочно что-то бормотал или жевал. Якоб Кудам больше всего на свете ненавидел спорт и простоквашу. Но ненавистную простоквашу ему приходилось каждое утро глотать натощак по настоянию врачей и жены, а столь же ненавистными спортивными делами он занимался целые дни, так как именно на спорте старик делал свой бизнес. Не все ли равно, говорил он, как зарабатывать деньги: продажей какао или рыболовных судов, изготовлением подтяжек или крупнокалиберных пулеметов, или, наконец, вытягиванием денег у дураков-зрителей, желающих посмотреть очередного чудо-боксера, велосипедиста, пятьдесят часов не слезающего с седла, или силача, несущего на себе живого коня, на котором сидят жена силача, двое его детей и старуха-бабушка? «Спортивное дело» досталось Кудаму в молодости в наследство от отца, и он, ненавидя спорт, все-таки занимался всю свою жизнь устройством спортивных состязаний. Ему принадлежал не только самый большой в стране плавательный бассейн «Этуаль», но и стадионы, и боксерные ринги, и ледяные дорожки, и теннисные корты, и даже сами боксеры, футболисты, пловцы, безболисты, теннисисты и конькобежцы. Сейчас, сидя в своем кабинете перед двумя барышниками, старик решал очередную «спортивную» задачу. Немало приложил он труда, немало сунул взяток, кому следует, чтобы состязания пловцов, в которых участвует и советская команда, проходили именно в его бассейне. Он добился цели, и теперь надо было осмотрительно, хитро и умело пожинать плоды своего труда. Содержание бассейна и обслуживающего персонала во время состязаний, расходы на рекламу и прочее составляли 25 000 гульденов. Якоб Кудам выпустил на каждый день состязаний 20 000 билетов по цене от 25 сентов до 3 гульденов, что давало ему за три дня соревнований 60 000 гульденов. Таким образом, он легко, без хлопот получал 35 000 гульденов прибыли. Но это его не устраивало: предприимчивый делец жаждал получить больше. У него мелькнула мысль: повысить цены на билеты, но он сразу же отверг это — это пахло крупным скандалом. Зрители, чего доброго, взбунтуются и разнесут весь бассейн, как уже однажды было на стадионе Кудама, где разъяренные болельщики в ответ на его жульничество сровняли с землей две центральные трибуны. Подумав, Якоб Кудам выпустил еще 5000 билетов на тот день, когда выступает знаменитый русский чемпион с такой ужасно трудной фамилией — господин Котшетофф. Правда, на трибунах бассейна едва-едва помещалось 20 000 зрителей. Остальным придется вплотную стоять в проходах и за барьерами, откуда не видно не только пловца, но и самой воды. Однако это не страшно. Зато господин Якоб Кудам положит в карман лишнюю тысячу гульденов. Но и этого ему было мало. Зная, как стремятся болельщики посмотреть русского чемпиона, Якоб Кудам не пустил билеты в свободную продажу в кассу бассейна. Вчера он продал первые 5000 билетов по удвоенной цене спекулянтам-барышникам. Те задержат билеты у себя до самого дня состязаний, и когда отчаявшихся попасть на матч болельщиков окончательно захватит спортивный азарт, барышники перепродадут им билеты и сами еще неплохо заработают на этом. Якоб Кудам, глядя на двух новых спекулянтов, сидящих перед ним, сосредоточенно размышлял. Вчерашние барышники как-то слишком быстро согласились купить билеты за двойную цену. Уж не продешевил ли он? Старик, трясясь всем телом, медленно встал, опираясь на палку, и, подрыгивая острыми коленками, словно танцуя, заковылял по кабинету. Огромные фотографии боксеров, футболистов, пловцов развешаны по стенам его кабинета; их молодые, здоровые тела вызывали у этого больного старика привычное чувство раздражения. Два похожие на близнецов барышника почтительно поворачивали головы вслед за хозяином бассейна. Губы Якоба Кудама тряслись, как всегда. Казалось, будто он что-то бормочет про себя. Но на этот раз он действительно шопотом подсчитывал что-то. — Могу! — наконец прошамкал он. — Могу удовлетворить вашу просьбу и предложить вам, господа, 3000 гульденовых билетов. Спекулянты радостно переглянулись и кивнули. — Каждый гульденовский билет идет по 3 гульдена! — решительно прибавил хозяин бассейна. Барышники мгновенно остолбенело смотрели на Якоба Кудама, но в этот момент в кабинет бесшумно вошел секретарь и доложил, что в приемной сидит господин Пит Эрнсте. — Проси подождать! — прошамкал старик. Услыхав имя известного ловкача-спекулянта, барышники заторопились, выложили на стол 9000 гульденов и, получив билеты, ушли. Старик, стоя в углу кабинета, нервно потирал ладони. Он злился. Чорт побери, кажется, опять продешевил! Кивком головы приветствовал он вошедшего Пита Эрнсте, высокого господина со сломанным, свороченным влево, расплющенным носом. Пит Эрнсте был в молодости боксером, но теперь предпочитал умалчивать о своем боксерском прошлом. А заключалось оно в том, что Пит вместе со своим менаджером[2] обычно подкупал будущих противников, и за хорошую мзду они позволяли ему побеждать себя. Но однажды какое-то влиятельное лицо заключило пари, поставив крупную сумму за победу Пита Эрнсте. А как на зло, противником Пита на этот раз был какой-то упрямец, не пожелавший проигрывать. Наоборот, он сам уже во втором раунде[3] нокаутировал Пита. Влиятельное лицо, потеряв крупную сумму, разозлилось на Пита Эрнсте и, узнав о всех его махинациях, подняло скандал. Во избежание худшего Питу пришлось навсегда покинуть ринг. Но неунывающий Пит не растерялся и стал спортивным дельцом. Старик Якоб Кудам даже не выслушал его до конца. — Могу! — крикнул он. — 5000 пятидесятисентовых билетов по 2 гульдена за штуку! Якоб Кудам ожидал, что покупатель, услышав учетверенную цену, пошлет его ко всем чертям. Но Пит Эрнсте лишь задумался на минуту, а потом, не говоря ни слова, отсчитал 10 000 гульденов. Не успела еще дверь за ним закрыться, как старик в бешенстве бросил палку об пол и закричал секретарю, вошедшему доложить о новых покупателях: — Гони! Всех гони в шею! Якоб Кудам решил не быть дураком. Завтра он продаст все билеты по цене в шесть раз выше их стоимости.«Все билеты проданы»
* * *
Международный матч пловцов должен был начаться в 7 часов вечера. Но уже в 4 часа трибуны бассейна «Этуаль» были набиты до отказа. Казалось, уже негде не только сидеть, но даже стоять, а люди все прибывали и прибывали. Неестественного цвета, похожая на весеннюю траву, зеленоватая вода, какая бывает только в бассейнах, вспыхивала тысячами светящихся искр, отражая свет мощных ламп. Бассейн был «открытый», деревянный, старый, как хозяин его Якоб Кудам. Над трибунами и водой не было крыши — ею служило небо. Скамейки со спинками стояли только в первых рядах; на «галерке» спинок у скамеек не было. «Галерочники» — не господа, и так посидят, — вероятно, решил хозяин бассейна. Сразу чувствовалось, что бассейн строился с одной целью — вместить как можно больше зрителей. А будут ли эти зрители видеть воду и пловца — это не интересовало владельца. Многие болельщики не смогли попасть на матч. Им оказались не по карману вздутые цены на билеты. Наиболее страстные из этих не попавших на трибуны болельщиков заблаговременно разместились на крышах соседних домов. Даже на торчащей недалеко от бассейна высокой заводской трубе виднелись фигурки-болельщиков. Они сидели на ступеньках металлической лестницы, тянувшейся вдоль трубы. В помещении бассейна внизу, у воды, на самых лучших дорогих местах, сидели богатые господа. Некоторые из них были в элегантных белых, спортивных костюмах, другие — в сшитых по последней моде мешковатых длинных пиджаках. Многие из этих господ заплатили барышникам за билеты по 30—40 гульденов — столько, сколько получает рабочий за свой месячный труд. Наверху, на «галерке», в проходах и за барьерами виднелись, черные блузы рабочих-портовиков, простые синие комбинезоны рыбаков, морские бушлаты и яркие шерстяные свитера спортсменов с эмблемами различных рабочих спортивных клубов на груди. В разных концах зала были разбросаны, как островки, стоящие на возвышениях фигуры букмекеров и маклеров[4], вокруг которых все время бурлил людской водоворот. Подкупленные ими полисмены, как изваяния, неподвижно стояли спиной к букмекерам: полисмены делали вид, будто не замечают, как букмекеры собирают от болельщиков ставки за ту или иную команду. Страсти разгорались. Тут и там вспыхивали громкие споры, болельщики азартно взвешивали шансы каждой команды. На этом международном матче были представлены пловцы 18 стран. Тут была и сильная команда Франции, и вызывавшая насмешки «галерки» команда Америки, в составе которой, кроме негра Джонсона, не было ни одного мало-мальски приличного пловца. Были тут и команды Бельгии, Норвегии, Италии, Финляндии, Испании, Португалии, Японии, Польши, Канады, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Голландии, Швеции, Дании. Должна была участвовать в матче и команда «владычицы морей» Англии, о которой английские газеты еще задолго до матча трубили, что ей обеспечено первое место. Но когда руководители английского спорта ознакомились с составом советской команды, они поняли, что первого места им не видать как своих ушей. И чтобы не конфузиться, струсившие английские дельцы-дипломаты решили лучше, вовсе не посылать на матч свою-команду. Впрочем, об отсутствии англичан большинство зрителей отнюдь не жалело: «владыки морей» были плохими пловцами. Симпатии зрителей разделялись, в основном, между двумя командами. Подавляющее большинство простых людей Голландии от всей души желали победы советским пловцам, впервые выступающим на международной арене. Другая часть болельщиков хотела видеть впереди своих соотечественников-голландцев. Только зрители первых рядов были согласны, чтобы победила любая команда, за исключением советской. В бассейне с каждым мгновением становилось все шумней. Мощные репродукторы, установленные во всех концах зала, вдруг перестали извергать воющие звуки джаза. На минуту наступила тишина. Потом в горле репродукторов вдруг словно лопнула какая-то перепонка. Репродукторы снова ожили. К микрофону подошел спортивный обозреватель. — Сегодня среди других пловцов выступает советский пловец «Северный медведь», господин Леонид Котшетофф, — заявил он. — По утверждению большевиков, господин Леонид Котшетофф недавно установил в России новый мировой рекорд в плавании брассом на груди на 200 метров. Но Москва далеко, — ехидно заметил спортивный обозреватель, — и там очень холодно. Может быть, там секундомеры от холода врут?! Или в русской минуте не 60, а 65 секунд?! В первых рядах послышался одобрительный смех и аплодисменты; «галерка» взорвалась возмущенными криками. Спортивный обозреватель продолжал: — Международная Лига пловцов отказалась зарегистрировать этот… — тут обозреватель насмешливо гмыкнул, — «мировой» рекорд. Пусть «Северный медведь» сегодня докажет, что он лучший пловец мира! Крик в первых рядах: — Правильно! — Пусть докажет! Крик на «галерке»: — И докажет! Когда шум стих, обозреватель продолжал: — В сегодняшнем номере газеты «Спорт» опубликована очень интересная статья господина Ванвейна, нашего соотечественника, чемпиона мира в плавании брассом на груди на 200 метров, рекорд которого якобы побил господин Котшетофф. В первом ряду встает какой-то высокий мускулистый молодой человек в белом спортивном костюме, с идеально ровным пробором на голове, пустыми светлыми глазами, тяжелой, будто каменной, челюстью и самоуверенным нагловатым лицом. Это сам господин Ванвейн. Он кланяется и садится, небрежно обмахиваясь газетой. Такие же листки буржуазной газеты «Спорт» видны и у многих зрителей первых рядов. Обозреватель продолжает: — Основная мысль господина Ванвейна четко выражена уже в самом заглавии статьи: «Северный медведь» плавает неправильно!» Наш уважаемый чемпион убедительно доказал, что господин Котшетофф, плавая стилем брасс, или точнее говоря, баттерфляем, делает ногами не движения лягушки, а удары сверху вниз, похожие на удары хвоста дельфина. Как известно всем уважаемым зрителям, такая работа характерна для стиля кроль, но не для брасса. Господин Котшетофф плавает неправильным стилем. Поэтому, если он даже действительно показал Москве рекордное время, — его рекорд фиктивен. — Как видите, господа, наш уважаемый чемпион с блестящей логикой и убедительностью доказал, что большевики и на этот раз схитрили и внесли в благородный, чистый спорт обычные свои нечестные приемы! С «галерки» раздались негодующие крики и свист: — Как же! — Доказал! — Эй, Ванвейн! — кричит молодой рабочий-спортсмен. — Где это ты видел, как плавает Котшетофф и как работают у него ноги? — Наверно, у себя на вилле под Амстердамом, где Ванвейн живет безвыездно уже целый год! — кричит старый рабочий горняк. В зале громко смеются. — Ванвейн! — кричит моряк с «галерки». — Почему ты пишешь статьи вместо того, чтобы плавать? Почему ты не участвуешь в соревнованиях? — Струсил наш малютка Ванвейн! Испугался, что его съест «Северный медведь»! — кричит тот же старый рабочий-горняк. И снова в бассейне вспыхивает смех.* * *
До матча оставалось два часа. Советские пловцы находились за городом, в отведенном для них особняке-коттедже. Коттедж был ветхий и безвкусный. От обилия старых проеденных молью ковров, тяжелых бархатных портьер и потускневших от времени картин в пыльных золоченых рамах даже сам воздух в коттедже казался тусклым и тяжелым. Советские пловцы вытащили из одной самой большой комнаты ковры, портьеры и картины, комната сразу стала светлой и просторной. В этой комнате и собрались пловцы. На шоссе у ворот коттеджа уже стоял желтый автобус, готовый везти участников матча в бассейн. Все советские пловцы заметно волновались: приближался ответственный момент — первое выступление за границей. Они знали: сегодня в родной Москве, Туле и Куйбышеве, на Камчатке, в Мурманске и Ташкенте десятки тысяч людей будут нетерпеливо ждать у репродукторов «Последних известий». «Как выступили наши спортсмены в далекой, чужой стране?» — взволнованно будут думать советские люди. Они дали своим пловцам один короткий наказ: Победите! — и сегодня будут ждать известия об их победе, обязательно о победе! Сейчас, перед началом ответственных и сложных соревнований, все пловцы вспоминали Москву и сотни дружеских рук, крепко обнимавших их на вокзале перед отъездом в Голландию. Перед самым отходом поезда девочки-пионерки вручили всем пловцам маленькие красные шелковые платочки. На каждом из них были вышиты золотом слова: «Ждем вас с победой!». Пловцы волновались. И чтобы подавить свое волнение, поднять общий боевой дух команды, каждый из них старался как можно больше шутить, казаться совершенно спокойным. Так, перебрасываясь шутками, они неторопливо укладывали в чемоданчики свои спортивные костюмы. Шота Шалвиашвили — смуглый здоровяк-грузин с лицом, будто отлитым из бронзы, уже успевший собрать свой чемоданчик, непрерывно подтрунивал над Леонидом Кочетовым. Сокрушенно качая головой и горестно цокая языком, он ходил вокруг Кочетова и приговаривал: — Нет в тебе солидности, кацо. Никакой представительности. Чемпион мира, а хохолок, как у мальчишки! Он клал обе руки на голову Кочетова, делая вид, будто изо всех сил прижимает торчащий хохолок. Но стоило ему только убрать руки, как упрямый хохолок снова гордо вставал, придавая Кочетову задорный, мальчишеский вид. — Ничего! — отшучивался Леонид. — Не в хохолке сила, и под шапочкой пловца его все равно не видать. Все смеялись, а Шалвиашвили, удрученно прищелкивая языком, продолжал критически разбирать наружность чемпиона. — Мальчишка! — возмущенно говорил он. — Ну, совсем мальчишка! Ему бы в лапту на заднем дворе гоняться, а он туда же, мировые рекорды вздумал ставить! — Посмотрите на его волосы! — негодующе восклицал Шота. — Нет, вы только посмотрите на его волосы! Мало того, что торчит какой-то проклятый хохолок, так и еще и волосы не темные, как у всех солидных людей, а какие-то светлые, как солома! Просто неприлично ставить рекорды с такими волосами! Пловцы хохотали, и Леонид тоже улыбнулся своей открытой, хорошей улыбкой и громко рассмеялся. — Нет, не будет с тебя толку! — еще пуще горячился Шота. — Какие уж тут мировые рекорды, когда ты улыбаться и то не умеешь! Заливаешься, как мальчишка! — Да ты знаешь, — грозно набрасывался он на Кочетова, — как должны улыбаться чемпионы? Губы сжаты, и только уголки чуть опущены в гордой и тонкой презрительной улыбке! В этот момент в комнату вошел Галузин. Опытный тренер, когда-то «открывший» Кочетова в ленинградском бассейне на Разночинной улице, вырастил с тех пор немало хороших пловцов. Внешне казалось, что кто-кто, а Галузин сохраняет сейчас, перед началом матча, обычное спокойствие. Он был, как всегда, подтянут и гладко выбрит. Во рту у него попыхивала черная трубка, выточенная самим Иваном Сергеевичем из куска мореного дуба. Трубка была единственной вольностью, которую разрешил себе Галузин после того, как перестал выступать на состязаниях и целиком отдался работе тренера. Иван Сергеевич любил говорить: «Спортсмен не курит и не пьет!». Он сам долгие годы показывал пример своим ученикам и требовал от них безусловного выполнения этого, по его словам «железного закона» спорта. Вина он не пил и сейчас, а вот трубку разрешил себе. Спокойствие Ивана Сергеевича было напускным. На самом деле, он, как руководитель команды, волновался сейчас больше всех других пловцов. Но опытный тренер прекрасно знал: пловец должен выходить на старт совершенно спокойным, «собранным», как говорят физкультурники. Все его мысли и чувства, вся его воля и желания должны быть направлены к одному — к достижению победы. Поэтому Иван Сергеевич всячески старался показать пловцам, что он спокоен. А значит, и им волноваться нечего! Он сел в угол и пригласил Колю Новикова, отличного кролиста-спринтера[5], сыграть в шахматы. Расставляя фигуры на доске и весело приговаривая: «Давненько я не играл в шахматы!», Иван Сергеевич не переставал сосредоточенно размышлять. До начала матча было еще почти два часа. Езды из коттеджа до бассейна — 25 минут. Иван Сергеевич знал, какая нервная обстановка сейчас в бассейне. К советским пловцам, даже если они запрутся в раздевалке, будут доноситься шум и крики зрителей; к тому же вряд ли удастся отбиться от стаи назойливых репортеров и фотокорреспондентов, которые умудрялись проникать даже в этот коттедж, хотя Иван Сергеевич строго-настрого приказал никого сюда не пускать. Нет, советским пловцам пока еще нечего делать в бассейне. Но и здесь сидеть без дела им тоже нельзя. Конечно, каждый из пловцов мысленно представляет себя сейчас на стартовой тумбе и уже переживает все трудности предстоящей борьбы. Так не годится! Надо отвлечь ребят. — А ну-ка, молодцы! — шутливо сказал Иван Сергеевич. — Что это вы сгрудились в комнате? Марш, марш в сад! «На разминку!». «Разминкой» спортсмены называют небольшие и ненапряженные упражнения перед выступлением: короткие пробежки, прыжки, игры, чтобы «размять» мускулы. Шота Шалвиашвили и еще двое пловцов, захватив волейбольный мяч, ушли в сад. Леонид Кочетов спрыгнул с крыльца и не спеша побежал вдоль забора вокруг сада по посыпанной песком мягкой дорожке. Он хотел сделать пять кругов — свою обычную «порцию». Он пробежал по короткой липовой аллее, и дорожка повела его между клумб с какими-то сильно пахнущими цветами. Такие цветы он редко видел на родине, а в Голландии их было очень много. Название их Леонид все время забывал. «Надо будет опять спросить, как называются эти цветы», — подумал он, пробегая мимо клумб. Дальше дорожка поднималась на горку. С горки через забор, тянущийся внизу, было видно шоссе. Возле шоссе стоял щит с пятиметровой крикливой рекламой. На рекламе был изображен флакон одеколона, размером в человеческий рост. Под флаконом огромными буквами было написано: «Одеколон нашей фирмы не нуждается в рекламе!». «Хитрецы!» — ухмыльнулся Леонид и вспомнил, как смеялись все советские пловцы, когда переводчик прочитал им эту подпись. Возле щита с рекламой на шоссе стояла длинная шоколадного цвета машина. Около нее суетились два человека. Из-под машины торчали ноги шофера. «Непредвиденная остановка!» — сочувственно подумал Леонид, сбегая с горки. Он вспомнил такую же небольшую аварию, случившуюся недавно с ним под Москвой. Вместе с Иваном Сергеевичем ехал он тогда в гости к приятелю, боксеру. С машиной в дороге что-то стряслось, и Иван Сергеевич, заядлый автомобилист, вместе с шофером стал копаться в моторе. Эта вынужденная остановка, казалось, даже нравилась Ивану Сергеевичу: можно было вдоволь повозиться с машиной. Леонид, крикнув: «Догоняйте!» — пошел вперед. Был теплый московский вечер. По шоссе навстречу мчались велосипедисты, юноши и девушки в пестрых футболках. Из какой-то дачи доносились звуки рояля. Он даже сейчас помнил: играли Чайковского. Вспомнив Москву, Леонид вдруг почувствовал такое сильное желание быстрей вернуться домой, как будто он жил в этом изрезанном узкими каналами с перекинутыми через них бесчисленными мостами голландском городе уже по меньшей мере четыре года. А на самом деле он был здесь всего четвертый день. Закончив первый круг, снова пробежал по липовой аллее, мимо клумб с цветами. «Вспомнил! Гиацинты — вот как называются эти цветы!» — подумал он и поднялся на горку. Шоколадного цвета машина все еще неподвижно стояла на шоссе, и все так же из-под нее торчали ноги шофера. Но два пассажира теперь не бегали вокруг машины; один из них небрежно прислонился спиной к кабине, а второй — высокий парень в клетчатом пиджаке с ярким малиновым платочком, торчащим из кармана, стоял, опершись на тяжелую дубовую трость, и оба с независимым и скучающим видом пристально смотрели на Леонида. «Однако! — подумал Кочетов. — Кажется, они плотно застряли!» Он закончил второй круг и начал следующий. Третий раз взбежав на горку, он заметил, что двое юношей уже стоят не около машины, а возле забора. Вдруг, когда Леонид пробегал мимо них, парень в клетчатом пиджаке с размаху кинул в него палку. Очевидно, кидавший набил на этом деле руку: палка была брошена ловко и сильно. Леонид почувствовал острую боль в ноге и упал. Он все же успел заметить, как шофер сейчас же выскочил из-под машины, прыгнул в кабину, и шоколадного цвета автомобиль вместе с пассажирами быстро скрылся за поворотом. Очевидно, он вовсе и не был поврежден. Нога у Кочетова быстро опухала. На коленке, куда попала палка, появился синяк. Сидя на дорожке, Кочетов растирал ногу, сгибал и разгибал ее. Каждое движение причиняло боль. — Спокойно, спокойно, товарищ Кочетов! — говорил он сам себе. — Все равно ты будешь плыть. Будешь плыть, и на зло врагам обгонишь всех! Хромая, он пошел глухой, боковой тропинкой к дому, старательно избегая встречи с товарищами. Он не хотел, чтобы они узнали о несчастье. Помочь все равно не смогут. Только разволнуются понапрасну. Леонид, стараясь не хромать, незаметно прошел в свою комнату. Надо было позвать Ивана Сергеевича. Но как это сделать, чтобы никто не догадался, что что-то случилось? Леонид придумал: он попросил массажиста Федю позвать Ивана Сергеевича якобы на партию в шахматы. — До начала состязаний еще успею обыграть своего тренера, — нарочно пошутил он, расставляя фигурки на доске. Федя был отличным массажистом, страстным болельщиком и вообще хорошим парнем, но любил поболтать. Доверять секрет ему не следовало. Иван Сергеевич, узнав, в чем дело, на миг оторопел. Но растерянность его продолжалась лишь мгновение. Через секунду он уже оправился от неожиданности. Заперев дверь, Галузин подставил ногу Леонида под струю холодной воды и опустился на колени, ощупывая опухоль. Мысль его работала быстро. Он очень волновался, но старался казаться спокойным. Шутка сказать! Первый раз советские пловцы выехали за границу, и вдруг за час до состязаний какие-то мерзавцы выводят из строя лучшего пловца. Проклятие! Буржуазные газеты, конечно, сделают вид, что не верят в нападение фашистских хулиганов, и будут кричать, что русский чемпион просто струсил. Обращаться в полицию тоже бесполезно. Иван Сергеевич был человек действия, он не любил пустых размышлений. С больной ногой не поплывешь? Не поплывешь? Вылечить ее сейчас невозможно? Невозможно! Значит, надо снять Кочетова с соревнований и позаботиться, чтоб остальные четыре пловца не волновались, не пали духом и прошли дистанцию в полную силу. Времени до начала матча — в обрез, и размышлять долго некогда. — Так… — спокойно сказал Галузин. — С этим хулиганьём мы еще потом поговорим. А пока… — он развел руками, — снимаю тебя с соревнований. — Смеетесь, Иван Сергеевич?! — закричал Кочетов. — Я буду плыть! Иначе вся команда потеряет уйму очков. Да что говорить! Вы представляете, какой крик поднимут газеты?! Они и так трубят, что мой рекорд фальшивый, а теперь будут вопить, что чемпион Советского Союза просто струсил, испугался своих противников! Иван Сергеевич и сам все это отлично понимал. Но как плыть с больной ногой? Ведь на ноги пловца падает огромная нагрузка — пловцы специально тренируют и ноги, и отдельно стопы ног, чтобы добиться неутомимых резких и сильных движений. Никогда еще в истории спорта рекордсмены не выступали с поврежденной ногой. Если Кочетов и пройдет дистанцию — какой результат он покажет с больной ногой? Ведь сюда собрались лучшие пловцы мира, борьба будет жестокой. Что, если Леонид пройдет дистанцию плохо? Ведь зрители не знают, что у него больная нога. Тогда уж газеты наверняка объявят мировой рекорд Кочетова фальшивкой большевиков. Имеет ли он, руководитель команды, право так рисковать? Трубка Ивана Сергеевича грозно сопела. Очевидно, поняв его сомнения, Леонид встал, прошелся по комнате и, глядя прямо в глаза Галузину, твердо сказал: — Я буду плыть! Я поплыву, товарищ Галузин. И ручаюсь — не подведу команду! Мы с вами не только спортсмены, Иван Сергеевич, мы — коммунисты! Вскоре желтый автобус с пловцами уже мчался мимо загородных вилл и длинных портовых складов. Автобус въехал в город и затарахтел по узким, выложенным булыжником набережным бесчисленных каналов, вдоль которых выстроились вытянутые остроконечные кирхи и аккуратные, словно игрушечные, домики. Желтый автобус с трудом продвигался по узким улицам. Чем ближе к бассейну, тем медленнее он вынужден был ехать. На улицах, ведущих к бассейну, творилось что-то невообразимое: сотни машин, мотоциклов, велосипедов шли сплошным потоком. На каждом перекрестке возникали «пробки». Казалось, сегодня все дороги города ведут в бассейн «Этуаль». Только через 40 минут, вместо 25, прибыли советские пловцы в бассейн. Иван Сергеевич и Кочетов заперлись в кабинке, на дверях которой мелом было написано «СССР». Галузин нарочно выбрал для Кочетова кабинку поближе к месту старта, чтобы не утруждать перед самым состязанием лишней ходьбой больную ногу пловца. Остальные четыре советских пловца разместились рядом. Вскоре в дверь кабины постучали. — В чем дело? — не открывая двери, сердито спросил Галузин. Вместо ответа в щель между дверью и косяком кто-то просунул желтую картонную карточку. На ней было напечатано: «Леонид Кочетов, Союз Советских Социалистических Республик», внизу от руки был написан номер дорожки. Леонид быстро надел алый костюм чемпиона с вышитыми шелком на груди четырьмя буквами: «СССР» и гербом Советского Союза. На голову он натянул белую матерчатую шапочку. До начала заплыва оставалось еще семь минут. Теперь надо отвлечься. Есть такое золотое правило: перед самым стартом пловец может думать о чем угодно, только не о предстоящем матче. Леонид взял со столика забытые кем-то фотографии. Их было; три, и на всех трех были сняты «чемпионы». На первом снимка был изображен пожилой мужчина. Изо рта у него торчало множество дымящихся папирос. Леонид сосчитал — 18 штук! Странная фотография заинтересовала и удивила Леонида. Но помещенная под снимком подпись на английском языке сразу все объяснила. Это был чемпион по курению. Он курил одновременно 18 папирос, и когда одна из них потухала, ему немедленно вставляли в рот другую. Вторая фотография изображала висящую на веревке девушку. Она была привязана к веревке за волосы, и кто-то невидимый тянул веревку, поднимая девушку на крышу семиэтажного дома. Подпись гласила, что это — юная чемпионка по крепости волос. На третьем снимке танцовала пара — мужчина и женщина. Ноги их выделывали какие-то ловкие па, но лица обоих были измученные, страдальческие. Казалось, оба танцора вот-вот грохнутся в изнеможении на пол. Это были чемпионы в длительности танца. Они танцовали 16 часов подряд, не останавливаясь ни на секунду. «Дикари!» — с отвращением подумал Леонид и отшвырнул фотографии. Он вспомнил, с каким изумлением и даже недоверием слушали как-то ленинградские пловцы рассказ инженера Этот инженер побывал в Америке и видел, как один Вашингтонский «спортсмен» установил новый «рекорд». Он прополз на четвереньках 30 километров, носом толкая перед собой горошину. Нос у этого «чемпиона» после такого увлекательного занятия стал похож на вареную свеклу. Но через два дня газеты объявили, что «рекорд» вашингтонца уже побит. Семь американцев жителей Лос-Анжелоса, сумели прокатить носом горошину целых 43 километра. Леонид вспомнил, как искренне удивлялись ленинградские пловцы, слушая рассказ инженера, а некоторые так и не поверили ему. — Зачем катить носом горошину? — изумлялись они. — Что это за шутовство? Инженер разводил руками и не мог этого объяснить. Леонид и сам тогда не очень-то поверил инженеру. Но вот сейчас он был в чужой стране и перед ними лежали фотографии. Не верить им нельзя. «Дикари! Цивилизованные дикари! — снова подумал Леонид. — В какую глупую и грязную забаву превратили они спорт!» На глаза ему попалась желтая картонная карточка, просунутая кем-то в щель. Леонид повертел карточку в руках, и гордые слова «Союз Советских Социалистических Республик», напечатанные на ней, вдруг напомнили ему день его вступления в партию. Это было незадолго до поездки за границу, после того, как он поставил свой четырнадцатый всесоюзный рекорд. Рекомендовал его Галузин и старый пловец Махмутов. Махмутов любил говорить торжественно. И хотя в комнате, когда он подписывал рекомендацию, был только он и Леонид и они всегда были в самых простых дружеских отношениях, даже давно уже называли друг друга просто по имени и на «ты», Махмутов торжественно сказал: — Не подведи, Кочетов. Ты — гордость наша. Много тебе дано, и много спросится. На тебя надеется весь Союз Советских Социалистических Республик! Так он и сказал: не Леня и не Леонид, а Кочетов, и не родина, не страна, а Союз Советских Социалистических Республик. Это звучало как-то особенно гордо. И Леонид только крепко пожал ему руку не в силах от волнения произнести ни слова. — Пора! — сказал Иван Сергеевич. Они вышли в помещение бассейна. Леонид шел медленно, чтобы не было видно, как он прихрамывает. Шум сразу оглушил их. С трибун все время неслись аплодисменты и какие-то крики, которых в этом сплошном гаме невозможно было разобрать. Бассейн выглядел необычно: на зеленоватую воду, разделенную протянутыми на поплавках веревками на шесть дорожек, падали сверху лучи сорока прожекторов. В этом ливне света вода сверкала и переливалась, как изумруд. Она просвечивалась насквозь, до дна. Зрителям будет видно каждое движение пловца над водой и под водой. По бортам бассейна выстроились одетые в белые костюмы судьи. Их было не пять, не семь, не девять, как обычно, а целых сорок человек. Возле старта вытянулась цепочка секундометристов — десять человек. Все они, как и многие болельщики, держали в руках секундомеры. — На старт вызывается пловец Котшетофф, Союз Советских Социалистических Республик! — гулко раздался голос судьи, разнесенный репродукторами по всему бассейну. На секунду наступила тишина, и вновь с еще большей силой раздались крики и аплодисменты. Леонид встал на стартовую тумбочку. Ему досталась третья дорожка. — На старт вызывается пловец Ван-Гуген, Нидерланды! — снова прозвучал голос судьи. Справа от Леонида, на четвертую тумбочку, встал высокий, сухопарый голландец. Леонид невольно залюбовался его ладным, мускулистым телом. «Все равно обгоню!» — твердо решил Кочетов. Пока судья вызывал пловца-поляка, Леонид огляделся. Бассейн был 50-метровый, «трудный» бассейн, как говорят пловцы. В нем на дистанции 200 метров всего три поворота, а на поворотах хороший пловец при толчке ногами от стенки выигрывает время и отдыхает. Куда лучше плыть в 25-метровом бассейне! «Все равно обгоню!» — опять подумал Кочетов. — На старт вызывается пловец Джонсон, Соединенные Штаты Америки! — объявил судья. Высокий могучий негр встал на тумбочку № 5. Он дружески кивнул Кочетову и широко улыбнулся, сверкнув ослепительно» белыми зубами. В первых рядах послышалось громкое шиканье: белые господа были недовольны появлением негра. — На старт вызывается пловец Холмерт, Швеция! — крикнул судья. Но почему-то никто не появился на линии старта. Леонид оглянулся. Швед Холмерт, указывая рукой на негра, протестующе убеждал в чем-то главного судью. Швед-фашист не хотел становиться на старт рядом с чернокожим. В конце концов его уговорили, и он поднялся на тумбочку № 6, демонстративно отвернувшись от пловца-негра. В конце бассейна возвышалась «мачта победителей». У ее подножья лежали шесть флагов: на эту мачту через несколько минут поднимется флаг страны, чей пловец победит. Леонид взглянул на алый шелк советского флага, и родной стяг окончательно укрепил его уверенность в победе. Только этот флаг, флаг советской страны, будет гордо реять над бассейном. Иначе и быть не может. Он должен победить! Он плывет в первом заплыве, и его победа сразу же придаст бодрость и уверенность всей команде. Нога ныла, но Леонид старался не думать о ней. — На старт вызывается пловец Вандервельде, Италия! — провозгласил судья. В зале сразу же вспыхнули возмущенные крики и свист. Кейс Вандервельде был одним из лучших голландских пловцов и еще недавно защищал спортивную честь Голландии на международных соревнованиях в Италии. Там Вандервельде приглянулся, итальянским спортивным воротилам, и они решили «купить» голландского пловца. Итальянцы даже не стали спрашивать согласия самого Кейса Вандервельде. Они знали, что Вандервельде законтрактован на 5 лет господином Якобом Кудамом, владельцем бассейна «Этуаль», хозяином голландского спорта. И они обратились прямо к старику. Якоб Кудам «заплатил» за пловца Вандервельде 10 000 гульденов и охотно перепродал его Италии за 14 000 гульденов. И вот теперь один из лучших голландских пловцов, Кейс Вандервельде, выступал против Голландии за Италию. — Долой! Позор! — кричали болельщики. Вандервельде встал слева от Леонида, на вторую тумбочку. Это был загорелый коренастый здоровяк. Мускулы плеч были у него так сильно развиты, что, казалось, пригибали его к земле. «Все равно обгоню!» — опять подумал Леонид. Он на секунду представил себе, как в Риме, Милане или Ватикане наглые фашистские молодцы в коричневых рубахах, уверенные в победе их «купленного» чемпиона, провожали Вандервельде в Голландию. Кого-кого, а Вандервельде он обязательно должен победить! Леонид чувствовал, как в нем просыпается та «спортивная» злость, которая всегда появляется у хороших спортсменов на соревнованиях. Эта «спортивная» злость охватывала Леонида и на состязаниях в своей стране, но там, хоть и обидно было иногда проигрывать, но все-таки не так неприятно. Проигрывал-то своим товарищам! А тут надо быть первым. Только первым! Когда все пловцы выстроились на старте, Леонид стал напряженно прислушиваться. Борьба пойдет за каждую десятую долю секунды. Очень важно хорошо взять старт, не «задержаться» на тумбе. Иван Сергеевич предупредил своих пловцов — сигнал в воду в Голландии дается не так, как в СССР. У нас пловцы бросаются в бассейн по взмаху флажка стартера, и Леонид привык к этому сигналу. А здесь старт дается выстрелом из пистолета. Непривычный сигнал мог сильно подвести. «Внимание», — сказал сам себе Леонид. Он крепко сжал пальцами ног передний край стартовой тумбочки и приготовился к прыжку. Выстрел! Леонид мгновенно развернулся, как туго скрученная спираль, и скрылся под водой. Одновременно прыгнули в воду и пять его соперников. И так же, почти одновременно, все они вынырнули. Казалось, над водой полетели шесть быстрокрылых бабочек. Эффектен и стремителен этот могучий стиль плавания. Пловцы по пояс выскакивали из воды и быстро мчались вперед. Сперва все шли голова в голову, и только наиболее опытные болельщики могли оценить силу и красоту движений русского пловца, их абсолютную слаженность и ритмичность. Гребки Кочетова следовали один за другим, с безукоризненно точными интервалами, и каждый мощный гребок продвигал пловца ровно на 2,5 метра ближе к финишу. К повороту все пришли почти вровень, но все-таки руки Кочетова на какую-то мельчайшую долю секунды раньше других коснулись стенки бассейна. Тело пловца быстро свернулось в упругий комок, сильный толчок ногами — и Кочетов уже плывет обратно. Поворот был проделан так стремительно и изящно, что весь бассейн ахнул. Во время второй 50-метровки все зрители, даже те из них, кто мало разбирался в плавании, вскочили на ноги, пристально следя за движениями русского пловца. Преимущество его уже ясно обозначилось. Баттерфляй — самый тяжелый способ плавания. Он требует, кроме отличного владения сложной техникой, огромной мускульной силы. Еще не так давно считалось, что больше 100 метров проплыть баттерфляем вообще невозможно: этого напряжения не выдержит ни одно человеческое сердце. И хотя сейчас пловцы плыли баттерфляем 200 метров, но уже после первой 50-метровки темп американца и шведа заметно снизился. Они уже не порхали над водой легко и изящно, а тяжело скакали, с трудом выбрасывая руки из воды. Только Кочетов плыл все так же стремительно и, казалось, вовсе не чувствовал напряжения. Гулкие удары его сердца отдавались в висках, в руках, в каждой клеточке его большого тела. Но он не сдавал темпа. Он знал: ему под силу такая быстрота. Он мог быстро плыть баттерфляем и 200 и 400 и даже 500 метров. Вот когда пригодились ему его упорные тренировки. Кочетов любил повторять: для того чтобы три-четыре раза в год быстро проплыть на соревнованиях 200 метров, пловец должен регулярно каждый день проплывать 3000 метров. Только тогда он всегда будет в форме. «Километры делают чемпиона», — говорил Иван Сергеевич, и Кочетов твердо усвоил слова своего учителя. Он тренировался регулярно и каждое утро проплывал свою порцию — 3000 метров, не считая упражнений, разминок и отработки отдельных движений. После второго поворота Леонид уже значительно опередил всех противников. Темп русского богатыря оказался им явно не под силу. Рты их были широко раскрыты и судорожно глотали воздух, на шее пловцов образовались кружевные воротники из воды и пены, руки двигались не так стремительно и не так чисто, как прежде, — они поднимали тучи брызг. А Кочетов все так же неутомимо летел вперед. Постепенно все сорок прожекторов сползли со всех дорожек и сосредоточили свой свет на Кочетове. Судья чуть не бежал по бортику бассейна, стремясь не отстать от пловца, контролировать каждое его движение. Зрители непрерывно кричали. Кричали так, как не кричат даже болельщики футбола, когда нападающий прорывается с мячом к открытым воротам противника. Сплошной рев висел над бассейном. Казалось, сердца болельщиков выскакивали из груди, как выскакивало из воды тело пловца. Какой-то чопорный старичок, затянутый в строгий черный фрак, забыв все на свете, азартно хлопал сидящую впереди декольтированную даму по спине. Дама вздрагивала от каждого прикосновения его руки, но не оборачивалась: все ее внимание было приковано к пловцу. Наиболее честные, здравомыслящие болельщики и прежде понимали, что мировой рекорд Кочетова — не выдумка большевиков. Но такого не ожидали даже они. Это было чудо! Пловец летел над водой! Одна мысль владела всеми. Она радовала зрителей первых рядов и тревожила «галерку». Сдаст, не выдержит! Не может выдержать человек такого темпа! Но когда кончилась третья 50-метровка и Кочетов, совершив последний поворот, стремительно помчался к старту, который стал теперь финишем, — все поняли: темпа он не сдаст. Наоборот, казалось, неутомимый пловец не только не устает, но все больше входит во вкус борьбы. Он уже на много метров обошел всех противников, растянувшихся длинной цепочкой, которую замыкал вконец измотавшийся швед. Кочетов бурно финишировал первым. Разом щелкнули десятки секундомеров — 2 минуты 30,4 секунды! И, только закончив дистанцию, Кочетов снова почувствовал боль в ноге. Из-за этой больной ноги он показал время на 0,6 секунды хуже, чем в Москве, и все-таки на 0,8 секунды лучше официального мирового рекорда. Финишировавший вторым поляк отстал от Кочетова на целых 2 секунды! А пришедшие последними голландец и швед — почти на 5 секунд. Такой огромной разницы между первым и вторым местом почти никогда не бывало на международных состязаниях, где собирались лучшие пловцы мира. Было ясно: Кочетов — пловец сверхкласса. — Ко-тше-тофф! Ко-тше-тофф! — гремели трибуны. Леонид сел на стартовую тумбочку. Нога снова заныла. Незаметно для зрителей он растирал больную коленку и ждал решения судей. Сейчас они объявят его победителем, и на мачту взовьется красный флаг советской страны. Но судьи почему-то неторопились. Леонид видел, как в первом ряду, нервно скомкав газету, встал высокий молодой человек в белом спортивном костюме, с идеально ровным, как у манекена, пробором на голове и самоуверенным нагловатым лицом — чемпион Голландии, мировой рекордсмен, господин Ванвейн. Он быстро прошел к судьям и стал что-то с жаром доказывать им. Судьи удалились на совещание. Прошло три минуты — судьи не показывались. Прошло пять минут — судьи все еще не показывались. «Галерка» негодующе ревела. Первые ряды настороженно молчали. Леонид удивленно посмотрел на Ивана Сергеевича. Тот чуть-чуть поднял ладонь и медленно опустил ее на столик. Это означало — спокойно! Ну, что ж, спокойно, так спокойно! Леонид поднял глаза на «галерку». Какой-то рабочий парень-спортсмен в черной шерстяной фуфайке сложил обе ладони, будто в крепком рукопожатии, и, тряся ими над головой, громко кричал: «Москау, Москау!». Леонид улыбнулся, тоже сложил руки вместе и потряс ими над головой. Приятно, что и здесь, в чужой стране, у него есть друзья! Взгляд его скользнул по первым рядам. С какой ненавистью смотрели на него эти холеные господа! А какой-то седой старик с высокой шляпой в руке, встретившись с Леонидом глазами, даже презрительно отвернулся. Да, здесь не только друзья, здесь и враги. Чтобы не видеть этих откормленных наглых лиц, Леонид перевел глаза на воду. Большой бассейн, но тоже чужой! И даже вода в нем чужая. Это не та тихая прозрачная вода речушки Каменки, где провел он свое раннее детство. Это и не та быстрая, холодная вода Невы, в которой Леня «по-собачьи» поплыл первый раз в жизни. Это и не та тепловатая, чуть-чуть пахнущая хлором вода ленинградского бассейна на Разночинной улице, где Леня первый раз встретился с Галузиным. Почему-то сразу чувствуется, что это — чужая вода, хотя она и зеленовата и разделена на дорожки, как вода всех бассейнов мира. Леонид вдруг почувствовал на себе чей-то упорный, пристальный взгляд. Он поднял глаза и увидел в первом ряду высокого молодого человека в модном клетчатом пиджаке с торчащим из кармана малиновым платочком. Парень глядел на Леонида и нагло ухмылялся. «Он! — сразу же отчетливо вспомнил Леонид. — Это он кинул палку!» Мерзавец, так нагло рассевшийся в первом ряду, даже не счел нужным переодеться. Он самоуверенно и презрительно глядел на Кочетова и, чувствуя, что Леонид его узнал, вовсе не пытался скрыться. Леонид взволнованно подозвал Ивана Сергеевича. Умышленно не скрываясь, он указал рукой на парня и объяснил, кто это. — Наглец! — процедил Галузин. — Знает, что здесь ему все сойдет с рук! Но все же Иван Сергеевич подозвал полисмена. Высокий плотный полисмен вежливо выслушал Галузина и так же любезно объяснил, что сам он задержать господина из первого ряда не имеет права, но если господин русский настаивает, он может позвать своего начальника, лейтенанта Рушица. Лейтенант Рушиц оказался столь же любезным. Он немедленно явился. Рассказ Ивана Сергеевича, казалось, нисколько не удивил его, словно не был неожиданным для лейтенанта. Лейтенант отвечал быстро и очень вежливо. О, он сам спортсмен и от всей души сочувствует русскому чемпиону, господину Котшетофу. О, он понимает, что это возмутительно! Но задержать господина в клетчатом пиджаке он, к величайшему сожалению, не имеет оснований. — Ведь сам господин Котшетоф утверждает, что он был в саду один, значит, свидетелей нет. А арестовать кого-либо только лишь по подозрению одного человека… — согласитесь сами… — это невозможно, это антидемократично, это — покушение на свободу личности! Нидерланды — страна истинной свободы! — высокопарно, с чуть заметным ехидством заявил лейтенант Рушиц, и глаза его хитро улыбались. — Свобода для фашистских хулиганов! — презрительно сказал Галузин и, не глядя на лейтенанта, ушел к своему креслу. Лейтенант остался стоять, пожимая плечами. «Какой некультурный народ эти русские!» — как будто говорило его вежливое лицо. Между тем время шло. Прошло 10 минут, 15 минут. Судьи все еще не показывались. Леонид сидел, опустив больную ногу в воду. Наконец, откуда-то появился Ванвейн и, расталкивая публику, прошел на свое место. Вскоре вышли и судьи. Главный судья подошел к микрофону. Стало тихо. — Судейская коллегия, — произнес главный судья, — просит пловца Котшетоффа, Союз Советских Социалистических Республик, еще раз, но уже медленно проплыть половину дистанции. Судейская коллегия должна убедиться, правилен ли его стиль плавания. На миг показалось, что в бассейной вдруг обрушились трибуны: такой крик и свист поднялся на «галерке». — Долой! — кричали болельщики. — Позо-о-ор! — сложив руки рупором, кричал парень в черной шерстяной фуфайке, который недавно издали приветствовал Кочетова. — Позор! Позор! — подхватили трибуны. Леонид разозлился. Ах, так! Они хотят проверить чистоту его стиля? Куда же смотрели все сорок судей, когда он плыл? Такого еще никогда не бывало на соревнованиях. Ну, ладно, он им продемонстрирует свой стиль, стиль большевиков! Они не обрадуются! Леонид встал на тумбочку и поднял руку. Шум сразу прекратился. — Ванвейн! — вдруг раздался в полной тишине крик с «галерки». — Ванвейн! Чемпион Голландии, не понимая, в чем дело, встал и галантно поклонился. — Хватит кланяться, Ванвейн! — крикнул молодой моряк. — На старт, Ванвейн! Защищай честь Голландии! К этому крику присоединился и кое-кто из первых рядов, но, поняв свою оплошность, они быстро замолчали. Ванвейн отрицательно покачал головой, он отказывался плыть, знаками показывая, что у него нет с собой спортивного костюма. — Я одолжу тебе плавки, Ванвейн! — кричит моряк с «галерки». — Плыви, не трусь! — На старт, Ванвейн! Стань рядом с «Северным медведем!» — громко требует зал. Ванвейн весь красный вскакивает с места и чуть не бегом направляется к выходу. Под свист «галерки» он покидает бассейн. Леонид Кочетов прыгает в воду. Он плывет медленно, и в ярких лучах прожекторов отчетливо видны его идеально правильные, точные движения. Зал восторженно ревет. — Точная работа! Пловец-ювелир! — кричит парень в черной фуфайке. — Король брасса! — кричит моряк. — Король брасса! — восторженно подхватывает зал. Леонид по лесенке вылезает из воды, но вдруг, к удивлению зрителей, подходит к стартеру и знаками просит его дать старт. Стартер вопросительно смотрит на главного судью. Тот безразлично пожимает плечами. Стартер поднимает пистолет. Выстрел! Стремительно прыгает в воду Леонид. Щелкают секундомеры. Уже не обычная «спортивная» злость кипит в Кочетове. Он теперь злится по-настоящему. И снова бабочка порхает над водой. Она летит еще стремительней, чем прежде. Щелкают секундомеры на финише. Кочетов прошел стометровку, показав отличный результат. Он плыл еще быстрее, чем первый раз. Конечно, этот результат ему не зачтут, но пусть все знают, как плавают советские пловцы! Зал восторженно грохочет. Судьи опять удаляются. На этот раз они возвращаются очень быстро. — Стиль правильный! — недовольно говорит первый судья. Он хочет еще что-то прибавить, но гром аплодисментов не дает ему продолжать. — Стиль правильный! — вынужденно выдавливает из себя второй судья. — Стиль правильный! — пожимая плечами, повторяют один за другим все сорок судей. Главный судья дает сигнал, и невидимый оркестр начинает играть гимн в честь победителя. Родные, торжественные, мощные звуки «Интернационала» разносятся по всему бассейну. Люди на «галерке» встают. Радостно слушают звуки «Интернационала» голландцы-портовики в измазанных машинным маслом блузах, рыбаки в синих комбинезонах, моряки, солдаты, рабочие, спортсмены в ярких свитерах. Нехотя встают и господа, сидящие в первых рядах. На «мачту победителей» медленно поднимается алое полотнище. Оно достигает вершины мачты, и вот уже над изумрудной водой бассейна, развернувшись, гордо трепещет флаг Страны Советов. А внизу, у подножья мачты, лежит скомканный звездный американский флаг и еще четыре флага других стран.Н. Рахвалов В РОДНОМ ГОРОДЕ
1. ПАССАЖИРЫ ОДНОГО КУПЕ
Алексей Егорович помог старушке разместить вещи, снял с себя пальто, вздохнул с чувством глубокого удовлетворения и сказал, приветливо улыбаясь: — Ну, давайте знакомиться… Алексей Егорович. — А меня Пелагеей Афанасьевной зовут. Намучились поди с моим багажом-то… Спасибо вам большое, что помогли. Разве я одна справилась бы… Носильщику, ему что — сунул тебя в вагон и будь здоров! А ты тут, как хочешь… — Ну, что вы… Пустяки, какая тут помощь. Пелагея Афанасьевна… Далеко едете? — В Тригорск. — Вот как! Значит, попутчики до самого конца! — Вишь, славно как. В командировку или по собственным надобностям? — По собственным… В отпуск еду. — Что же, там родные есть? — В том-то и дело, что нет, никого не осталось… Есть, правда, двоюродная сестра недалеко от города, на руднике, вот хочу к ней наведаться. — А вы чей будете? — Головин, Егора Петровича сын. — Это что на Крепостной жили?.. — Вот-вот, против Шестаковской площади домишко. — Мать-то Аннушкой звали? — Да, Анна Тимофеевна. — Аннушка… Знавала… Как не знавать… О-ой, мастерица она была готовить… Приходящей поварухой прозывалась, по купцам хаживала — к праздникам, бывало, или на свадьбу. — Вот-вот… Видите, земляки оказались… — Умерла она? — Умерла в двадцать восьмом году… — Сами-то давно, видно, не бывали в Тригорске? — Как уехал в шестнадцатом году, так и не бывал. Братья и сестры тоже разъехались кто куда по белу свету… — Нехорошо это — родные-то места забывать. Нет, мои навещают меня, нечего бога гневить. Каждый год кто-нибудь приедет. А то и все вместе съедутся, как в сорок шестом было. Вот уж радости-то у матери! Старший-то Василий, который в Москве, еще и внуков привез… Вот и сейчас от него еду. Хотела у младшего в Куйбышеве остановиться, да сноха-вдовушка заторопила, из Тригорска телеграмму отбила: приезжайте, дескать, маменька, соскучилась… Средний-то Николай погиб в Отечественную войну, под Москвой-матушкой пал, ну, я со сношенькой-вдовушкой-то и живу теперь… Еще дочка есть в Ленинграде, та за военным, все к себе зовет тоже. А я ей отписываю: никуда мол дочка, из Тригорска не поеду, здесь и помирать буду… — О! Вам ли о смерти думать, Пелагея Афанасьевна! Теперь только жить да поживать. Сколько вам лет-то? — Ух, много, сынок, — 75… Но я о ней не думаю, о костлявой шутихе, бог с ней… — Скажите пожалуйста! 75 лет, а как молодо выглядите, — отзывается с верхней полки купе девушка. — На хороших дрожжах, матушка, заведена, вот смотрю я на тебя, голубка, ты тоже из доброй породы, видать. — Да, что вы! Пелагея Афанасьевна… Вы меня смущаете… — Чего же, матушка, смущаться, дал бог росточку и хорошо. Выбирай только парня себе под стать… Куда едешь-то? — Да туда же, куда и вы. — Там и жить будешь? — На работу еду, по путевке. Я Ленинградский архитектурный институт окончила. — Ну, ни пуха, ни пера тебе, как говорится, в час добрый, милая. А жениха мы тебе подберем… Народ у нас славный, работящий… Как звать-то тебя? — Зовите Женя. — По батюшке? — Петровна. — Евгенья Петровна, значит. — Вот уж никогда не позволю величать себя по имени и отчеству, — отрываясь от книжки, вступает в беседу девушка с боковой полки. — А что же в этом плохого? — возражает Пелагея Афанасьевна. — Евгенья Петровна — девушка представительная… Архитектор… Не грех ее и уважить, по имени-отчеству назвать. Вот ты, милая, я смотрю, книжечку почитываешь, лежишь на полке, дорогое платье на тебе — шелковое, а оно, вон смотри, свесилось у тебя на пол. Непорядок… Пелагея Афанасьевна осторожно подбирает свесившиеся складки платья и с напускной строгостью продолжает: — А я бы вот таких девочек совсем не пускала одних в дальнюю-то дорогу без сопровожатого. — А если его нет, что делать? — Куда едешь-то? — В Рубцовск. — Так вы скоро дома, — сказал Алексей Егорович, обращаясь к девушке. — Не дома, а в гостях… — Откуда едешь? — спросила Пелагея Афанасьевна, продолжая с материнской нежностью оправлять платье девушки. — Из Горловки. — К своим? — К брату… Брат работает на Алтайском тракторном. Сам вызвал. Приезжай, дескать, Галя, работать будешь. Здесь люди нужны. — Какая же у тебя специальность? — Секретарем у начальника шахты работала… — Ох, матушка, с такой специальностью далеко не уедешь… — Уехать-то уедешь, — смеясь возразил Алексей Егорович. — Она уже путь не малый проделала — от Горловки до Рубцовска. Только ненадежное это дело… Учиться надо, специальность приобретать. — Да, это, конечно, не резон, не имея специальности, передвигаться на большие расстояния… Но это, знаете, не типично для нашей молодежи… — отрываясь от тетрадки, в которую что-то записывал, вдруг вмешался в разговор пассажир, сидящий у окна. — Не типично, — повторил он. — В основном, молодежь тянется к учебе, использует всяческую возможность, чтобы поднять свою квалификацию. Вот я давеча у кассы наблюдал двух девушек. Сидят на чемоданах и о чем-то спорят. Прислушался: оказывается, обсуждают способы повышения производительности вязальных машин. Они, видите ли, в течение четырех месяцев обучались в Москве на курсах мастеров стахановских методов труда трикотажной промышленности… Вот она, молодежь-то наша, какими настроениями живет, — заключил пассажир, возвращаясь к своим, записям в тетради. Пелагея Афанасьевна, повозившись с саквояжем, достала из него кружева, которые купила где-то на одной из станций близ Вологды, и девушки, окружив ее, стали рассматривать и расхваливать работу советских кружевниц. Алексей Егорович обратился к соседу. — А вы тоже в Тригорск? — спросил он, слегка оглядывая пассажира и пытаясь по внешнему виду определить, с кем он имеет дело. Тот ответил не сразу. Он сначала посмотрел на Головина, как бы желая убедиться, к нему ли относится вопрос, закрыл свою коричневую тетрадку, положив на нее обе руки ладонями вниз, и утвердительно, протяжно сказал: — Да-а!.. Густые темнорусые брови его при этом опустились, лицо приняло спокойное выражение, как будто все, что волновало его минуту назад, бесследно отлетело куда-то. «Артист», — подумал Алексей Егорович, смотря на чисто выбритое, очень выразительное лицо собеседника. — В командировку? — уточнил свой вопрос Головин. — Нет, на постоянную работу… То есть, что значит на постоянную работу? — перебил сам себя собеседник. — Я — геолог, в последнее время работал в партийном аппарате. Сейчас направляюсь в Тригорскую группу геологической экспедиции. Предстоят там великие дела! Прямо дух захватывает, какие перспективы рисуются в этом благодатном крае! — Знаете, — доверительно сообщил Алексей Егорович, — Тригорск ведь — это мой родной город. Там я родился, детство провел. Вспоминаю сейчас, что это был за город! Одно четырехклассное мужское училище, в котором я учился, «Мариинка», как мы называли женское мариинское училище, народный дом и единственная на весь город библиотека. А что в ней было, в этой библиотеке, и сказать нельзя — сущие пустяки! И вот как-то на днях читаю в газете «Известия»: «В Тригорске состоялась очередная сессия филиала Академии наук СССР». Боже мой! В Тригорске — Академия! Не поверите, так это меня поразило, что я места себе не нахожу… Мне захотелось поехать, хоть одним глазом взглянуть на него, каким он стал, мой пыльный полустепной городишко. И это до такой степени меня взволновало, что я отказался от санаторной путевки и решил провести свой отпуск в этом вот путешествии. — И хорошо поступили, — одобрил собеседник. — Пришел я домой и говорю жене: ну, Таисья Ивановна, еду в Тригорск. — «Тригорск?! Ты с ума сошел, зачем?! Что тебе там делать?!» Я ей рассказываю про сессию. А она свое: «Да ты что, действительный член академии что ли?! Алешенька, подумай!.. Что ты говоришь!». А потом уговорил все-таки, согласилась. А как уговорил? Она у меня волжанка, десять лет уже не была на Волге. Вот я ей и говорю: если тебе предложили бы сейчас на выбор: на курорт поехать или в Сталинград — на родину, куда бы поехала? А она лишь в ответ: «Вот еще! Конечно, в Сталинград». После этого со мной и насчет Тригорска согласилась. Неожиданно звонкий смех Гали прервал беседу. — Боже мой! Какая вы наивная, Наташа! — сверкая белоснежными зубками, кричит Галя. Соседка ее, девушка с боковой верхней полки, смущенно улыбается и глазами, полными немого укора, смотрит на Галю: — Ну, молчите же, я вас прошу! — Ладно уж, ладно, — соглашается Галина, — молчу, молчу… Наташа, в отличие от своей соседки, одета очень скромно, по-дорожному: на ней фланелевая блузка, подпоясанная лакированным пояском, вельветовая юбочка и хромовые полусапожки. Щеки ее то и дело вспыхивают ярким румянцем. Стоит ей только сказать: «У тебя сейчас покраснеют уши», как уши ее действительно становятся пунцовыми, а длинные пушистые ресницы мелко вздрагивают. Наташа едет тоже в Тригорск. На руднике, в 18 километрах от города, работает друг ее детства, молодой шахтер Петрусь. Шесть месяцев тому назад он уехал из Новочеркасска по вербовке на этот рудник. И теперь прислал ей письмо, чтобы она приезжала. — Что же, вы помолвлены? — спрашивает Пелагея Афанасьевна у Наташи. Наташа непонимающе смотрит на старушку, густо краснея. — Ну, вы невеста и жених, что ли? — уточняет вопрос Пелагея Афанасьевна. — Не-ет… — отвечает Наташа. — А как же? Разве можно ехать… Приедешь одинокая, в незнакомое, чужое место?.. По лицу Наташи пробегает тень испуга. Девушка водит рукой по кромке столика, следя за движением собственных пальцев, потом поднимает на старушку свои ясные глаза и тихо, но твердо говорит: — Верю я ему, бабуся. Семья славная у них: папаша — коммунист; мать в партизанах была, а Петрусь весь в папашу характером. — Любишь? — Не любила, не поехала бы, — уткнув лицо в ладони, пролепетала Наташа. Уши ее покраснели, как маков цвет. Галя лежит, тихо напевая себе под нос игривую песенку. Ее будто и не интересует этот разговор. Она более всего занята своей собственной персоной. Пелагея Афанасьевна первой укладывается спать. За нею Наташа. Галя как лежала с книгой в руках, так и заснула. Геолог и архитектор сидят за столиком у окна. Спустилась ночь. Шторка окна задернута. В вагоне тишина. Алексей Егорович сквозь дрему прислушивается к тихому разговору спутников. — Я был уже там два раза, город-то ведь расположен на слиянии двух рек. Одна река узкая, порожистая, шумная, горная… Берет она свое начало в горах Алтая. А другая — мощная, широкая, спокойная, величавая. Город восточной своей частью поднимается в гору и оттуда смотрится в реку, воспетую в сибирских, народных песнях. На реке строится плотина одной из мощнейших в Союзе гидроэлектростанций… Представьте себе, каким будет город в будущем?! — А река очень широка? — спрашивает девушка. Ей хочется представить себе, как река выглядит по сравнению с ее родной Невой. — В некоторых местах доходит до полутора километров. — Берега высокие? — Правый берег высок. Кроме того, через весь город, от Большой горы до старой военной крепости, идет искусственный земляной вал, сооруженный когда-то каторжанами. Вы читали, конечно, «Записки из мертвого дома» Достоевского? Очень похоже, что писатель использовал для своего произведения факты из истории этого города. — Вы знаете, я очень люблю воду в городском пейзаже. Построить великолепные здания над водой — моя мечта… Берега обложить гранитом… Алексей Егорович слушает молча. Ему хочется вмешаться в беседу. Но веки его отяжелели, и он засыпает… Когда проводник вагона, девушка с новыми погончиками на плечах, вошла в купе, все уже крепко спали. Она выключила большой свет, включила маленькую синюю лампочку, заботливо поправила одеяло у Пелагеи Афанасьевны и вышла. Вагон мерно покачивался, убаюкивая спящих пассажиров.2. ГАЛЯ
Рубцовск. Пересадка. Галя весело прощается со своими попутчиками. Грациозным движением руки поправляет на шляпке вуалетку с мелкими черными мушками и, взяв свой чемодан, стремительно выходит из зала. Пелагея Афанасьевна подходит к окну, взглядом провожает девушку, энергично идущую по песчаной дорожке привокзального сквера. — Не верю я ей, что она едет к брату, — говорит Пелагея Афанасьевна тоном сожаления, — не похоже… Алексей Егорович, Пелагея Афанасьевна, геолог, архитектор, Наташа держатся вместе. Билеты закомпостированы в один вагон. До отхода поезда еще несколько часов. Но что это за Рубцовск? Алексей Егорович был здесь когда-то, в 1920 году. Небольшое сибирское сельцо Рубцовка славилось тогда маслоделием. В памяти всплывает грязная улица с рядом одноэтажных рубленых изб, среди них лишь несколько двухэтажных домов, занятых кредитным товариществом, конторой сибирского кооперативного союза «Закупсбыт». Алексей Егорович на голубом автобусе едет осматривать город. Сельца Рубцовки нет и следа. Новый незнакомый город предстает перед взором путешественника. Город с огромными заводскими корпусами, жилыми многоэтажными домами, мощеными и асфальтированными улицами, прекрасным парком в центре города. Алексей Егорович садится на скамейку под тенистую сосну в парке и пишет первое большое письмо домой. Ему хочется рассказать своей жене о тех бодрых, радостных чувствах, которые овладевали им все сильнее и сильнее по мере приближения к родным местам. На вокзале он узнает неожиданную новость: вернулась Галя. Она сидит уже в пассажирском зале на своем чемодане и уткнув лицо в колени Пелагеи Афанасьевны, горько плачет. Время от времени она поднимает лицо, безразлично озираясь вокруг. Слезы смыли помаду с губ, черную краску ресниц. — Значит, ты не к брату ехала-то? — спрашивает ее Пелагея Афанасьевна. — Какой там брат!.. Я была здесь летом у тети… и познакомилась с ним. Договорились, что я приеду… Будем вместе жить… И вот приехала… Оказывается, тетю с мужем в другое место перевели. А он… в квартиру даже не пустил… Там другая у него живет… Негодяй… Пелагея Афанасьевна что-то шепчет на ухо Гале. Галя с искренним неподдельным смущением возражает: — Нет, нет! Что вы, не надо, Пелагея Афанасьевна! Я продам свое новое платье и мне хватит… Но Пелагея Афанасьевна не слушает Галю. Она собирает своих соседей по купе. Собравшись вместе, все решают: купить вскладчину для Гали билет и отправить ее обратно.3. ПЕТРУСЬ
Пелагея Афанасьевна, встревоженная историей с Галей, долго не может притти в себя. Последняя ночь перед Тригорском. Почти никто не спит. Ожидание. Сборы. Алексей Егорович не отходит от окна вагона и, несмотря на темноту, старается уловить очертания близких гор. Когда наступает рассвет, он с жадностью рассматривает развертывающиеся перед ним пейзажи. Первое, что бросается в глаза, — это ряд огромных металлических мачт, несущих на себе провода высокого напряжения. Тригорск дает электроэнергию целому краю… Вот показалась и река, большая, полноводная, она далеко видна из окна вагона. Мелькают новенькие железнодорожные здания… Новая дорога — новая архитектура. Простые, радующие взгляд формы… Вот и вокзал. Издалека видна четкая надпись — «Тригорск». Геолог и архитектор прощаются со своими друзьями, они берут такси и вместе едут в гостиницу. Пелагея Афанасьевна, еще в пути пригласившая к себе Алексея Егоровича, медлит с отъездом. Она не хочет оставлять Наташу. Вдруг ее не встретит никто. Наташа, прислонив багаж к изгороди палисадника у здания вокзала, с тревогой озирается по сторонам. Вокзальная площадь оживлена. То и дело подходят большие новые автобусы с ярко красными кузовами, снуют блещущие никелем такси «Победа», важно разворачиваются «персональные» машины разных марок. — Там нам далеко от города-то ехать? — спрашивает Алексей Егорович у Пелагеи Афанасьевны. — Да, километров восемь. Помните Долгую деревню?.. Поодаль от нее стояли выселки Кромешные — вот мы на этих Кромешных выселках и находимся. Только там теперь ничего деревенского нет. Самый настоящий город. К зданию вокзала стремительно подкатывает мотоцикл с коляской. Он круто разворачивается и останавливается. Высокий, широкоплечий парень, оставив машину, стремительно бросается к входной двери вокзала. Наташа широко раскрытыми глазами смотрит на парня. Потом она бросается к нему и кричит: — Петрусь!.. Парень оборачивается. Он узнает Наташу. Девушка от волнения опускается на сундучок и закрывает лицо руками. Пелагея Афанасьевна спешит к ней на помощь: — Наташа, что с тобой?! Девушка не то сквозь смех, не то сквозь слезы шепчет: — Ой, умру! Петрусь… ведь это он!.. Петрусь подбегает к Наташе. Та встает. Румянец заливает ее лицо. Она быстро переводит свой взгляд то на парня, то на Пелагею Афанасьевну, как бы прося у нее помощи или одобрения, и вдруг бросается к ней в объятия, пряча лицо на груди старухи. Тогда Пелагея Афанасьевна, смеясь, из рук в руки передает ее парню. Тот с неуклюжей нежностью обнимает ее огромными, сильными руками и целует в губы, в щеки, в глаза. — Ну, нам здесь больше делать нечего, — говорит Пелагея Афанасьевна обращаясь к Алексею Егоровичу, — едемте ко мне. Тут все в порядке. Это будет хорошая жизнь! Алексей Егорович согласен: — Дружная пара!4. ТРИГОРСК
Он прошелся по земляному валу, тянущемуся вдоль реки, тому самому валу, о котором геолог рассказывал молодому архитектору в вагоне. Где раньше были пустыри и поляны, теперь высятся большие, красивые дома. А вот и Шестаковская площадь. На этой площади спокон веков каждый год в августе-сентябре располагались бивуаком молодые казаки, призываемые на действительную службу. Здесь же формировались в первую мировую войну казачьи полки, отправляющиеся на фронт. В другое время года площадь была свободна и зарастала бурьяном. Здесь стоял старенький домик Головиных, в котором прошло детство Алексея Егоровича. Теперь домика нет. На его месте стоит, уходя в глубь квартала, большой шестиэтажный жилой дом с магазинами в первом этаже и соляриями на крыше. На самой Шестаковской площади заканчивается строительство завода. Там, где была ружейная мастерская, близ самого вала, на берегу, стоит большое здание городского гаража. Родные места невольно вызывают у Алексея Егоровича воспоминания детства. Какое наслаждение было рыться в пахнущих смолою свежих древесных стружках, находить в них гладко обструганные куски досок, цветную металлическую стружку, медные патроны, мелкие ружейные части, выброшенные на свалку за ненадобностью как брак или по недосмотру старших молодыми подмастерьями. Помнится, среди молодых подмастерьев был Павел Цугаев — крепкий, отважный, веселый Паша, с копной вьющихся русых волос и смелым открытым взглядом. Он часто выходил сюда с винтовкой и шомполом в руках. Паша Цугаев чистил винтовки, собирал и выносил мусор, красил ложи ружей и выполнял десятки других обязанностей в этой древней казачьей мастерской. Он был немного старше сверстников Алексея Егоровича, но дружил с ребятами и всегда бывал в окружении целой ватаги сорванцов. Брал их с собою на рыбалку и на охоту. Он имел свою лодку и прекрасно плавал, переплывая протоку даже в пору весеннего разлива. Паша рассказывал ребятам интересные истории об опытных охотниках, о смелых людях, о гимнастах и борцах, выступавших в цирке братьев Коромысловых, который в ту пору гастролировал здесь. Одна за другой всплывают в памяти Алексея Егоровича картины детства. Вот он плывет с Павлом на лодке через бурную протоку на остров. В густых зарослях тальника они собирают хмель и набивают им мешок за мешком, радуясь своему успеху: будет хорошая брага! Но всего больше Алексей Егорович благодарен был Павлу за книжки. Правда, Павел не давал книжек мальчику, а читал их вслух, но Алеша запомнил их названия, чтобы потом отыскать и прочитать их. Это были «Однажды осенью», «Васька Красный», «На плотах», «Страсти-мордасти» и другие рассказы Горького. Песню «Солнце всходит и заходит» он впервые услышал тоже от Павла. Алексей Егорович прошел к пароходной пристани и присел отдохнуть на скамейку. Тут тоже было много нового. Пароходы, ходившие раньше только по основному руслу реки, ходят теперь по протоке. Об этом он нигде не читал даже. А это было всегдашней недосягаемой мечтой ребят и взрослых увидеть пароход, идущий близко-близко по протоке. Теперь эта мечта сбылась. Огромные двухярусные пароходы ходят по протоке, близ высокого берега, облицованного камнем.5. ПАВЕЛ ЦУГАЕВ
В глубокой задумчивости сидит Алексей Егорович на скамейке, прислушиваясь к глухому шуму волн, бьющихся о берег. Из этого раздумья его выводят раздавшиеся позади женские голоса. Из будки бакенщика вышли пожилая женщина и девушка. У обоих в руках по ведру. На ведрах большие красные буквы. Такие ведра бывают на пристанях, на палубах пароходов. Девушка беспечно смеется. Пожилая женщина, должно быть ее мать, с напускной строгостью ворчит на нее. На Алексея Егоровича они не обращают никакого внимания. Повидимому, присутствие посторонних здесь не ново. Женщина направляется к сараю, стоящему в глубине двора бакенщика. Направление мыслей Алексея Егоровича меняется. Он начинает думать о том, как эта девушка, не окончившая, вероятно, десятилетку, спустя много лет вернется сюда и будет вспоминать свой беспечный девический смех и эти ведра с буквами и, конечно, милый для ее сердца берег. Вероятно, сидит она по вечерам на этой скамейке, да не одна, а с дорогим другом, смотрит на проходящие пароходы, мечтает. Мысли Алексея Егоровича прерывает девический голос: — Мама! «Павел Цугаев» должен быть скоро. Знаешь! Алексей Егорович настораживается: «Что такое?!» — Он в шесть часов вышел из «Крутого яра». — В шесть? — спрашивает женщина. — Ага! — подтверждает девушка. — Ну, что же, у нас все в порядке. Звонко стучит в груди сердце. Нет, он не ослышался: речь идет о Павле Цугаеве! Алексей Егорович спешит к девушке. Она возвращается в домик. Алексей Егорович останавливает ее. — Девушка, вы только что назвали имя Павла Цугаева. Кто это такой? Девушка, широко улыбаясь, смотрит на человека в сером пальто, в касторовой серой шляпе как на пришельца из другого мира. — Да что вы, гражданин, нездешний, что ли? «Павел Цугаев» — пассажирский пароход… — Да, я нездешний, — отвечает Алексей Егорович. — А почему он так назван? Девушка пожимает плечами и опять улыбается. — Подробностей я, гражданин, не знаю, но Павел Цугаев — это наш герой…6. РАССКАЗ ПЕЛАГЕИ АФАНАСЬЕВНЫ
Много слышал от своей гостеприимной хозяйки рассказов об общих знакомых, об истории города, старинных преданий, легенд. Старушка знала их бесчисленное множество. Алексей Егорович решил расспросить Пелагею Афанасьевну о Павле Цугаеве. — Пелагея Афанасьевна, вы знаете что-нибудь о Павле Цугаеве? — входя в комнату, спрашивает Алексей Егорович у хозяйки. — Как же, знаю. Это очень короткая история. Не долго прожил он на белом свете, — рассказывает Пелагея Афанасьевна, помогая снохе накрывать на стол. Алексей Егорович садится в старое, с высокой резной спинкой кресло и внимательно слушает неторопливый рассказ хозяйки. — У Авдотьи Федоровны Цугаевой было три сына… — Знаю, — кивает головой Алексей Егорович. — Ну вот, старший, Степан, с белоказаками был, а младшенький, Ванька, — хулиган-хулиганом — никуда, ни к красным, ни к белым не хотел, был сам по себе. И когда стало известно, что Павел в большевиках ходит, в городской избран, братья отказались от него. Только мать одна, бедняжка, и страдала. Уж как она, родимая, страдала, подумать страшно. Ну, да ведь не всякий поймет материнское-то сердце, а Паша — он у нее особенный, был, ласковый, с детства все старался каждое ее желание исполнить… Степан тот красивый тоже был, но изверг. Когда первые-то Советы кулаки разгромили, Пашенька никуда не ушел, а здесь же в городе скрывался, подпольную работу вел… А к той поре Колчак объявился, белоказаки свои отряды сколотили. Степан-то у них атаманом был. Вот ему высшее начальство и говорит: «Долго ли твой единоутробный братец будет твое казацкое имя позорить? Излови!» В ноябре, под праздник, казаки и окружили подпольщиков-то: видно, собрание было. Паша-то-как-то прорвался через цепь, еще с тремя молодцами — Оськой Щегловым, Митей Кайгородовым и Сашкой Гутовым. Долго за ними гнались. Настигли-таки на протоке, на льду. Он хотел, видно, через остров метнуться в казахские степи, казахи-то его хорошо знали, скрыли бы. Но не успел. Степан сам его догнал, рубанул шашкой и отсек левую руку. А потом его в прорубь живьем и затолкнули… А об руке-то второпях, видно, забыли. Караульщик был такой, звали его Абекеш, вы его помните, наверное, видел все это и передал руку потом Авдотье Федоровне. Она тайком от отца и братьев захоронила ее. Уж после в братскую могилу переложили гробик-то. Под памятником-то в братской могилке одна только левая рука Паши погребена. А все равно имя-то его увековечено на памятнике. Да вот и пароход назван его именем…6. ЛЕКЦИЯ
Когда Алексея Егоровича спрашивали о цели его приезда в Тригорск, он коротко отвечал: — В отпуск приехал. Давно родные места не видал… Можно было подумать, что в этом городе у него есть родные, семья. Но ни семьи, ни родных у него здесь не было. Правда, была лишь только двоюродная сестра — Юля Гутова. Алексей Егорович знал, что она живет на том самом руднике, куда ехала его спутница Наташа, и он решил через некоторое время туда заглянуть. А пока он ходил по родному городу, как по историческому музею. Многое еще в нем напоминало о прошлом. На окраинах и в центре сохранились дома, которые он хорошо помнил с детства. Но теперь они выглядели совсем по-другому, они были не такими, какими он их запомнил. Они состарились, как будто сморщились и от этого кажутся меньше, чем были. Город вырос, а они — эти немые свидетели прошлого — остались на его повзрослевшем, могучем теле, как родимые пятна. Некоторые старые здания преобразились до неузнаваемости. Вот народный дом. Его строил когда-то ссыльный архитектор, мечтавший о создании культурного очага для народа и потому вложивший в свой проект всю силу своей мечты и таланта. Но построенный им народный дом стал подлинным очагом культуры для народа только после Октября. Сейчас здание обновлено, благоустроено. Теперь здесь городской лекторий. Вокруг лектория, на месте бывшей базарной площади, когда-то грязной и зловонной, разбит сквер, в центре которого — благоухающий цветник. Фасад лектория выходит на широкий, прямой, как стрела, проспект Октября. Так называется теперь реконструированная Дворянская улица. Здесь не осталось ни одного старого дома. По обе стороны, на протяжении четырех километров проспекта, высятся здания, жилые и административные. Их величественные и в то же время легкие очертания, светлые тона отделки — радуют глаз. Зеленые ленты тенистых лип, как две ковровых дорожки, тянутся по сторонам магистрали, пересекающей весь город. Алексею Егоровичу захотелось зайти в лекторий. Из расклеенных по городу афиш он еще утром узнал, что сегодня здесь читается лекция «Богатства нашего края». Читает лектор Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, член-корреспондент Академии наук СССР Горлов. Алексей Егорович покупает билет, и вот он снова в знакомом с детства зале. Здесь впервые в жизни он познакомился с пьесами Горького, Чехова. Это были спектакли любительского драмкружка. Но как вдохновенно звучали со сцены слова героев Горького, как волновали они тогда его душу!.. Зал полон. Алексей Егорович внимательно всматривается в лица людей. Да, это новое поколение людей, это советские люди. Он рассматривает зал. В нем мало изменений. Те же лепные украшения на потолке, те же люстры, те же лесенки, двери, ведущие из зала за кулисы. Все это до мелочей знакомо. Но поди!.. Люди другие, новые. Алексей Егорович вспоминает, как входил, бывало, в этот зал уездный начальник, или городской голова, или еще кто-нибудь из городских богатеев и как по всему залу, наполненному чиновничьим, служилым людом, пробегает шопот подобострастия. На сцену выходит лектор. Он подходит к кафедре и кладет перед собой конспект лекции. Алексей Егорович узнает в лекторе своего недавнего попутчика — геолога. То, что услышал Алексей Егорович из уст лектора, перевернуло все его представления о родном крае. Он знал и раньше, что этот край очень богат, что здесь добываются цинк и свинец, медь и золото. Но лектор рассказал о новых богатейших месторождениях полезных ископаемых, открытых за годы советской власти, о построенных на их базе крупнейших промышленных предприятиях, электростанциях, железнодорожных путях. Алексею Егоровичу в молодости пришлось работать на одном из рудников края. Но что это был за рудник? Убогая техника, несколько десятков рабочих, мизерная производительность. А теперь, как показал лектор, предприятия края оборудованы по последнему слову современной техники, на них работают тысячи рабочих, эшелоны самой разнообразной продукции идут отсюда в разные концы страны. После лекции было много вопросов. Видно было, что присутствующие хотят получить еще больше знаний о своем крае, им дорога каждая деталь, каждая подробность, обогащающая их представления о том месте, где они живут и работают, — в этом; проявляется любовь советских людей к своему краю, к своей Родине. — Ба! Вот так встреча! — восклицает лектор, увидя Алексея Егоровича при выходе из зала. — Я восхищен вашей лекцией, — отвечает ему Алексей Егорович. — Я слушал ее с большим интересом… — Очень рад, что доставил вам удовольствие… А где вы устроились? — У Пелагеи Афанасьевны. Премилая старушка. Она предложила мне комнатку со всеми удобствами. — Очень хорошо. Рад за вас. А мне вот не очень повезло. Живу в гостинице. Квартиры пока нет. Город растет, строится, а жилья все еще нехватает. — Потому и нехватает, что растет… Дело теперь за Евгенией Петровной. Она вместе со строителями должна бы строить здесь кварталы новых домов, чтобы снять жилищный вопрос с повестки дня. Кстати, вы ее встречаете? — Почти ежедневно. Она живет в той же гостинице, где и я. Заходите как-нибудь ко мне вечерком. Второй этаж, номер восемнадцатый. Повидаетесь и с Евгенией Петровной… — С удовольствием! Алексей Егорович крепко пожал руку своего недавнего соседа по вагону. Член-корреспондент Академии наук!.. А! Подумать только, какие люди теперь появились в этом городе!..7. ДВЕ СВАДЬБЫ
Вот и рудник, куда так стремилась молодая спутница Алексея Егоровича — Наташа. Маленький автобус довез Алексея Егоровича до самого центра старого поселка. Отсюда надо было подняться по тропе на небольшую сопку и спуститься к новому поселку, состоящему сплошь из стандартных домиков-коттеджей. Тут живет Юлия, родственница Алексея Егоровича. Встреча была неожиданной и оттого еще более радостной и теплой. Алексей Егорович помнил Юлию еще молоденькой девушкой, а сейчас перед ним стояла пожилая женщина, вдова знатного шахтера. Она — мать большого семейства. Из ее старших сыновей один служит в армии, другой учится в горном институте, третий работает в шахте и учится в вечернем техникуме. Эти три сына уже взрослые, они вышли на самостоятельную дорогу в жизни. Кроме них у Юлии есть дочь, которая учится в шестом классе средней школы и двое сынишек-близнецов. Они учатся в третьем классе. — Трудно было мне, — рассказывает Юлия, — особенно в первое время после смерти мужа. Но в несчастье я не была одинокой. Меня поддержали, окружили заботой. Люди с большим участием ко мне относились. Хороший у нас народ! Ну, а сейчас живем, конечно, очень хорошо! Один Миша сколько зарабатывает! Шахтер ведь, а шахтеры у нас хорошо живут. Он недавно мотоцикл завел, а другие, у кого семья поменьше, «Москвичами» обзаводятся. В поселке-то видал, что делается? От машин проходу нет… Алексей Егорович смотрит на Юлию и дивится — не узнает он ее. Он помнит ее забитой, золотушной девчонкой, а сейчас перед ним женщина, полная жизненной силы, твердости, оптимизма. Алексею Егоровичу приходит на память один эпизод из их прошлой семейной жизни. — Юля, а помнишь Федину свадьбу? — Еще бы! — У кого он тогда занял костюм? — У Григория Ивановича Гаврилова. — Суров был казак! — Какой там суров — самодур! Рассказать сейчас кому-нибудь, вот хотя бы нашим детям, как жених на своей свадьбе в чужом костюме из-за бедности вынужден быть, а владелец этого костюма, напившись за свадебным столом, взял да раздел жениха, отобрал, значит, свой костюм, так ведь не поверят… — Не поверят… — А помнишь, — спрашивает Юля, — Костю-музыканта? Его звали «Скушай котлетку»?.. — Костю-музыканта? Помню. Только почему у него такое прозвище было?.. — Ему на свадьбе предложили съесть мясную котлету. Он отказался. — «Знаю, говорит, эти котлеты. Голая соль. Одно название, что мясные…» Оказывается, над ним кто-то зло подшутил: однажды ему дали котлету, в которой было больше соли, чем мяса. Костя раньше никогда котлет не ел и решил, что это так должно и быть… Не понравились ему котлеты… — Ха-ха-ха! Интересно, а где сейчас Костя «Скушай котлетку»? Наверное, сейчас он понял, какие бывают котлеты, и кушает их за мое почтение?! — Еще бы! И знаешь, где он? В консерватории. Профессор по классу скрипки. Сам скрипачей обучает. — Ну, а где сейчас Федя, жених злополучный?.. — И Федя большим человеком стал. Он председатель Верхне-Лбинского колхоза «Заря коммунизма». Герой Социалистического Труда, уже второй орден получил за высокий урожай пшеницы. Один сын у него учится в Георгиевке, второй в армии, лейтенант, в Берлине служит, а дочка в обкоме партии работает. — Ну, не вспоминает свою свадьбу? — Где там вспоминать! Некогда воспоминаниями заниматься. Разве только иногда, если к слову придется… А Григорий-то Иванович Гаврилов, казак-то, тот самый, что раздел Федю на свадьбе, у него же потом в рассыльных служил, на побегушках… Вот как повернулось дело-то… Перед самым отъездом из рудника Алексей Егорович неожиданно встретил свою недавнюю соседку по купе. Произошло это так. Сидя в автобусе, который вот-вот должен был тронутьсяв путь, Алексей Егорович с удовольствием рассматривал окружающие здания, наблюдал за движением на оживленной улице этого рудничного поселка. Вдруг из подъезда двухэтажного дома, что был напротив автобусной остановки, вышла группа молодых людей. Алексей Егорович увидел среди них Петруся и Наташу. Наташу было трудно узнать. Она была в модном длинном платье и казалась еще стройнее, выше, солиднее. Их окружали молодые люди с букетами цветов, компания со смехом и шутками расселась в ожидавшие ее легковые машины. Все это произошло с молниеносной быстротой. Алексей Егорович не успел опомниться, как веселый кортеж умчался по широкой улице к горной части поселка. Взглянув на подъезд дома, из которого вышли молодые люди, Алексей Егорович прочитал на вывеске:Рудничный районный отдел записи актов гражданского состояния
8. ПИСЬМО
Домик Пелагеи Афанасьевны стоит в конце Ленинской улицы, у самой реки. По своему внешнему виду он уже стар. Небольшой, с почерневшими от времени бревенчатыми стенами, резными наличниками на окнах, он окружен традиционным палисадником с кустами сирени и черемухи. В домике три комнаты и кухня. В окнах спаленки Пелагеи Афанасьевны еще сохранились цветные стекла, бывшие когда-то в моде в этом городе. Года три назад к домику подвели центральное паровое отопление и газ, и это наложило на него печать современности. Но небольшой камин в гостиной и русская печь на кухне так и остались до сих пор. Время от времени хозяева пользуются ими. На стенах комнат много фотографий в старинных полированных, овальной формы, рамках. Среди них в красивой окантовке, под стеклом — почетная грамота Пелагеи Афанасьевны. Она награждена ею, как активная общественница. В старинных с резными украшениями книжных шкафах — новинки советской литературы. Их Пелагея Афанасьевна получает от старшего сына Василия из Москвы. Свежие номера журналов «Огонек», «Советский Союз» лежат на круглом столе, покрытом вязаной цветной скатертью. В квартире безукоризненная чистота. Хорошо, уютно Алексею Егоровичу у старушки. Частенько вечерами он остается дома и слушает музыку по радио да вспоминает вместе с Пелагеей Афанасьевной различные события из жизни Тригорска. Однажды почтальон принес письмо. Пелагея Афанасьевна часто получает письма, но это письмо было необычным. Никто из ее корреспондентов не присылает таких самодельных конвертов-треугольников. И почерк какой-то неровный, наивный, как будто детский. Пелагея Афанасьевна взяла ножницы и аккуратно обрезала ниточку, скрепляющую конверт, развернула письмо. Алексей Егорович поднялся было, намереваясь уйти в другую комнату, но Пелагея Афанасьевна остановила его. — Угадайте, от кого письмо? — Да как же я могу угадать, Пелагея Афанасьевна, мало ли у вас корреспондентов? — Этого вы знаете. — От одного из сыновей? — Нет… — Да вот послушайте… И Пелагея Афанасьевна начала читать:«Добрый день или вечер, дорогая, славная бабуся! Это пишет известная вам Галя. Если бы вы видели, как были рады мама и отчим мой, Сидор Карпович, увидев меня, приехавшую обратно, будто я с того света вернулась. А я как подумаю, бабуся, что со мной стряслось, так ужас берет. Милая бабуся Пелагея Афанасьевна, какие вы все хорошие, вы и те девушки и те два гражданина — Антон Маркович и Алексей Егорович… А Наташенька так просто даже прелесть! Я никогда не забуду, как она стояла в очереди за билетом для меня. Я, бабуся, теперь поняла, какие есть чудесные люди на свете, и от этого у меня на сердце так хорошо, так хорошо, как никогда не было и как будто со мной ничего не случилось. Дорогая Пелагея Афанасьевна, примите от меня низкий поклон за доброту вашу. И мама моя вам кланяется и отчим мой Сидор Карпович тоже кланяется и просит вас принять от него глубокую благодарность. Он собирается ехать на строительство Волго-Донского канала и зовет нас с мамой, и я хочу ехать с ним. Довольно мне в небесах витать, я хочу по-настоящему работать. Дорогая моя бабуся, как только устроюсь на новом месте, обязательно вам напишу. Будьте здоровы на многие, многие годы за доброту и сердечность вашу. Галя».— Ну, кто подумает, что это письмо написано рукой той самой франтихи Гали, которую мы с вами так жалели, — растроганно сказала Пелагея Афанасьевна. — Да, — согласился Алексей Егорович, вспоминая девушку. — Ей бы еще учиться да учиться надо… — Ничего, батюшка, жизнь научит. Вот попадет она на стройку, там-то непременно научится многому. У меня средний-то сынок, покойный Николенька, тоже не кончил десятилетки, поехал на Магнитку работать. А там курсы, да техникум, да институт вечерний окончил — знатным человеком стал. Кабы не война… А Галя свою дорогу найдет. Да и люди ей помогут.
9. В ГОСТЯХ У АРХИТЕКТОРА ГОРОДА
Был выходной день. Алексей Егорович заехал к геологу Горлову, и они вместе решили посетить Евгению Петровну, которая попрежнему занимала номер в гостинице. — Как я рада, — сказала девушка. — Вот хорошо, что вы надумали зайти ко мне! Я вчера получила проекты новых зданий Большого Тригорска. Могу вам показать их… Алексей Егорович, вы, как бывший тригорец, должны знать, что такое караджал? — Караджал? Это черная грива — по-казахски. А почему это слово так вас заинтересовало?.. — Я знаю название одного золотого прииска в алтайской группе «Акджал», — отозвался геолог. — А это значит «белая грива», — объяснил Алексей Егорович, — так обозначаются отроги гор или сопок. — Нет, тут имеется в виду что-то другое, — возразила Евгения Петровна. — А что именно? — спросил Алексей Егорович. — Я рассматривала старый план города и вот натолкнулась на название целого городского района, прилегающего к Пристанской горе. — А!.. — воскликнул Алексей Егорович. — Гм… «Караджал»? Вспомнил… Это… Ну, как вам объяснить?.. Это часть города, где до революции были расположены притоны, кабаки. Страшное это было место!.. — Вот… А сейчас по новому проекту города, чтобы окончательно уничтожить даже память об этом, здесь развертывается строительство кварталов новых жилых домов. Вот здесь разбирается парк. От былого Караджала не останется и следа… — Слушайте, Евгения Петровна, поедемте лучше на место. Там виднее, чем на бумаге… — Пожалуйста, я только что хотела вам это предложить… Автобус шел по вновь проложенному асфальтированному шоссе, мимо новых строек. Друзья решили проехать на Пристанскую сопку и с нее осмотреть строительство. Когда они поднялись на сопку и перед ними открылась грандиозная панорама строительства, у Алексея Егоровича лихорадочно забилось сердце. Сколько раз в детстве он взбирался на эту гору и смотрел на шумящие вдали зеленые волны широкой, бурной реки, на грязные, кривые улочки поселка, на рассыпанные в беспорядке избушки — бедные, запущенные, серые… И вот теперь перед ним открылась величественная картина. Он в восхищении смотрит на архитектора. — Счастливая вы, Евгения Петровна! — Не отрицаю, — улыбается девушка, — я счастлива тем, кто причастна к созданию здесь в старом, когда-то захолустном городе новой жизни… — Дорогая, вы еще не можете понять, как велико это счастье! Не можете! Вы же не знаете, что такое Караджал? Какая тут была мерзость!.. — Уверяю вас, Алексей Егорович, я понимаю… Этого нельзя не понять!..* * *
Вот и кончается отпуск. Надо возвращаться домой. Пелагея Афанасьевна с грустью посматривает на своего гостя. Она привыкла к этому человеку. Ее сердце полно тихого материнского чувства к нему. Алексей Егорович ласково отшучивается: — Усыновите меня, останусь. Он идет в последний раз по городу. Вот центральный сквер. Вот обелиск над братской могилой с бронзовой доской и начертанными на ней именами героев, борцов за Советскую власть. Среди них дорогое Алексею Егоровичу имя Павла Цугаева. Поблизости, на площадке, играют дети. Женщина лет 30—35 занимается с ними. Густая листва окружающих площадку деревьев скрадывает шум городских улиц. Тишина… Дети поглощены своими занятиями. Тачки, лопаты, грузовики, подъемные краны, кубики строительных материалов, песок, вода, стекающая по желобку из ближайшей колонки, — здесь есть все необходимое для «народной стройки». Нет разве только шагающего экскаватора. О нем дети уже слышали, но никто из них еще не видел его, даже в кино. Но ребята уверены, что скоро они добудут и шагающий экскаватор. Непременно добудут… Основные черты стройки уже определены. Маленькие строители озабочены постройкой высотных городских зданий, гидростанции, каналов, пересекающих пустыни. Глубокое безоблачное небо отражается в уже сооруженных «водохранилищах», по которым плавают «пароходы», «баржи». От одного берега к другому лужицу пересекают «грузовые суда», пущенные искусными «моряками». — Знамение времени, — говорит женщина, наблюдающая за детьми. — Ведь их никто этому не учит. Игра в строителей у них сейчас самая любимая. А во время войны не было популярнее военных игр. Я работала тогда в старшей группе. Однажды отлучилась я на несколько минут. Прихожу, на площадке страшный крик. Что такое? Оказывается, ребята «пошли в атаку». «За Сталина!», «За Родину!» — кричат, а сами на обледенелую горку карабкаются. Ногти себе поободрали и хоть бы что!.. А теперь не оторвешь от стройки. И каждый день все новое и новое… Надо было видеть, с какой гордостью дети показывали Алексею Егоровичу свою «стройку», какую неистощимую фантазию, обнаруживали они при этом! — Знамение времени, — повторила руководительница на прощание, — чем живет народ, тем и дети… Алексей Егорович еще долго сидел на скамейке перед обелиском. А когда наступило время уходить, он встал и бережно положил букет живых цветов на братскую могилу. Образ Павла Цугаева вновь возник в его памяти. Алексей Егорович вспомнил слова молодого рабочего-революционера о будущем, о коммунизме, слышанные им еще в детстве. «Вот оно будущее, о котором ты так мечтал, Павел, и за которое ты отдал жизнь, — думал Алексей Егорович, еще раз обводя взором раскинувшийся перед ним такой родной, такой знакомый и такой новый, до неузнаваемости новый город. — Вот они, уже зримые черты коммунизма. В них твое бессмертие, Павел…»Ф. Астафьев СТИХИ
ПИСЬМО НА УРАЛ
Под вечер море плещется несмело,
Устав, наверно, от волнений дня.
Закат пылает абрикосом спелым,
До половины небосвод заняв.
Стоишь, как зачарованный, на сходне —
Такая ширь и неба и воды!
Но получив письмо твое сегодня,
Я обо всем об этом позабыл.
Домой мне захотелось —
К нашим станам,
К тебе, к мартенам, где кипит металл;
Ты рассчиталась с пятилетним планом,
А я на месяц от тебя отстал.
Но заверяю словом комсомольским:
Перед страной не буду я в долгу,
Я честь свою, как честь Магнитогорска,
Как боевое знамя, берегу.
ГОРА АТАЧ
Человек пробивается к рудному сердцу все ближе,
Все упорней руды со взрывчаткою спор.
С каждым днем,
С каждым часом
И меньше и ниже
Твой верблюжий, изрытый машинами горб.
Каменистая глыба твоя по частицам
В горнах домен проходит сквозь жаркий огонь,
Чтобы в формы гигантских мостов воплотиться,
Чтоб войти непреклонною силою в бронь,
В воздух броситься грозно ревущею птицей,
Плугом врезаться в землю, ворочая пласт…
Оседает гора,
Чтобы снова родиться
Высоченной горою народных богатств.
А. Коломиец ЗВЕЗДА НАД ГОРОДОМ Стихотворение
В Магнитогорске над колошником лучшей домны горит яркая красная звезда. Так в доменном цехе отмечают передовиков социалистического соревнования.
Ознаменован подвиг скромный
Героев мирного труда —
Сверкает на вершине домны
Пятиконечная звезда.
Здесь честный труд овеян славой,
К победе волю воспитал.
Бурлит, клокочет грозной лавой
Рожденный в пламени металл.
И быстро темпы нарастают,
И с высоты колошника
Звезда над городом сияет,
Как свет большого маяка.
Е. Манько ПЕРВАЯ ПЛАВКА Стихотворение
Из цеха с улыбкой счастливою вышел,
Не спеша к проходной зашагал.
И долго на улице он еще слышал,
Как бушует в домне металл.
И щурил глаза, будто все еще рядом
Чугуна сияющий поток,
Как будто бы искры взлетают каскадом
И гаснут у самых ног.
…Идет, напевает.
А лет ему двадцать.
И домой охота скорей!
Снежинки танцуют,
Снежинки кружатся,
Будто бабочки у фонарей.
Остановка.
Но дальше шагает.
Прошел весь проспект заводской.
О завтрашней плавке, наверно, мечтает
Доменщик молодой.
А улица вдаль убегает прямая,
Тротуары покрыты снежком.
…Совсем позабыл он,
Что можно трамваем…
Далеко,
А пошел пешком!
В. Костарев МОКЕЙ (Рассказ)
Осенний день угасал неохотно. Поблекшее солнце устало опустилось за голый хребет Уреньги. Над тем местом, куда скрылось солнце, небо было багровым. Поднялся легкий свежий ветерок. — Дождя кабы не надуло, — поглядев на небо, обеспокоился Василий, подымаясь с крыльца террасы. — Ну-у… откуда ему?.. Проводника вот нет. Это хуже! — отозвался Николай. Василий и Николай были студентами института механизации. Оба одногодки, одинакового среднего роста. Василий, однако, выглядел постарше, потому что был смугл. Темные брови и волосы с зачесом назад придавали лицу выражение сосредоточенной серьезности. И взгляд его был спокойно внимательным, как бы постоянно что-то изучающим. Взгляд этот он перенял своего старшего брата, ныне директора одного из машиностроительных заводов. Николай же был блондином, светлые волосы стриг коротко, и носил прическу с косым пробором. Голубые глаза смотрели ласково и предупредительно: мол, не смущайся, смотрю я просто так, не хочешь если, не буду смотреть. Черты лица были тонкими. У него была привычка трогать мочку уха. Характер у него был более настойчивый и решительный, чем у Василия, выглядевшего более мужественно. Николай был гостем у Василия. До начала занятий оставалось еще дней десять, и Василий пригласил к себе Николая побродить с ружьишком по окрестным горам и долинам. Но, признаться, Василий сам-то неважно знал хорошие места, и поэтому сегодня, когда они собрались на зорьку, оба серьезно беспокоились, ожидая проводника. Николай посмотрел вдаль, на гору. Она словно дымилась. Плотные серовато-грязные тучи хмуро и неповоротливо громоздились над скалистыми вершинами. — Когда над Таганаями такая история, знай — к дождю, — закуривая, объяснил Василий. — В наших краях Таганай — первостатейный барометр… — Ну, а на зорьку все-таки пойдем. Хоть и проводника нет, все равно пойдем… — не отрывая взгляда от курившегося тучами Таганая, проговорил Николай. Дом, у террасы которого они стояли, находился в верхней, горной части улицы. Николай взглянул вдоль улицы вниз и обрадованно повернулся к Василию: — Вон кто-то мчит сюда!.. Чудно у вас здесь. Все в гору да под гору. Тут не сердце, а локомотив нужен, сил на полтораста лошадиных… Смотри, кто это такой бравый? Не знаешь? Василий молчал, присматриваясь. Заметив сумку почтальона, болтавшуюся у человека сбоку, он разочарованно протянул: — Да это же Моке-е-ей… — Что за Мокей?.. — Да так себе… — Ну, все-таки. — Фу ты, дался тебе… Ну, Мокей — почтальон наш… Полнейшая заурядность. — А боевой… — Что-что, а по горам ходить — косуле не уступит. Это он может!.. Мокей направился прямо к террасе. — Вечер добрый! — приветствовал он молодых людей. Николай с любопытством глядел на него, стараясь понять, почему так небрежно говорил о нем Василий. Мокей снял шапку, платком вытер пот, затем открыл свою сумку. — На, держи, Василь, — сказал он, протягивая письмо в сером конверте с пятнами штемпелей и марок. — Не хотел уж было, да ладно… — Спасибо! — Василий взял письмо, думая, что значит: «Не хотел, да ладно». Но вместо того чтоб спросить об этом, спросил о другом: мелькнула в голове мысль пригласить Мокея в проводники. — Как ты думаешь, Мокей, завтра дождя не будет? — А кто его знает! — безразлично отвечал Мокей, застегивая пряжки у объемистой кожаной сумки. — Мне все одно — завтра у меня выходной… — А мы вот на зорьку собрались… — как бы между прочим заметил Василий, заранее зная, какое впечатление произведет эта фраза. — Да, ну! — Мокей даже ремешки выпустил из рук. — Так и я с вами… Один момент… только за ружьишком слетаю… Круто повернувшись, на ходу застегивая сумку, Мокей заспешил, перепрыгивая через канавки, вниз, к себе за ружьем. — Видать, мужичок компанейский! — весело улыбнулся Николай, с удовольствием наблюдая, как бойко для своих лет спускается Мокей под гору. — Ну, еще бы! — шутливо отозвался Василий, распечатывая конверт. — К кому бы ни пришел — как к родне. Как к свату или брату. Лет уж сорок без малого он со своей сумкой здесь ходит. Да, вот кстати. Попробуй-ка доказать ему, что на белом свете есть дела поинтереснее, чем его обязанности. Ему несколько раз предлагали быть начальником отдела доставки. Нет, и слушать не хочет! Вот, скажи на милость, что он нашел в своей работе? Взять на почте письмо, принести адресату — ни ума, ни сердца не надо… — Фанатизм, вероятно… — отозвался Николай, разделяя рассуждения Василия. — Да как тебе сказать… — рассеянно отвечал товарищ, обратив внимание на адрес, написанный на конверте. — Вот! Смотри, мы с тобой — на Петровской, а здесь указана Кедровская, видать, еще по старой памяти, — жили там мы одно время. А Мокей ведь прямехонько сюда шел… Ему только имя да отчество дай — под землей найдет. Улица и номер дома его меньше всего интересуют, всех наперечет знает. — Еще бы! Сам же говорил, сорок лет мотается. Еще бы не знать!.. — Да, вот сорок лет… А ведь не жалеет. Не жалеет, что пролетела жизнь не за понюшку табаку! — Ну, как, поди, не жалеет… Кусает локти, да поздно, — с каким-то соболезнованием проговорил Николай, направляясь к дому. — А впрочем знаешь: привычка свыше нам дана, замена счастию она! Это как раз про Мокея! Часа через полтора все были в сборе. Пошли к Высокой горе: так настоял Мокей. — По всем приметам там должно быть богато, — уверил он, многозначительно произнося слово «богато». Одет он был легко, но тепло. Стяженый ватничек плотно облегал его подвижное тело, на ногах были сыромятные чирики, какие носят охотники. Выкроенные из цельного куска кожи, они не промокали и были так легки, что на ноге почти не чувствовались. Мокей шагал первым. Шагал бойко, возбужденным голосом говорил громко и весело. Был он несказанно рад молодой компании, рад выдавшемуся случаю сбегать в лесок на зорьку. За разговорами охотники не заметили, как поднялись на перевал первой горы. Справа маячила в зеленоватой дымке лунного света вышка кордона. Расплывчато виднелись очертания ее стропил и лесенок, зигзагом бегущих к будочке наверху. Слева густовато синели, а больше, пожалуй, угадывались бесконечные гряды гор, пропадая где-то вдали, сливаясь со звездным небом. — А легки вы на ногу, — обращаясь к Мокею, проговорил устало Николай. Он не привык к гористой местности и сейчас был не против отдохнуть минут пяток, чтобы успокоить колотившееся сердце. — Можно и притормозить, — догадливо откликнулся Мокей. По лицу его, вероятно, скользнула улыбка, потому что в голосе его явно чувствовалась веселая нотка торжества: вот мол хоть я и в годах, а тебя, мил человек, обскакал — снисхождения просишь! Мокей остановился и повернулся лицом к городу. Приостановились и его спутники. — Картина! — восхищенно прошептал Мокей, любуясь, словно праздничной иллюминацией, сверкающими вереницами огней. Им не было числа. Они мерцали всюду, как-то струились бесконечно, перемигивались. На главной улице огни сияли двумя устойчивыми яркими линиями. Мокей смотрел на ближнюю, левую часть города. Лицо его, обрамленное темноватой курчавой бородкой, чуть заметно озарялось далеким светом мерцающих огоньков и тепло улыбалось. В глазах, пристально вглядывавшихся, тоже отражались эти огоньки. Ветерок не унимался, приятно освежал лицо и шею. Было слышно, как тоненько посвистывает он в стропилах вышки кордона и шуршит где-то рядом засохшей уже травой. — Вон у Артамоновых свет зажгли! — радостно, как об интересном открытии возвестил Мокей. — Санька их с работы пришел… А эвон розовый огонек… То опять у Бурдиных. Ванюшка премию получил, приемник купили и абажур. Шелковый с кистями. Абажур красный, а окно розовым отливает… Спутники посмотрели туда, куда смотрел Мокей, но в россыпи огней они не могли выделить ни окон домика Артамоновых, ни Бурдиных. Этим искусством обладал Мокей. — Что же, передохнули, пора и двигаться! — прервал Мокея Василий. — Какое нам дело до того, у кого зажгли свет, у кого он отливает розовым… Пустые все это разговоры, — и он даже как-то с сожалением посмотрел на Мокея: дожил, дескать, ты до старости, а все еще умишка не накопил. Мокей же, уловив в голосе Василия нотки раздражения, подумал, что сердится он из-за письма, которое принес поздно. Поэтому возражать юноше он не стал: виноват, мол, что поделаешь!.. А Николай вообще не мог понять, чем был раздосадован его товарищ. Мокей пока еще ничем не заслужил такого резкого тона. Считая, что Василий несправедливо оборвал Мокея на полуслове, Николай участливо спросил: — Вы, наверное, всех жителей наперечет знаете? — Ну, пошли, — нетерпеливо поторопил, снова перебивая, Василий. — И то дело! — простодушно согласился Мокей. Он как ни в чем не бывало весело поправил шапку, ремень ружья на плече и первым зашагал в направлении к Высокой горе. — Что это ты так с ним? — вполголоса поинтересовался Николай, когда Мокей прошел несколько вперед. — А не терплю пустых разговоров… — На своем участке всех по пальцам пересчитаю! — донесся голос Мокея, вдруг вспомнившего вопрос Николая. Мокей приостановился, поджидая Николая, и продолжал: — Я, почитай, полвека по этим местам странствую. И не только живых, а усопших-то знаю, кто где покоится… Вся жизнь в этих домах, как на ладошке передо мной. Во всех наитончайших подробностях… Уклон пошел положе, уже не тащило вниз, как прежде, итти стало легче. Мокей шел попрежнему впереди, зорко различая все колдобинки и выбоинки на пути. Он гордился тем, что ребята идут по его следу, а, стало быть, полагаются на него, не будь его, они, пожалуй, и дороги-то не нашли бы… — Хожу по домам с письмами, наблюдаю, — продолжал рассказывать он. — Ко мне уже привыкли, своим человеком стал. Ничего не скрывают: получат весточку, со мной поделятся… А гляжу на жизнь и самому жить интереснее… — Ничего себе, веселое занятие! — усмехнувшись, чуть слышно заметил Василий и локтем подтолкнул Николая. Но тот, заинтересовавшись Мокеем, попросил Василия: — Не мешай! Давай послушаем старика!.. А Мокей все шел вперед и неторопливо, словно нанизывая слово на слово, рассказывал: — Вот я вам показывал — у Артамоновых-то свет зажгли. И еще сказал, что Сашка домой пришел. Оно, с первого взгляда, конечно, и ничего особенного. Раз ночь, так всегда свет зажигают. Спокон веков так. А для меня в этом — большой смысл. Мне известно, что этот самый Сашка без отрыва от производства готовится держать экзамен на инженера… Ты вот, Василь, студент, и тебе это не в диковинку: так и должно быть… А вот ежели бы ты знал Сашкиного отца, другими ты глазами посмотрел бы на огонек. Вот те крест, согрел бы он и твою душу, тот огонек. В чем, скажешь, дело? Пожалуйста! Дело-то, видишь ли, вот в чем. Помер отец-то Сашкин в двадцать пятом али в двадцать шестом, не помню точно, году. В прокатке работал последнее время. Все мечтал грамоте читать научиться, да так с тем и ушел на тот свет… Так вот принесу, бывало, ему писульку. Возьмет, покрутит, повертит, вернет мне: на, прочитай, у меня секретов от тебя нету, дескать… Возьму, конечно, прочитаю. А сам думаю: какие тут секреты, при чем они! И чего человек стыдится, али я не знаю, почему он неграмотный. Где же: ему по тем временам было взять грамоту-то? Поглядишь сейчас на сына, да про отца вспомнишь и поймешь, как жизнь-то шагнула вперед… На этот раз уже Николай тронул за локоть Василия: — Чувствуешь! Василий смолчал. Они уже наполовину спустились с отрога. Откуда-то снизу доносилось слабое журчание горного ручейка, изредка перебираемое легким всплеском. Чуткое ухо могло бы уловить тревожный шорох запоздалой птахи или тоненький писк испуганного шорохом мышонка. Отчетливо слышались собственные шаги и хруст гальки под ногами… — А секреты, между прочим, были, — вновь заговорил Мокей после некоторого молчания. Он как бы освежился, голос его окреп. — Про один такой секрет намедни тоже пришлось вспомнить. В домишке, как на базар итти, у ключика, ты, Василь, поди знаешь этот домишко на два окна, на курьих лапах. Так вот в этом домишке проживал один человек, по прозвищу Бубна. Бубной его в детстве прозвали, и он даже сам забыл, за что. Бубна и Бубна… Так Бубной и в землю сошел. По бедности утерял человек фамилию свою… Так вот тот самый Бубна родного-кровного братца таился. И, конечно, имел эти самые секреты. Принесу письмо, первым долгом интересуется: «Микола (это братец-то) знает?» — Не, мол, не знает. — «То-то! Он, дескать, шельма, так и зырит, где бы подкусить меня…» А в чем был корень-то? Опять же в наследстве. Не давало оно им обоим покоя. Письма Бубне отец из Миасса слал. Промышлял он там около золотишка, а эти на извозе были: то уголек с печей подбрасывали, то руду возили… Бедно жили, в чем только душенька держалась, через это и дружбы не было… Миколу-то беспокоило, как бы его тятька наследством не обошел. Бубна-то годов на пяток старше был, но еще не женился, ждал наследства. А отец-то на самом деле обошел Миколу в бумаге-завещании. На Бубну, да на детей, которые у него будут, все и оставил. Ну, Микола, конечно дело, не стерпел. Взял, дурная голова, да и подпалил родного-кровного братца. Суд был. Вот что из-за наследства-то получилось, чуть до убийства не дошло. Но давно это было. А вот теперь, вижу, совсем у людей другое отношение к этому делу. У Кислициной-то намедни слышал, поди, Василь, мать-то померла. У дома-то ихнего еще наигромадный тополь растет, ему, поди, лет сто. Ну, померла, значит, а дом свой на детей оставила: всем, дескать, поровну. Старший, Павел, под Хабаровском живет — врач; Мария, та в Кисловодске, — инженер-путеец; Катя — в Свердловске, артистка в театре. При матери только самая младшая и была — Соня. Вот раз приношу я письмо. Поглядела она на штемпеля, да на почерк и говорит, зайди мол, Мокей Степанович. Ну, я такой, меня долго уговаривать не надо. Зашел. Из-под Хабаровска письмо-то принес. Подождал, пока прочитала. А она его и дочитывать не стала, подняла на меня глаза, словно кто ее обидным словом ушиб, и крикнула на меня: «Вот, и этот тоже!» Я уж было испугался, обидели мол. На самом деле, самая младшенькая, неопытная… Пытаю. Чем они тебя, Сонюшка, опечаловали. Как только им не совестно! — «Все они, — отвечает она, — против меня». Ай, ай! говорю, и в каком таком государстве они воспитывались. А сам даже не верю себе, что все правда это. То есть, что все они против нее. Не может этого быть! Но девка свое: «Не уважают они меня!» Ну, что ж, говорю опять, горбатого, видать, только могила исправит. А Соня продолжает: «Все они, говорит, в мою пользу отказались». Ну, в этот момент у меня словно бы гора с плеч и опять не верю, думаю, ослышался. В этом ничегошеньки обидного для Сони не было. Радоваться надо, а она гневается. Ничего не понимаю. Смотрю, из глаз-то у нее слезы так и бегут… Глупая, говорю, ты, Соня. Радоваться надо такому случаю. Видели бы вы, как тут поднялась она на меня! Это после моих ласковых-то слов, утешительных. Шумит: «А ты, умный человек! А не можешь того понять, что не нуждаюсь я в ихней милости. За кого они меня принимают?! Он думает, что врач, так богаче меня! А я — стахановка!» Ну, я не перечу, слушаю. А она не унимается: «А та тоже в опере поет, так думает, что на седьмом небе сидит! А я токарь по седьмому разряду!» И, скажи на милость, задумался я: права ведь девка-то!.. А она малость поостыла и так обходительно и вежливо просит: «Посоветуй мне, куда деньги девать, чтоб моя совесть была чиста? Не могу я все себе взять?» Ну и ну, думаю, какая ж тут совесть. Что это уворованное? Законные денежки! Предложила она их своим компаньонам по наследству? Предложила! Отказались? Отказались! Бери себе все и радуйся. Какая тут совесть! Объяснил я все это ей и посоветовал: забирай, говорю, денежки и никаких!.. Признаться, тогда во мне старый режим проснулся и как бес тянул меня за язык… Она молчит, а я все про свое: радуйся, что такое счастье привалило. А она мне вдруг: «Ничегошеньки-то вы, Мокей Степанович, не понимаете в жизни». Говорит она мне такое и смотрит так жалобно на меня, будто я совсем с ума свихнулся и меня на инвалидность по первой группе списали… — «Разве в наследстве мое счастье!..» И опять в слезы. Ну, как она мне сказала, что ничегошеньки-то я не понимаю в жизни, да еще и посмотрела на меня, как на пропащего — загорелось у меня в груди… Чуть я ее крепкими словами не обозвал… Не знаю, как только я сдержался. Вышел на улицу злой. Так и подмывает вернуться и высказать свою обиду. Тут ветерок подул. Освежило меня маленько, одумался я. Поразмыслил, так и сяк прикинул и вышло, что ведь права Соня! Не зря она обижается: горд человек стал трудом своим, а не случайным богатством! Последние слова Мокей проговорил торжественно и твердо. Проговорил и смолк. Были слышны лишь его шаги, приглушенные мягким слоем хвои. Спутники свернули с дороги в сторону, в лесную чащобу. Стали проходить неглубокий овражек. Мокей, придерживая разлапый, весь в пахучих колючках сучок ели, чтоб не хлестнул он шедшего позади Николая, снова заговорил: — Доведись бы такое дело до Бубна или до его братана. Да нет, тогда такого не могло и быть… не те люди были… Принимая из рук Мокея пахучую ветку и чувствуя, как колет руки хвоя и как прилипает ладонь к смолистому сучку, Николай спросил: — Ну, а с Соней-то как? — Ну, что ж! Соня продала дом, разделила деньги поровну между всеми и разослала их по законным адресам… — Ну и правильно! — как о само собой разумеющемся спокойно проговорил Василий. — А то разговоров больше было… Мокей словно не обратил на это внимания: — А все одно — покоя не было: пришли ото всех деньги обратно. Все опять будто сговорились — вернули деньги. Уговаривала меня Соня, отошли мол их снова им. Пометь мол, что выбыл адресат, то есть она, из города в неизвестном направлении… Отказал я Соне: у нее — совесть, а у меня, выходит, лапоть стертый! Не мог я кривить душой при своем деле… Отказал… Тогда она мне говорит: «Знаю мол и без тебя, что надо сделать. Куплю, говорит, я на эти деньги роялей там, пианино и подарю в детские садики, пускай ребята радуются». Ну, девка она с характером, как сказала, так ведь и сделала. Купила четыре инструмента и подарила их в детские садики. А себе-то хоть бы балалайку купила. Все совесть, все гордость! По правде говоря, я не одобрял ее. Думал, что зря все это. А дён через пять сижу это я в клубе и смотрю киножурнал. Ну, сперва там ничего особенного. Какие-то бега на лошадях показывали, потом знатного машиниста показали. Вдруг смотрю показывают, как один ученый на всю свою Сталинскую премию накупил разного оборудования в детские сады. Подарки, значит: пианино, патефоны, велосипедики, колясочки, гармошки и разные там вещи… Сижу я и чую, что лицо мое горит, как перед печкой. Вот-вот кожа лопнет от жары. Стыдно мне стало перед Соней. Не понял я ее души. Вот, думаю, ученый-то, может быть, десять институтов кончил да пять академий прошел, а она, Соня-то, простой токарь по седьмому разряду, ни тебе институтов, ни тебе академий. А поступки-то одинаковые… Сижу смотрю и думаю: с чего бы это такое? — В самом деле интересно, — отозвался Василий, понявший, что Мокей не пустой, выживший из ума старикашка, а интересный человек, тонкий наблюдатель жизни, знаток людей. — А как вы сами-то думаете, Мокей Степанович? — спросил Николай. Мокей остановился, задумался, а потом попрежнему не спеша, взвешивая каждое слово, ответил: — Я не знаю, как там по-вашему, по-книжному, а по-моему, это от самой жизни идет. Вот хожу я по домам и вижу, жизнь-то совсем-совсем другая стала. Ну и люди не те… Вот ребятишки, например, эти уже совсем нового закваса люди… Сегодня утром случай был. Бежит орава пострелят в школу, а бабка Софрониха два ведра воды на коромысле несет. И воды-то в них по полведра, а она все равно кряхтит на всю улицу. Ну, думаю, сейчас заденут бабку ненароком ребята, толкнут нечаянно, ведь беды не оберешься… А ребята осторожненько подбежали к ней, подхватили ведра и к самому ее дому их доставили. Она и рта не успела раскрыть. Стоит и моргает глазами. А один из ребятишек и говорит ей: — Если, бабушка, дрова пилить, колоть надо, скажи — придем. Мы — дружинники! И убежал. Подхожу я к Софронихе, спрашиваю: что мол стоишь? Любопытно стало мне — у меня-то сердце застучало, а что же, думаю, с ней происходит, она ведь в старом режиме все равно что в горячей смоле выварена. От древности она даже мохом стала порастать. Смотрю на нее, а глаза у нее так и играют. Это от радости, хоть выцвели и полиняли, а играют. — «Вот, говорит, пожарники дров пилить навяливаются». — Не пожарники, а дружинники, поправляю ее. А бабка только рукой махнула: «Да кто их, поштрелят, разберет!» А у самой слезы на глазах. И тут я понял, что тронули ребятишки ее, за сердце задели. Хоть и старое оно, а нашлась в нем чувствительная струна. Старуха-то всю жизнь, почитай, при старом режиме прожила и невдомек ей, что к человеку такое уважение может быть… Помолчав, Мокей спросил: — На зимник сворачивать не пора? — Где ближе, там и пойдем… — Ну, тогда снова за мной айдате! — скомандовал бодро Мокей, углубляясь в еще более плотный ельник. Он выбирался на зимник, на место, где проходила дорога зимой. Вслед за Мокеем, на шаг отстав, шел Николай, сбоку, выбирая свой путь, следовал Василий. Сейчас приходилось, согнувшись, проходить под колючими разлапыми ветвями, терпко пахнущими смолистой серой, раздвигать молодой кустарник, проталкиваться боком, пробивая путь. Василий не обращал внимания на эти препятствия. Он был погружен в свои думы. Он почувствовал свою вину перед Мокеем. Было стыдно за себя, за свое ошибочное мнение о старике. Как незаслуженно грубо оборвал он Мокея, любовавшегося огнями города. И Василию сейчас страшно хотелось, чтоб Мокей говорил и говорил без конца. А Мокей, как бы угадав его мысли, окликнул: — Василь, не отстал? Василий обрадованно отозвался: — Иду, иду! — Так вот, Василь, те ребятишки, что у Софронихи ведра отобрали да к дому доставили, на большое раздумье меня натолкнули. Как будто я книгу открыл хорошую, умную… А книга-то эта — жизнь. Хожу и читаю эту книгу, хожу и листаю странички жизни. Что ни день, то страничка, что ни день, то страничка. Золотая, скажу вам, ребята, книга! Хо-о-рошая наука. Смотрю на людей и думаю и радуюсь на них, и самому хочется быть таким же… Право слово! Мокей остановился, поджидая товарищей. Когда те подошли, он негромко, но значительно проговорил: — Теперь я вижу, что мы уже двери открыли в коммунизм. Высокое сознание приобретает народ. Люди настоящими людьми стали… И Мокей снова пошел вперед, пошел быстро, легко, весело. Казалось, что всю дорогу он готовился сказать что-то значительное и, наконец, высказал. И ему стало легче и веселее… Николай, следуя за ним по пятам, стараясь не отстать, думал, как можно, оказывается, иногда ошибиться в человеке, не поняв его. Василию же еще пуще становилось не по себе. Как бы в искупление вины своей, он сказал несколько даже театрально: — Совершенно правильные ваши слова, Мокей Степанович! — А как же! — тоном, отвергающим необходимость даже малейшей попытки подтверждения, откликнулся живо Мокей. — Вот если бы не такие, как я, то мы давненько в тех хоромах жили. А пока вот только на пороге стоим. — Ну, это вы напрасно на себя наговариваете, — возразил Николай. Мокей не соглашался: — Как же напрасно! Уж кто-кто, а я про себя все знаю… С осадком я. — Голос Мокея зазвучал сурово и жестоко. — Какая же я вам пара, когда у меня осадок. Вроде ила проклятого от старого времени… — Про какой вы осадок толкуете, Мокей Степанович? — с явным недоумением проговорил Василий. — С осадком, — упорствовал Мокей. — А надо, — и голос Мокея потеплел, словно он заговорил с внучатами, посадив их к себе на колени, — надо, чтоб душа была как хрусталик в глазу. Чиста и светла… Как слезинка. А у меня на душе бельмо еще от старого режима. Соня от законных денег и вполне, так сказать, резонно отказалась. А у меня через это душа-то чуть наизнанку не вывернулась… Вот и получается, что с пятном с родимым она у меня… Мокей замолчал, тяжело дыша. Через минуту он уверенным и повеселевшим голосом произнес: — А все же, ребята, я надежды не теряю. Не успею я еще помереть — и вместе с вами войду в те хоромы. Пятнышко-то на душе совсем махоньким становится, глядь, и совсем выведется. Сама матушка-жизнь пятнышки эти выводит… — и, как бы застеснявшись того, что слишком уж разоткровенничался, спросил вдруг: — Василь, ты дождя боялся, а кажись, не будет, а? — Хороший будет день! — думая о чем-то своем, взволнованным голосом ответил Василий. — Значит богато будет на зорьке-то!.. — с еще большей уверенностью повторил Мокей фразу, сказанную им еще при выходе из дому… — А ты, Василь, на меня не серчай, что письмо-то поздно принес. Затерялось оно днем-то в суме на самом донышке. Вечером уж дома обнаружил. За поздним часом думал и не носить, однако не стерпел, принес. Извини уж за опоздание… — Нет, уж лучше ты меня извини: не то я про тебя думал, — признался Василий. — Ну, коли так, стало быть — взаимно! — повеселел Мокей. На зорьку они пришли в самый раз. Где-то совсем рядом с ними начинали свою песню глухари…г. Златоуст
Л. Куликов СТИХИ
МАШИНИСТ
То подъем, то уклон, то равнина —
Бесконечны стальные пути.
И повсюду родные картины,
И прекраснее их не найти.
Поминутно к стеклу припадая,
Машинист зорко смотрит во тьму.
Песня русская, песня простая
Помогает в дороге ему.
Зеленеет огонь светофора,
Путь свободен и прям, и далек.
Машинист, увеличивай скорость!
Кочегар, береги уголек!
Не проймешь его северным ветром,
Нипочем ни жара, ни мороз.
В каждом рейсе пятьсот километров
Пробегает его паровоз.
Ждет комбайнов колхозное поле,
К новой домне уходит руда.
Нет на свете прекраснее доли,
Чем водить по стране поезда!
Со своим зауральским задором
Загудел басовитый гудок.
Машинист, увеличивай скорость!
Кочегар, береги уголек!
Он запомнил, как бомба свистела,
Как ждала его смерть впереди.
Сколько лет, сколько зим пролетело,
Но не меркнет звезда на груди.
Но осталась законная гордость,
Что в беде он Отчизне помог.
Машинист, увеличивай скорость!
Кочегар, береги уголек!
Снова тучи под нами клубятся,
Снова гарью с востока несет.
Но составы попрежнему мчатся
По путям пятилетки вперед.
Все для мира, для счастья народа:
И станки, и бетон, и руда.
Завоеванной в битвах свободы
Не разрушить врагам никогда!
Пусть грозит нам заморская свора —
К светлой цели прибудем мы в срок.
Машинист, увеличивай скорость!
Кочегар, береги уголек!
23 ФЕВРАЛЯ
То не первый гром весенний —
Гром салюта над Москвой.
Вспоминаем день рожденья
Нашей славы боевой.
…По стране мели метели,
Холод за душу хватал.
Кованый сапог Вильгельма
Землю русскую топтал.
Старый мир в смертельной злобе
Руку к Питеру простер,
Чтоб залить рабочей кровью
Революции костер.
Но по ленинскому зову
Встали села, города.
И зажглась под небом Пскова
Красной Армии звезда…
Этих дней мы не забыли,
И в огне других боев
Сыновья не посрамили
Славы доблестных отцов.
Вновь гремела канонада
Ширью пашен и долин.
Грозный факел Сталинграда
Озарил путь на Берлин.
Звали красные знамена
На геройские дела.
Нас к победе неуклонно
Воля Сталина вела.
Кто забудет, вновь узнает:
Сталь советская тверда
И надежно охраняет
Землю мирного труда.
Н. Махновский ВЕСНА Стихотворение
Сегодня словно не было метели,
Белым-бело и всюду тишина.
Еще снегов не тронула весна,
Еще грачи сюда не долетели,
Еще ветры не высушили взгорки,
И листьев нет еще на тополях, —
Но беспокойный агроном на зорьке
Уже выходит осмотреть поля.
Для сева сроки он определяет
И смотрит вдаль… За дымкой голубой
Встает заря румяная, большая,
Заря весны и славы трудовой.
Л. Преображенская СТУДЕНТКА Стихотворение
В фортку утренний ветер ворвался,
Тронул прядкудевичьих волос.
Не впервой в этот час повстречаться
Со студенткой ему довелось.
Отложила чертеж осторожно.
Засмотрелась на март за окном.
И с улыбкой подумала: «Скоро
Получу долгожданный диплом…»
Как широк перед ней и свободен
Путь упорства, дерзаний, труда!
С каждым месяцем ярче, смелее
Оживает большая мечта.
Сколько зданий просторных и светлых,
Сколько детских садов малышам
Будет строиться в городе новом
Вот по этим ее чертежам.
Взгляд, волнением теплым согретый,
В. ту минуту случайно упал
На забытый, оставленный кем-то
На окошке, раскрытый журнал.
Тусклым взором с журнальной страницы
Смотрит девушка. Мэри иль Кэт?
Все равно. В сетке ранних морщинок —
Голодовок, усталости след.
Нет работы в стране капитала,
Не поможет там даже диплом.
Радость жизни раздавлена грубо,
И для девушки — ночь за окном.
Над журналом склонилась студентка.
Как хотелось бы ей от души,
Чтобы светлое слово надежды
К той, к другой долетело в тиши.
Чтоб зажгло оно взгляд потускневший
Страстным гневом, желаньем борьбы,
Чтоб далекая девушка стала
Полновластной хозяйкой судьбы.
Л. Бенедиктова ПИСЬМО УЧИТЕЛЮ (Рассказ)
В один из теплых августовских вечеров заведующая Шпаковским врачебным участком Татьяна Петровна Столбикова сидела у себя в квартире за столом и писала. В раскрытое окно доносились звонкие голоса ребятишек. Где-то вдали гудел трактор. Большой лист бумаги быстро заполнялся крупными, размашистыми строчками:«Дорогой учитель! Прошел уже месяц с того дня, как, простившись с институтом, я поехала на место своей работы. Признаюсь, мне было грустно в этот день. В лекционных залах и рабочих кабинетах было пустынно и непривычно тихо. Казалось, каждый стул, каждая колонна затаили в себе грусть. Очень тяжело было расстаться с друзьями, к которым привыкла в течение пяти лет, и как-то не верилось, что теперь долго не увидишь никого из своих учителей. Но вот уже месяц, как я на новом месте своего жительства, на месте своей первой работы и, должна Вам признаться, не скучаю. Каждый день так не похож на предыдущий, так заполнен интересной, увлекательной работой, что я едва успеваю разобраться в впечатлениях, которыми он богат. Раньше я плохо знала деревню. В моем воображении вставали тихие лужайки, телята в тени плетня. А оказалось все не так. То есть, конечно, лужайки и телята есть, но они отнюдь не являются решающим и исчерпывающим признаком деревенского пейзажа. Сегодня этот пейзаж дополняется столбами с проводами, электрическими лампами, громкоговорителями. Над лужайками висят волейбольные сетки, а телята обитают на ферме. Я все больше и больше не только привыкаю, но и начинаю все больше любить свой новый дом. Сельская больница на 20 коек мне тоже очень по душе. При некотором переоборудовании и переустройстве, которые я наметила и надеюсь обязательно осуществить, она будет выглядеть совсем по-столичному. Вы улыбаетесь, Михаил Иванович, но если Вы заедете ко мне через год, как обещали, то увидите, что я говорю правду. Свои первые шаги мне приходится проделывать самой, без всякой посторонней помощи. Разумеется, я имею в виду профессиональную медицинскую помощь. Что касается материальной и товарищеской, моральной помощи, то я имею их в избытке и беспокоюсь как бы только не остаться в долгу, суметь оправдать надежды людей. И вот именно то, что от меня ждут больших и достойных дел люди, которые сами творят большие, воистину героические дела, помогает мне решительно итти на штурм профессиональных трудностей. В таких случаях я мысленно обращаюсь к вам, и в памяти с удивительной быстротой и ясностью встают конкретные примеры практической работы, рассказанные или продемонстрированные Вами. Я вспоминаю, что я в большом долгу перед Родиной, воспитавшей и обучившей меня, и решение трудного вопроса приходит быстрее, яснее и определеннее».Татьяна Петровна положила ручку и задумалась. Сгущающиеся сумерки мягко окутывали комнату. За стеной заглушенно раздавались шаги и звон расставляемой посуды. Вдруг дверь в комнату с шумом раскрылась, и на пороге показалась девушка в белом халате. Она заговорила громким и прерывающимся от волнения и бега голосом: — Татьяна Петровна! Скорей! Скорей! Больная умирает!.. Не спросив, какая больная, где умирает, Татьяна Петровна побежала вслед за девушкой. Первое, что она увидела, когда через несколько минут вошла в перевязочную, было множество пар глаз, обращенных к ней. Сколько потом ни старалась вспомнить, она не могла представить ни фигур, ни лиц, присутствовавших в первую минуту в перевязочной. Она видела только глаза — множество глаз, которые смотрели на нее с ожиданием и надеждой. Когда первое ощущение рассеялось, она увидела больную. Женщина полулежала на стуле. Голова ее была запрокинута за спинку стула, руки безжизненно висели вдоль туловища. Шея и грудь судорожно двигались, а из посиневшего рта вырывались свистящие звуки. Татьяна Петровна взяла холодную руку больной и, прощупывая едва уловимый пульс, спросила: — Кто привез больную? Что с ней случилось? — Никто не знает толком, Татьяна Петровна. Говорят, что это случилось с ней прямо на уроке. Она учительница. Рассказывают, что последнее время учительница чувствовала иногда затруднение в дыхании, а тут ей стало плохо, и вот в таком состоянии ее привезли к нам. Непонятно, отчего наступило удушье. «Вероятно, какая-то опухоль гортани, — подумала Татьяна Петровна. — Но что же делать, положение больной не терпит долгих размышлений. Удушье нарастает. Пульс катастрофически падает». Обращаясь к старшей сестре, врач громко спросила: — Есть у нас трахеотомическая канюля? — Есть. — Хорошо. Положите ее в спирт! Кладите больную на стол! Положите валик под плечи! Дайте спирт на руки! Сестра суетилась, раскладывая хирургический инструментарий. Санитарки поспешно укладывали больную на операционный стол. Татьяна Петровна была удивительно спокойна. В данную минуту она не думала о том, что никогда раньше самостоятельно не делала такой операции, что, быть может, не сумеет провести сложную, знакомую только по книгам операцию. И, конечно, куда проще было переадресовать больную в районную больницу, где есть опытные хирурги и все необходимые условия для успешного лечения. Формально врач была права, но человек, любимая в селе учительница, могла бы погибнуть в пути. Разве может себе позволить это советский врач! Разве этому учили ее в школе, в институте! И если сейчас от мобилизации всех своих духовных сил зависит спасение жизни человека, то это надо сделать. Все мысли Татьяны Петровны были устремлены на то, чтобы правильно провести операцию и спасти больную. Она смазала спиртом находящуюся в судорожном движении шею и взяла скальпель. «Нужно делать разрез по средней линии шеи. Но как мешает это бесконечное движение!.. Произвожу разрез… Нужно развести мышцы. Развожу… Вот и хрящ! Но где же перешеек щитовидной железы? Осторожнее! Осторожнее! Его нельзя ранить. Кровотечение из него ничем не остановить! Это будет смерть! Как будто это он. Оттягиваю его вниз. Захватить трахею крючком… Так. Разрезаю кольцо». Громкий шипящий звук вырвался из разрезанной трахеи. Татьяна Петровна быстрым движением вставила в разрез блестящую трахеотомическую трубку и посмотрела на больную. За минуту до того синяя кожа больной быстро меняла окраску, сначала стала бледной, а еще через мгновенье вспыхнула ярким румянцем. Женщина открыла глаза. Все спокойствие, с которым минуту назад Татьяна Петровна стояла над умирающей, внезапно покинуло ее. Ей вдруг стало страшно за себя, за те роковые ошибки, которые она могла бы совершить. Холодный пот выступил у нее на лбу, и она, обессиленная, опустилась на табуретку. «Неужели я сделала эту операцию? — недоуменно думала Татьяна Петровна, глядя то на спокойно лежащую больную, то на свои руки, которые она все еще держала перед собой, боясь запачкать. — Неужели я спасла человека?» Через минуту, преодолев слабость, Татьяна Петровна встала и обработала рану на шее больной. Когда, привязав канюлю бинтом, она уже собиралась отойти от операционного стола, горячая рука больной схватила ее руку и крепко прижала к груди. Женщина не могла говорить, но в глазах, полных слез, было столько беспредельной благодарности и счастья! Могучая волна любви охватила вдруг Татьяну Петровну — великой любви к этой незнакомой женщине, только что отвоеванной ею у смерти. Она быстро нагнулась и поцеловала больную.
* * *
Ночь. Чуть шелестит ветер листками цветов на подоконнике. Кружатся мотыльки вокруг электрической лампочки. Татьяна Петровна пишет:«Сегодня я приняла свое первое боевое крещение — произвела трахеотомию. И сейчас я еще раз хочу поблагодарить Вас, дорогой Михаил Иванович! Поблагодарить за эту женщину, в спасении которой участвовали вы. Да, вы! Ибо вы и другие профессора и преподаватели, вся наша советская школа научили меня выдержке и хладнокровию в трудных условиях, научили любви к человеку, к советскому гражданину, строителю коммунизма. Великое вам спасибо!»Предутренний холодок врывается в раскрытое окно и освежает лицо. Рождается новый светлый день с большой заботой и большим счастьем.
И. Иванов У РЫБАКОВ Стихотворение
В это жаркое лето дороги
Привели меня в Светлую Заводь,
Где мальчишкою босоногим
Я учился нырять и плавать,
Где меня крылья волн качали,
Где меня малышом приучали
Сквозь туман уплывать на рассвете
Поднимать рыболовные сети.
И сюда, где, озябший и мокрый,
Я развешивал их под навесом,
Подхожу в августовское вёдро
Желтоствольным сосновым лесом.
Вот и берег.
За мшистой скалою,
У подножья волнами точеной,
Так привычно пахнуло смолою,
Свежей рыбой да рыбой копченой.
Жарко. Окна в домах раскрыты…
Обновляется, вижу, поселок:
Проводами поет деловито,
Смотрит весело новой школой.
Я здороваюсь с рыбаками,
Узнают, приглашают в гости
На беседу за стол с пирогами…
Под раскидистой липой домишко,
Тот, который я не миную:
Здесь когда-то жил друг мой Гришка…
У ворот остроглазый мальчишка.
Дай-ка в эти глаза загляну я.
Взял за плечи.
— Как звать тебя?
— Вася.
— Вася? Вот мы с тобой и знакомы.
Ты не скажешь, где дед Афанасий?
Дома он или нет его дома? —
Вася хмурится,
Смотрит волчонком
И, решив очень важное что-то,
Загорелой проворной ручонкой
Молча мне открывает ворота.
— Не открыть?
— Ничего. Открою.
Вот он, дедушка…
Он, не иначе.
Так же мнет загрубелой рукою
Бороды своей клок табачный.
* * *
— Александровна!
Вот не слышит!
Знать, на озеро вышла, стирает…
Как надумал?
Аль отпуск вышел?
Стосковался по нашему краю?
Александровна только вздыхала,
Огурцов на закуску достала,
Угощала ухою доброй:
Окунь к окуню был подобран.
О делах рыболовных поведав,
Дед легонько бороду крутит:
Интересно послушать деду
Про учебу, про жизнь в институте.
Улыбается мне глазами,
Соглашается осторожно:
— Значит, трудная штука — экзамен…
Ну, а все-таки справиться можно?
Ты послушай,
Имел я мыслишку,
Думал часто, копаясь у снасти:
Поскорее бы вырастить Гришку
Да пустить по ученой части.
— Эх, сыночек!..
Жаль, не дождался,
Не вернулся с войны.
Не дожил…
И, задумавшись, встал, собрался
Дед на озеро ставить мережи.
* * *
День сегодня на редкость погожий.
На реке — я и дед Афанасий.
Я развешиваю мережи,
Дед на невод готовит кибаси.
— Наш колхоз-то ведь нынче вышел
По улову на первое место,
И по этому случаю, слышишь,
Приезжал к нам начальник треста.
Осмотрел он, готова ли школа
И проверил — хозяйственный парень, —
Как дела обстоят по засолу,
Есть аль нет недостаток в таре,
Лед содержится ли в подвале?
Как копченость? Улучшить нельзя ли?
Мол, задача, чтоб первого сорта
Рыбы больше стране мы давали.
А на озеро глянул: раздолье!
И завел разговор он о главном:
— Взять хоть рипус да сиг, а давно ли
Эта рыба у нас? Недавно.
Кто же дал нам ее?
Да сами.
Мы добились своими руками…
Если рыб изменить породу,
В руки взять, как сказал он, природу, —
Значит крепко улучшим жизнь мы,
Станем ближе мы к коммунизму.
* * *
Солнце в воду глядит сонливо.
Чайка крыльями машет лениво.
Лишь кричат крохали[6], да слышим
Голоса рыбаков у залива.
— Чуешь, мечется?..
— Ходит, что надо!..
— Веселее!..
— Подводим ближе!..
— Попроворней!..
Воды прохлада
Загорелые руки лижет.
Здесь, где Камень Рыбачий рогом
Встал над озером,
Невод тянут.
Солнце — с полудня.
Слышно:
— Серега!
Не пора ли держаться к стану? —
У Сережки в глазах досада.
Чуб свой мокрый отбросил рукою.
— Тонь[7] еще до обеда надо,
Понимаете, дело какое;
Ведь смеются уже над нами, —
Посмотрел на ребят сурово. —
Целый год мы держали знамя.
А сейчас оно у Шумкова!
— Верно!
— Что толковать!
— Забросим!
— Знамя будет у нас в бригаде. —
Так решили ребята у весел
Ради дела — не славы ради.
А напротив, у острова-сада,
Тянет невод вторая бригада.
У Шумкова, веселого парня,
Плутоватая прищурь взгляда.
— Посмотрите, — на Камень Рыбачий
Показал он рукою, — значит,
Снова нынче ребята решили
Доказать нам, друзья.
— Не иначе!
— Вот дела! —
Подмигнул плутовато,
Глаз на солнце прищурил. —
Ребята!
К камышам бы еще закинуть:
На обед-то еще рановато.
— Кто на весла?
— Забрасывай!
— Живо…
Солнце в воду глядит сонливо,
Лишь кричат крохали, да слышны
Голоса рыбаков у залива.
* * *
Подружился я с рыбаками,
Уплывал за Рыбачий Камень.
Восемь дней провел на баркасе
С молодыми неводщиками.
Звоном полнили слух отголоски.
Обжигали горячие полдни.
Все грубей от прогонов[8] жестких
Становились мои ладони.
С грустью вспомнил: пора настала
Отправляться, мне в путь-дорогу.
Вот и чаек крикливая стая
Поднимает уже тревогу.
Подплывал я к поселку. Качала
Зыбь. Вода за кормой журчала.
Неохотно моя лодчонка
Ткнулась носом к доске причала.
Вышел на берег, в тень к раките.
В тонком мареве Светлая Заводь.
На песке детвора.
— Научите, —
Просит малый, —
Нырять и плавать. —
Я гляжу удивляюсь: Вася!
Это он, остроглазый мальчонка.
— Хорошо! Я, пожалуй, согласен… —
С плеч летит на песок рубашонка.
На плечах загорелая кожа.
В воду бросились.
Смех и шутки.
Из глухих камышей, встревожась,
Полетели, закрякали утки.
Рад я детским веселым забавам,
Голосам, что звенят безумолку.
— А на море вы плавали?
— Плавал.
— А не страшно там плавать?
— Нисколько.
— Вдруг акула?
Вот Петька спорит,
Что проглотит зараз без остатка!.. —
Рассказал я мальчишкам о море,
Про акул, про китов, о касатках.
А потом встрепенулись ребята,
Рыбаков мы встречать побежали.
Из баркасов улов богатый
По колено в воде выгружали.
Возвращаясь домой в поселок
Беззаботной гурьбой веселой,
Незаметно остановились
Перед окнами новой школы.
Скоро в школу!
И в это мгновенье
Детских глаз уловил я горенье,
Понял сердцем и решил в институте
Попросить сюда назначенье.
* * *
Рыбаки поднимаются рано.
Еще свежий утренний ветер
Не успел пронести тумана
Невесомые белые сети,
Над поселком затеплились трубы.
Пробежал от окна к окошку
Паренек. По упрямому чубу
Узнаю бригадира Сережку.
Узнаю рыбака по замашке —
Грудь под ветром держать нараспашку
Что-то крикнул, махнул кому-то
Полинявшей под солнцем фуражкой.
Узнаю, повстречавшись, Шумкова
По веселому, цепкому взгляду.
За богатым, за новым уловом
Поведут бригадиры бригады.
Рыбаки невода собирают,
На ветру паруса поднимают.
Впереди пенит воду моторка…
Далеко рыбаки уплывают.
Вот и солнце взошло над лесами.
Я, как в детстве, стою, маячу,
Рыбаков провожая глазами,
От души им желаю удачи.
Афанасия взглядом встречаю.
— Будь здоров, — улыбаюсь деду.
— Не скучаешь?
— Да нет, не скучаю.
— А уедешь?
— Да нет, не уеду.
Говоришь, что отвык я от снасти?
Верно, тут ничего не попишешь,
Так зато по ученой части —
Буду наших учить ребятишек…
Мы стоим на родном причале,
Новый ведреный день встречаем
Под хорошим, бодрящим ветром
Да под криками вьющихся чаек.
РАССКАЗЫ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ
МЕТАЛЛ МИРА Рассказ сталевара Магнитогорского металлургического комбината имени И. В. Сталина, лауреата Сталинской премии В. Захарова[9]
1. Цех новаторов
Каждый рабочий гордится своим цехом. Гордятся своим коллективом и сталеплавильщики первого мартеновского цеха Магнитогорского металлургического комбината. Да и как нам не гордиться своим цехом? Именно здесь берет начало мощный поток магнитогорской стали. Сталевары этого цеха явились авторами многих славных страниц в истории сталеплавильного дела, они высоко подняли знамя стахановского движения. С огромным успехом здесь проводились стахановские декады, стахановские вахты. Имена знатных сталеваров Алексея Грязнова, Корчагина, Зинурова, Боброва известны металлургам нашей страны. Сталевар Алексей Грязнов первым установил замечательный рекорд сталеварения, сварив скоростную плавку почти в два раза быстрее установленного срока. В нашей стране не было раньше таких мощных мартенов, не было такой замечательной техники и, следовательно, не было и таких высококвалифицированных мастеров сталеварения. В нашем цехе осваивалась новая техника. Здесь, в нашем цехе, получали настоящее боевое крещение, совершенствовали и накапливали опыт сталеварения и опыт руководства производственным процессом сталевары, мастера, командиры производства. Все знатные теперь мартеновцы Магнитогорского комбината, начиная от главного сталеплавильщика тов. Гарченко до сталевара тов. Боброва, прошли школу именно в нашем мартеновском цехе № 1. Здесь стажировались мастера Грибов, Лупинов, Любицкий. С нашего цеха, как правило, начиналось внедрение различных технических усовершенствований и новшеств, новой технологии производства. Так, например, автоматизация управления процессом сталеварения впервые стала применяться в нашем цехе, на печи № 3, на которой я сейчас работаю. Мы с гордостью сознаем, что у нас в цехе рождались самые передовые идеи, самые смелые мысли, совершенствовалось мартеновское дело. В нашем цехе возникло такое начинание, как применение пооперационного графика. Об этом мне хочется рассказать подробнее. До введения графика мы работали вразнобой, как говорят, кто во что горазд. Нередко было так: плавка готова, а изложницы же не были подготовлены. Или: пора заливать чугун, а доменный цех чугуна не выдал. Частое совпадение выпуска плавок на нескольких печах, одновременная завалка шихты — все это лихорадило работу цеха, вносило неорганизованность. Сколько скоростных плавок из-за этого срывалось, сколько металла не додавалось Родине! Дальше мириться с таким положением было нельзя. Стахановская практика и высокая техника создали предпосылки для рождения единого графика. Работа шихтового двора, миксера, цеха подготовки составов и других участков должны быть подчинены процессу сталеварения. На основании глубокого изучения опыта сталеваров-скоростников и рабочих стахановцев других металлургических специальностей в мае 1949 года был разработан график, предусматривающий порядок выполнения отдельных операций каждой плавки. График был составлен с учетом реальных производственных возможностей, материально-технического снабжения печей. Сталевары, особенно молодежь, радостно ухватились за эту идею, почуяв в ней новые резервы повышения производительности труда. В цехе только и разговору было, что о графике. И вот, наконец, он был введен. Первыми сварили плавки по графику Мухамед Зинуров, Иван Семенов и я. Вслед за нами «обновили» график сталевары Андриевский, Козыров и многие другие. Сменные инструкторы помогали сталеварам осваивать новый производственный ритм, следили за безупречным выполнением инструкций. Плавки были «разведены». Это дало возможность координировать труд подручных. Так как заправка печей производилась не одновременно, то для быстрого проведения этой операции подручные всего цеха сообща производили завалку на каждой печи. Кроме выигрыша времени здесь большой выигрыш и в расходовании сил. Работая сообща, большим коллективом, подручные затрачивали меньше сил и быстрее добивались успеха. В связи с введением графика возник вопрос: как быть со скоростными плавками, не будут ли они нарушать общего ритма работы цеха? Но стахановская практика показала нелепость этих опасений. Ведь организация производственного процесса по графику предусматривает строгую последовательность всех операций на каждой мартеновской печи и, следовательно, сокращает и продолжительность плавок, увеличивает съем стали с квадратного метра пода печи. Плавки стали вариться быстрее. Возросло количество скоростных плавок. Каждая пятая плавка — теперь скоростная. Но это, конечно, не предел. Мы стремимся к тому, чтобы скоростными были все без исключения плавки. Сейчас регламентированный режим введен в практику всех сталеплавильных цехов комбината. Он открывает широкий простор инициативе стахановцев, а соревнование делает более конкретным. Мы получили возможность экономить время, рабочую силу, материалы на каждой операции. Борьба за выполнение графика вызвала в жизни новые формы социалистического соревнования. График явился результатом технического и политического роста рабочих и инженерно-технических работников первого мартеновского цеха, в недрах которого он возник и был впервые претворен в жизнь. Большая роль в этом принадлежит цеховой партийной организации. Коммунисты нашего цеха во главе с секретарем партийного бюро тов. Батиевым рассматривали график как кровное свое дело и последовательно боролись за его внедрение не только в первом, но и в других цехах Магнитогорского металлургического комбината. Внедрение графика на металлургическом предприятии равноценно крупному выигранному сражению. Многие сотни тонн металла получила наша отчизна благодаря строгой соподчиненности отдельных участков, образующих единый металлургический цикл.II. Третья печь
За последние годы в газетах часто пишут о третьей печи мартеновского цеха № 1 Магнитогорского металлургического комбината. Наша печь действительно прекрасна. Это самая большегрузная печь не только в цехе, но и во всем комбинате. На печи нас работает трое: Мухамед Зинуров, Иван Семенов и я. Самый опытный из нас, конечно, Мухамед Зинуров. Недаром его называют ветераном Магнитки! В 1931 году он приехал с первыми строителями на Магнитострой создавать мировой металлургический гигант. Он жил в «полотняном городе», как называли тогда брезентовые палатки, работал в знаменитой бригаде бетонщика Хабибуллы Галлиулина. На его глазах задували первую домну, выпускали первую плавку из первой мартеновской печи. Задолго до конца войны Мухамед Зинуров был уже известным сталеваром. Его портреты не сходили со страниц газет. Мальчишкой, учась в ремесленном училище, я вырезывал их на память и мечтал стать похожим на прославленного металлурга. С Иваном Семеновым мы одногодки. Оба родились в 1926 году. И судьбы наши очень похожи одна на другую — школа, ремесленное училище, завод, точнее — мартеновский цех № 1. Вот и все, пожалуй. Впрочем, если подробно рассказать о годах работы в цехе, получится целая книга. Эта книга еще не написана, но вот несколько страничек из нее. …Я учился в ремесленном училище в группе сталеваров, много раз бывал в цехе и все же, когда после окончания училища меня поставили к печи, растерялся: уж слишком огромное хозяйство — мартеновская печь! В цех мы пришли мальчишками. Машинист завалочной машины Иван Григорьевич Крячко, главный сталеплавильщик завода Василий Тарасович Гарченко и многие другие нередко напоминают мне сейчас, разумеется добродушно, о мальчишеских проказах совсем: еще недавних лет. То чехарду, бывало, затеем с одногодками в свободное время, то еще что-нибудь придумаем. Опытные мастера по-отечески к нам относились, старались вызвать живой интерес к производству. В каждом деле главное — живинку найти. Я свою живинку быстро нашел. Через несколько месяцев работы в цехе чувствовал себя уже металлургом и не потому, конечно, что был им, а потому, что решил непременно им стать. Папаша мой всю жизнь был колесником. Делал обычные деревянные колеса для телег и двуколок. О мартеновском производстве он и понятия не имел. Я работал уже вторым подручным у печи, зарабатывал хорошо. Приоделся. Синий диагоналевый костюм в премию получил за просушку летки. Домой посылал довольно значительные суммы. Но именно это и обеспокоило моего отца: — Откуда у мальчишки такие деньги? Надо проверить. Долго ли без присмотру свихнуться… Не предупредив меня телеграммой, приехал, чтобы врасплох застать. Вижу — отец ко мне как-то по особому присматривается, но виду не подаю, а потом предлагаю: — Хотите, папаша, завод посмотреть? Тот охотно согласился. Повел я его по всему металлургическому конвейеру, начиная с домны. Старику все это в новинку. Поминутно над головой стотонные ковши ухают, снуют краны, всюду движение, шум, незнакомые мощные механизмы… Жмется старик к стенкам, с непривычки, конечно, страшновато. Я его успокаиваю: — Раз вы со мной, папаша, то ничего не опасайтесь… Зашли в первый мартеновский цех. Тут уж я совсем как дома. Первый подручный, не кто-нибудь. Я подробно рассказал отцу о сталеплавильном производстве. Подошел к нам начальник цеха, поздоровался со мной за руку. Отцу это понравилось: значит парня уважают, несмотря на то, что в годы еще не вошел. Короче говоря, таким уважением проникся отец к профессии металлурга, что меня, своего родного сына, по имени отчеству даже стал называть. И в самом деле, прекрасная профессия — сталевар. Чем больше я работаю на печи, тем больше люблю свою горячую, смелую и красивую работу. Что может сравниться с чувством, которое испытываешь, когда могучий поток искрометного металла устремляется сквозь летку в ковш. Стоишь и не веришь, неужели это ты смог сделать, выплавить эту лавину стали, которая завтра же будет превращена трудом прокатчиков, машиностроителей, металлистов в рельсы, в фермы мостов, в машины, в каркасы высотных зданий. Много плавок я выдал за пять лет работы в цехе, и каждая плавка особенная, отличная от другой. Именно поэтому труд сталевара — творческий. Тот, для кого все плавки одинаковые, никогда не станет настоящим металлургом. К мастерству сталеварения я, как и тысячи сталеваров новой школы, шел опираясь не только на личную практику, а используя опыт передовиков и те знания, которые мне дало училище, а затем и школа мастеров социалистического труда. В методах и приемах моей работы нет ничего необычного, исключая разве то, что во время слива чугуна я не прикрываю газ, как это делают многие сталевары, а даю максимум тепла, прогреваю ванну. Ведь слив чугуна аналогичен процессу завалки. Насыщение ванны теплом в самом начале плавления является залогом получения скоростной плавки. Заправку печи стараюсь проводить быстро, чтобы как можно полнее сохранить тепло печи, пода, стен. Предпочитаю напряженный ритм работы, когда счет идет буквально на минуты. Экономить время — значит больше дать сверхпланового металла! Правильное проведение всех этапов плавки дает уверенность в успехе. Сталевары стали подлинными хозяевами процессов, происходящих в печи. Это значит, что они могут выдавать плавку в строго заданное время. Будь это не так, не смогли бы мы внедрить пооперационный график. Подлинным мастером скоростных плавок стал за три года самостоятельной работы мой сменщик и товарищ по работе Иван Семенов. Про Семенова можно сказать, что он врожденный металлург. Неторопливый, неизменно спокойный, он ведет печь с уверенностью и мастерством истинного ветерана металлургии. Его имя, методы его работы известны металлургам всего Советского Союза. Решением Министерства черной металлургии и Президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности по итогам соревнования в IV квартале 1950 года Ивану Семенову присвоено почетное звание «Лучшего сталевара страны». Сталевар-скоростник Иван Семенов выполнил квартальное задание на 110 процентов и достиг съема стали с квадратного метра пода печи 9,36 тонны при плане 8,42 тонны. Но не только мы, сталевары, решаем успех работы печи.: Прекрасно работают наши подручные Мельников, Баландин и другие. Все они — молодые ребята, так же, как и мы с Семеновым, выпускники Магнитогорского ремесленного училища. Мой первый подручный Ваня Дмитриев зарекомендовал себя, как одаренный и растущий металлург. С такими учениками, как он, Мельников, Баландин, на одном месте не засидишься. Как говорится, они на пятки наступают. Впрочем и мы не из таких, чтобы довольствоваться достигнутым. Мухамед Зинуров, который для меня не просто товарищ по работе, но и старший товарищ, с мнением которого я особенно считаюсь, любит говорить: «Настоящий сталевар считает не выданные плавки, а те, которые ему еще предстоит в жизни выдать». И это, конечно, правильно. Сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня, — вот основное стахановское правило.III. Миллионы рублей экономии
Экономия, бережливость — дело не новое. Советские люди давно стали рачительными хозяевами своей страны. Новое в движении, инициатором которого явился коллектив нашей печи, заключается в том, что экономия идет не только за счет бережливого расходования сырья (хотя и это очень важно), а прежде всего за счет творческого вторжения в технологию производства, за счет скоростного сталеварения. Но не буду забегать вперед, а расскажу все по порядку с момента зарождения этой инициативы. На одном из сменно-встречных собраний шла речь о новаторском почине москвичей. Агитатор рассказал, как по инициативе Лидии Корабельниковой и Федора Кузнецова развернулось социалистическое соревнование за комплексную экономию сырья И материалов, за сокращение припусков и допусков, за всемерное уменьшение топлива и энергии. Кто-то спросил: — А как же металлурги отвечают на этот почин? Ответ агитатора меня лично не удовлетворил. Научившись понимать технологию производства и вникать в существо процесса, я знал, какие неисчерпаемые возможности таятся и в технике и, прежде всего, в работе самих сталеваров. Например, недорасходование положенного количества смолы на тонну стали влечет значительный перерасход дорогостоящего газа. Да разве только это!.. На следующий день я пришел в цех задолго до начала смены, чтобы посоветоваться с Семеновым (Зинуров в это время находился в отпуске, и мы со дня на день ждали его возвращения). Внимательно выслушав меня, Семенов взволнованно сказал: — Представь себе, Володя, я как раз над этим же думаю. Пора за экономию браться по-настоящему, по-хозяйски!.. С карандашом в руках мы стали считать наши возможности — получилось, что большую прибыль мы сможем дать Родине. При рациональном режиме плавки, при строжайшей экономии материалов, топлива мы сможем сберечь для государства десятки тысяч рублей. На следующий день этот вопрос был обсужден сталеплавильщиками всех смен печи. Предварительные подсчеты показали, что если разумно расходовать материалы, то на сэкономленном сырье каждый сталевар может дополнительно сварить в месяц не меньше трех-четырех плавок, а в течение года это даст возможность выдать сверх плана не менее 12 тысяч тонн стали, сэкономив государству сотни тысяч рублей. Тщательно проанализировав имеющийся богатый опыт скоростного сталеварения, накопленный в мартеновском цехе № 1, мы решили, что борьба за экономию должна сочетаться со строжайшим выполнением регламентированного графика. Совсем недавно сталевары, применяя скоростные методы сталеварения, не обращали внимания на количество израсходованных материалов: лишь бы скорее сварить плавку, добиться более высокого съема металла с каждого квадратного метра площади пода печи. Мы же поставили вопрос не только о строжайшей экономии времени, но и об экономии материалов. Но для того чтобы экономить, нужно знать, как идет расходование материалов. Однако этого мы знать не могли, так как учет был поставлен обезличенно в общем и целом по всем печам цеха. Мы решили пойти в партийное бюро цеха поделиться своими думами и посоветоваться. Секретарь партийного бюро Павел Иванович Батиев горячо поддержал нашу инициативу начать соревнование за улучшение экономических показателей. Пригласили бухгалтера, экономистов, а затем пошли к начальнику цеха. Внимательно, цифра за цифрой, подсчитали мы все возможности, все каналы экономии и получили в результате внушительную цифру — миллион рублей… Одна только наша третья печь может дать государству миллион рублей годовой экономии! Мы были глубоко взволнованы этим. Особенно когда инженер тов. Октябрев перевел эту отвлеченную цифру на язык конкретных представлений. Оказалось, что миллион рублей — это десятки тракторов, большое количество машин, километры новых железнодорожных путей, 50-квартирный дом. Последнее представлялось особенно зримо. Большой красивый дом, в котором удобно разместятся 50 советских семей, может построить государство на сэкономленные нами средства. Нас охватило нетерпение: хотелось скорее, немедленно начать поход за экономию, за снижение себестоимости металла. В тот же день к нам в цех пришли директор комбината тов. Носов, парторг ЦК ВКП(б) на заводе тов. Светлов, председатель ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности тов. Ефанов. Долго и внимательно обсуждали они вместе с нами, тов. Батиевым, начальником и инженерами цеха все вопросы, связанные с нашим начинанием. А вопросов возникло множество. Например, как известно, металлургические цехи комбината уже давно находятся на хозрасчете, но каждый агрегат в отдельности на хозрасчет не был переведен. Мы потребовали от слов перейти к делу. — Сегодня, — заявили мы, — выплавлено столько-то тонн стали, скажите, сколько при этом израсходовано чугуна, раскислителей, газа, электроэнергии, воды. Скажите, во что обошлась сваренная нами сегодня тонна стали? Требование было вполне законным, но конторский аппарат цеха не был готов к такому оперативному подсчету. Это дело, оказывается, выходило за пределы цеха. Потребовались данные стоимости сырья, полученного цехом, а такие данные обычно давались лишь через 15 дней после истечения месяца. Значит нужно перестроить всю систему учета в масштабах всего комбината. Отдельные работники считали, что вопросами экономии должны заниматься только экономисты, плановики, бухгалтеры. Нужно было доказать этим недальновидным работникам, что вопросами экономики занимается в нашей стране весь народ — бережливый хозяин своего социалистического хозяйства. Мы потребовали пересмотра условий соревнования смежников. Ведь дело доходило до курьезов. Мы собирались экономить на всем, даже на расходовании воды, а цех водоснабжения премировал своих работников за большое количество отпущенной воды. 9 апреля в местных газетах было опубликовано наше письмо, в котором Зинуров, Семенов и я дали обязательство за счет строжайшей экономии в расходовании шихты, топлива, огнеупоров, электроэнергии, легирующих добавок и других материалов сэкономить в 1950 году один миллион рублей, а также выплавить сверх годового плана 12 тысяч тонн стали за счет лучшего использования агрегатов, в том числе одну тысячу тонн за счет сэкономленного сырья и топлива. Мы обратились ко всем рабочим, инженерам, техникам и служащим комбината с призывом широко развернуть соревнование за экономию и бережливость, за дальнейшее снижение себестоимости выпускаемой продукции, за изучение каждым рабочим экономики производства на своем участке, агрегате. Первыми откликнулись на этот призыв и выступили со встречными обязательствами сэкономить 800 тысяч рублей сталевары мартеновской печи № 2 нашего цеха тт. Крючков, Козыров и Тупикин. 700 тысяч рублей экономии обязался дать за год коллектив пятой печи во главе со сталеварами тт. Лапаевым, Кокосовым и Шамсутдиновым. Каждый день из газет «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» мы узнавали о новых и новых последователях движения за экономию сырья, топлива, материалов. Сталевары второго и третьего мартеновских цехов, доменщики, горняки, коксовики, вступая в соревнование, брали на себя конкретные обязательства. К миллиону, который мы обязались сберечь, добавлялись все новые и новые миллионы. Одни только сталеплавильщики Магнитогорского комбината обещали сэкономить до конца года свыше 10 миллионов рублей. Из Златоуста, Челябинска и других городов Урала приходили письма и телеграммы о включении целых коллективов в соревнование за экономию. Сталевар Златоустовского металлургического завода имени И. В. Сталина, депутат Верховного Совета СССР, В. Амосов от имени своей бригады заявил о желании вступить с нами в социалистическое соревнование. Соревнование за экономию охватило всю страну. Молодые сталевары «Запорожстали», узнав о почине коллектива нашей печи, написали письмо, в котором сообщили, что хотят соревноваться с нами. Разумеется, мы охотно приняли предложение товарищей и письменно подтвердили желание с ними соревноваться. Это тем более было отрадно, что многих из них мы знали лично — по совместной работе в Магнитогорске в годы Великой Отечественной войны. Сталевар «Запорожстали» Дмитрий Парахин несколько лет работал в нашем цехе. Я работал у него первым подручным, под его квалифицированным руководством осваивал мастерство скоростного сталеварения. И вот мой учитель вызывает меня на соревнование. Мог ли я отказаться от такой чести? Сами того не ожидая, мы оказались в самом центре широко развернувшегося движения. Это ко многому обязывало, повышало чувство ответственности. Каждый из нас понимал, что раз такое большое дело затеяли, то и спрос с нас теперь большой. То, что раньше и в тени могло остаться, — теперь у всех на виду, как на ладони. Известно, что одним из основных источников экономии для сталевара является скоростная плавка. Чем быстрее сваришь плавку, тем меньше затратишь средств на тонну стали. Если и раньше коллектив нашей печи широко пользовался скоростными методами сталеварения, то теперь и подавно каждый из нас старался на каждой операции экономить по 10—15 минут, сокращая пребывание плавки в печи до 12—13 часов. В наш плавильный журнал мы почти ежедневно записывали данные о скоростных плавках. Увеличение съема стали с квадратного метра пода печи — также значительный резерв в борьбе за экономию. Экономя минуты, сокращая время плавки, мы стараемся повышать съем стали. В работе мы стремимся поддерживать такой режим, при котором плавка во все ее периоды протекает ускоренно. Заправку мы обычно производим за полтора часа до выпуска плавки, когда температура в печи бывает предельно высокой. Уже первый месяц работы по-новому дал неплохие результаты. В счет своего миллиона мы за 20 дней апреля сэкономили; материалов на сумму 100 696 руб. За это же время мы повысили съем стали с каждого квадратного метра пода печи почти на 3 тонны против нормы, 37 000 руб. мы сэкономили благодаря бережливому расходованию раскислителей и добавочных материалов. Воспитывая в себе чувство бережливости, учитывая каждую мелочь, мы приучили себя замечать то, мимо чего раньше проходили, не заметив. Вспоминается такой факт. Идет по цеху подручный с соседней печи. Под ногами у него кусок скрапа, споткнулся, отшвырнул ногой и идет дальше. Я останавливаю его. — Ты что же это: деньги под ногами валяются, а ты проходишь мимо!.. — Какие такие деньги? — недоуменно спрашивает парень! — А это что, по-твоему?.. — в свою очередь спрашиваю я, подняв с полу кусок железа… По-хозяйски ценить,беречь каждый комок магнезита, каждую калорию тепла, каждый килограмм металлолома — железного скрапа, — вот к чему приучали мы и себя и своих товарищей по цеху. На каждой мартеновской печи был заведен ежедневный учет сэкономленного сырья, материалов, что давало возможность анализировать работу каждого сталевара, следить за выполнением взятых им обязательств. Большую помощь оказали и организованные партбюро лекции на экономические темы. Начальник цеха тов. Трифонов, работник отдела организации труда тов. Шитов, наиболее квалифицированные инженеры читали лекции, проводили беседы по вопросам высокоэкономичной работы, рентабельности и себестоимости. Прочно вошло в обиход новое слово — экономучеба. Так же как и слово техучеба, оно обозначало целую область знаний, которые насущно необходимы в борьбе за высокоэкономическую и высокопроизводительную работу, в борьбе за построение коммунизма. Неверно было бы думать, что выполнение взятых обязательств шло у нас гладко, без сучка и задоринки. Достаточно перелистать протоколы заседаний партбюро и партсобраний, чтобы убедиться в обратном. Были у нас и трудности, и срывы, и организационные неполадки. Но мы были не одни. Нас учила, наставляла, вела вперед наша партийная организация нелегкой, но единственно правильной дорогой преодоления трудностей, борьбы против косности за новое, передовое. И новое, прогрессивное брало верх, побеждало. Одно время печь работала неровно, лихорадочно. Бывало, что, приняв печь не в начале плавки, а на ходу, я никакими усилиями не мог вывести плавку в разряд скоростных. Объяснялось это тем, что один мастер, работавший в предыдущей смене, не хотел помогать молодому движению, тормозил работу нашей печи, не обеспечивал даже своевременную доставку материалов. Коммунисты цеха подвергли этого мастера справедливой резкой и принципиальной критике. Товарищ понял свою ошибку и сейчас активно помогает нам. Спасибо и нашему цеховому «Крокодилу». Своими острыми вилами он крепко помогал и помогает изживать разного рода неполадки и недостатки. Борьба за бережливость, экономию, за полное использование мощности агрегатов помогла коллективу Магнитогорского металлургического комбината досрочно выполнить план 1950 г., значительно увеличить производство металла и сэкономить 14 миллионов рублей государственных средств. Мы намерены и в дальнейшем трудиться с нарастающими темпами, закрепить достигнутые успехи, распространять скоростное сталеварение, добиться еще большей экономии. Это я заявляю от имени коллектива нашей печи, от имени моих товарищей Зинурова и Семенова.IV. Коллективный опыт
Металлургический процесс — процесс непрерывный и требует дружного коллективного труда, требует большой производственной дружбы. Между Зинуровым, Семеновым и мной установилась такая хорошая дружба, честная и требовательная. Мы не стеснялись говорить друг другу правду в глаза, старались всем, чем можно, помочь товарищу. Но оставалась одна грань, переступить которую мы все же не могли. Ложная гордость или еще что-то мешали нам широко заимствовать друг у друга ценные приемы работы. Мне, например, казалось неудобным использовать, опыт Мухамеда Зинурова, не хотелось, чтобы он подумал: — Своих приемов не успел выработать, так на готовеньком хочет проехаться. А Мухамед, в свою очередь, видимо, считал зазорным пользоваться методами работы таких молодых сталеваров, как мы с Семеновым. Теперь, конечно, и признаться в этом стыдно, а ведь совсем недавно у каждого из нас были такие ошибочные взгляды. Однажды вечером собрались мы у Зинурова; есть у нас такая традиция собираться всей бригадой друг у друга. А тут еще произошло знаменательное событие: накануне Мухамеда приняли кандидатом в члены партии. Теперь на третьей печи все сталевары — коммунисты. Разговор, как всегда, зашел о самом для нас дорогом — о нашей работе. Павел Иванович Батиев укоризненно заметил: — Что же вы, ребята, все о печи, да о печи? Если у вас другого разговора нет, то давайте-ка почитаем. Я вот захватил свежий номер «Литературной газеты». Здесь напечатана глава из нового романа Владимира Попова «Третий фронт». Писатель рассказывает о сталеварах… Мы заинтересовались. Не так часто писатели пишут о сталеварах, чтобы остаться безучастными к опубликованному в газете отрывку. Чтение всех увлекло. В главе «Сталевары» рассказывалось, как молодой сталевар Иван Смирнов изучал опыт лучших мастеров цеха. Десять дней с утра и до ночи он находился у печей, следил за каждым шагом, каждым движением сталеваров, сопоставлял их методы работы. И если вчера ему казалось, что мастерство одного сталевара безупречно, то сегодня он видел, что оно далеко не совершенно. И когда, отобрав лучшее из опыта каждого сталевара, он сварил сверхскоростную плавку, то в ответ на обращенные к нему немые вопросы лучших мастеров-скоростников, он просто сказал (это место я подчеркнул для себя, чтобы лучше запомнить):«Дорогие учителя мои, мне нечего рассказывать вам, потому что все вы знаете сами и гораздо лучше меня. Только знаете вы многое хорошее порознь, а я взял все лучшее у вас и соединил вместе. Отверстие я закрывал по-шатиловски, завалку вел по-чечурински, плавлю — по-цыгановски, шлаковый режим держу так, как меня учил мастер Пермяков Иван Петрович. И если вы все это друг другу расскажите и покажите, то ваши плавки пойдут еще скорее, чем мои».Мы были глубоко взволнованы, а Павел Иванович легонько усмехнулся: — Ну, вот почитали художественное произведение, теперь и о цеховых делах поговорить можно. — Так это про нас написано, про нас с вами, — первый выразил свое отношение к прочитанному Мухамед Зинуров. Ваня Семенов задумчиво смотрел в окно, занятый какой-то мыслью, потом поднял просветленные глаза на Павла Ивановича и тепло проговорил: — Ну, спасибо вам, что надоумили!.. Тот невозмутимо возразил: — Так разве же это я — это Владимир Попов, писатель… Хорошо, задушевно мы в этот вечер поговорили. И выяснилось, что не трое у нас командиров возле печи, а уже шестеро: три учителя и три ученика, каждый — и учитель и ученик в одно и то же время. Работать в два раза лучше станем, если, не кичась и не скупясь, станем перенимать друг у друга лучший опыт. В то время самым слабым местом у меня было плавление. Зинуров же этот процесс проводил мастерски. — Пойду к тебе, Мухамед, на выучку, — сказал я. — Ну, что же, а ты, Володя, поделись со мной опытом заправки… Прошло немного времени, и мы убедились на практике, какое это великое дело — коллективный опыт. Каждый из нас научился заботиться не только о хороших результатах своей работы, но и о такой же успешной работе сменщика. Каждый из нас готовит печь к сдаче смены так, как будто ему самому предстоит работать в следующей смене. Сообща мы отработали, отшлифовали новаторские методы труда. Все лучшее, что рождается у одного, перенимается и умножается коллективом. Я рад, что частица моего умения есть в труде Зинурова и Семенова, и благодарен моим славным боевым товарищам за то, что они щедро делятся своим мастерством, своими думами и планами. Мы не просто сменщики. Мы составляем единый производственный организм, имя которому — коллектив.
V. На профессорской трибуне
В начале октября 1950 года нас с Мухамедом Зинуровым пригласили в Москву, куда съехались знатные сталеплавильщики всей страны: лауреат Сталинской премии мастер мартеновского цеха Кузнецкого комбината Привалов, прославленные сталевары Нижне-Тагильского комбината Болотов и Зубков, мастера скоростных плавок «Запорожстали» и «Азовстали», ленинградского завода «Серп и Молот» и другие. Нас всех собрали в столице для того, чтобы мы смогли обменяться опытом стахановской работы и встретиться с профессорами, научными работниками Московского ордена Трудового Красного Знамени института стали имени И. В. Сталина. Привалову, Якименко и мне предложили выступить в Институте стали с докладом о методах сталеварения. Откровенно сказать, все мы были несколько озадачены этим предложением. Готовя тезисы своего выступления, я думал: — Ну, что интересного я могу рассказать ученым, видным деятелям советской науки? Но мои опасения оказались напрасными. Профессора, преподаватели, студенты внимательно слушали мой рассказ о работе коллектива третьей мартеновской печи, о борьбе за экономию, о скоростных плавках, которые в практике нашей работы становятся явлением обычным. Мне очень отрадно было видеть среди слушателей знатного златоустовского сталевара Ряднова, ныне студента Института стали. Боясь занять много времени, я старался быть как можно более кратким. Но краткость доклада пришлось все равно восполнить ответами на многочисленные вопросы. Научные работники и студенты интересовались буквально всем: и съемом стали с квадратного метра пода печи, и увеличением кампании печей, и особенно тем, как идет борьба за экономию. Ценным было выступление Михаила Привалова. Мне понравилась смелость и острота постановки вопроса. Привалов высказал свои претензии к работникам научного фронта. — Почему нет новых совершенных приборов для измерения температуры? — спрашивал он. — Ведь несовершенная аппаратура сказывается на съеме стали… Интересным было выступление тов. Якименко, который говорил о необходимости увеличить срок службы изложниц и научном обобщении теплового режима мартеновских печей. Профессора института поделились планами своих научно-исследовательских работ. Отрадно было еще раз убедиться в том, что мы, сталевары, и виднейшие научные работники заняты одним тем же, что цель у нас одна — дать любимой Родине больше стали для великих сталинских новостроек. Часы, проведенные в институте, надолго запомнятся. Во время посещения учебных кабинетов и просторных студенческих аудиторий меня не покидала затаенная мысль. Хорошо бы через год, другой войти в это здание студентом, обогатить практический опыт сталеварения глубокими теоретическими знаниями! Знаю, наступит такое время, и оно уже близко, когда сталевару будет обязательно необходимо высшее образование. Уже сейчас без среднего технического образования работать трудно. Пока не закончил двухгодичной школы мастеров, я работал поверхностно, механически. Знал чередование процессов, химию же сталеплавления не знал, а ведь именно в химическом процессе заключено существо плавки. Помню, однажды несколько плавок подряд не попали в анализ по фосфору. Все проверил, проанализировал — правильно, а плавка не та, что задана. Пришел на занятия (я в то время начал учиться в школе мастеров), рассказываю преподавателю химии о своей незадаче. Как урок начался, он вызвал меня к доске да и начал про фосфор спрашивать. Поставил четверку, до пятерки я единицу не дотянул, а в этой единице и была как раз вся загвоздка. Разобрался поглубже в этом разделе — и причины непопадания в анализ установил. Вот оно единство теории с практикой! Сейчас у многих сталеваров появился вкус к учебе. Вот и я все чаще и чаще думаю об институте. Без высшего образования не смогу угнаться за техникой, которая шагает семимильными шагами, а значит, и быть настоящим металлургом не смогу.VI. Сталь мира
Помню, с каким волнением мы слушали по радио речь златоустовского сталевара Василия Амосова на Первом Всемирном конгрессе сторонников мира. Это было после смены. Я зашел в красный уголок сразиться в шахматы, до которых большой любитель, и вдруг услышал, что передают выступление Амосова. Особенно меня взволновал его призыв, обращенный к металлургам всего мира:«Ни один килограмм металла не должен быть употреблен на строительство орудий насилия и истребления людей. Железо и сталь, если их выплавляет честный человек, любящий свою Родину, свободу и независимость, является надежной опорой сторонников мира. Я, как металлург, хочу сказать: пусть воля и единство сторонников мира будут так же нерушимы и крепки, как прославленная уральская сталь».Эти слова врезались в память. Я помнил о них всегда — и когда нес трудовую вахту, и когда раскрывал страницы газет, где рассказывалось о чудовищных преступлениях американских агрессоров. Магнитогорские металлурги как клятву подписали Стокгольмское Воззвание, скрепляя свои подписи тысячами тонн сверхплановой стали. Встав на стахановскую вахту мира, мы выплавляем добрый и надежный магнитогорский металл, о который разобьются все наглые попытки бандитов с Уолл-стрита развязать новую мировую войну. Одним из выдающихся событий в борьбе за мир была Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира в Москве. Трудно словами выразить, как я был обрадован и горд доверием, когда узнал, что удостоен великой чести представлять на этой конференции славный коллектив магнитогорских металлургов. Ведь год тому назад, слушая речь сталевара Амосова, я даже и не предполагал, что буду так же, как и он, с высокой трибуны конференции борцов за мир от имени уральских металлургов выступать с призывом к борьбе против войны! Всего на конференции выступило 72 делегата. Это были разные люди: ученые и колхозники, писатели и рабочие, юноши, только вступающие в жизнь, и седые женщины, потерявшие в минувшей войне сыновей. Но всех объединяло одно общее чувство любви к советской отчизне, к большевистской партии Ленина — Сталина, к нашему великому свободолюбивому народу, к мирному созидательному труду. Всю ночь я не спал, до мельчайших подробностей обдумывая предстоящее выступление. Боялся, что не оправдаю доверия магнитогорцев, которые, провожая, напутствовали: — Ты так скажи, чтобы за океаном было слышно, что нам, советским металлургам, война не нужна. Мы плавим мирные марки сталей, но если американские бандиты все же оторвут нас от счастливого труда, то пусть пеняют на себя… Волнуясь, поднялся я на трибуну. Зал зааплодировал. Не мне персонально, а Сталинской Магнитке, сыном которой я являюсь. Посмотрел я на сидящих в зале: какие все простые родные лица! И такую любовь к этим людям, к Родине, к великому Сталину ощутил я в своем сердце, что слова полились сами собой. В конспект ни разу даже не заглянул: и без него было ясно, о чем говорить. А говорил я о том, что магнитогорские металлурги с огромным воодушевлением плавят металл для великих строек коммунизма. Рабочие, инженеры, техники и служащие нашего комбината — гиганта советской индустрии — вместе со всем советским народом кровно заинтересованы в прочном и длительном мире и ведут борьбу за мир. Доказательством тому тысячи тонн добротного сверхпланового металла. Мы стремимся к миру не потому, что слабы или боимся угрозы поджигателей войны, мечтающих, как безумный Гитлер, о мировом господстве. Нет, мы сейчас сильны, как никогда, и того, кто идет по стопам Гитлера, может постигнуть та же судьба, которая постигла этого сумасшедшего ефрейтора… Конференция удостоила меня высокой чести, избрав как представителя трудящихся Южного Урала в Советский Комитет защиты мира. В заключение своей работы Вторая конференция сторонников мира избрала делегатов на Второй Всемирный конгресс сторонников мира и от имени всего советского народа поручила им заявить, что советские люди неизменно преданы миру, готовы все, как один, твердо и решительно рука об руку со всеми сторонниками мира во всех странах бороться за предотвращение угрозы новой войны, за обеспечение прочного и длительного мира. — Мы твердо уверены, — заявили делегаты конференции, — что силы мира могущественнее сил войны. Мир победит войну! С чувством сыновней преданности и любви делегаты конференции обратились к великому вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину, выразив мысли и чувства, волнующие весь наш многомиллионный народ. В письме, обращенном к товарищу Сталину, говорится, что лучшим ответом поджигателям войны является наш самоотверженный труд во имя процветания нашей любимой Родины, во имя мира и демократии. Мир победит войну потому, что движение сторонников мира неудержимо, оно растет и крепнет с каждым днем! Мир победит войну потому, что знамя этой борьбы — великий Сталин! Труд магнитогорцев во имя мира дает зримые, ощутимые результаты. Наш комбинат по итогам последнего квартала 1950 года получил звание лучшего завода страны и переходящее Красное Знамя Совета Министров СССР. Производственный план перевыполнен по всему металлургическому циклу. Коллектив комбината добился значительного повышения производительности труда. Себестоимость продукции снижена сверх плана больше чем на десять миллионов рублей. Самый лучший в стране магнитогорский металл стал самым дешевым. В общих успехах комбината есть и наш скромный вклад. Коллектив третьей печи выполнил обязательства, которые мы на себя взяли в апреле прошлого года. Мы сварили сверх задания 14 739 тонн стали и сэкономили 1 167 000 рублей государственных средств. Многие наши плавки — скоростные: Мухамед Зинуров сварил за год 77 скоростных плавок, Иван Семенов — 73, я — 80 плавок. В среднем мы добились сокращения продолжительности каждой плавки на 1 час 25 минут. Скоростное сталеварение — могучий источник увеличения выпуска металла, снижения себестоимости и повышения экономических показателей. Металл мира — так называем мы сталь, которую плавим в наших мощных мартеновских печах. Эта сталь прочна и выдержит любые испытания. Она — надежный оплот мира, прекрасный материал для создания величественного здания коммунизма.
* * *
Когда эта статья была уже написана, пришла весть о присуждении Сталинской премии Семенову, Зинурову и мне. Правительство, народ высоко оценили наш скромный труд. Это вдохновляет и обязывает нас работать еще лучше для дальнейшего расцвета нашей замечательной Родины.В. Балашенко[10] СЛОВО ИНЖЕНЕРА
Я по специальности инженер-путеец, по должности — начальник конструкторского бюро Южно-Уральской железной дороги. Здесь я работаю уже несколько лет. Наше конструкторское бюро — дружный, творческий коллектив. Мы — инженеры, конструкторы, чертежники, как и все трудящиеся Советского Союза, единодушно поставили свои подписи под Стокгольмским Воззванием. Следуя данному слову — всеми силами укреплять мир, — мы отдаем этому великому делу благородный порыв сердца, свою творческую мысль, упорный, напряженный труд. Конкретно это выражается в нашей повседневной работе, которую мы ведем в конструкторском бюро. В нашем конструкторском бюро создаются машины для железнодорожного транспорта. Это преимущественно путейские машины, назначение которых улучшать состояние пути — основу железнодорожного конвейера. Путейское дело с детских лет близко и дорого моему сердцу. С гордостью я могу назвать себя потомственным путейцем, и это не будет преувеличением. Мой отец, Харитон Балашенко, и поныне трудится на посту мостового обходчика. Путевому хозяйству посвятил свою жизнь и я. Пути — важнейшая часть железнодорожного хозяйства. От состояния пути зависят скорости движения поездов, длительность службы локомотивов и подвижного состава, износ рельсов, шпал, скреплений, а главное — безаварийность движения поездов. От ремонтного рабочего до руководителя конструкторского бюро — таков путь, пройденный мною. Добиться успеха на этом пути помогла мне коммунистическая партия и советская власть. Советское государство дало мне возможность получить сначала среднетехническое, а затем и высшее образование. Знания в сочетании с природными склонностями к изобретательству и упорная работа над собой сделали меня конструктором. Моя первая машина, как и последующие, созданы в результате творческих исканий, упорного, многолетнего труда. В 1939 году я был начальником Челябинской дистанции пути Южно-Уральской железной дороги. В то время состояние путевого хозяйства Челябинского узла выглядело далеко не блестяще. В содержании пути и приемах ухода за ним процветала самая настоящая кустарщина. Я, молодой инженер, видел, как труд большого коллектива путейцев сводится на нет после даже небольшого дождя, как грязь и шлак, накапливающиеся на междупутиях, преждевременно изнашивают балласт и шпалы, рельсы и скрепления. Больно было смотреть на то, какими беспомощными были путейцы со своими примитивными средствами борьбы за поддержание чистоты и порядка на путях. Вот тогда-то и возникла у меня мысль создать машину для уборки с путей грязного балласта и шлака. Своей идеей я поделился с начальником механических мастерских дистанции тов. Мальковым и рабочими мастерских. Коллектив поддержал мою инициативу. Большую помощь в содействии оказала нам партийная организация. С разрешения руководства дороги мы начали постройку машины. Первоначально она была смонтирована на двухосной железнодорожной платформе. При испытаниях в машине обнаружились серьезные недостатки. Повседневная помощь партийной организации и всего коллектива мастерских дали нам возможность преодолеть все трудности и создать вполне работоспособный образец машины. Но этим мы не ограничились и продолжали совершенствовать свое первое детище. В 1942 году, несмотря на трудное военное время, на дороге было создано конструкторское бюро, и я был назначен его руководителем. Передо мной открылась возможность целиком отдаться изобретательской деятельности. В том же году первоначальный образец «путевой уборочной машины» был значительно усовершенствован, а в 1944 году, на основе изучения опыта работы экспериментального образца, была сконструирована еще более производительная машина, которая явилась прототипом серийного выпуска. В 1948 году, учитывая растущие требования и нужды нашего транспорта, непрерывно идущего в гору, мы вновь переконструировали свою машину. И вот результат упорного, творческого труда: производительность первого опытного образца составляла не более 90 кубометров шлака в час, машина серийного выпуска убирает за тот же срок 700 кубометров. Ее можно использовать для уборки с путей загрязненного балласта, шлака, мусора, а зимой — снега и льда. При этом машина производит околку льда на путях. Путевая уборочная машина серийного выпуска заменяет 350 рабочих, облегчает их труд, придает пути опрятный, аккуратный вид, способствует удлинению срока службы рельсов, шпал, путевых скреплений. За создание этой машины я и конструктор тов. Лычева в 1949 году были удостоены Сталинской премии. Путевая уборочная машина — не единственное наше детище. Наш коллектив инженеров-конструкторов создал уже ряд высокопроизводительных машин и механизмов. Расскажу об этих машинах. В 1947—49 годах нами была решена важнейшая задача механизации снегоуборочных работ на транспорте. Мы сконструировали специальные полувагоны, позволяющие использовать снегоуборочный поезд для вывозки не только снега, но также балласта, шлака и льда. В этой работе, кроме инженеров нашего конструкторского бюро, активное творческое участие принимали многие рабочие-рационализаторы, инженеры и техники-путейцы. В настоящее время наш снегоземлеуборочный полувагон используется на всех дорогах Союза. Нашим конструкторским бюро по моему предложению сконструирована специальная установка, состоящая из гидравлического пресса для изготовления противоугонов и агрегата, дающего возможность использовать для противоугонов старые, не пригодные для укладки в путь железнодорожные рельсы. Пресс позволил повысить производительность труда, по сравнению с ручным, кузнечным способом изготовления противоугонов, в 80 раз. Благодаря сконструированному агрегату мы получили возможность разрезать старые рельсы в продольном направлении, прокатывать их на полосы, короче говоря, всегда иметь, и в нужном количестве, дешевый материал для противоугонов. Сконструированная нами установка Министерством путей сообщения принята для серийного изготовления и распространения на сети дорог Советского Союза. Противоугон — небольшая, путевая деталь. Почему же ей было уделено такое большое внимание конструкторов и инженеров? Понять значение противоугона нетрудно. Рельсы железнодорожного пути под действием колес перемещаются вперед, по направлению движения поезда. Эти перемещения настолько значительны, что происходит искривление пути, порча рельсов, шпал, скреплений. В 1945 году из-за перемещения рельсов, называемого по-путейски «угоном», на Южно-Уральской дороге было сломано 90 километров рельсов, а на 320 километрах приведены в негодность накладки. Труд, затраченный на устранение последствий угона пути, оторвал от ремонтных работ примерно 25 процентов рабочей силы. На устранение последствий угона пути только одна Южно-Уральская дорога израсходовала в год 15 миллионов рублей. Вот почему противоугон привлек наше внимание. Вот почему советские конструкторы не пожалели затратить ряд лет на решение задачи массового и качественного изготовления маленькой путейской детали, называемой противоугоном. Путь уложен на насыпи железнодорожного полотна. Это известно всем. Но не все знают, что земляное полотно железнодорожной насыпи может «болеть» и поддается «лечению». Основным способом лечения земляного полотна является устройство в насыпях узких поперечных прорезей. Это очень трудоемкая и медленная работа. Для того чтобы вынуть один кубический метр грунта из насыпи, один рабочий должен затратить 16 часов. Чтобы улучшить дело «лечения» земляного полотна, мы сконструировали специальную машину, которую назвали прорезокопателем. С 1949 года прорезокопатели выпускаются серийно. Эта машина полностью механизирует устройство прорезей, заменяя за смену 240 человек. Она делает прорезь за 12 минут. Сейчас мы строим такой прорезокопатель, который может выполнять свою работу, не занимая перегона, не задерживая движения поездов. Новая машина проектируется на базе трактора «С-80». Она сможет подойти к любому месту насыпи и будет в полтора раза производительнее существующей. Кроме устройства прорезей эту машину можно будет использовать для прорывки траншей в выемках, служащих для понижения уровня грунтовых вод, траншей для укладки кабельных проводов и мелких водопроводных труб. Намечается спроектировать также глубинный прорезокопатель по устройству прорезей в высоких насыпях. Все три типа прорезокопателей полностью решат задачу комплексной механизации работ по «лечению» земляного полотна железнодорожного транспорта, создадут условия к тому, чтобы с минимальными затратами содержать путь в отличном состоянии. Одной из наиболее трудоемких работ на железнодорожном транспорте является выправка пути в плане. Эта работа называется по-путейски «рихтовкой», то есть сдвижкой участков пути. При выполнении рихтовки вручную требуется много времени, много сил и средств. Но обойтись без рихтовки — невозможно. Участки пути, неточно поставленные в плане, не только ускоряют износ подвижного состава, локомотивов, рельсов и шпал, во нередко бывают причиной аварий и крушений. От технически исправного пути зависит скорость движения поездов, безопасность движения, наращивание темпов грузоперевозок. Пять лет назад, будучи студентом вечернего отделения Челябинского машиностроительного института, я изучал устройство копировальных станков. Наблюдая работу этих станков, я пришел к заключению, что на основе принципа копировального станка можно создать машину, способную облегчить тяжелый труд путейцев по выправке пути в плане, то есть создать путерихтовочную машину, работающую с большой точностью. Через год я разработал эскизный проект машины, а в 1950 году наше конструкторское бюро послало в Министерство путей сообщения рабочий проект, который принят для изготовления опытного образца. Путерихтовочная машина заменит труд более чем 360 человек, внесет точность в эту важнейшую работу, даст возможность повысить техническую скорость движения поездов на наших железных дорогах. Путерихтовщик механизирует все работы по выправке пути. Правильность выправки пути контролируется специальным автоматическим прибором, исключающим ошибки в рихтовке. Одновременно с работой над путерихтовщиком коллектив нашего конструкторского бюро проектирует еще одну машину — для очистки загрязненного путевого щебня. За годы послевоенной сталинской пятилетки у нас много сделано по переводу пути на щебеночный балласт, обеспечивающий надежное и устойчивое состояние пути во все времена года. В недалеком будущем весь путь будет поставлен на прочную щебеночную основу. Предусматривая потребность транспорта в периодической очистке загрязняющегося щебня, мы и работаем над созданием щебнеочистительной машины. В отличие от существующих заграничных машин наша щебнеочистительная машина будет работать не нарушая движения поездов. В основу проекта нами положен принцип врубовой советской машины, зарекомендовавшей себя в угольной промышленности. Машина будет выгребать щебень из-под шпал, очищать его от шлака и грязи и вновь укладывать в путь. За восемь часов работы машина заменит 320 человек. Мы проектируем машины, необходимые нам для мирных целей, для нового расцвета и развития нашего транспорта, для облегчения труда советских людей и повышения его производительности. Весь коллектив нашего конструкторского бюро работает с творческим подъемом, охваченный пафосом созидания, воодушевленный благородной целью — двигать вперед советскую железнодорожную науку и технику. Свое дело мы делаем спокойно и уверенно, потому что хорошо знаем и свои силы и свое место в борьбе за мир. Уверенно и твердо идет наша страна по пути прогресса. Во всех областях труда, науки и культуры советская страна достигла успехов, невиданных в истории человечества. Под руководством коммунистической партии и великого Сталина советский народ преобразует лицо родной земли. Мы воздвигаем новые города, грандиозные предприятия промышленности, строим институты, школы, театры, дворцы культуры, прокладываем новые железные дороги и судоходные каналы; раскрывая тайны природы, выращиваем богатые сталинские урожаи, улучшаем породы домашних животных. Начатое в СССР осуществление сталинского плана преобразования природы — создание лесных полос в засушливых районах, строительство Сталинградской, Куйбышевской и Каховской электростанций, сооружение Главного Туркменского, Южно-Украинского и Волго-Донского, Северо-Крымского каналов — новая захватывающая страница нашей истории, ярчайшее подтверждение нашего миролюбия. Мы, советские люди, мирные люди. Но мы бдительны. Мы знаменательно следим за каждым шагом заокеанских поджигателей войны. Империалисты США затеяли войну в Корее. Эта агрессивная война ведется в интересах магнатов капитала Соединенных Штатов Америки. Мы знаем из газет, что Национальная ассоциация промышленников США встретила приветственной телеграммой послание Трумэна, в котором он обратился к конгрессу с просьбой ассигновать 10 миллиардов на войну в Корее. Кровь рабочих и крестьян Кореи, проливаемая американскими и английскими солдатами, приносит барыши капиталистам. Война — это их бизнес.«Конечно, в Соединенных Штатах Америки, в Англии, так же как и во Франции, — заявил товарищ И. В. Сталин в беседе с корреспондентом «Правды», — имеются агрессивные силы, жаждущие новой войны… Это — миллиардеры и миллионеры, рассматривающие войну как доходную статью, дающую колоссальные прибыли».За годы второй мировой войны концерн «Дженерал моторс» получил доходов в сумме одного миллиарда 250 долларов. Нефтяной концерн «Стандарт ойл Нью-Джерси» получил 867 миллионов, концерн «Дюпон» — 252 миллиона. Теперь разбойники с Уолл-стрита жадно стремятся раздуть пожар новой большой войны. Им мерещатся миллиарды долларов сверхприбылей. Новые претенденты на мировое господство — империалисты США — идут по стопам кровавого Гитлера. Они готовят народам Америки и Западной Европы фашистскую петлю. Трумэн вводит в стране режим, как две капли воды похожий на тот, что господствовал в «коричневой империи» Гитлера. Это режим террора и полицейского засилья, удушения свободы и демократии. Трумэн проводит политику милитаризации американской экономики. Все усилия империалистов направлены на подготовку новой войны и в первую очередь войны против СССР и стран народной демократии. Там, за океаном, наступает эпоха фашистского одичания. Буржуазные ученые и инженеры из числа тех, что продались за доллары капиталистам, превратились в лакеев империалистических поджигателей войны. Ярким примером вырождения и регресса буржуазной науки, ее связи с растленной идеологией капиталистического общества, является развитие в Америке менделевской псевдонауки о наследственности. В течение сорока с лишним лет, по почину ученого-мракобеса Томаса Моргана, американские генетики изучают наследственность… мухи дрозофилы. Мушиное население, развивающееся в пробирке, объявлено моделью процессов видообразования, упрощенным подобием развития рас, разновидностей и видов. Менделисты назойливо твердят: «Люди рождаются неравными». Из этого антинаучного тезиса родилось реакционное извращение науки — лжеучение об… улучшении человеческой породы — евгеника. На основании этой «науки» американский профессор Меллер провозгласил, что «…народом мира может быть только порода белого человека». Другой «ученый»-реакционер Фримэн заявил, что «евгеника стремится продолжать «высшие» ветви и отсекать «низшие». Понять не трудно: «высшие» — это привилегированные классы, буржуазия, капиталисты; «низшие» — люди физического труда. Матерые евгенисты — президент евгенической ассоциации Кэмпбелл, президент американского евгенического общества Перкинс, генетик Литтл, «ученый» Уитни — поучают, что оздоровление нации невозможно без устранения от размножения «неполноценных» элементов, что необходимо усилить ведущий класс нации — то есть класс капиталистов. На основе дикого бреда евгенистов развернулась кровавая «практика» американских «ученых»-мракобесов. Более чем в тридцати штатах Америки принят и действует закон о стерилизации людей. В свое время германские фашисты россказнями о борьбе за «жизненное пространство» стремились прикрыть и оправдать свое вторжение в соседние государства. Идейным оружием фашизма были бредовые вымыслы о «праве» германской расы на господство над другими, «низшими» расами, право угнетать романские, славянские и другие народы. Как известно, сама история вынесла суровый приговор германскому фашизму. Однако за океаном нашлись собиратели расистского хлама. Отравляя сознание среднего американца расистскими бреднями, американские империалисты воспитывают звериный шовинизм, расовую нетерпимость, презрение к культуре других народов. Американские ученые-человеконенавистники вывели в своих лабораториях полосатого колорадского жука — страшнейшего вредителя картофельных полей. Американские самолеты сбросили миллионы этих жуков-листоедов на территорию Чехословакии, Польши и других стран народной демократии. Величайшее достижение современности — открытие атомной энергии, империалистские поджигатели войны и их пособники, ученые лакеи, пытаются использовать для массового уничтожения людей. Они угрожают человечеству атомной бомбой. Из приведенных здесь примеров видно, чья рука служит делу прогресса и чья обслуживает черные замыслы реакции. Издыхающий хищник — капитализм опасен. Мы это знаем. Но мы знаем и то, что силы борцов за мир растут с каждым днем. Лагерю поджигателей войны противостоит крепнущий единый фронт мира. Более 500 миллионов людей всех национальностей земного шара подписали Стокгольмское Воззвание Постоянного Комитета сторонников мира. Во всех странах сторонники мира требуют запрещения преступной пропаганды войны и привлечения к ответственности лиц, призывающих к истреблению людей. Прогрессивное человечество приветствует обращение Всемирного Совета Мира о заключении пакта мира между пятью великими державами. Вместе со всем прогрессивным трудящимся человечеством присоединяем свой голос к голосу борцов за мир и мы, строители советских путевых машин. Мы несем трудовую вахту мира, уверенные в том, что, как сказал великий знаменосец мира И. В. Сталин, «мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца». Мир победит войну!
КРИТИКА
В. Бирюков ПУТЬ СОБИРАТЕЛЯ (Автобиографический очерк)
I
Я родился в селе Першинском в 1888 году. Предки моего отца больше столетия жили в селе Коневском, Багарякского района, Челябинской области. Мне было, вероятно, года два, когда в моем родном селе Першинском получился «большой пожар». Тогда сгорело чуть не больше половины домов этого села. Событие стало для першинцев важной хронологической датой: «Это в тот год было, когда большой пожар…» А сколько было потом у населения рассказов про разные случаи во время этого пожара! Наступил «худой год» — 1891—92. Отцу пришлось продать свой дом, чтобы продержаться с семьей. Потом он присмотрел в торговом селе Катайске небольшой дом, предназначенный на слом, и стал сам перевозить бревна за 20 верст в свое село. Перевозил в распутицу. Дорога была ужасной: ломались оси, останавливались лошади. Выбившись из сил, отец, нередко бросал в ночное время среди дороги, верст за 8—10, и лошадей и воз. Новый дом стал строить на месте большого, сгоревшего. В этом новом доме наша семья переживала часть «худого года», который затянулся на несколько лет: то вредила хлебам засуха, то нашествие мышей, то сибирской саранчи-кобылки. Когда мне было года 3—4, родители ездили на лошадях в Кыштым, а потом поехали с нами в Касли, где завод дал возможность посетить «лабораторию» и в ней посмотреть великолепное собрание художественного каслинского литья из чугуна. Вот тогда я и начал любить это литье.II
У матери был свой словарь необычайных в литературной речи слов, вроде: «барель» — невежа, грубиян; «сайгать» — рыскать, бегать; «посертывать» — перевертываться, вести себя непоседливо; «присеки огня» — в значении наречия о крайне загрязненном состоянии одежды: чтобы рассмотреть качество ткани и рисунок на ней, нужно даже днем высечь из кремня огонь и только при нем рассматривать. Отец часто употреблял какие-то древние слова, вроде «комонь». Потом уж, когда я узнал «Слово о полку Игореве», невольно слушая отца, я вспоминал это древнейшее произведение русской художественной литературы. От матери я слышал много интересных пословиц, поговорок, загадок: «Велик верблюд — да воду возить, мал сокол — на руке носить», «Ума-то — палата, а дичи — Саратовская степь», «Надо встать да голос дать» (утром в начале рабочего дня в семье). От матери я заучил песни: «Я поеду во Китай-город гуляти», «Как по ярмарке купчик идет», «Во поле березонька стояла» и некоторые другие. Но мне особенно нравилось, когда она, взявши грудного ребенка, начинала метать его и приговаривать:Поскакать, поплясать,
Про все города сказать:
Про Казань, про Рязань.
Да про Астрахань.
«Заиграли утки в дудки,
Тараканы во варганы,
Журавли пошли плясать,
Долги ноги уставлять.
Сами пляшут на болоте,
Занимаются в работу:
Кому три дня работать;
Три овина молотить».
Я косила лебеду, лебеду
Телятишкам на еду, на еду…
Косила, покосила,
Косу на камень бросила,
Лопаточку под елочку,
Сама пошла к миленочку.
Часты звездочки на небе —
Исставленны пятаки.
Выйду замуж за монаха,
Он замолит все грехи.
III
Мать, несомненно, знала много сказок; но ей было недосуг рассказывать их нам, ребятам. В детстве мы слушали сказки, больше всего от многочисленных нянь, преимущественно девочек-подростков. Это сказки «Жихарко», «Колобок», «Репка» про волка, лису и других зверей. От нянь же я тогда перенял ряд песенок. Из них особенно запомнилась:«Ехал Ванька по воду,
Нашел кринку солоду,
Замешал кулажку,
Сбегал по Палашку.
«Тетушка Палашка,
Сладка ли кулажка?»
«Сладка медовая,
В печке не бывала,
Жару не видала».
Приехал дьякон
Всю кулагу смякал,
Залез на полати
Девок целовати.
Девки-татарки
Взяли все по палке,
Дьякона убили».
IV
Если до сих пор мои наблюдения в области говора и фольклора вращались около родного села, то благодаря поездкам на учебу в Камышлов они расширялись и значительно обогатились. Почти на средине пути от Першинского до Камышлова стоит затерявшаяся среди заболоченного исеть-пышменского водораздела деревня Зяблята. Вавилово-озеро тож. Здесь жил знакомый моей тети, по матери Е. Е. Бутаковой, крестьянин Олексий Белый. Последнее — прозвище, а фамилию его мы так и не знали. У этого Олексия мы обычно останавливались почти всегда с ночлегом. Семья у хозяина была большая, но ни одного сына. Одна из дочерей была выдана за молодого мужика Тихона, который был «взят в дом». В первый год нашего знакомства с Белым его зять находился на военной службе. В следующий год, когда мы снова попали на эту квартиру, Тихон только что вернулся из солдат. Это был детина богатырского сложения, с широким, красным от полнокровия, изрытым оспой лицом, с рыжеватыми волосами, с серьгой в одном ухе. Если сам Олексий был мало разговорчив, зато Тихон оказался неистощимым рассказчиком сказок, анекдотов, побасенок. Со слов этого Тихона я воспроизвел потом по памяти сказку «Микола Дупленский», напечатанную в упомянутом выше сборнике. По отзывам фольклористов, этот вариант из известных — самый полный. Проезд через Зяблята в мокрое время года был затруднителен из-за плохой дороги. Приходилось делать круг: через Далматов на Мясниковку, Тамакул, Скаты. От Тамакула — «робленой» дорогой, шедшей от Шадринска на Камышлов. Это была очень оживленная дорога, по которой то и дело проносились тройки и пары, и нередко двигались обозы с товарами, очевидно, на Ирбитскую ярмарку. Сколько опять было возможностей наблюдать «дорожный» язык и фольклор! — Эй, эй! Семь верст на паре — далеко ли попала? — кричит нам подросток — обратный ямщик, мчавшийся на паре. Наша лошадь устала и медленно плетется. Окрик мальчугана вызывает у нас сначала недоумение: что он такое кричит? И только раскусив его шутку, мы начинаем хохотать. А потом, когда уже другой озорник кричит нам: «Ось-то в колесе!», мы встречаем эту шутку, как старую. В училище я застал ребят, съехавшихся с трех уездов. Все они говорили совершенно так же, как я, но иногда употребляли незнакомые мне слова, а также пели неизвестные мне песни. Это обогащало мои наблюдения над языком и фольклором. Весной 1902 года поступил в пермскую духовную семинарию. Из многочисленной литературы читатель может судить о характере духовной школы, которая давала, с одной стороны, попов и архиереев, а с другой — таких выдающихся деятелей, как Добролюбов, Помяловский, Успенский, Мамин-Сибиряк, И. П. Павлов, изобретатель радио Попов и многих других. Многое из того, что преподносилось в классе, сводилось на-нет во внеклассное время чтением запрещенных книг, участием в подпольных кружках и т. д. Сам я лично приехал в Пермь детски верующим человеком. В 1905 году я отделался от религиозных предрассудков, и если до того времени я мечтал быть по окончании семинарии священником, то теперь стал думать сначала об учительстве, а потом о врачебной работе. Учиться в семинарии съезжались ребята с огромной тогдашней Пермской губернии. Пермь встретила нас с отцом большим ненастьем. Остановились мы сначала на подворье Белогорского монастыря, а потом перекочевали к своему земляку Андрею Назаровичу Мальцеву, который работал в типографии губернского земства печатником-накладчиком. Впоследствии я часто бывал у этого земляка и через него познакомился с сыном жандарма Мологова, — а сына звали уже Молоковым, — того самого жандарма, которого с теплотой вспоминает в «Записках современника» В. Г. Короленко. Петр Хрисанфович Молоков работал также печатником в этой же типографии; он, несомненно, принимал участие в революционной работе и нередко подвергался обыскам и арестам. Через Мальцева и Молокова я познакомился с рабочей средой, которая была совершенно отличной от среды крестьянской и отличалась особым языком и устным творчеством. Итак, прежде чем соприкоснуться с товарищами по школе, я столкнулся с жителями рабочей слободки, где жили Мальцев и Молоков. Жили тут сапожники, поденщики, нищие, — да кто только тут не жил тогда! На всех их я смотрел как на людей какого-то нового мира, и на меня пахнуло тоской, окутывавшей существование слободчан: теснота квартир, нечистота во дворах, похабщина, пьянство, бедность и бедность! Несмотря на то, что товарищи были жителями одной губернии, а все-таки зауральцы чем-то отличались от предуральцев. Первые были людьми большей частью привольного пшеничного Зауралья, а вторые — жителями «лесных пустынь», описанных Немировичем-Данченко в «Историческом вестнике» в 80-х годах. Первые были богаче, а вторые — беднее и как-то придавленнее. Новые люди познакомили меня с иным фольклором, не говоря уже о не слышанных мной дотоле многочисленных словах. Здесь я впервые услыхал «Солнце всходит и заходит» Горького. Товарищи говорили, что слышали песню от камских судовых рабочих. Впервые услыхал я здесь песню:«Летели две птички,
собой невелички.
П р и п е в:
Шуба драна, без кармана,
Без подошвы сапоги».

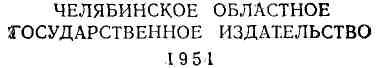
Последние комментарии
11 часов 13 минут назад
15 часов 32 минут назад
17 часов 19 минут назад
18 часов 32 минут назад
19 часов 38 минут назад
20 часов 47 минут назад